Луиджи Пиранделло Новеллы Составление и примечания Н. Томашевского
ЧЕРНАЯ ШАЛЬ (Перевод Н. Трауберг)
I
— Подожди, — сказал Банди своему другу д’Андреа. — Я пойду предупрежу ее. Если снова начнет упрямиться — войдешь без разрешения.
Оба были близоруки и, разговаривая, стояли почти вплотную. Их нередко принимали за братьев: примерно одних лет, они во всем походили друг на друга — оба высокие, худощавые, прямые; все делали они аккуратно, с мелочной щепетильностью. Беседуя, они то и дело поправляли друг другу пенсне или галстук или — если все было в порядке — трогали пуговицу сюртука. Разговаривали они мало. И унылость повседневного существования отражалась на их бледных лицах.
Вместе росли они, вместе учились в университете, помогая друг другу, только один на юридическом, а другой на медицинском отделении. Теперь, служа в разных местах, они могли встречаться только вечерами и неизменно прогуливались по длинной аллее над обрывом на окраине города.
Они настолько сдружились, что им достаточно было едва заметного кивка, взгляда, слова, чтобы мигом понять друг друга. Выходя на прогулку, они обменивались отрывистыми фразами, а потом уже всю дорогу молчали, словно короткие эти фразы давали им достаточную пищу для размышлений. Шествовали они медленно, понурив головы, точно усталые лошади. Ни тот, ни другой ни разу не соблазнился перегнуться через перила и взглянуть вниз — на холмы и долины и на море, пламеневшее там, вдалеке, в последних лучах заката. Как это прекрасно и как трудно представить себе, что можно идти вот так и ни разу не обернуться, не взглянуть!
Несколько дней назад Банди сказал другу:
— Элеоноре что–то нездоровится.
Д’Андреа взглянул на него и по выражению глаз понял, что болезнь несерьезна.
— Она хочет, чтоб я ее посмотрел? — спросил он.
— Нет, говорит, что не хочет.
И оба продолжали свой путь, хмурые, словно рассердились на эту женщину, которая заменила им мать и которой они были обязаны всем.
Д’Андреа потерял родителей в детстве, и его взял к себе дядя, который не мог дать ему образования. Элеонора Банди и ее маленький брат тоже осиротели, когда ей было восемнадцать лет; ценой мучительной экономии она растянула, как могла, маленькое наследство. Потом ей пришлось работать, давать уроки музыки и пения. Так вырастила она брата, так дала образование и ему, и его другу.
— Зато я толстая, а вы худые, — весело говорила она молодым людям. — Я отобрала у вас весь жир.
Она и вправду была очень толста и толстела все больше. Но лицо у нее было тонкое, нежное, как у мраморных ангелов в церкви. Прекрасные черные глаза, прикрытые длинными ресницами, и мелодичный голос смягчали первое впечатление. Она всегда страдала, когда на нее смотрели, и грустно улыбалась, думая о своей внешности.
Она играла на рояле и пела, может быть, не по всем правилам, но зато с большим чувством. Если бы не чопорное воспитание, не провинциальные предрассудки и, наконец, если бы не брат, она могла бы стать певицей. Когда–то она мечтала о сцене. Только мечтала, не больше. Теперь ей под сорок. В городе ценят ее таланты — это все же некоторое утешение. А кроме того, она вырастила двоих несчастных, одиноких детей, и это вознаграждало ее за долгие годы самопожертвования.
Доктор д’Андреа ждал долго, а его друг все не выходил.
Гостиная, где он сидел, была светлая, хотя и невысокая; от старомодной, потертой, выцветшей мебели веяло духом прошлого; словно скорбя о былом величии, взирала эта мебель на свое отражение в двух больших зеркалах. Казалось, эту комнату населяли только портреты умерших предков. Они сердито смотрели из рам на единственный новый предмет — кабинетный рояль Элеоноры.
Доктору надоело ждать, он встал, подошел к двери, прислушался. Услышав приглушенный плач, тихо постучался.
— Входи, — сказал Банди, открывая дверь. — Не понимаю, почему она так упрямится.
— Да потому, что я ничем не больна! — крикнула Элеонора сквозь рыдания.
Она сидела в глубоком кожаном кресле — огромная, бледная, как всегда в черном. Сейчас особенно странным казалось, что у нее такое детское лицо; что–то почти неприличное было в этом, особенно смущал остановившийся взгляд, какое–то безумное упорство в глазах, которое она к тому же старалась скрыть.
— Нет, правда, я не больна, — повторила она немного спокойнее. — Ради Бога, оставьте меня. Не думайте обо мне.
— Хорошо! — сухо отрезал брат. — Вот Карло. Он разберется, что с тобой такое, — и вышел, яростно хлопнув дверью.
Элеонора закрыла лицо руками и затряслась от рыданий. Д’Андреа смотрел на нее; ему было неловко и стыдно. Наконец он спросил:
— В чем дело? Что случилось? Неужели вы даже мне не хотите сказать?
Элеонора все плакала; он попытался мягко, но настойчиво отвести ее руки от лица.
— Перестаньте, — убеждал он ее. — Ну, скажите... не бойтесь. Я ведь тут, рядом.
Элеонора покачала головой; и вдруг в каком–то порыве схватила его руку в свои; лицо ее исказилось, и она простонала:
— Карло! Карло!
Д’Андреа наклонился к ней (что не вязалось с его чопорностью):
— Скажите мне...
Тогда она прижала к щеке руку и сказала тихим, отчаянным, умоляющим голосом:
— Помоги мне умереть, Карло. Помоги мне, ради Бога! Я не знаю как, и не хватает духу.
— Умереть? — улыбнулся он. — Ну, что вы! Зачем вам умирать?
— Я должна умереть! — повторила она, задыхаясь он слез. — Скажи мне, как это сделать. Ты ведь врач. Я больше не могу! Я должна умереть... Другого выхода нет. Только умереть.
Он удивленно смотрел на Элеонору. Она тоже взглянула не него, но сразу закрыла глаза, лицо ее снова исказилось, и вся она сжалась, словно испугалась чего–то.
— Да, да, — решительно сказала она, придя в себя. — Я погибла, Карло! Погибла!
Д’Андреа бессознательно отдернул руку.
— Что? Что вы сказали? — пробормотал он.
Отведя глаза, она приложила палец к губам и кивнула в сторону двери:
— Только бы он не узнал! Не говори ему, ради Христа! Сперва помоги мне умереть. Дай мне что–нибудь, я приму как будто лекарство. Я буду думать, что ты мне дал лекарство. Только чтоб сразу! Я не могу, сама не могу, страшно! Уже два месяца я мучаюсь и все не решаюсь. Скажи, Карло, ведь ты мне поможешь?
— Чем я могу помочь вам? — спросил д’Андреа в растерянности. Она снова схватила его руку и сказала, умоляюще заглядывая ему в лицо:
— А если ты не хочешь, чтоб я умерла... ты не мог бы... меня спасти... еще как–нибудь?
Д’Андреа выпрямился и сурово нахмурил брови.
— Карло, я тебя умоляю! — твердила она. — Это не для меня, нет, не для меня, только чтоб Джорджо не знал. Если ты еще помнишь хоть то немногое, что я сделала для вас обоих, — помоги мне, спаси меня, Карло! Неужели придется все это вынести? Я ведь столько делала, столько мучалась! Такой позор в мои годы! Страшно мне, страшно...
— Как могло это случиться, Элеонора? Кто этот человек? — только и нашелся спросить д’Андреа, подавленный этим необыкновенным признанием.
Она снова кивнула на дверь и закрыла лицо руками:
— Не надо! Я не могу сейчас об этом думать! Разве тебе не жаль Джордже? Такой позор для него!..
— Но как же? — спросил д’Андреа. — Это преступление. Вдвойне преступление. А нельзя ли помочь... как–нибудь иначе?
— Нет! — решительно и горько сказала она. — Довольно. Я поняла. Оставь меня. Мне нехорошо...
Голова ее откинулась на спинку кресла, тело обмякло.
Карло д’Андреа растерянно смотрел на нее сквозь очки. Он еще не освоился с тем, что узнал, ему было тяжело и неловко при мысли, что эта добродетельная женщина, образец чистоты и самопожертвования, так позорно пала. Возможно ли это? Элеонора Банди? Она ведь отказалась в молодости от стольких блестящих партий! А теперь, теперь, когда она давно уже не молода... А может быть, именно поэтому?
Он взглянул на нее, и оттого, что она так безмерно пышна, особенно неприличной и грязной показалась ему эта мысль.
— Ступай! — нервно повторила она. Не глядя на него, она чувствовала весь ужас его подозрений. — Ступай, скажи Джордже. Пусть скорее делает со мной все, что хочет. Ступай.
Д’Андреа вышел почти машинально. Приподняв голову, она проводила его взглядом. И как только захлопнулась дверь, она потеряла сознание.
II
После ухода д’Андреа Элеоноре стало легче — первый раз за два месяца невыносимой тоски. Ей показалось, что самое страшное позади.
У нее больше не было сил бороться с этой мукой; пусть решится ее судьба как угодно, только скорей!
Сейчас войдет брат и убьет ее. Ну что ж... Она не заслужила ни уважения, ни сочувствия. Правда, она сделала для него и для его друга больше, чем велел ей долг, но теперь она разом потеряла всякое право на благодарность.
Опять ей стало страшно, и она закрыла глаза.
В глубине души Элеонора обвиняла себя. Да, она сама, сама виновата — столько лет она справлялась со своими порывами, заставляла себя жить высокими, чистыми помыслами и самопожертвование свое считала долгом. И погибла вот так, сразу! Как это страшно!
Единственное ее оправдание ничего не значит для брата. Она могла бы ему сказать: «Джордже, быть может, это ты виноват!» Пo совести говоря, ведь так оно и есть.
Она заменила ему мать. И за все, что сделала она для него, за великую ее жертву, он даже не улыбнулся ей ни разу — ни он, ни его друг. Словно души их были отравлены молчанием и скукой, стиснуты бессмысленной тоской. Окончив университет, оба с головой ушли в работу, работали очень много, и вскоре им никто уже не был нужен, кроме них самих. Теперь им не терпелось рассчитаться с нею, и это глубоко ее оскорбляло. Вот так, внезапно жизнь ее стала бесцельной. Что же остается ей теперь, когда она поняла, что больше не нужна этим юношам? А молодость ушла, молодость не вернешь!
Даже первое жалованье не смягчило брата. Может быть, приняв от нее такую жертву, он мучается, потому что связан на всю жизнь и должен отдать взамен свою свободу? Ей хотелось сказать ему просто:
— Не думай обо мне, Джордже. Я хочу только, чтобы тебе было хорошо... Ты пойми!
Но она уже слышала его брюзгливый ответ:
— Ну, ну! Что это ты? Я не забыл о своем долге. Подожди, я выплачу тебе все.
«Выплатишь? Да разве это мне нужно?» — хотелось ей крикнуть. Она ведь ни разу не задумалась, жертвуя собой, ни разу не пала духом, всегда улыбалась.
Она знала его упрямство и потому не настаивала. Но как трудно ей было жить, как задыхалась она в этой атмосфере холодного бесстрастия и отчуждения!
Жалованье его росло, и он окружил сестру комфортом, настоял, чтобы она бросила преподавание. И однажды, в недобрый час, один из часов вынужденного унизительного для нее бездействия, пришла ей в голову мысль, которая сперва показалась смешной: «Хорошо бы выйти замуж!»
Да ведь ей тридцать девять лет! Да еще при такой толщине... пришлось бы и жениха заказывать по мерке! Но только так могла бы она избавить брата от тяжкого бремени благодарности.
Почти бессознательно Элеонора стала следить за собой, одеваться, как девицы на выданье, о чем раньше и не помышляла.
Те, кто некогда добивался ее руки, стали теперь отцами семейств. Раньше ее это не трогало, сейчас она вспоминала об этом с досадой, завидовала подругам, которым удалось обзавестись семьей.
Она одна осталась ни с чем...
А может быть, еще не поздно? Неужели вправду кончилась деятельная жизнь и ей суждено прозябать в этой страшной пустоте? Неужели она должна погасить пламень страстной своей души? Остаться во мраке?
Пришла невыносимая тоска. Мучительные желания терзали Элеонору, и пропала ее милая непосредственность, изменился ее смех и самый звук ее голоса. Речи ее стали насмешливы, даже желчны. Она понимала, как сильно переменился ее характер, испытывала отвращение к самой себе, к могучему своему телу, к темным неожиданным порывам, которые так внезапно возникли и теперь мучили ее и не давали покоя.
Тем временем брат сэкономил нужную сумму, приобрел участок земли и выстроил дом. Он уговорил ее поехать туда на месяц. Но ей показалось, что, быть может, он просто хочет избавиться от нее, и она решила совсем поселиться в усадьбе. Тогда он будет свободен. Она перестанет обременять его своим присутствием. Да и сама избавится от этой нелепой мысли — выйти замуж в таком возрасте.
Первые дни прошли хорошо, и ей показалось, что не так уж трудно будет Здесь жить.
Вскоре Элеонора привыкла вставать на заре и уходить в поле. Она останавливалась на каждом шагу, зачарованно вслушивалась в удивительную тишину полей, где каждая былинка трепетала от утренней свежести, и в перекличку деревенских петухов; любовалась зелеными полосками лишайника на камне или бархатным мхом на поваленном стволе оливы.
Здесь, вдали от города, обрести бы другую душу, другие мысли, другие чувства, стать бы такой, как приветливая жена арендатора, которая так ласково с ней беседует и столько успела рассказать интересного о деревне... В этих нехитрых рассказах открывался ей новый, неожиданный и глубокий смысл жизни.
Сам арендатор был невыносим; он гордо называл себя человеком передовых взглядов — да, немало довелось ему повидать, ведь он побывал в самой Америке, целых восемь лет в Беноссарие[1] жил. Вот и не хочет теперь, чтоб его единственный сын стал каким–то арендатором. Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, он определил сына в училище, пусть «поучится грамоте», а потом и в Америку послать можно, это страна большая, уж там–то он выйдет в люди.
Теперь Джерландо было девятнадцать лет, но за долгие годы ученья он добрался только до третьего класса технической школы. Был он неуклюж, топорно сложен и совершенно замучен отцовскими заботами. В школе он поневоле набрался городских замашек и от этого выглядел еще глупее.
Каждое утро он смачивал свои жесткие, непокорные волосы и расчесывал их на пробор; но потом волосы высыхали и торчали пучками, словно на черепе у него были шишки; и брови у него росли пучками, и первые побеги усов и клочковатой бороденки. Бедняга этот Джерландо! Жалко его — такой угловатый и вечно сидит над книгой. Отцу нередко приходилось изрядно попотеть, чтобы разбудить его, потому что он то и дело засыпал тяжелым сном сытого борова; еще совсем одурелого, шатающегося спросонья, крестьянин отвозил сына в город, на новые муки.
Когда приехала синьорина, Джерландо попросил ее поговорить с матерью, чтобы та похлопотала перед отцом. Проклятое это ученье, проклятое оно, проклятое! Сил никаких нет!
Элеонора попыталась вступиться за него. Но отец и слушать не стал — ни–ни–ни! Со всем уважением, конечно, только покорнейшая просьба не впутываться в чужие дела! Тогда, отчасти — из жалости, отчасти — от скуки, отчасти — для забавы, она стала помогать этому бедному мальчику, чем могла.
Каждый день, после обеда, она приглашала его в свою комнату. Он приходил, смущенный и растерянный, зажав под мышкой книги и тетради. Ему было не. по себе — наверное, синьора просто хочет позабавиться, посмеяться над его бестолковостью. Только он тут ни при чем. Отец приказал. Что говорить, к ученью он не способен. Вот если надо дерево посадить или с волом управиться, это он может, черт побери! И он показывал ей свои мускулистые руки, кротко глядел на нее и широко улыбался, обнажая белые, крепкие зубы...
Но почему–то день ото дня ей становилось все неприятней его присутствие. Уроки прекратились. Она выписала из города рояль и теперь запиралась у себя, погружалась в музыку и в чтение. Однажды вечером она заметила, что, лишившись так внезапно ее помощи, ее общества, советов ее и шуток, он стал подкрадываться к окну, чтобы послушать пение и игру на рояле. Ей вздумалось захватить его врасплох. Повинуясь внезапному дурному побуждению, она прекратила играть и быстро спустилась по лестнице.
— Что ты тут делаешь?
— Я слушаю...
— Нравится тебе?
— Очень, так нравится, синьора! Как будто в раю! Элеонора расхохоталась. И тут, словно этот смех хлестнул его по лицу, он кинулся на нее — возле дома, в темноте, за полосой света, падавшего с балкона.
Так это произошло.
Ошеломленная неожиданностью, она не смогла оттолкнуть его, почувствовала, что теряет сознание под грубым натиском, и уступила, сама того не желая.
На следующий день она уехала в город.
Что же теперь? Почему не идет Джордже? Может быть, д’Андреа еще не сказал? Может, он думает, как ей помочь?
Она закрыла лицо руками, словно страшилась увидеть пропасть, разверзшуюся перед ней.
Тут ничем не поможешь. Надо умереть. Только — как? И когда? Отворилась дверь, и на пороге появился Джордже, бледный, растерянный и заплаканный. Д’Андреа поддерживал его.
— Я хочу знать только одно, — сказал Джордже сквозь зубы, отчеканивая каждый слог. — Я хочу знать, кто этот человек.
Элеонора не подняла глаз, она только медленно покачала головой и разрыдалась.
— Ты скажешь! — крикнул Банди. — И кто бы он ни был, ты выйдешь за него замуж.
— Нет! — простонала она, еще ниже опуская голову и судорожно сжимая руки. — Это невозможно! Никак невозможно!
— Он женат?
— Нет, не женат! — поспешно ответила она. — Только это невозможно, поверь!
— Кто он? — настаивал Банди. — Кто он? Говори! Элеонора сжалась под бешеным взглядом брата; она с трудом приподняла голову и простонала:
— Я не могу...
— Говори, а то убью! — проревел Банди, занося кулак над ее головой.
Д’Андреа стал между ними и строго произнес:
— Лучше уйди. Она скажет мне. Иди. И выпроводил его из комнаты.
III
Брат был непреклонен.
Перед свадьбой он упорно раздувал скандал. Болезненно опасаясь насмешек, он всем и каждому рассказывал о своем позоре в самых грубых выражениях. Он словно сошел с ума; и все ему сочувствовали.
Оказалось, что договориться с отцом Джерландо не так–то просто.
Старик, хотя и был человеком передовых взглядов, как будто с неба свалился. Сперва он никак не мог поверить. Потом заявил:
— Не извольте сомневаться! Я его растопчу! Видели, как виноград мнут? Или лучше вот как: свяжу ему руки–ноги, выдам его вам, а вы уж поступайте по своему усмотрению. А за розги можете быть спокойны. Три дня буду мочить, чтобы хлеще секли.
Когда старик понял, что барин хочет совсем не того и что речь идет о женитьбе, он снова удивился:
— Как вы говорите? Что–то я не пойму... Такая синьора хочет выйти за сына простого поденщика?
И отказал наотрез:
— Вы уж извините. Синьора не маленькая. Сама знает, что хорошо, а что дурно. Нечего было так поступать с моим дураком. Не хотел бы говорить, да, видно, придется. Каждый день затаскивала его к себе. Ну, сами понимаете... Зеленый еще... В такие–то годы разве их остановишь? А теперь разве дело мне сына терять, сколько на него денег потрачено! Не в обиду будь сказано, она ему в матери годится...
Банди пришлось пообещать в приданое усадьбу, да еще и денег.
Так была слажена эта свадьба, и для городка, в котором жила Элеонора, она явилась настоящим событием.
Всем как будто бы доставляло истинное наслаждение публичное издевательство над женщиной, которая столько лет пользовалась неизменным почетом. Словно между прежним почтением и нынешним позором не могло быть места для обыкновенного сострадания.
Все жалели брата; как и следовало ожидать, он не принял участия в церемонии. Д’Андреа тоже не пришел, сказал, что не может оставить бедного друга в этот печальный день.
Старый доктор, который лечил еще родителей Элеоноры (и у которого, кстати сказать, д’Андреа, вернувшись из университета, с помощью новомодных средств отбил большую часть пациентов), предложил себя в свидетели. Он привел еще одного старика, своего друга, и тот был вторым свидетелем при бракосочетании.
Вместе с ними, в закрытой карете, Элеонора поехала в мэрию, а потом в маленькую церковь на краю города.
В другой карете ехал жених, Джерландо, угрюмый и мрачный. Его сопровождали родители.
Они сидели разряженные ради праздника, надутые, важные. Как ни говори, а все–таки сын женится на настоящей синьоре, на сестре адвоката, и в приданое за ней дали землю, и дом хороший, и денег. Теперь надо бы подумать и о дальнейшем учении. Усадьбой отец займется сам, он в этих делах разбирается. Вот разве жена малость для него старовата. А может, оно и лучше. Наследник уже в пути... да и по непреложным законам естества Элеонора должна умереть раньше, и тогда Джерландо останется свободным и при деньгах.
Примерно подобным же размышлениям предавались свидетели со стороны жениха в третьей карете — старые крестьяне, друзья его отца, и две старухи, сестры матери. Остальные родственники и многочисленные приятели Джерландо ждали в усадьбе. Сегодня они нарядились; мужчины щеголяли в синих суконных куртках, женщины — в новых накидках и ослепительно ярких платках. Ведь отец жениха, человек передовых взглядов, все устроил на славу.
Когда приехали в мэрию, Элеонора разрыдалась. Родственники подтолкнули к ней жениха. Но старый доктор сказал, что лучше ему постоять в стороне.
Еще не совсем успокоившись, Элеонора вошла в зал, где должно было совершиться гражданское бракосочетание. Она увидела рядом с собой этого мальчика — от стыда и неловкости он казался еще более неуклюжим и угловатым. Все возмутилось в ней; она чуть не крикнула: «Нет!» — и взглянула на него, словно желая, чтобы он отказался. Но оба сказали: «Да», — как будто бы подтвердили неумолимый приговор. Наспех совершили церковный обряд, и печальный свадебный кортеж двинулся в усадьбу. Элеонора не хотела расставаться со старыми друзьями. Но ей все же пришлось сесть в другую карету, к мужу, свекрови и свекру.
Всю дорогу они молчали.
Старик и старуха были растерянны; время от времени они украдкой, исподлобья, косились на невестку, обменивались быстрыми взглядами и опускали глаза. Джерландо смотрел в окно, хмурился и думал о своем.
В усадьбе их встретили очень шумно — стреляли, кричали и хлопали в ладоши. Но, взглянув на новобрачную, все притихли, хоть она и пыталась улыбаться этим добрым людям, которые поздравляли ее по–своему, как принято у них.
Вскоре она попросила разрешения уйти — ей хотелось побыть одной. Но, войдя в свою прежнюю комнату, где было постлано брачное ложе, Элеонора замерла на пороге. С ним? Нет! Нет! Нет! Дрожа от отвращения, кинулась она в другую комнату и заперлась на ключ. Потом упала в кресло и закрыла лицо руками.
Через дверь доносились крики и хохот. Гости подзадоривали Джерландо, восхваляя не столько невесту, сколько ее приданое и семью.
Джерландо не отвечал, стоял, повернувшись к окну, — ему было очень стыдно — и только время от времени пожимал могучими плечами.
Стыдно, да. Ему стыдно, что он женился вот так, на этой синьоре. А все отец виноват, приставал к нему с проклятым ученьем, и она на него смотрела, как на дурака, шутила над ним, обижала. Вот и доигрались. Отцу хорошо, он землю получил. А ему–то каково? Как ему жить с этой важной синьорой, он ее боится, она за него пошла только от стыда и позора. Как он посмотрит ей в лицо? И еще отец требует, чтоб он не бросал эту дурацкую школу! Да его там засмеют! Она ведь на двадцать лет его старше, жена, и к тому же толстущая, прямо гора. Прямо глыба какая–то.
Пока Джерландо предавался подобным размышлениям, его родители нетерпеливо ждали ужина. Наконец они торжественно вошли в залу, где был накрыт стол. Угощенье готовили не они — из города выписали трактирщика, а тот еще привез с собой повара и двух лакеев.
Отец вышел на балкон и приказал сыну:
— Пойди скажи жене, чтоб шла к столу.
— Не пойду я! — буркнул Джерландо и топнул ногой. — Идите сами.
— Она тебя ждет, болван, а не меня! — заорал на него отец. — Ты ей муж. Ну–ка, пошевеливайся. Чтоб была тут!
— Это уж как хотите. Только я не пойду, — упрямо повторил Джерландо.
Окончательно потеряв терпение, отец схватил его за воротник куртки и дал ему пинка.
— Что, стыдно тебе? Сам заварил кашу, дурак! А теперь ему стыдно, видите ли! Ну, пошел! Она тебе жена.
Прибежали гости, принялись их мирить, наперебой уговаривали Джерландо сходить за женой.
— Ну, что тут такого? Пойди, позови выпить стаканчик...
— Да я не знаю, как ее звать! — в отчаянии возопил Джерландо..
Одни расхохотались, другие бросились удерживать отца, который порывался дать сыну затрещину за то, что этот дурень портит ему праздник. Так все пышно устроили, столько денег потратили.
— Назовешь ее по имени, — вкрадчиво говорила мать. — Как ее имя–то? Элеонора? Вот и зови Элеонорой. Она ведь тебе жена. Иди, сынок, иди...
Джерландо постучался. Сперва — чуть слышно. Подождал. Ответа нет. Как с ней говорить? Прямо так сразу на «ты»? Черт, стыдно как! Чего это она не отвечает? Не слышит, наверное. Он постучал громче. Подождал еще. Тихо.
Совсем растерявшись, он тихонько позвал ее, как советовала мать. Вышло как–то смешно — «Энеолора». Тогда, желая исправить ошибку, он вдруг закричал зычным, повелительным голосом:
— Элеонора!
И услышал ее голос из–за двери другой комнаты:
— Кто там?
Он подошел к той двери.
— Это я... — проговорил он. — Я, это... Джер... Джерландо. Там уж все готово.
— Я не могу, — ответила она. — Садитесь за стол без меня. И Джерландо вернулся в зал, испытывая огромное облегчение.
— Она не идет! Говорит — не может. Не может прийти!
— Ну и дурак! — закричал отец (он его иначе и не называл). — Ты ей сказал, что у нас за стол сегодня? Надо было силой вести!
Вступилась мать — она сказала мужу, что лучше пока что оставить невестку в покое. Гости поддержали:
— Да уж... волнуется... стыдно ей...
Свекру очень хотелось показать Элеоноре, что и он при случае умеет все сделать как надо. И теперь, сильно разозлившись, он угрюмо приказал подавать.
Все желали отведать городских кушаний, но смущала необычная сервировка стола. К чему тут эти четыре разные рюмки и еще вилки и вилочки какие–то, ножи и ножички и перышки в папиросной бумаге?
Гости сидели далеко от стола, потели под тяжестью праздничных одежд и смотрели друг на друга: на грубые, загорелые лица, обезображенные непривычным умываньем. Им было неловко брать своими натруженными крестьянскими руками все эти серебряные вилочки (какую тут надо — большую или маленькую?) и серебряные ножички; но особенно смущали их лакеи в белых перчатках.
Отец смотрел на Джерландо, почесывал затылок, жевал и приговаривал, скривившись в издевательской, плаксивой гримасе:
— Глядите, как расселся! Осел ты, осел! Да уж конечно, как ей взглянуть на такую образину! Она верно делает, верно она делает, что стыдится. Вот я бы на его месте!..
Ужин кончился в угрюмом молчании, и гости под разными предлогами разошлись по домам. Было уже темно.
— Ну, что теперь будешь делать? — спросил отец, когда лакеи убрали со стола и все в доме затихло. — Что делать будешь? Выпутывайся, как знаешь!
И приказал жене идти за ним, в их домик, неподалеку от виллы. Когда они ушли, Джерландо растерянно огляделся. Что же делать?
Он чувствовал молчаливое присутствие женщины, которая заперлась от него там, в соседней комнате. Может, теперь она выйдет? Ведь шуму уже нет. Что же ему делать?
Ох, хорошо бы уйти вместе с матерью или хоть под деревом прилечь, на дворе!
А может быть, она ждет, чтобы он ее позвал? Может, она смирилась и ждет теперь, что он ее позовет... да, ждет, что он...
Джерландо прислушался. Нет, все тихо. Наверное, спит. Уже совсем стемнело; свет луны проникал в комнату через открытую дверь балкона.
Не зажигая света, Джерландо взял стул и вынес его на балкон, с которого видна была вся деревня на пологом берегу, а там, вдалеке, и само море.
Ночь была светлая, крупные звезды ярко сверкали в небе; над морем сиял серебристый лик луны; словно частый перезвон, дрожали над желтым жнивьем голоса кузнечиков.
Вдруг где–то рядом пронзительно и печально закричала сова; другая ответила ей издалека, словно эхо; и долго ухали они, перекликаясь друг с другом в прозрачном сумраке ночи.
Опершись на перила, он вслушивался в их крики, и постепенно проходила мучительная, тяжелая неуверенность. Потом он разглядел стену, которая окружала усадьбу, и подумал, что земля теперь принадлежит ему; и все деревья, и оливы, и миндаль, и рожки, и смоковницы, и виноградник тоже принадлежат ему.
Да, отец не зря так радовался, теперь он ни от кого не зависит.
В конце концов не так уж глупо он придумал насчет ученья. Лучше уж там, в школе, чем целый день торчать тут, с женой. А если приятели станут над ним смеяться, он с ними расправится. Он теперь сам синьор и не боится, что его выгонят из школы. Да и не выгонят! Он будет учиться как следует, чтоб не ударить лицом в грязь перед здешними господами. Скоро будет с ними как равный. Еще четыре года поучится и станет агрономом или же землемером. Его шурин, синьор адвокат, думает, что продешевил свою сестрицу? Ничего, еще придет к нему на поклон! Да уж, покланяется! Тут он ему и скажет: «Кого вы мне подсунули? Старуху эту? Я человек ученый, не кто–нибудь, мне жена нужна молодая, красивая, с деньгами и из хорошего дома!..» И он заснул, уронив голову на руку, лежавшую на перилах.
Кричали совы — одна совсем рядом, другая вдалеке, — призывно жаловались друг другу; лунный свет трепетал над землей, раздавалась трескотня кузнечиков, а издалека, словно смутный упрек, доносился рокот моря.
Поздно ночью, тихо, как тень, Элеонора появилась в дверях.
Она, не думала, что он спит. Ей стало жалко его — и страшно. Она остановилась, не зная, нужно ли ей разбудить его, чтобы сообщить о своем решении и увести в комнаты. Но не смогла дотронуться до него, у нее не хватило духу назвать его по имени, и она неслышно вернулась к себе.
IV
Все уладилось довольно просто.
На следующее утро Элеонора поговорила с Джерландо, как мать. Она сказала, что он полноправный хозяин в доме и волен делать все, что хочет, как будто они ничем не связаны. Для себя просила она только одного: чтобы он позволил ей жить отдельно, в маленькой комнате, вместе со старой служанкой, которая знала ее с рождения.
Джерландо, которого принесли поздно ночью с балкона и положили на диван в столовой, с трудом продрал глаза. Приоткрыв от усердия рот, он изо всех сил старался нахмуриться — пусть видит, что его уговорить не так уж просто! — и значительно кивал головой в ответ на каждое ее слово. Но когда об этом узнали родители, они просто взбесились, и напрасно Джерландо пытался их убедить, что так даже лучше, что он только рад.
Чтобы успокоить отца, Джерландо обещал ему вернуться в школу в первых числах октября. Назло невестке мать приказала ему занять лучшие комнаты — и спал чтоб в самой лучшей, и учился бы в самой лучшей, и обедал бы тоже в самой лучшей!
— Ты смотри спуску ей не давай! А то я сама к вам пожалую и покажу ей, как услужать мужу!
В конце концов она поклялась, что никогда слова не скажет этой гордячке. Где это видано так обходиться с мужем! С таким–то молодцом! Она и смотреть на него недостойна, вот что!
И Джерландо погрузился в ученье, снова стал готовиться к экзаменам. Конечно, времени осталось мало, всего три недели. Но Бог его знает! Если приналечь, быть может, одолеет он эту премудрость, над которой бьется уже целых три года, и получит наконец аттестат.
Когда прошло тяжелое оцепенение первых дней, Элеонора, по совету старой служанки, занялась приданым для будущего ребенка. Раньше она не думала об этом вовсе.
Джеза, старая служанка, помогала ей в этом непривычном деле — показывала, как кроить распашонки, как шить чепчики... Судьба посылает ей такое утешенье, а она и не думала об этом, совсем забыла. У нее будет мальчик... или девочка... и она сможет отдать ребенку всю свою жизнь! Хорошо, если бы Господь послал ей сына. Она уже старая, скоро умрет, — как оставить девочку с таким отцом? Ведь она унаследует ее вкусы, ее чувства. Мальчику будет не так тяжко, он легче уживется в этой среде, куда скоро забросит его злая судьба.
Эти мысли тяготили ее, работа утомляла, и, чтобы отвлечься, она брала одну из книг, которые ей удалось захватить из дому. Иногда, кивая головой на дверь, она спрашивала служанку:
— Что он там?
Джеза недовольно хмыкала, пожимала плечами, презрительно выпячивала губу и отвечала:
— Голову на книгу положил. Может, спит. Может, думает. Кто его знает.
Джерландо думал; он думал о том, что в конце концов не так уж счастливо складывается его жизнь.
Да... Он теперь хозяин, а власть проявить негде; есть у него жена — а выходит, будто и нет; с родителями он в ссоре; и так зол на самого себя, ведь ничего в голове не держится, ну как есть ничего!
Он метался, не мог работать, и острые желания мучили его. Его тянуло к жене, потому что она отвергла его. Что говорить, она не нравится ему теперь. Однако же — что это за договор такой? Он ей муж, ему решать, а не ей.
Он поднимался. Выходил из комнаты. Шел к ней. Видел ее сквозь приоткрытую дверь, и возмущение исчезало. Он тяжело вздыхал и, не желая признаться, что у него просто не хватает духу, говорил самому себе, что дело не стоит труда.
Однажды он вернулся из города после очередного провала на экзаменах. Ну, хватит! Отучился! С него довольно! Он сгреб со стола книжки, тетрадки, чертежи, линейки, готовальни, карандаши, потащил их вниз, свалил перед домом и принялся разжигать костер.
Прибежал отец, попытался остановить его. Джерландо взорвался:
— Не суйтесь не в свое дело!.. Я теперь сам хозяин! Прибежала мать. Подоспели крестьяне, работавшие неподалеку в поле. Груда бумаги уже дымилась, дым становился все гуще, что–то затрещало, сверкнуло пламя и взвилось к небу. Услышав крики, Элеонора вышла на балкон; за ней появилась служанка.
Джерландо стоял без пиджака; белый от ярости и надувшись, как индюк, он бросал в огонь орудия долгой и бессмысленной пытки.
Элеоноре стало смешно, и она поспешила спрятаться. Но свекровь заметила ее улыбку и закричала сыну:
— Синьора–то наша! Радуется, видел? Смешно ей!
— Еще наплачется! — крикнул тогда Джерландо, обернувшись к балкону.
Элеонора услышала и побледнела. Она поняла, что пришел конец той тихой и печальной жизни, которую она вела до сих пор. Какую короткую передышку даровала ей судьба! Что нужно от нее этому зверю? У нее нет больше сил. Даже самый незначительный удар прикончит ее.
Тут она увидела Джерландо. Он тяжело дышал, и лицо его потемнело от гнева.
— Хватит! — заявил он. — Поиздевались! Отец мой крестьянствует, и я буду крестьянствовать. Так что нечего строить из себя синьору. Долой все эти тряпки! Ни к чему ребенку эти оборки! Будет крестьянин, как я. Старуху выгони вон. Сама будешь стряпать и за домом смотреть. Как моя мать смотрела, так и тебе придется. Ясно?
Элеонора встала.
— Мне нет дела до твоей матери, — сказала она, гордо глядя ему в глаза. — Я — это я, и тебе не сделать из меня крестьянки.
— Ты моя жена! — заорал Джерландо и грубо схватил ее за руку. — Сделаешь, как я сказал. Как прикажу, так и сделаешь. Поняла?
Потом он резко повернулся к старой служанке и указал ей на дверь:
— Убирайся! Не нужно мне тут прислуги!
— Я иду с тобой, Джеза! — крикнула Элеонора, пытаясь высвободить руку.
Но Джерландо не выпускал ее, сдавил сильнее, заставил сесть.
— Еще чего! Останешься тут! От меня не уйдешь! Хватит, я из–за тебя наслушался! Ну–ка, тащи все сюда из своей норы! Довольно мне одному тянуть лямку! Хватит, наплакался!
— О чем же ты плакал? — сказала она, сдерживая слезы. — Ведь я ничего от тебя не требовала.
— Вот как, не требовала? А чтоб я тебя не трогал? А чтоб я к тебе близко не подходил? Как будто я какой–нибудь... как будто с такой важной синьорой и поговорить нельзя! Наняла служанку, чтоб мне за столом подавала! Сама должна подавать, как все жены!
— Что тебе еще от меня нужно? — спросила Элеонора, стараясь сдержаться. — Если ты хочешь, я буду прислуживать тебе сама.
Тут она не выдержала, хлынули слезы, закружилась голова, и она потеряла сознание. Мгновенно растерявшись, Джерландо кинулся к ней. Он не дал ей упасть и, вместе с Джезой, отнес ее в кресло.
К вечеру у нее внезапно начались схватки.
Не помня себя от страха и раскаянья, Джерландо побежал за матерью. Немедленно послали какого–то мальчишку в город, к акушерке. Отец сильно перепугался — если невестка «выкинет, что будет с усадьбой? — и напустился на сына:
— Дурак ты, дурак! Что наделал! А если и она помрет? Не оставит тебе детей? Пропадешь. Школу бросил! А сам лопату держать не умеешь! Пропадешь, как собака!
— Да Бог с ним со всем! — кричал Джерландо. — Только бы жива осталась!
Прибежала мать и завопила, воздев руки к небу:
— Доктора! Доктора, скорей! Умирает!
— Что с ней? — спросил Джерландо, побелев от страха. Но отец толкнул его к двери:
— Беги! Скорей!
Джерландо весь трясся. Он пытался бежать, но слезы мешали ему. На полдороге он столкнулся с телегой, в которой ехали мальчишка с акушеркой.
— Быстрее! Быстрее! — закричал он. — Бегу за доктором! Она умирает!
Он споткнулся, упал, вскочил, весь в пыли, и побежал дальше, вцепившись зубами в ободранную руку.
Когда он привел доктора, Элеонора была при смерти. Она истекала кровью.
— Убийца! Убийца! — причитала Джеза, хлопоча над своей хозяйкой. — Это все он! Поднял на нее руку!
Но Элеонора отрицательно качала головой. Она чувствовала, как постепенно, вместе с кровью, уходит из нее жизнь, убывают последние силы и холодеет тело. Вот и хорошо. Умирать не страшно. Даже приятно — такое облегчение после ужасных страданий. Бледная как полотно, она смотрела в потолок и ждала, когда ее глаза закроются наконец, сами собой, тихо–тихо, совсем тихо, навсегда... Словно сквозь сон увидела она старого доктора, который был свидетелем у нее на свадьбе. И улыбнулась ему.
V
Джерландо не отходил от жены ни днем ни ночью, все время, пока она боролась со смертью.
Когда наконец ее перенесли в кресла, она была неузнаваема — прозрачная, без кровинки. Она увидела Джерландо (казалось, он тоже только что оправился от смертельной болезни), увидела его родителей, участливо склонившихся к ней; посмотрела на них прекрасными черными глазами, которые стали теперь еще огромней, и поняла, что ничего общего нет между нею и этими людьми, словно она вернулась откуда–то издалека, обновленная, и порвались все узы, связывавшие ее не только с ними, но и со всей прежней жизнью.
Ей было трудно дышать. При малейшем шуме сердце у нее замирало, потом начинало отчаянно биться. Она быстро уставала.
И вот, откинув голову на спинку кресла и закрыв глаза, она сокрушалась, что ей не удалось умереть. Как жить дальше? Как вытерпеть эту пытку, как смотреть на все эти лица, на все эти вещи? Она ведь теперь так далека от них, так далека! Невыносимые, отвратительные образы минувшего наступали на нее, подходили совсем близко, и словно кто–то силой держал ее, заставлял смотреть, не давал забыть обо всем этом, таком чужом, ненавистном!
Она думала, что ей уже не встать, думала, что с минуты на минуту умрет от разрыва сердца. А вышло иначе... Вскоре она поднялась, смогла ходить по комнате, опираясь на руку Джезы; прошло еще несколько дней — и она спустилась по лестнице, вышла на воздух. Потом она стала ходить каждый вечер к самой насыпи на южном краю усадьбы. Оттуда, сверху, открывался вид на морской берег. Сперва Джерландо и Джеза сопровождали ее, потом — только Джеза; и наконец она стала ходить одна.
Она садилась на камень, под сенью столетней оливы, и глядела на мягкую, чуть волнистую линию берега; видела, как огненный диск солнца медленно обволакивается влажным туманом над посеревшим морем, как в последний раз празднично вспыхивают волны, торжественно и волшебно загораются облака, как появляются звезды в сером сумеречном небе; как льется на землю чистый, спокойный свет Юпитера и как все ярче становится луна. Упивалась печальной сладостью надвигающегося вечера и блаженно вдыхала воздух, чувствуя, что спокойствие и прохлада проникают в самую ее душу, словно неземное блаженство.
Тем временем в семье поденщика зрел заговор против нее. Отец и мать убеждали Джерландо позаботиться о наследстве, а то всякое может случиться...
— Ты ее зря одну оставляешь, — говорил отец. — Ты помни, она теперь благодарность чувствует за твою заботу. Старайся быть при ней, в доверие к ней войди. И потом... сделай как–нибудь, чтоб служанка у нее не спала. Ей теперь лучше, не нужна ей служанка по ночам.
— Да Боже меня упаси! Да у меня и в мыслях такого нет... Да что это вы! Она ведь ко мне, как к сыну. Вы бы послушали, как она со мной говорит!.. Будто она старая, будто жизнь ее прошла... Да, Господи!..
— Старая? — вмешалась мать. — Да уж, конечно, не девочка. Только и старой не назовешь; так что ты уж...
— Землю твою заберут, дурень! — перебивал отец. — Я тебе говорю, пропадешь, на улицу выкинут. Умрет она, детей не оставит, и приданое ее родные получат, это по закону. Дельце сделал, нечего сказать! Ученье бросил, время потерял и с носом останешься. Ни гроша не получишь! Ты подумай, подумай, пока не поздно!.. Чего ждешь?
— С ней по–хорошему надо, — вкрадчиво советовала мать. — Пойди к ней по–хорошему и скажи: «Так, мол, и так. С чем же я останусь? Я ведь тебя почитал, как ты хотела. Теперь ты обо мне подумай — с чем я–то останусь? Что делать буду?» Чего ты трусишь? Слава Богу, не на войну идти.
— И еще прибавь так, — снова встревал отец, — так прибавь: «Ты что, хочешь братца своего облагодетельствовать? Он с тобою вон как поступил, а ты хочешь, чтоб он меня выгнал, как собаку?» И дождешься! Как собаку, выгонит, пинком в зад, и нас выставит за тобой следом.
Джерландо не отвечал. Советы матери раздражали его, но в то же время доставляли какое–то удовольствие, точно щекотка. Мрачные предсказания отца сильно его пугали и злили. Что же ему делать? Он знал, что разговор будет очень тяжелый; знал также, что без этого не обойтись. Ничего не поделаешь, попытаться надо.
Теперь Элеонора выходила к столу. Однажды, за ужином, она заметила, что он напряженно уставился в скатерть, и спросила его:
— Почему ты не ешь? Что с тобой?
Хотя Джерландо ждал этого вопроса и даже сам пытался вызвать его своим поведением, он не смог ответить так, как научили родители, и неопределенно махнул рукой.
— Что с тобой? — настаивала Элеонора.
— Ничего, — в замешательстве ответил Джерландо. — Отец пристает...
— Опять со школой? — улыбнулась она, надеясь вызвать его на разговор.
— Нет, хуже, — ответил он. — Пристает... Он ко мне пристает, чтоб я о будущем позаботился, говорит — сам он старый, а я вот ни на что не гожусь... Пока ты здесь, оно конечно... а вот потом–потом, говорит, останусь ни при чем...
— Скажи отцу, — серьезно ответила Элеонора, прикрывая глаза, чтобы не видеть, как он покраснел, — скажи отцу, пускай не волнуется. Я обо всем позаботилась. Раз уже речь зашла об этом, так знай: если я умру — все мы во власти божьей, — : в моей комнате, во втором ящике комода, под желтым корсетом, лежит письмо на твое имя.
— Письмо? — переспросил Джерландо, вконец смутившись. Элеонора кивнула.
— Да. Можешь быть спокоен.
На следующее утро Джерландо, радостный и веселый, отправился к родителям и передал им свой разговор с Элеонорой. Но они — в особенности отец — были недовольны.
— Письмо, говоришь? Все штучки!
Что это за письмо такое? Надо думать, завещание. Оставляет, значит, свое состояние мужу. А вдруг оно не по форме написано? Да уж разве женщина напишет как следует! И без нотариуса оно силы не имеет... А ведь братец–то судейский, он их по судам затаскает!
— В суде правды не жди. Боже тебя упаси судиться! Не для нас это, бедняков. Они там со зла все наизнанку вывернут, черное белым назовут, белое — черным.
А может, его там и нет, письма этого? Просто так сказала, чтоб отстал.
— Ты что, видел его? Не видел. Вот то–то и оно. Был бы у вас ребенок, тогда другое дело. Ты не давай себя надуть. Слушайся нас! Ребенок, понимаешь? А то — письмо!
И вот однажды вечером, когда Элеонора, по обыкновению, сидела у обрыва, перед ней внезапно появился Джерландо.
Она зябла и куталась в большую черную шаль, хотя февраль был очень теплый и в воздухе уже пахло весной. Внизу, под обрывом, зеленели хлеба; море и небо на горизонте окрасились в нежный розовый цвет, быть может, слишком бледный, но необычайно красивого оттенка; далекие деревни, не освещенные солнцем, блестели, словно игрушечные.
Она устала любоваться в тишине этой волшебной гармонией красок и приникла головой к стволу оливы. Черную шаль она накинула на голову, от этого ее лицо казалось еще бледнее.
— Что ты тут делаешь? — спросил Джерландо. — Ты сейчас похожа на скорбящую Божью Матерь.
— Я смотрела... — ответила она, вздохнула и прикрыла глаза. Но он начал снова:
— Если бы ты знала, как... как тебе хорошо так вот... эта черная шаль...
— Хорошо? — грустно улыбнулась Элеонора. — Мне просто холодно!
— Нет, я не про то... Хорошо... хорошо... к лицу, — сбивчиво пояснил Джерландо, опускаясь на землю.
Она закрыла глаза и улыбнулась, чтобы не расплакаться. Внезапно нахлынули воспоминания о впустую пропавшей молодости. В восемнадцать лет она действительно была красива, так красива!
Внезапно несмелое прикосновение нарушило ее мысли.
— Дай мне руку, — попросил он, глядя на нее снизу вверх загоревшимися глазами.
Она поняла, но притворилась, что не понимает.
— Руку? Зачем? — спросила она. — Мне тебя не поднять, у меня сил не хватит. Я и сама еле двигаюсь... Поздно уже, идем.
И встала.
— Я не к тому сказал, — пытался он объяснить. — Посидим вот так, в темноте... Хорошо тут очень...
Он пытался обнять ее колени, судорожно улыбаясь пересохшими губами.
— Нет! — крикнула она. — Ты с ума сошел! Пусти!
Чтобы не упасть, она схватила его за плечи и оттолкнула. Он стоял на коленях, и черная шаль, соскользнувшая с ее плеч при резком движении, покрыла, окутала его целиком.
— Я тебя хочу! Я тебя хочу, — бормотал он, как пьяный, еще сильнее сжимая ее колени; другой рукой он тянулся к ее талии, задыхаясь от запаха ее тела.
Отчаянным усилием она высвободилась. Подбежала к обрыву. Обернулась. Крикнула:
— Не подходи!
Он яростно кинулся к ней. Она увернулась и бросилась вниз.
Он замер от ужаса. Услышал страшный глухой звук. Наклонился над обрывом. Увидел ворох черных одежд на зелени склона. И черную шаль, распластавшуюся по ветру, которая медленно опускалась все ниже, ниже.
Он стиснул голову руками и повернулся к дому. В глаза ему глянул бледный лик луны, взошедшей над оливами. Он застыл на месте и долго смотрел на нее не отрывая глаз, словно она все видела с небес и теперь обвиняла его.
БРАЧНАЯ НОЧЬ (Перевод Я. Лесюка)
Четыре рубашки,
четыре простыни,
четыре юбки,
словом, всего по четыре. И это приданое дочери, которое мать с терпением паука собирала по нитке, откладывая грош — сегодня, грош — завтра, она не уставала показывать соседкам.
— Скромное приданое, зато аккуратненькое.
Своими многострадальными, бескровными, скрюченными руками, которым был знаком один лишь изнурительный труд, она доставала из старого сундука, длинного и узкого, как гроб, красивые вещи; бережно, словно прикасаясь к Святому Причастию, она вынимала и раскладывала на постели шали и платья: одно — подвенечное — с вышитым воротником и тонким шелковым басоном понизу, остальные три — шерстяные, но менее нарядные. Глядя на них со смиренной улыбкой, мать повторяла: «Скромное приданое, зато аккуратненькое...» И от радости у нее дрожали руки и прерывался голос.
— Сами знаете, осталась я одна–одинешенька, — говорила она. — Чего только я не делала этими вот руками, а теперь они у меня вовсе отнимаются. Трудилась я и в дождь и в зной; стирала и в реках и в источниках; лущила миндаль, собирала маслины; нет такой деревни в округе, где бы я не работала, не убирала или воду бы не носила... Да что там говорить! Одному Господу Богу ведомо, сколько я слез пролила, как тяжко мне жилось; верно, за то и даровал он мне силы и здоровье. Но не зря я трудилась, теперь могу спокойно и помереть. А тому праведнику, что ожидает меня на небесах, коли спросит он о нашей дочери, я с чистым сердцем отвечу: «Будь спокоен, бедняжка, не тревожься — дочку нашу я хорошо пристроила. Уж ей–то страдать не придется, я за двоих настрадалась». Это я от радости плачу, не обращайте внимания.
И тетка Анто вытирала слезы кончиком черного головного платка, завязанного у нее под подбородком.
Одетая во все новое, она в тот день сама на себя не была похожа, и ее обычная болтовня производила на всех странное впечатление.
Соседки наперебой хвалили ее и сочувственно поддакивали. Ее дочь Марастелла, уже одетая в подвенечное платье серого атласа (вот щеголиха!), с голубой шелковой косынкой на шее, тщательно прихорашивалась в углу комнаты перед столь знаменательным событием в ее жизни; увидя, что мать плачет, она тоже разразилась рыданиями.
— Мараете, Мараете, что с тобою?
Соседки толпой окружили девушку, и каждая старалась успокоить ее:
— Радуйся! Радуйся! Что это ты вздумала? Нынче плакать нельзя... Знаешь, как говорится? Будь у тебя печали на сто лир, ею не покроешь и гроша долга!
— Я об отце подумала! — прошептала Марастелла, закрыв лицо руками.
Семь лет тому назад погиб он от несчастного случая. Бедняга служил в портовой таможне и каждую ночь отправлялся в шлюпке в дозор. Однажды, в бурю, шлюпка перевернулась, лавируя возле Дуэ Ривьере, и пошла ко дну вместе с находившимися в ней тремя людьми.
У всех приморских жителей еще свежо было воспоминание об этой беде. Они не забыли, как Марастелла с матерью, громко рыдая, прибежала на скалистый берег возле нового порта, где лежали тела трех утонувших, — их обнаружили после двухдневных упорных поисков; обе женщины остановились в отчаянии и воздели руки к небу, не замечая ни резкого ветра, ни холодных морских брызг. Потом Марастелла, вместо того чтобы броситься на колени возле трупа отца, неподвижно застыла перед другим покойником и, прижав руки к груди, простонала:
— Ах, любовь моя! Любовь моя! И на кого только ты меня покинул!..
Тетка Анто, родичи утонувшего и все стоявшие на берегу, просто остолбенели при столь неожиданном признании. А мать юноши (беднягу звали Тино Спарти, золотой был малый!), услышав крик Марастеллы, порывисто обняла ее, крепко–крепко прижала к сердцу и, будто желая показать ее близость к себе и к нему, своему погибшему сыну, громко, в присутствии всех, воскликнула:
— Доченька! Доченька ты моя!
Вот почему, услыхав, как Марастелла сказала: «Я об отце подумала», — соседки обменялись понимающими взглядами и молча пожалели ее. Нет, не об отце она сейчас плакала, несчастная девушка. А может быть, и в самом деле об отце, потому что, будь он жив, он ни за что не согласился бы на этот брак, который матери Марастеллы, вдове, оставшейся после смерти мужа безо всяких средств, казался неслыханной удачей.
А какую борьбу пришлось выдержать тетке Анто, чтобы сломить сопротивление дочери!
— Да погляди ты на меня! Я ведь уже старуха, одной ногой в могиле стою. На что ты надеешься? Что станешь делать завтра, когда останешься одна на свете безо всякой помощи?
Да, мать была права. Однако и Марастелла в ответ приводила самые веские доводы. Спору нет, дон Лизи Кирико, которого ей прочили в мужья, человек вполне достойный, но ведь он уже почти старик, да к тому же еще и вдовец. И года не прошло с тех пор, как он овдовел, а если теперь снова женится, то скорее по нужде, а вовсе не по любви: просто ему нужна хозяйка, чтобы за домом смотрела да обед варила. Вот потому–то он и женится.
— А что тебе до того? — возражала мать. — Тебе и нужен–то человек рассудительный, на которого можно положиться. Он старик? Да ему сорока–то нет. С ним ты никогда не будешь нуждаться: у него прекрасное место и жалованье твердое. Пять лир в день — да ведь это же целое состояние!
— Прекрасное место, нечего сказать!
Вот оно, главное препятствие! Тетка Анто поняла это с самого начала: все дело в службе дона Кирико.
И в один из чудесных майских дней несчастная мать позвала нескольких соседок прогуляться туда, на холм, что господствует над местностью.
Дон Лизи Кирико заметил женщин сквозь белую ограду маленького кладбища, расположенного над деревней, и пригласил их войти.
— Ну? Что ты теперь скажешь? Цветов–то, цветов–то здесь сколько, прямо как в саду... — сказала тетка Анто Марастелле на обратном пути. — И цветы эти никогда не вянут. А вокруг — поля. Поглядишь за ограду и увидишь внизу, под ногами, всю нашу деревню, услышишь шум, голоса... А комнату видела? Какая славная комнатка — белая, чистая, просторная. Притворишь вечером дверь и окна, зажжешь свет — вот ты и дома. Не хуже, чем у других. Чего тут еще раздумывать?
Не молчали и соседки:
— А ведь верно, верно! И патом все дело в привычке. Не пройдет и нескольких дней, как ты ничего этого уже и замечать не будешь. Сама увидишь! К тому же, дочка, покойники никому зла не делают, не их, а живых надо остерегаться. Ты ведь всех нас моложе, и мы к тебе сюда одна за другой пожалуем. Владение–то большое, будешь тут полной хозяйкой и доброй сторожихой.
Эта прогулка на кладбище в чудесный весенний день оставила в душе Марастеллы сладостное воспоминание, и оно утешало ее все одиннадцать месяцев от помолвки до свадьбы: девушка вспоминала об этой прогулке в часы уныния, особенно когда наступал вечер и на душе у нее становилось тяжело от тревоги и страха.
...Она еще вытирала слезы, когда на пороге дома появился дон Лизи Кирико с двумя большими свертками под мышкой. Он переменился до неузнаваемости.
— Святая Мадонна! — вскричала тетка Анто. — Да что это вы над собой сделали, милый человек?
— Я? Ах, это... Борода... — пролепетал дон Лизи Кирико с жалкой улыбкой на толстых, мертвенно–бледных губах.
Он не только побрился, но к тому же весь при этом порезался: щетинистая борода так прочно укоренилась в его впалых щеках, что он походил теперь на старого ободранного козла.
— Это я, я заставила его побриться, — поспешила вмешаться сестра жениха, донна Нела, женщина тучная, но удивительно подвижная.
С несколькими бутылками вина под шалью она, тяжело дыша, переступила порог, и ее шелковое платье цвета зеленого горошка, шуршавшее, как журчащий ручей, казалось, заполнило всю комнату.
За нею вошел ее молчаливый и хмурый супруг, такой же худой, как дон Лизи Кирико.
— А разве я ему плохой совет дала? — продолжала донна Нела, сбрасывая шаль. — Пусть невеста сама скажет. Да где ж она? Смотри, Лизи, ведь я тебе говорила! Она плачет... Ты права, доченька. Мы слишком уж задержались. Это он виноват, Лизи. «Брить мне бороду? Или не брить?» Битых два часа решал он этот вопрос. Разве теперь он не кажется моложе? Подумать только: жених с белой бородой, да еще в день свадьбы...
— Я ее снова отпущу, — прервал Кирико сестру и с грустью посмотрел на юную невесту. — Я ведь кажусь таким же старым, но ко всему еще более уродливым.
— Мужчина, осел ты эдакий, всегда остается мужчиной, красавец он или урод! — наставительно изрекла рассерженная донна Нела. — И не забывай, что ты в новом костюме! А то враз его обновишь!
И она принялась стряхивать с его рукавов сахарную пудру, просыпавшуюся из свертков со сластями, которые ее брат все еще держал в руках.
Было уже поздно; прежде всего следовало отправиться в муниципалитет, чтобы не задерживать чиновника, а затем — в церковь; свадьба должна была закончиться до наступления вечера: на этом настаивал дон Кирико, который весьма ревностно относился к своим служебным обязанностям. За столом он сидел, как на угольях, особенно из–за сестры, любившей после сытного обеда пошуметь и повеселиться.
— Требуем музыки! Слыханное ли дело — свадьба без музыки?! Давайте плясать! Пошлите за слепым Сидоро... Тащите сюда гитары и мандолины!
Она так пронзительно кричала, что брату пришлось отозвать ее в сторону.
— Перестань, Нела, перестань! Ты должна бы понять, что я не хочу никакого веселья.
Сестра вытаращила на него глаза:
— Как? Это еще почему?
Дон Кирико нахмурился и вздохнул:
— Подумай сама, ведь едва год прошел, как та бедняжка...
— Так ты и вправду еще о ней думаешь? — прервала его донна Нела с ехидной усмешкой. — И берешь себе другую жену? Ох, бедная Нунциата!
— Да, я снова женюсь, — проговорил дон Кирико, бледнея и опуская глаза. — Но я не хочу на свадьбе ни музыки, ни танцев. У меня совсем другое на душе.
Когда солнце стало клониться к закату, он собрался уходить и попросил тещу приготовить все необходимое для ее дочери.
— Вы же знаете, мне нужно звонить к вечерне, там, наверху. Перед тем как выйти из дому, Марастелла бросилась матери на шею и опять разрыдалась; слезам ее, казалось, не будет конца. Бедняжке не хотелось, так не хотелось идти туда с ним одной...
— Да мы тебя проводим, не плачь, — успокоила ее тетка Анто. — Не плачь, глупенькая!
Однако она и сама плакала, а вместе с ними плакали и все соседки.
Невеселые проводы!
Одна только донна Нела, сестра Кирико, еще более румяная, чем всегда, не чувствовала никакого волнения: она, по ее словам, гуляла на двенадцати свадьбах, и никогда ни в слезах, ни в сладостях недостатка не было.
— Плачет дочь, разлучаясь с матерью, плачет мать, разлучаясь с дочерью. Так уж заведено! А теперь пропустим еще по стаканчику в утешение и отправимся восвояси, раз уж Лизи так торопится.
Все тронулись в путь. Это свадебное шествие напоминало скорее похоронную процессию. И, видя столь печальное зрелище, люди выглядывали из дверей, высовывались из окон или же останавливались прямо на дороге, смотрели на них и вздыхали: «Бедная новобрачная!»
Наверху, на небольшой площадке перед оградой, провожающие задержались, чтобы проститься с Марастеллой, ободрить ее и сказать несколько напутственных слов. Солнце уже садилось, небо горело красным пламенем, и море, казалось, тоже пылало. Снизу, из селения, поднимался смутный непрестанный гул, точно отзвук далекого грома, и волны задорных голосов ударялись о серовато–белую стену кладбища, погруженного в безмолвие.
Легкий, серебристый звон маленького колокола, которым Лизи Кирико возвестил вечерню, прозвучал для провожающих сигналом к уходу. При звуке этого колокола стена кладбища показалась всем белее, чем обычно. Быть может, это произошло из–за сгустившейся темноты. Смеркалось, пора было возвращаться домой. И все стали торопливо прощаться, хором желая новобрачной счастливой жизни.
Только мать и две самые близкие подруги остались с неподвижной, как будто оглушенной, Марастеллой. Облака, еще недавно пылавшие в небе, теперь потемнели и словно окутались дымом.
— Может быть, ненадолго зайдете? — спросил дон Кирико у женщин, стоявших возле калитки.
Но тетка Анто сделала ему незаметный знак, призывая его помолчать и обождать немного. Марастелла сквозь слезы заклинала мать увести ее обратно — домой, в деревню.
— Ради Господа Бога! Ради Господа Бога! — молила она. Девушка не кричала: она говорила так тихо, таким дрожащим голосом, что сердце у несчастной матери готово было разорваться. Еще бы, ведь девочка, конечно, сильно перепугалась, потому что увидела кладбищенские кресты, среди которых уже скользили ночные тени.
Дон Лизи Кирико отправился зажечь лампу в комнатушке, помещавшейся налево от входа; он посмотрел, все ли там в порядке, и замер в нерешительности: возвращаться ли ему или обождать здесь, пока новобрачная позволит матери уговорить себя и согласится войти в его дом.
Он все понимал и жалел ее. Он сознавал, что непривлекательная внешность мрачного, уже немолодого человека не могла внушить его юной супруге ни привязанности, ни доверия; и собственное его сердце также было полно печали.
Еще накануне вечером он бросился на колени перед скромной могилой с небольшим крестом, на этом самом кладбище, и, как дитя, рыдал, прощаясь со своей первой женою. Отныне он уже не имел больше права думать о ней; ему предстояло сделаться сразу и мужем и отцом для той, другой. Но заботы о новой жене не могли заставить его позабыть о тех обязанностях, которые он, вот уже много лет, свято выполнял в отношении всех тех людей, знакомых и незнакомых, что мирно спали тут под его охраной. Прошлой ночью он торжественно пообещал это всем крестам, когда обходил кладбище.
В конце концов Марастелла уступила матери и вошла в дом. Тетка Анто быстро захлопнула дверь, словно для того, чтобы девушка, очутившись в привычной обстановке жилища, избавилась от мучившего ее страха. И действительно, вид знакомых предметов, казалось, несколько успокоил Марастеллу.
— Ну а теперь сними шаль, — сказала ей тетка Анто. — Впрочем, обожди, я сама. Вот ты и дома...
— И она здесь полная хозяйка, — робко прибавил дон Кирико с грустной и ласковой улыбкой.
— Слышишь? — подхватила мать Марастеллы, чтобы побудить зятя сказать что–нибудь еще.
— Да, хозяйка надо мной и надо всем, что тут есть, — продолжал Кирико. — Пусть она твердо помнит это. Здесь возле нее будет человек, который станет любить и беречь ее, как родная мать. И она ничего не должна бояться.
— Конечно, чего ей бояться! — подтвердила тетка Анто. — Ведь она уже не ребенок! Что это еще за страхи! К тому же у нее будет теперь немало забот... Разве не так? Правда ведь?
Марастелла несколько раз утвердительно кивнула головой; но как только тетка Анто и обе ее подруги собрались уходить, она снова разразилась рыданиями, кинулась к матери и крепко обхватила ее за шею. Та с мягкой настойчивостью высвободилась из объятий дочери, в последний раз наказала ей всецело ввериться супругу и уповать на Бога, а затем удалилась вместе со своими спутницами, которые тоже утирали слезы.
Девушка замерла возле двери, которую мать, уходя, неплотно притворила; закрыв лицо руками, она старалась подавить рыдания; между тем от легкого дуновения ветерка дверь неслышно приоткрылась.
Сперва Марастелла, все еще закрывавшая лицо руками, этого не заметила; внезапно ей показалось — Бог знает почему, — будто в душе ее мгновенно воцарилась какая–то блаженная пустота, как это бывает во сне; издали доносился дрожащий, непрестанный стрекот кузнечиков, в комнату проникало пьянящее благоухание цветов. Она отняла руки от глаз и увидела, что кладбище залито ярким светом луны: он, казалось, околдовал землю — так неподвижно и отчетливо вырисовывались вокруг все предметы.
Дон Лизи Кирико приблизился, чтобы притворить дверь. И тогда Марастелла внезапно содрогнулась от ужаса; забившись в угол, она крикнула:
— Умоляю, не прикасайтесь ко мне!
Кирико, пораженный этим невольным взрывом отвращения, замер на месте.
— Да я ведь до тебя и не дотронулся, — пробормотал он. — Я хотел только дверь притворить.
— Нет, нет, — быстро проговорила Марастелла, стремясь удержать мужа подальше от себя. — Оставьте ее открытой. Я уже больше не боюсь!
— Как же нам теперь быть?.. — пролепетал дон Кирико, чувствуя, что у него опускаются руки.
Вокруг все было тихо. Сквозь полуоткрытую дверь доносилась лишь далекая песня крестьянина, беззаботно возвращавшегося домой, в деревню, при свете луны; снизу, с лугов, поднимался запах свежескошенного сена, особенно сильный в ночной прохладе.
— Если ты позволишь мне пройти, — сказал огорченный и глубоко униженный Кирико, — я запру калитку: она так и осталась открытой.
Марастелла все еще стояла в углу комнаты и даже не пошевелилась. Лизи Кирико медленно направился к ограде; он уже собрался было возвратиться, как вдруг увидел, что она бежит ему навстречу, как безумная.
— Где тут, где тут мой отец? Покажите мне! Где его могила?
— Ну что ж, ты права. Я тебя туда провожу, — ответил он глухо. — Каждый вечер, перед сном, я обхожу все кладбище. Ведь это моя обязанность. Нынче я этого не сделал из–за тебя. Пойдем. Фонарь не нужен. Нам будет светить небесный фонарь.
И они пошли по дорожкам, посыпанным гравием, среди зарослей цветущей лаванды.
Повсюду под лучами луны белели могилы богачей; а, железные кресты на могилах бедняков отбрасывали темные тени, и могло показаться, будто кресты эти лежат прямо на земле.
Еще отчетливее и яснее, чем прежде, с полей доносился дрожащий стрекот кузнечиков, и вдали неумолчно рокотало море.
— Вот здесь, — проговорил Кирико, указывая на невысокую скромную могилу, на которой был положен камень в память о несчастном случае и о трех людях — жертвах выполненного долга. — Здесь же лежит и Спарти, — прибавил он, видя, что Марастелла, рыдая, упала на колени перед могилой. — Ты поплачь тут... А я пойду чуть дальше, вон туда...
Луна невозмутимо взирала с небес на маленькое кладбище. И только она одна видела в ту чудесную апрельскую ночь две черные тени, черные тени на желтом гравии возле двух могил.
Дон Лизи Кирико, склонившись над могилой своей первой жены, плакал навзрыд:
— Нунциа, Нунциа, слышишь ли ты меня?!
ДЫМ (Перевод Л. Вершинина)
I
Как только рабочие серных копей, полумертвые от усталости, едва переводя дыхание, выбирались на поверхность, они сразу же искали глазами зеленый холм, замыкавший с запада широкую долину.
В самой долине, на засыпанной туфом, выжженной дымом и растрескавшейся земле, давно уже не росло ни травинки; повсюду чернели насыпи, напоминавшие огромные муравейники.
После долгих часов работы в кромешной тьме воспаленные, болевшие от дневного света глаза отдыхали, останавливаясь на зелени этого холма.
Тем, кто наполнял породой печи, следил за плавкой или трудился у ковшей, куда медленно стекала перегоревшая грязно–черная сера, при одном взгляде на далекий зеленый холм становилось легче дышать, легче переносить удушливый, едкий дым, вызывавший мучительные приступы кашля.
Сбросив с натруженных плеч мешки с серой, грузчики усаживались на них, чтобы перевести дух; с ног до головы они были перепачканы мокрой глиной, облепившей их, пока бедняги пробирались по галереям или карабкались из «ямы» по шаткой, подгнившей лестнице. Почесывая головы, смотрели грузчики на этот зеленый холм сквозь туманную пелену серных испарений, думали о сельской жизни, которая казалась им счастливой, безмятежной, а работа на свежем воздухе, под лучами солнца, — совсем нетрудной, и завидовали крестьянам.
— Вот счастливцы!
Для всех рабочих этот зеленый холм был страной Чудесной мечты. Оттуда привозили масло для шахтерских лампочек, лучи которых с трудом пробивали густую темень серных копей; оттуда привозили хлеб, черный и сытный, благодаря которому шахтеры только и могли держаться на ногах, работая с утра до ночи, словно волы. Наконец, оттуда получали они свою единственную отраду — вино, которое придавало им мужество и силу переносить проклятую жизнь. Да и можно ли назвать это жизнью: ведь там, под землей, они походили на сборище мертвецов!
Крестьяне же, глядя с холма на эту мертвую долину, даже плевались со злостью: «Тьфу!»
Там безраздельно владычествовал их заклятый враг: смертоносный дым.
И когда ветер приносил из долины отвратительный, удушливый запах перегоревшей серы, они глядели на деревья, словно желая защитить их, и вполголоса посылали проклятья этим сумасшедшим, которые упорно роют им, крестьянам, могилу и, опустошив долину, хотят теперь перекопать своими заступами их чудесные поля, понаставить всюду свои печи, точно завидуют уцелевшему зеленому острову.
В самом деле, упорно поговаривали, что и в толще холма должна быть сера. На это указывали известняковые гребни на вершине холма и выходы пород у подножия; горные инженеры неоднократно подтверждали правильность подобных догадок.
И хотя владельцев зеленого холма упорно соблазняли выгодой, они не только не соглашались сдать свою землю в аренду, но даже не поддавались искушению самим, ну хоть любопытства ради, легонько копнуть...
Плодоносные поля, залитые солнцем, — вот они, у всех перед глазами (конечно, случается иногда неурожайный год, но следующий — урожайный — все покрывает); серу же приходится искать вслепую, и горе тому, кто спустится в эту бездонную пропасть. Нет уж! Только безумцы могут бросить все и заняться таким ненадежным делом.
Эти доводы, которые владельцы зеленых участков не уставали повторять друг другу, звучали как своеобразная клятва сплоченно противостоять всяким соблазнам. Они знали, что, если уступит хоть один и на холме развернется добыча серы, пострадаю! все; раз уже начнется разрушение, то вскоре рядом вырастут другие адские печи, и за какие–нибудь несколько лет все деревья и кусты погибнут, отравленные дымом, а тогда прощайте, поля и луга!
II
Самому большому искушению подвергался дон Маттиа Скала, который владел маленьким участком, обсаженным великолепными оливковыми и миндальными деревьями, на склоне холма, где, к его неудовольствию, предполагались самые богатые залежи.
Многие инженеры из Королевского горного управления приезжали осматривать его участок и делали замеры. Скала встречал их, как встречает ревнивый муж врача, пришедшего к нему в дом осмотреть больную жену.
Захлопнуть дверь перед носом этих правительственных инженеров, являвшихся к нему по долгу службы, он, конечно, не мог. Зато он отводил душу на других посетителях, которые от. имени какого–нибудь богатого предпринимателя или акционерного общества предлагали ему сдать в аренду или продать свой участок.
— Черта лысого я вам продам! — кричал дон Маттиа. — Ни за что! Хоть бы вы предложили мне все сокровища Креза; хоть бы вы сказали: «Маттиа, копни ногой, как это делают куры, и ты найдешь столько серы, что станешь богаче самого, самого... короля Фаллари!» И не подумал бы копать, даю слово!
А если посетители продолжали настаивать, добавлял:
— Убирайтесь отсюда, не то я кликну собак!
Ему часто приходилось грозить собаками, потому что его участок выходил прямо на вьючную тропу, которая петляла вокруг холма. Тропа эта служила кратчайшим путем для рабочих серных копей, десятников и инженеров, постоянно сновавших между соседним городком и долиной. Инженерам, должно быть, нравилось поддразнивать его; хоть раз в неделю они непременно останавливались у ворот и, завидев дона Маттиа, спрашивали:
— Ну как, не передумали?
— Скампирро, Реджина, сюда! — звал, вместо ответа, своих собак дон Маттиа.
В свое время и он был одержим страстью разбогатеть на добыче серы и вот — превратился в жалкого неудачника! Теперь, стоило ему хоть издалека увидеть кусок серы, его, мягко выражаясь, начинало тошнить.
— Что же, в ней дьявол сидит? — спрашивали дона Маттиа.
— Хуже! — отвечал он. — Ведь дьявол губит душу, но коль захочет, может сделать человека богатым! Сера же делает вас беднее самого Иова и все равно губит душу!
Разговаривая, он походил на телеграфный столб, каких теперь уже больше не ставят. Худой, длиннющий, в белой, сдвинутой на затылок шляпе, в ушах маленькие золотые серьги, которые ясно показывали, что происходит он из полумещанской, полукрестьянской семьи (чего он, впрочем, и не пытался скрывать).
На гладко выбритом, бледном, как у большинства раздражительных людей, лице как–то странно выделялись густые, изогнутые брови, удивительно похожие на пышные усы, которые буйно разрослись здесь, убедившись, что на законном их месте, над губой хозяин и волоску не даст пробиться. Чуть пониже, под сенью бровей, горели необыкновенно живые, ясные и пронзительные глаза; ноздри орлиного носа постоянно вздрагивали и раздувались.
Все соседи любили дона Маттиа.
Они помнили, как он, когда–то такой богатый, приехал сюда разоренным вконец и поселился на этом клочке земли, который купил на деньги, вырученные от продажи городского дома, мебели и драгоценностей жены, умершей от разрыва сердца. Они помнили также, как в первые дни дон Маттиа запирался в своем убогом домишке и никого не желал видеть. Вместе с ним приехала шестнадцатилетняя девушка Яна, которую все приняли вначале за его дочь и которая оказалась младшей сестрой некоего Димы Кьяренцы, того самого негодяя, что предал и разорил дона Маттиа.
За всем этим скрывалась целая история.
Скала знал Кьяренцу еще мальчиком. Тот был круглым сиротой, и дон Маттиа все время помогал ему и его маленькой сестричке; потом он даже взял мальчика к себе и определил его на работу. Убедившись, что паренек умеет и любит работать, он снял в аренду серные копи и сделал его своим компаньоном. Все расходы дон Маттиа взял на себя; Кьяренца должен был лишь надзирать за работами.
Тем временем в доме подрастала Яна (Януцца, как ее ласково называли). Но у дона Маттиа был единственный сын, почти одних лет с Яной, которого звали Нели. Как водится, отец и мать скоро заметили, что юноша и девушка полюбили друг друга, и любовью совсем не братской. И вот, чтобы не держать солому рядом с огнем и оттянуть время, родители решили послать Нели, которому не было еще и восемнадцати, на серные копи. Там он должен был помогать Диме Кьяренце, а через два–три года, если все будет хорошо, они с Яной поженятся.
Мог ли дон Маттиа Скала предполагать, что Дима Кьяренца, которого он подобрал на улице, любил, как родного сына, и сделал своим компаньоном, тот самый Дима Кьяренца, которому он верил, словно самому себе, предаст его, как Иуда предал Христа?
Но так оно и вышло. Этот негодяй сговорился со старшим инженером, с десятниками, весовщиками, возчиками — и все они безнаказанно обсчитывали дона Маттиа на административных расходах, на добытой сере, даже на угле для машин, которые приводили в действие насосы, откачивавшие почвенные воды.
И вот однажды ночью серные копи затопило; рухнула наклонная галерея, стоившая дону Маттиа Скале более трехсот тысяч лир.
В эту страшную ночь Нели был внизу и вместе с другими отчаянно, хотя и безуспешно пытался предотвратить катастрофу. Предчувствуя ненависть, которую отец отныне будет питать к Кьяренце, а быть может, и к ни в чем не повинной Яне, его любимой Яне, и боясь, что его самого сочтут виновником беды (ведь он вовремя не обнаружил и не разоблачил предательства этого иуды, который вскоре должен был стать его шурином), Нели той же ночью скрылся бесследно и навсегда.
Несколько дней спустя умерла мать Нели, за которой любовно ухаживала Яна, и дон Маттиа Скала остался один, потеряв все свое состояние, жену и сына. С ним оставалась лишь Яна, которая, обезумев от горя и стыда, цеплялась за него и не желала никуда уходить; она грозила, что выбросится из окна, если дон Маттиа прогонит ее к брату.
Побежденный ее твердостью, поборов неприязнь, которую вызывало в нем теперь само присутствие этой девушки, дон Маттиа Скала согласился взять ее с собой в деревню. Так обосновался он с Яной, как бы дважды осиротевшей, на купленном им маленьком участке.
Понемногу он стал оправляться от горя и порой даже заговаривал с соседями, рассказывал им о себе и о Яне.
— Ах, так, значит, это не ваша дочь?
— Нет. Но для меня она все равно как родная.
Первое время дон Маттиа стыдился рассказывать о своем прошлом. О сыне он вообще ничего не говорил. Слишком уж болезненная это была рана! Да и что он мог рассказать, если сам ничего не знал! Этим делом давно уже занималась полиция, но пока так ничего и не выяснила.
Однако прошло несколько лет, Яне надоело бесцельно ждать жениха, и она захотела вернуться в город, к брату, который тем временем женился на богатой старухе, по слухам — ростовщице, и сам занялся, ростовщичеством. Теперь он сделался одним из первых богачей в округе.
Так Скала остался совсем один в своем Деревенском домишке. С тех пор прошло восемь лет, и он, по крайней мере внешне, вновь стал таким же жизнерадостным, как прежде, подружился со всеми окрестными землевладельцами, которые по вечерам частенько заходили к нему в гости.
Земля, казалось, хотела вознаградить его за все убытки, которые причинили ему серные копи.
Поистине было настоящей удачей то, что ему удалось купить эти несколько гектаров — ведь один из шести владельцев холма, богач Бутера, твердо решил стать со временем безраздельным хозяином всей земли. Бутера давал деньги в долг и постепенно расширил свои владения. Он уже оттягал почти половину участка у Нино Mo, a другому землевладельцу, Лабизо, он оставил клочок земли величиной не больше носового платка; за это Бутера, как бы авансом, ссудил Лабизо денег на приданое пяти дочерям. Бутера давно уже зарился и на землю Лопеса. Но Лопес, вынужденный после нескольких неурожайных годов уступить часть земли, предпочел продать ее, пусть даже за меньшую цену, приезжему дону Маттиа Скале, только бы досадить Бутере.
Стараясь не думать о своих несчастьях, дон Маттиа усердно взялся за дело и за несколько лет так преобразил свой маленький участок, что теперь друзья и сам Лопес с трудом могли его узнать и не переставали удивляться.
Лопес просто сгорал от зависти. Рыжеватый, неряшливо одетый, с веснушчатым лицом, он обычно надвигал шляпу на самый нос, точно не желал больше никого и ничего видеть; но из–под полей он украдкой бросал быстрые косые взгляды, что было крайне трудно предположить, глядя в его вечно сонные, водянисто–зеленоватые глаза.
Обойдя участок, друзья собирались на маленькой площадке. Дон Маттиа Скала приглашал их присесть на низкую каменную ограду перед домом, стоявшим на откосе. Позади, у края откоса, словно защищая дом, высились могучие черные тополя. Дон Маттиа никак не мог понять, зачем Лопес их посадил.
— На что они годны? Объясните мне. Плодов никаких, зря только место занимают.
— А вы срубите их и пустите на уголь, — бесстрастно отвечал Лопес.
Но Бутера советовал:
— Прежде чем рубить, подумайте — быть может, кто–нибудь их у вас купит.
— А кому они, спрашивается, нужны?
— Гм! Ну, например, тем, кто вырезает из дерева фигурки святых.
— А! Святых! Вот видите! Теперь мне понятно, почему эти святые не творят больше чудес, ведь их делают из таких деревьев, — заключил дон Маттиа.
Вечером на тополя слетались все окрестные воробьи; своим неумолчным, звонким чириканьем они мешали друзьям, которые, как всегда, беседовали о добыче серы и об убытках, связанных с этим делом.
Почти всегда разговор начинал Ночо Бутера, который был не только самым богатым хозяином на холме, но и первым толстяком во всей округе. По профессии он был адвокат, но за всю свою жизнь выступил в суде один–единственный раз, почти сразу же как получил диплом. В самый волнующий момент своей первой речи Бутера в растерянности запнулся; чуть не плача, словно ребенок, он воздел перед судьями и присяжными руки и, погрозив богине Правосудия, изображенной в профиль, с чашей весов в руках, в отчаянье простонал: «Что же это такое! Святый Боже!» Ведь с бедняги семь потов сошло, пока ему удалось выучить речь наизусть, и он был твердо уверен, что сможет произнести ее гладко, без запинки.
Время от времени кто–нибудь из друзей напоминал ему об этом знаменитом провале.
— Как же это вы, дон Но? Святый Боже!
Ночо Бутера теперь и сам снисходительно улыбался, неопределенно мычал: «Угу... угу!» — и своими пухлыми руками гладил черные бакенбарды на багровом лице, либо прилаживал на приплюснутом носу очки в золотой оправе. И впрямь он мог от души смеяться над той речью; ибо если адвоката из него не вышло, то как земледелец и хозяин Ночо Бутера не знал себе равных. Но ведь давно известно — человек никогда не бывает доволен, и Ночо Бутера, казалось, искренне радовался, лишь когда узнавал, что другие, подобно ему, позорно провалились, не справившись с каким–нибудь делом. К Скале он приходил только затем, чтобы сообщить о предстоящем или произошедшем разорении, объяснить причины и доказать, что уж с ним бы этого никак не могло случиться.
Тино Лабизо, худой и длинный, вытаскивал из кармана брюк большущий носовой платок в красную и черную клетку и громко, словно в трубу, дудел, сморкался, затем аккуратно складывал платок, несколько раз проводил им под носом и снова засовывал в карман; наконец, как человек осмотрительный, никогда не позволяющий себе поспешных суждений, изрекал:
— Возможно.
— Возможно? Эх ты! — взрывался Нино Mo, который терпеть не мог вечного флегматичного выражения на лице Лабизо.
Лопес, пробуждаясь от мрачной тоски, сонным голосом советовал из–под надвинутой на нос шляпы:
— Пусть скажет дон Маттиа, он в этом деле больше вас понимает.
Но дон Маттиа, прежде чем начать обстоятельный разговор, неизменно спускался в погреб, чтобы поднести друзьям по доброму стаканчику вина.
— Отведайте–ка, друзья, этой отравы, этого уксуса!
И, отведав вместе со всеми, он садился, поджимал ноги и спрашивал:
— О чем разговор–то?
— О том, — обычно выпаливал Нино Mo, — что все они до одного настоящие скоты.
— Кто?
— Да эти, сукины дети! Шахтеры. Роют, роют, а цена на серу все падает, падает и падает! И даже не понимают, что губят себя и нас; ведь все деньги исчезают в этой яме, в этой ненасытной пасти дьявола, пожирающей нас живьем!
— А что вы предлагаете, простите? — снова спрашивал Скала.
— Ограничить, — невозмутимо отвечал Ночо Бутера. — Ограничить добычу серы. По–моему, это единственный выход.
— Святая мадонна, какой же вы глупец! — тотчас же восклицал дон Маттиа Скала, вскочив на ноги, чтобы удобнее было жестикулировать. — Уж простите меня, дон Ночо, но вы сущий глупец, и сейчас я это докажу! Скажите, пожалуйста, сколько копей из многих тысяч разрабатывают сами владельцы? Не больше двухсот. Все остальные сдаются в аренду. Правильно я говорю, Тино?
— Возможно, — серьезно, с достоинством откликался Тино Лабизо.
А Нино Mo восклицал:
— Возможно? Эх ты!
Дон Маттиа движением руки приказывал ему замолчать.
— А теперь, милый мой дон Ночо, скажите, на какой срок жадные и пузатые, вроде вас, владельцы копей сдают их в аренду?
— Лет на десять? — предполагал Бутера, улыбаясь с видом снисходительного превосходства.
— На двенадцать, — милостиво соглашался Скала, — иногда даже на двадцать. Ну а что можно сделать за такой короткий срок? Какую выгоду можно извлечь? Каким бы вы ни были ловким и удачливым, за двадцать лет вы не оправдаете даже расходы по эксплуатации самих копей. Я это к тому, что если сам владелец копей и может снизить добычу серы, когда спрос на нее падает, то арендующий их на такой короткий срок никак этого не может. Ведь тогда он первый и пострадает, а выгадает только его преемник. Вот арендатор и старается изо всех сил добыть как можно больше серы, понимаете? Ведь у него почти не бывает свободных денег, и он вынужден снижать цены на серу, продавать ее по любой цене, лишь бы не останавливалась работа, иначе, как вы знаете, владелец расторгнет арендный договор. А в результате, как говорит Нино Mo, цены падают, словно это не сера, а простой булыжник. Кстати, вы вот, дон Ночо, учились? Да и ты тоже, Тино Лабизо? Так вот, можете вы оба сказать, что это за штука сера и для чего она нужна?
При этом ехидном вопросе Лопес поворачивался и оглядывал всех широко раскрытыми глазами, Нино Mo лез дрожащими руками в карман, словно хотел немедля отыскать там ответ, а Тино Лабизо, как человек осторожный, снова вытаскивал носовой платок, чтобы выиграть время и заодно высморкаться.
— Вот так штука! — в замешательстве восклицал Ночо Бутера. — Сера нужна... нужна... для опыления виноградников, нужна...
— И... и еще для... для серных спичек, кажется, — добавлял Тино Лабизо, с превеликой аккуратностью складывая свой носовой платок.
— Кажется... кажется! — передразнивал их дон Маттиа Скала. — Почему только кажется? Так оно и есть! Лишь для этих двух целей она и годится. Спросите кого угодно, и никто вам не скажет, для чего еще нужна сера. А мы–то трудимся до кровавых мозолей, чтобы добыть ее, потом везем эту серу к морю, где множество английских, американских, немецких, французских и даже греческих кораблей уже ждут, чтобы набить ею свое ненасытное чрево; гудок — и до свидания. Что они там с ней будут делать? Никто этого не знает, да и не пытается узнать! А пока что наше богатство — ведь сера могла бы стать нашим богатством — вывозят из развороченных недр, а мы, полумертвые от усталости, как слепые, как глупцы, остаемся с пустыми карманами. Только и прибыли, что гибнущие от дыма поля.
После столь живого и убедительного описания слепоты, с какой промышленники и торговцы используют дарованное им природой сокровище, вокруг которого кипело столько страстей и шла такая непримиримая и жестокая борьба низменных интересов, четверо друзей погружались в молчание, чувствуя себя обреченными на вечную нищету.
Скала первый нарушил это молчание. Он начинал подробно перечислять другие тяжкие обязательства, которые вынуждены брать на себя несчастные арендаторы. Дон Маттиа досконально знал все эти обязательства по собственному горькому опыту. Так вот, не говоря уж о том, что срок аренды слишком мал, арендатор обязан еще выплачивать владельцу натурой так называемый «эстальо» — заранее установленное количество серы. При этом владельца нимало не интересует, богатые здесь залежи серы или скудные, много ли тут пустой породы или мало, сухо ли в копях или их заливают почвенные воды, высокие ли цены на серу или низкие — словом, ему безразлично, прибыльна добыча или нет. А кроме «эстальо» существуют всевозможные правительственные налоги, да еще приходится строить не только наклонные входные галереи, вентиляционный ствол и колодцы для откачки и отвода воды, но и печи, дороги, дома, словом, все, что необходимо для разработки серы. По истечении же срока аренды все эти сооружения безвозмездно переходят к владельцу земли, который вдобавок требует, чтобы все сдавалось в полной исправности, словно строительство велось на его кровные деньги. Мало того! В самих серных копях арендатор не волен производить работы по собственному усмотрению, даже тип креплений в штреках (арочные, продольные, поперечные) устанавливается по прихоти владельца, а не в соответствии с характером почвы.
Надо быть сумасшедшим или вконец отчаявшимся человеком, не так ли, чтобы принять подобные условия и позволить наступить себе на горло. Ну а кто такие по большей части арендаторы серных копей? Бедняки без гроша в кармане, вынужденные идти в кабалу к торговцам серой, чтобы как–то выкрутиться и соблюсти арендный договор.
Но есть ли у арендаторов другой выход? И разве могут они платить больше этим несчастным, которые трудятся под землей, постоянно подвергаясь смертельной опасности? Словом, грызня, ненависть, голод и нищета никого не минуют — ни арендаторов, ни шахтеров, ни тех бедняг, которые таскают вверх и вниз по галереям и лестницам непосильный груз.
Когда Скала умолк и соседи встали, чтобы разойтись по своим немудреным жилищам, высоко в небе уже светила луна, и, озаренная ею, долина после рассказа о страданиях и нищете выглядела особенно печальной, мрачной и опустошенной; да и сама луна, казалось, не взошла только что, а висит на небе Бог весть с каких далеких, незапамятных времен.
И друзья, возвращаясь домой, думали о том, что под этой залитой печальным светом долиной несчастные труженики все глубже и глубже вгрызаются в землю, и нет им никакого дела, ночь сейчас или день, ведь там у них, заживо погребенных, царит вечная ночь.
III
Беседуя со Скалой, все думали, что он уже позабыл о прошлых невзгодах и ни о чем больше не беспокоится, кроме своего клочка земли, с которым вот уже в течение многих лет не расстается ни на один день.
Если заходил разговор о его пропавшем, затерявшемся невесть где сыне, дон Маттиа, кипя негодованием, ругал этого неблагодарного бессердечного мальчишку.
— Если он жив, — заключал дон Маттиа, — его счастье, а для меня он умер, я и думать о нем не хочу.
Так он говорил, но на самом деле в окрестности не было ни одного крестьянина, собиравшегося в Америку, которому дон Маттиа перед отъездом не всучил бы под большим секретом письма к неблагодарному сыну.
— Это так, на всякий случай! Может, ты случайно встретишь его или что–нибудь о нем услышишь.
Многие из этих писем, мятые, неразборчивые и пожелтевшие от времени, ему привозили назад эмигранты, возвращавшиеся через четыре–пять лет на родину. Никто не видел Нели, никто не слышал о нем ни в Аргентине, ни в Бразилии, ни в Соединенных Штатах. Скала только пожимал плечами:
— Какое мне до этого дело? Давай сюда письмо. Я даже позабыл про него.
Дон Маттиа не хотел выказывать перед чужими боль своего сердца и признаваться, хоть втайне и продолжал тешить себя мыслью, что его сын нашел пристанище в каком–нибудь глухом уголке Америки; а вдруг, в один прекрасный день узнав, что отец приспособился к новому положению, купил себе кусок земли и мирно живет в своем крестьянском домике, мальчик вернется.
Конечно, участок у него небольшой, но уже несколько лет, втайне от Бутеры, дон Маттиа вынашивал мечту расширить его, прикупив землю одного своего соседа, с которым он уже сговорился о цене. Чем он только не жертвовал, какие только лишения не претерпевал, чтобы скопить необходимые средства! Да, землицы у него маловато, но с некоторых пор, выходя на балкон, он всякий раз устремлял взгляд на изгородь, отделявшую его участок от соседского, и мысленно представлял себе, что вся эта земля уже принадлежит ему. Он собирал нужную сумму и ждал только, когда сосед подпишет договор и съедет с участка.
Дон Маттиа сгорал от нетерпения, но, на беду, ему пришлось вести дело с каким–то блаженным!
Вообще–то дон Филиппино Ло Чичеро был человеком спокойным, вежливым, уступчивым, но, без сомнения, немного поврежденным в рассудке. Жил он одиноко в своем деревенском домике с подаренной ему обезьянкой и с утра до вечера читал латинские книжонки.
Обезьянку звали Тита, была она старенькая и вдобавок больная туберкулезом. Дон Филиппино ухаживал за ней, как за ребенком, покорно сносил все ее капризы и по целым дням беседовал с ней, уверенный, что Тита его понимает. А когда больная, всегда печальная обезьянка устраивалась на своем любимом месте — балдахине над кроватью, дон Филиппино садился в кресло и принимался читать какой–нибудь отрывок из «Георгин» или «Буколик».
Время от времени дон Филиппино останавливался и самым курьезным образом выражал свое восхищение; прочитав какую–нибудь фразу или выражение, а иногда одно только слово, тонкий смысл которого он отлично чувствовал или просто наслаждался его сладостным звучанием, он клал книгу на колени, зажмуривал глаза и необыкновенно быстро повторял: «Великолепно! великолепно! великолепно! великолепно!» — постепенно откидываясь на спинку кресла, словно изнемогал от наслаждения. Тогда Тита слезала с балдахина, взбиралась к нему на грудь, печальная и сердитая; дон Филиппино обнимал ее и вне себя от восторга восклицал:
— Послушай, Тита, послушай... Великолепно! великолепно! великолепно! великолепно! великолепно!..
Дон Маттиа Скала страстно желал получить соседскую землю; ему надоело ждать, он торопился и был прав: нужную сумму он уже собрал, да и соседу эти деньги будут очень кстати. Но Боже Правый! Разве дон Филиппино сможет наслаждаться в городе пасторальной поэзией божественного Вергилия?
— Потерпите немного, дорогой Маттиа!
В первый раз, услышав подобный ответ, дон Маттиа Скала даже растерялся от удивления:
— Вы что, смеетесь надо мной или всерьез говорите? Смеяться? Такого у дона Филиппино и в мыслях не было! Он говорил вполне серьезно.
Просто Скала не мог понять некоторых вещей. И потом Тита. Она, бедняжка, привыкла к деревне и, наверно, в другом месте жить не сможет.
В погожие дни дон Филиппино брал ее на прогулку; временами Тита, едва ковыляя, шла сама, временами дон Филиппино нес ее на руках, словно ребенка. Потом он усаживался на каком–нибудь камне под деревом; тогда Тита взбиралась на нижнюю ветку и, зацепившись хвостом, пыталась ухватиться за кисточку его берета, сорвать парик или вырвать из рук томик Вергилия.
— Будь умницей, Тита, будь умницей! Доставь мне такое удовольствие, бедная моя Тита!
Да, да, бедная, потому что этот милый зверек обречен на смерть, так что пусть Маттиа Скала потерпит еще немного.
— Подожди хоть, — говорил ему дон Филиппино, — пока бедный зверек умрет. Потом земля будет твоей. Хорошо?
Но прошел год, а проклятая зверюшка и не думала подыхать.
— А может, попробуем вылечить ее? — предложил ему однажды Скала. — У меня есть превосходный рецепт!
Дон Филиппино взглянул на него с улыбкой, а затем с некоторой тревогой спросил:
— Вы это серьезно?
— Вполне серьезно. Этот рецепт мне дал один ветеринар, который учился в Неаполе, отличный ветеринар!
— Ну что ж! Попробуем, дорогой Маттиа!
— Итак, сделайте вот что. Возьмите ровно литр чистого оливкового масла. Есть у вас чистое оливковое масло? Но только чистое, совсем чистое?
— Я его достану, даже если мне придется убить для этого самого римского папу.
— Отлично. Поставьте масло на огонь и опустите в него три головки чеснока...
— Чеснока?
— Три головки. Слушайте дальше. Когда масло начнет бурлить, но прежде, чем оно совсем закипит, снимите его с огня. Возьмите горсть кукурузной муки и всыпьте ее в масло.
— Кукурузную муку?
— Да, синьор, кукурузную. Перемешайте все как следует; потом, когда у вас получится мягкое, маслянистое тесто, положите его, пока оно горячее, этой гнусной твари на грудь и на плечи и укутайте ее сверху ватой, только хорошенько укутайте, понимаете?
— Отлично, укутать ватой; а дальше?
— Дальше откройте окно и выбросьте ее.
— О–о–о–о! — застонал дон Филиппино. — Бедная Тита!
— Не мартышку нужно жалеть, а землю, скажу я вам! Вы о земле не заботитесь, я все это вижу и ничего не могу поделать, а пока что виноградник пропадает; деревья вот уже лет десять ждут, когда их подрежут; дички не привиты, побеги их переплелись и забивают друг друга, так и кажется, что они молят о помощи; большинство оливковых деревьев теперь годится только на дрова. Что же я покупать–то буду, в конце концов? Разве это дело?
Лицо дона Филиппино становилось от этих упреков таким печальным, что у дона Маттиа слова застревали в горле.
Впрочем, с кем он говорит? Ведь бедняга не от мира сего! Солнце, живое полуденное солнце, наверно, никогда не светило ему; он все еще пребывал в сиянии далеких дней «Буколик» и «Георгию».
Дон Филиппино жил на этом клочке земли с детства, сначала с дядей–священником, который, умирая, оставил ему в наследство и эту землю, и дом, а потом совсем один. Оставшись в три года круглым сиротой, он был взят на воспитание этим дядей, страстным латинистом и охотником. Однако охотой дон Филиппино никогда не увлекался, быть может, памятуя о печальном опыте своего дяди, которому сан священника не мешал быть человеком необыкновенно горячим; однажды, когда он заряжал ружье, ему оторвало на левой руке два пальца. Дон Филиппино предпочел все свое время посвятить латыни, казалось, он был вполне доволен, наслаждаясь Вергилием и впадая порой в легкое, приятное оцепенение. Но и в этом он отнюдь не походил на своего дядю–священника, который в минуты восторга вскакивал с пылающим лицом — вены на лбу у него так набухали, что, казалось, вот–вот лопнут — и громовым голосом читал латинские стихи; наконец, взорвавшись, он швырял книгу на пол или в лицо ошеломленного дона Филиппино.
— Великолепно, черт побери!
Когда дядя внезапно умер, дон Филиппино стал владельцем этого клочка земли, но владельцем только формальным.
В соседнем городке у дяди–священника был еще дом, который он завещал сыну другой своей сестры по имени Саро Тригона. Тригона, должно быть, ожидал, что, поскольку он всего–навсего бедный агент по продаже серы и несчастный отец целой оравы ребятишек, дядя оставит ему все: и городской дом, и землю, понятно, с условием, что он будет содержать своего двоюродного брата Ло Чичеро (пока жив, разумеется), который хотя и был дяде вместо сына, но справиться с хозяйством не мог. И хотя дядя не посчитался с его положением, Саро Тригона, не имея никаких юридических прав, старался любым способом заполучить что–нибудь из наследства, оставленного двоюродному брату, и безжалостно обирал бедного дона Филиппино. Почти все — пшеница, бобы, фрукты, вино, овощи — попадало в руки Саро Тригоны; а если дон Филиппино умудрялся продать что–нибудь тайком, словно чужое добро, двоюродный братец немедля прибегал к нему разгневанный, точно обнаружил обман. И напрасно дон Филиппино робко объяснял брату, что эти деньги нужны ему для обработки участка. Саро Тригона требовал денег.
— А то застрелюсь! — кричал он, делая вид, что вытаскивает из кармана пиджака револьвер. — Застрелюсь на твоих глазах, Филиппино, сейчас, немедленно! Ибо, верь мне, я больше не могу терпеть! Девять, Господи прости, девять детей, которые плачут от голода!
И хорошо еще, если Саро Тригона устраивал подобные сцены один. Иногда же он приводил с собой жену и всю ораву ребятишек. У дона Филиппино, который привык жить в полном одиночестве, голова шла кругом. Эти девять племянников, старшему из которых не было и четырнадцати лет, хоть и «плакали от голода», но, словно девять вырвавшихся на волю чертенят, брали штурмом тихий деревенский домик дяди: они все переворачивали вверх дном; стены дрожали, буквально дрожали от криков, смеха, рева, неистовой беготни; потом неизбежно слышался грохот падающих вещей, в лучшем случае — звон разлетевшегося на куски зеркала; тогда Саро Тригона вскакивал с громким криком:
— Орган сделаю! Сделаю орган!
Он догонял и хватал за волосы этих бездельников; раздавал им пинки, шлепки, пощечины, затрещины; потом, когда они начинали завывать на разные голоса, ставил их по росту, и все девять изображали орган.
— Не шевелиться! Красавчики... Посмотри, Филиппино, настоящие красавчики! Хоть картину с них пиши, правда? Что за симфония!
Дон Филиппино затыкал уши, закрывал глаза и в отчаянье топал ногами:
— Прогони их! Они все поломают, забирайте дом, сад, все возьмите; только, ради Бога, оставьте меня в покое!
А ведь дон Филиппино был несправедлив. Жена Тригоны, например, ни разу не приходила к нему в гости с пустыми руками: ведь вышитый берет с красивой шелковой кисточкой, тот, что у него на голове, она принесла, кто же еще? Или вот домашние туфли, тоже вышитые, те, что у него на ногах. А парик? Это двоюродный брат подарил, чтобы его рано облысевшую голову не продувало так часто. Настоящий французский парик! Саро Тригона заплатил за него Бог знает сколько денег. А обезьянка Тита? Ее ведь тоже подарила жена брата; это был сюрприз, чтобы добрый дон Филиппино не скучал один в своем деревенском домике. Так ведь?
— Осел вы, извините меня, самый настоящий осел! — кричал ему дон Маттиа Скала. — Почему иначе вы до сих пор заставляете меня ждать и никак не можете расстаться с землей? Подпишите договор, освободитесь от этой кабалы! С деньгами, что я вам даю, вы могли бы спокойно прожить в городе остаток жизни; потребности у вас скромные, пороков никаких. Безумец вы, что ли? Если вы и дальше будете тянуть время из–за своей Титы и Вергилия, станете нищим, да, да, нищим!
И так как дону Маттиа Скале не хотелось, чтобы участок, который он уже считал своим, пришел в запустение, он начал понемногу выдавать дону Филиппино деньги, отложенные на покупку земли:
— Столько–то на подрезку деревьев, столько–то на привой, столько–то на удобрение... Это в счет тех денег, дон Филиппино!..
— Хорошо, пусть будет так! — вздыхал дон Филиппино. — Только дай мне пожить здесь немного. В городе, с этими чертенятами, я и двух дней не протяну. Ведь я тебе не мешаю. Разве ты не хозяин здесь, дорогой Маттиа? Ты можешь делать все, что захочешь. Я ни в чем тебе не перечу. Лишь бы ты оставил меня в покое.
— Да. Но пока что ваш двоюродный братец не зевает, — отвечал ему Скала.
— А тебе–то что за горе! — возражал Ло Чичеро. — Ведь деньги ты должен был выплатить мне все сразу, верно? Ты же даешь их по частям, и, по сути дела, только я один и теряю на этом; сегодня немножко денег вперед, завтра немножко, так в один прекрасный день мне и получать будет нечего; ты же вкладываешь свои деньги в землю, которая со временем станет твоей.
IV
Доводы дона Филиппино были, без сомнения, убедительными; но какая у Скалы гарантия, что деньги, потраченные на чужую землю, не пропадут? А вдруг дон Филиппино, упаси Боже, умрет, не успев подписать купчую, признает ли тогда Саро Тригона, единственный законный наследник, произведенные затраты и его устный договор с Ло Чичеро?
Такие сомнения время от времени закрадывались в душу дона Маттиа; но потом он счел за благо не досаждать дону Филиппино и не попрекать его деньгами, которые тот получил вперед, иначе он рисковал услышать в ответ: «А кто тебе велел давать их вперед? По мне, участок каким был, таким мог и оставаться, хоть и заброшенным, меня ведь это никогда не интересовало. Не можешь же ты выгнать меня из моего дома, если я сам не захочу уйти». Кроме того, Скала рассудил, что он имеет дело с вполне порядочным человеком, неспособным обидеть даже муху. Да и нечего опасаться, что дон Филиппино внезапно умрет: живет он спокойно, пороков не имеет, человек он здоровый и бодрый, лет, пожалуй, до ста протянет. И потом о сроке передачи земли они уже договорились: как только подохнет обезьяна, а ждать, наверно, придется недолго.
Наконец счастье еще, что он смог купить эту землю за такую умеренную цену — лучше уж помалкивать и ждать; ему даже выгодно держать дона Филиппино в руках и тратить деньги не спеша, спокойно, осмотрительно. Ведь подлинным хозяином земли был он, а не дон Филиппино; на его земле Скала проводил больше времени, чем на своей собственной.
— Сделайте то, сделайте это.
Он распоряжался, приводил в порядок участок и не платил налогов. Казалось, чего еще можно желать?
Бедняга дон Маттиа мог всего ожидать, но только не того, что эта проклятая обезьяна, столько раз выводившая его из себя, сыграет с ним напоследок злую шутку.
Обычно Скала вставал до рассвета; еще с вечера он объяснял батраку, что надо сделать на следующий день, и утром всегда следил, как тот собирается на работу. Он не хотел, чтобы батрак, отправившись, к примеру, подрезать деревья, два–три раза за день возвращался то за лестницей, то за точильным камнем, то за водой к завтраку. Чтобы не терять времени даром, он должен был захватить с собой все необходимое.
— Кувшин с водой взял? А чем закусить, есть у тебя? Держи, вот тебе пучок лука. И поживей, слышишь!
И еще до восхода солнца Скала приходил на участок дона Филиппино.
В тот день дон Маттиа замешкался, обжигая дрова на уголь. Было уже десять утра, а между тем дверь в доме дона Филиппино оставалась закрытой. Странно! Дон Маттиа постучал, никто не ответил, постучал снова — ни звука; он посмотрел на балкон и на окна: как были закрыты на ночь, так и остались.
«Что за новости?» — думал он, направляясь к соседнему домику в надежде что–нибудь узнать у жены своего батрака.
Однако и здесь он натолкнулся на запертую дверь. Участок, казалось, вымер.
Скала, сложив ладони рупором, повернулся лицом к полю и громко позвал батрака. Когда наконец тот откликнулся, дон Маттиа спросил, нет ли с ним дона Филиппино. Батрак ответил, что даже не видел его. Тогда Скала, немного встревоженный, снова постучал в дверь и несколько раз позвал: «Дон Филиппино, дон Филиппино!» Не получив ответа и не зная, что думать, он принялся старательно тереть свой большой, дергающийся нос.
Вчера вечером он оставил друга вполне здоровым. Значит, заболеть тот не мог, по крайней мере настолько серьезно, чтобы не найти в себе сил хоть на минуту подняться с постели. Но, быть может, он забыл открыть окна, а сам ушел в поле со своей обезьянкой. Дверь же он, наверно, запер, когда увидел, что в доме батрака никого нет.
Успокоенный этими размышлениями, дон Маттиа отправился на поиски друга. Время от времени он останавливался и зорким привычным взглядом хозяина на лету примечал: «Здесь надо кое–что поправить», а потом снова начинал кричать:
— Дон Филиппино, эге–е, дон Филиппи–и–и–ино!..
Так он дошел до склона холма, где батрак и трое поденщиков окапывали виноградник.
— А дон Филиппино где? Что с ним такое? Я нигде не могу найти его!
Растерянность работников, которым показалось странным, что дверь дома как была запертой, когда они уходили, так и осталась, снова встревожила дона Маттиа, и он предложил немедленно возвратиться и вместе посмотреть, что произошло.
— Одно–то я хорошо понимаю! Скверно началось это утро!
— Странное дело, обычно он встает очень рано... — заметил батрак.
— Вот увидите, у него заболела обезьяна! — сказал один из работников. — Он держит ее на руках и, верно, боится шевельнуться, чтобы не потревожить ее.
— Хоть и слышит, что я зову его уже Бог знает сколько времени? — заметил дон Маттиа. — Ну, нет! Что–то с ним случилось!
Подойдя к дому, все пятеро по очереди пытались дозваться дона Филиппино, но безрезультатно. Тогда они решили обойти вокруг дома. Ставни одного из окон на северной стороне были приоткрыты; все сразу приободрились.
— А! — воскликнул батрак. — Наконец–то он открыл! Это окно кухни.
— Дон Филиппино! — закричал Скала. — Что за черт! Довольно нас пугать!
Задрав головы, они подождали немного, потом снова принялись звать его на все лады; наконец дон Маттиа вне себя от ярости и беспокойства принял решение.
— Лестницу сюда!
Работник сбегал домой и вскоре вернулся с лестницей.
— Я сам полезу! — оттолкнув всех, сказал дол Маттиа, бледный и, как всегда, нетерпеливый.
Добравшись до окна, он снял свою белую панаму, обмотал ею руку, выбил стекло и прыгнул в кухню.
Кухонная печь была погашена. В доме царила мертвая тишина. Всюду было темно, как ночью, лишь сквозь ставни едва пробивался дневной свет.
— Дон Филиппино! — еще раз позвал Скала. В этой непонятной тишине звук собственного голоса заставил его вздрогнуть, по коже забегали мурашки.
Ощупью он миновал несколько комнат, добрался до спальни, тоже погруженной в темноту. При бледном свете, проникавшем сквозь ставни, он с трудом различил на кровати темное пятно, которое двигалось, уползая прочь. Волосы встали у него дыбом, он даже кричать не мог. Одним прыжком он очутился на балконе, распахнул дверь, обернулся и в ужасе воздел к небу руки, широко раскрыв глаза и разинув рот. Дрожащий, онемевший, съежившись и не дыша от страха, бросился он назад к кухонному окну.
— Сюда, сюда! Убили! Зарезали!
— Убили? Как?! Не может быть! — воскликнули батраки, в тревоге ожидавшие внизу, и все четверо разом бросились к лестнице; работник дона Маттиа опередил остальных, крича:
— Осторожнее! Лезьте по одному!
Ошеломленный, бледный, с широко раскрытым ртом, дон Маттиа обеими руками схватился за голову: перед глазами у него все еще стояло ужасное зрелище.
Дон Филиппино лежал на кровати, запрокинув голову на подушку и скрючившись, словно в судорогах; руки его, эти крохотные посиневшие ручки, на которые нельзя было теперь смотреть без ужаса, были как–то неестественно отброшены назад; на горле зияла кровавая рана.
Дон Маттиа и четверо крестьян смотрели на него в ужасе. Внезапно какой–то шум под кроватью заставил всех пятерых подскочить; они взглянули друг на друга; потом один из них нагнулся посмотреть, что там такое.
— Обезьяна, — со вздохом облегчения сказал он и даже чуть не рассмеялся.
Остальные четверо тоже нагнулись.
Когда Тита, сидевшая под кроватью на корточках, опустив голову и скрестив лапки на груди, увидела этих людей, которые, наклонившись, внимательно разглядывали ее, она ухватилась за ножки кровати, несколько раз подпрыгнула на задних лапах, потом вытянула губы и угрожающе заверещала: ш–ш–ш–ш...
— Глядите! — закричал Скала. — Кровь... У нее лапы... грудь в крови... это она его убила!
Он вспомнил темное пятно, которое с трудом различил, когда вошел в спальню, и уверенно повторил:
— Конечно, она! Я сам это видел, своими глазами! Он лежал на кровати... — И Скала показал четырем крестьянам пятна запекшейся крови на щеках и на лбу покойника.
— Смотрите!
— Но как же так? Обезьяна? Неужели она? Та самая обезьяна, с которой дон Филиппино столько лет не расставался ни днем ни ночью?
— Может, она взбесилась? — испуганно предположил один из поденщиков.
Все пятеро разом отпрянули от кровати.
— Подождите! Палку. — Он пошарил глазами по комнате, отыскивая палку или что–нибудь в этом роде.
Батрак, вооружившись стулом, заглянул под кровать, но остальные испуганно закричали:
— Подожди! Подожди!
И тоже схватились за стулья. Тогда батрак несколько раз пошарил стулом под кроватью. Выскочив с противоположной стороны, Тита с поразительной ловкостью залезла на балдахин, добралась до самого верха и там спокойно, словно ничего не случилось, принялась чесать живот, потом играть концами платка, который бедный дон Филиппино повязал ей вокруг шеи.
Пятеро мужчин ошеломленно смотрели на глупое животное.
— Что же теперь делать? — спросил Скала, взглянув на покойника, но при виде окровавленного горла сразу же отвернулся. — Накроем его простыней?
— Нет, нет, синьор! — немедля откликнулся батрак. — Уж лучше послушайте меня, ваша милость. Не надо ничего трогать. Я живу тут, по соседству, и вовсе не хочу связываться с правосудием. Беру всех в свидетели.
— Какие там свидетели! — пожав плечами, воскликнул дон Маттиа.
Но батрак протестующе замахал руками:
— От правосудия, хозяин, всего можно ждать! Люди мы бедные, и с нами... в общем, я знаю, что говорю...
— А я так думаю, — в отчаянье простонал дон Маттиа, — что он, бедняга, не в своем уме был и умер как дурак из–за своего же безрассудства. А я оказался еще глупее и безрассуднее и вот теперь вконец разорен! Да, но вы и впрямь должны подтвердить все четверо, что в эту землю я всадил мои кровные денежки, так и скажете... Теперь ступайте и предупредите этого прощелыгу — его братца, мирового судью и доктора! Пусть придут полюбоваться подвигами этой... Проклятая! — завопил он с неожиданной яростью и, сорвав с головы белую панаму, запустил ею в обезьяну.
Тита поймала панаму на лету, внимательно ее осмотрела, уткнулась в нее носом, словно желая высморкаться, потом подложила под себя и уселась. Крестьяне невольно расхохотались.
V
Ничего не нашли: ни завещания, ни расходной книги, ни даже случайной записи на каком–нибудь клочке бумаги.
И словно одной этой беды было мало — дону Маттиа приходилось терпеть еще и насмешки друзей. Ну да, Ночо Бутера, например, он–то уж непременно бы догадался, что дон Филиппино Ло Чичеро умрет именно такой смертью от руки своей любимой обезьяны.
— А ты, Тино Лабизо, что скажешь? Ведь так, не правда ли? Ну и зверь! Ну и зверь! Ну и зверь!
Тут дон Маттиа, вцепившись пальцами в поля своей панамы, надвигал ее на самые брови и яростно топал ногами.
Саро Тригона до тех пор, пока врач и судья не выполнили все формальности и его двоюродного брата не похоронили, и слушать не хотел дона Маттиа под предлогом, что несчастье не позволяет ему говорить о делах.
— Ну, еще бы! Точно это не он нарочно подарил дону Филиппино обезьянку, — потихоньку злословил Скала.
Этот паршивец Саро Тригона должен бы отчеканить в ее честь золотую медаль, а он, неблагодарный, на следующий же день велел ее пристрелить, да, да, при–стре–лить, хотя молодой врач, прибывший в селение вместе с судьей, весьма изящно объяснил бессознательный характер преступления обезьяны. Ведь Тита болела туберкулезом, возможно, она начала задыхаться оттого, что бедный дон Филиппино слишком туго повязал ей платок на шею, а может быть, обезьяна, пытаясь распутать узел, сильно затянула его сама. Так или иначе, но можно допустить, что Тита прыгнула на кровать, желая показать хозяину, что ей больно, а тот взял ее на руки и прижал к себе. Тита начала задыхаться и в ожесточении стала царапать когтями горло своего хозяина. И скоро все было кончено. Ведь это всего лишь глупое животное! Что она понимает?
Судья, красный, потный, нахмуренный, одобрительно кивал своей лысой головой, восхищенный проницательностью молодого и симпатичного врача.
Однако всему бывает конец. Похоронив двоюродного брата и пристрелив обезьяну, Саро Тригона предоставил себя в полное распоряжение дона Маттиа Скалы.
— Ну–с, побеседуем, любезный дон Маттиа.
Но говорить–то было почти не о чем. Скала по своей привычке отрывисто и коротко рассказал о договоренности с Ло Чичеро и о том, как, ожидая со дня на день, что эта проклятая обезьяна подохнет и земля перейдет к нему, он, разумеется с согласия дона Филиппино, за последние годы вложил в этот участок несколько тысяч лир. Само собой, это деньги надо отнести в счет суммы, назначенной покойным доном Филиппино. Ясно, да?
— Яснее ясного! — ответил Тригона, который внимательно слушал рассказ дона Маттиа и так же, как судья, серьезно кивал головой в знак согласия. — Куда яснее! И я со своей стороны, дорогой дон Маттиа, готов соблюсти условия вашего договора. Я работаю маклером, а времена теперь скверные, сами знаете! Без божьей помощи и одной партии серы не продашь, а всю выручку съедают почтовые расходы. Это я к тому, чтоб вы знали, что моя профессия не позволяет мне возиться с землей. Не знаю даже, что с ней делать; Кроме того, как вам известно, у меня девять детей, все мальчики, которым нужно ходить в школу: конечно, они свиньи, один другого хуже, но в школу–то ведь ходить надо. Так что волей–неволей, а я должен жить в городе. Теперь о наших делах. Есть тут, правда, одна неприятность. Э, дорогой дон Маттиа, к несчастью! Большая неприятность. Девять детей, я вам уже говорил, и вы даже не знаете, не можете себе представить, сколько на них нужно денег, одни ботинки... впрочем, незачем и считать, не то можно с ума сойти. Сказать вам, дорогой дон Маттиа...
— Ради Бога, не называйте меня больше «дорогой дон Маттиа», — взорвался Скала, взбешенный этим долгим и бесплодным разговором. — «Дорогой дон Маттиа»... «Дорогой дон Маттиа»... довольно! Нельзя ли покороче! Я и так слишком много времени потерял с этой обезьяной и доном Филиппино.
— Так, — нимало не смущаясь, продолжал Саро Тригона. — Я хотел только сказать вам, что мне все время приходилось прибегать к помощи некоторых людей, избави от них Господь, чтобы... вы понимаете? И, ясное дело, они опутали меня по рукам и ногам. Вы ведь знаете, кто у нас в городе первый мастак по таким делам.
— Дима Кьяренца? — побледнев, сразу же воскликнул Скала и вскочил на ноги. Он швырнул панаму об пол, в ярости запустил руку в свою шевелюру, потом, широко раскрыв глаза и держа одну руку на затылке, а указательным пальцем другой тыча в Тригону, словно хотел пронзить его насквозь, добавил: — Вы? Вы ходили к этому палачу? К этому убийце, который съел меня живьем? Сколько вы у него взяли?
— Подождите, сейчас скажу, — с вымученным спокойствием ответил Тригона, протягивая вперед руку. — Брал не я, потому что этот, как вы отлично выразились, палач моей подписи и видеть не желал...
— Значит... дон Филиппино? — спросил Скала, закрыв лицо руками, точно слова вдруг стали зримыми и он не хотел их видеть.
— Поручительство, — вздохнул Тригона, печально кивая головой.
Дон Маттиа бегал по комнате и, размахивая руками, восклицал:
— Разорен! Разорен! Разорен!
— Подождите, — повторил Тригона. — Не отчаивайтесь. Попробуем как–нибудь помочь делу. Сколько вы собирались уплатить Филиппино за землю?
— Я? — крикнул Скала, внезапно останавливаясь и прижимая руки к сердцу. — Восемнадцать тысяч лир наличными! Там около шести гектаров, по–нашему, ровно три сальми[2]. Шесть тысяч лир наличными за каждую сальму. Один Бог знает, сколько я мучился, пока скопил эти деньги, а теперь... теперь рушится все дело и земля, которую я считал своей, уплывает у меня из рук!
Пока дон Маттиа изливал душу, Саро Тригона, нахмурившись, старательно подсчитывал на пальцах:
— Восемнадцать тысяч... значит, выходит...
— Подождите–ка, — прервал его Скала. — Восемнадцать тысяч — это в том случае, если бы дон Филиппино, царство ему небесное, сразу передал мне землю. Но я уже истратил больше шести тысяч лир... Это легко подсчитать тут же на месте. У меня есть свидетели: только в этом году я посадил две тысячи американских виноградных лоз, очень плодоносных! И потом...
Саро Тригона поднялся и, желая прекратить дальнейшее объяснения, сказал:
— Но двенадцати тысяч мало, дорогой дон Маттиа. Представьте себе, я должен этому палачу более двадцати тысяч.
— Двадцать тысяч лир? — воскликнул потрясенный Скала. — Да вы что, всей семьей лопали эти деньги, что ли?
Тригона глубоко вздохнул и, потрепав дона Скалу по плечу, сказал:
— АО моих неприятностях вы подумали, дон Маттиа? Еще и месяца не прошло, как из–за разницы в цене на серу мне пришлось уплатить девять тысяч лир одному торговцу из Ликаты. Подождите! Вот тогда–то бедняга — да почиет он в мире — и поручился за меня в последний раз!
После долгих бесполезных препирательств они порешили взять двенадцать тысяч лир, сходить в тот же день к Кьяренце и попробовать с ним договориться.
VI
Дом Димы Кьяренцы стоял в самом центре городка. Это был старый двухэтажный дом, почерневший от времени, возле которого обычно останавливались с фотоаппаратами иностранцы — англичане и немцы, — приезжавшие осматривать серные копи, чем вызывали у местных жителей немалое удивление, смешанное с презрительной жалостью. Для этих жителей дом Димы Кьяренцы был всегда лишь старой и мрачной лачугой, портившей всю площадь, на которой величественно возвышалось украшенное восемью колоннами, оштукатуренное здание, похожее на мраморный дворец; справа от него — церковь, слева — здание торгового банка, в нижнем этаже которого помещались с одной стороны роскошное кафе, с другой — коммерческий клуб.
По мнению членов этого клуба, муниципалитет должен был положить конец подобному безобразию, заставив Диму Кьяренцу хотя бы оштукатурить свой дом. «Это и ему пошло бы на пользу, — злословили торговцы, — может быть, тогда у него немного посветлеет лицо, которое, с тех пор как он поселился здесь, стало черным, как стены дома. Впрочем, — добавляли они, — справедливость требует признать, что дом этот Кьяренца взял за женой в приданое и, произнося в церкви сакраментальное «да», он тем самым брал на себя торжественное обязательство свято беречь обе эти древности».
В просторной и почти темной прихожей, кроме дона Маттиа и Саро Тригоны, было еще человек двадцать крестьян в почти одинаковой темно–синей одежде из грубой ткани. На ногах у них были простые кожаные башмаки, подбитые гвоздями, на голове — черные вязаные береты с маленькими кисточками, у некоторых в ушах виднелись серьги. И так как день был воскресный, все они были чисто выбриты.
— Доложи обо мне, — сказал Тригона слуге, сидевшему у двери за маленьким столиком, который был сплошь исписан цифрами и именами должников.
— Подождите минутку, — ответил слуга, с удивлением разглядывая дона Маттиа, давнюю нелюбовь которого к своему хозяину он отлично знал. — У хозяина дон Тино Лабизо сидит.
— И он тоже? Бедняга! — пробормотал дон Маттиа, разглядывая ожидавших приема крестьян, которые так же, как и слуга, не ожидали увидеть его здесь.
Немного освоившись, Скала стал разглядывать присутствующих. По выражению лиц он легко угадал, кто из крестьян пришел полностью расплатиться, а кто принес лишь часть долга. Глаза этих крестьян уже сейчас словно молили ростовщика подождать с остальными деньгами до будущего месяца. Тех же, кто не принес ни лиры, страх словно придавил к земле, — ведь Кьяренца без всякой жалости ограбит их дочиста и выбросит на улицу.
Внезапно дверь конторы отворилась, и из нее с пылающим, почти лиловым лицом, с блестящими от слез глазами, ничего и никого не видя, выбежал Тино Лабизо. В руках он держал носовой платок в красную и черную клетку, словно символ своего поражения.
Скала и Тригона вошли в контору. Она тоже была почти темной, с одним–единственным решетчатым окном, выходившим в узкий переулок. Даже в полдень на письменном столе у Кьяренцы горела лампа, прикрытая зеленой тряпкой.
Дима Кьяренца сидел в старом кожаном кресле за письменным столом, ящики которого были доверху набиты разными бумагами. На голове у него был круглый берет, шея укутана шарфом, а на обезображенные артритом руки были надеты шерстяные перчатки без пальцев. Хотя Кьяреяце не было и сорока лет, выглядел он как пятидесятилетний старик: желтое, одутловатое лицо, серые редкие волосы, заросшие, точно у больного, виски. Очки его были вздеты на узкий и морщинистый лоб; он смотрел прямо перед собой мутными, потухшими глазами из–под густых, низких бровей. Он явно пытался совладать с волнением и встретить дона Скалу внешне совершенно спокойно.
Сознание собственной бесчестности не вызывало в нем сейчас ничего, кроме глухой и непримиримой ненависти ко всем, и в особенности к своему бывшему благодетелю, первой своей жертве. Он не знал, что нужно было от него дону Маттиа, но твердо решил ни в чем ему не уступать, иначе могут подумать, будто он, Дима Кьяренца, раскаялся в своем поступке, который всегда с негодованием отрицал, выставляя Скалу сумасшедшим.
Скала, который не видел своего врага уже много лет даже издали, в первый момент был поражен. Если б он встретил Кьяренцу на улице, то, наверно, не узнал бы — так страшно тот изменился.
«Кара Господня!» — подумал дон Маттиа и нахмурил брови при мысли, что, превратившись в жалкую развалину, этот человек должен теперь считать, что уже искупил свою вину и поэтому не обязан делать ему, дону Скале, никаких послаблений.
Дима Кьяренца опустил глаза и с исказившимся от острой боли лицом, держась рукой за поясницу, осторожно приподнялся с кожаного кресла, но Саро Тригона чуть не силой усадил его обратно и сразу же, по всегдашней привычке нагромождая друг на друга бессвязные, беспорядочные фразы, стал объяснять цель их визита: он продает перешедший к нему по наследству участок земли дорогому дону Маттиа, который здесь присутствует, и готов немедленно выплатить в счет своего долга двенадцать тысяч лир дражайшему дону Кьяренце, каковой со своей стороны должен взять на себя обязательство не возбуждать судебного дела против наследства Ло Чичеро в ожидании...
— Спокойнее, спокойнее, сынок, — прервал его Кьяренца, опуская на нос очки. — Как раз сегодня я возбудил дело о наследстве, опротестовав векселя, подписанные вашим двоюродным братом и давно уже просроченные. Поздно спохватились.
— А мои деньги? — вскипел Скала. — Земля Ло Чичеро не стоила больше восемнадцати тысяч лир, а я уже вложил в нее добрых шесть тысяч: значит, по совести, ты не можешь получить эту землю дешевле чем за двадцать четыре тысячи лир.
— Пусть так, — совершенно спокойно ответил Кьяренца. — Но поскольку Тригона должен мне двадцать пять тысяч, то и выходит, что я, приобретая этот участок, теряю тысячу лир, не считая процентов.
— Значит... двадцать пять тысяч? — широко раскрыв глаза, вскричал дон Маттиа, обращаясь к Тригоне... Саро Тригона заерзал в кресле, словно его пытали горячими щипцами, лепеча:
— Но... ка... как?
— Сейчас, сын мой, я тебе все покажу, — невозмутимо ответил Кьяренца, снова схватившись за поясницу и с трудом приподнимаясь. — На это есть конторские книги. Там все записано.
— Оставьте в покое свои конторские книги! — выступая вперед, крикнул Скала. — Здесь речь идет о моих деньгах; тех самых, которые я вложил в этот участок.
— А при чем тут я? — прикрыв глаза и пожимая плечами, ответил Кьяренца. — Кто вас заставлял их вкладывать?
Дон Маттиа Скала вне себя от ярости повторил Кьяренце условия своего договора с Ло Чичеро.
— Плохо, — заметил Кьяренца, снова прикрыв глаза; ему стоило таких невероятных усилий сохранять внешнее спокойствие, что он еле дышал. — Плохо. Вижу, что вы до сих пор не научились вести дела.
— И ты еще смеешь упрекать меня в этом? — закричал Скала. — Ты!
— Я вас ни в чем не упрекаю. Но, Боже, вкладывая эти деньги, должны же вы были, по крайней мере, знать, что Ло Чичеро не мог никому продать свою землю, так как подписал векселя на сумму, превышающую стоимость самой земли.
— Значит, — продолжал Скала, — ты завладеешь и моими деньгами тоже?
— Ничем я не завладею, — поспешно ответил Кьяренца. — Я, кажется, объяснил, что, если даже оценить землю по–вашему, теряю больше тысячи лир.
Саро Тригона попытался вмешаться, он хотел разом выложить перед Кьяренцой двенадцать тысяч лир наличными, которые лежали в бумажнике дона Маттиа.
— Деньги всегда деньги!
— Глядишь, они и улетели! — поспешно возразил Кьяренца. — Знайте же, дорогой мой, сейчас лучше всего купить на них землю. Векселя — оружие обоюдоострое: проценты то растут, то падают, земля же никуда не денется.
Дон Маттиа согласился с этим и, изменив тон, вежливо сообщил Кьяренце о своем давнем горячем желании приобрести участок соседа; потом добавил, что никогда не успокоится, если после стольких трудов эта земля достанется другому. Поэтому де желает ли Кьяренца пока что взять деньги, которые он принес; остальную часть, до последнего чентезимо, Дима Кьяренца получит не от Тригоны, а от него самого. И он, Скала, согласен заплатить все двадцать четыре тысячи лир, словно он и не тратил вовсе эти шесть тысяч лир, и даже, если Кьяренца будет угодно, — двадцать пять тысяч, весь долг Тригоны.
— Что я тебе еще могу предложить?
Дима Кьяренца, закрыв глаза, бесстрастно выслушал горячие доводы дона Маттиа. Потом ответил еще более мрачным и важным тоном:
— Послушайте, дон Маттиа. Я вижу, вам крепко приглянулась эта земля, и я охотно уступил бы ее, чтобы доставить вам удовольствие, если б только мое здоровье не было так расшатано. Видите, каким я стал? Врачи советуют мне отдохнуть в деревне на свежем воздухе...
— А! — задрожав от ярости, воскликнул Скала. — Значит, ты поселишься рядом со мной?
— К тому же, — продолжал Кьяренца, — сейчас вы мне выплачиваете даже меньше половины. Кто знает, сколько придется ждать, пока вы полностью рассчитаетесь! Между тем, получив эту землю сейчас, я легко выручу все сумму разом и смогу позаботиться о здоровье. Я хочу все оставить наследникам в полном порядке.
— Не говори так! — взорвался возмущенный Скала. — Уж будто ты думаешь о наследниках? У тебя и детей–то нет! Может, ты о племянниках заботишься? Раньше это было что–то незаметно. Лучше скажи прямо: «Я хочу напакостить тебе, как пакостил всегда». Видно, мало тебе, что ты разорил мой дом, можно сказать, убил жену и заставил в отчаянье бежать единственного моего сына. Тебе, видать, мало, что в награду за все мои заботы ты сделал меня нищим. Теперь ты хочешь отнять еще и землю, политую моим потом и кровью? Но почему, почему ты так жесток ко мне? Что Я тебе сделал? Ведь я не мог в себя прийти после твоего подлого предательства — ведь надо было заботиться о жене, которая умирала по твоей милости, подумать о сыне, бежавшем по твоей вине. Доказательств, вещественных доказательств твоего воровства, достаточных, чтобы отправить тебя на каторгу, у меня не было, и я молчал. Я поселился на этом клочке земли, а между тем все селение клеймило тебя, кричало тебе: «Вор! Иуда!» Но не я, только не я! И все же есть на небе Бог, понял? Вот он и покарал тебя, посмотри на свои воровские руки, какими они стали... Что же ты их прячешь? Ты же мертвец, мертвец! И все еще пытаешься навредить мне? Но знай же: на этот раз у тебя ничего не выйдет, нет, не выйдет! Я тебе сказал, на какие жертвы я готов ради этой земли. Короче, отвечай, согласен уступить ее мне?
— Нет! — яростно и зловеще вскричал Кьяренца; лицо его исказилось.
— Тогда ни тебе, ни мне! — И Скала пошел к выходу.
— А что вы сделаете? — не вставая с кресла, скривившись в жалкой гримасе, спросил Кьяренца.
Скала обернулся, с гневной угрозой поднял руку и, глядя врагу прямо в глаза, гордо ответил:
— Сожгу тебя!
VII
Выйдя из дома Димы Кьяренцы, дон Маттиа яростно тряхнул плечами и отогнал от себя Саро Тригону, который с понурым видом пытался объяснить ему свои благие побуждения. Потом он направился к знакомому адвокату, чтобы изложить ему все обстоятельства этого несчастного дела и узнать, не может ли он, Скала, действуя законным путем, добиться признания того, что дон Филиппино был должен ему шесть тысяч, и тем самым помешать Кьяренца завладеть землей.
Сначала адвокат ничего не понял, ошеломленный горячностью дона Маттиа. Он попытался успокоить его, но тщетно.
— Словом, доказательства, документы есть у вас?
— Ничего у меня нет!
— Тогда остается только молиться!. Чем я могу вам помочь?
— Подождите, — сказал ему Дон Маттиа, прежде чем уйти. — Вы случайно не знаете, где живет инженер Шельци из «Общества по разработке серных копей в Комитини»?
Адвокат назвал ему улицу. и номер дома, и дон Маттиа, окончательно решившись, зашагал прямо к инженеру.
Шельци был одним из тех инженеров, которые, проходя каждое утро по тропинке мимо ворот его дома, особенно настойчиво уговаривали дона Маттиа сдать свою землю в аренду. Не раз Скала, не на шутку рассердившись, натравливал на него собак.
И хотя по воскресеньям Шельци не занимался делами, ради столь необычного посетителя он сделал исключение.
— Вы, дон Маттиа? Каким попутным ветром вас занесло? Скала, нахмурив косматые брови, посмотрел молодому инженеру прямо в глаза и ответил:
— Я готов.
— А! Отлично! Сдаете?
— Нет, не сдаю. Я хочу сначала узнать условия.
— Разве вы не знаете? — воскликнул Шельци. — Я столько раз объяснял вам...
— Вам нужно снять там, наверху, еще какие–нибудь планы? — мрачно и решительно спросил дон Маттиа.
— Э, нет! Взгляните... — ответил инженер, указывая на приколотую к стене геологическую карту, на которую были нанесены все залежи серы в этом районе. Он ткнул пальцем в какую–то точку на карте и прибавил: — Это вот здесь, больше ничего не надо...
— Значит, мы можем сразу же заключить договор?
— Сразу?.. Давайте завтра. Завтра же я переговорю с Административным советом. А пока, если хотите, мы можем вместе написать заявку, которую, конечно, примут, если только вы не поставите новых условий.
— Мне нужно, чтобы меня связали сразу же по рукам и ногам! — вскипел Скала. — Все, все будет сожжено, да? Там, наверху, все будет сожжено?
Шельци смотрел на него с удивлением: он давно знал, что у Скалы странный, вспыльчивый характер, однако таким он его еще не видел.
— Но убытки от дыма будут оговорены в договоре и возмещены...
— Я знаю! Только это меня не интересует, — ответил Скала. — Поля, поля, я вас спрашиваю, поля все погибнут, да?
— Э... — пожимая плечами, ответил Шельци.
— Этого я и хочу! Этого добиваюсь! — воскликнул дон Маттиа, ударив кулаком по столу. — Садитесь сюда, господин инженер, пишите, пишите. Не обращайте внимания на мои слова.
Шельци уселся за письменный стол и начал писать заявку, излагая вначале пункт за пунктом все выгодные условия договора, которые Скала не раз с негодованием отвергал; теперь же, нахмуренный и мрачный, он каждый раз кивал головой в знак согласия. Когда заявка была наконец составлена, инженер Шельци, не удержавшись, полюбопытствовал, почему Скала вдруг принял такое неожиданное решение.
— Неурожайный год?
— Какое там неурожайный! Вот тот, когда вы откроете серные копи, тот уж, верно, будет неурожайным, — ответил Скала.
Шельци начал подозревать, что дон Маттиа Скала получил скверные вести о своем пропавшем сыне; он знал, что несколько месяцев назад Скала отправил прошение в Рим, чтобы через консульских представителей были начаты розыски. Но Шельци не хотел бередить его душевную рану.
Прежде чем уйти, Скала еще раз попросил Шельци закончить дело как можно быстрее:
— Ни секунды не медля, чтобы я не успел передумать! Однако прошло целых два дня, прежде чем было получено решение Административного совета и договор был составлен в присутствии нотариуса и заверен им; два ужасных для дона Маттиа дня. Он не ел, не спал и, точно помешанный, ходил повсюду за Шельци, постоянно повторяя:
— Свяжите меня по рукам и ногам! Свяжите, покрепче!
— Не бойтесь, — улыбаясь, говорил ему инженер. — Теперь вы от нас не убежите.
Когда договор был наконец подписан и зарегистрирован, дон Маттиа Скала, словно ополоумевший, выскочил из нотариальной конторы и побежал к лавке на краю селения, где три дня назад оставил свою кобылу; он вскочил в седло и поскакал.
Солнце уже садилось. Проезжая по пыльной дороге, дон Маттиа натолкнулся на длинную вереницу телег, тяжело груженных серой, которые медленно ползли из далеких серных копей, расположенных в долине, по ту сторону невидимого пока холма, на ближайшую железнодорожную станцию.
Скала с ненавистью посмотрел на всю эту серу, которая скрипела и хрустела при каждом толчке безрессорных деревенских телег.
Вдоль дороги с обеих сторон тянулись бесконечные заросли кактусов, сплошь покрытых серной пылью, которая беспрестанно летела с проезжавших телег.
При виде этих пыльных кактусов отвращение дона Маттиа еще больше возросло. Куда ни глянь, везде одна сера! В этом краю она была повсюду. Сера была даже в воздухе, которым дышали люди; она душила их и жгла глаза.
Наконец за одним из поворотов дороги открылся утопающий в зелени холм. Последние лучи солнца озаряли его.
Скала впился в него долгим взглядом и до боли стиснул в руке поводья. Ему казалось, что солнце в последний раз приветствует зеленый холм. Быть может, он никогда уже не увидит этот холм таким, каким видит его сейчас отсюда. Через двадцать лет на это самое место придут другие люди и увидят холм голым, почерневшим, изрытым ямами.
«А я где буду тогда?» — подумал Скала, почувствовав внутри неприятную пустоту, и сразу же вспомнил о своем пропавшем, затерявшемся неизвестно где сыне, который бродит сейчас неприкаянным по свету, если только он еще жив. Неудержимое отчаяние охватило его, и глаза наполнились слезами. Лишь ради него, ради сына, нашел он в себе силы выкарабкаться из нищеты, в которой очутился по милости Кьяренцы, этого подлого вора, отнявшего теперь у него и эту последнюю землю.
— Нет, нет! — прохрипел он сквозь зубы, вспомнив о Кьяренце. — Ни мне, ни ему!
И он пришпорил кобылу, точно торопясь вытоптать поле, которое уже никогда больше не будет принадлежать ему!
Наступил вечер, когда Скала подъехал к подножью холма. Ему пришлось сделать небольшой крюк, прежде чем выехать на вьючную тропу. Взошла луна, и казалось, что снова начало рассветать. Кузнечики приветствовали этот лунный рассвет неистовым стрекотаньем.
Проезжая через поля и думая об их владельцах, своих друзьях, которые сейчас и не подозревали, какое предательство он совершил, Скала чувствовал нестерпимые угрызения совести.
Неужели все эти поля вскоре должны погибнуть, и там, наверху, не останется ни травинки, и только он один будет виновником гибели зеленого холма! Затем он мысленно перенесся на балкон дома, как бы вновь увидел свой клочок земли и подумал, что теперь взгляд его будет ограничен каменной стеной ограды и не смотреть ему больше с надеждой на соседскую землю! Скала почувствовал себя пленником, который, точно в тесной тюремной камере, задыхается на своем крохотном участке, а за оградой поселится лютый враг. Нет! Нет!
— Разрушение! Разрушение! Ни мне, ни ему! Все сжечь! Он смотрел на эти деревья, на склонившиеся к земле вековые оливы с могучими серыми стволами, и горло его сжималось от боли. Залитые лунным сиянием, они стояли молча, словно погруженные в таинственный сон. Дон Маттиа представил себе, как все эти живые листочки сразу же помертвеют от зловонного дыхания дьявольской пасти серных копей. Потом эти листочки опадут, почернеют оголенные деревья, потом погибнут и они, отравленные дымом печей. И тогда застучит топор. Деревья пойдут на дрова... Поднялся легкий ветерок и вознесся к луне. И тогда листья всех этих деревьев, точно услышав свой смертный приговор, пробудились от сна и глубоко вздохнули, и от этого вздоха дрожь пробежала по спине дона Маттиа, припавшего к гриве белой кобылицы.
В ЗАЩИТУ МЕОЛЫ (Перевод Я. Лесюка)
Сколько раз говорил я своим землякам, жителям Монтелузы, чтобы они не осуждали так, сгоряча, Меолу, если не хотят запятнать себя самой черной неблагодарностью.
Меола украл.
Меола разбогател.
Меола, чего доброго, начнет завтра. давать деньги в рост.
Все это верно. Но поразмыслим, синьоры мои, у кого и для чего похитил Меола? Поразмыслим и о том, что польза, которую извлек он сам из этого похищения, ничто в сравнении с той пользой, что воспоследовала из этого для любезной нашему сердцу Монтелузы.
Что касается меня, то я не могу допустить, чтобы мои земляки, которым известна лишь одна сторона дела, продолжали осуждать Меолу, делая тем самым для него пребывание в наших краях весьма затруднительным, если не сказать — невозможным.
Вот почему в этот час я взываю к справедливости всех либерально настроенных, беспристрастных и здравомыслящих людей Италии.
Одиннадцать лет мы, жители Монтелузы, находились во власти мучительного кошмара — с того самого злополучного дня, когда его преосвященство Витанджело Партанна интригами и. происками могущественных прелатов в Риме был назначен нашим епископом.
Мы с давних пор привыкли к пышному образу жизни, к обходительному и сердечному обращению, к широте и щедрости глубокочтимого епископа нашего — монсеньора Вивальди (да почиет он в мире!). И потому у всех нас, жителей Монтелузы, защемило сердце, когда мы впервые увидели, как из высокого древнего епископского замка, пешком, в сопровождении двух секретарей, навстречу нашей вечно юной весне спускается какой–то закутанный в сутану скелет. Это и был новый епископ. Высокий, сутулый, непомерно худой, он вытягивал шею, выпячивал свои сизые губы и силился держать голову прямо; на его высохшем пергаментном лице выделялся крючковатый нос, на котором зловеще темнели очки.
Оба секретаря епископа — старший, дон Антонио Склепис, дядя Меолы, и младший, дон Артуро Филомарино (он недолго пробыл в этой должности), — держались чуть позади; вид у обоих был смущенный и озабоченный, словно они догадывались, какое ужасное впечатление производит его преосвященство на всех жителей города.
И действительно, всем нам почудилось, будто и само небо, и весь наш веселый, беленький городок сразу как–то потускнели при появлении этого мрачного, уродливого призрака.
Смутный трепет, трепет ужаса пробежал по листве деревьев, когда новый епископ проходил длинной, веселящей взор Райской аллеей. Аллея эта — гордость нашей Монтелузы — заканчивается далеко–далеко внизу двумя синеющими пятнами: яркой и сочной лазурью моря, легкой и прозрачной голубизной небес.
Спору нет, впечатлительность — самая большая слабость всех нас, жителей Монтелузы. Впечатления, которым мы с такой легкостью поддаемся, долгое время властвуют над нашими мыслями, нашими чувствами и оставляют в наших душах глубокий, неизгладимый след.
Подумать только — епископ идет пешком! С той поры как епископский замок высится там, наверху, точно крепость, господствуя надо всей местностью, жители Монтелузы неизменно видели, как их епископы проезжали в экипаже по Райской аллее. Однако сан епископа, сразу же заявил монсеньор Партанна, это — сан, налагающий обязанности, а отнюдь не почетное звание. И он прекратил всякие выезды, рассчитал кучеров и лакеев, продал лошадей и сбрую — словом, стал выказывать во всем бережливость, доходящую до скаредности. Сначала мы думали:
— Он решил скопить побольше денег. У него, верно, много бедных родственников там, в Пизанелло.
Но вот однажды из Пизанелло в Монтелузу приехал один из этих бедных родственников, родной брат епископа, отец девяти детей. Стоя на коленях и просительно сложив руки, QH молил его преосвященство, как молят святых угодников, оказать ему денежную помощь, чтобы он мог хотя бы заплатить докторам за операцию, в которой срочно нуждалась умирающая жена этого бедолаги. Однако тот даже не захотел дать своему брату денег на обратную дорогу в Пизанелло. Все мы видели этого несчастного и своими ушами слышали, как он рассказывал о своем горе в кафе «Гусиная лапка» сразу же после того, как возвратился из епископского замка; глаза его были полны слез, а голос прерывался от рыданий.
В наши дни епархия Монтелузы — заметьте это себе хорошенько — одна из самых богатых епархий в Италии.
На что же намеревался употребить монсеньор Партанна доходы с этой своей епархии, коль скоро он столь бессердечно отказал в необходимой помощи близкому своему родичу из Пизанелло?
И вот Марко Меола сорвал покров с этой тайны.
Я прекрасно запомнил Меолу в то утро, когда он созвал всех нас, либералов Монтелузы, на площадь перед кафе. Руки его дрожали; львиная грива растрепалась, и он все время яростно нахлобучивал свою мягкую шляпу, которая ни за что не хотела держаться на его гордо откинутой голове. Он был суров и бледен. Он весь дрожал от негодования, и ноздри его судорожно раздувались.
Старожилы Монтелузы до сих пор не могут забыть о тех ядовитых семенах разложения, которые взращивали в душах крестьян, да и всех жителей нашей округи отцы лигурийцы, исповедуя верующих и произнося свои проповеди; эти монахи запятнали себя также шпионством и предательством в мрачные годы тирании Бурбонов, чьим тайным орудием они были.
И вот этих–то отцов лигурийцев, да, именно этих отцов лигурийцев, задумал возвратить в Монтелузу монсеньор Партанна, он задумал вернуть тех самых монахов; которых изгнал из города возмущенный народ, когда вспыхнула революция.
Вот для чего, оказывается, копил он доходы со своей епархии!
Он бросил вызов нам, всем гражданам Монтелузы! Ведь только изгнанием этих монахов нам и удалось доказать свою пламенную любовь к свободе, ибо при первом же известии о вступлении Гарибальди в Палермо полиция бежала из Монтелузы, а вместе с нею убрался из города и немногочисленный гарнизон.
Итак, монсеньор Партанна вознамерился сокрушить единственную нашу славу.
Мы смотрели друг другу в глаза, дрожа от гнева и возмущения. Необходимо было любой ценой воспрепятствовать исполнению его коварного замысла. Но как это сделать?
С того самого дня небо гробовым сводом нависло над Монтелузой. Город облачился в траур. Епископский замок, где злобный старик вынашивал свой преступный план, осуществление которого с каждым днем приближалось, точно гигантский камень, давил нам на грудь.
Хотя все знали, что Марко Меола был племянником Склеписа, секретаря епископа, никто в то время не сомневался в его либеральных убеждениях. Напротив, все мы восхищались почти что героической силой духа Меолы, понимая, сколько неприятностей должны были в конечном счете принести подобные убеждения человеку, который вырос в доме дяди–священника, воспитавшего его, как родного сына.
Теперь же мои земляки, жители Монтелузы, спрашивают меня с насмешливым видом:
— Но если Меоле и вправду казался горьким хлеб в доме его дяди, почему не стал он работать, чтобы освободиться от столь гнетущей зависимости?
Однако они забывают, что после того, как Меола еще подростком сбежал из семинарии, Склепис, который хотел, чтобы его племянник во что бы то ни стало сделался, как и он сам, священником, не позволил юноше учиться в другом месте; они забывают, что по милости раздосадованного служителя церкви пропадал всуе столь талантливый человек.
Я прекрасно помню, какую единодушную поддержку, какие шумные рукоплескания, какое всеобщее восхищение снискал Марко Меола, когда, пренебрегая гневом епископа, негодованием и местью своего дяди, он превратил в кафедру один из столиков кафе «Гусиная лапка» и в определенные часы дня разъяснял жителям Монтелузы написанные по–латыни и по–итальянски сочинения Альфонсо Мари из Лигурии, прежде всего «Священные и нравоучительные беседы для всех воскресных дней года» и «Книгу восхваления Марии».
Но нам ведь непременно хочется сделать Меолу козлом отпущения за наши обманутые надежды, за все промахи, в которых повинна наша злосчастная впечатлительность!
Когда Меола в один прекрасный день со свирепым видом поднял руку и, приложив ее затем к сердцу, сказал нам: «Синьоры, я торжественно обещаю и клянусь вам, что отцы лигурийцы не возвратятся в Монтелузу», — вольно же было вам, земляки мои, вообразить Бог знает какую чертовщину! Вы сразу же подумали о подкопах, бомбах, засадах, ночном нападении на епископский замок, вы представили себе Марко Меолу, который, подобно Пьетро Микке, с фитилем в руках готовится взорвать дворец, а вместе с ним епископа и отцов лигурийцев.
С вашего милостивого соизволения я хочу сказать, что в то время у вас было несколько превратное представление о геройстве. Подобными средствами Меоле никогда не удалось бы избавить Монтелузу от отцов лигурийцев! Истинный герой должен точно знать, как именно надлежит действовать в тех или иных обстоятельствах.
И Марко Меола знал это.
В воздухе, напоенном пьянящими ароматами ранней весны, раздавался перезвон церковных колоколов, он смешивался с ликующими криками ласточек, гурьбой проносившихся в пламенеющем закате того незабываемого вечера.
Мы с Меолой молча прогуливались по Райской аллее, погрузившись в собственные мысли.
Внезапно Меола остановился.
— Слышишь звон этих ближних колоколов? — спросил он меня, улыбаясь. — Это в монастыре Святой Анны. Если бы ты только знал, кто там звонит!
— Кто же?
— В эти колокола звонят три голубки!
Я обернулся и посмотрел на Меолу, пораженный его видом и тоном, каким он произнес эти слова.
— Три монахини?
Он отрицательно покачал головой и сделал мне знак обождать.
— Вслушайся получше, — прибавил он тихо. — Как только все три колокола перестанут звонить, последний — самый маленький, самый серебристый — робко ударит еще три раза. Вот... слушай внимательно!
И в самом деле, вдали, в тишине, послышались три негромких удара — динь–динь–динь: то был робкий серебристый голос небольшого колокола, и блаженный звук трех этих ударов медленно растаял в золотом сиянии ранних сумерек.
— Ты слышал? — спросил Меола. — Эти три удара возвещают счастливому смертному: «Я помню о тебе!»
Я снова обернулся и посмотрел на него. Он мечтательно прикрыл глаза и поднял голову. Густая курчавая борода оттеняла его бычью шею, белую, точно слоновая кость.
— Марко! — воскликнул я, схватив его за руку.
Тогда он разразился смехом, потом нахмурил брови и пробормотал:
— Я приношу себя в жертву, друг мой, я приношу себя в жертву! Но можешь быть твердо уверен, что отцы лигурийцы не возвратятся в Монтелузу.
После этого он погрузился в долгое молчание.
Какая связь могла существовать между этими тремя ударами колокола, говорившими: «Я помню о тебе!» — и возвращением отцов лигурийцев в Монтелузу? И на какую такую жертву решился Меола, дабы помешать им возвратиться?
Я знал, что в монастыре Святой Анны у Меолы была тетка — сестра его матери и Склеписа; я знал также, что монахини всех пяти монастырей Монтелузы всей душою ненавидели монсеньера Портанну, ибо, едва приняв сан здешнего епископа, он тут же отдал три распоряжения, одно другого строже:
Первое. Отныне монахиням воспрещалось готовить и продавать сласти и наливки. (Эти чудесные сласти из меда и превосходного теста, изящно завернутые и перевязанные серебряной щетью! Эти чудесные наливки, настоянные на анисе и корице!)
Второе. Отныне монахиням воспрещалось вышивать (даже церковные покровы и облачения), им дозволялось впредь лишь вязать чулки.
Третье. Отныне монахиням воспрещалось иметь особого духовника; всем им, без исключения, надлежало обращаться впредь к приходскому священнику.
Сколько слез, сколько безутешного горя вызвали во всех пяти монастырях Монтелузы эти предписания, особенно последнее! Какие только уловки не были пущены в ход, чтобы добиться его отмены!
Однако монсеньор Партанна оставался непреклонен. Можно было подумать, что он дал себе клятву всегда поступать не так, как поступал его высокочтимый предшественник. Монсеньор Вивальди (да почиет он в мире!) относился к монахиням снисходительно и сердечно; не реже одного раза в неделю он приезжал к ним в обитель, охотно отведывал их угощение, хвалил кушанья и вел с монахинями долгие душеспасительные беседы.
Монсеньор Партанна, напротив, посещал монастыри не чаще одного раза в месяц, неизменно появлялся там в сопровождении обоих своих секретарей, нахмуренный и суровый, и упорно отказывался не только от чашечки кофе, но даже от стакана воды. Матерям игуменьям и настоятельницам не раз приходилось строго выговаривать монахиням и воспитанницам, дабы привести их к послушанию и заставить спуститься вниз, в приемную залу, когда сестра привратница возвещала о прибытии его преосвященства, с такой силой дергая за проволоку, что колокольчик у входа пронзительно визжал, точно породистая собачонка, которой посмели наступить на лапу! А когда монахини, становясь на колени перед двойною решеткой, отвешивали епископу поклон и, с пылающими лицами, опустив глаза долу, обращались к нему со словами: «Благословите нас, ваше преосвященство!» — как он пугал их, бормоча себе под нос: «Святая дщерь» — и осеняя их крестным знамением!
И никаких разговоров о вещах посторонних! Юный секретарь епископа, дон Артуро Филомарино, лишился своей должности только потому, что однажды в приемной зале монастыря Святой Анны пообещал молодым монашенкам и воспитанницам, которые так и пожирали его глазами сквозь решетку, исхлопотать разрешение посадить в монастырском саду грядку клубники.
Монсеньор Партанна лютой ненавистью ненавидел женщин, а под плащом и накидкой монахини он видел женщину особенно опасную, ибо то была женщина смиренная, мягкосердечная и верующая! Вот почему всякое слово, с которым он обращался к монахиням, походило на удар розги.
Марко Меола знал от своего дяди–секретаря о ненависти монсеньора Партанны к женщинам. Ненависть эта казалась ему чрезмерной, и он не сомневался в том, что она возникла в душе епископа благодаря каким–то тайным причинам, связанным с прошлым его преосвященства. И Меола принялся доискиваться этих причин; однако он прекратил свои разыскания сразу же после загадочного появления в монастыре Святой Анны некоей новой воспитанницы. То была несчастная горбунья: она с трудом несла свою непомерно большую голову, а на ее бледном, истощенном лице выделялись огромные овальные глаза. Горбунья эта доводилась племянницей монсеньеру Партанне; но его родственникам в Пизанелло почему–то ничего не было известно о ней. Да и прибыла она в монастырь не из Пизанелло, а совсем из другой местности, расположенной в центре страны, где несколько лет назад Партанна был приходским священником.
Именно в день прибытия этой новой воспитанницы в монастырь Святой Анны Марко Меола торжественно провозгласил на площади перед кафе, обращаясь к своим единомышленникам–либералам:
— Синьоры, обещаю вам и клянусь, что отцы лигурийцы ни за что не возвратятся в Монтелузу!
И вскоре после этой торжественной клятвы мы с «изумлением обнаружили, что жизнь Марко Меолы совершенно переменилась; теперь мы видели, как по воскресеньям и во все праздники церковного календаря он направлялся в храм и слушал там обедню; мы встречали его теперь на прогулках в обществе священников и старых ханжей; мы видели, как он усердно хлопотал всякий раз, когда готовились пастырские поездки по епархии, которые монсеньор Партанна неукоснительно предпринимал, строго придерживаясь сроков, указанных в церковном уставе, невзирая на плохие дороги и нехватку экипажей; и Меола вместе со своим дядей Склеписом неизменно входил в состав свиты, сопровождавшей епископа в этих его поездках.
Тем не менее я — один только я — не хотел верить в то, что Меола изменил нашим идеалам. Как отвечал он на первые ваши укоры, на первые ваши протесты? Он заявлял самым решительным образом:
— Прошу вас, синьоры, не мешайте мне действовать!
Вы негодующе пожимали плечами; вы лишили его доверия; вы подозревали его и громко обвиняли в предательстве. Я же продолжал оставаться ему другом, и в тот незабываемый вечер, когда серебристый колокол робко прозвонил три раза в ясном закатном небе, мне довелось выслушать его таинственное полупризнание...
Марко Меола, который никогда раньше не навещал свою тетку, монахиню монастыря Святой Анны, чаще одного раза в год, теперь стал наведываться к ней вместе со своей матерью каждую неделю. Его тетушке было доверено наблюдение за тремя воспитанницами монастыря. Три эти воспитанницы, три голубки, были очень привязаны к своей наставнице и повсюду следовали за нею, точно цыплята за своей наседкой; не расставались они с нею и тогда, когда ее приглашали в приемную залу монастыря во время посещений сестры и племянника.
И в один прекрасный день произошло чудо. Монсеньор Партанна, который прежде лишил монахинь этого монастыря привилегии, коей они пользовались, — дважды в год входить рано поутру в церковь и при закрытых дверях украшать ее своими руками по случаю праздника Тела Господня и для Мадонны Лумской, — внезапно отменил свой запрет и вновь даровал им такое право после настоятельных просьб трех воспитанниц монастыря, и особенно его племянницы, несчастной горбуньи.
По правде сказать, самое–то чудо произошло позднее — в праздник мадонны Лумской.
Поздно вечером, в канун этого торжественного дня, Марко Меола крадучись пробрался в церковь и всю ночь провел в исповедальне приходского священника. На рассвете на площади перед монастырем уже стояла наготове карета. И когда три воспитанницы (две — прелестные и живые, точно влюбленные ласточки, а третья — горбатая и больная астмой) вошли со своей наставницей под своды храма, дабы украсить алтарь мадонны Лумской...
Вот вы говорите: Меола украл, Меола разбогател, Меола, чего доброго, начнет завтра давать деньги в рост. Все это верно. Однако поразмыслите, синьоры мои, поразмыслите о том, что Марко Меола похитил не одну из двух прелестных воспитанниц, «которые были в него страстно влюблены, а третью, да, третью — несчастную рахитичную девицу с гноящимися глазами! Да, он похитил именно эту горбунью, дабы воспрепятствовать отцам лигурийцам возвратиться в Монтелузу!
В самом деле, чтобы склонить Марко Меолу к браку с похищенной им девицей, его преосвященству пришлось обратить в ее приданое деньги, накопленные им для возвращения отцов лигурийцев. Монсеньор Партанна уже стар, и у него не хватит времени вновь скопить необходимые средства.
Что обещал Марко Меола нам, либералам Монтелузы? Что отцы лигурийцы сюда не вернутся.
Ну что же, синьоры? Разве теперь уже не очевидно, что отцы лигурийцы действительно не возвратятся в Монтелузу?!
ВЕЕР (Перевод Л. Вершинина)
В этот жаркий августовский полдень убогий и пыльный городской садик посреди широкой площади был почти безлюден. Даже высокие желтые дома, окаймлявшие площадь, казалось, разомлели от нестерпимого зноя.
Тута пришла в городской сад с маленьким сыном на руках.
На скамейке, в тени, сидел тощий старичок в мешковатом сером костюме. Голову он прикрыл носовым платком; поверх платка была надета пожелтевшая от времени панама. Рукава его рубашки были аккуратно засучены; он читал газету.
Рядом, откинувшись на спинку скамейки и уронив голову на руки, спал безработный.
Время от времени старичок прерывал чтение и поворачивался к соседу, чья грязная, засаленная фуражка, казалось, вот–вот упадет с головы. По–видимому, эта непонятно каким образом державшаяся фуражка все сильнее и сильнее раздражала старичка, и он испытывал непреодолимое желание нахлобучить ее соседу на голову или сорвать и бросить на землю. Тяжело вздохнув, он снова окинул взглядом соседние скамейки, в надежде найти еще одну, которая бы тоже стояла в тени. Неподалеку была как раз такая скамейка. Но на ней сидела толстая, оборванная старуха, которая всякий раз, как он поднимал глаза, громко зевала, широко открывая беззубый рот.
Тута на цыпочках с улыбкой, подошла к спящему рабочему. Приложив палец к губам, она осторожно поправила ему фуражку.
Вначале старик удивленно следил за ней, потом сердито нахмурился.
— С вашего позволения, синьор, — сказала Тута старику. При этом она с улыбкой поклонилась, словно оказала услугу не спящему безработному, а ему самому. — Подайте милостыню бедному малютке.
— Нет, — со злостью ответил старик (кто знает, почему он, собственно, злился) и снова уткнулся в газету.
— Как–нибудь проживем! — вздохнула Тута. — Господь нас не оставит. — Она села на другую скамью, рядом с оборванной старухой, и тут же завела с ней разговор.
Туте недавно исполнилось двадцать; была она маленькая, грудастая, с удивительно белой кожей и с черными блестящими волосами, расчесанными на пробор и заплетенными в две толстые косы. Глаза ее смотрели хитро, почти вызывающе. Время от времени она покусывала губы; ее маленький, слегка вздернутый носик тревожно вздрагивал. Тута рассказывала старухе о своих горестях. Муж...
С самого начала старуха взглядом дала ей понять: хочешь разговором душу отвести — пожалуйста, но обмануть меня тебе не удастся.
— Законный муж?
— В церкви венчались.
— Ах, в церкви?!
— А что, этого мало? Все равно муж.
— Нет, дочка, так проку не будет.
— Как не будет проку?
— Да уже так, не будет.
А ведь старуха была права: проку у них не вышло. Недавно муж Туты пожелал избавиться от нее и вот заставил уехать в Рим: пусть она поищет там место кормилицы. Тута не хотела ехать: кто ее возьмет в кормилицы, если сынишке уже почти семь месяцев? Две недели она прожила у одного маклера. Платить за жилье и за еду было нечем, и жена маклера набралась наглости предложить ей...
— Понимаешь? Это мне–то?
От «злости» у нее пропало молоко. И теперь она не может накормить грудью даже своего бедного малютку. Жена маклера забрала у нее серьги и узелок с вещами, которые она привезла из деревни. И она очутилась на улице.
— Знаешь, без всяких шуток, на улице!
Вернуться в деревню она не могла, да и не хотела; муж все равно прогнал бы ее. Что же теперь делать, ведь малыш связал ее по рукам и ногам. Ее и в служанки–то никто не возьмет.
Старуха слушала Туту с недоверием. Уж больно спокойно та рассказывала о своих бедах, а повторяя свою неизменную присказку: «Знаешь, без всяких шуток», даже улыбалась.
— Откуда ты родом? — спросила старуха.
— Из Коре. — Она задумчиво глядела куда–то вдаль, точно видела там свое родное селение.
Потом встряхнула головой, посмотрела на малыша и сказала:
— Куда мне его девать? Бросить здесь прямо на землю? Мою сладкую ягодку!
Она схватила малыша на руки и начала крепко, крепко целовать.
— Сама небось согрешила? Чего же теперь плачешься?
— Я согрешила? — повернулась к ней молодая мать. — Ну, согрешила, за это меня и покарал Господь. А вот малютка мой за что страдает? Он–то чем виноват? Нет, не все Господь делает правильно. А раз так, что ж тогда с нас, глупых, спрашивать? Как–нибудь проживем.
— Ну и жизнь! — вздохнула старуха, с трудом поднявшись со скамьи.
— Горе одно! — кивнув головой, добавила другая старуха, которая проходила мимо, опираясь на палку всем своим грузным телом. Оборванная старуха порылась в своих лохмотьях и вытащила маленький, завязанный ремешком мешочек. Потом вынула из него кусок хлеба:
— На, бери, хочешь?
— Еще бы. Да вознаградит тебя Господь, — поспешно ответила Тута. — Наконец хоть хлебушка пожую. Поверишь, с утра маковой росинки во рту не было.
Она разломила хлеб на две части; большую часть оставила себе, меньшую всунула ребенку в розовые пальчики, которые никак не хотели разжиматься.
— Хлебушек это, Нино, хлебушек. Вкусный! Мягкий! Хлебушек, хлебушек!
Старуха поплелась по дорожке, тяжело волоча ноги; вместе с ней ушла и та, другая, с палкой.
В садике стало оживленнее. Сторож принялся поливать цветы. Но даже шумные струи воды, казалось, не могли пробудить их от глубокого сна. От цветов веяло бесконечной печалью. Грустную картину являли собой и редкие газоны, сплошь усеянные яичной скорлупой, клочками бумаги, кожурой; чахлые, обложенные зеленым дерном деревца были привязаны к обломанным кольям.
Тута задумчиво смотрела на невысокий круглый фонтан посреди сада. Стоячая вода в нем позеленела и покрылась слоем грязи. Лишь когда кто–нибудь из сидевших вокруг фонтана бросал туда кожуру, слой грязной воды на мгновение расходился кругами.
Солнце уже садилось, и почти все скамейки были теперь в тени. На одну из них села синьора в белом платье. Ей можно было дать лет тридцать. Лицо у нее было все в веснушках, волосы всклокоченные, рыжие с медным отливом.
Синьора делала вид, что прямо–таки задыхается от жары, и настойчиво отгоняла от себя непослушного мальчишку в матроске, с лицом желтым, как воск. При этом она не забывала смотреть по сторонам, щуря свои близорукие глаза и, очевидно, отыскивая кого–то. Потом она снова подтолкнула мальчика, чтобы тот поискал себе приятеля для игры. Однако мальчик не отходил от матери; он внимательно следил за тем, как Тута ест хлеб.
Тута тоже с любопытством смотрела на синьору; потом вдруг спросила:
— С вашего позволения, синьора, вам не нужна прачка или прислуга на полдня? Нет? Жаль!
Затем, увидев, что мальчик не сводит с нее глаз и не поддается уговорам матери, Тута подозвала его:
— Хочешь посмотреть на маленького? Иди сюда, милый, иди. Мать резко подтолкнула мальчугана, и он нехотя подошел к Туте. Он постоял немного, глядя на малыша испуганными, как у побитого кота, глазами, потом внезапно вырвал у него из ручонок кусок хлеба. Малыш громко заплакал.
— Аи–аи! Бедный мой Нино! Ты у него весь хлебушек забрал! Видишь, как он плачет? Он голодный... Отломи ему хоть кусочек.
Тута хотела позвать мать мальчика, но синьоры уже не было на скамейке: она беседовала в стороне с толстым бородатым мужчиной в сдвинутой на затылок белой панаме.
Заложив руки за спину и загадочно улыбаясь, он рассеянно слушал свою взволнованную собеседницу. Между тем малыш не переставал плакать.
— Раз так, — сказала Тута, — я сама отломлю у тебя маленький кусочек.
Тогда заревел и сын синьоры. Прибежала испуганная мамаша, и Тута вежливо объяснила ей, что произошло. Упрямый мальчишка обеими руками прижимал к груди кусок хлеба и никак не хотел его отдавать. Не помогли и уговоры матери.
— Тебе захотелось этого хлеба, да? И ты его съешь, Нинни? — спросила рыжеволосая синьора. — Он ничего, понимаете, ничего не ест. Я просто в отчаянии. Хорошо, если это не очередной каприз. Не отбирайте у него хлеб, прошу вас.
— Что ж, пожалуйста, — вздохнув, согласилась Тута. — Бери его, мальчик, себе, ешь на здоровье.
Однако мальчишка подбежал к бассейну и швырнул хлеб в воду.
— Это ты для рыбок, Нинни? — засмеявшись, крикнула Тута. — А мое бедное дитятко так и останется голодным. У меня нет ни молока, ни дома — ничего нет. Верите ли, синьора, ничего.
Синьора торопилась к своему знакомому, который ждал ее в глубине сада. Она вынула из сумочки два сольди и протянула их Туте.
— Да благословит вас Господь, — сказала ей Тута вдогонку. — Не надо плакать, моя крошка, я куплю тебе пряник. На старухином хлебе мы с тобой разбогатели. Не плачь, Нино. Ведь мы теперь богатые.
Малыш успокоился.
Крепко зажав монеты в руке, Тута с любопытством разглядывала людей, понемногу заполнявших садик: ребятишек, кормилиц, нянек, солдат.
Маленькие девочки прыгали через веревочку, мальчишки играли в салочки, малыши, которых кормилицы, на ходу мирно беседуя друг с другом, несли на руках, громко ревели, няньки крутили любовь с солдатами, вокруг бродили торговцы бобами и разными сладостями.
Сад стал похож на шумный улей.
Глаза Туты вдруг загорелись, на губах блуждала странная улыбка.
Никто не хочет поверить, что она не знает, как быть, куда теперь идти... Тута и сама верила этому с трудом. Но так оно было на самом деле. Она пришла в городской сад отдохнуть немного в тени и просидела здесь уже около часа. Можно пробыть тут до вечера, ну а потом? Где провести ночь, да еще не одной, а с малышом? И весь следующий день? А потом что? В деревне у нее тоже нет ни родных, ни близких, а этот человек и знать ее не желает; да и как туда добраться? Значит, нет выхода? Тута вспомнила о старой ведьме, которая отняла у нее серьги и узелок с вещами. Вернуться к ней? При одной мысли об этом кровь бросилась ей в голову. Она посмотрела на спящего малютку.
— Э, Нино, в речку, значит, вдвоем? Вот так...
Тута подняла ребенка, словно готовясь бросить его в реку. Потом настанет и ее черед. Но нет же, нет! Она вскинула голову и улыбнулась, потом посмотрела на прохожих.
Солнце уже село, но удушливый зной все еще держался. Тута расстегнула ворот платья и подвернула его, слегка приоткрыв белоснежную грудь.
— Жарко?
— Смерть как жарко!
Возле нее стоял низенький старичок в шляпе, из которой торчало два бумажных веера. В руке он держал еще два ярких раскрытых веера, а на локте висела плетеная корзинка, доверху наполненная веерами самых различных цветов: красными, голубыми, желтыми...
— Всего два сольди.
— Проходи дальше, — дернув плечом, сказала Тута. — Из чего они? Из бумаги ведь?
— А тебе из шелка подавай?
— Ну и что ж! — насмешливо улыбаясь, ответила Тута, потом приоткрыла ладонь, в которой лежали две монеты.
— Это все, что у меня есть. Отдашь веер за одно сольди? Старик в негодовании затряс головой:
— Два сольди. Меньше не могу.
— Э, держи. Давай скорей веер. Прямо умираю от жары. Малыш спит. Как–нибудь проживем. Господь поможет.
Она отдала старику два сольди, взяла веер, еще больше открыла ворот платья и принялась неистово обмахиваться.
Ветер обвевал ее почти обнаженную грудь, она улыбалась, смело глядя на проходивших мимо солдат своими блестящими, дерзкими и манящими глазами.
ОБНАЖЕННАЯ ЖИЗНЬ (Перевод Я. Лесюка)
— Покойник, мой милый, хоть он и покойниц тоже хочет, чтобы у него был свой дом. Если усопший был человек состоятельный, он хочет иметь красивое жилище, и он совершенно прав! Ему по душе, если оно из мрамора и богато украшено: тогда он чувствует себя в нем уютнее. А если наш покойник может позволить себе любые расходы, он претендует еще и на какую–нибудь глубокомысленную... — как это говорится? — аллегорию. Да, да, ему нужна глубокомысленная аллегория, созданная знаменитым скульптором вроде меня: этакое великолепное надгробие с латинской эпитафией — «Nic jacet...» («Здесь покоится» (лат.)), который был, который не был… — да еще красивый цветник вокруг, хорошо ухоженный, а ко всему еще — крепкая ограда для защиты от собак и...
— Хватит, ты мне осточертел! — вне себя от ярости завопил Костантино Польяни, поворачивая к приятелю свое вспотевшее лицо.
Чиро Колли поднял голову; его остроконечная бородка, которую он то и дело теребил, была теперь вздернута крючком; некоторое время он внимательно разглядывал своего друга из–под надвинутой на самые брови шляпы, напоминавшей сахарную голову, а затем с благодушной убежденностью отчеканил:
— Осел.
Так–то.
Чиро Колли полулежал на диване, широко раздвинув и вытянув длинные ноги; он поставил их прямо на коврик, который Польяни незадолго перед тем тщательно выбил и аккуратно расстелил на полу.
Польяни из себя выходил, видя, что его приятель сидит себе развалясь, в то время как сам он, запыхавшись, приводит в порядок студию: располагает гипсовые фигуры живописными группами, отбрасывает в сторону пожелтевшие и запыленные этюды, бесславно вернувшиеся с конкурсов, осторожно выносит на середину комнаты столики, на которых стоят накрытые мокрыми тряпками работы, предназначенные для обозрения. И раздраженно ворчал:
— Одним словом, уйдешь ты или нет?
— Нет.
— Тогда не сиди, по крайней мере, на диване: я там уже убрал. Господи! Ведь я сказал тебе, что ожидаю в гости дам.
— Не верю.
— Да вот же письмо, смотри! Я получил его вчера от комендаторе Сералли: «Высокочтимый друг, уведомляю вас, что завтра утром, около одиннадцати...»
— А есть уже одиннадцать?
— Больше.
— Не верю! Ну ладно, продолжай!
— «...вас посетят по моей рекомендации синьора Кон...» Не разберу, что тут написано!
— Наверно, Конфуцио.
— Да нет, Конт... или Консальви, никак не пойму, «... и ее дочь, у которых до вас дело. Не сомневаюсь, что...» и прочее и прочее.
— А ты не сам себе написал это письмо? — спросил Чиро Колли, вновь опуская голову на грудь.
— Болван! — почти простонал Польяни; в отчаянии он не знал уже, плакать ему или смеяться.
Колли предостерегающе поднял указательный палец и отрицательно покачал головой.
— Не говори так. Меня это обижает. Лучше скажи откровенно, разве ты знаешь такую особу, из–за которой я стал бы вести себя как болван? Ведь на такого рода особ я смотрю с сожалением. Нарядно одетые, в лакированных сапожках, пестрый галстук, гелиопро... гелиокро... как это называется?.. Ах, да, гелиотроп в петлице и бархатный жилет, такой, как у тебя... Черт побери, до чего бы я был хорош в этаком бархатном жилете! Но уж такая у меня несчастная натура: никак не могу себя переделать! Послушай–ка, это в твоих интересах: если правда, что эта синьора Конфуцио с дочерью должна явиться сюда, давай приведем твою студию в прежний беспорядок, не то они о тебе Бог весть что подумают. Было бы еще лучше, если бы они застали тебя за работой, в поте... как это говорится?.. хлеба твоего... одним словом, в поте хлеба лица твоего. Возьми–ка добрый кусок глины, швырни его на станок и не раздумывая лепи меня таким, каким видишь, вот в этой непринужденной позе. Назови свое произведение «В борьбе», и у тебя его в два счета приобретут для Национальной галереи, вот увидишь. Правда... сапоги у меня не слишком новые, но, если желаешь, можешь сделать их совсем новехонькими, ибо как скульптор ты, скажу без лести, самый настоящий сапожник...
Костантино Польяни в это время все еще развешивал по стенам свои рисунки и больше не обращал внимания на приятеля. В его глазах Колли был выброшенным из жизни неудачником, упрямым обломком ушедшей в прошлое поры, порождением моды, ныне уже оставленной художниками: неряшливо одетый, безалаберный, беспечный человек, для которого безделье стало уже привычным состоянием. И это, по правде сказать, чертовски обидно: ведь когда на Колли нападает охота работать, он может дать сто очков вперед самому лучшему скульптору. Уж он–то, Польяни, это хорошо знает: сколько раз здесь, в своей студии, он сам наблюдал, как несколькими уверенными, нарочито небрежными прикосновениями больших пальцев рук Чиро Колли с удивительной легкостью заканчивал скульптурный этюд, над которым Польяни трудился до изнеможения. Но Колли следовало бы хоть немного изучить историю искусств, упорядочить свою жизнь, побольше следить за собственной внешностью, а то в этом жалком одеянии, с его вечно меланхоличной миной он просто неприлично выглядит. Сам он, Польяни, окончил два курса университета... и затем... он тщательно заботится о своей наружности... и уже недурно зарабатывает...
Два негромких удара в дверь заставили Польяни спрыгнуть со скамьи, на которую он взобрался, чтобы развесить рисунки.
— Это они! Ну что теперь? — обрушился он на Колли с угрожающим видом.
— Как только они войдут, я удалюсь, — отвечал тот, не трогаясь с места. — Можно подумать, что ты ждешь к себе самого римского папу. Не говорю уж о том, что ты мог бы и представить меня, эгоист ты эдакий!
Костантино Польяни кинулся открывать дверь, на ходу поправляя красивый русый хохолок надо лбом.
Первой вошла в студию синьора Консальви, затем — ее дочь; девушка была в трауре, лицо ее скрывала густая черная вуаль, в руке у нее был свернутый трубкой лист бумаги. На матери было великолепное светло–серое платье, оно удивительно шло к ее красивому лицу; пепельно–серые волосы задорно выбивались из–под изящной шляпки, украшенной фиалками.
Весь облик этой дамы красноречиво говорил о том, что она ощущает себя еще свежей и красивой вопреки возрасту. Вскоре подняла вуаль и дочь; она была не менее хороша, чем мать, но ее бледное лицо хранило выражение покорности судьбе и сдержанной скорби.
Вслед за первыми церемонными приветствиями Польяни счел нужным представить обеим дамам Колли, который по–прежнему сидел на диване, засунув руки в карманы, с потухшей сигаретой, в шляпе, надвинутой на самые брови, и, по–видимому, вовсе не собирался уходить.
— Вы скульптор? — спросила синьорина Консальви, внезапно зардевшись от смущения. — Колли... Чиро?
— Вот именно, Кодичилло! (Хвостик (ит.)) — отвечал тот, вытянувшись во весь рост; он все–таки снял шляпу, и теперь стали видны его густые сросшиеся брови и близко поставленные глаза. — Скульптор? А почему бы и нет? Да, я тоже скульптор.
— Но мне говорили, — чуть нетерпеливо, с легким раздражением продолжала синьорина Консальви, — мне говорили, что вас нет в Риме...
— Видите ли, я, как говорится, погулял, погулял по свету, милая барышня, — ответил Колли. — Прежде я постоянно проводил свои досуг в столице, ибо покорил волшебную страну — Стипендию.
Но потом...
Синьорина Консальви посмотрела на мать, та засмеялась и сказала:
— Как же нам теперь быть?
— Мне что, уйти? — осведомился Чиро Колли.
— Нет, нет, напротив, — поспешно ответила девушка. — Я даже прошу вас остаться, потому что...
— Ну и положение! — вырвалось у матери; затем, повернувшись к Польяни, она проговорила: — Впрочем, все это, пожалуй, поправимо... Вы ведь друзья, не правда ли?
— Самые близкие, — быстро ответил Польяни. А Колли прибавил:
— Вы не поверите, но за минуту до вашего прихода он собирался выставить меня за дверь!
— Да замолчишь ли ты? — прошипел сквозь зубы Костантино Польяни. — Прошу вас, пожалуйста, располагайтесь как дома. Чем могу вам служить?
— Видите ли, — начала синьора Консальви, усаживаясь, — моя бедная дочь, к несчастью, неожиданно потеряла жениха.
— Вот как!
— Ого!
— Ужасно! Представьте себе, это случилось накануне свадьбы! Несчастный случай на охоте. Быть может, вы даже читали в газетах? Его звали Джулио Сорини.
— Ах, Сорини, как же! — воскликнул Польяни. — У него прямо в руках разорвалось ружье?
— Это произошло в первых числах прошлого месяца... то есть нет... позапрошлого месяца... одним словом, тому уже три месяца. Бедняга доводился нам дальним родственником: он сын моего Двоюродного брата, который давно уже уехал в Америку, после смерти жены. Так вот, Джульетта — мою дочь зовут Джулиа, у них почти одинаковые имена...
Польяни изогнулся в изящном поклоне.
— Так вот, Джульетта, — продолжала мать, — задумала воздвигнуть памятник в Верано[3], на могиле своего жениха, чей прах пока что временно покоится в семейном склепе, и задумала она этот памятник в определенной манере... Ибо моя дочь всегда испытывала истинное пристрастие к живописи...
— Да нет... Зачем же... — смущенно прервала ее, опустив глаза, девушка в трауре. — Я это только так, чтобы время провести...
— Извини, милая, но если бедный Джулио желал, чтобы ты даже брала уроки...
— Мама, прошу тебя... — настаивала девушка. — В одном иллюстрированном журнале мне попался на глаза эскиз надгробного памятника по проекту синьора, который здесь... синьора Колли, эскиз мне очень понравился, и...
— Вот именно, — подхватила мать, приходя на помощь смутившейся дочери.
— И тогда, — продолжала синьорина Консальви, — я подумала, что с некоторыми изменениями...
— Простите, о каком именно памятнике идет речь? — осведомился Колли. — Ведь я их немало сделал, этих эскизов, в надежде получить какой–нибудь заказ хотя бы от мертвых, раз уж живые...
— Прошу прощения, синьорина, — вмешался в разговор Польяни, слегка задетый тем, что он вдруг оказался в тени, — вы задумали памятник по какому–то эскизу моего друга?
— Нет, не совсем такой, но... видите ли, — с живостью отвечала девушка. — Если не ошибаюсь, эскиз синьора Колли изображает Смерть, которая увлекает за собою Жизнь...
— А, припоминаю! — воскликнул Чиро Колли. — Скелет в саване, не правда ли, чей окостеневший контур едва угадывается под складками, хватает за руку Жизнь, цветущую девицу, которая того совершенно не ожидает... Да, да... Превосходно! Великолепно! Теперь я вспоминаю.
Синьора Консальви не могла удержаться от улыбки, любуясь редким самомнением этого удивительного человека.
— Скромно, не правда ли? — обратился к ней Польяни. — Он у нас человек весьма своеобразный.
— Вот что, Джулиа, — проговорила синьора Консальви, вставая, — не лучше ли тебе попросту показать свой рисунок?
— Обожди, мама, — ответила девушка. — Я полагаю, что надо прежде всего откровенно объясниться с синьором Польяни.
Когда у меня родилась мысль о памятнике, я, должна признаться, сразу же подумала о синьоре Колли. Да, да, ведь эскиз принадлежит ему. Но, повторяю, мне сказали, что его нет в Риме. Тогда я попыталась на свой лад, по собственному разумению и вкусу, переделать рисунок, иначе говоря, выразить в нем собственные мысли и чувства. Вы меня понимаете?
— Как нельзя лучше! — откликнулся Польяни.
— Я сохранила оба образа — Жизни и Смерти, — продолжала синьорина Консальви, — но полностью убрала идею о насильственном похищении. Теперь Смерть больше не увлекает за собою Жизнь, напротив, Жизнь сама, по собственной воле, покоряется судьбе и обручается со Смертью.
— Обручается? — растерянно пробормотал Польяни.
— Со Смертью! — загремел Чиро Колли. — Не мешай!
— Со Смертью, — повторила с застенчивой улыбкой девушка. — Мне хотелось ясно показать именно обручение Жизни и Смерти.. Скелет стоит окостенело, как на эскизе синьора Колли, но из–под савана высовывается его рука, держащая обручальное кольцо. Рядом с ним в смиренной позе робко жмется Жизнь: она тянется к скелету, чтобы принять из его рук кольцо.
— Прекрасно! Великолепно! Замечательно! Я это вижу, — восторженно закричал Колли. — Но это совершенно иная мысль! Изумительная! Совсем не то, что у меня! Превосходно! Кольцо... Палец... Необыкновенно!
— Так вот, — продолжала девушка и снова покраснела от столь шумной похвалы. — Я тоже полагаю, что это несколько отличается от вашего замысла. Однако неоспоримо и то, что я в значительной мере использовала ваш рисунок и что...
— Да оставьте вы эти церемонии! — воскликнул Чиро Колли. — Ваша мысль куда занятнее моей, и она — ваша! К тому же мой замысел — кто может сказать, чей он, собственно?!
Синьорина Консальви пожала плечами и потупила взор.
— По правде говоря, — с недовольным видом вмешалась мать, — я ни в чем не препятствую дочери, но мне самой эта мысль совсем не нравится!
— Прошу тебя, мама, — умоляюще проговорила девушка; затем, повернувшись к Польяни, она продолжала: — И вот я обратилась тогда за советом к комендаторе Сералли, близкому нашему другу...
— Который, кстати, должен был присутствовать как свидетель при подписании брачного контракта, — со вздохом прибавила синьора Консальви.
— И так как он назвал ваше имя, — продолжала девушка, — то мы и пришли сюда, чтобы...
— Нет, нет, простите, синьорина, — запротестовал Польяни. — Раз уж вы застали тут моего друга...
— Сделай одолжение, оставь меня в покое! — взорвался Колли и, дрожа от гнева, направился к двери.
Польяни силой удержал его за руку:
— Обожди, видишь ли... ведь синьорина Консальви... разве ты не слышал? Синьорина Консальви обратилась ко мне только потому, что полагала, будто тебя нет в Риме...
— Но ведь она все изменила! — воскликнул Колли, вырываясь. — Пусти меня! При чем тут я? Синьорина Консальви пришла к тебе! Простите, синьора, простите, синьорина, и разрешите откланяться...
— Знай же, — решительно проговорил Польяни, не выпуская руки приятеля, — я за это дело не возьмусь! Если ты откажешься, значит, ни один из нас не будет этим заниматься...
— Но, простите... а вместе? — нерешительно предложила синьора Консальви. — Разве вы не можете работать вместе?
— Я крайне огорчена, что послужила поводом.. — начала было девушка.
— Да нет, что вы! — в один голос запротестовали Колли и Польяни.
Затем Чиро Колли прибавил:
— Ведь я уже ни за что не берусь, синьорина! Видите ли, у меня даже нет теперь студии, я больше ни на что не способен, разве только говорить колкости каждому встречному и поперечному... Постарайтесь лучше уломать этого болвана...
— Знай, что это бесполезно! — твердо заявил Польяни. — Либо вместе, как предлагает синьора Консальви, либо я тоже отказываюсь.
— Вы позволите, синьорина? — произнес тогда Колли, протягивая руку к свернутому в трубку листу, который лежал на диване возле девушки. — Мне не терпится взглянуть на ваш рисунок. Когда я его посмотрю...
— О, ради Бога, только не думайте, что это что–нибудь необыкновенное! — пролепетала синьорина Консальви, дрожащими руками разворачивая рисунок. — Я едва умею держать карандаш в руках... Я сделала лишь набросок, всего несколько штрихов, только чтобы передать свою мысль... вот...
— Она одетая?! — внезапно закричал Чиро Колли, как будто его неожиданно ударили, пока он рассматривал рисунок.
— То есть как... одетая? — с тревогой спросила оробевшая девушка.
— Нет уж, простите! — с жаром продолжал Колли. — Вы изобразили Жизнь в сорочке... ну, скажем, в тунике! Нет, нет, она должна быть обнаженной, обнаженной, обнаженной! Жизнь непременно должна быть обнаженной, милая барышня. Так–то!
— Простите, — прошептала, опустив глаза, синьорина Консальви. — Прошу вас, вглядитесь получше.
— Да я вижу, я все вижу, — отвечал с еще большим жаром Чиро Колли. — Вы хотели изобразить самое себя, нарисовать свой портрет; но позвольте уж нам считать, что вы куда более прекрасны. А ведь это будет не только надгробный памятник, но и памятник искусства! Фигура эта, с вашего позволения, должна изображать Жизнь, которая вступает в брачный союз со Смертью. Коль скоро скелет в одежде, то Жизнь непременно должна быть обнаженной, нужно ли это долго объяснять? Да, совершенно обнаженной и прекрасной, любезная барышня, чтобы служить контрастом этому закутанному в саван мертвецу! Обнаженной, не так ли, Польяни? Обнаженной, не правда ли, синьора? Совершенно обнаженной, понимаете, синьорина? Я бы сказал, обнаженнейшей. С головы до пят! Поверьте, иначе это будет походить на сцену в лазарете: он — в простыне, она — в халате... Ведь мы же создаем скульптуру, из этого и только из этого следует исходить!
— Нет, нет, извините меня, — проговорила синьорина Консальви, вставая одновременно с матерью. — С точки зрения искусства ваши доводы, очевидно, вполне убедительны, не спорю! Но то, что я хочу выразить, можно выразить только так, как я задумала. И если вы будете настаивать, мне придется отказаться...
— Но почему, простите? Почему вы усматриваете в этой скульптуре саму себя, а не символ, не аллегорию, скажите на милость? Ведь то, что эта девушка красива, еще не значит, простите...
А синьорина Консальви в ответ:
— И вовсе не красива, я знаю; но я хочу, чтобы это был не символ, а я, я сама, моя судьба, мои чувства, иначе я не могу. А затем подумайте и о том месте, где должен стоять памятник... Одним словом, я не могу согласиться.
Чиро Колли развел руками и втянул голову в плечи.
— Предрассудки, — пробурчал он.
— Или скорее чувства, которые следует уважать, — поправила его девушка с мягкой, печальной улыбкой.
Наконец порешили, что оба скульптора условятся обо всем с комендаторе Сералли, после чего синьора Консальви и ее дочь откланялись.
Когда они ушли, Чиро Колли повернулся на каблуках и, потирая руки, пропел: «Тра–ля–ра–ле–ро, тра–ля–ра–ле–ра!»
Неделю спустя Костантино Польяни направился к синьорине Консальви, чтобы пригласить ее в студию, где он сможет сделать набросок ее головы.
От комендаторе Сералли, близкого друга синьоры Консальви, он узнал, что Сорини, который прожил еще три дня после несчастного случая на охоте, оставил невесте все свое весьма значительное состояние, унаследованное им от отца; вот почему и было решено воздвигнуть ему надгробный памятник, не считаясь ни с какими затратами. Синьор Сералли пожаловался, что от всех забот, неприятностей и огорчений, которые обрушились на него из–за этого несчастного случая, он совершенно épuisé (Изнемогает (фр.).) и, надо сказать, что по натуре синьорина Консальви несколько emporté voilà (Здесь: увлекающаяся (фр.).), что усугубляет все эти огорчения, заботы и неприятности; слов нет, она, бедняжка, заслуживает всяческого сочувствия, но иной раз, прости Господи, может показаться, что ей даже нравится преувеличивать свои страдания. О, никто не спорит, это был ужасный choc (Удар (фр.).), поистине гром среди ясного неба! А какой он был чудесный человек, этот бедный Сорини! И какой красавец! А уж до чего влюблен в нее был!.. Он, конечно же, сделал бы ее счастливой, эту славную девушку. Быть может, потому, он и умер...
Выходило, что Сорини был таким хорошим человеком и даже безвременно скончался лишь для того, чтобы досадить почтенному комендаторе Сералли...
И подумать только, синьорина Консальви не пожелала расстаться с домом, который ее жених успел заботливо обставить, предусмотрев все до мелочей. Прелестное гнездышко, как выразился комендаторе Сералли, un joli rêve de luxe et de bien–être (Красивая мечта, сотканная из роскоши и комфорта (фр.).). Она приказала перевезти туда свое богатое приданое и проводила там большую часть дня; она не плакала, о нет! Но она терзала себя, предаваясь мечтам о своей брачной жизни, которая роковым образом оборвалась, даже еще не начавшись.
Польяни действительно не застал дома синьорину Консальви. Горничная дала ему адрес ее нового жилища на улице Порта Пинчана. По дороге Костантино Польяни размышлял о том мучительном и горьком наслаждении, какое несчастная невеста, ставшая вдовой еще до свадьбы, должно быть, испытывает теперь, предаваясь — увы, неосуществимым! — мечтам о той жизни, в которой ей отказала судьба.
Эта новая мебель, выбранная с таким заботливым вниманием женихом и невестой и столь любовно расставленная в доме, который через несколько дней должен был принять своих молодых хозяев, — как много радостей сулила она им!
Заприте свою мечту в изящный ларец, а потом откройте его: вы испытаете при этом разочарование. Но тут этого не случилось: все предметы обстановки хранили, вместе со сладостными грезами, и мечты, и обещания, и надежды. И какими, должно быть, жестокими казались несчастной невесте эти немые призывы обступивших ее вещей!
— И это в такой день, как сегодня, — вздохнул Костантино Польяни.
В самом деле, в свежем, прозрачном воздухе уже ощущалось дыхание близкой весны; первое солнечное тепло пьянило душу.
О чем грезит, чем терзается в своем новом доме, чьи окна распахнуты навстречу этому весеннему солнцу, бедная синьорина Консальви? Как знать?
Польяни застал ее за мольбертом: она писала портрет своего погибшего жениха. Неуверенно, с величайшим старанием она делала как бы увеличенную копию с его маленькой фотографии, а ее мать, чтобы убить время, читала какой–то французский роман, взятый из библиотеки комендаторе Сералли.
По правде сказать, синьорина Консальви предпочла бы остаться одна в своем осиротелом гнездышке. Присутствие матери ей мешало. Но синьора Консальви опасалась, как бы романтическая экзальтация не толкнула ее дочь на какую–нибудь крайность и потому неотступно находилась возле девушки, храня молчание и сдерживая вздохи, которые рождал в ней этот упрямый и несносный каприз. Рано овдовев и оставшись безо всякой опоры и без средств к существованию с маленькой дочкой на руках, синьора Консальви не могла отгородиться от жизни, поставив горе часовым у своих дверей, как ныне, по–видимому, собиралась сделать ее дочь.
Она была далека от мысли, что Джульетта не должна оплакивать свою жестокую судьбу, но, как и ее близкий друг комендаторе Сералли, полагала, что девушка как–то уж чересчур предается горю: унаследовав большое состояние после смерти несчастного Сорини, Джульетта, судя по всему, намеревалась позволить себе роскошь — замкнуться в своей безутешной скорби. Матери были хорошо знакомы жестокие и отвратительные законы жизни; еще не оправившись от своего горя, она сама познала много унижений и вела упорную борьбу за существование; вот почему печальный жребий дочери казался ей куда более легким; собственный тяжкий опыт побуждал ее рассматривать поведение Джульетты как вполне простительную слабость, разумеется, при условии, что такое поведение не затянется слишком уж надолго... — voilà (Вот (фр.).), как обычно говаривал комендаторе Сералли.
Женщина рассудительная, немало пережившая, повидавшая свет, она не раз уже пыталась образумить дочь, но тщетно! Выдумщица и фантазерка, ее Джульетта не столько испытывала горе, сколько внушала себе, что непременно должна его испытывать. В том–то и беда! Ибо чувство со временем естественно и неизбежно слабеет, между тем как мысль, напротив, становится навязчивой идеей: она–то и породила всю эту сумасбродную затею с надгробным памятником, изображающим бракосочетание Жизни и Смерти (чудесный брак!). Не менее сумасбродным было и другое чудачество Джульетты — желание сохранить в неприкосновенности свое супружеское гнездышко, чтобы предаваться там мечтам о жизни, которой ей так и не удалось вкусить.
Вот почему синьора Консальви была глубоко благодарна Польяни за то, что он пришел.
Окна в комнате были широко распахнуты навстречу солнцу, и чудесная сосновая роща Виллы Боргезе в ослепительном свете, разлитом над безбрежными зелеными лугами, тянулась к небу и блаженно дышала в нежной, прозрачной лазури.
Синьорина Консальви поднялась с места и сделала быстрое движение, чтобы спрятать рисунок; однако Польяни с ласковой настойчивостью удержал ее.
— Зачем? Вы даже не хотите позволить мне взглянуть?
— Но это только первый набросок...
— Тем не менее набросок превосходный! — воскликнул он, наклоняясь и вглядываясь. — Да, превосходный... Это он, Сорини, не правда ли?.. Да, да, теперь, глядя на фотографию, кажется, его припоминаю. Так, так... Ведь я был с ним немного знаком... Но разве у него была бородка?
— Нет, — поспешила ответить девушка, — незадолго до смерти он ее сбрил.
— Вот и мне казалось... Какой это был красивый юноша, просто писаный красавец...
— Не знаю, что делать, — вновь заговорила синьорина Консальви. — Видите ли, фотография эта не отвечает... тому образу, который живет во мне.
— О да! — быстро согласился Польяни. — Он был гораздо лучше, куда более... одухотворенным... я бы сказал, более живым...
— Эта фотография сделана в Америке, — заметила мать, — еще до того, как они обручились...
— А другой у меня нет, — вздохнула девушка. — Закрою глаза, вот так, и вижу его точно таким, каким он был в последние дни; но стоит мне взяться за карандаш, и я его больше не вижу; смотрю тогда на фотографию, и мало–помалу мне начинает казаться, что это он передо мною, живой. Снова пытаюсь писать портрет и опять не узнаю его в этих чертах. Я просто в отчаянии!
— Смотри–ка, Джулиа, — вдруг сказала синьора Консальви, устремив взор на Польяни, — не находишь ли ты, что линия подбородка, если удалить бороду... не кажется ли тебе, что подбородок у синьора Польяни...
Скульптор покраснел и улыбнулся. Он непроизвольно поднял подбородок и выставил его вперед, как будто синьорина Консальви собиралась деликатно, двумя пальцами взять этот его подбородок и перенести на портрет Сорини.
Девушка нехотя подняла глаза и робко, со смущением посмотрела на скульптора. (Право же, мама совсем не считается с тем, что она в трауре!)
— И усы тоже, погляди, — прибавила синьора Консальви безо всякого умысла. — Ведь бедняжка Сорини в последнее время носил усы, не правда ли?
— Но к чему мне усы, — с некоторой досадой ответила девушка. — Я вовсе не намерена их рисовать!
Костантино Польяни невольно дотронулся до своих усов. Он снова улыбнулся и подтвердил:
— И не надо их рисовать...
Затем он подошел к мольберту и сказал:
— Вот смотрите, если вы позволите... я хотел бы показать вам, синьорина... вот так, двумя штрихами здесь... ради Бога, не тревожьтесь! Здесь в этом месте (стирая нарисованное)... насколько я помню бедного Сорини...
Он сел и, поглядывая на фотографию, принялся набрасывать голову Сорини; синьорина Консальви с трепетом следила за быстрыми движениями его руки; с каждым новым штрихом с ее полураскрытых губ срывались восхищенные возгласы: «Да... да... да...» — они вдохновляли скульптора и, можно сказать, направляли его карандаш. Под конец девушка уже не могла сдержать свое волнение:
— Да, да! Взгляни, мама... Это он... как живой... О, позвольте... спасибо... Какая радость уметь вот так... это просто совершенство... просто совершенство...
— Лишь немного опыта и практики, — произнес, вставая, Польяни со скромным видом, в котором, однако, сквозило удовольствие от этих восторженных похвал. — А потом, ведь я уже говорил, что хорошо помню несчастного Сорини...
Девушка продолжала пристально вглядываться в рисунок.
— Подбородок, да... в точности, как у него... Благодарю вас, благодарю.
В это мгновение фотография Сорини, служившая оригиналом, соскользнула с мольберта, и синьорина Консальви, все еще любовавшаяся рисунком Польяни, даже не нагнулась, чтобы поднять ее.
Маленькая, уже слегка выцветшая фотография сиротливо лежала на полу, и лицо Сорини казалось особенно печальным, как будто он понимал, что отныне для него все уже кончено.
Но Польяни рыцарски наклонился и поднял фотографию.
— Благодарю вас, — сказала девушка. — Но, знаете, теперь я стану пользоваться вашим рисунком. Я не буду больше смотреть на этот гадкий снимок.
Она подняла голову, и вдруг ей почудилось, будто в комнате посветлело. Порыв восхищения, казалось, внезапно освободил ее стесненную грудь, и она с облегчением вздохнула; всем своим существом она упивалась сейчас веселым, ярким светом, который вливался в окна, широко распахнутые навстречу волшебному зрелищу великолепной виллы, окутанной чарами весны.
Неповторимая минута! Синьорина Консальви не могла понять, что, собственно, произошло в ее душе. Обводя взглядом все эти новые, но уже ставшие для нее привычными предметы обстановки, она вдруг ощутила себя точно обновленной. Обновленной и свободной от того кошмара, который душил ее до сих пор. Какое–то неуловимое дуновение властно проникло через окна и пробудило, взволновало в ней все чувства; казалось, неодолимая сила властно вдохнула жизнь во все эти вещи, которым она, Джульетта, как раз хотела отказать в праве на жизнь, оставляя их здесь в неприкосновенности и принуждая их пребывать вместе с нею в каком–то смертном сне.
Она прислушивалась к тому, как молодой элегантный скульптор приятным голосом расхваливал красоту пейзажа и великолепие обстановки, как он учтиво беседовал с ее матерью, приглашавшей его осмотреть другие комнаты, и с необъяснимым волнением следила за ними обоими, как будто этот юноша, этот пришелец, для того и проник сюда, чтобы разрушить сон смерти и вновь вернуть ее к жизни.
И это новое ощущение было настолько сильно, что она решила переступить порог спальни; когда же она увидела, что молодой человек и ее мать обменялись печальными многозначительными взглядами, она была не в силах больше сдерживаться и разразилась рыданиями.
Девушка плакала, плакала все о том же, о чем она плакала столько раз, но, хотя еще смутно, она уже понимала, что ее слезы были совсем иными, чем прежде, ибо теперь они не пробуждали в ее душе отзвуков былой скорби, не вызывали тех образов, которые раньше вставали перед нею. И особенно отчетливо она ощутила это, когда мать прибежала и принялась ее успокаивать так же, как успокаивала много раз, теми же словами, теми же увещаниями. Этого Джульетта не могла вынести; она сделала невероятное усилие над собой, перестала плакать и была благодарна молодому скульптору, который, чтобы отвлечь ее, попросил показать ему папку с рисунками и набросками, лежавшую на этажерке.
Похвалы, похвалы умеренные и искренние, а попутно замечания, советы, вопросы, побуждавшие ее давать объяснения; и, наконец, горячий призыв учиться, следовать, непременно следовать своей склонности к живописи, развивать свое недюжинное дарование! Не делать этого — грешно, поистине грешно! Она никогда не пробовала писать красками? Ни разу? Но почему? Нет, нет, это будет вовсе не трудно с ее способностями, с ее пылкостью...
Костантино Польяни предложил для качала свои услуги; синьорина Консальви ответила согласием, и уроки начались со следующего дня, здесь же, в новом доме, исполненном призыва и ожидания.
Месяца через два в студии Польяни, где уже высился колоссальный надгробный памятник, выполненный пока еще вчерне, Чиро Колли, в длинном старом халате, лежал на диване и курил трубку; перед ним на черной подставке стоял взятый на время у знакомого доктора скелет, служивший моделью, и скульптор обращался к нему с весьма странной речью.
Колли нахлобучил ему на голову, чуть набекрень, свой бумажный колпак, и скелет, точно пехотинец, стоял навытяжку и внимательно слушал наставления, которые Чиро Колли, скульптор–капрал, давал ему в промежутках между двумя затяжками:
— И чего тебя только понесло на охоту? Видишь, как тебя там отделали, мой милый? Хорош... Ноги точно палки... Весь высох... Откровенно говоря, неужели ты думаешь, что брак этот мог состояться? Ты только взгляни, мой милый, на Жизнь... До чего же расчудесная девица вышла из моих рук, без малейшего изъяна! Неужели ты всерьез надеешься, что она захочет сочетаться с тобою браком? Вот она стоит возле тебя, робкая и смиренная, слезы ручьями текут у нее из глаз... Но что касается обручального кольца... то ты это выкинь из головы! А денежки — денежки подавай!.. Ты ведь завещал ей свое состояние? Ну и чего ты теперь от меня хочешь? Надо ли говорить, что я в этот брак с самого начала не верил! Жалкие глупцы те, кто в такое поверит! Она — Жизнь — занялась изучением живописи, и знаешь, кто ее учитель? Костантино Польяни. Ну и дела, сказать по чести. На твоем месте я бы вызвал его на дуэль. А сегодня утром слышал? Прямой приказ: он, видите ли, не желает, он решительно запрещает мне изображать ее голой. Но ведь этот осел все–таки скульптор и прекрасно знает: для того чтобы одеть фигуру, надо сперва вылепить ее голой... Но я говорю тебе все, как было: он не хочет, чтобы у этой обнаженной фигуры было личико, восхитительное личико его любезной барышни... В порыве ярости он подскочил к ней — ты видел? — и двумя ударами трости — трах–трах! — всю ее мне испортил... Можешь ты мне объяснить, зачем он это сделал, зачем, мой верный солдат? Я кричал ему: «Оставь! Я тебе ее мигом одену! Я ее тут же одену!» Но какое там! Что уж там было одевать! Теперь они оба хотят видеть Жизнь... обнаженной, обнаженной и неприкрашенной, такой, какова она есть, мой милый! Они вернулись к моему первоначальному эскизу, к символу: к черту портретное сходство! Ты, мой красавец, хватаешь за руку Жизнь, которая того совершенно не ожидает... И чего только тебя понесло на охоту? Скажи на милость!
ЛЕГКОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ (Перевод Л. Вершинина)
I
Кристофоро Голиш стоял посреди улицы, широко расставив свои слегка согнувшиеся под тяжестью огромного тела ноги;_ поля его белой сдвинутой на затылок панамы причудливо обрамляли мясистое лицо, красное, как круг голландского сыра. Голиш помахал рукой и крикнул:
— Беньямино!
Навстречу ему, покачиваясь, словно тростинка на ветру, тащился такой же высокий, но очень худощавый человек лет пятидесяти. Глаза, выделявшиеся на бледном лице, смотрели вокруг с непонятным изумлением. Он шел, опираясь на палку с толстым резиновым наконечником, еле волоча левую ногу.
— Беньямино! — повторил Голиш, и на этот раз в голосе его послышалось не только удивление, но и боль. Он никак не ожидал встретить своего старинного друга в таком состоянии.
Беньямино Ленци быстро захлопал ресницами, однако выражение его глаз не изменилось. Лишь на какое–то мгновение их словно заволокло слезами, но в лице не дрогнул ни единый мускул. Слегка искривленные губы под редкими серыми усами задвигались, мучительно пытаясь вымолвить хоть несколько слов. Тяжело ворочая одеревеневшим языком, Ленци прошамкал:
— Эээ, эоээота моой маасуут.
— Молодец... — одобрил Голиш, внутренне похолодев от мысли, что перед Ним не старый приятель Беньямино Ленци, а ребенок, глупый ребенок, которого надо обманывать из жалости.
Голиш подошел к другу и попытался подладиться под его шаг. Ох, эта беспомощно волочившаяся нога; казалось, ее притягивала к земле неведомая сила!
Пытаясь поискуснее скрыть свою жалость и непонятную растерянность, охватившую его при виде этого полупарализованного, изуродованного человека, к которому смерть уже прикоснулась своей костлявой рукой, Голиш начал расспрашивать Беньямино, что он делал с тех пор, как уехал из Рима,, и давно ли вернулся.
Беньямино Ленци отвечал ему каким–то бессвязны бормотанием, и Голиш начал даже сомневаться, понимает ли тот его вопросы. Лишь частое подергивание ресниц выдавало боль и неимоверное напряжение. Казалось, ресницы силились смахнуть с лица застывшее на нем выражение странной растерянности, но безуспешно.
Смерть, мимоходом коснувшись Беньямино Ленци, успела оставить на нем свою неизгладимую печать. И теперь этот обезображенный ею человек, с глазами, в которых застыли испуг и изумление, должен был беспомощно ждать, пока смерть не коснется его снова, но на этот раз уже не мимоходом, а по–настоящему, успокоив его навеки.
— Ну и ну! — процедил сквозь зубы Кристофоро Голиш.
Он шел, бросая свирепые взгляды на прохожих, которые оборачивались и с жалостливым участием разглядывали его бедного искалеченного друга.
Внутри у него все кипело.
Как проворно шагают люди по улице! Как ловко работают ногами и руками, вертят на ходу головой... А он сам! Разве не послушен ему каждый мускул его сильного, крепкого тела? Кристофоро Голиш стиснул кулаки. Черт побери! Хорошо бы треснуть кулачищем по чьей–нибудь спине. Но почему, зачем?.. Этого он сам не знал...
Его бесили прохожие, особенно здоровенные юнцы, которые оборачивались поглядеть на Ленци. Голиш вытащил из кармана большой голубой платок из грубого полотна и вытер багровое потное лицо.
— Беньямино, куда ты идешь?
Ленци остановился, здоровой рукой оперся об уличный фонарь и, казалось, любовно поглаживал его неровную поверхность. Потом прошамкал:
— К дойтою... теениоатъ нойию, — и попытался поднять парализованную ногу.
— Тренировать? — переспросил Голиш. — Ты тренируешь ногу?
— Нойию, — повторил Ленци.
— Молодец! — воскликнул Голиш. У него появилось желание схватить эту ногу, дернуть ее как следует, взять друга за руку и хорошенько его тряхнуть. Может, тогда он избавится от этой ужасающей одеревенелости!
Ему мучительно тяжело было видеть друга в этом жалком состоянии. Неужели перед ним тот самый Беньямино Ленци, его старый друг, с которым они в счастливые годы юности каждый вечер отправлялись на поиски легкомысленных приключений? Оба они так и остались холостяками и по–прежнему любили хорошенько повеселиться и погулять на досуге. Потом перед Беньямино открылся новый путь в жизни, и он решительно и ловко пошел по этому пути. О, в те времена он был ловок и энергичен, этот Беньямино. Он боролся, работал, надеялся — и вдруг... вот во что превратился... Какая комедия! Какая жалкая комедия!
Он хотел о многом расспросить друга и не мог. На языке у него вертелось столько вопросов, но он не в силах был произнести ни слова.
«Помнишь о наших знаменитых пари в баре «Фьяскеттерия Тоскана»! — хотел он ему напомнить. — А Надину ты еще не забыл? Знаешь, я и сейчас вижусь с ней. Помнишь, разбойник, как ты отбил ее у меня перед отъездом из Рима? Как она тебя любила тогда... А ведь она до сих пор вспоминает о тебе. Сегодня вечером я буду у нее в гостях и расскажу ей, на кого ты стал похож, бедняга... Э, бесполезно обо всем этом тебя спрашивать: ты ничего уже не помнишь, может, даже и меня не узнаешь... а если и узнаешь, то точно в полусне».
Все время, пока Голиш думал свою невеселую думу, глядя на друга полными слез глазами, тот с величайшим вниманием и интересом водил пальцем по запыленному фонарному столбу.
Беньямино Ленци смотрел на этот фонарь с нежной любовью, ведь во время своей ежедневной прогулки именно здесь он в первый раз останавливался отдохнуть. Вокруг кипела жизнь, люди страдали и волновались, а он, ничего не видя и ни о чем не думая, тащился по мостовой. Он тратил последние силы, только бы добраться сначала до фонаря, потом до витрины одного из магазинов на городском рынке. Здесь была его вторая остановка, и Беньямино Ленци подолгу стоял у витрины, с детским любопытством разглядывая игрушечную фарфоровую обезьянку, привязанную красными шелковыми шнурками к качелям. В третий и последний раз он останавливался передохнуть у ограды маленького сада, затерявшегося в глубине улицы. Отсюда было уже рукой подать до дома, где жил его врач.
Во дворе этого дома, среди цветочных горшков и кадок с молодым бамбуком, апельсиновыми деревьями и лавром, стояли разные гимнастические снаряды. В углу двора высилось несколько прочных столбов с горизонтальными металлическими рейками. Вниз свешивалась перекинутая через колесико веревка, которая у земли t была пропущена через деревянную педаль.
Беньямино Ленци ставил больную ногу на деревянную педаль... толчок, и колесико, соединенное веревкой с педалью, начинало вращаться.
И так каждый день по полчаса. Через каких–нибудь два–три месяца он вылечится. Да тут и сомнений быть не может, полностью вылечится...
Понаблюдав немного эту милую сценку, Кристофоро Голиш большими шагами вышел со двора, разводя на ходу руками и фыркая, точно лошадь. Он пришел в ярость.
У него было такое чувство, словно это с ним самим, а не с беднягой Ленци, смерть сыграла злую шутку.
Примириться с этим Голиш никак не мог.
Глаза его яростно сверкали.
Стиснув зубы, он шагал по улице и разговаривал сам с собою, размахивая руками, словно сумасшедший.
— Ах, так? — говорил он. — Я тебя легонько коснусь и отойду? Ну нет, черта с два! Я не дам превратить себя в жалкую развалину. Я тебя силой заставлю вернуться! Тебе бы небось хотелось прогуливаться рядом да любоваться своей работой, не так ли? Тебе небось приятно было бы посмотреть, как я волочу ногу, да послушать, как я коверкаю слова? Из–за тебя я позабуду половину алфавита, стану говорить «та и даагой», а ты будешь смеяться! Нет, даагая! Подойди поближе. Я пущу себе пулю в лоб как Бог свят! Этого удовольствия я тебе не доставлю. Я застрелюсь, покончу с собой, но этого удовольствия тебе не доставлю.
Весь вечер, весь следующий день и еще много дней подряд он не мог ни говорить, ни думать о чем–нибудь другом. Мысль о случившемся, точно какое–то наваждение, преследовала его дома, в кафе, на улице, в баре. У всех знакомых он спрашивал:
— Вы видели Беньямино Ленци? — и если кто–нибудь отвечал «нет», он восклицал: — Парализован! Одной ногой в могиле! Впал в детство! Как он только не покончит с собой?! Если б я был врачом, я бы его умертвил, ради любви к. ближнему... Вместо этого его заставляют крутить педаль. Да, да, педаль. Врач велел ему крутить педаль во дворе... И он думает, что выздоровеет! И это Беньямино Ленци, понимаете? Беньямино Ленци, который три раза дрался на дуэли и в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году мальчишкой сражался вместе со мной. Черт побери, разве мы когда–нибудь щадили себя? Жизнь имеет цену, лишь когда она приносит радость. Вы меня понимаете? Да, я б не стал даже долго раздумывать...
Наконец его друзьям по бару стало просто невмоготу от этих разговоров.
— Я застрелюсь... я застрелюсь...
— Стреляйся побыстрее, и делу конец. Кристофоро Голиш протестующе замахал руками:
— Нет, я же говорю, если случится...
II
Примерно месяц спустя, когда Кристофоро Голиш ужинал вместе с сестрой и племянником, у него вдруг закатились глаза и скривился рот, точно он не сумел как следует зевнуть. Голова его бессильно упала на грудь, и он ткнулся лицом в тарелку.
Смерть легонько прикоснулась и к нему.
У него мгновенно парализовало правую сторону, и он лишился дара речи.
Кристофоро Голиш родился в Италии, но отец и мать его были немцы. Он никогда не был в Германии и говорил на чистом римском диалекте не хуже настоящего римлянина. Друзья уже давно переделали на итальянский лад его фамилию — Голиш в Голиччи. А некоторые, из–за солидного брюшка и непомерного аппетита, даже прозвали его Голачча[4]. Лишь иногда он обменивался с сестрою несколькими словами по–немецки, если хотел, чтобы другие не поняли, о чем идет речь.
И вот, когда через несколько часов Кристофоро Голиш с трудом обрел способность говорить, он поставил врача перед странным фактом, требующим серьезного изучения: Голиш совершенно позабыл итальянский язык и говорил теперь только по–немецки.
Открыв налитые кровью, полные страха глаза, скривив в невольной усмешке рот и левую часть лица, он несколько раз пытался сказать хоть слово непослушным языком. Потом коснулся здоровой рукой головы и, обращаясь к врачу, пролепетал:
— Ih... ihr... wie ein Faustschlag... (Вв... вы... знаете, точно удар кулаком... (нем.))
Врач ничего не понял, и сестре, почти обезумевшей от нежданного горя, пришлось быть переводчицей.
Кристофоро Голиш вдруг стал немцем. Вернее, он точно родился заново, ведь настоящим немцем он никогда не был. Но в ту самую минуту, когда из памяти у него вылетели все итальянские слова, он из типичного итальянца разом преобразился в немца.
Врач пытался дать этому научное объяснение; он поставил диагноз — гемоплагия и назначил лечение. Но сестра Голиша отвела врача в сторонку и рассказала ему, что несколько дней назад, после встречи со старым другом, пораженным параличом, брат поклялся, если он тоже заболеет, покончить с собой.
— Ах, синьор доктор, все эти дни он ни о чем другом не говорил, словно заранее предчувствовал, что и сам обречен мучиться! Он застрелится... У него уже и револьвер приготовлен, в ящике письменного стола лежит... Я так боюсь...
Врач сочувственно улыбнулся:
— Не волнуйтесь, синьора, не волнуйтесь. Мы скажем вашему брату, что у него простое несварение желудка, и вы увидите...
— Но, доктор!
— Ручаюсь вам, он поверит. Между прочим, удар был не особенно серьезным. Я уверен, что через несколько дней он сможет владеть парализованными рукой и ногой. А со временем сумеет и двигаться. Ну если и не совсем хорошо, то осторожно, потихоньку. И кто знает, может, позднее он даже совсем поправится... Конечно, это было для него страшным предупреждением. Он должен совершенно изменить образ жизни и соблюдать строжайший режим. Только так можно на долгое время избежать повторного удара. Сестра, пряча подступившие слезы, опустила ресницы. Однако не слишком убежденная заверениями врача, она, едва тот ушел, посоветовалась с прислугой и сыном и составила план, как незаметно вытащить из ящика револьвер. Она и служанка под предлогом, что нужно поправить матрац, встанут у края кровати, а тем временем сын бесшумно откроет ящик письменного стола и унесет револьвер. Только, ради Бога, поосторожнее. Так они и сделали. И сестра очень гордилась своей предусмотрительностью, ибо ей казалась неестественной та легкость, с какой брат принял объяснения о характере его болезни. Как и советовал врач, больному сказали, что у него простое несварение желудка.
— Ja, ja... es ist doch... (Да... да... это же... (нем.))
Действительно, он целых четыре дня чувствовал тяжесть в животе.
— Unver... Unverdaulichkeit... ja... ja... (Несва... несварение желудка... да... да... (нем.))
«Неужели он не замечает, что вся правая половина у него парализована? — думала сестра. — Неужели он после случая с Ленци может верить, что простое несварение желудка приводит к таким ужасающим последствиям?»
С первого же дня своего добровольного дежурства она ласково, словно ребенка, принялась учить его забытым итальянским словам. Она спросила у брата, почему он не говорит больше по–итальянски.
Голиш посмотрел на нее в изумлении: он даже не заметил, что говорит теперь по–немецки; он вдруг заговорил именно так, и ему не приходило в голову, что можно разговаривать иначе. Все же Голиш старался повторять за сестрой итальянские слова. Однако он произносил их сейчас совсем по–другому, с иностранным акцентом, совершенно как немец, пытающийся говорить по–итальянски. Своего племянника, Джованнино, он звал Чофайо, и этот неслух еще смеялся, точно дядя называл его так в шутку..
Спустя три дня, когда во «Фьяскеттерия Тоскана» узнали о несчастье с Голишем, приятели немедля пришли его навестить. Их друг, как бы заново учившийся говорить, представлял собой жалкое зрелище... Однако он даже не догадывался о том, какое странное впечатление производило каждое его слово.
Он был похож на утопающего, который отчаянно барахтается, пытаясь удержаться на поверхности. На какое–то мгновение он уже погрузился в неведомое царство вечной ночи и вынырнул оттуда уже совсем иным: младенцем в сорок восемь лет и иностранцем.
А как он был доволен! Ведь именно в этот день он впервые смог слегка пошевелить парализованной рукой. Правда, нога все еще не действовала. Но он чувствовал, что на следующий день ему, может быть, удастся поднять и ногу. Кристофоро Голиш уже сейчас изо всех сил пытался пошевелить ею...
— Ну как? Поуаетсаа? — спрашивал он у друзей. — Зайта... зайта...
— Конечно получается, завтра ты наверняка начнешь ходить.
Все поведение Голиша убеждало, что самоубийства бояться нечего. Все же из осторожности, прежде чем уйти, друзья по одному подходили к сестре и советовали ей внимательно следить за больным.
— Знаете, всякое бывает... В любой момент к нему может вернуться ясность мысли, и тогда...
Каждый из них рассуждал сейчас так же, как Голиш, когда он был здоров: чем жить калекой под страшной, неотвратимой угрозой нового удара — лучше покончить с собой, ничего другого не остается.
Так рассуждали теперь они, но не Голиш. Зато надо было видеть его счастье, когда спустя двадцать дней он, поддерживаемый сестрой и племянником, сделал несколько шагов по комнате!
Конечно, без зеркала он никак не мог видеть свои глаза, глядевшие вокруг растерянно и недоуменно, в точности как у Беньямино Ленци. Но, Господи, как же он не замечает, что нога у него еле волочится... И все–таки как он был счастлив! Точно снова родился на свет. Вновь, как ребенок, радовался он каждому пустяку и, как ребенок, готов был расплакаться из–за любой ерунды. Все в комнате умиляло его. То, что он может сам подойти и погладить рукой каждую вещь, наполняло больного неведомой доселе радостью, трогало его до слез. Он подолгу рассматривал через дверь все, что стояло в других комнатах, сгорая от желания добраться и туда. Да, да, если его будут поддерживать с двух сторон сестра и племянник, он потихонечку и туда дойдет. Потом Голиш отказался и от помощи племянника. Теперь он ковылял по комнатам, поддерживаемой только сестрой, опираясь здоровой рукой на палку. Скоро он уже ходил без посторонней помощи, с одной лишь палкой. И наконец Кристофоро Голиш решил показать, какой он еще молодец и силач.
— О... о смойте, смойте, без пайки.
И верно, подняв палку, он сделал два–три шага. Но тут же пришлось принести стул и бережно усадить его.
Бедняга потерял весь свой жирок и стал похож на собственную тень. Однако у него не зародилось ни малейших сомнений, что это не простое несварение желудка. Вновь усаживаясь вместе с сестрой и племянником за стол, где вместо вина для него стояло теперь молоко, он в тысячный раз повторял:
— Как я сийно испуайся.
Но когда Голиш, в сопровождении сестры, в первый раз вышел из дома, он под большим секретом сказал ей, что хочет пойти к тому же врачу, который лечит Беньямино Ленци. Там, во дворе, есть специальная ножная педаль, и он тоже хочет потренировать ногу.
Сестра посмотрела на него в изумлении. Выходит, он знал?
— Ты хочешь пойти туда сегодня Же?
— Да, да...
Во дворе они нашли Беньямино Ленци. Тот, как всегда, пришел в точно назначенное время и уже крутил педаль.
— Бейамио! — окликнул его Голиш.
Беньямино Ленци ничуть не удивился, когда увидел друга тоже парализованным. Оттопырив прикрытые усами губы, отчего его правая щека скривилась еще сильнее, он прошамкал:
— И ты тое? — и продолжал крутить педаль. Пружинисто раскачивались рейки, и колесики вращались вместе с веревкой.
На следующий день Кристофоро Голиш решительно отказался идти к врачу в сопровождении сестры. Беньямино обходился без провожатых, и Голиш не хотел от него отставать. Вначале сестра велела сыну незаметно идти следом и присматривать за дядей. Потом она совсем успокоилась и позволила Голишу ходить одному.
И теперь каждый день в одно и то же время двое калек встречались на дороге и дальше шли уже вместе. Их маршрут ни разу не менялся: сначала надо было дойти до фонарного столба, потом спуститься вниз до витрины на рынке (здесь они подолгу любовались фарфоровой обезьянкой, привязанной к качелям) и наконец до ограды сада.
Сегодня же Голишу пришла на ум занятная идея, и он спешит поделиться ею с Ленци. Держась за своего верного друга — фонарный столб, они обмениваются понимающими взглядами и пробуют улыбнуться, скривив один правую, а другой левую щеку, Они посовещались немного, спотыкаясь на каждом слове, затем Голиш палкой подал извозчику знак подъехать. Извозчик помог сначала одному, потом другому влезть в пролетку, и вот уже они мчатся на площадь Испании в гости к Надине.
Когда Надина увидела перед собой этих двух призраков, которые с превеликим трудом поднялись по лестнице и теперь задыхались и еле стояли на ногах от усталости, она совсем растерялась. Бедная Надина не знает, смеяться ей или плакать. Она спешит поддержать их, ведет обоих в гостиную и сажает рядом с собой. Потом принимается сердито распекать их за безрассудство, точно перед нею двое шаловливых мальчишек, удравших от своего воспитателя.
Беньямино Ленци сморщился, словно обиженный ребенок, и... в слезы.
Голиш же, наоборот, нахмурив брови, очень серьезно объяснил, что они решили сделать ей приятный сюрприз.
— Пиятный сюпиис.
(Хорош, нечего сказать. И как он разговаривает теперь, этот немчик!)
— Конечно, конечно, спасибо вам, — поспешно сказала Надина. — Молодцы! Оба — молодцы... Вы мне доставили большое удовольствие... Это я... ради вашей же пользы говорила. Ведь я знаю, как вам трудно было приехать сюда, да еще подняться по лестнице... Ну перестань же, Беньямино, ну! Не надо плакать, милый... Что с тобой? Будь же молодцом, Беньямино! — И она погладила его по щекам своими красивыми, белыми, пухлыми ручками, унизанными кольцами. — Ну что с тобой? Что? Посмотри на меня!.. Ты не хотел приходить, да? Тебя привел сюда этот негодник! Я его за это и не приласкаю ни разу. Ведь ты, мой дорогой Беньямино, мой красивый, мой золотой. Ну перестань же, давай вытрем слезки. Вот так... вот так. Посмотри на это чудесное, бирюзовое колечко. Кто мне его подарил? Кто подарил это колечко своей Надине? А это красивое платье? Кто его подарил? Ты, мой дорогой! — Она поцеловала Беньямино в лоб. Потом быстро поднялась и пальцами смахнула слезы. — Чем вас угостить?
Кристофоро Голиш, огорчившись и разобидевшись, отказался от угощения. Беньямино Ленци согласился отведать кусочек бисквита. Он тянется ртом к Надине, а та, зажав бисквит между пальцами, притворяется, будто не хочет его отдать. Дробно смеясь, она игриво повторяет:
— Нет, нет, нет...
Ну и хороши же сейчас оба старых друга, и как радостно смеются они этой шутке.
В САМОЕ СЕРДЦЕ (Перевод Л. Вершинина)
Когда Раффаэлла Озимо узнала, что утром студенты–медики снова будут в больнице, она попросила старшую сестру сводить ее в конференц–зал, где проводились занятия по диагностике.
Сестра сердито покосилась на нее:
— Хочешь показаться студентам?
— Да, да, пожалуйста, возьмите меня.
— А ты знаешь, что похожа на ящерицу?
— Знаю. Мне все равно. Возьмите меня.
— Поглядите только на эту бесстыдницу. Да ты хоть знаешь, что с тобой там будут делать?
— То же, что и с Нанниной, — сказала Раффаэлла. — Верно?
Наннина, ее соседка по палате, накануне выписалась из больницы. Перед этим она была в конференц–зале и, как только вернулась в палату, сразу же показала Раффаэлле свое тело, расчерченное, точно географическая карта: легкие, сердце, печень, селезенка — все было обведено дермографическим карандашом.
— И все–таки ты хочешь побывать там? — сказала старшая сестра. — Ну так и быть, я тебе помогу. Только помни, эти знаки ты потом долго–долго даже с мылом не отмоешь.
Раффаэлла Озимо пожала плечами и, слабо улыбнувшись, сказала:
— Вы только отведите меня туда и больше ни о чем не беспокойтесь.
Лицо ее слегка порозовело. Но какая она все еще худющая: одни глаза да пышные волосы! Глаза, правда, черные и прекрасные, вновь сверкали прежним огнем. А худоба ее хрупкого, словно у девочки, тельца скрадывалась складками широкого одеяла, покрывавшего убогую больничную койку.
Для старшей сестры, как и для всего медицинского персонала, Раффаэлла Озимо была старой знакомой.
Уже Два раза она лежала в больнице. Первый раз из–за... ах, эти глупенькие девушки! Сначала они легко дают себя обмануть, а мучиться должно бедное невинное созданье, которое непременно попадает в приют.
Хотя, по правде говоря, и Раффаэлле не дешево пришлось заплатить за свою ошибку. Спустя два месяца после родов ее в почти безнадежном состоянии снова привезли в больницу: бедняжка проглотила три таблетки сулемы. И вот теперь Раффаэлла уже целый месяц лечилась от малокровия. Благодаря инъекциям железистых препаратов она поправилась и через несколько дней должна была выписаться.
В палате любили и жалели Раффаэллу, всегда такую застенчивую и добрую, с грустной улыбкой на лице. Даже в горе она не стала ни резкой, ни слезливой.
Когда ее в первый раз привезли в больницу, она, улыбаясь, сказала, что теперь ей только и остается умереть. Но слишком много девушек, подобно Раффаэлле, стали жертвой своего легкомыслия, и потому никого особенно не встревожили ее слова. Ведь известно, что все соблазненные и покинутые девушки грозят покончить самоубийством, — так стоит ли придавать значение таким словам!
Однако Раффаэлла Озимо как сказала, так и сделала.
И напрасно добрые монахини пытались тогда укрепить ее в вере. Раффаэлла вела себя так же, как сейчас: внимательно слушала, улыбаясь, соглашалась с ними, но про себя чувствовала, что и после всех этих увещаний сердце ее по–прежнему сжимают стальные тиски.
Ничто больше не привязывало ее к жизни. Раффаэлла сознавала, что горько обманулась и, в сущности, всему виной был не юноша, которому она отдалась и который все равно не мог бы стать ее мужем, а собственная ее неопытность, доверчивость и страстность.
Но смириться она не могла.
И если другим ее история казалась вполне обычной, самой ей от этого было не легче. Она столько выстрадала! Сначала предательски убили отца, потом разлетелись в прах все ее надежды и мечты.
Теперь она была бедной портнихой, обманутой и брошенной, как тысячи других, но когда–то... Правда, другие тоже говорили: когда–то... — и обманывали самих себя, потому что у несчастных, сломленных жизнью людей непроизвольно возникает потребность лгать.
Однако она не лгала.
Отец ничего не жалел для нее, и Раффаэлла наверняка получила бы диплом учительницы, если б во время парламентских выборов он не погиб в Калабрии от руки наемного убийцы. Имя убийцы так и осталось неизвестным, но все знали, что убили отца Раффаэллы не из мести, а по приказу политических врагов барона Барни, преданным и ревностным секретарем которого он был.
Барни знал, что у Раффаэллы еще раньше умерла мать, и, когда его избрали депутатом парламента, афишируя перед избирателями свою доброту, приютил девушку у себя в доме.
Так Раффаэлла очутилась в Риме. Положение ее в доме Барни было двусмысленным: с ней обращались, как с членом семьи, но, по существу, она была воспитательницей младших сыновей барона, а также чем–то вроде компаньонки баронессы. Денег ей, понятно, не платили.
Она работала, а Барни гордился своей добротой.
Но какое ей было тогда дело до всего этого? Она работала не за страх, а за совесть, стараясь заслужить отеческое расположение своего благодетеля. Втайне Раффаэлла надеялась, что ее бескорыстие и жертва, принесенная ее отцом, смягчают сердце Барни. Старший сын барона Риккардо обещал Раффаэлле, что признается отцу в своих чувствах к ней и тот не станет противиться их счастью. Сам Риккардо был убежден, что отец охотно уступит их мольбам. Но ему всего девятнадцать лет, он еще студент. У него просто не хватало смелости признаться во всем родителям. Лучше подождать несколько лет.
И вот, ожидая... Но сколько можно ждать? Все время вместе, в одном доме, уверения в любви, клятвы, обещание жениться...
Словом, страсть ослепила Раффаэллу.
Когда же грех стало невозможно скрывать, ее выгнали из дому. Да, да, ее буквально вышвырнули вон без всякой жалости, не посчитавшись даже с ее состоянием. Барон Барни написал в Калабрию ее старой тетке, чтобы та немедленно забрала Раффаэллу. При этом он пообещал помогать им деньгами. Однако тетка умоляла барона немного подождать — может, он разрешит Раффаэлле хотя бы родить в Риме! Ведь там, в маленьком калабрийском селении, это вызовет целый скандал. Барни уступил, но с условием, что сын не будет ничего знать: ему скажут, будто обе они уже уехали. Однако после родов Раффаэлла отказалась вернуться в Калабрию. Вне себя от ярости барон пригрозил лишить их пособия. И после того как Раффаэлла попыталась покончить с собой, он действительно перестал им помогать. Риккардо уехал во Флоренцию. Раффаэлла, которую чудом удалось спасти, поступила ученицей к портнихе — теперь ей надо было содержать себя и тетку. Прошел год, Риккардо вернулся в Рим, но она даже не пыталась снова с ним встретиться. После неудавшегося самоубийства Раффаэлла твердо решила постепенно извести себя. Ее тетка в один прекрасный день потеряла всякое терпение и вернулась в Калабрию. Месяц тому назад, придя на работу, Раффаэлла упала в обморок. Ее отвезли в больницу, где она и осталась лечиться от малокровия.
И вот вчера, когда Раффаэлла лежала в кровати, мимо нее прошла группа студентов–медиков, слушавших курс лекций по диагностике. Среди них впервые за эти два года она увидела Риккардо. Рядом с ним шла красивая, белокурая девушка. С виду она походила на иностранку и, наверно, тоже была студенткой. А как она на него смотрела! Нет, чутье не обманывало Раффаэллу; эта девушка была влюблена в Риккардо. А с какой нежностью она улыбалась, заглядывая в самую глубину его глаз.
Раффаэлла провожала их взглядом, пока они не вышли из палаты. Она полулежала, опираясь на локоть, глаза ее были широко раскрыты. Ее соседка по палате Наннина залилась смехом:
— Что ты там увидела интересного!
— Ничего.
Раффаэлла с какой–то грустной улыбкой поспешно легла. Сердце у нее билось часто–часто, точно хотело выпрыгнуть из груди.
Потом пришла старшая сестра и велела Наннине одеваться: профессор хотел продемонстрировать ее студентам во время лекции.
— А что они будут со мной делать? — спросила Наннина.
— Съедят! Что они могут с тобой особенного сделать? — ответила ей старшая сестра. — В этот раз выбрали тебя, потом дойдет очередь и до других. Тем более что ты завтра выписываешься.
Сначала Раффаэллу бросало в дрожь при одной мысли, что могут выбрать и ее. Ах, как она покажется им, такая худая и некрасивая? Ведь подурневшая женщина ни в ком не, вызывает ни сочувствия, ни сострадания.
Конечно, друзья Риккардо, увидев ее, такую жалкую, начнут смеяться над ним.
— Как! Неужели ты мог связаться с этой ящерицей?
Так ей не удастся отомстить Риккардо. Впрочем, она и не собирается ему мстить.
Спустя полчаса вернулась Наннина. Когда она объяснила подруге, что с ней делали, и показала ей свое исчерченное специальным карандашом тело, Раффаэлла внезапно передумала. Теперь она просто дрожала от нетерпения, ожидая прихода студентов.
Наконец часов в десять они появились. Пришел и Риккардо, как и в прошлый раз, вместе с белокурой студенткой. Они влюбленно улыбались друг другу.
— Можно одеваться? — спросила Раффаэлла у старшей сестры. Вся зардевшись, она мгновенно вскочила и села на постели, едва только те двое прошли в зал.
— Что за спешка! Ложись! — приказала старшая сестра. — Подожди, пока профессор распорядится...
Но Раффаэлла — можно было подумать, что она ослышалась, — потихоньку начала одеваться.
Когда старшая сестра пришла за ней, Раффаэлла уже была готова.
Содрогаясь всем своим жалким телом, бледная как смерть, с распущенными волосами, вошла она в зал. Глаза ее лихорадочно блестели, она пробовала улыбнуться.
Риккардо Барни разговаривал с юной студенткой и сначала не заметил Раффаэллу. Затерявшись среди множества людей, она искала его глазами и даже не слышала, как главный врач сказал ей:
— Сюда, сюда, детка!
Риккардо Барни обернулся на голос профессора и увидел Раффаэллу, которая с пылающим лицом пристально смотрела на него. Он совсем растерялся, побледнел как полотно. В глазах у него потемнело.
— Ну же! — крикнул профессор. — Идите сюда!
Студенты захохотали. Услышав их смех, Раффаэлла растерялась еще сильнее. Она увидела, что Риккардо отошел к окну, обвела зал испуганным взглядом, нервно улыбнулась и спросила:
— Что я должна делать?
— Сюда, сюда, ложитесь вот сюда! — крикнул ей профессор, который стоял возле демонстрационного стола, покрытого чем–то вроде ватного одеяла.
— Сейчас, сейчас, синьор! — торопливо ответила Раффаэлла, но ей не удавалось залезть на стол; она снова улыбнулась и сказала: — Никак не могу...
Один из студентов помог ей взобраться. Прежде чем лечь, она взглянула на профессора, красивого, высокого, гладко выбритого мужчину в золотых очках, и, указывая на молоденькую девушку, сказала:
— Пожалуйста, пусть меня разрисует она.
Студенты снова дружно расхохотались. Улыбнулся и профессор:
— Почему? Стесняешься, что ли?
— Нет, синьор. Просто лучше, чтобы она. — Раффаэлла обернулась и посмотрела на Риккардо, который по–прежнему стоял у окна, спиной к ней.
Белокурая студентка невольно проследила за ее взглядом. Она уже успела заметить, что Риккардо Барни смущен и растерян. Теперь она увидела, что он отошел к окну, и тоже ужасно смутилась.
Однако профессор уже окликнул ее:
— Что ж, прошу вас, приступайте к осмотру, синьорина Орлитц. Так и быть, уважим пациентку.
Раффаэлла легла на стол и посмотрела на белокурую студентку, которая осторожно подняла вуаль. Какая она красивая, стройная, кожа у нее белая, а глаза — голубые и нежные–нежные. Вот она сняла плащ, профессор протянул ей дермографический карандаш, и молоденькая девушка наклонилась над Раффаэллой. Руки девушки слегка дрожали, когда она обнажала грудь пациентки.
Раффаэлла закрыла глаза, стыдясь своей жалкой груди, на которую смотрело сейчас столько молодых мужчин, столпившихся возле стола. На сердце ей легла холодная рука девушки.
— Учащенное сердцебиение... — сразу же сказала синьорина Орлитц, убирая руку. Говорила она с сильным иностранным акцентом.
— Давно вы в больнице? — спросил профессор. Раффаэлла ответила, не открывая глаз, лишь ресницы ее тревожно дернулись:
— Тридцать два дня. Я почти выздоровела.
— Проверьте, нет ли у больной шумов в сердце, — продолжал профессор, протягивая белокурой студентке стетоскоп.
Раффаэлла почувствовала холодное прикосновение инструмента к груди, потом услышала, как девушка ответила:
— Шумов нет... Сильное сердцебиение.
— Сделайте перкуссию, — приказал профессор.
При первом же легком ударе Раффаэлла отвернулась, крепко стиснула зубы и приоткрыла глаза. Но тут же она снова закрыла их, изо всех сил сдерживая рыдания. Время от времени студентка прекращала перкуссию, стоявший рядом студент вынимал из стакана с водой карандаш и протягивал его синьорине Орлитц; слегка надавив на грудь средним пальцем, девушка проводила карандашом короткую линию. Раффаэлла, которая, пока ее выстукивали, лежала затаив дыхание, только в эти секунды решалась наконец глубоко вздохнуть.
Скоро ли кончится эта пытка? А он по–прежнему стоит у окна... Почему профессор не позовет его? Не прикажет взглянуть на изображение ее сердца. Пусть и он посмотрит на ее жалкую, иссохшую по его вине грудь, которую его белокурая подруга постепенно расчерчивала карандашом.
Наконец студентка закончила перкуссию. Теперь она соединяла между собой все линии, завершая общий рисунок. Раффаэлле хотелось взглянуть на точное изображение своего сердца, но силы покинули ее, и, не удержавшись, она разрыдалась. Профессор отослал ее в палату и раздраженно приказал старшей сестре вызвать другую больную, не такую истеричку и дуру, как эта.
Раффаэлла Озимо спокойно перенесла упреки старшей сестры. Улегшись в свою убогую постель, она с дрожью нетерпения ждала, когда студенты выйдут из конференц–зала.
Будет ли Риккардо, проходя через палату, хоть взглядом искать ее? Нет, нет. Какое ей теперь до этого дело? Она даже головы не поднимет. Ему и незачем видеть ее. Во что она превратилась, он уже знает. Больше ей ничего не надо.
Дрожащими руками она натянула на лицо простыню и долго лежала так, точно мертвая.
Целых три дня, до самой выписки, Раффаэлла Озимо старательно следила за тем, чтобы рисунок на груди не стерся.
Вернувшись в свою бедную комнатушку, она подошла к маленькому зеркальцу, вытащила остро отточенный нож, уперла его в стену и вонзила в самое сердце, которое невольная соперница обрисовала на ее груди.
ВСЕ, КАК У ПОРЯДОЧНЫХ ЛЮДЕЙ (Перевод Л. Вершинина)
I
Синьорина Сильвия Ашенси приехала в Рим, чтобы добиться перевода из Перуджи, где она преподавала в средней школе; она готова работать где угодно, даже в Сардинии, даже в Сицилии. В Риме Сильвия обратилась за помощью к молодому депутату парламента Марко Вероне. Прежде Верона был любимым учеником ее бедного отца, знаменитого физика, профессора университета в Перудже, погибшего год назад в результате взрыва в лаборатории.
Сильвия была уверена, что Верона использует все свое влияние, которое он за короткий срок приобрел в парламенте, чтобы помочь ей; ведь он отлично знает, какие причины заставили ее покинуть родной город.
Действительно, Верона принял ее не только любезно, но и с искренней симпатией. Молодой депутат снизошел даже до воспоминаний о том, как он бывал в гостях у покойного профессора, и, если не ошибается, иногда встречал там и ее. Ну, конечно же! Она была тогда совсем девочкой, почти малышкой, но уже заменяла отцу секретаршу...
При этих словах лицо синьорины Ашенси стало пунцовым. Малышкой? Надо же сказать такое! Ей было тогда полных четырнадцать лет... Ну а сколько лет было в то время уважаемому депутату Вероне? Двадцать, самое большее двадцать один. О, она могла бы повторить сейчас слово в слово все, о чем он говорил тогда с отцом.
Да, да, он очень жалеет, что не продолжил научных исследований, к которым профессор Ашенси сумел привить ему такую сильную любовь; потом, заметив, что при упоминании о несчастье с отцом синьорина Ашенси не смогла сдержать слез, он с неподдельным участием посоветовал ей не падать духом. И чтобы придать еще больший вес своей рекомендации, Марко Верона пожелал лично проводить ее в министерство просвещения («Ах, она доставляет ему столько хлопот!» — «Нет, нет, он непременно пойдет с ней»).
Однако, как это нередко бывает летом, в министерстве все ушли в отпуск. Верона знал, что ни министра, ни его заместителя нет в Риме, но никак не ожидал, что не застанет ни начальника департамента, ни даже начальника отделения. Пришлось ему удовлетвориться разговором с секретарем первого класса кавалером Мартино Лори, который один ведал делами всего департамента.
Лори был добросовестнейшим чиновником; его доброта, искренняя сердечность, сквозившая в улыбке, во взгляде, в каждом движении, какая–то особая чистота и аккуратность в одежде снискали ему расположение начальства и подчиненных.
Мартино Лори принял синьора Верону весьма почтительно и даже покраснел от удовольствия. Визит молодого депутата доставил ему большую радость, и не только потому, что, как и предвидел Лори, тот рано или поздно станет его начальником. Ведь он уже много лет восхищался блистательными выступлениями Вероны в парламенте. Затем, повернувшись, чтобы взглянуть на синьорину (как он уже знал, дочь знаменитого профессора), кавалер Лори вновь испытал живейшее удовольствие.
Лори было немногим больше тридцати лет, и он сразу же заметил, что у синьорины Сильвии Ашенси весьма занятная манера разговаривать: ее глаза, мерцавшие каким–то странным зеленым светом, казалось, хотели помочь словам проникнуть собеседнику глубоко в душу. Разговаривая, она увлекалась, и собеседник мог оценить ее острый, блестящий ум, душевную твердость. Но постепенно уверенность и ясность мысли исчезали; Сильвия заливалась краской смущения, лицо ее становилось милым и застенчивым. Скоро она с неудовольствием замечала, что ее слова и доводы больше не производят впечатления, ибо слушатель забывал обо всем, очарованный ее красотой. И тогда на ее лице, пылавшем от смущения и счастья, что ее женственность и очарование имеют такую неотразимую власть (сама она не прилагала к этому никаких усилий), ясно отражалась растерянность. Но восхищенная улыбка очарованного собеседника невольно заставляла и ее улыбаться. Сердито тряхнув головой и пожимая плечами, Сильвия умолкала. Потом добавляла, что она просто не умеет разговаривать, не может ничего толком объяснить.
— Что вы! Как можно? Наоборот, мне кажется, вы прекрасно объяснили суть дела, — поспешил заверить ее кавалер Мартино Лори.
И он пообещал уважаемому Вероне сделать все возможное, дабы удовлетворить желание синьорины. Он будет счастлив оказать услугу господину депутату!
Два дня спустя Сильвия одна пришла в министерство к кавалеру Лори. Она еще раньше убедилась, что не нуждается больше в рекомендациях. С наивным видом она объясняла, что не может, ну просто никак не может покинуть Рим. За эти три дня она исходила город вдоль и поперек и ни капельки не устала. Ее поразили и восхитили одинокие виллы, окруженные кипарисами, молчаливая нежность садов Авентино и Челио, трагическая торжественность древних руин и старинных улиц, вроде виа Аппиа, голубизна прохладного Тибра. Словом, она очарована Римом и хочет, чтобы ее перевели сюда. Невозможно? Но почему? Ах, это будет очень трудно сделать? Ну полноте... Вы говорите, ужасно трудно. А если как следует захотеть... Даже учительницей младших классов нельзя? Нет, он должен сделать ей это одолжение. Иначе она без конца будет надоедать ему своими просьбами. Она не оставит его в покое! Ведь назначить ее в младшие классы не трудно! Не так ли? Значит...
Однако развязка была иной.
Сильвия нанесла Мартино Лори еще шесть или семь таких визитов. И вот однажды после обеда, одетый весьма парадно, кавалер Мартино Лори вышел из министерства и направился в Монтечиторио[5] на прием к депутату Вероне.
В ожидании секретаря, который должен был провести его к Вероне, он, сильно волнуясь, оглядывал свои перчатки, носки лакированных туфель, кончиками пальцев нервно поправлял манжеты.
Едва войдя в кабинет, Мартино Лори, чтобы скрыть свое замешательство, с жаром принялся объяснять синьору Вероне, что его протеже просит о невозможном.
— Моя протеже? — прервал его молодой депутат. — Какая протеже?
Он, Лори, очень сожалеет, что употребил, конечно, без всякого злого умысла это слово, которое можно... да, да, неверно истолковать, но он собирался говорить о синьорине Ашенси.
— Ах, о синьорине Ашенси! Тогда это действительно моя протеже, — с улыбкой прервал его Верона, чем еще больше увеличил смущение бедного Лори. — Я забыл, что рекомендовал вам ее, и сначала не догадался, о ком это вы собираетесь со мной говорить. Мне очень дорога память о замечательном физике, отце синьорины и моем учителе, и я очень хотел бы, чтобы и вы, кавалер, взяли синьорину. Сильвию под свое покровительство, именно под покровительство, и непременно удовлетворили ее просьбу — .она этого заслуживает.
Но он, Лори, как раз и пришел поговорить об этом. При всем своем желании перевести синьорину Ашенси в Рим он никак не может. Если это не будет нескромным, он, хотел бы знать истинную причину, почему... почему синьорина решила покинуть Перуджу.
Увы, причина не из приятных! Жена профессора Ашенси, женщина богатая и глубоко порочная, изменила ему, сошлась с таким же негодяем, как она сама. Она прижила с любовником двух или трех детей и вскоре совсем ушла от мужа. Профессор Ашенси, понятно, не пожелал расстаться с единственной дочерью и отдал бывшей жене все свое состояние. Он был человеком благородным, но совершенно непрактичным, жилось ему очень трудно, неприятности и неудачи так и сыпались со всех сторон. Он непрерывно покупал книги, горы книг и приборы для своей лаборатории, а потом никак не мог понять, почему его жалованья не хватает на нужды столь маленькой семьи. Чтобы папочку не огорчала постоянная нужда, синьорине Ашенси пришлось самой заняться преподаванием. О, жизнь девушки до самой смерти отца была сплошным испытанием терпения и стойкости. Но Сильвия гордилась, и не зря, славой своего отца. Она без страха могла противопоставить эту славу бесстыдству своей матери. Однако после трагической смерти отца, оставшись сиротой без всякой помощи и почти без средств, она не могла больше жить в одном городе со своей богатой и подлой матерью. Вот и вся история.
Мартино Лори растрогал этот грустный рассказ (по правде говоря, история синьорины Сильвии растрогала его еще до того, как он услышал ее из авторитетных уст преуспевающего депутата), и, откланявшись, он пообещал синьору Вероне сделать все возможное, чтобы вознаградить девушку за лишения, горести и удивительную преданность отцу.
Так синьорина Сильвия Ашенси, которая приехала в Рим добиться перевода, нашла здесь... мужа.
II
Однако их семейная жизнь, по крайней мере первые три года, была совсем нерадостной и весьма бурной.
В пламени первых дней Лори готов был сжечь самого себя; Сильвия же уделяла мужу лишь самую малую толику тепла. Когда понемногу утих огонь, в котором горят, сливаясь воедино, душа и тело, он увидел, что женщина, казалось, ставшая частью его самого, совсем иная, чем это представлялось ему в мечтах.
Словом, Лори понял, что Сильвия его не любит, она и замуж вышла точно в каком–то странном сне. И вот наступило пробуждение, мрачное, горькое, мучительное.
Кто знает, о чем она грезила в своих сновидениях?
Со временем Лори убедился, что Сильвия не только не любила его, но и не могла любить, так несхожи были они по натуре. Им даже не удавалось притерпеться друг к другу. Если он, любя Сильвию, готов был считаться с ее неспокойным характером и стремлением к полной независимости, то она не любила мужа и поэтому не желала уважать ни его суждений, ни его привычек.
— Какие там суждения! — в ярости кричала она. — У тебя не может быть никаких суждений, дорогой мой. Ты человек без нервов.
Какое отношение имели нервы к его суждениям? Бедняга Лори только удивлялся про себя. Наверно, Сильвия считала его холодным и бессердечным, потому что он всегда молчал. Но ведь он молчал, стараясь избежать ссор. Теперь он замкнулся в отчаянии, смирившись с крушением своей прекрасной мечты — прожить жизнь вместе с преданной и заботливой подругой в чистеньком домике, где всегда царили бы мир и любовь.
Лори поражался тому, как жена истолковывала каждый его шаг, каждое слово. Иногда ему начинало казаться, что он действительно не таков, каким привык считать себя, что он просто не замечал всех своих недостатков и пороков, в которых жена обвиняла его теперь.
Раньше он всегда шел прямой дорогой, никогда не углублялся в дебри и потому, наверно, привык доверять себе и другим. Жена же, наоборот, с детства видела грязную изнанку жизни и, к несчастью, уверовала, что все в мире отвратительно и нет в нем ничего святого, если даже ее мать, о Боже, даже мать... Ах, бедная Сильвия! Если она и видела сейчас плохое там, где его не было вовсе, и часто бывала несправедливой к нему, — все это можно понять и простить! Однако чем больше он со своей обычной деликатностью пытался сблизиться с ней, вселить в нее веру в жизнь и убедить ее быть справедливее в своих суждениях, тем сильнее она злилась и возмущалась.
Немножко благодарности, если не любви, — вот все, что он требовал от нее... Ведь в конце концов это он, Лори, помог ей покончить с тяжелой, неустроенной жизнью, дал ей дом и семью. Нет, Сильвия не питала к нему даже благодарности. Она была гордая, уверенная в себе, в том, что сможет сама заработать на жизнь. И много раз за эти три года Сильвия угрожала ему, что снова начнет учительствовать и уйдет от него. В один прекрасный день Сильвия привела свою угрозу в исполнение.
Вернувшись со службы, Лори не нашел жены дома. Утром между ними произошла очередная, особенно резкая ссора из–за пустякового упрека, на который он отважился. В сущности же, хотя буря разразилась только в это утро, тучи начали сгущаться месяцем раньше. Весь этот месяц Сильвия была мрачной и вела себя очень странно. Она даже откровенно высказала свое презрение к мужу.
И, как обычно, без всяких на то причин!
В письме, оставленном дома, Сильвия объявила о своем бесповоротном решении навсегда порвать с ним. Далее она писала, что решила любой ценой снова добиться места учительницы. А чтобы он не натворил глупостей и не тратил понапрасну время на розыски, Сильвия сообщала адрес гостиницы, где она временно остановилась. Но пусть Лори не приходит, это бесполезно.
С письмом в руках Лори надолго задумался.
Он слишком много и несправедливо страдал. Быть может, избавление от этой женщины и принесет ему какое–то облегчение, но и невыразимую боль тоже. Ведь он по–прежнему любит ее. Значит, почувствовав на какой–то миг облегчение, он будет потом всю жизнь мучиться и страдать от одиночества. Лори хорошо знал и чувствовал, что никогда не сможет полюбить другую женщину, никогда... А какой разыграется скандал! Нет, он не заслужил всех этих испытаний, ведь он во всем и всегда вел себя как порядочный человек. И вот теперь, когда от него ушла жена, злые языки могут обвинить его в каких угодно грехах, хотя один Бог знает, сколько терпения и выдержки проявил он за эти три года.
Что теперь делать?
Лори решил ничего пока не предпринимать. Утро вечера мудренее, и, может быть, за ночь Сильвия, одумается,.
На следующий день Лори не пошел на службу и все утро просидел дома. В полдень он все же собрался выйти, хотя так твердо и не решил, как ему действовать, но в это время ему подали письмо от Марко Вероны, который приглашал Лори зайти к нему в палату депутатов.
В эти дни в стране разразился правительственный кризис, и в министерстве просвещения настойчиво поговаривали о Вероне как о вероятном кандидате на пост заместителя министра, а то и самого министра.
Еще раньше Лори в его раздумьях пришла в голову мысль посоветоваться с Вероной. Однако он живо представил себе, сколько всяких хлопот должно быть сейчас у молодого депутата, и решил не беспокоить его. Сильвия же наверняка не страдает излишней деликатностью; может быть, узнав, что Верона должен возглавить министерство просвещения, она уже обратилась к нему с просьбой дать ей место учительницы.
Мартино Лори помрачнел при мысли, что теперь Верона, воспользовавшись своей прямой властью, может потребовать, чтобы он, Лори, не мешал жене.
Однако Марко Верона встретил его очень любезно.
Он глубоко огорчен, но его прямо–таки поймали в ловушку... «Нет, нет, не министром! К счастью, только заместителем министра». Он, Верона, не хотел принять даже и этой должности, известно ведь, какова сейчас политическая обстановка! Но ничего не поделаешь, этого требует его партия. А раз уж так получилось, он хотел бы иметь в министерстве помощником честного и весьма опытного человека, и сразу же подумал о нем, кавалере Мартино Лори. Согласен ли он?
Бледный от волнения, Лори не знал, как и благодарить синьора Верону за такую честь и доверие. Кончики ушей у него стали пунцовыми. Не переставая рассыпаться в благодарностях, Лори, однако, настойчиво спрашивал взглядом: «А больше уважаемому депутату, точнее, его превосходительству господину Вероне ничего не угодно?»
Марко Верона поднялся и, улыбаясь, положил руку на плечо собеседника. Действительно, ему угодно еще кое–что. Лори должен набраться терпения... и простить синьоре Сильвии ее ребячество.
— Она пришла ко мне и изложила свое «смелое» решение, — не переставая улыбаться, сказал Верона. — Я очень долго беседовал с ней, и... вам незачем оправдываться. Теперь я отлично знаю, что во всем виновата сама синьора! Я так ей и сказал без всяких обиняков. Она даже расплакалась... Да, да, я напомнил ей об отце, о том, как тот страдал от семейных неурядиц... и о многом другом. Можете спокойно возвращаться домой. Синьора будет вас ждать.
— Ваше превосходительство, не знаю, как вас и благодарить... — кланяясь, взволнованно лепетал Лори.
Однако Верона сразу же прервал его:
— Пожалуйста, не благодарите и, главное, не называйте меня «ваше превосходительство».
Прощаясь, Марко Верона сказал, что синьора Сильвия — женщина с характером и наверняка сдержит все свои обещания. Так что Лори может быть спокоен: неприятные сцены больше никогда не повторятся, и жена постарается любой ценой вознаградить его за все обиды и унижения.
III
Так оно и было.
Вечер их примирения запомнился ему навсегда. Запомнился по многим причинам, и особенно по тому, с какой любовью, едва завидев его, кинулась Сильвия к нему в объятия. Теперь все изменится, понял, или, вернее, сердцем почувствовал, Лори.
А как она плакала, как плакала! И каким счастьем было для него видеть эти слезы раскаяния и любви!
В тот день они впервые по–настоящему отпраздновали свою свадьбу. Осуществилась его мечта — он обрел подругу жизни. И еще одна тайная мечта сбылась в этот день, когда их души и тела слились воедино.
Скоро у Лори уже не оставалось никаких сомнений относительно состояния жены; когда Сильвия родила ему дочку, он увидел, на какое самопожертвование способна ради девочки эта женщина. А какой заботой она окружила его, Лори! Только теперь он понял и ее прежнее поведение. Понял и объяснил себе: Сильвия хотела стать матерью. Быть может, она и сама не осознавала этого, не слышала смутного зова природы. Оттого–то она и была прежде такой странной, а жизнь казалась ей отвратительной, лишенной смысла. Конечно, она хотела стать матерью.
Счастье Лори было омрачено лишь падением кабинета министров, куда входил Марко Верона. А так как Лори был его личным секретарем, он тоже чувствовал себя не совсем приятно.
Наглые действия оппозиционных партий, объединившихся, чтобы свалить правительство (в сущности, без всяких на то причин), возмущали его даже больше, чем самого Верону. Со своей стороны Верона объявил, что он по горло сыт политикой. Лучше он снова займется научными исследованиями. Во всяком случае, пользы от этого будет куда больше.
Действительно, на новых выборах в парламент Марко Верона, несмотря на настойчивые просьбы избирателей, не выдвинул своей кандидатуры. Его весьма заинтересовала одна крайне важная научная работа, которую профессор Бернардо Ашенси не смог закончить. Если синьора Лори не откажется передать ему это исследование, он, Верона, попытается продолжить опыты своего учителя и довести их до конца.
Намерение Вероны привело Сильвию в восторг.
За год совместной службы в министерстве между Вероной и его верным и ревностным помощником установились самые дружеские отношения. Но хотя Верона никак не высказывал своего превосходства и не подчеркивал разницы в положении, Лори не мог преодолеть робости и некоторого смущения. Даже теперь, когда Верона говорил ему «ты» и требовал от него того же, Лори по–прежнему видел в друге своего начальника. Вероне это не нравилось, и он часто подшучивал над ним. Лори беззлобно смеялся в ответ. Он подметил, что Верона с каждым днем становился все мрачнее, и втайне огорчался этой перемене. Лори приписывал плохое настроение своего бывшего начальника неудачному концу его политической карьеры, горькому сознанию, что он не сможет больше участвовать в парламентских битвах. Мартино Лори не раз говорил об этом с женой. Он советовал ей использовать все свое влияние и убедить Верону вновь целиком посвятить себя политике.
— Как же, послушает он меня, — отвечала Сильвия мужу. — И потом ты же знаешь, раз я сказала нет, значит, все. Да и не думаю, чтобы Верона очень расстраивался. Посмотри, с какой любовью и страстью работает он сейчас...
Мартино Лори пожимал плечами:
— Не хочешь, не надо!
Впрочем, ему казалось, что, когда Верона играет с их маленькой дочкой Джинеттой, он становится таким же веселым, как прежде. А девочка росла прямо на глазах, с каждым днем становилась красивее и живее.
Лори до слез трогали нежные заботы друга о Джинетте.
— Пусть Лори поостережется, когда–нибудь он похитит у него дочку, — не раз говаривал Верона. — Да, да, он и не думает шутить. А Джинетта не заставит себя долго упрашивать. Правда, ведь она бросит папу и маму... да, да, даже маму, и уйдет с ним...
Джинетта, скверная девчонка; соглашалась — уйдет. Еще бы, Верона при каждом удобном случае дарил ей игрушки. Да какие! Всякий раз при этом Лори и его жена чувствовали себя страшно неловко. Подчас, не в силах сдержаться, Сильвия давала понять Вероне, что такие подарки ее оскорбляют. Может быть, она страдала чрезмерной гордостью? Нет. Подарки действительно были слишком дорогие, да и приносил их Верона очень уж часто. Однако Верона, радуясь тому, как восторгалась Джинетта каждой игрушкой, в ответ на их протесты и упреки только сердито пожимал плечами, а иногда довольно грубо просил их_ замолчать и не мешать ребенку радоваться.
В конце концов Сильвия объявила мужу, что ей надоели эти выходки Вероны. Стараясь оправдать друга, Лори упорно убеждал жену, что Верона тяжело переживает свой вынужденный уход от политической жизни, но Сильвия отвечала, что это еще не дает ему права вымещать на них свое плохое настроение.
Лори хотел было возразить жене, что как ни груб бывает Верона, их дочке эти посещения доставляют столько радости; однако, не желая нарушать полное согласие, которое установилось между ними со дня примирения, решил промолчать.
В первые годы их супружеской жизни Лори видел в характере жены много недостатков. Теперь же он находил одни достоинства. Ее ум, твердость, энергия, не направленные против него, бесконечно восхищали Лори и помогали стойко переносить трудности. Жизнь казалась ему прочной, налаженной — ведь рядом с ним была жена, преданная дому и семье.
Лори в глубине души очень дорожил дружбой с Вероной, и его огорчало, что жену все больше и больше раздражает чрезмерная привязанность Вероны к их дочери. С другой стороны, раз эти неумеренные заботы о Джинетте могут нарушить мир и согласие в доме, лучше уж... Но как объяснить все это другу, если он не хочет даже замечать той холодности, с какой его встречает теперь Сильвия?
С годами Джинетта стала обнаруживать непреодолимую страсть к музыке. И вот уже два–три раза в неделю Верона заезжает за ней в экипаже и везет ее то на один, то на другой концерт. Часто в разгар музыкального сезона он приходил к ним, отзывал Джинетту в сторону и что–то шептал ей на ухо, после чего та подходила к папочке и мамочке и вкрадчиво начинала уговаривать их поехать с ней в театр. Ложа для нее уже заказана.
В ответ Лори только смущенно и озабоченно улыбался; у него не хватало духу отказаться, он боялся обидеть друга, и дочку. Но, Боже мой, пора бы Вероне наконец понять, что он не в состоянии ездить в театр так часто! Какие нужно иметь деньги, чтобы каждый раз платить за ложу и экипаж. И потом Сильвии необходимо быть прилично одетой, не может же она ударить лицом в грязь. Конечно, теперь, после того как он, Лори, стал начальником отделения, его скромный заработок немного увеличился, но бросать деньги на ветер он, понятно, не может.
Любовь Вероны к девочке была так велика, что он совершенно не задумывался о подобных вещах; он даже не замечал, на какие жертвы шла Сильвия. Нередко, сказавшись больной, она долгими вечерами сидела одна.
Но не сидеть же ей, право, все время взаперти! И вот однажды Сильвия вернулась из театра совершенно продрогшей. На следующее утро ее мучил кашель, началась сильнейшая лихорадка. А через пять дней она умерла.
IV
Все свершилось с такой ужасной быстротой, что в первые мгновения Лори даже не почувствовал горя; ничего, кроме полнейшего смятения.
Вечером Верона, которого пугала эта растерянность друга, грозившая перейти в помешательство, отослал Мартино Лори к дочке, клятвенно, пообещав ему, что он всю ночь неотлучно будет сидеть у постели покойной. Лори позволил увести себя. Но когда среди ночи бесшумно, словно призрак, он вернулся в комнату жены, то увидел там Верону, уткнувшегося лицом в постель, на которой лежало похолодевшее тело Сильвии.
Сначала Лори показалось, что, сраженный сном, Верона в забытьи нечаянно склонился головой на кровать, но, присмотревшись повнимательнее, Лори заметил, что он весь содрогается, пытаясь сдержать слезы. Безутешное горе друга вывело Лори из странного оцепенения, и теснившие грудь рыдания неудержимо прорвались наружу. Внезапно Верона вскочил с кровати, лицо его, искаженное гримасой страдания, часто дрожало. Весь в слезах, f Лори судорожно протянул к нему руки. И вдруг Верона оттолкнул его, оттолкнул грубо, с ненавистью. «Он чувствует себя виновником ее смерти. Ведь это он пять дней назад почти силой заставил Сильвию поехать в театр, и теперь мое горе совсем разбередило ему душу», — подумал Лори, пытаясь объяснить себе эту вспышку ярости. Горе по–разному действует на людей, решил он: одних оно пригибает к земле, других — ожесточает.
Теперь ни бесконечные посещения сослуживцев, любивших Лори, как родного отца, ни увещания, друга заняться дочкой, которая совсем убита горем, не могли вывести его из состояния подавленности и апатии. Необъяснимая, мрачная жестокость этой внезапной смерти оглушила Лори; между ним и окружающими словно выросла невидимая стена.
Все казалось ему сейчас иным, чем прежде, звуки словно долетели до него откуда–то издалека, и даже голоса друга и дочери, столь разные и знакомые, звучали совсем по–особенному.
Постепенно его растерянность сменилась каким–то холодным любопытством к окружающему миру, который был ему раньше незнаком или представлялся совсем иным.
Неужели Марко Верона и прежде был таким, как сейчас? Ведь даже его фигура, его лицо казались Лори незнакомыми. А собственная дочка? Неужели она так сильно выросла? А может быть, это несчастье сразу сделало ее взрослой? Эта новая, незнакомая Джинетта была высокой и стройной, немного сдержанной, особенно с ним, с Лори. Да, лицом и фигурой она похожа на мать, однако в ней нет той душевной теплоты, которая в молодости придавала лицу его незабвенной Сильвии такую живую и яркую красоту. Поэтому временами Джинетта казалась даже некрасивой. Она была такой же гордой и властной, как мать, но без искренних порывов Сильвии, без ее внезапных переходов от веселья к печали.
Теперь Верона, не слишком церемонясь, почти каждый день приходил к нему в дом, часто оставался к обеду или ужину. Он завершил наконец важные научные исследования, начатые профессором Бернардо Ашенси, и готовился напечатать их роскошным изданием. Многие газеты уже поместили первые сообщения об этой работе, а наиболее крупные итальянские и иностранные журналы оживленно обсуждали важнейшие ее выводы. Все говорило о том, что работу ждет триумф.
Наконец работа была опубликована, и все единодушно признали, что Верона, который продолжил исследования и сделал на основании первоначальной гипотезы ряд смелых выводов, внес в нее такой же большой вклад, как и сам профессор Ашенси. Имя покойного профессора было окружено теперь ореолом славы, но еще большую известность и славу приобрел Верона. Со всех сторон на него сыпались почести и поздравления; его назначили сенатором. Вначале, удалившийся от парламентских дел, Верона не соглашался. Но сейчас, когда назначение не было связано с политической карьерой, он охотно его принял.
В те дни Мартино Лори нередко думал, как радовалась бы сейчас Сильвия посмертной славе своего отца. Вечером, после работы, он отправлялся на могилу жены, и с каждым разом он просиживал там все дольше и дольше. Под конец он так привык к этим посещениям, что и зимой в непогоду приходил на могилу поухаживать за живой изгородью или сменить фитиль лампады. И каждый вечер он задумчиво и тихо беседовал с умершей. Эти ежедневные беседы на могиле навевали безотрадные мысли и оставляли глубокие следы на его худом, бледном лице.
Верона и Джинетта уговаривали его отказаться от этой привычки. Сначала Лори пытался все отрицать, точно ребенок, уличенный в нехорошем поступке. Потом, когда ему пришлось признаться, он, пожимая плечами, сказал со слабой улыбкой:
— Что ж тут плохого... Для меня это даже утешение. Не надо мне мешать...
Да и так рассудить. Ну, вернется он со службы прямо домой, кто его встретит? Каждый день Верона уводит Джинетту с собой. Нет, Лори не обижался на него, нет. Наоборот, он был очень благодарен другу, что тот старался всячески развлечь дочку. И хотя иногда Верона был довольно холоден к нему и Лори начал замечать мелкие недостатки в его характере — он не перестал восхищаться этим удивительным, незаурядным человеком. А его благодарность и преданность другу даже возросли. Ведь ни слава, ни высокое положение, ни удача не могли изменить сердечного, поистине братского отношения Вероны к нему, маленькому, незаметному человеку, который не знал за собой иных достоинств, кроме доброго сердца.
Лори с радостью убеждался: нет, он не ошибся, когда говорил жене, что привязанность Вероны к Джинетте принесет девочке только счастье. Лучшее доказательство своей правоты он получил, когда Джинетте исполнилось восемнадцать. Ах, как бы он хотел, чтобы Сильвия была в этот праздничный вечер вместе с ними! Верона нарочно пришел на день рождения без всякого подарка. Но едва только Джинетта легла спать, Верона отвел Лори в сторону. Волнуясь, он торжественно объявил, что один, его юный друг, маркиз Флавио Гуальди, просит руки Джинетты. Маркиз поручил ему, Вероне, поговорить об этом с отцом девушки.
Мартино Лори не мог прийти в себя от изумления. Маркиз Гуальди? Богач... знатного рода... просит руки его дочери? Конечно, бывая с Вероной на концертах, на лекциях, на прогулках, Джинетта могла войти в мир знати, который по ее происхождению и положению в обществе был ей прежде недоступен. Джинетта даже могла пользоваться там некоторым успехом, но он–то...
— Ты ведь знаешь, — сказал Лори другу, растерявшись и словно даже погрустнев от счастья, — каково мое положение... Я не хотел бы, чтоб маркиз Гуальди...
— Гуальди знает все... что ему нужно знать, — прервал его Верона.
— Понимаю. Однако разница в положении между нами слишком велика. Хоть у него и самые лучшие намерения, все ж мне не хотелось... чтобы маркиз так и не узнал о целом ряде вещей...
Здесь Верона снова с досадой прервал его:
— Я считал излишним напоминать тебе об этом. Но ты говоришь сейчас такие глупости, что для твоего же спокойствия я, так и быть, объясню тебе. ч Мы с тобой друзья уже много лет.
— Это я знаю.
— Джинетту воспитывал скорее я, чем ты... так что, можно сказать...
— Да... да...
— Чего же ты плачешь? Я не собираюсь быть посредником в этом браке. Да перестань же. Я ухожу. Завтра утром сам поговоришь обо всем с Джинеттой. Увидишь, тебе нетрудно будет ее убедить.
— Так она уже знает? — улыбаясь сквозь слезы, спросил Лори.
— А ты не заметил, что вечером она совсем не удивилась, когда я пришел с пустыми руками?
И Марко Верона засмеялся. Давно уже Лори не слышал, чтобы он смеялся так радостно и весело.
V
В доме зятя на Лори сначала точно повеяло холодом. Впрочем, он не придал этому никакого значения. По своей наивности и доброте он всему находил оправдание. Ведь социальное неравенство, известная разница в характерах и воспитании между ним и зятем не могли не чувствоваться.
Маркиз Гуальди был не так уж молод. Блондин, изрядно уже облысевший, с блестящим розовым лицом, он казался статуэткой из тончайшего, слегка подкрашенного фарфора. Маркиз говорил неторопливо, и, хотя был пьемонтцем, в его речи слышался французский акцент. Да, да, он разговаривал очень медленно, и в голосе его звучала снисходительная доброта, которая, однако, странным образом не гармонировала с жестким взглядом голубых, точно стеклянных, глаз.
Лори чувствовал, что зять смотрит на него если и не враждебно, то равнодушно. Ему даже показалось, будто во взгляде маркиза сквозит жалость и легкое презрение к нему, Лори, с его сначала слишком простыми, а теперь, по–видимому, чрезмерно осторожными манерами. Разницу в отношении маркиза Гуальди к нему и к Вероне с Джинеттой тоже можно было объяснить. Маркиз имел основания думать, что своей женитьбой на Джинетте он обязан Вероне, а не ему, родному отцу... Так оно, в сущности, и было, но Верона...
А вот перемену в друге Мартино Лори никак не мог себе объяснить.
Разве теперь, когда он, Лори, остался один в доме и в угоду зятю даже ушел на пенсию, Верона не должен отнестись к нему с еще большей сердечностью и заботливостью?
На виллу маркиза Гуальди повидаться с Джинеттой друг ходит каждый божий день, а к нему в дом после свадьбы не заглянул ни разу, даже невзначай. Может быть, ему надоело вечно видеть его в горе и отчаянье? Верона тоже уже не молод и, верно, предпочитает приятно проводить время в обществе Джинетты, которая благодаря ему нашла свое счастье.
Возможно, так оно и есть. Но почему же, когда он, Лори, приходит навестить дочку и находит там друга за интимной застольной беседой с зятем и Джинеттой, Верона встречает его холодно, с нескрываемой досадой? Быть может, это ощущение холодности создает необъятный, роскошно обставленный салон, весь в зеркалах? Да нет же, нет! Верона не просто отдалился от друга. Изменилось само его обращение. Он, не глядя, небрежно подает ему руку и как ни в чем не бывало продолжает свой разговор с Гуальди.
Казалось, еще немного, и ему не предложат сесть. Лишь Джинетта изредка говорила ему несколько ничего не значащих фраз. Видно было, что делает она это из чистой вежливости — надо же показать, что хоть кто–то им интересуется.
Чувствуя себя униженным, Мартино Лори в смятении уходил домой, и сердце его сжималось от невыразимой боли.
Неужели зять не должен оказывать ему хоть немного внимания и уважения? Выходит, только Верона, раз он богат и знаменит, имеет право на весь почет? Если так, если они все трое намерены каждый вечер встречать его как незваного и непрошеного гостя, он больше туда не пойдет. Нет, нет, ни за что не пойдет! Посмотрим, как они себя тогда почувствуют, эти трое синьоров. Между тем прошло два дня, четыре, пять, прошла целая неделя, однако ни Верона, ни зять, ни Джинетта так и не показывались. Никто, даже слуга, не пришел узнать, не случилось ли с ним чего, не болен ли он...
Взгляд Лори бесцельно блуждал по комнате; он беспрестанно потирал дрожащими пальцами лоб, точно стараясь освободиться от странного оцепенения. Лори не знал, что и думать; снова и снова, совсем растерявшись, перебирал он в памяти события прошлых лет...
Внезапно, без всякой видимой связи, в памяти встала картина далекого прошлого. Он живо вспомнил все, что было в ту, самую печальную и страшную, Ночь его жизни. В комнате горели четыре свечи, и Марко Верона, припав лицом к кровати, на которой лежало тело Сильвии, плакал...
Внезапно эти четыре свечи словно закачались и, вспыхнув, осветили ужасным мертвящим светом всю его жизнь с того дня, когда Сильвия впервые пришла к нему вместе с Марко Вероной.
У него подкосились ноги, и сразу комната словно поплыла куда–то. Он весь сгорбился, закрыл лицо руками:
— Неужели? Неужели?
Почти испугавшись своих мыслей, Лори посмотрел на портрет жены. Потом во взгляде его, с немым вопросом устремленном на портрет, сверкнула ярость. Сжав кулаки, с лицом, искаженным ненавистью, презрением и ужасом, он прошептал:
— Ты! Ты!
Она обманывала его больше всех, оттого, наверное, ее запоздалое раскаяние было искренним. Да, Сильвия раскаялась, но не Верона, нет; тот приходил к нему в дом как хозяин и... ну конечно же, подозревал, наверняка подозревал, что ему, Лори, известно все, но предпочитал делать вид, будто его это не касается...
При этой ужасной мысли Лори почувствовал, как спина у него точно разломилась надвое, à ногти непроизвольно впились в мякоть ладони. Он вскочил, но не удержался на ногах, сраженный новым приступом головокружения. Гнев и боль разом вылились в неудержимых, судорожных рыданиях.
Постепенно Лори успокоился; внутри у него была какая–то странная пустота, и он чувствовал себя совершенно обессиленным.
Понадобилось больше двадцати лет, чтобы он понял. Он так ничего бы и не понял, если б те трое своей холодностью и презрительным равнодушием не открыли ему глаза. Их отношение было убедительнее всяких слов.
Что же теперь делать? Что ему оставалось делать после стольких лет неведения! Теперь, когда со всем давно уже было покончено: без шума... аккуратненько, как принято у порядочных людей, которые умеют ловко выпутаться из любого дела. Разве ему не дали вежливо понять, что он уже отыграл все свои роли? Сначала он играл роль мужа, потом — отца. Хватит, пора и честь знать. Теперь он им больше не нужен — эта троица и без него отлично спелась...
Быть может, меньше всех лгала и притворялась та, которая раскаялась, сразу же после, своей непоправимой ошибки, но она мертва...
В тот вечер Мартино Лори по старинной привычке отправился на могилу жены. На полдороге он неожиданно остановился, в мрачной растерянности спрашивая себя: идти ли ему дальше или вернуться назад? Он подумал о цветах на могиле, за которыми он с такой любовью ухаживал уже Бог знает сколько лет. Скоро и он отдохнет на том же кладбище. Рядом с нею? Нет, нет, теперь уже нет! И все–таки, как плакала эта женщина, вернувшись в дом, какой заботой она окружила его... Конечно же, конечно, она раскаялась... Ее, только ее, он и может, пожалуй, простить.
И Мартино Лори снова пошел по дороге к кладбищу. В этот вечер ему многое надо было сказать умершей.
НЕЗАБВЕННЫЙ МОЙ (Перевод Л. Вершинина)
Еще в день помолвки Бартолино Фьеренцо услышал от своей будущей жены:
— Настоящее мое имя — Каролина. Но покойный муж звал меня просто Лина. Так это имя и осталось за мной.
Покойный, он же Козимо Таддеи, был ее первым мужем.
— Вот он. — Лина показала на портрет мужчины, который, приподняв шляпу, приветливо и непринужденно улыбался. Портрет покойного мужа Лины (сильно увеличенное моментальное фото) висел на стене, и Бартолино, сидевший на оттоманке, как раз напротив, непроизвольно наклонил голову, как бы отвечая на его приветствие.
Лине Сарулли, с недавних пор вдове Таддеи, даже в голову не пришло убрать из гостиной этот портрет, портрет хозяина дома. Ведь раньше дом принадлежал покойному мужу; это он, инженер Козимо Таддеи, сам спроектировал его и обставил с таким вкусом и изяществом, а умирая, завещал со всей обстановкой ей, Лине.
Не замечая растерянности своего нареченного, синьора Сарулли продолжала рассказывать:
— Я не хотела менять имя. Но мой незабвенный муж сказал мне: «Право же, лучше если я буду звать тебя не Каролина, а Кара Лина[6]». Звучит почти одинаково, зато сколько нежности. Ну как, не плохо?
— Отлично, да, да, отлично! — ответил Бартолино, словно покойный муж именно у него спрашивал совета.
— Значит, кара Лина, договорились? — с улыбкой заключила Сарулли.
— Договорились... да, да... договорились, — сгорая от стыда и растерянности, бормотал Бартолино. Ему казалось, что покойный муж насмешливо улыбается ему со стены.
Когда три месяца спустя супруги Фьеренцо уезжали в свадебное путешествие в Рим, на вокзале собрались многочисленные друзья и родственники.
— Бедный мальчик, какая она ему жена?! По–моему, роль мужа ей куда больше подходит!.. — объясняла своему супругу Ортензия Мотта, давняя приятельница семьи Фьеренцо и близкая подруга Лины Сарулли.
Не думайте, однако, что Ортензия Мотта хотела этим сказать, будто Лина Сарулли, в первом браке Лина Таддеи, ныне Лина Фьеренцо, больше походила на мужчину, чем на женщину. Эта Каролина была даже слишком женственна. Одно только несомненно. Она куда опытнее Бартолино. Ах, какой он все–таки чудной, этот Бартолино — толстенький, лысый, румяный, а лицо точно у любопытного мальчугана. Да и лысина у него какая–то странная; словно он нарочно выбрил макушку, чтобы, не выглядеть таким мальчиком. Но это ему не помогло, бедняге.
— Как бедняга! Почему бедняга?! — недовольно промяукал в нос старый Мотта, муж молоденькой Ортензии. Он, можно сказать, самолично устроил брак Бартолино, и ему неприятно было слышать причитания жены. — Бартолино не какой–нибудь глупец или бездарность, он очень толковый химик.
— О да, просто первоклассный! — усмехнулась Ортензия.
— Первокласснейший! — отпарировал ее супруг. — Фьеренцо выдающийся химик, и если бы он пожелал напечатать и послать на конкурс свои глубокие, оригинальные исследования, то наверняка был бы избран профессором любого из лучших наших университетов. До сих пор химия была его единственной страстью. Он настоящий ученый. И мужем Бартолино будет тоже примерным — ведь он невинен и чист сердцем!
— Тут уж ты, конечно, прав... — согласилась Ортензия, как бы желая сказать: «Уж что–что, а невинен он действительно сверх меры».
Прежде, еще до того как Бартолино обручился с Линой Сарулли, всякий раз, когда муж заводил разговор с дядей Фьеренцо, синьором Ансельмо, о том, что надо «оженить» этого большого ребенка, Ортензия начинала громко и язвительно хохотать.
— Да, да, женить, его непременно надо женить! — оборотившись к ней, рассерженно говорил старый Мотта.
— Жените его на здоровье, мои дорогие! — отвечала она, разом успокаиваясь. — Я и смеюсь–то совсем не над тем — просто мне попалась веселая книга.
И верно, пока супруг играл очередную партию в шахматы с синьором Ансельмо, Ортензия Мотта читала какой–нибудь французский роман старой, разбитой параличом госпоже Фьеренцо, уже с полгода прикованной к креслу.
Что и говорить, веселые это были вечера! Бартолино сиднем сидел в своем кабинете, его старая больная мать, не понимая ни единой строчки, делала вид, будто слушает чтение, а в углу оба старика были поглощены игрой в шахматы. Просто необходимо было «оженить» Бартолино, тогда в доме станет хоть немного веселее. Вот они его и «оженили», бедного мальчика!
Ортензия думала сейчас о свадебном путешествии супругов Фьеренцо и молча улыбалась, живо представив себе Лину наедине с этим полысевшим, неопытным мальчиком, чистым сердцем, как говорил ее супруг. Ведь Лина целых четыре года прожила с инженером Таддеи, таким веселым, жизнерадостным. Вот кто действительно был опытен и смел... пожалуй, даже слишком смел.
Быть может, Лина уже успела заметить разницу между первым и вторым мужем...
Перед отходом поезда Ансельмо сказал своей новой родственнице: «Поручаю тебе Бартолино...» «Покажи ему... Рим», — хотел добавить дядюшка.. Ведь Бартолино никогда там не был.
Лина же отлично знала этот город еще по первому своему свадебному путешествию с покойным мужем. Ей до мельчайших подробностей, запомнилась та, первая, поездка. Она не забыла ни одной, даже самой пустяковой подробности, точно это произошло не шесть лет, а шесть месяцев тому назад.
Нынешнее путешествие с Бартолино показалось ей целой вечностью: занавесок и тех он не догадался задернуть! Едва только поезд прибыл в Рим, Лина сказала мужу:
— Теперь предоставь все мне, прошу тебя! Вошел носильщик.
— Три чемодана, две картонки, нет, три картонки, саквояж, еще один саквояж, вон ту сумку и эту тоже. Ничего не забыли? Нет? В отель «Виктория», — приказывала она.
Выйдя на площадь, Лина сразу же узнала знакомого кучера и кивнула ему. Когда они уселись в омнибус, Лина сказала мужу:
— Увидишь, гостиница хоть и не роскошная, но очень удобная, цены умеренные, обслуживают там хорошо и даже центральное отопление есть.
Покойный муж, — Лина все время невольно вспоминала его, — остался очень доволен этой гостиницей. И Бартолино там будет совсем неплохо. Ах, бедняжка, он еле дышит.
— Растерялся, да? — участливо спросила Лина, — В первый раз и я тоже растерялась... Вот увидишь, Рим тебе понравится. Смотри, смотри, вон Пьяцца делле Терме... Термы Диоклетиана...[7] церковь Санта–Мария дельи Анджели, а вот это... да повернись же скорее, виа Национале... Потом мы придем сюда погулять...
В гостинице Лина сразу почувствовала себя как дома. Ей очень хотелось, чтобы кто–нибудь узнал ее, а уж она–то знала здесь почти всю прислугу. Вот этого старого коридорного, например, зовут... Пиппо... не так ли? Ну конечно, прошло шесть лет, а она его не забыла.
— Какой нам дали номер? — спросила Лина.
— Двенадцатый, на втором этаже. Просторный, красивый, с удобным альковом.
Но Лина спросила у старого коридорного:
— А как насчет девятнадцатого номера на третьем этаже? Узнайте, Пиппо, не свободен ли он?
— Сию минуту, — с поклоном ответил коридорный.
— Он гораздо удобнее, — объяснила Лина мужу. — Возле спальни там есть еще крохотный миленький закуток... Да и не так шумно, и воздуху больше. Нам там будет куда лучше... Вот и с Покойным мужем случилось то же самое... Сначала нам дали номер на втором этаже, но потом муж сменил его.
Вскоре вернулся коридорный и сказал, что девятнадцатый номер свободен и господа могут занять его, если желают.
— Конечно! Конечно! — поспешно ответила Лина, восторженно хлопая в ладоши.
Едва войдя в номер, она с радостью убедилась, что там все осталось по–прежнему: те же обои на стенах, так же расставлена мебель... Бартолино оставался равнодушным и не разделял восторгов жены.
— Тебе не нравится здесь? — спросила Лина, развязывая шляпку перед зеркалом.
— Нет... тут хорошо, — пробормотал Бартолино.
— Взгляни–ка! Вот этой картинки, я ее вижу в зеркале, здесь раньше не было. На ее месте висела японская тарелочка. Наверно, она разбилась. Ну, говори же, тебе не нравится этот номер? Нет, нет! Никаких поцелуев... Сначала умойся. Умывальник вот здесь, а я пойду в свой закуток... Прощай! — И она упорхнула, счастливая и радостная.
Бартолино Фьеренцо смущенно огляделся. Потом подошел к алькову, поднял занавеску и увидел широкую постель. Должно быть, как раз на ней его жена и провела первую ночь с инженером Таддеи.
Бартолино отчетливо представил себе портрет Козимо, висевший в гостиной, и ему показалось, что покойный муж снова улыбается ему.
Все то время, пока они жили в Риме, Лина не только ложилась в эту постель, но обедала и ужинала в тех же ресторанах, куда прежде ее водил покойный муж. Лина безошибочно, точно собачка, находила те самые улицы, где раньше она гуляла с Козимо. Они осматривали те же развалины, музеи, церкви, галереи, сады, которые покойный муж показывал жене.
Первые дни Бартолино совсем потерялся. Он не? решался открыть жене, что это полное подчинение вкусам, советам, опыту покойного мужа все сильнее угнетает и унижает его.
Но Лина поступала так без всякого злого умысла. Она ничего не замечала, да и не могла заметить.
В восемнадцать лет ее, неопытную, не знавшую жизни девушку, взял к себе в дом Козимо Таддеи. Он воспитал ее, привил ей свои взгляды и привычки. Словом, Лина была его творением, всем, буквально всем, она была обязана своему первому мужу. И теперь она на все смотрела его глазами, говорила и рассуждала в точности, как незабвенный Козимо Таддеи.
Так почему же она снова вышла замуж? Да потому, что Козимо успел внушить ей ту простую истину, что слезами горю не поможешь. Мертвые не воскресают, и жизнь берет свое. Если б умерла она, Козимо наверняка женился бы во второй раз, а поэтому…
Поэтому Бартолино должен поступать так же, как она, то есть, как сам Козимо Таддеи, — в сущности, их общий учитель и наставник. Не надо ни о чем думать, не надо огорчаться. Пока не поздно, нужно смеяться и веселиться. Нет, Лина вела себя именно так без всякого злого умысла.
Все это понятно, но неужели... он ни разу не может поцеловать или приласкать ее иначе, чем тот, другой? Неужели сам он не в состоянии вызвать в ней какие–то другие чувства, хоть на миг вырвать ее из–под незримой власти мертвеца?
Бартолино Фьеренцо лихорадочно старался придумать, как бы понежнее. по–своему приласкать жену. Однако ему мешала робость.
Вернее, про себя он многое придумал. Но стоило только жене, взглянув на его внезапно покрасневшее лицо, спросить: «Что с тобой?» — как его покидало всякое мужество.
— Со мной? — переспрашивал он с самым глупым видом.
Когда они вернулись из свадебного путешествия, их ждала печальная весть: Мотта, главный виновник их брака, скоропостижно скончался.
В свое время, когда умер Таддеи, Ортензия ухаживала за Линой, как за родной сестрой, и теперь Лина не замедлила прийти на помощь подруге.
Впрочем, Лина не думала, что утешить ее будет таким уж трудным делом. Откровенно говоря, Ортензия не должна особенно отчаиваться. Конечно, бедный Мотта был хоть и сухарь, но хороший человек. Но ведь он был гораздо старше ее.
Вот почему, когда Лина нашла свою подругу в столь безутешном горе через целых десять дней после несчастья, она долго не могла прийти в себя от изумления. «Наверно, у нее теперь, после смерти мужа, неважно с деньгами», — решила Лина. И она осторожно осведомилась у подруги, не надо ли ей помочь.
— Нет, нет! — поспешно отказалась Ортензия, вся в слезах. —
Но... понимаешь...
Значит, Ортензия всерьез горевала о муже. Этого Лина никак не могла понять. И она решила поделиться своими сомнениями с Бартолино.
— Ах! — пожимая плечами, воскликнул Бартолино. Он покраснел как. рак от стыда, что его разумная и рассудительная жена не может понять такой простой вещи. — Все–таки... у нее умер муж...
— А! Муж! — воскликнула Лина. — Да он ей в отцы годился!
— А разве этого мало?
— Так он Ортензии и отцом–то не был!
Лина была права. Ортензия слишком много плакала.
Хотя со дня женитьбы Бартолино прошло только три месяца, Ортензия успела заметить, что бедного мальчика очень смущает тот восторг, е каким его молодая жена рассказывает о первом муже. Бартолино всегда удивляло, что Лина непрерывно, ежечасно, точно о живом, вспоминает о покойном муже и в то же время решилась вторично выйти замуж. Дома он поделился своими сомнениями с дядюшкой Ансельмо. Однако тот постарался разубедить племянника. Он доказывал ему, что это говорит лишь об искренности бедняжки и Бартолино не следует на нее обижаться. Ведь раз Лина решила снова выйти замуж, значит, она хотя и не забыла о Козимо Таддеи, но и не хранит память о нем глубоко в сердце. Поэтому она и может безбоязненно говорить о покойном муже с ним, Бартолино. Рассуждения дяди не очень–то убедили Бартолино, и Ортензия это отлично знала. Она могла даже с уверенностью предположить, что после свадебного путешествия странная искренность жены обеспокоила его еще сильнее. И когда супруги Фьеренцо пришли выразить ей свое соболезнование, Ортензия решила показать Бартолино, что она безутешна.
Горе вдовы Мотта произвело на Бартолино такое сильное впечатление, что он впервые решился возразить жене, не желавшей верить в искренность ее страданий.
— А ты разве не плакала, когда умер твой... — с пылающим лицом сказал он жене.
— При чем здесь я! — прервала его Лина. — Во–первых, покойный муж был...
— Еще совсем молодым, — поспешно докончил Бартолино за жену.
— И потом я плакала, — продолжала Лина, — право же, плакала.
— Не очень сильно? — рискнул спросить Бартолино.
— Очень, очень... Но под конец я взялась за ум. Верь мне, Бартолино, слишком уж она убивается.
Однако Бартолино не хотел этому верить: слова жены вызывали в нем лишь еще большее раздражение, но не столько против самой Лины, сколько против покойного Козимо Таддеи. Теперь Бартолино ясно понял, что первый муж внушил ей и свои суждения, и свои взгляды на жизнь. Собственных суждений у нее не было. «Этот человек был, верно, большим циником», — думал Бартолино. Разве покойный муж не подмигивал ему каждый раз, когда он входил в гостиную?
Ах, видеть этот портрет стало для Бартолино невыносимой пыткой; он все время торчал у него перед глазами. Стоило Бартолино войти в кабинет — и вот уже вездесущий Козимо Таддеи улыбается и приветствует его и здесь, как бы говоря: «Входите! Входите, не стесняйтесь! Раньше тут был мой кабинет. Вам это известно? Теперь вы оборудовали здесь свою химическую лабораторию. Не так ли? Не плохая работка! Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое».
Стоило ему войти в спальню — Козимо Таддеи и тут не оставлял его. Хихикая, он приветствовал своего преемника: «Добро пожаловать! Будьте как дома! Покойной ночи! Ну как, довольны вы моей женой? А... я ее недурно обучил... Что ж, мертвые не воскресают, а жизнь берет свое».
Нет, Бартолино не мог больше этого переносить! И в жене, и в самом доме — все, буквально все напоминало ему об этом человеке. Прежде такой спокойный, Бартолино стал теперь нервным, возбужденным, хотя и пытался всячески это скрыть. В конце концов, чтобы заставить жену изменить своим привычкам, он начал вести себя самым странным образом.
Но на его несчастье, все эти привычки Лина приобрела, уже став вдовой. Козимо Таддеи был человеком самого веселого нрава, никаких привычек он не имел, да и не желал иметь. Поэтому при первых же своих чудачествах Бартолино услышал от жены:
— О Бартолино, да ты стал таким же, как покойный муж!
И все–таки Бартолино не хотел признать себя побежденным. Наперекор желанию, почти насильно, он изобретал все новые и новые чудачества. Но что бы он ни делал, Лине казалось, будто тот, другой, поступал точно так же.
Бартолино совсем пал духом, тем более что Лине начали даже нравиться его выходки. Ей казалось, наверно, что теперь она снова живет с покойным мужем.
И тогда, желая дать выход растущему с каждым днем раздражению, он решил насолить жене.
Вообще–то Бартолино мечтал отомстить не столько жене, сколько Козимо, который сумел подчинить ее себе, всю целиком, и до сих пор держит в своей власти. Бартолино воображал, что мысль об измене пришла ему внезапно. На самом же деле она была ему незаметно внушена и подсказана Ортензией, которая, когда Бартолино был еще холостяком, безуспешно пыталась всяческими уловками оторвать его от чрезмерных занятий химией.
Наконец–то Ортензия Мотта смогла взять реванш. Сделав вид, будто ей очень неприятно обманывать подругу, Ортензия тем не менее намекнула Бартолино, что, когда он еще не был женат, она... Словом, все случившееся было неизбежным.
Бартолино не очень понял, почему это было неизбежным. Его, как наивного человека, разочаровала, почти оскорбила та легкость, с какой он добился своей цели.
Он сидел один в комнате старого добряка Мотта и мучился угрызениями совести. Случайно его взгляд упал на какой–то блестящий предмет, лежавший на коврике возле кровати. Вглядевшись, он увидел, что это был золотой медальон с цепочкой. Должно быть, Ортензия уронила его, когда вставала с постели. Бартолино поднял медальон и стал ждать. Нервно теребя медальон в руках, он нечаянно открыл крышку... Открыл и остолбенел. Внутри он увидел миниатюрный портрет Козимо Таддеи.
Покойный муж смотрел на него и приветливо улыбался.
РАССЕЯННОСТЬ (Перевод Л. Вершинина)
Похоронные дроги, черные в ослепительном сиянии удушливо–знойного, пыльного августовского дня, остановились у подъезда дома, на одной из новых улиц Рима, в квартале Прати ди Кастелло.
Было часа три пополудни.
Все эти новые дома, по большей части незаселенные, казалось, глядели на похоронные дроги темными проемами своих некрашеных окон.
Построенные совсем недавно для того, чтобы в них закипела жизнь, дома эти слишком скоро увидели смерть, которая притащилась сюда за своей очередной жертвой.
Сначала смерть, потом жизнь.
И подъехали эти дроги медленно–медленно, совсем тихонько. Разомлевший от жары кучер в потертом, надвинутом на самый нос цилиндре остановился у первого же попавшегося подъезда, который, как ему показалось, был наглухо закрыт в знак траура, бросил вожжи, закрепил тормоз и разлегся поудобнее на козлах, готовясь соснуть. Одна нога его свисала прямо на переднее крыло экипажа.
Отодвинув засаленную и выцветшую тиковую занавеску, из дверей единственной на всей улице лавки показался полный мужчина с налитым кровью потным лицом и обнаженной грудью, из–под засученных рукавов рубахи виднелись волосатые руки.
— Эй! — окликнул он кучера. — Подай–ка вперед...
Кучер наклонил голову, чтобы получше разглядеть его из–под надвинутого на нос цилиндра, повернул рукоятку мартиникки[8]; хлестнул лошадей и молча проехал мимо бакалейной лавки.
Не все ли ему равно, вперед или назад?
Подъехав к закрытому подъезду соседнего дома, он остановился и снова заснул.
— Осел! — пробормотал лавочник, пожимая плечами. — Не соображает, что в такую жару все подъезды закрыты. Должно быть, впервые занимается этим делом.
Так оно и было. К тому же новая профессия ужасно не нравилась Скалабрино. До этого он уже успел поработать швейцаром и разругаться сначала со всеми жильцами, а потом и с владельцем дома; был он пономарем в Сан–Рокко, где повздорил с приходским священником, и, наконец, кучером наемного фиакра. Три. дня назад он поссорился с владельцами конюшни, и ему пришлось искать новое место. И вот теперь, в этот мертвый сезон, не найдя ничего лучшего, он нанялся кучером в похоронное бюро. Скалабрино знал наверняка, что и здесь переругается со всеми, потому что терпеть не может несправедливости. И потом он — неудачник. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на него: голова, втянутая в плечи, круглые глазищи, желтое, как воск, лицо и красный нос. Главное, это красный нос! Почему–то все принимают его за пьяницу, а он даже и вкуса вина не знает!
— Эх!
Он по горло сыт такой жизнью. Рано или поздно он в последний раз как следует поссорится с рекой, а потом — всему конец.
А пока, под палящим солнцем, снедаемый скукой и мухами, Скалабрино дожидался своего первого пассажира. Мертвеца. Но, надо же! вынесли его через добрых полчаса, да еще из другого подъезда, с противоположной стороны улицы.
— Ах ты дохлятина, — сквозь зубы ругнул он мертвеца, разворачивая дроги, в то время как носильщики, изнемогавшие под тяжестью убогого гроба, покрытого черной кисеей с белой каемкой, злобно чертыхались.
— Ах ты дохлятина (это уж они ему, Скалабрино)... Черт бы тебя побрал! Тебе что, номер дома не сказали?
Скалабрино молча развернул дроги, подождал, пока носильщики открыли дверцу и установили свою ношу.
— Трогай!
И он тронулся медленно, неторопливо, как и приехал сюда; нога его по–прежнему покоилась на переднем крыле, цилиндр был надвинут на самый нос.
Жалкие похоронные дроги. Ни траурных лент, ни цветов.
Сзади одна–единственная провожатая.
На ней было темное муслиновое платье, расшитое желтыми цветочками, лицо закрывала черная вуаль; она шла, держа на плече раскрытый зонтик, ярко сверкавший под солнцем.
Провожает покойника в последний путь, а сама прикрывается от солнца зонтиком. И голову опустила скорее от стыда, чем от горя.
— Приятной прогулки, Рози! — крикнул ей вслед лавочник в расстегнутой на груди рубахе, показавшийся снова из дверей лавки. И, наклонив голову, глупо рассмеялся.
Розина повернулась и посмотрела на него сквозь вуаль; она подняла руку в маленькой нитяной перчатке и приветливо помахала ему, потом опустила руку, чтобы поправить платье, отчего приоткрылись ее туфли без каблуков.
А все–таки она надела нитяные перчатки и зонтик захватить не забыла.
— Бедного сора[9] Бернарди, словно собаку, хоронят, — раздался чей–то громкий голос из раскрытого окна.
Лавочник посмотрел вверх и снова опустил голову.
— Профессор, а сзади одна паршивая служанка... — донесся из другого окна голос какой–то старухи.
Среди пустынной, залитой солнцем улицы эти голоса, долетавшие сверху, звучали как–то странно.
Прежде чем свернуть за угол, Скалабрино предложил, Розине нанять извозчика: так ведь будет быстрее — тем более что, кроме нее ни одна живая душа не пришла на похороны.
— Под таким солнцем... в такое время... — Розина отрицательно покачала головой. Она дала обет пешком проводить хозяина до угла виа Сан–Лоренцо.
— Да что он тебя видит, твой хозяин?
Но та ни в какую/ Обет. Извозчика она если и наймет, то позже, по дороге в Кампо Верано.
— А если я сам заплачу извозчику? — настаивал Скалабрино.
— Ни за что. Обет.
Скалабрино еще раз чертыхнулся из–под цилиндра и медленно поехал дальше, сначала через мост Кавура, потом по виа Томачелли, виа Кондотти и дальше через пьяцца ди Спанья, виа Дуе Мачелли, Капо Ле Казе и виа Систина.
До сих пор он кое–как боролся со сном; надо было объезжать другие экипажи, трамваи, автомобили. Ведь он понимал, что никто не уступит дороги из уважения к такой жалкой похоронной процессии.
Но когда Скалабрино по–прежнему шагом проехал через пьяцца Барберини и поднялся по виа Сан–Никколо да Толентино, он снова спустил ногу на крыло переднего колеса, надвинул цилиндр на самый нос. И опять заснул.
Ведь лошади сами знали дорогу.
Редкие прохожие останавливались и смотрели на него со смешанным чувством удивления и гнева. Сон кучера на облучке и сон мертвеца в гробу, сон в холоде и темноте и сон под палящими лучами солнца; и потом эта единственная провожатая позади, с ярким зонтиком и под вуалью; словом, весь вид у похоронной процессии, неслышно и одиноко тащившейся в эту нестерпимую жару, был такой, что просто тошно становилось.
Нет, приличные люди не так отправляются на тот свет. Даже день, час, время года — и те были выбраны неудачно. Казалось, покойник не отнесся к своей смерти с подобающей серьезностью. Это раздражало прохожих. «Подумать, так кучер, может, и прав, что спит себе преспокойно».
И Скалабрино продолжал спать до самой виа Сан–Лоренцо! Но лошади, одолев подъем и свернув на виа Вольтурно, вздумали слегка ускорить шаг, и тут Скалабрино проснулся.
В то же мгновение он увидел слева на тротуаре худого бородатого мужчину в больших черных очках и мышиного цвета костюме и почувствовал, как в лицо ему, сбив цилиндр, угодил здоровенный сверток.
Прежде чем Скалабрино успел прийти в себя, мужчина бросился наперерез лошадям, остановил их и, угрожающе размахивая, руками, словно собираясь швырнуть ими в обидчика (увы, ничего другого поблизости не оказалось), истошно завопил:
— Это мне? Мне? Ах ты негодяй! Каналья! Бандит! Отцу семейства? Отцу восьмерых детей! Бандит! Мошенник!
Все прохожие, лавочники, покупатели мигом столпились около дрог; жильцы соседних домов высунулись из окон, на шум с окрестных улиц сбежались любопытные; не понимая, что происходит, они растерянно перебегали от одного к другому, становились на цыпочки. — Что тут случилось?
— Хм... похоже, что... говорят, что... не знаю!
— Там мертвый, да? Где?
— Да на дрогах же!
— Хм!.. Кто умер?
— С него возьмут штраф!
— С мертвеца?
— С кучера...
— А за что?
— Хм! Похоже, что... говорят, что...
Между тем тощий господин в мышином костюме продолжал возмущаться около витрины кафе, куда его оттащили; он требовал, чтобы ему вернули сверток, которым он запустил в кучера. Однако никто не мог пока понять, зачем такой почтенный синьор бросил этот сверток. На дрогах помертвевший от страха Скалабрино, щуря близорукие глаза, поправлял помятый цилиндр и давал объяснения полицейскому, который среди всеобщего шума и толкотни что–то записывал.
Наконец дроги тронулись, и шумящая толпа расступилась, чтобы дать им дорогу. Но когда снова засеменила за дрогами единственная провожатая с опущенной на лицо черной вуалью и с ярким зонтиком в руках, все умолкли. Лишь какой–то сорванец–мальчишка громко свистнул.
Что же все–таки произошло?
Да ничего. Просто небольшая рассеянность. Еще три дня назад Скалабрино был извозчиком; и вот когда он, разомлевший от солнца, внезапно проснулся, то забыл, что едет на похоронных дрогах. Ему показалось, что он по–прежнему сидит на козлах фиакра.. Привыкнув за много лет приглашать прохожих воспользоваться его услугами и увидев, что какой–то господин в мышиного цвета костюме стоит на тротуаре и смотрит на него, Скалабрино подал ему знак, предлагая прокатиться. И вот из–за подобного пустяка этот господин поднял такой шум и крик...
КУРБЕТ (Перевод Н. Трауберг)
Когда конюх вышел, ругаясь крепче обыкновенного, Фофо повернулся к Неро, новому своему товарищу, и тяжело вздохнул.
— Ясно! Чепраки, подпруги и плюмажи. Для начала неплохо, друг мой. Сегодня — по первому разряду.
Неро отвернулся. Он не позволил себе фыркнуть, потому что был хорошо воспитан. Но совсем ни к чему откровенничать с этим Фофо.
Раньше он жил в княжеской конюшне, и стены там были как зеркало. И кормушки из букового дерева в каждом стойле, и мягкие, обитые кожей перегородки, и медные колокольчики, и колышки с блестящими шишечками.
Да...
Молодой князь очень увлекался этими повозками, которые так грохочут, пускают сзади дым и — простите — воняют. Мало ему, что уже три раза он чуть не свернул себе шею. Когда скоропостижно скончалась старая княгиня (она, надо сказать, об этих проклятых штуках и слышать не хотела), князь поспешил отделаться и от него и от Корбино — только они двое еще оставались в конюшне и возили спокойное ландо его матери.
Бедный Корбино! Бог знает куда он попал после стольких лет беспорочной службы.
Дядя Джузеппе, старый конюх, обещал им похлопотать. Вот пойдет он со всеми слугами прощаться с покойной хозяйкой и похлопочет.
Куда там! Когда он вернулся и погладил им холку и круп, оба сразу поняли, что дело плохо. Их продадут. Так и вышло.
Неро еще не понял, куда его поместили. Нельзя сказать, что тут так уж плохо. Это, конечно, не княжеская конюшня. Но и здесь жить можно. Лошадей штук двадцать, а то и больше, вороные все, правда, не первой молодости, но выглядят недурно, степенные такие, важные. Пожалуй, даже чересчур важные.
Вряд ли они толком знают, для чего их тут держат. Скорее они все время об этом думают и никак не додумаются. Так медленно помахивают густыми хвостами, так мерно бьют копытами... Размышляют... Да, несомненно, они лошади серьезные.
Вот только этот Фофо уверен, что все знает. Глупое, самодовольное животное.
Он три года служил в полку, но его оттуда прогнали, потому что, по его словам, один грубиян, егерь из Абруццо, помял ему круп. И теперь он только и делал, что говорил.
Неро сильно тосковал по старому своему другу и не мог выдержать всей этой болтовни. Особенно его коробило от такой фамильярности; и потом еще — постоянное злословие, вечные издевки над товарищами по конюшне. Ну и язычок!
Ни одного из двадцати не пощадил. Этот такой, тот сякой.
— Хвост! Да уж, хвост, нечего сказать! Ну кто так машет хвостом? А спесь–то, спесь какая!
— На таких клячах только доктора ездят, вот что я скажу.
— Погляди–ка на того калабрийского скакуна! Вон, ушами трясет. А уши–то как у свиньи! Вот так челка! Вот так уздечка! Прямо кровный рысак!
— Иногда, бывает, он забудет, что его давно оскопили, и ну любезничать вон с той кобылой, направо — видишь, в третьем стойле от нас? Хороша! Голова болтается, а брюхо до самой земли.
— Кобыла, как же! Корова это, а не кобыла! Посмотрел бы ты, как она ходит манежным шагом. Будто по горячему идет. А ведь порой и в мыле бывает, дружище! Ах, молодость, молодость! Совсем еще зеленая, можешь себе представить!
Напрасно старался Неро показать этому Фофо, что не желает его слушать. Тот разошелся вовсю.
А все назло!
— Знаешь, где мы находимся? В экспортной конторе. Они разные бывают. Наша занимается похоронными процессиями.
А знаешь, что такое «похоронная процессия»? Это когда тащат черную повозку, смешную такую, высокую, на ней балдахин на четырех колышках, разукрашен весь и в позолоте. Только все это зря. Ни к чему это все, потому что — вот увидишь — там внутри никого нет.
А кучер, серьезный такой, на козлах сидит.
Тащим мы ее медленно, все время медленно, шагом. Тут не вспотеешь, не натрешь себе шею, и нечего бояться, что огреют кнутом или еще чем–нибудь.
Тихо так идешь, тихо–тихо.
Спешить некуда.
И вот что я понял: эта самая повозка в большом почете у людей.
Никто не смеет в нее влезть, это я тебе говорил. А как остановится она перед домом, тут же собирается народ, все печальные такие, и ходят кругом со свечками. А потом, как мы только двинемся, все за нами, и медленно так идут.
Часто перед нами даже идет оркестр. Да, мой друг, настоящий оркестр, и музыка играет. И вот что я еще скажу: у тебя есть серьезный недостаток. Ты много фыркаешь и вертишь головой. Так вот, ты это брось. Если ты фыркаешь просто так, подумай, что будет, когда заиграет музыка!
Работа наша спокойная, ничего не скажешь. Только у нас выдержка нужна, степенность. Тут уж не пофыркаешь, не повертишься. Радуйся, если дадут хвостом помахать.
Потому что наша повозка, говорю тебе, в большом почете. Вот увидишь — когда она проезжает, все снимают шляпы.
А знаешь, как я догадался, что тут у нас экспортная контора? Вот как.
Года два тому назад привез я одну нашу повозку — такую, знаешь, с балдахином — к высокой решетке, куда мы всегда возим.
Вот увидишь, какая это решетка! Там за ней черные деревья, остроконечные, в два ряда — конца не видно, и лужайки есть, трава там вкусная, сочная. Тоже зря пропадает. Не дотянуться через решетку–то.
Ну ладно. Стою это я там, и подходит ко мне старый полковой товарищ. И тащит он, представь себе, длинную железную повозку, низкую такую и без рессор.
— Видишь? — говорит. — Ох, Фофо, сил никаких нет!
— Что это ты делаешь? — спрашиваю. А он:
— Да вот ящики вожу, целый божий день, из экспортной конторы на таможню.
— Ящики... — говорю. — Какие ящики?
— Тяжелые! — отвечает. — Ох, и тяжелые! В них товары на экспорт.
Тут–то я все и понял.
Потому что, надо тебе сказать, мы тоже везем длиннющий ящик. Ставят его в нашу повозку сзади, очень тихо (у нас все так, потихоньку), И пока его ставят, люди кругом снимают шляпы и смотрят на него так печально. Бог его знает зачем! А я одно знаю: наверное, уж не дрянь какая–нибудь. Очень пышно их везут, и народу много идет.
Иногда бывает, останавливаемся мы у большого здания. Я так думаю, это и есть наша таможня. Из подъезда выходят какие–то люди в черных длинных юбках и в рубашках навыпуск (скорее всего таможенные чиновники). Ящик вынимают из повозки. Опять все кругом шляпы снимают. А эти чиновники делают что–то над ящиком, наверное, дают разрешение на вывоз.
Куда они эти ценные товары отправляют — я еще не додумался. Только, мне кажется, они и сами толком не знают. Тогда не так обидно.
Правда, ящики так разукрашены, и все так богато... можно подумать — что–нибудь они да знают. Только очень уж у них растерянный вид. Я людей хорошо изучил, не первый год с ними, и вот что я тебе скажу: много чего люди делают, и сами не. знают зачем.
Фофо был прав, когда еще утром определил по ругани старшего конюха, что предстоит им в этот день. Да, чепраки, подпруги и плюмажи. Запрягают цугом. Несомненно по первому разряду.
— Видишь? Говорил я тебе?
Неро шел рядом с Фофо. И, конечно, тот изводил его постоянной своей воркотней.
Но Фофо и сам страдал от несправедливости конюха. Когда запрягают цугом, всегда он коренником, хоть бы раз пристяжным запрягли!
— Вот, собака! Потому что, сам понимаешь, эти две только для виду. Разве они везут? Ни черта они не везут. Это мы везем. Еле тащатся! Прогулку себе устроили! Расфуфырились! Тоже, нашел кого нам предпочесть! Узнаешь ты их?
Это были те две вороные, которых Фофо обозвал «калабрийским скакуном» и «докторской клячей».
— Калабриец–то проклятый! Да уж, тебе повезло!.. Еще натерпишься! Вон уши болтаются, как у свиньи. И сам он свинья! Еще скажешь спасибо нашему конюху! Знаешь, он ему всегда насыпает двойную порцию овса. Да, если хочешь добиться успеха в этом мире, главное — не фыркать. Что, уже начинаешь? Голову держи ровно! Ну, если сегодня будешь ты вертеться, рот себе разотрешь в кровь, я тебе говорю... Теперь речи пошли. Вон какое веселье! Одна речь... другая речь... третья речь... Помню, тоже по первому разряду, целых пять речей говорили. Так и с ума сойти недолго. Стой три часа на одном месте во всех этих финтифлюшках, — дышать нечем, ноги пухнут, хвост тебе защемили, уши в дырки просунуты. Да, хорошего мало. А тут еще мухи под хвостом кусают. Интересно, что это за штука «речи»? Я думаю, тут вот в чем дело... Эти перевозки по первому разряду, наверное, очень важные. И, надо полагать, они вот такими речами все разъясняют. Одной мало — говорят вторую. Двух не хватит — говорят третью. Бывает, и до пяти дойдут, я тебе уже рассказывал. До того меня довели в тот раз, поверишь ли, так бы и раскидал их копытами во все стороны, а потом по земле катался, как сумасшедший. Может, и сегодня будет такое. Вон как все пышно! Видел, даже кучер и тот весь разукрашенный! И народу сколько, и факельщики тут... Скажи, а ты не робкого десятка?
— Как это?..
— Ну, легко тебя напугать? Потому что, знаешь, скоро они будут тыкать зажженные свечи тебе под самый нос... да... Тише ты! Что такое? Вот, дернулся... Больно тебе, что ли? Сегодня еще не то будет, натерпимся! Да что это ты? С ума сошел? Куда ты шею тянешь? Каков молодец! Ты что, в воде? Поиграть вздумал? Стой! Эй, тише, ты и мне больно сделал! Да он сбесился! Господи, так и есть, сбесился! Пыхтит, бьется! Что ногами выделывает! Как заржал! Что это с ним? Ух, как подскочил! Сбесился, сбесился! Где ж это видано, чтоб курбет делать, когда возят по первому разряду?
Неро и вправду совсем взбесился. Он задыхался, громко ржал, бил копытами; он весь трясся. Какие–то люди бросились к нему, под самые колеса, и удержали катафалк перед подъездом особняка, в гуще разряженных гостей.
— Что это там? — неслось со всех сторон — Ой, смотрите, лошадь сбесилась!
Все толпились вокруг катафалка, толкались, переспрашивали, удивлялись, кричали, возмущались. Родственники безуспешно пытались удержать Неро. Кучер встал на козлах и изо всех сил натягивал вожжи. Напрасно. Неро бился, храпел, вырывался, тянул голову в сторону особняка.
Но когда из подъезда вышел старый слуга в ливрее и, отстранив родственников, взял его под уздцы, он сразу успокоился. Слуга посмотрел на него, внезапно узнал и чуть не заплакал:
— Это же Неро! Ох, бедняга Неро! Бьется–то как! Еще бы. Он ведь синьору возил. Бедную нашу княгиню. Это он свой дом узнал. Конюшню старую почуял. Бедняга Неро, бедный ты мой Неро... Ну, ну... все хорошо, видишь, а, Неро? Это ж твой старый Джузеппе. Все в порядке, да. Бедняга ты, Неро, обрадовался, что пришлось хозяйку везти? Значит, помнишь еще свою хозяйку? Она довольна будет, что это ты ее везешь в последний–то путь.
Потом он повернулся к кучеру, который совсем озверел из–за того, что похоронное бюро так оскандалилось перед важными господами.
— Ну, ты! Хватит ругаться! — крикнул дядюшка Джузеппе. — Он смирный. Садись. Я сам повезу до самого кладбища. Вместе поедем, а Неро? Повезем нашу бедную синьору... Тихонечко, как всегда, ладно? Ты уж постарайся, чтоб не потревожить ее, бедный ты мой старик. Помнишь ведь свою хозяйку? Вон ее уже в гроб положили, видишь ящик несут?
Фофо услышал и очень удивился:
— Кого это в ящик? Хозяйку твою?
Неро лягнул его. Но Фофо был слишком поглощен своим новым открытием и поэтому не рассердился.
«Вон оно что... — размышлял он, — вот оно что... постой–ка, так, так, вот, вот, вот... Этот старик плачет... и всегда они плачут... и вид у них расстроенный... и музыка такая печальная. Понятно, теперь мне понятно... Вот почему наша работа спокойная. Только когда люди плачут, мы можем повеселиться и отдохнуть немного».
И ему тоже захотелось сделать курбет.
ПОЙ–ПСАЛОМ (Перевод В. Федорова)
— И вы приняли сан священника?
— Нет. Я дошел лишь до звания иподиакона, то есть псаломщика.
— Псаломщика? А что делает псаломщик?
— Поет псалмы; держит книгу перед дьяконом, когда тот читает Евангелие; подносит чашу со святой водою во время мессы, держит дискос[10], завернув его в полотно, во время литургии...
— A–a, так вы читали из Евангелия!
— Нет, синьор. Евангелие читает дьякон. А псаломщик поет псалмы.
— И вы пели псалмы?
— А как же? Коли ты псаломщик — пой псалом.
— Пой псалом?
— Пой псалом.
Что в этом было смешного?
Старый доктор Фанти задавал эти вопросы Томмазино Унцио, только что покинувшему семинарию из–за утраты веры, в кругу местных бездельников, расположившихся за столиком перед аптекой на просторной площади, где ветер шуршал опавшими листьями, которые то загорались осенними красками в лучах солнца, то блекли в тени набегающих облаков. Получив ответ, доктор состроил такую гримасу, что присутствующие с трудом сдержали смех — кто закусил губу, а кто прикрыл рот ладонью.
Но как только Томмазино ушел, сопровождаемый хороводом опавших листьев, грянул дружный хохот:
— Значит, пой псалом?
— Пой псалом!
Так случилось, что Томмазино Унцио, псаломщик–расстрига, оставивший семинарию из–за того, что утратил веру, получил прозвище Пой–Псалом.
Веру можно потерять по тысяче причин, и обычно тот, с кем это случается, убежден, хотя бы поначалу, что он приобрел нечто взамен, ну хотя бы свободу делать то, чего раньше не позволяла вера.
Однако же, когда утрата веры вызвана не буйством мирских вожделений, а душевной жаждой, которую уже не утоляет святая вода из чаши, вот тогда утративший веру едва ли сочтет, что одновременно сделал какое–то приобретение. Но тем не менее такой человек плакаться не станет, поскольку он убежден, что потерял нечто уже не имеющее для него никакой ценности.
Томмазино Унцио с верой утратил все, включая состояние, которое мог бы получить от отца по завещанию покойного дяди–священника, если бы не отказался от духовной карьеры. Отец, разумеется, попробовал урезонить сына с помощью оплеух и пинков, держал его несколько дней на хлебе и воде, бросал в лицо сыну всяческие оскорбления и при этом в выражениях не стеснялся. Томмазино все стерпел геройски — он уповал на то, что отец в конце концов убедится в невозможности возродить подобными средствами веру сына и вернуть его в лоно церкви.
Беднягу Томмазино удручало не столько произведенное над ним насилие, сколько его низменный характер, полностью противоположный высоким принципам, побудившим молодого человека сбросить с плеч сутану.
С другой стороны, он понимал, что его щеки, бока и желудок как объекты экзекуции дали его отцу возможность отвести душу, смирить боль, которую остро ощущал и сам виновник: ведь жизнь его окончательно разрушилась, превратилась в бесформенную груду обломков, укрытую в четырех стенах их дома.
Вместе с тем молодому человеку хотелось как–то доказать окружающим, что он нарушил обет не из желания «пуститься во все тяжкие», как не уставал твердить его отец всякому встречному и поперечному. Он ушел в себя, заперся в своей комнате и выходил из дома лишь для того, чтобы пройтись либо вверх, через каштановые рощи, до равнины Пиан делла Бритта, либо вниз, по дороге через поля, в долину, до заброшенной церквушки Санта–Мария ди Лорето. Шел он всегда погрузившись в размышления и ни на кого не поднимал глаз.
Правда, бывает и так, что дух человека охвачен тяжким страданием или одержим честолюбивыми мечтами, а тело предоставляет дух его заботам, а само незаметно от него начинает мало–помалу жить своей жизнью: наслаждаться свежим воздухом и здоровой пищей.
Так случилось и с Томмазино: в то время как дух его все глубже погружался в меланхолию и истощал себя безнадежной грустью, тело, будто назло, довольно быстро округлилось и приняло цветущий вид, как у аббата.
Какой уж тут Томмазино! Он теперь Томмазоне Пой–Псалом... Взглянув на него, всякий согласится с отцом. Но ведь все жители маленького городка знают, какую жизнь ведет бедный юноша: ни одна женщина не скажет, что он на нее посмотрел хотя бы мельком.
Жить, не сознавая, что живешь, как камень, как растение; забыть даже собственное имя; жить ради жизни, не задумываясь, как живут звери и птицы, без волнений, без желаний, без воспоминаний и раздумий — без всего, что придает жизни смысл и. значение. Вот хотя бы так: растянуться на траве и, заложив руки за голову, смотреть, как плывут в синем небе ослепительно белые облака, пронизанные солнцем; слышать ветер, который, как морской прибой, шумит в вершинах каштанов, и под шум ветра и листвы сознавать тщету всех устремлений, тоскливую унылость человеческого существования.
Облака и ветер.
Да, но увидеть и назвать облаком то, что, сияя, проплывает в бездонной синеве, — это уже все. Разве облако знает о том, что оно облако? И знают ли это деревья и камни, которые и себя–то не сознают?
А вот ты — ты видишь облако и называешь его облаком, да еще, чего доброго, и задумаешься (почему бы и нет?) о круговороте воды в природе: она превращается в облако, чтобы потом снова стать водой. Объяснить эти превращения может самый захудалый учителишка физики, но кто объяснит причину причин?
Наверху, в каштановой роще, — стук топора; внизу, в копях, — стук кирки.
Калечат гору, валят деревья, чтобы строить дома. Новые дома в этом городишке среди гор. Сколько усилий, стараний, забот и трудов, и все для чего? Для того чтобы вывести вверх печную трубу и пустить из нее дым, который тотчас рассеется в бесконечности пространства.
Наши мысли и воспоминания — тот же дым...
И все–таки, созерцая величественную картину природы, пышную зелень дубовых, оливковых и каштановых рощ, спускавшихся уступами от отрогов хребта Чимино до самого Тибра, Томмазино чувствовал, как его отчаяние постепенно переходит в тихую бесконечную грусть.
Все иллюзии и разочарования, все горе и вся радость, все надежды и чаяния людей казались ему пустыми и преходящими, когда, он созерцал предметы и вещи, которые бесстрастны, но долговечны: мысли и чувства исчезают, вещи — остаются. Дела человеческие на фоне вечной природы представлялись ему облачками, сменяющими друг друга в быстром круговороте. Достаточно взглянуть хотя бы на громады гор по ту сторону долины Тибра, которые тянутся к горизонту и там сходят на нет, исчезают в розовой дымке.
О, эти человеческие дерзания! Сколько восторженных кликов из–за того, что человек стал летать подобно птице! Но ведь как летит птица? Полет ее — сама легкость и свобода, он так же безыскусен, как радостная птичья трель. Теперь представьте себе неуклюжий ревущий самолет, представьте также беспокойство, боязнь, смертельный страх человека, который захотел бы летать, как птица! Там — трель и шорох крыл, здесь — грохот и бензиновая вонь и угроза смерти. Мотор сломается, заглохнет и — прощай птица!
— Человек, — взывал Томмазино Унцио, лежа на траве, — перестань летать. Зачем тебе летать? Разве ты когда–нибудь летал?
И вдруг по городку вихрем пролетела новость, всех ошеломившая: лейтенант де Венера, начальник гарнизона, публично дал пощечину Томмазо Унцио и вызвал его на дуэль, из–за того что тот отказался дать объяснения по поводу своего поступка, которого он не отрицал: накануне он обозвал дурой синьорину Ольгу Фанелли, невесту лейтенанта, встретив ее на дороге у заброшенной церкви Санта–Мария ди Лорето.
Новость вызвала изумление, а у некоторых и смех, она казалась настолько невероятной, что расспросам и переспросам не было конца.
— Томмазино? Вызвал на дуэль? Назвал аурой синьорину Фанелли? И не отперся? Отказался дать объяснения? И принял вызов?
— Ну да, черт возьми, получил пощечину!
— И они будут драться?
— Завтра, на пистолетах.
— На пистолетах с лейтенантом де Венерой?
— На пистолетах.
Значит, причина была самая серьезная. Все полагали, что тут, вне всякого сомнения, речь шла о бурной страсти, долго скрываемой и прорвавшейся наружу только теперь. Скорей всего, он бросил ей в лицо «Дура!», так как она полюбила не его, а лейтенанта де Венеру. Ясное дело! Все жители городка и в самом деле считали, что только дура может полюбить этого идиота де Венеру. Но сам де Венера, конечно, не разделял общего мнения, а потому потребовал объяснений.
Меж тем синьорина Ольга Фанелли клялась и божилась со слезами на глазах, что такой причины прискорбного поступка Томмазино быть не могло: она видела этого молодого человека всего два или три раза, причем он даже не поднимал на нее глаз и не выказал никакого, хотя бы малейшего, признака того, что питает к ней эту самую тайную дикую страсть, о которой все толкуют. Нет–нет! Только не это! Тут должна быть какая–то другая причина. Но какая же? Ведь ни с того ни с сего никто не обзовет девушку дурой.
Если всем, особенно родителям юноши, секундантам, лейтенанту и Ольге во что бы то ни стало хотелось узнать истинную причину странного поступка, то самому Томмазино горше всех было оттого, что он не мог ее открыть, так как был уверен, что, если и откроет, все равно никто ему не поверит, а только все подумают, будто он хочет к оскорблению добавить еще и скрытую издевку.
И действительно, кто поверит, что он, Томмазино Унцио, погружаясь все глубже в свою философическую меланхолию, за последние несколько недель оказался охваченным острой и нежной жалостью ко всему, что рождается на свет и живет какое–то время без цели и смысла, пока не наступят увядание и смерть. И чем непостоянней, слабей и неуловимей та или иная форма жизни, тем больше она трогала Томмазино, порой до слез. Как по–разному рождаются существа, каждое — один–единственный раз, в данной единственной форме (ибо двух одинаковых форм не бывает), для такой короткой жизни, иногда всего на один день, и занимает такое ничтожное пространство, а вокруг — неосознаваемый огромный мир, зияющая пустота, непостижимой тайны существования! Рождаются и муравей, и мошка, и травинка... Муравей — и мир! Вселенная — и мошка или травинка... Травинка рождается, растет, цветет, вянет — и навсегда исчезает; ее, этой травинки, больше не будет никогда. Никогда!
И вот уже около месяца Томмазино день за днем наблюдал за одной травинкой, которая росла меж двух камней, поросших мохом, на задворках заброшенной церкви Санта–Мария ди Лорето.
Он чуть ли не с материнской нежностью следил, как эта былинка понемногу перерастала окружающую траву, как она робко и нерешительно высовывалась из расселины между замшелыми камнями, словно ее мучили и страх и любопытство, словно ей хотелось полюбоваться пейзажем — бесконечной зеленой равниной, простершейся внизу; он наблюдал, как потом она тянулась все выше и выше, держалась все более смело и даже дерзко — красноватая метелочка на конце ее торчала, точно петушиный гребень.
Каждый день он созерцал ее по часу или даже по два, жил ее жизнью, качаясь при малейшем дуновении ветерка; в панике прибегал к ней, когда поднимался сильный ветер или когда ему казалось, что его опередит небольшое стадо коз, которое каждый день поутру проходило мимо церкви и иногда задерживалось, чтобы пощипать травку меж камней. Когда Томмазино убеждался, что ветер и козы пощадили его травинку и метелочка ее. торчит по–прежнему задорно, его радости не было границ. Он ласкал травинку, нежно поглаживал пальцами затаив дыхание; уходя с наступлением темноты, препоручал ее первым звездам, загоравшимся на темном небосводе, с тем чтобы они охраняли ее всю ночь. И, даже находясь вдали от своей травинки, он мысленным взором видел ее меж камнями, под черным небом, на котором мерцают звезды–хранительницы.
Так вот, в тот день, придя в обычный час пожить одной жизнью с травинкой, Томмазино увидел, что за церковью на одном из тех самых двух камней сидит синьорина Ольга Фанелли — видимо, присела отдохнуть.
Он остановился, не решаясь подойти и полагая, что она уже отдохнула и вот–вот уйдет. Девушка и в самом деле скоро встала (возможно, ее смутило присутствие мужчины), огляделась, потом рассеянным жестом протянула руку, сорвала ту самую травинку и взяла ее в зубы за середину, так что метелочка закачалась у ее щеки.
Бедняга Томмазино Унцио ощутил такую боль, будто ему вырвали сердце, и, когда девушка, держа травинку в зубах, поравнялась е ним, какая–то неодолимая сила заставила его крикнуть ей в лицо: «Дура!»
Как же он мог теперь признаться, что так грубо оскорбил девушку из–за какой–то травинки?
Лейтенанту де Венере пришлось дать ему пощечину.
Томмазино устал от своего бесцельного житья, устал носить эту гору плоти — свое тело, устал терпеть насмешки, которые стали бы еще злей, если бы он отказался от дуэли. И он принял вызов, потребовав при этом, чтобы условия дуэли были самыми жесткими. Он знал, что лейтенант де Венера — превосходный стрелок. В этом можно было убедиться каждое утро, посетив занятия на стрельбище. И все же Томмазино пожелал стреляться с лейтенантом на рассвете следующего дня, избрав местом поединка уголок того же самого стрельбища.
Он получил пулю в грудь Сначала рана казалась не очень серьезной, потом раненому стало хуже. Пуля пробила легкое. Поднялась температура, начался бред. Четверо суток врачи отчаянно боролись за жизнь молодого человека.
Когда они объявили, что сделать ничего нельзя, синьора Унцио, женщина весьма набожная, стала умолять сына вернуться пред лицом смерти к святой вере. Томмазино ради матери согласился принять исповедника.
Тот спросил у умирающего:
— Но из–за чего, сын мой? Из–за чего?
Томмазино, приоткрыв глаза, вздохнул, слабо улыбнулся и тихим голосом ответил:
— Из–за простой травинки, падре...
Все решили, что он продолжает бредить.
СВЕТ И ТЬМА (Перевод Э. Линецкой)
I
В просветы меж сплетенных ветвей, как легкий зеленый портик укрывших всю длинную дорогу вдоль стены старинного города, то и дело заглядывала луна и словно говорила долговязому, прохожему, который решился забрести сюда в такой неурочный час и в такую ненадежную темень: «Да, но я–то тебя вижу...»
Прохожий, будто его и вправду обнаружили, остановился и, проведя ручищами по груди, воскликнул с неподдельным отчаяньем:
— Ну да, это я, Чунна! Такое дело...
И сразу листья в вышине принялись без умолку шуршать, словно передавая друг другу по секрету его имя: «Чунна... Чунна...» — будто они, столько лет знакомые с ним, знали, почему он в этот час в полном одиночестве шагает по небезопасной дороге. И таинственно шушукались и шушукались потом, кто он и что сотворил... ш–ш–ш... Чунна, Чунна...
Тогда, обернувшись, он стал вглядываться в глубокий темный тоннель дороги, то там, то здесь населенный причудливыми лунными призраками: может, кто–нибудь и в самом деле... ш–ш–ш... Потом, посмотрев по сторонам, приказал себе и листьям замолчать... ш–ш–ш... и снова зашагал, сцепив руки за спиной.
Помаленьку, помаленьку, господа, и вот две тысячи семьсот лир. Две тысячи семьсот лир выкрадено из кассы главного табачного склада. Следовательно, виновен в... ш–ш–ш... в хищении государственной собственности... Такое дело... Помаленьку, помаленьку. Но как? Почему? Ну, насчет почему, если уж на то пошло, он найдет доводы в свое оправдание — он, но не ревизор завтра.
— Чунна, в кассе не хватает двух тысяч семисот лир.
— Не хватает. Такое дело... Я их взял себе, господин ревизор.
— Взял себе? Как? Каким образом?
— Обыкновенным, господин ревизор, вот так, двумя пальцами.
— Понятно. А вы храбрец, Чунна! Взял, как понюшку табаку. Что ж, с одной стороны, приношу вам свои поздравления, но с другой, если не возражаете, пожалуйте в каталажку.
— Ну нет, от этого увольте, господин ревизор. Возражаю, и даже очень. Так что, сделайте милость, послушайте, как оно будет. Завтра Чунна отправится на извозчике в Марину. Да, такое дело... И в той самой одежке, какая сейчас на нем, утопится в море. Нет, он еще нацепит вот сюда, на грудь, две медали за участие в походе шестидесятого года[11], а на шею, господин ревизор, навяжет красивый орден в десять килограммов весом — точь–в–точь монах по обету. Смерть неприглядна, дражайший господин ревизор, ноги у нее как сухие палки, но Чунна после шестидесяти двух лет невоздержной жизни в каталажку не отправится.
Уже две недели вел он эти удивительные диалогизированные монологи, сопровождая их бурной жестикуляцией, И как нынче луна в просветы меж сплетенных ветвей, так подглядывали за Чунной почти все его знакомые — они день за днем смаковали забавную чудачливость его поведения и интонаций.
— Для тебя, Никколино! — продолжал меж тем Чунна, мысленно обращаясь к сыну. — Для тебя крал. И, да будет тебе известно, не раскаиваюсь. Четверо мальчишек, Господи Предержащий, четверо мальчишек без куска хлеба! А твоя жена, Никколино, о чем думает она? Ни о чем она не думает, только хохочет: она снова брюхата. Четыре плюс один равно пяти. Плохо ли! Плодись, сынок, плодись, заселяй маленькими Чуннами всю округу! Раз уж нужда не дает тебе других радостей, плодись, сынок! Завтра рыбы напитаются твоим папой и, значит, просто обязаны будут давать потом пропитание тебе и многочисленным твоим отпрыскам. Не забудьте: каждый божий день полный баркас рыбы для моих внуков!
Мысль возложить эту обязанность на рыб пришла ему в голову только что; несколько дней назад он внушал себе другое:
— Яд! Яд! Лучшей смерти и не сыскать! Маленькая таблетка — и спокойной вам ночи, Через служителя Химического института Чунна раздобыл несколько кристалликов мышьяковистой кислоты. Они были у него в кармане, даже когда Чунна исповедовался священнику — умолчав, разумеется, о намерении покончить с собой — и получил отпущение грехов.
— Умереть — это еще куда ни шло, но сперва причастившись благодати.
«Только не от яда, — тут же подумал он. — Одолеют судороги, человек существо подлое, позову на помощь, не ровен час, меня спасут... Нет, нет, есть лучший выход: море. Медали на грудь, орден на шею — и будьте здоровы! К тому же какой крик поднимется! Господа, гарибальдиец–плавун, новый вид китов! А ну–ка. Чунна, скажи, кто водится в море? Рыбы там водятся, Чунна. и они голодные, как твои внуки на земле, как птахи в небе…
Извозчик заказан на завтра. В семь утра выеду по холодку; час, не больше, — и вот она, Марина, а в половине девятого — прощай, Чунна!»
Шагая по дороге, он принялся сочинять письмо, которое оставит. Кому его адресовать? Жене, старухе горемычной, или сыну, или кому–нибудь из друзей? Ну нет, будь они неладны, друзья! Кто из них помог ему? Сказать по правде, он никого и не просил о помощи, но потому не просил, что заранее знал: никто над ним не сжалится. И вот доказательство: он уже две недели бродит по улицам, как муха с оторванной головой, все кругом это видели, и что же, ни одна собака не остановилась и не спросила: «Что с тобой, Чунна?» Вместо этого все обалдело,, смотрели на него, а потом, неизвестно почему, отворачивались и улыбались...
II
Он проснулся ровно в семь утра, когда служанка уже встала, и был потрясен тем, что всю ночь проспал крепчайшим сном.
— Извозчик уже здесь?
— Да, дожидается вас.
— Сию секунду буду готов. Ох, башмаки, дай мне их, Роза. Погоди, сейчас отопру дверь.
Вскочив с постели и направляясь за башмаками, Чунна сделал еще одно потрясающее открытие: накануне вечером он по привычке выставил их за дверь, чтобы служанка почистила. Как будто не все равно, в каких башмаках, чищеных или нечищеных, явиться на тот свет!
В третий раз он был потрясен, когда, открыв шкап, потянулся за костюмом, который всегда надевал для поездок, чтобы сберечь другой, парадный, более новый или, вернее сказать, менее поношенный.
— Для кого мне сберегать его теперь?
Словом, все шло так, будто он и сам в глубине души не верил, что скоро покончит с собой. Сон... башмаки... костюм.... А потом, нате вам, стал умываться, а потом, как обычно, подошел к зеркалу и начал аккуратно завязывать галстук...
— Что ж это я дурака валяю?
Нет. Письмо. Куда он его дел? Вот оно, в ящике ночного столика. Нашлось!
Прочитал обращение: «Никколино...»
— Куда его положить?
Решил, что лучше всего на подушку, на то место, где в последний раз покоилась его голова.
— Там оно сразу бросится в глаза.
Он знал, что ни жена, ни служанка раньше полудня не примутся за уборку спальни.
— В полдень я уже три с половиной часа как...
Оборвал себя и обвел глазами убогую, скудно обставленную спальню, словно прощаясь с ней, и остановился взглядом на серебряном, пожелтевшем от времени распятии, снял шляпу и преклонил колени.
Но в глубине души ему еще не верилось, что это наяву. В глазах, в носу все еще тяжело отдавало сном.
— Боже мой, Боже мой!.. — пробормотал он, вдруг обессилев. И стиснул рукой виски.
Но тут же вспомнил, что его ждет извозчик, и быстрыми шагами вышел из дому.
— Прощай, Роза. Скажи, что вернусь под вечер. Лошади шли рысью (этот болван извозчик навязал им колокольчики, как на деревенской ярмарке), и у Чунны, взбодренного свежим воздухом, сразу разыгралось неотлучное от него причудливое воображение: он представил себе музыкантов из муниципального оркестра — плюмажи на их головных уборах развеваются, они бегут за извозчиком, кричат, машут руками, просят остановиться или ехать помедленнее, потому что хотят проводить Чунну траурным маршем. А это невозможно, когда бежишь во всю прыть, вскидывая ноги.
— Благодарствуйте, друзья мои! И прощайте! Я вполне обойдусь без марша. С меня хватит дребезжания оконных стекол в ландо и этих веселеньких колокольчиков.
Когда последние дома остались позади и кругом простерлись поля, точно залитые морем золотистых хлебов, там и сям омывавшим оливы и миндальные деревья, Чунна вздохнул полной грудью. И словно ощущение жизни просветлилось в нем до полной прозрачности, он почувствовал тайную и как бы уже отделившуюся от него любовь к ней, любовь, которая только и надеялась, только и притязала на блаженную радость, распахнув глаза, распахнув все чувства, безвольно впивать в себя эту жизнь.
Справа, под рожковым деревом, он увидел крестьянку с тремя ребятишками. «Точь–в–точь курица с цыплятами под крыльями», — подумал Чунна, окинув мимолетным взглядом низкорослое раскидистое дерево, и приветственно помахал ему рукой. Ему хотелось послать последний свой привет всему, что попадалось на глаза, но в этом желании не было и тени сожаления: казалось, счастье, которое переполняло его в эту минуту, было достаточной наградой за неминуемую утрату жизни.
Тяжело громыхая, ландо, запряженное парой, неслось теперь вниз по пыльному и все более крутому шоссе. В гору и под гору тянулись длинные вереницы повозок; впряженные в них кони и мулы, щедрой рукой возниц прихотливо разубранные бантами, кистями, фестонами, знали дорогу лучше своих хозяев, которые мирно спали, уткнув носы в большие красные хлопчатого полотна платки.
Справа и слева на обочинах сидели, отдыхая на кучах щебня, нищие в грязных лохмотьях, калеки, слепцы — одни из приморского селения поднимались в город на горе, другие, напротив, спускались в селение, надеясь выпросить хотя бы грош или кусок хлеба и протянуть еще один день.
Глядя на них, Чунна опечалился и вдруг подумал: а не пригласить ли весь этот нищий сброд к себе в ландо: «Ну–ка, живее! Живее! Давайте скопом утопимся в море! Карета обездоленных! Залезайте же, дети мои, залезайте ко мне! Жизнь прекрасна, да не про нас».
Он сдержал себя, чтобы извозчик не догадался о цели его поездки. Но еще раз улыбнулся, представив себе эту компанию оборванцев рядом с собой в ландо, и, точно они в самом деле были рядом, тихонько повторял приглашение, приметив на дороге еще какого–нибудь бедолагу:
— А ну, влезай и ты! Чего там, провезу задаром!
III
В приморском селении Чунну знали решительно все.
В пору своего процветания он владел на этом длинном и прямом участке побережья чуть ли не самыми большими складами серы. Но коммерсант он был никудышный и в считанные годы его разорили или, как выражался сам Чунна, «сожрали живьем»; принимали в этом участие многие, в особенности же отличался как раз тот Чуннин помощник, которому он слепо доверял. Нажившись на хозяйских деньгах, этот человек стал не только одним из богатейших людей в округе, но и получил дворянство за «коммерческие заслуги». Не зря Меркурий, покровитель плутов, одновременно и покровитель торгашей.
— Драгоценнейший мой Чунна! — г услышал он, вылезая из ландо, и немедленно очутился в объятиях некоего Тино Имбро, молодого своего приятеля, весельчака из весельчаков, который тут же влепил ему два звонких поцелуя, одновременно хлопая по плечу.
— Ну как вы? Что вы? Каким ветром вас занесло в нашу дыру?
— Есть одно дельце... — смущенно улыбнулся Чунна.
— Собираетесь уплатить или стребовать? Если уплатить — что ж, отлично, вроде как самому полезть в петлю. А если стребовать — зря не надейтесь, но и не расстраивайтесь понапрасну... Это ландо в вашем распоряжении?
— Да, я нанял в оба конца.
— Отлично! Итак, извозчик, распрягай свою пару. Дражайший Чунна, я вас конфискую. Что это с вами? Вас сегодня словно подменили: нос побелел, губа отвисла... Что с вами? Голова болит? Ну, у меня есть одно такое средство, что она сразу пройдет: от него любая болячка проходит.
— Спасибо, Тино, друг мой, — ответил Чунна, растроганный неподдельной радостью этого балагура. — Но только мое дело и вправду не терпит отлагательства. А потом придется стремглав мчаться домой. Ко всему еще, понимаете ли, на меня сегодня может свалиться ревизор.
— В воскресенье? И потом, как это — не предупредив заранее?
— Вот новости! — ответил Чунна. — Предупреждения захотел! Они же скоты, эти ревизоры. Бросаются на тебя, когда ты меньше всего ждешь, как сокол на цыпленка.
— Это вы, что ли, цыпленок? — Имбро поднял руку, делая вид, что пытается измерить великанский рост Чунны. Потом продолжал: — И слушать ничего не желаю. Сегодня праздник — значит, самое время повеселиться. Я вас конфискую. Имейте в виду, я снова один–одинешенек. Моя жена, бедняжечка, дни и ночи проливала слезы. «Что приключилось, душенька, скажи мне?» — «Хочу к мамочке! Хочу к папочке!» — «Только и всего? Глупенькая! Поезжай к мамочке, поезжай к папочке, они дадут тебе конфетку, ах, девицы, вы как птицы!» Вы мой наставник, скажите, я правильно поступил?
Тут засмеялся и извозчик на козлах. Имбро воскликнул:
— А ты еще здесь, пустая твоя голова? Марш! Сказал тебе — распрягай лошадей!
— Погоди, — сказал тогда Чунна, вытаскивая из нагрудного кармана бумажник. — Раньше я заплачу, а потом...
Но Имбро схватил его за руку.
— Одумайтесь! Платить и умирать — чем позже, тем лучше.
— Нет, лучше заранее, — настаивал Чунна. — Раз уж я пусть ненадолго, но застреваю в этом гнездышке добропорядочных людей, значит, есть надежда, что меня обчистят до нитки, подметки на ходу срежут...
— Сказал, как припечатал! — закричал Имбро и бросился обнимать Чунну. — Истинно речь моего старого учителя! Теперь я узнаю тебя! Ладно, платите и пойдем!
С горькой улыбкой Чунна качнул головой, расплатился с извозчиком и спросил Имбро:
— Куда вы меня поведете? Но помните — на полчаса, не больше. У меня тут дело.
— Смеетесь вы, что ли? Извозчику уплачено, он хоть до вечера будет ждать. И слушать ничего не желаю. А как нам провести день, это моя забота. Видите, я с сумкой, собирался выкупаться. Вот и выкупаемся вместе.
— Какая нелепость! — энергично запротестовал Чунна. — Мне купаться? Что угодно, только не это!
Тино Имбро изумленно воззрился на него.
— Но почему нам не выкупаться?
— Потому что, — заявил Чунна, набычившись. — Я сказал нет — значит, нет. Если я и выкупаюсь, то позже...
— Но сейчас самое время, — настаивал Имбро. — Искупаемся, нагуляем аппетит, а потом прямиком в «Золотой лев»: набьем животы и глотки промочим. Доверьтесь мне.
— Праздник ко времени!.. Смех, да и только. К тому же у меня нет с собой купального костюма, ничего нет...
— Пошли! — воскликнул Имбро, хватая его за руку. — Все возьмем напрокат в купальне.
Снова горько улыбнувшись, Чунна подчинился стремительному и ласковому напору молодого своего друга.
Немного спустя, запершись в кабинке, он плюхнулся на скамью и прислонился головой к перегородке; тело его обмякло, на лице застыло выражение какого–то гневного страдания. Потом, передернувшись, он тяжело вздохнул и весь съежился, уставив локти в колени и стиснув ладонями виски; издевательский и горький беззвучный смех опять растянул ему рот.
— Предварительная проба морской стихии... — пробормотал он.
В перегородку забарабанили, и из соседней кабинки Имбро прокричал:
— Вы готовы? Я уже в купальном костюме. Тинино, знаменитый стройностью ног.
Чунна встал.
— Сию минуту разденусь.
Он начал раздеваться. Осмотрительно вынув часы из жилетного кармана и собираясь спрятать их в башмак, он взглянул на циферблат. Стрелки показывали без малого половину десятого, и он подумал: «Час времени чистого выигрыша!» И сразу знобящее ощущение счастья охватило его, проникло в самые глубины существа, словно он продолжает жить, хотя уже умер. А ведь эта жизнь и в нем самом, и вокруг уже час как должна была превратиться для него в небытие. Он оглядел свои голые ноги, руки, ладони — они все еще служили ему, он все еще ими владел, двигал по собственной воле. А через три–четыре часа... Лицо его помрачнело, он начал спускаться по мокрой лесенке, чувствуя, как им завладевает ледяной холод.
— Прыгайте! Прыгайте в воду! — крикнул Имбро; он уже окунулся и теперь делал вид, что собирается обрызгать Чунну.
— Нет, нет, не надо! — в свою очередь, крикнул тот, дрожа и передергиваясь от страха, который всегда одолевает нас, пригвождает к месту перед зыблющейся, переливчатой, стеклянисто–плотной морской стихией. — Подождите, сейчас влезу... Мне не до шуток... Дайте собраться с духом... Бр–р–р... Какая холодная! — добавил он, касаясь воды скрюченными пальцами ноги. И вдруг, словно осененный какой–то мыслью, нырнул.
— Браво! Браво! — крикнул Имбро, едва Чунна встал на ноги, истекая струями, как фонтан.
— Ну не храбрец ли? — сказал Чунна, обтирая руками голову и лицо.
— Плавать умеете?
— Нет, плескаюсь у берега...
— Ну а я поплаваю немного.
В огороженном перед купальнями месте было совсем мелко. Чунна присел на корточки, одной рукой держась за жердь, другой поглаживая воду, словно уговаривая ее: «Будь умницей,, будь умницей!»
Но когда через недолгое время Имбро вернулся, он Чунны не обнаружил. Вылез уже, что ли? Решив проверить, молодой человек направился к лесенке кабинки, и тут на поверхность всплыл его друг, весь багровый, еле переводя дух.
— Да вы спятили! Что это с. вами? От такого ныряния, не ровен час, жилы на шее лопнут.
— Ну и пусть лопаются!.. — задыхаясь, отчаянным голосом выговорил Чунна; глаза его чуть не вылезли из орбит.
— Воды наглотались?
— Наглотался...
— Ну, знаете... — произнес Имбро и жестом снова выразил сомнение в здравом рассудке своего старого друга. Пристально посмотрев на Чунну, он спросил: — Хотели проверить дыхание или вам стало худо?
— Проверял дыхание, — отрезал Чунна, опять проводя рукой по мокрым волосам.
— Тогда десять с плюсом малышу! — воскликнул Имбро. — Идемте скорее, идемте оденемся. Вода сегодня холоднющая. И аппетит мы уже нагуляли. Но скажите правду: вы плохо себя чувствуете?
Чунна несколько раз напружил грудь, как индюк.
— Нет, — ответил он, окончив свои упражнения. — Я чувствую себя отлично. Все прошло. Но идемте, идемте, пора и впрямь одеться.
— Макароны с морскими гребешками и гло–гло–гло... глоток винца. Об этом уж позабочусь я, у меня кое–что припасено: подарочек родных моей жены, голубушки моей. Еще непочатый бочоночек. Ясно?
IV
Встали они из–за стола около четырех. В дверях траттории появился извозчик.
— Запрягать?
— Сгинь, не то!.. — завопил Имбро; лицо у него пылало, глаза сверкали, одной рукой он ухватил Чунну за лацканы, в другой зажал пустую бутылку.
Чунна, такой же багровый, не противился, улыбался, молчал, точно ничего не слышал.
— Я же сказал, до вечера никуда не уедете! — продолжал Имбро.
— Правильно! Правильно! — одобрил его хор голосов.
Потому что в большом обеденном зале собралось человек двадцать друзей Чунны и Имбро, к ним присоединились завсегдатаи траттории, застолье получилось многолюдное, сперва просто веселое, потом все более буйное: смех, выкрики, шуточные тосты, оглушительный гам.
Тино Имбро вскочил на стул. Есть предложение: всем вместе отправиться в гости к капитану английского парохода, пришвартованного в порту.
— Нас с ним водой... да что там водой, вином не разольешь! Этакий юнец лет под тридцать, сплошная борода и вдобавок запас такого джина, что вознесся бы в рай, Господи спаси и благослови, даже наш нотариус Каччагалли!
Предложение было встречено громом рукоплесканий.
Когда часов около семи честная компания после визита на пароход разбрелась кто куда, Чунна в страшном возбуждении заявил:
— Дорогой Тинино, мне пора. Не знаю, как и благодарить тебя...
— Пустяки какие! — прервал его Имбро. — Займитесь лучше делом, о котором говорили мне утром.
— Да... дело... ты прав... — пробормотал Чунна, хмурясь и хватаясь за плечо друга, точно у него подкосились ноги. — Да, да... ты прав... Подумать только, я же ради него и приехал... Пора с ним покончить...
— А может, оно не такое уж срочное, — заметил Имбро. — Срочное, — угрюмо сказал Чунна и повторил: — Пора с ним покончить. Я напился, наелся... а теперь... Прощай, Тинино. Дело очень срочное.
— Проводить вас? — спросил тот.
— Что, что такое? Проводить меня? Да, это было бы забавно... Нет, спасибо, Тинино, спасибо... Отправлюсь один, без провожатых. Напился, наелся... а теперь... Что ж, прощай.
— Тогда я подожду вас здесь, возле ландо, тут и попрощаемся. Только не задерживайтесь.
— Не задержусь, не задержусь! Прощай, Тинино. И зашагал прочь.
Имбро, скорчив гримасу, подумал: «Ох, годы, годы! Просто не верится, что Чунна... Он и выпил–то всего ничего».
Чунна зашагал в сторону западной, самой протяженной части порта, еще не выровненной, где громоздились скалы, а меж них бились волны, то с глухим шумом набегая, то с долгими всхлипываниями откатываясь. Он нетвердо держался на ногах, тем не менее перескакивал с камня на камень — может быть, в неосознанной надежде поскользнуться и сломать ногу или нечаянно свалиться в море. Он отдувался, пыхтел, мотал головой, стараясь избавиться от неприятного щекотания в носу; чем оно было вызвано — потом, слезами или брызгами пены набегающего на скалы прибоя, — он и сам не знал. Добравшись до конца скалистой гряды, Чунна тяжело плюхнулся наземь, снял шляпу, зажмурился, стиснул губы и раздул щеки, как будто собирался вместе с воздухом выдуть из себя весь накопившийся в нем ужас, все отчаяние, всю желчь.
— Что ж, оглядимся, — произнес он, сделав наконец глубокий вдох и открыв глаза.
Солнце уже заходило. Море, стеклянисто–зеленое у берега, с каждой минутой все ярче отливало золотом вдоль неоглядной, зыблющейся черты горизонта. Небо было в огне, и на фоне этого закатного сверкания и беспокойной морской зыби воздух казался особенно неподвижно–прозрачным.
— Мне вон туда? — помолчав, задал себе вопрос Чунна, глядя поверх скал на море. — Из–за двух тысяч семисот лир? — Теперь эта цифра казалась ему ничтожной. Как капля в море. — Те самые негодяи, которые сожрали меня живьем, теперь разъезжают по всей округе, им почет и уважение, они теперь дворяне, а я за две тысячи семьсот лир должен... Знаю, я не имел права воровать, но это был мой долг, черт вас всех подери, да, да, долг, господа! Именно долг, когда четверо малышей плачут и просят хлеба, а у тебя эти проклятущие деньги в руках и ты только и делаешь, что их считаешь. Общество не дало тебе права воровать, но ты отец, и в таких обстоятельствах это твой прямой долг. А я дважды отец этим четверым ни в чем не повинным мальчишкам. Если я умру, что с ними станется? По миру пойдут? Пойдут милостыню выпрашивать? Нет, нет, господин ревизор, вы сами заплачете вместе со мной. А если у вас, господин ревизор, сердце как эта каменная скала, что ж, выскажу все судьям: посмотрим, хватит ли у них духу осудить меня. Потеряю место? Найду другое. Нет, господин ревизор, не заблуждайтесь, в море я не брошусь. Ага, вот и баркасы: сейчас куплю килограмм краснобородок, вернусь домой и вместе с внуками съем их за милую душу!
Он встал. Баркасы, распустив паруса, делали на полном ходу поворот. Рыбаки спешили — им нужно было поспеть на рыбный привоз.
Протиснувшись сквозь галдящую толпу, он купил еще живых, бьющихся краснобородок. Но куда их положить? А вот и корзинка — всего несколько сольди; уложил их в нее и — «будьте спокойны, господин хороший, довезете до дому живехонькими».
На улице перед «Золотым львом» его ждал Имбро — он сразу сделал выразительный жест:
— Прошло?
— Ты о чем? А, о вине... Подумаешь! Есть о чем говорить! — отозвался Чунна. — Смотри, купил краснобородок. Дай я тебя расцелую, Тинино, и тысячу тебе благодарностей.
— Это еще за что?
— Когда–нибудь, может, объясню, за что... Эй, извозчик, подними верх, не хочу, чтобы меня видели.
— Боитесь, что ограбят по дороге? — смеясь, спросил Имбро. — Значит, уладили дельце? Поздравляю! И до свиданья, до свиданья!
V
Как только выехали из поселка, дорога пошла в гору.
Лошади с трудом тащили ландо, каждый, свой шаг сопровождая поматыванием головы, и звяканье колокольчиков словно подчеркивало, как медленно и натужно они берут подъем.
Время от времени извозчик подбадривал несчастных кляч протяжными и унылыми понуканиями.
На полпути к дому совсем свечерело.
Сгустившаяся тьма вместе с тишиной, которая будто вслушивалась, не раздастся ли хоть какой–нибудь звук в пустынном безлюдье этих малознакомых Чунне мест, отрезвили его, все еще отуманенного винными парами, ослепленного великолепием заката на море.
Когда начало темнеть, он закрыл глаза, стараясь уговорить себя, что вот сейчас уснет. Но вдруг обнаружил, что в давящем мраке ландо глаз его снова широко раскрыты и устремлены в непрерывно дребезжащее оконце напротив.
Ему казалось, что он сию секунду проснулся. И вместе с тем у него не было сил встряхнуться, пошевелить хоть единым пальцем. В тело точно налили свинца, голова стала вчетверо тяжелее обычного. Чунна расслабленно откинулся назад, упершись подбородком в грудь, протянув ноги к переднему сиденью, левую руку засунув в брючный карман.
В чем дело? Может, он и вправду пьян?
— Остановись... — пробормотал он, с трудом ворочая языком.
И тут же представил себе, как вылезает из ландо и глухой ночью наобум бредет полем. Услышал, как где–то далеко залаяла собака, и подумал: собака лает на него, бредущего вон там, вон там... в долине...
— Остановись... — после короткой паузы почти беззвучно повторил он, медленно смыкая веки.
Нет, он должен немедленно выскочить, выскочить на ходу и так тихо, чтобы не заметил извозчик, подождать, пока ландо не отъедет немного вверх по крутой дороге, а потом невидимкой бежать, бежать по полям туда, к морю...
Чунна по–прежнему не шевелился.
— Плюх! — произнес он помертвевшими губами.
И тут, словно молния осветила его сознание, он задрожал и правой, судорожно сжатой, рукой принялся лихорадочно потирать лоб.
Письмо... письмо...
Ведь он оставил на подушке письмо сыну. Сейчас дома... да, сейчас дома его оплакивают как покойника!.. Вся округа сейчас только и говорит что о его самоубийстве... А ревизор? Конечно, явился... Ему отдали ключи... И, разумеется, он уже заметил недостачу в кассе... Позорное отстранение от должности, нищета, насмешки... тюрьма...
А лошади продолжали тащить ландо, медленно, с трудом.
В ужасе, весь дрожа, Чунна хотел было окликнуть извозчика. А дальше что? Нет, нет!.. Выскочить, не останавливая?.. Он вынул левую руку из кармана, большим и указательным пальцами схватил себя за нижнюю губу, сжав остальные пальцы и что–то в них кроша. Потом, разжав руку, вытянув ее из оконца, подставил под лунный свет и взглянул на ладонь. Так и есть! Яд! Все время лежал в кармане, этот яд, о котором он забыл. Зажмурившись, Чунна сунул в рот кристаллики и проглотил. Быстрым движением достал из кармана остальные и тоже проглотил! Яд! Яд! Внезапно почувствовал пустоту внутри, голова у него закружилась, грудь и живот словно взрезали острым ножом. Чунна начал задыхаться и высунулся из оконца.
— Сейчас умру.
Внизу, залитая чистым и мягким лунным светом, лежала долина, впереди четко рисовались на опаловом небе высокие, совсем черные холмы.
— Сейчас умру... — повторил Чунна.
Но так чудесно было это лунное умиротворение, что W в нем самом все укротилось. Руку он положил на дверцу кареты, подбородок — на руку и, глядя в окно, стал ждать.
Снизу, из долины, доносился немолчный, согласно звенящий хор кузнечиков — казалось, это голос трепещущих лунных лучей на глади тихо струящейся невидимой реки.
По–прежнему опираясь подбородком на руку, Чунна поднял глаза к небу и снова перевел их на черные холмы и долину, словно проверяя, сколько всего остается другим людям — ему–то уже ничего не осталось. Через несколько минут он ничего не увидит, ничего не услышит... Может быть, время остановилось? Почему он не чувствует никакой боли внутри?
— Значит, не умру?
И сразу, словно мысль немедленно превратилась в то. самое ощущение, которого Чунна ждал, он отшатнулся от окна и схватился за живот. Нет, боли пока еще не было... И все–таки... провел рукой по лбу: ага, уже выступил холодный пот! Стоило ему почувствовать этот холод, как ужас смерти целиком завладел им: Чунна весь затрясся под сокрушительным напором черной, чудовищной, непоправимой неизбежности, конвульсивно сжался, и зубами прикусил подушку сиденья, стараясь заглушить вопль, исторгнутый первым мучительным спазмом всех внутренностей.
Тишина. Голос. Кто это поет? И луна...
Пел извозчик, протяжно и уныло, меж тем как усталые лошади с трудом тащили черную карету по пыльной дороге, выбеленной луной.
«REQUIEM AETERNAM DONA EIS, DOMINE!» (Перевод В. Федорова)
(«Вечный покой даруй им, Господи!» (лат.))
Их было двенадцать: десять мужчин и две женщины. Со священником — тринадцать.
В приемной, заполненной посетителями, стульев на всех не хватило. Сели шестеро, среди них священник и обе женщины, а семеро остались стоять прислонившись к стене.
Женщины, до глаз закутанные в черные шали, все время плакали. Когда под наплывом каких–то мыслей плач их усиливался, глаза десяти мужчин и священника также затуманивались слезой, ибо все они догадывались, что это за мысли.
— Ну, будет... будет... — тихонько успокаивал их священник, но у самого голос дрожал от волнения.
Женщины в ответ лишь поднимали голову, открывая покрасневшие от слез глаза, и взгляды их были полны смутной, неосознанной тревоги.
От всех, в том числе и от священника, пахло козлом, и к этому запаху примешивался жирный навозный дух, такой острый, что другие посетители сердито отворачивались либо затыкали носы, а кое–кто даже восклицал: «Фу!»
Но вновь прибывшие ничего не замечали. Для них этот запах был своим, родным; это был запах той жизни, которую они вели среди коз, овец и мулов там, в горах, где земля выжжена солнцем, где нет ни реки, ни ручья. Чтобы не умереть от жажды, им приходилось каждое утро возить воду на мулах из тинистого пруда в долине, за много миль от их поселка. Где уж тут тратить воду на мытье. К тому же теперь они еще и вспотели от беготни, а охватившее их отчаяние придавало их запаху терпкость чеснока — так пахнет от затравленного зверя.
Если они и замечали косые взгляды,, то приписывали их вражде, которую, по их мнению, питают к ним эти господа, которые все заодно, все против них.
Они прибыли из поместья барона Маргари, расположенного высоко в горах, и провели в пути целый день: священник между двух женщин — впереди, за ними толпой — остальные десять.
Их грубые сапоги из сыромятной кожи, подбитые гвоздями, целый день высекали искры из мощенных камнем дорог.
Суровостью веяло от грубых крестьянских лиц, заросших Щетиной недельной давности, а в волчьих глазах застыло острое темное отчаяние. Какая–то жестокая нужда довела этих людей до такого состояния, что, казалось, они вот–вот обезумеют, взорвутся.
Они уже побывали и у синдика, и у разных советников, и у членов городской управы; теперь они во второй раз пришли сюда, в префектуру.
Накануне господин префект не пожелал принять их, но они все же сумели, перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя вперемежку со слезами, мольбами и угрозами изложить свою жалобу на владельца поместья заместителю префекта, который напрасно пытался убедить их, что ни синдик, ни он сам, ни господин префект, ни его превосходительство министр, ни даже его величество король не располагают властью, достаточной для того, чтобы выполнить их просьбу; наконец, отчаявшись, пообещал им, что господин префект выслушает их завтра в одиннадцать часов в присутствии владельца поместья, барона Маргари.
Давно пробило одиннадцать, время близилось к полудню, а барон не показывался.
Впрочем, дверь кабинета, где префект принимал посетителей, все это время оставалась закрытой.
— Там люди, — отвечали привратники.
Наконец дверь открылась, и оттуда, отвешивая прощальные поклоны и скрипя ботинками, вышел не кто иной, как сам барон Маргари — низенький, толстый, красный от жары, с платочком в руке. С ним вышел заместитель префекта.
Шестеро сидевших вскочили, женщины громко вскрикнули, а суровый священник выступил вперед и патетически воскликнул:
— Но это же... это предательство!
— Падре Сарсо! — громогласно возгласил привратник, стоя у открытых дверей кабинета.
Заместитель префекта обернулся к священнику:
— Ну вот, вас приглашают, вы получите ответ. Входите, только вы один... Спокойно, синьоры, спокойно!
Озадаченный и взволнованный священник стоял в нерешительности, не зная, идти или нет, а его люди, не менее озадаченные и взволнованные, вопрошали, плача от обиды на вероломство, которое им казалось очевидным:
— А мы? А мы? Как это так? Какой ответ? Потом все разом, без всякого порядка стали кричать:
— Нам нужно кладбище!
— Мы крещеные.
— Навьючиваем покойника на мула!
— Как свиную тушу!
— Покой усопшим, синьор префект!
— Нам нужны могилы!
— Пядь земли для упокоения праха! Женщины вопили, заливаясь слезами:
— Ради нашего умирающего отца!. Он умирает и, перед тем как закрыть глаза навсегда, хочет быть уверен, что опочиет в могилке, которую велел для себя вырыть, хочет, чтоб над ним росла травка наших родных мест!
А священник стал перед открытой дверью кабинета и, воздев руки, кричал громче всех:
— Это же самая высокая мольба верующих: Requiem aeternam dona eis, Domine!
На шум сбежались со всех сторон привратники, стражники, служащие и по распоряжению префекта, которое он прокричал, стоя в дверях, очистили приемную, вытолкали на улицу даже тех, кто стоял на лестнице.
Когда из здания префектуры с воплями вывалилось столько народу, на главной улице мигом собралась большая толпа, и падре Сарсо, на которого со всех сторон сыпались вопросы, решил дать выход переполнявшему его негодованию: он стал махать над головой руками, как утопающий, кивать головой направо и налево в знак того, что сейчас ответит всем... Сейчас... да–да... Тихо… Чуточку посторонитесь... Власти выставили за дверь... К народу, к народу!
И священник обратился к толпе с такой речью:
— Христиане! Я обращаюсь к вам от имени Господа Бога, воля которого выше всех законов человеческих, ибо ей подвластны все и вся на земле! Наш удел — не только жить на свете! Наш удел — жить и умирать! Если неправедный человеческий закон при жизни отказывает бедняку в праве на клочок земли, на который он мог бы ступить и сказать: «Это мое», то после смерти никакой закон не может отказать ему в праве на могилу! Христиане! Вот эти люди пришли сюда от имени четырехсот таких же несчастных, чтобы получить право на погребение! Им нужны могилы! Им и их близким!
— Кладбище! Кладбище! — вскинув руки, закричали вразброд все двенадцать маргаритан.
Ропот толпы придал священнику вдохновения, и он продолжал, поднявшись на цыпочки, чтобы всем было слышно:
— Вот, христиане, взгляните на этих двух женщин... Где вы? Покажитесь! Вот у этих двух женщин умирает отец, который и всем нам отец, наш общий родоначальник! Шестьдесят с лишним лет тому назад этот человек, лежащий теперь на смертном одре, поднялся в горы и на скалистом хребте, во владениях барона Маргари, поставил хижину из тростника и глины. Теперь там больше ста пятидесяти домов, и в них живут более четырехсот человек. До ближайшей деревни — около семи миль. Когда у кого–нибудь из этих людей умирает отец или мать, жена или сын, брат или сестра, ему предстоит претерпеть муку, видя, как тело близкого человека трясется в ящике, навьюченном на мула, милю за милей по трудной дороге между скал! О христиане! Не раз случалось, что мул споткнется, и покойник непотребным образом вываливается на осклизлые камни горного ручья. И всё это лишь потому, христиане, что синьор барон Маргари наотрез отказал нам в разрешении хоронить усопших на небольшой площадке возле нашего селения, так, что бы мы могли присматривать за могилами. До сих пор мы терпели эту муку и не роптали, а только просили, на коленях умоляли этого жестокосердного барона! Но теперь, когда умирает наш общий отец, наш старик, и горит желанием знать заранее, что будет погребен там, где в полутора сотнях домов горит зажженный им некогда огонь, — теперь мы пришли сюда требовать не то чтоб какого–то права по закону, но лишь че... Что? Что такое?.. Лишь человечности и...
Закончить он не смог. Большой отряд стражников и карабинеров врезался в толпу и под крики, свистки и аплодисменты разогнал зевак. Начальник полиции взял под руку падре Сарсо и препроводил его в комиссариат, куда отвели и остальных двенадцать маргаритан.
Барон Маргари, окруженный знакомыми, стоял в стороне, тяжело дыша, как будто он вот–вот задохнется или его хватит удар перед лицом публичного скандала, который устроил священник своей необычной проповедью; барон не раз порывался освободиться от державших его услужливых рук и броситься на оратора. Теперь, когда толпа поредела, он выступил вперед, стал посредине тотчас образовавшегося круга и, отдуваясь, словно после тяжкой битвы, принялся рассказывать, что он и его отец, дон Раймондо Маргари, кого эти люди и этот проходимец в сутане выставляли здесь как бессердечных варваров, отказывающих им в праве на погребение, на самом деле вот уже шестьдесят лет страдают от наглого вторжения в их земли отца этих двух женщин, страшного человека, бессовестного узурпатора и мошенника, каких свет не видал. Уже давно он, барон Маргари, будто и не хозяин той земли, где эти люди поставили свои дома, а священник выстроил церковь, не только не уплатив ни налога, ни арендной платы, но даже не испросив его разрешения. Он мог бы послать своих полевых стражников и согнать этих людей со своей земли, как паршивых собак, а дома их снести, но он этого не сделал и не собирается делать, и эти люди стали там жить и размножаться, что твои кролики: каждая из этих женщин родила не менее двадцати детей, так что за шестьдесят лет на горе вырос целый поселок. Но им этого мало, они еще и недовольны: их подстрекнул этот их святой заступник, который кормится за их счет — ведь он собирает с них подать на содержание храма, — и вот они пришли сюда; они, видите ли, желают не только жить на земле барона, но и оставаться в ней после смерти. А уж этому не бывать, нет, не на того напали! Живых он кое–как терпит, а мертвых ему не надо, это уж слишком! Они хотят укорениться на захваченной земле, захоронив в нее своих покойников! Префект согласился с бароном, он даже обещал послать в горы стражников и карабинеров, чтобы охранить его от возможного насилия: старик, их родоначальник, который вот уже месяц умирает от водянки, способен распорядиться, чтобы его похоронили заживо в могиле, давно уже вырытой по его приказу там, где он хочет устроить кладбище, как только его дочери и священник сообщат, что им отказали.
И в самом деле, когда падре Сарсо и его подопечные в послеобеденный час были отпущены и направились в трактир, где накануне оставили мулов, они увидели там большую группу конных стражников и карабинеров, которые получили приказ сопровождать их до самого поселка.
Увидев отряд, падре Сарсо вскипел:
— Только этого и не хватало! Разбойники мы, что ли, чтобы нас вести под конвоем? Впрочем, ладно, пусть... Так даже лучше... Ведите хоть в наручниках! Домой, в горы! На коней!
Он словно бы принял мученичество и гордился этим, так что ему даже не терпелось вернуться в поселок под конвоем и тем самым показать своим прихожанам, как смело и решительно он действовал, борясь за право на могилу для их старейшины.
День клонился к вечеру, а ведь в поселке их ждут со вчерашнего дня. Они доберутся туда лишь ночью. Доживет ли старик до ночи? В душе каждый надеялся, что они найдут его уже мертвым.
— Ох, наш отец... отец... — всхлипывали женщины. Конечно, лучше ему умереть с надеждой, что им, быть может, удалось вырвать у барона разрешение на устройство кладбища!
Вперед... выше и выше... Опустились сумерки, и чем больше затягивается возвращение в поселок, тем больше крепнет в сердцах у всех, кто их ждет, эта надежда. И тем горше будет разочарование.
Бог ты мой! Как далеко разносится топот копыт... Будто кавалерийский поход... Что подумают жители поселка, когда увидят с ними такое войско?
Старик сразу все поймет.
Он умирал, окруженный родичами, на свежем воздухе, сидя в кресле перед дверью — настолько опух от водянки, что лежать уже не мог. Тут он остался и на ночь, ловя ртом воздух и глядя в небо, а вокруг него собрались жители поселка — они уже целый месяц дежурили, возле него по ночам.
Сделать хотя бы так, чтобы не увидел он отряд стражников...
Падре Сарсо обратился к сержанту, ехавшему рядом с ним:
— Вы не могли бы немного поотстать и держаться где–нибудь неподалеку? Тогда мы из милосердия сказали бы несчастному старику, что разрешение получено!
Сержант помолчал. Он побаивался священника и не хотел связывать себя обещанием. Наконец ответил:
— Посмотрим, падре, посмотрим на месте.
Но когда после трудного многочасового пути они прибыли к подножью горы,, на которой стоял поселок, то, несмотря на темноту, издали увидели такую необычную картину, что никто уже более не помышлял о лжи из милосердия.
Наверху, на скалистом склоне, роились огни. Тут и там горели факелы из соломы, освещая вздымавшиеся к звездам густые клубы дыма, — как на Рождество. И, как на рождество, люди при свете факелов пели.
Что там случилось? Скорей наверх, но–о–о!
Там, наверху, жители поселка собрались, как видно, для выполнения какого–то дикого похоронного обряда.
Старик, которому невмоготу стало ждать избавления от мучавшей его одышки, велел перенести себя в кресле к вырытой для него могиле, которая должна была, по его замыслу, ознаменовать открытие кладбища.
Он был уже обмыт, причесан и обряжен как покойник; рядом с креслом, в котором он полулежал, похожий на огромный хрипящий шар, стоял гроб из еловых досок, сколоченный еще неделю тому назад. На крышке гроба лежала черная шелковая шапочка, пара матерчатых туфель и платок, тоже черный, сложенный так, чтобы им удобно было подвязать подбородок старика, как только он умрет. Словом, все необходимое для снаряжения покойника в последний путь.
Вокруг стояли люди с факелами и пели литанию:
— Sancta Dei Genitrix...
— Ora pro nobis!
— Sancta Virgo Virginis...
— Ora pro nobis!
( — Пресвятая Богородица...
— Моли Бога за нас!
— Пресвятая Дева...
— Моли Бога за нас! (лат.))
A над этим хороводом огней мерцал звездами необъятный купол небосвода.
Легкий ночной ветерок шевелил жидкие волосы на голове старика, еще не высохшие и непривычно гладкие. Едва шевеля опухшими руками, сложенными на груди, он стонал и хрипел, как бы подбодряя и утешая себя:
— Травка... Травка!..
Он думал о той траве, что взойдет из родной земли на его могиле. К. ней он и протягивал обезображенные водянкой ноги, похожие на два пузыря, в синих штанах из грубой хлопчатобумажной ткани.
Как только родичи, обступившие старика, подняли крик, завидев на склоне такой большой отряд всадников, бряцающих саблями, старик попытался встать; он услышал причитания и грустные голоса вновь прибывших, все понял и хотел броситься в яму. Его удержали; все сгрудились вокруг него, чтобы защитить его от насилия; но сержант все же пробился в центр образовавшегося круга и приказал тотчас отнести умирающего домой, а всем остальным разойтись.
Подняв старика на кресле, как статую святого на носилках, его унесли, а остальные жители поселка, размахивая факелами, с воплями и рыданиями, направились к своим домам, белыми пятнами разбросанным по гребню горы.
Вооруженный отряд остался в темноте под звездным небом караулить пустую яму, гроб из еловых досок и лежавшие на его крышке шапочку, туфли и плиток.
ГРОБ ПРО ЗАПАС (Перевод А. Косе)
Когда одноколка поравнялась с церквушкой Сан–Бьяджо, стоявшей при дороге, Мендола, возвращавшийся из своей усадьбы, подумал, что следует подняться на холм, выяснить, что делается на кладбище и справедливы ли поступающие в муниципалитет жалобы на кладбищенского сторожа Ночо Пампину по прозвищу Святой Дар.
Нино Мендола вот уже почти год состоял муниципальным советником и с того самого дня, как вступил в должность, утратил хорошее самочувствие. Его стали мучить головокружения. Не желая признаваться в этом и самому себе, он боялся, что не сегодня завтра его свалит апоплексия — недуг, от которого до срока сошли в могилу все его предки. А потому он пребывал неизменно в прескверном настроении, и об этом было кое–что известно лошаденке, впряженной в одноколку.
Но здесь, за городом, он весь нынешний день чувствовал себя отменно. Моцион, приятные впечатления... И чтобы не давать волю тайному страху, он решил тотчас же произвести на кладбище ревизию, давно обещанную коллегам из муниципалитета, но столько времени откладывавшуюся.
— Как будто мало хлопот с живыми! — размышлял он, взбираясь на холм. — Так нет, в этом свинском городишке и от мертвых нет покою. А впрочем, дело все–таки в живых, будь они неладны! Мертвым наплевать, как там за ними смотрят, хорошо или плохо. Хотя, спорить не буду, если подумать, что после смерти с тобой будут плохо обращаться, вверят попечениям этого Пампины, дурня и пьянчуги, от такой мысли может стать не по себе... Ладно, сейчас поглядим.
Все оказалось чистой клеветой.
Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, был идеальным кладбищенским сторожем. Один вид чего стоит: сущий призрак, такого ветерком унесет, глаза какие–то бесцветные, потухшие, не голос, а комариный писк... Он и сам казался мертвецом, вышедшим из могилы, чтобы в меру сил своих присмотреть за хозяйством.
Да и много ли у него дел–то, в сущности? Вокруг всё люди порядочные и — отныне — спокойные...
Вот листья разве что. На аллеях валялись листья, слетевшие с кустов живой изгороди. И подравнять ветки кое–где следовало. И воробьи, негодники, не ведая, что в надгробных надписях знаки препинания неуместны — специфика лапидарного стиля, — наставили, пожалуй, слишком много сероватых запятых и восклицательных знаков в перечнях добродетелей, коими столь богаты могильные плиты. Мелочи все это.
Но, войдя в сторожку Ночо, справа от калитки, Мендола опешил:
— А это еще что такое?
Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, раздвинул бледные губы в подобие улыбки и пробормотал:
— Гроб, ваше превосходительство.
В самом деле, то был гроб, и очень красивый. Каштанового дерева, полированный, с медными гвоздиками и позолоченными украшениями. Так он и стоял тут, посреди каморки.
— Благодарю, я и сам вижу, что гроб, — сказал Мендола. — Я спрашиваю, почему ты держишь его здесь?
— Это гроб для кавалера Пиккароне[12], ваше превосходительство.
— Пиккароне? С какой стати? Он же не умер!
— Нет, нет, ваше превосходительство! Дай Бог ему долгих лет жизни! — сказал Пампина. — Но, может статься, ваша милость знает — у него у бедняги жена умерла в прошлом месяце.
— Ну и что?
— Он ее проводил сюда, всю дорогу за гробом шел — это в его–то годы. Так–то вот. Потом позвал меня, говорит: «Слушай, Святой Дар. Месяца не пройдет, я тоже тут буду». — «Да что вы говорите, ваша милость!» — я в ответ. А он: «Помалкивай, — говорит. — Слушай. Этот гроб, сынок, обошелся мне в двадцать унций с лишком. Красивый, сам видишь. Ради покойной, земля ей пухом, я на расходы не смотрел, сам понимаешь. Но сейчас игра сыграна, — говорит. — Что покойной, мир ее праху, делать под землей с таким красивым гробом? Грех его губить, — говорит. — Мы вот как сделаем. Похороним, — говорит, — святую покойницу аккуратненько, в том цинковом гробу, что внутри, а этот ты мне доставишь домой: мне самому пригодится — про запас. На днях, как стемнеет, я за ним пришлю».
Мендола не захотел ни о чем больше слушать, ничего больше осматривать. Ему не терпелось вернуться в городок, чтобы разнести весть о том, что Пиккароне приказал приберечь гроб жены про запас для самого себя.
Джероламо Пиккароне, адвокат, во времена Бурбонов[13] ставший кавалером ордена святого Януария, прославился в округе скупостью и хитростью. А уж мастер не платить по счетам! О нем такое рассказывали — было чему подивиться. Но эта история, думал Мендола, весело нахлестывая несчастную лошаденку, эта история превзошла все прочие, и к тому же чистая правда, тра–ля–ля! Он сам видел гроб, собственными глазами.
Лошаденка неслась как угорелая, одноколка грохотала, вздымая облака пыли, но Мендола ничего не замечал, предвкушая взрывы хохота, которые встретят его рассказ, — а рассказывать он будет пискливым голосишком Пампины, — когда вдруг услышал оглушительные крики: «Стой! Стой!» — раздававшиеся из придорожной харчевни «Приют охотников», содержателем которой был некий Дольчемасколо[14].
То были два приятеля Мендолы — Бартоло Гальо и Гаспаре Фикарра, заядлые охотники; они сидели у входа в харчевню под навесом из виноградных лоз и раскричались так, решив, что лошаденка Мендолы понесла.
— Какое там — понесла! Просто я хотел прибавить ходу...
— Ах, ты прибавляешь ходу таким манером? — сказал Гальо. — У тебя что, есть дома запасная голова?
— Знали бы вы, друзья мои! — воскликнул Мендола, вылезая из одноколки; он тяжело дышал, но был в самом приподнятом настроении и с места в карьер рассказал двум друзьям историю с гробом.
Оба сперва сделали вид, что не могут поверить, но только для того, чтобы выказать удивление. И тут Мендола давай клясться, что — честное слово! — он сам видел этот гроб, своими глазами видел в сторожке у Святого Дара.
Охотники, в свой черед, принялись рассказывать о других подвигах Пиккароне, уже известных. Мендола хотел было снова сесть в одноколку, но они уже распорядились, чтобы Дольчемасколо принес стаканчик для их друга советника, и хотели, чтобы Мендола выпил с ними.
Дольчемасколо, однако же, стоял на месте как вкопанный.
— Эй, Дольчемасколо! — окликнул его Гальо. Трактирщик — он был в надвинутой на ухо меховой шапке пирожком и в рубахе с засученными рукавами, открывавшими волосатые руки, — очнулся и сказал со вздохом:
— Прошу прощения. Я вот слушал, что тут говорилось, и прямо измучился, стою и мучаюсь. Как раз нынче утром тут появился пес кавалера Пиккароне, вот уж тварь поганая, бегает себе на свободе от дома своего хозяина до его угодий близ Канателло... Так знаете, что он мне сделал? Украл у меня связку свиных колбасок, штук двадцать, если не больше, прямо с прилавка стянул, чтоб ему ими отравиться! Счастье еще, что есть у меня двое свидетелей!
Мендола, Гальо и Фикарра расхохотались. Мендола сказал:
— Ты их повыше подвешивай, любезнейший! Дольчемасколо поднял вверх кулак, глаза его блеснули.
— Нет уж, клянусь Богом! Он мне заплатит за колбаски! Заплатит, заплатит, — твердил Дольчемасколо трем своим посетителям, которые недоверчиво посмеивались и покачивали головой. — Вот увидите, господа. Я нашел способ. Знаю, чем его взять!
И он состроил свою обычную плутовскую мину: прижмурил один глаз и указательным пальцем оттянул кверху веко другого.
Что он нашел за способ, Дольчемасколо не захотел говорить; сообщил только, что ждет из деревни двух крестьян, которые были свидетелями утренней сцены, и с ними под вечер отправится к Пиккароне.
Мендола сел в одноколку, так и не выпив; Гальо и Фикарра заплатили по счету и, посоветовав трактирщику для его же блага отказаться от попытки взыскать с Пиккароне деньги, отправились восвояси.
На то, чтобы обзавестись одноэтажным домиком, стоявшим при выходе из городка, Джероламо Пиккароне, адвокат и кавалер ордена святого Януария во времена Короля–Бомбы, потратил более двадцати лет, и поговаривали, что дом не стоил ему ни медяка.
Злые языки утверждали, будто дом сложен из булыжников, которые нашел на дороге и доставил на место, подкатывая их ногами, сам Пиккароне.
Был же он ученейшим юрисконсультом, человеком высокого ума и глубоким знатоком философии. Две его книги, одна про гностицизм, а другая про христианскую философию, были, говорят, переведены на немецкий.
Но он был самым закоренелым ретроградом, этот Пиккароне, иными словами — злейшим врагом всего нового. Одевался все еще по моде двадцать первого года; носил бороду подковой; был приземист, сутул, неприветлив, брови всегда нахмурены, глаза прикрыты; вечно почесывал подбородок и частенько ворчал себе под нос, одобряя свои тайные мысли:
— Ф–фу, ф–фу... Италия! Что сделали с Италией... премило, ф–фу... Италия... мосты и дороги... ф–фу... освещение улиц... армия и флот... ф–фу, ф–фу... ф–фу... всеобщее обучение... а если я хочу остаться ослом? Ни в коем случае... Всеобщее обучение... налоги! А Пиккароне платит... „
Платил он, по правде говоря, очень мало, а то и совсем ничего с помощью изощреннейших уловок, которые доводили до изнурения и отчаяния людей с самым испытанным терпением. В заключение же всегда заявлял:
— При чем тут я? Железные дороги? Никуда не езжу. Освещение улиц? По вечерам не выхожу. Я ни на что не притязаю, спасибо, и ничего не хочу. Только немножко воздуха, чтобы было чем дышать. Может, и воздух тоже вы сделали? Может, мне еще платить за воздух, которым я дышу?
Он и в самом деле жил совершенно уединенно у себя в домике, уйдя от дел, хотя ремесло его еще недавно приносило ему богатые доходы. У него, должно быть, были изрядные сбережения. Кому он мог оставить их после смерти? У него не было никаких родственников, ни близких, ни дальних. Ну хорошо, он мог распорядиться, чтобы банковые билеты положили ему в гроб, тот самый красивый гроб, что он велел приберечь про запас для себя самого. Но домик? И угодья близ Канателло?
Когда Дольчемасколо в сопровождении двух крестьян подошел к калитке, Турок, сторожевой пес, стал яростно бросаться на ограду, словно понимая, что трактирщик явился сюда из–за него. Пришел старый слуга, но он не мог ни утихомирить пса, ни оттащить его в сторону. Потребовалось, чтобы Пиккароне, читавший книгу в садовой беседке, подозвал пса свистом и подержал за ошейник, покуда слуга сажал его. на цепь.
Дольчемасколо, как человек бывалый, оделся по–воскресному и между двумя бедными крестьянами, усталыми и грязными после трудового дня, еще больше, чем обычно, казался процветающим и барственным со своей свежевыбритой физиономией — кровь с молоком, приятно поглядеть, — и к тому же на правой щеке возле самого рта у него была такая славная бородавочка с вьющимися волосиками.
Войдя в беседку, он воскликнул с притворным восхищением:
— Что за пес! И громадина, и красавец! Ну и сторож! Ему же цены нет!
Пиккароне покивал головой в ответ на похвалы и, нахмурив брови и прикрыв глаза, проворчал что–то, потом осведомился:
— Что вам угодно? Садитесь.
И показал на кованые табуреты, стоявшие вдоль стены. Дольчемасколо подвинул один из них вперед, поближе к столу, сказал обоим крестьянам:
— А вы там садитесь.
И добавил, обращаясь к Пиккароне:
— Я пришел к вашей милости как к знатоку законов, чтобы совет получить.
Пиккароне открыл глаза:
— Совет? Но я уже давно не занимаюсь адвокатской практикой, любезнейший.
— Знаю, — поспешно согласился Дольчемасколо. — Но вы, ваша милость, законник старинного склада. А мой отец, земля ему пухом, всегда говорил мне: «Держись людей старинного склада, сынок». Знаю я, что вы, ваша милость, дока в своем деле. Нынешним молодым адвокатишкам я не очень–то доверяю. Я не собираюсь заводить с кем–то тяжбу, заметьте! Не сошел с ума покуда... Я пришел сюда всего лишь за советом, и дать его можете мне только вы, ваша милость.
Пиккароне прикрыл глаза:
— Говори, слушаю тебя.
— Ваша милость знает, — начал было Дольчемасколо. Но Пиккароне дернулся и фыркнул:
— Уф, сколько я всего знаю! А сколько ты знаешь! Я знаю, ты знаешь, он знает... Ближе к делу, любезнейший!
Дольчемасколо немного растерялся, но все же улыбнулся и начал снова:
— Да, ваша милость. Я вот что хотел сказать: ваша милость знает, что я держу придорожный трактир...
— Ну, да. «Приют охотников», заходил туда, и не раз.
— Когда направлялись в свои угодья близ Канателло, все так. И вы, верно, заметили, что под виноградным навесом на прилавке я всегда выставляю немного съестного: хлеб, плоды, что–нибудь из колбасных изделий.
Пиккароне утвердительно кивнул, затем добавил не без таинственности:
— И видел, и даже слышал иной раз.
— Слышали?
— Ну да, что скрипят они на зубах от песка. С дороги пыль летит, сам понимаешь, сынок... Ладно, давай к делу.
— Так вот, значит, — продолжал Дольчемасколо, проглотив обиду. — Допустим, выложил я на прилавок... свиные колбаски, к примеру. Так вот, ваша милость, может, это... ох, чуть не брякнул снова... уж такая у меня привычка... Ваша милость, может, не знает, но на этих днях к нам перепела пожаловали. На дороге, стало быть, охотники все время, собаки. Я к делу, к делу! Появляется тут один пес, синьор кавалер, подобрался к прилавку, прыг — и схватил колбаску.
— Пес?
— Пес, ваша милость. Я бегу за ним, а за мною два этих бедняка — они зашли в заведение по дороге в поле, на работу, купить себе чего–нибудь пожевать. Ведь правда, все так и было? Бежали мы, стало быть, за псом всей троицей, но так и не догнали. Да если бы и догнали, на что мне, скажите, ваша милость, эти колбаски — со следами собачьих зубов и вывалянные в пыли?.. Бесполезно отнимать! Но пса–то я узнал; и знаю, чей он.
— М–м... Минутку, — прервал тут Пиккароне рассказчика. — Хозяина с ним не было?
— Нет, ваша милость, — поспешно ответил Дольчемасколо. — Среди охотников его не было. Ясно было, что пес убежал из дому. Собаки с хорошим нюхом чуют, когда охота открывается, сами понимаете, и мучаются взаперти, ну и убегают. Ладно. Как было сказано, я знаю, чей пес, и знают эти мои друзья, свидетели кражи. Так вот, вы, ваша милость, как законник, должны мне сказать только, обязан хозяин пса возместить мне убытки или нет?
Пиккароне отвечал не задумываясь:
— Конечно, обязан, сынок.
Дольчемасколо подскочил от радости, но сразу же овладев собой, повернулся к обоим крестьянам:
— Слышали? Синьор адвокат говорит, хозяин пса обязан возместить мне убыток.
— Еще как обязан, еще как обязан, — подтвердил Пиккароне. — А тебе что сказали, не обязан?
— Нет, ваша милость, — ответил ликующий Дольчемасколо, сложив ладони, точно перед молитвой. — Но вы должны простить меня, ваша милость, за то, что я, бедный невежда, по слабости своей так долго ходил вокруг да около, прежде чем сказать, что вы, ваша милость, и должны заплатить мне за колбаски, потому как пес, что украл их, это ваш пес, Турок.
Пиккароне обалдело уставился на Дольчемасколо, затем вдруг опустил глаза и принялся читать книгу, лежавшую перед ним на столе.
Крестьяне переглянулись; Дольчемасколо рукой сделал им знак не дышать.
Пиккароне, все еще делая вид, что читает, почесал себе подбородок, покряхтел и проговорил:
— Так, значит, это был Турок?
— Могу присягнуть, синьор кавалер! — воскликнул Дольчемасколо, вскочив и прижав руки к груди.
— И ты явился сюда, — угрюмо, но спокойно продолжал Пиккароне, — с двумя свидетелями, а?
— Нет, ваша милость, — заторопился Дольчемасколо. — Просто на тот случай, если бы вы, ваша милость, не соизволили мне поверить...
— Ах, вот зачем? — пробормотал Пиккароне. — Но я верю тебе, любезнейший. Садись. Ты, я вижу, бесхитростная душа. Верю тебе и заплачу. Я пользуюсь славой человека, из которого денег не вытянешь, так ведь?
— Кто это говорит, ваша милость?
— Все это говорят! И ты веришь, что уж там. Два... ф–фу... два свидетеля...
— Во имя Истины, столько же ради меня, сколько ради, вас!
— Браво, все верно: столько же ради меня, сколько ради тебя; ты хорошо сказал. Налоги я не плачу, любезнейший, поскольку они несправедливые, но по справедливым счетам я плачу, да, плачу с охотой и всегда платил. Турок украл колбасу? Скажи, сколько я тебе должен.
Дольчемасколо, шедший сюда в полной уверенности, что ему придется вступить в небывалое сражение с уловками и хитростями старой жабы, при виде подобной покорности сразу сник, сконфуженный.
— Мелочь, синьор кавалер, — сказал он. — В связке колбасок двадцать было, может, чуть побольше либо поменьше. Не о чем говорить.
— Нет, нет, — настаивал Пиккароне. — Скажи, сколько я тебе должен, я хочу заплатить. Живее, сынок! Ты трудишься, ты потерпел убыток, тебе полагается возмещение. Сколько?
Дольчемасколо слегка пожал плечами, улыбнулся и сказал:
— Двадцать штук в связке... вот такой толщины... два килограмма по одной лире двадцать...
— Ты продаешь их так дешево? — осведомился Пиккароне.
— Видите ли, — отвечал Дольчемасколо. медовым голосом. — Вы, ваша милость, их не ели. А потому я прошу с вас столько (хоть и поневоле), прошу с вас столько, во сколько они обошлись мне самому.
— Ничего подобного! — не согласился Пиккароне. — Если их не съел я сам, их съела моя собака. Стало быть, говоришь, на глазок килограмма два. По две лиры килограмм — сойдет?
— Как вам будет угодно.
— Итого четыре лиры. Превосходно. А теперь сообразим–ка, сынок: двадцать пять минус четыре — сколько будет? Двадцать сдан, если я не ошибаюсь. Превосходно. Ты даешь мне двадцать одну лиру, и кончен разговор.
Трактирщику показалось, что он ослышался.
— Как вы сказали?
— Двадцать одну лиру, — повторил безмятежно Пиккароне. — Здесь находятся два свидетеля, во имя истины, столько же ради меня, сколько ради тебя, согласен! Ты пришел ко мне попросить совета. Так вот, сынок, за советы, то есть за юридические консультации, я беру двадцать пять лир. Таков тариф. Четыре лиры я должен тебе за колбаски — давай двадцать одну лиру, и кончим на этом.
Дольчемасколо ошеломленно поглядел ему в лицо, не зная, плакать или смеяться; он не хотел поверить, что адвокат говорит серьезно, но было не похоже, чтобы он шутил.
— Я... вам? — пролепетал трактирщик.
— Мне, разумеется, сынок, — объяснил Пиккароне. — Ты занимаешься ремеслом трактирщика; я, по мере слабых сил своих, ремеслом адвоката. Стало быть, если я не отрицаю, что у тебя есть право получить возмещение, то и ты не будешь отрицать, что у меня есть право получить вознаграждение за разъяснения, которых ты у меня просил и которые я тебе дал. Теперь ты знаешь, что, если чья–то собака крадет у тебя колбасы, хозяин собаки обязан возместить тебе убыток. Раньше ты знал это? Нет. За знания надо платить, любезнейший. Я тоже потратил время и силы, чтобы приобрести их! Думаешь, я шучу?
— Само собой! — со слезами в голосе и разводя руками, признал Дольчемасколо. — Я списываю с вас долг за колбаски, синьор кавалер; я бедный невежда, простите меня, и на этом действительно кончим разговор.
— Ну нет, ну нет, любезнейший! — вскричал Пиккароне. — Я с тебя долга не списываю. Право есть право, столько же для тебя, сколько для меня. Я плачу, плачу, хочу заплатить. Заплатить и получить плату. Я сидел здесь, работал, как видишь; ты отнял у меня час времени. Двадцать одна лира. Таков тариф. Если не веришь, послушайся меня, любезнейший: пойди к другому адвокату и осведомись, полагается мне вознаграждение или нет. Даю тебе три дня. Если по истечении этого срока ты мне не заплатишь, я подам на тебя в суд, сынок, можешь не сомневаться.
— Но, синьор кавалер, — взмолился Дольчемасколо, прижав ладонь к ладони; он даже изменился в лице.
Пиккароне поднял подбородок, поднял руки:
— И слушать не хочу. Подам на тебя в суд.
Тут Дольчемасколо потерял самообладание. Его душила ярость. Из–за убытка? Вовсе нет. Он подумал о насмешках, которые на него посыплются, которые он уже угадывал, глядя на ухмыляющиеся физиономии двух крестьян; а он–то считал себя таким хитрецом, хвалился заранее, что возьмет верх, и был так близок к победе, рукой подать! Он так распалился, в самый неожиданный момент угодив в собственную ловушку, что внезапно озверел от ярости.
— А знаете почему, — сказал он, надвигаясь на адвоката, — почему у вас такой вороватый пес? Прошел вашу школу!
Пиккароне выпрямился; злобно глядя на трактирщика, поднял руку:
— Убирайся вон! Тебе еще придется ответить за оскорбления, нанесенные порядочному человеку, который...
— Порядочному человеку?! — взревел Дольчемасколо и, схватив адвоката за поднятую руку, яростно ее встряхнул.
Оба крестьянина бросились к трактирщику, чтобы удержать его; но внезапно рука старика обмякла, и он всей тяжестью повалился на Дольчемасколо, все еще сжимавшего гневно кулаки.
Дольчемасколо в испуге разжал пальцы, и старик вначале всем телом осел на табурет, а затем, завалившись набок, мешком рухнул наземь.
Заметив испуг обоих крестьян, Дольчемасколо скривил лицо, словно в приступе смеха. В чем дело? Он к нему даже не притронулся.
Крестьяне наклонились над лежащим, пошевелили его руку.
— Бегите... бегите...
Дольчемасколо поглядел на обоих бессмысленным взглядом. Бежать?
В этот миг заскрипела одна из створок калитки, и гроб, который старик приказал приберечь про запас для себя самого, торжественно вплыл в сад на плечах двух пыхтящих носильщиков, явившихся, как по вызову, чтобы без промедления приступить к делу.
При виде гроба все оцепенели.
Трактирщику не могло прийти в голову, что Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, после посещения советника и его замечаний поспешил навести у себя порядок и отослать гроб по назначению, но Дольчемасколо мгновенно вспомнил то, что рассказывал нынче утром Мендола у него в трактире, и внезапно ему представилось, что пустой этот гроб, который приплыл, словно по таинственному зову, и ждет адвоката послан самой судьбой, судьбой, которая воспользовалась как орудием им, трактирщиком Дольчемасколо.
Он схватился за голову и закричал:
— Вот оно! Вот оно! Гроб его звал! Я к нему даже не притронулся, будьте все свидетелями! Гроб его звал! Он велел приберечь гроб для себя самого! И вот гроб прибыл, потому что он должен был умереть!
И, схватив за руки носильщиков, он встряхнул их, как будто желая вывести из оцепенения:
— Разве не так? Разве не так? Скажите сами!
Но они вовсе не оцепенели от изумления, оба эти носильщика. Гроб они доставили как раз кстати, а потому то обстоятельство, что они застали мертвым адвоката Пиккароне, было для них самой естественной вещью в мире. Они пожали плечами и сказали:
— Ну да. Вот он, гроб.
ДЛИННОЕ ПЛАТЬЕ (Перевод Н. Томашевского)
Для Диди это было первым настоящим путешествием. Шутка сказать — из Палермо в Цунику. Почти восемь часов поездом.
Цуника была для нее обетованной землей, правда, очень далекой, но далекой скорее во времени, чем в пространстве. Когда Диди была еще совсем маленькой, отец привозил ей из Цуники какие–то необыкновенные душистые плоды, цвет, вкус и запах которых Диди никак не могла припомнить впоследствии, хотя отец и потом продолжал привозить ей оттуда и иссиня–черную шелковицу в глиняных деревенских посудинах, выложенных виноградными листьями, и груши, прозрачно–восковые с одного бока и кроваво–красные с другого, даже с зелеными листиками, и переливающиеся всеми цветами радуги сливы, и фисташки, и сладкие сицилийские лимоны.
И хотя с некоторых пор Диди уже отлично знала, что Цуника — всего лишь пыльный городишко Центральной Сицилии, опоясанный грядами жженой серы и выщербленными известковыми скалами, ослепительно сверкавшими под яростными лучами солнца, и что фрукты — конечно, столь непохожие на сказочные плоды ее детских грез — привозились из поместья Чумиа, расположенного за много километров от этого города, и вот тем не менее при одном упоминании Цуники перед ее глазами вставал непроходимый лес сарацинских олив, возникали просторы густо–зеленых виноградников и ярких садов, обнесенных живыми изгородями, над которыми роились пчелы, ей мерещились подернутые ряской пруды, цитрусовые рощи, напоенные одуряющим запахом жасмина и апельсиновых деревьев.
Обо всем этом Диди слышала от отца. Сама она никогда не бывала дальше Багерии, что возле Палермо. В белую Багерию, спрятавшуюся от огнедышащей синевы неба в густую зелень, Диди вывозили на лето. В прошлом году она ездила еще ближе, в апельсинные рощи Санта–Флавия. Правда, тогда еще она бегала в коротких платьицах.
А вот теперь ради столь длительного путешествия она впервые в жизни надела длинное платье.
Диди сразу же показалась себе совсем другой. Просто взрослой. Даже взгляд ее посерьезнел и, казалось, под стать платью приобрел трен — она так уморительно поводила бровями, словно волокла трен своего взгляда, и при этом вздергивала свой задорный носик, подбородок с ямочкой и поджимала губки — губки настоящей дамы, облаченной в длинное платье, губки, скрывавшие зубы, подобно платью, скрывавшему ее маленькие ножки.
Вот если бы только не этот Коко, ее старший брат, плут Коко, который, устало откинувшись на красную спинку дивана купе первого класса и посасывая сигаретку, приклеившуюся к верхней губе, время от времени так тяжело не вздыхал и нудно не твердил:
— Диди, не смеши меня.
Боже, как она злилась! Боже, как чесались у нее руки!
Счастье Коко, что, следуя моде, он не носил усов! Не то Диди мигом бы выдрала их, набросившись на него, словно разъяренная кошка.
Но Диди только сдержанно улыбалась в ответ и бесстрастно отвечала:
— Милый, если ты такой дурак...
Не дурак, а просто идиот. Подумать только! Смеяться над ее платьем или, предположим, даже над выражением ее лица, и это после того серьезного разговора, который был у них накануне вечером по поводу этого таинственного путешествия в Цунику...
Разве не походило их путешествие на военную экспедицию, на штурм хорошо укрепленного горного замка? Разве не было ее длинное платье главным оружием этого штурма? Так что же смешного в том, что она заблаговременно делала смотр этому оружию, училась обращению с ним?
Накануне вечером Коко сказал ей, что наконец приспело время всерьез потолковать об их делах.
Диди только вытаращила на него глаза.
Об их делах? Каких делах? Разве могли быть у нее какие–то дела, о которых стоило бы потолковать, да еще серьезно?
Оправившись от первого удивления, Диди расхохоталась.
Она знала только одну особу, как бы нарочно созданную для того, чтобы думать о делах — своих или чужих, безразлично. Этой особой была донна Сабетта, ее гувернантка, которую Диди называла донной Бебе или, в скороговорке, просто донной Бе. Донна Бе постоянно думала о своих делах. Когда Диди особенно досаждала ей своими неожиданными сумасбродными выходками, бедняжка, доведенная до отчаяния, делала вид, что плачет, и, хватаясь руками за голову, начинала причитать:
— Ради всего святого, синьорина, дайте мне подумать о своих делах!
Неужели Коко в тот вечер спутал ее с донной Бе? Нет, он ничего не спутал. В тот вечер Коко открыл ей, что эти благословенные их дела и в самом деле существуют и что они важны, и даже весьма важны, как, впрочем, важно и ее длинное дорожное платье.
С детских лет привыкнув к тому что раз, а то и два в неделю отец уезжал в Цунику, и наслушавшись разговоров е поместье Чумиа, о серных копях Монте–Дьези и о разных других копях, владениях и домах, Диди легко освоилась с мыслью о том, что все эти богатства являются собственностью баронов Брилла и принадлежат ее отцу.
На самом же деле они принадлежали маркизам Нигренти ди Цуника. Отец ее, барон Брилла, был всего лишь опекуном. И вот эта опека, доставлявшая отцу в течение двадцати лет завидное благополучие, а Диди и Коко — полный достаток, должна была кончиться через три месяца.
Диди было чуть больше шестнадцати, и она родилась и выросла среди этого благополучия. Коко же перевалило за двадцать шесть, и он сохранял отчетливое воспоминание о далеких годах нищеты, в которой билась семья, прежде чем отец всеми правдами и неправдами выхлопотал себе опекунство над несметным богатством этих маркизов Цуника..
А вот теперь над ними снова нависает угроза нищеты, быть может, и не такой, как раньше, но которая после двадцати лет благоденствия наверняка показалась бы им еще более тяжелой, и отвратить ее можно, только приведя в исполнение тот план военной кампании, который с таким искусством измыслил отец. Путешествие в Цунику и было первым стратегическим маневром.
По правде говоря, даже не первым. Дело в том, что три месяца назад Коко уже ездил с отцом в Цунику на разведку; он пробыл там около двух недель и ознакомился с семейством Нигренти.
Насколько Коко мог понять, семейство состояло из сестры и трех братьев. Твердо он не был в этом уверен, потому что в старинном замке, расположенном на горе, которая господствует над всей Цуникой, проживали еще две восьмидесятилетние старухи, две тетки, принадлежность которых к Нигренти он точно не мог определить. Это были не то сестры деда нынешнего маркиза, не то сестры бабушки.
Самого маркиза звали Андреа, ему было около сорока пяти лет, и по окончании срока опеки к нему, согласно завещательному документу, должна была перейти главная часть наследства. Два брата Андреа: один — дон Фантазер, как окрестил его отец, был священником, а другой, по прозвищу Кавалер, был. просто лоботряс. Следовало остерегаться обоих, и больше священника, чем лоботряса. Сестре маркиза было двадцать семь лет — на год больше, чем Коко; звали ее попеременно то Агатой, то Титиной. Была она хрупкая, как облатка для причастия, и бледная, словно воск; в глазах у нее застыла безысходная тоска, а длинные, костлявые и холодные руки всегда дрожали от смущения, робости и неуверенности в себе. Видимо, бедняжка была самим воплощением добродетели и чистоты: за всю жизнь она не сделала и шагу из замка, ухаживала за двумя восьмидесятилетними старухами, своими тетками, вышивала, да еще «божественно» играла на рояле.
Так вот, план отца был простой: прежде чем минет срок опеки, устроить два брака — дочь выдать за маркиза Андреа, а Коко женить на Агате.
Когда Диди объявили об этом впервые, лицо ее вспыхнуло, словно раскаленный уголек, а глаза заискрились негодованием. Ее взорвало не столько известие, сколько тот непринужденный цинизм, с каким Коко сам шел на эту сделку и теперь предлагал ей то же самое в качестве единственного спасения. Как! Выйти ради денег замуж за старика, который ровно на двадцать восемь лет старше ее?
— Ну, уж будто на двадцать восемь? — подтрунивал Коко над этим взрывом негодования. — Какие там двадцать восемь, Диди! Зачем привирать? На двадцать семь... ну, на двадцать семь и несколько месяцев.
— Коко, ты просто мерзавец! Мерзавец, вот и все! — выкрикнула Диди, дрожа от негодования и показывая ему кулачок.
Но Коко не унимался:
— Я же говорю тебе, что женюсь на добродетели! На самой что ни на есть добродетели, Диди, на воплощенной добродетели!
Я женюсь на добродетели, а ты называешь меня мерзавцем. Она, правда, на какой–нибудь годик старше меня... Но, видишь ли, милая, я должен тебе заметить, что добродетель не может быть особенно юной. А ведь я так нуждаюсь в добродетели! Ты же знаешь, что я шалопай из шалопаев, распутник из распутников — словом, настоящий проходимец, как утверждает папа. Пора образумиться — буду расхаживать в шикарных туфлях с вышитым на них золотым вензелем и баронской короной, а на голове у меня будет бархатная шапочка, тоже расшитая золотом, с великолепной шелковой кистью. Барон Коко да Добро д’Етель... Барончик–красавчик! Правда, здорово, Диди?
Тут он дурашливо скривил голову набок и принялся расхаживать с глупым–преглупым видом, потупив глаза, вытянув губы трубочкой и изобразив сложенными ладонями подобие козлиной бородки.
Диди невольно прыснула со смеху.
Воспользовавшись этим, Коко принялся вкрадчиво уговаривать сестру, перечисляя ей все радости, какие он смог бы доставить бедняжке, хрупкой, как причастная облатка, и бледной, как воск. Ведь за те две недели, которые он гостил в Цунике, Агата ясно дала понять, несмотря на всю свою робость, что видит в нем спасителя. Ну да! В этом же все дело! Братья — Кавалер (кстати, на стороне у него есть бабенка, от которой он прижил десять, пятнадцать, двадцать, уж не знаю сколько там детишек) — заинтересованы в том, чтобы она оставалась незамужней и чахла взаперти. Так вот, для нее Коко будет ярким солнышком, самой жизнью. Он увезет ее с собой в Палермо, в чудесный новый дом, и пойдут празднества, театры, путешествия, поездки в автомобилях... Конечно, спору нет, красавицей ее не назовешь, скорее она даже уродлива, но что поделаешь, для жены сойдет. Главное, она добра и настолько нетребовательна, что будет довольствоваться самым малым.
Он еще долго продолжал болтать все в том же шутовском тоне и только о себе, о своем жертвенном благодеянии, так что Диди, раздосадованная и подстрекаемая любопытством, наконец не выдержала:
— Ну а какая же роль отводится мне? Тяжело вздохнув, Коко ответил:
— Что касается тебя, Диди, то твое дело куда более хлопотное. Беда в том, что тут замешана не только ты.
Диди нахмурилась:
— Ч о ты хочешь этим сказать?
— Хочу сказать... хочу сказать, что вокруг маркиза увиваются и другие женщины. И в особенности... одна!
И тут весьма красноречивым жестом, видимо призванным пробудить воображение, Коко намекнул на необыкновенную, красоту этой женщины.
— Вдова... лет тридцати... вдобавок кузина...
Сладко прищурившись, Коко чмокнул кончики своих пальцев. Диди даже передернуло от отвращения:
— Ну и пусть забирает его себе! Коко поспешно запротестовал:
— Хорошее дело, пусть забирает! Ты воображаешь, что маркиз Андреа... Красивое имя Андреа! А звучит–то как: маркиз Андреа... Кстати, с глазу на глаз ты можешь называть его просто Нене — так зовет его Агата, или, иначе, Титана, его сестра. Пари держу, ты даже не подозреваешь, что за мужчина этот Нене! Довольно тебе знать, что у него хватило глу... или как это называют... мужества прожить целых двадцать лет затворником в своем замке. Понимаешь, двадцать лет! Я серьезно говорю: с тех самых пор, как его имущество попало под опеку. Представь только, как отросли у него волосы за эти двадцать лет! Но он их острижет. Непременно острижет, не волнуйся. Каждый божий день, чуть свет, еще солнце не успеет встать, он выходит из замка... Тебе это нравится? Выходит один–одинешенек, укутавшись в плащ, и отправляется в горы. Разумеется, верхом. Лошаденка, правда, дряхленькая... белая, будто седая. Но наездник он превосходный. Да, да, верхом он ездит божественно... почти так же божественно, как его сестра Титина играет на рояле. И только представить себе при этом, что до двадцати пяти лет, то есть до того самого дня, когда из–за банкротства его упрятали в Цунику, он вел настоящую жизнь, дорогая моя! Где только он не был: и на континенте — в Риме, во Флоренции и в Париже — ив Лондоне... Ходят слухи, что он с юношеских лет был влюблен в эту кузину, о которой я тебе говорил; кстати, зовут ее Фана Лопес. Кажется, даже был с ней помолвлен. Правда, когда он разорился, она и слышать о нем не захотела и поспешила выйти за другого. Ну а теперь, когда все вернулось к прежнему... понимаешь? Конечно, дело облегчается тем, что маркиз, лишь бы утереть ей нос, скорее женится на другой своей кузине, этой старой деве Туцце Ла Диа, которая всегда втайне вздыхала по нему и вымаливала его себе у Бога. К тому же, Диди, волосатый маркиз после своего двадцатилетнего затворничества стал весьма пылким, так что можно опасаться и этой старой девы. Однако пора и кончать, — так заключил накануне вечером свои излияния Коко. — Теперь, Диди, нагнись и чуть–чуть приподыми своими пальчиками подол платья.
Опешившая от такой длинной речи, Диди наклонилась, спросив:
— Зачем?
— Хочу проститься с твоими ножками. Больше их никогда не будет видно.
Коко взглянул на них и приветственно помахал им обеими руками. Потом, вздохнув, добавил:
— Роро! Ты помнишь свою подружку Роро? Помнишь, как я прощался с ее ногами в тот последний раз, когда она надела короткое платье? Я еще думал, что никогда больше их не увижу. Так вот довелось же!
Диди побледнела и сразу посерьезнела:
— Что ты болтаешь?
— Увы, уже у мертвой! — поспешил пояснить Коко. — Клянусь, уже у мертвой! Ах, бедняжка Роро! Ее перенесли в церковь Сан–Доменико и оставили гроб открытым. Утром я зашел в церковь. Вижу — гроб, кругом свечи, я подошел. Возле гроба вертелись какие–то крестьянки и с восторгом глазели на подвенечное платье, в которое муж пожелал обрядить покойницу. Вдруг одна из этих бабенок приподняла краешек платья, чтобы поглядеть на кружева нижней юбки, и вот так мне снова довелось увидеть ноги Роро.
Всю ночь Диди беспокойно металась в постели и никак не могла уснуть.
Но прежде чем улечься, Диди решила еще раз примерить длинное дорожное платье перед зеркальным шкафом. Вспомнив красноречивый жест, которым Коко хотел изобразить красоту этой... как ее... Фаны... Фаны Лопес, Диди показалась себе в зеркале совсем маленькой, худенькой, жалкой... Она подобрала подол платья, чтобы взглянуть на ноги, которые до сих пор у нее были не прикрыты одеждой, и сразу же ей вспомнились ноги мертвой Роро Кампи.
В постели Диди снова захотела посмотреть на свои ноги под одеялом. Они показались ей какими–то высохшими и прямыми, словно палки, и тут Диди представила себя мертвой, в гробу, в подвенечном платье, после свадьбы с длинноволосым маркизом Андреа...
Ну и болтун же этот Коко!
Сидя в купе, Диди разглядывала брата, развалившегося на сиденье напротив, и чувствовала, как постепенно ее охватывает все большая и большая жалость к нему.
Она вспомнила, как буквально. за два–три последних года поблекло его когда–то красивое лицо, изменилось выражение, появилось что–то новое в глазах и складках рта. Диди казалось, что он как бы выгорел изнутри. Этот пожирающий огонь внутренней тоски и смутного беспокойства, прорывавшийся в каждом взгляде, изменил очертания губ,, иссушил и избороздил красными прожилками кожу, оставил под глазами темные круги. Она знала, что Коко каждую ночь возвращается домой очень поздно, что он играет, подозревала в нем еще худшие пороки по тем гневным упрекам, которые отец частенько обрушивал на него тайком от нее, запершись с ним в своем кабинете. Со временем Диди стала испытывать к брату странное чувство горечи и отвращения, ощущая подле себя эту скрытную и чуждую ей жизнь; ее угнетала мысль, что этот всегда такой любящий, снисходительный к ней брат за стенами дома ведет себя хуже, чем просто шалопай, что он порочный человек, а может быть, и настоящий негодяй, как не раз в припадке ярости кричал ему отец. До чего же грустно, что для других его сердце не было таким открытым и любящим, как для нее! Если он так бесхитростно добр к ней, то почему он приносит столько горечи другим? А может, эта горечь гнездится за пределами дома — в том самом мире, куда в определенном возрасте, расставшись с чистыми, простыми семейными привязанностями, мужчины вступают в длинных брюках, а женщины — в длинных платьях? И как ужасна должна быть эта горечь, если никто не смеет заговорить о ней, разве что шепотом и с хитрыми, дурацкими ужимками, которые так раздражают тех, кто, подобно ей, ничего не может понять! Как пагубна должна быть эта горечь, если ее брат в такое короткое время из цветущего юноши превратился в развалину, если ее подружка Роро Кампи, не выдержав и года замужества, умерла... Диди ощутила на своих ножках, еще вчера свободных и открытых, тяжесть длинного платья, и ее охватила щемящая грусть, она почувствовала, что ее душит тоска, и, чтобы отвлечься, перевела взгляд с брата на отца. Он сидел в другом конце купе, погруженный в чтение каких–то деловых бумаг, которые извлек из кожаного портфеля, лежавшего у него на коленях.
В портфеле, на фоне красной подкладки, поблескивала граненая пробка флакона. Диди уставилась на нее, думая в этот момент о том, что отцу уже много лет грозит внезапная смерть от сердечной болезни и потому он никогда не расстается с этим флаконом. А вдруг ей пришлось бы лишиться отца, вот так, в один миг... Нет, нет, зачем об этом думать? Вот отец хоть и носит с собой флакон, а о смерти вовсе не думает. Читает себе свои деловые бумаги и только время от времени то поправит очки, сползающие на самый кончик носа, то проведет пухлой, белой, волосатой рукой по сверкающей лысине, то оторвется от чтения и смотрит куда–то в пространство, слегка прищурив тяжелые веки. И тогда его миндалевидные голубые глаза загораются живым и острым лукавством, так контрастирующим с усталым, дряблым лицом, мясистым и угреватым, на котором топорщатся короткие рыжеватые усики, местами тронутые сединой.
После смерти матери, три года назад, у Диди появилось ощущение, что отец как–то отдалился от нее или даже стал вовсе чужим, и вот теперь она разглядывает его, как можно разглядывать лишь человека чужого. Да и не только отец, Коко тоже. Диди казалось, что только она одна Продолжает еще жить жизнью их дома или, вернее, чувствовать его пустоту после исчезновения той, которая была его душою и объединяла их всех в одну семью. Отец и брат зажили каждый своей жизнью — разумеется, вне дома, — и то немногое, что еще сохранилось от семьи, было лишь ее видимостью, не имеющей ничего общего с былым душевным теплом и согласием, которые одни только и дают поддержку, силу и успокоение.
Диди чувствовала страстную потребность в таком тепле и согласии, и это заставляло ее безудержно рыдать, стоя на коленях перед старым сундуком, где хранились платья матери.
Семейное тепло было заключено там, в дряхлом сундуке орехового дерева, длинном и тесном, как гроб, и оттуда, от этих маминых платьев, исходило тепло и горько пьянило ее воспоминаниями детства.
О мама! Мама!
После смерти матери жизнь стала пустой и ненужной, вещи, казалось, потеряли свою телесность и превратились в тени. Что–то ждет ее завтра? Неужели она всегда будет ощущать эту пустоту, бессмысленно ожидать чего–то, что должно заполнить эту пустоту и вернуть Диди веру, смысл жизни и покой?
Дни тянулись для Диди подобно облакам, скользящим по диску луны.
Сколько вечеров провела она в пустынной, неосвещенной комнате, неотрывно глядя сквозь витражи высоких окон на белые и пепельно–серые облака, обволакивающие луну! Ей казалось, что луна бьется, стремясь вырваться из этой пелены. И Диди подолгу стояла в темноте, вперив невидящий взгляд в пустоту, предаваясь мечтам, и глаза ее часто наполнялись невольными слезами.
Ей вовсе не хотелось грустить! Напротив, ей хотелось жить, веселиться, петь. Но ее окружала полная пустота, и это ее желание прорывалось только в сумасбродных выходках, сбивавших с толку несчастную донну Бебе.
Без наставника, без поддержки, вдруг лишившись всего, она не знала, что ей предпринять в жизни, какую дорогу выбрать. Сегодня она грезила об одном, завтра о другом. Однажды, вернувшись из театра, она ночь напролет промечтала о том, как станет балериной, а уже на следующее утро, когда в дом явились за подаянием монашки, она решила сделаться сестрой милосердия. А еще немного спустя ей захотелось уйти в себя, погрузиться в теософию и отправиться в странствие по белу свету, подобно фрау Венцель, ее учительнице немецкого языка и музыки; иногда ей хотелось целиком отдаться искусству, живописи... Или нет, нет! Только не живописи! Ведь с тех пор как живопись воплотилась для нее в этого идиота Карлино Вольпи, сына художника Вольпи, ее учителя, который однажды явился на урок вместо заболевшего отца... Как же это случилось?.. Да, она сдуру спросила:
— Какую нужно брать краску — ярко–красную или карминовую?
А он, хитрая бестия:
— Вот такую, синьорина... карминовую! И поцеловал ее в губы.
С того самого дня навсегда прочь и палитра, и кисти, и мольберт! Мольберт она опрокинула прямо на него, затем швырнула ему в лицо кисти и, даже не дав возможности отмыть бесстыжую рожу, окрасившуюся в зеленый, желтый и красный цвет, выгнала вон...
Так, значит, она во власти первого встречного... Значит, дома нет никого, кто бы мог ее защитить. Любой проходимец может войти и как ни в чем не бывало целовать ее в губы! Какое гадливое чувство оставил в ней этот поцелуй! Тогда она до крови растерла себе губы; и вот даже теперь, при одном воспоминании, инстинктивно поднесла руку ко рту...
Да и был ли у нее рот на самом деле? Она его не чувствовала!.. Диди сильно ущипнула себя за губу — ничего... Так вот и все тело...
Она не чувствовала его. Быть может, это оттого, что она всегда витала где–то, отрешенно от самой себя. Да и все внутри у нее было в каком–то смятении, нерешительности, волнении. А тут еще длинное платье, надетое на тело, которого она сама не ощущала! Платье весило куда больше, чем тело! Отец и брат воображали, что под этим длинным платьем скрыто настоящее женское тело, но они ошибались — под ним Диди ощущала только свое детское тело и ничего больше, да и то не нынешнее свое тело, а тельце того ребенка, каким Диди себя помнила в счастливую пору, когда все вокруг дышало реальностью сладостного детства, той осязаемой реальностью, какую умела придавать вещам своим дыханием, своей любовью только ее мать. И это ребячье тельце было взлелеяно неусыпными ее заботами. Со смертью матери Диди перестала ощущать даже свое тело, словно и оно растворилось, как и все вокруг, как растворилась сама реальность, которую Диди перестала уже осязать.
А эта поездка...
Взглянув еще раз на отца и на брата, Диди ощутила, как ее захлестывает чувство гадливости.
Оба спали в скрюченных, неудобных позах. Отец посапывал, лоб покрылся жемчужинками пота, а дряблая шея нависала над тесным воротничком.
Поезд, словно задыхаясь, полз в гору; за окном ни росинки, ни травинки — сплошная выжженная пустыня под опрокинутым густым синим куполом неба. Только время от времени медленно заваливались назад иссохшие телеграфные столбы с лениво провисшими проводами.
Куда везут ее эти два человека, которые даже тут, в купе, предоставили ее самой себе? На постыдное дело, на подлый торг, на унижение, на обман. И они еще могут спать! Да, потому что вся жизнь такова и, видно, не может быть иной. Вот эти двое уже вступили в нее, и им все равна, они вкусили ее и потому, отдаваясь движению поезда, могут спокойно спать, они могут спать... Они заставили ее надеть это длинное платье и волокут туда, на грязное дело, не испытывая при этом никакого беспокойства. Волокут в ту самую Цунику, которая была сказочной страной ее детских счастливых грез! А зачем? Чтобы она умерла там через год, как ее подружка Роро Кампи?
Когда и чем кончится это бесцельное ожидание неизвестности, это вечное беспокойство? Быть может, в мертвом городишке, в старинном мрачном замке, рядом со старым длинноволосым мужем... Быть может, именно ей, если удастся хитроумный план отца, суждено заменить золовку в заботах об этих восьмидесятилетних старухах.
Вперив глаза в пространство, Диди рисовала себе залы мрачного замка. Разве ей не пришлось уже побывать там? Да, однажды во сне, а теперь ей предстоит остаться там навсегда... Однажды? Когда же это было? Да вот, только сейчас... и вместе с тем очень давно... А теперь уже навсегда ей придется погрузиться с головой в пустоту времени, сотканного из неизбывных минут, терзаемого монотонным гудением мух, дремлющих на солнце, которое сквозь грязные стекла высвечивает голые стены, пожелтевшие от дряхлости, или пыльными кругами отпечатывается на выщербленных красных кирпичах пола.
О Боже, и нет никакого выхода, нет возможности убежать... Ведь она связана тем, что рядом спят эти двое, связана неимоверной медлительностью этого поезда, подобной медлительности времени в том старом замке, где только и остается спать, как спят эти двое...
И вдруг, все еще пребывая во власти галлюцинации, Диди ощутила, как на душу ей навалилась такая тяжелая глыба неумолимой действительности, такое жгучее чувство пустоты и ее окутал такой невыносимо удушливый зной жизни, что непроизвольно, сама собой, рука ее потянулась к кожаному портфелю, который отец оставил открытым на сиденье. Сверкающая граненая пробка флакона уже и раньше привлекала ее взгляд.
Брат и отец все еще спали. Некоторое время Диди рассматривала флакон, в котором отсвечивал розоватым блеском яд. Затем, как в дурмане, осторожно отвернула притертую пробку и медленно поднесла флакон к губам, не спуская глаз со спящих. Диди видела, как отец поднял во сне руку, чтобы согнать муху, проворно бегавшую по его лбу.
Вдруг рука, поддерживавшая флакон, тяжело опустилась на колени. В уши, как будто внезапно раскупорившиеся, ворвался устрашающий грохот поезда, такой жуткий грохот, что Диди испугалась, как бы он не заглушил крика, рвущегося из ее горла, раздирающего его... Нет... Вот отец и брат вскочили... склонились над ней... Ухватиться бы за них!
Диди простерла руки, но ничего не поймала, не услышала, не увидела...
Три часа спустя маленькая покойница в длинном платье прибыла в Цунику, сказочную страну своих детских грез.
СВИНЬЯ (Перевод Н. Томашевского)
Вот уже третью ночь Нели Згембри спит под открытым небом, на току, подостлав под себя солому, оставшуюся после молотьбы; где–то рядом, на жнивье, пасутся два его ослика и мул, ради которых Нели и ночует здесь.
Солома была мокрая от росы, или, как любил говаривать Нели, «была умыта слезами звезд». Сверчки оглашали округу нежным, прозрачным звоном своих песен, которые так живительно действовали после сухого, ржавого скрежета унылых цикад, оглушавших Нели в течение целого дня.
И все равно старик грустил. Лежа на соломе, он глядел на звезды, изредка закрывал глаза и тяжело вздыхал.
Он размышлял о том, что судьба надула его: она не дала ему ничего из того, о чем он так мечтал в юности, а под старость отняла даже ту малость, которую он заполучил, в сущности, помимо своего желания. Вот уже четыре года, как умерла жена, а в ней он нуждался и теперь; домогаться же новой любви, когда волосы стали совсем седыми, а спина сгорбилась, он стыдился.
Вдруг сонное течение мыслей Нели нарушилось: зеленая искорка светлячка прорезала тусклое мерцание влажных звезд и опустилась рядом с ним на солому.
При появлении этой искорки Нели почудилось, что небо не то опрокинулось на него, не то отъехало еще дальше, и он вскочил, словно встряхнувшись ото сна; однако сном показалось ему скорее все то, что было вокруг, затерянное в сумраке ночи: его крестьянская хижина, потрескавшаяся и закопченная, мул и двое ослят на жнивье и — где–то совсем далеко — робкие огни Раффадали, его родной деревеньки.
Светляк все еще сидел тут, на соломе, совсем рядом. Нели сгреб его в кулак и, разглядывая на дне мозолистой ладони, где светляк продолжал излучать слабое зеленое мерцание, думал, что эта «пастушья свечка» явилась ему как вестница далеких лет его счастливой юности; быть может, это тот самый светлячок, что одной июньской ночью, лет сорок пять тому назад, запутался в черных волосах Тризуццы Тумминиа, которая вместе со своими подружками из Раффадали осталась на ночь вот на таком же току, чтобы при луне, под звуки цимбал, плясками отпраздновать конец жатвы.
— Эх, молодость, молодость!
Как испугалась тогда Тризуцца Тумминиа этого крохотного червячка, заползшего ей в волосы! Она не знала, что это всего–навсего «пастушья свечка»! Нели вспомнил, как он подошел к ней, осторожно, двумя пальцами, снял светлячка, показал его Тризуцце и торжественно, словно собираясь читать стихи, произнес:
— Видишь этот огонек? Он хотел превратиться в звездочку у тебя на лбу.
Так Нели начал ухаживать за Тризуццой Тумминиа еще в те далекие времена, когда мир был совсем иным! Но из–за старой семейной распри родители воспротивились их браку; потому–то Тризуцца вышла замуж за другого, а Нели женился на другой. С тех пор прошло больше сорока пяти лет; он овдовел, овдовела и она около десяти лет назад... Но интересно, к чему бы это светлячок вдруг взял да вернулся? Почему он решил сверкнуть перед глазами Нели именно тогда, когда ему было так грустно и одиноко? Почему светляк выбрал место на мокрой соломе, да еще рядом с ним?
Вытащив из кармана клочок бумаги, Нели аккуратно завернул в него светляка; остаток ночи старик уже не спал и только думал, чему–то ухмыляясь про себя. На рассвете Нели увидел девочку, которая возвращалась по тропке, протоптанной мулами, домой, в Раффадали.
— Нику, Никуццу, поди–ка сюда! — окликнул он ее из–за своей загородки.
Глаза его при этом смеялись; казалось, что и лицо вот–вот расползется в улыбке. Подперев рукой колючий, давно не бритый подбородок, Нели спросил:
— Знаешь тетю Трезу Тумминиа?
— Ту, у которой свинья?
Старик обиженно нахмурил брови. Дождалась! Иначе как «та, у которой свинья», и не называют теперь в Раффадали бедную Тризуццу Тумминиа! А прозвали ее так потому, что вот уже сколько лет она с неслыханной любовью откармливает свинью такой неимоверной толщины, что животное не может уже передвигаться. Когда умер муж, а сыновья, женившись, обзавелись своим хозяйством, Треза перенесла на свинью все свои заботы, и плохо приходилось тому, кто предлагал ей эту свинью зарезать! Тризуцца частенько склонялась над своей любимицей, чтобы почесать ей за ухом, и тогда огромная розовато–белая масса блаженно распластывалась на соломе, морщила, словно в улыбке, свой пятачок и, радостно похрюкивая, подставляла шею. Эта свиная идиллия вызывала в деревне всеобщее осуждение, ибо никто не мог понять — зачем выкармливать свинью, если она не предназначается на убой.
— Ну да, тетю Трезу, ту самую... — растолковывал Нели. — Знаешь ее? Так вот, гляди: тут в бумажке — «пастушья свечка»: Смотри не выпусти и не раздави ее! Отнесешь тете Трезе и скажешь, что тебя, мол, послал Нели Згембри и что тут, в бумажке, тот самый светлячок, скажешь ей, которого тетя Треза видела много–много лет назад! Понятно? Главное, не забудь сказать: «Тот самый, что много–много лет назад!» Вечером принесешь ответ. Получишь печеных каштанов. Ну, беги!
...А ведь чем черт не шутит! Згембри вовсе еще не старик! Подумаешь, каких–то шестьдесят три года... Он здоров и крепок, как ствол оливкового дерева; да и Треза свежа, как несорванный зрелый боб, здорова, цветуща — в самом соку...
Вечером девчонка принесла ответ:
— Тетя Треза велела передать, что волосы из черных стали белыми и что «свечка» потухла.
— Так и сказала?
— Да.
На следующий день, побрившись и приодевшись, словно жених, Нели сам направился к Трезе Тумминиа, дабы заверить ее в том, что огонь «пастушьей свечки» по–прежнему горит в его сердце так же ярко и молодо, как в тот день, когда он впервые зажегся на лбу Трезы наподобие звезды.
— Давай поженимся и зарежем свинью! Треза пихнула его обеими руками в грудь.
— Проваливай–ка ты лучше отсюда, глупый дед!
Но при этом Треза смеялась. Понятно, о том, чтобы зарезать свинью, не могло быть и речи. А вот насчет свадьбы... что ж, можно подумать!
Но такова судьба. Раньше против их брака были родители, теперь — дети.
Правда, на сей раз жених и невеста не очень–то посчитались с бунтом. Дудки, теперь они сами себе хозяева. Ц хоть внешне они и делали обиженный вид, но про себя даже улыбались — как–никак, а этот бунт придавал их женитьбе привкус молодости. Разве не забавно и не приятно было слышать, как дети рассуждают об уместности и пристойности их брака?
У жениха и невесты было по четверо детей: у Трезы — четыре сына, у Нели — две дочери и два сына. Все четверо Трезиных сыновей были уже женаты, и хорошо женаты, причем каждый получил равную долю отцовского наследства. При Нели оставалась еще дочь Нарда, но и она была уже на выданье.
Чтобы заставить детей замолчать, старики отправились перед женитьбой к нотариусу составить завещание, которое, в случае их смерти, обеспечивало бы справедливый раздел остающегося имущества. Этим они хотели пресечь жестокие раздоры, вспыхнувшие между детьми с самого начала. Но все было напрасно. Особенно несговорчивыми оказались дети Нели, хотя они и получили больше других, поскольку старик отдал им не только имущество покойной жены, но и собственную долю, решив, пока хватит сил, обрабатывать землю Трезы и своей младшей дочери Нарды, вплоть до ее замужества.
Особенно горячилась, прямо–таки выходила из себя, старшая его дочь Сидора, по мужу Перонелла. Едва речь заходила о бедняжке Нарде, которая переселилась с отцом к мачехе, Перонелла с пеной у рта твердила своему мужу, невесткам и братцам Сару и Луццу:
— Пусть черви съедят мой язык, если эта хрычевка не принудит бедняжку засохнуть в старых девах. Пусть к Нарде сватается сам королевский сын — и тогда старая карга скажет, что он ей не пара!
Злословила она так потому, что никак не хотела поверить, будто Треза Тумминиа откажется от приданого Нарды и позволит Нели распоряжаться ее собственным хозяйством.
Соседкам, забегавшим посплетничать о подарках, которыми мачеха одаряла свою падчерицу, подарках, каких не делают и родной дочери, — всех этих золотых серьгах, кольцах, корраловых бусах, шейных и головных платках из чистого шелка, шелковых накидках с кружевами в четыре пальца шириной, опойковых туфлях на высоком каблуке, да еще с лаковыми носками, словом, таких вещах, что и поверить трудно, — Сидора, позеленев от злобы, отведала:
— Эх вы дурочки! Неужели не понимаете, что она это делает из корысти? Просто хочет откормить Нарду и держать взаперти, как свинью!
Угомонилась Сидора лишь тогда, когда соседки примчались и сообщили, что Нарда выходит замуж. И притом, за кого бы вы думали? За самого Питрину Чинквемани! А уж какой золотой это парень... Кстати, свояк старшего Трезина сына... А сколько у него земли, домов, скота, вьючного и рабочего... И устроила этот брак сама Треза, собственными руками!
— Как, неужели? Верно? Смотри пожалуйста! — затараторила Сидора в ответ, только чтобы не дать этим вертихвосткам позлорадствовать. — Питрину Чинквемани? Как я рада за бедняжку Нарду! Вот уж рада так рада!
Ни она, ни братья ни разу не навестили Нарду с тех самых пор, как она поселилась у мачехи, хотя двор Сару — старшего из братьев — был всего на расстоянии ружейного выстрела от двора мачехи, тай близко, что сквозь листву фиговых и миндальных деревьев можно было не только разглядеть навес на заднем дворике мачехи, где находилось стойло для скота, но даже пересчитать кур, копошившихся в навозе. Сидора с братьями не хотела знаться с Нардой потому, что та целиком приняла сторону мачехи и ее сыновей. Доброе отношение и подарки сделали свое. дело. Сыновья Трезы, выросшие без сестры, наперебой осыпали ее ласками и знаками внимания.
Накануне свадьбы на двор к Сару явился с пасмурным видом отец; почесывая щетину на давно не бритых щеках, он обратился к своему старшему сыну с тем, чтобы тот потом передал их разговор Сидоре и Луццу. Уставясь в землю, Нели начал:
— Годы пошли неурожайные, дети мои, и всем нам приходится туго. Видит Бог, как хотел бы я видеть вас всех на свадьбе сестры вашей Нарды. Но что говорят колокола Раффадали? Они говорят: «Деньги где? Деньги где? Деньги где?» Я роздал все и теперь гол, как Христос на распятии. Больше у меня нет ничего. Хотите верьте, хотите нет. Если придете вы, родственники невесты, то Питрину Чинквемани захочет, чтобы и его родичи были — те, что со стороны Трезы, знаете? — а между вами кошка пробежала, и потому ничего хорошего из этого не выйдет. Вот мы и порешили, что не будет ни их, ни вас. Будем только мы с Трезой со стороны, невесты и отец с матерью со стороны жениха. Хотите верьте, хотите нет.
Сару выслушал всю эту наверняка заранее заученную речь с потупленными, как у отца, глазами и так же, как он, держась за подбородок, наконец сказал:
— Ну что ж, отец. Хозяин ты, мы твоя кровь и плоть и, конечно, сделаем, как ты хочешь... но только, если тех тоже не будет. Иначе, — я говорю тебе это прямо, отец, — дело кончится плохо...
Старик, не подымая глаз, постоял еще немного, почесывая щетину, насупившись.
— Что касается меня, дети, то тем, другим, я тоже сказал не приходить, как говорю это вам.
— А если кто из них все же придет?
Старик не ответил. Его молчание ясно означало, что если с той стороны кто и будет, то он, право, не знает, как ему поступить.
— Ладно, отец, — сказал Сару. — Иди домой. Мы еще подумаем.
Проводив взглядом отца, который на ходу смущенно теребил двумя пальцами мочку левого уха, Сару вошел в дом. Тут он извлек из чересседельного мешка, подвешенного на гвозде, длиннющий нож — из тех, что называют «смерть свиньям», — вытащил из–под стола точило, окунул лезвие в воду, уселся на пороге дома и, положив камень на колени, принялся точить нож.
Перепуганная всеми этими приготовлениями жена трижды окликала его, но, не получив ответа, принялась со слезами на глазах заклинать:
— Пресвятая матерь божья, Сару, милый, что ты надумал? Сару вскочил, словно тигр, и замахнулся ножом:
— Замолчи, или, клянусь Богом, я начну с тебя!
Жена, чтобы приглушить плач, обеими руками натянула на лицо передник и, всхлипывая, забилась в угол. А Сару снова принялся точить нож под испытующими взглядами трех сыновей, безмолвно сидевших вокруг. На Трезином дворе запел петух, и здешний тотчас же завторил ему, выставив вперед свою когтистую ногу и воинственно встряхнув кровавым гребнем.
— Один... два... три... четыре... пять... шесть!
Целых шесть оседланных мулов разместились в стойле под навесом соседнего дворика! Вот они все: при свете луны отлично видно их всех шестерых, стоящих рядком.
Сару считал их, стоя на пороге своего дома. Чтобы лучше разглядеть их сквозь мешавшие стволы деревьев, он вертел головой, а внутри у него так и кипело от негодования.
— Уже шесть. Может, будут, еще.
Стало быть, праздник большой. Значит, все сыновья мачехи с женами и детьми, все–все родичи со стороны жениха приглашены. Обошли только их, ближайших родственников невесты... Видно, все уже сидят за столом, а потом пойдет музыка, танцы...
Сару снял куртку и перекинул ее через руку, чтобы прикрыть наточенный нож. Из дома со страхом и дрожью наблюдали за ним жена и Нилуццу, его старший сын. Еще раньше Сару приказал жене развести огонь и поставить кипятиться большой котел. Оторопевшая от ужаса жена машинально выполнила все, что он велел, не понимая, зачем понадобился ему этот котел с кипятком.
— О Пресвятая Матерь Божья, — молилась она, — хоть бы кто пришел! О Матерь Божья, успокой его кровь и просвети его разум!
На дворе, в ярком блеске луны, неслись согласные песни сверчков — нити протяжных, острых, почти осязаемых звуков.
— Нилуццу, — позвал отец. — Сбегай к тетке Сидоре, потом к дяде Луццу и скажи,, чтоб не мешкая, со всеми домашними, шли сюда. Понял? Беги.
Нилуццу, не двигаясь с места, в испуге уставился на отца. Одной рукой он прикрыл голову, словно ожидая затрещины.
— Отец... я боюсь, отец...
— Боишься? Ах ты дохлятина этакая! — заорал отец и встряхнул мальчишку за шиворот. Затем, повернувшись к жене, добавил: — Ты пойдешь с ним! И чтоб мигом все были обратно!
Жена еще раз рискнула спросить плаксивым голосом:
— Ради Бога, скажи, что ты собираешься делать, Сару? Сару приложил палец к губам и той же рукой сделал повелительный знак — не перечить.
Как только они ушли, Сару стал осторожно, от дерева к дереву, пробираться к мачехиному дому. Луна светила вовсю. Так добрался он до крайнего фигового деревца, которое росло прямо против хозяйственного дворика Трезы. Сердце прыгало у него в груди и кровь стучала в висках. Ржание одного из мулов, стоявших в стойле, заставило было его отпрянуть назад. В нос ударил теплый, жирный запах навоза, а в уши — нестройный гул криков, смеха и громыханья посуды, который несся из мачехиного дома. Сару просунул голову сквозь листву, чтобы оглядеться. Во дворе пусто; только шесть еще не расседланных мулов, а там, ближе к дому, — гигантская свинья.
Она лежала, уткнувшись рылом в передние ноги; уши свисали, глаза сладко прищурены — точно в блаженном созерцании свежего, полного неги сияния луны. Время от времени она вздыхала, но в этих вздохах не было ничего, кроме сытой, блаженной истомы.
Согнувшись в три погибели, Сару бесшумно подкрался сзади, осторожно протянул руку и стал слегка почесывать ей за ухом. Свинья вытянулась, морща от удовольствия свой пятачок, как бы желая улыбнуться привычной хозяйской ласке, и подставила шею. Тогда Сару свободной рукой всадил ей нож по самое сердце.
Домой он вернулся с огромной ношей, окровавленный с головы до пят. Почти одновременно, в сопровождении родни, вернулись жена и сын.
— Ради мадонны, тихо! — цыкнул на них Сару, освобождаясь от своей ноши и тяжело переводя дух. — Мы тоже устроим себе здесь праздничек, да еще получше, чем у них! Четверть туши — Сидоре, четверть — Луццу, а остальное — мне. За работу! Но сперва постойте! Помогите разделать тушу! Луццу, крепко держи вот тут! Ты, Сидора, тут. А ты, Нилуццу, тащи–ка сюда большое круглое блюдо, оно в шкафу. Печень, печень — вот что подарю я старой карге. Да тише, вы все! Печень старухе!
Сару вспорол свинье брюхо, вытащил печень, прополоскал в лоханке, затем выложил эту сверкающую дрожащую массу на блюдо и передал сыну.
— Сходи к деду, Нилуццу, и скажи ему так: меня послал папа Сару, наказал передать этот подарок маме Трезе и кланяться свинье.
ЧИСТАЯ ПРАВДА (Перевод Н. Томашевского)
Едва Сару Ардженту, по прозвищу Тарара, был доставлен на скамью подсудимых, отгороженную от остальной части мрачного судебного зала высокой решеткой, как первым делом он извлек из кармана большущий красный, в желтых цветах платок и аккуратно разостлал его на сиденье, чтобы не запачкать свой праздничный костюм из грубого темно–синего сукна. Костюм и платок были совсем новые.
Удобно устроившись, Сару повернулся лицом к крестьянам, толпившимся за перегородкой в той части зала, которая отведена для публики, и улыбнулся. Его обычно щетинистая физиономия была свежевыбрита — и это придавало ему сходство с обезьяной. В ушах висели золотые серьги.
От толпы крестьян шел терпкий, пронзительный дух конюшни и пота, свежего навоза и прелой овчины, от которого делалось дурно.
Какая–то женщина, одетая в черное, в шерстяной накидке, натянутой по самые брови, при виде подсудимого исступленно заголосила; между тем сам подсудимый, весело поглядывал из своей клетки и то поднимал натруженную крестьянскую руку, то кивал направо и налево головой, делая это, впрочем, не столько в знак приветствия, сколько для того, чтобы выказать приятелям и сотоварищам по работе нечто вроде признательности и даже известного снисхождения.
После стольких месяцев предварительного заключения этот суд был для него почти праздником. Поэтому–то он и принарядился, словно в воскресный день. По бедности Тарара не мог нанять адвоката и вынужден был довольствоваться защитником, назначенным судом; но в том, что зависело от него лично, Тарара был на высоте: чистенький, бритый, причесанный, одет по–праздничному.
Как только суд покончил с необходимыми формальностями и был оглашен состав присяжных, председательствующий велел подсудимому встать.
— Ваше имя?
— Тарара.
— Это прозвище. Назовите настоящее имя.
— А, понимаю, ваша честь. Зовут меня Ардженту, Сару Ардженту, ваша честь. Но все знают меня как Тарара.
— Так. Сколько вам лет?
— Не знаю, ваша честь.
— Как не знаете?
Тарара подернул плечами и скорчил гримасу, совершенно ясно дав этим понять, что подсчитывать годы всегда представлялось ему занятием если не предосудительным, то, уж во всяком случае, бессмысленным. Однако добавил:
— Я ведь из деревни, ваша честь. Кто там считает годы?
В публике рассмеялись, председательствующий склонился над разложенными перед ним бумагами:
— Вы родились в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. Следовательно, сейчас вам тридцать девять лет.
Тарара покорно развел руками:
— Как прикажете, ваша честь.
Чтобы не вызвать в зале новых приступов веселья, председательствующий стал поспешно задавать новые вопросы, отвечая на них сам:
— Правильно? Правильно. Покончив с вопросами, он сказал:
— Садитесь. Сейчас секретарь огласит обвинительное заключение.
Секретарь начал чтение, однако уже вскоре должен был прервать его, так как от зловония, пропитавшего зал, старшине присяжных сделалось дурно. Сторожа получили распоряжение открыть двери и окна.
Вот тогда–то и стало ясным неоспоримое превосходство подсудимого над судьями.
Восседавший на своем огненно–красном платке Тарара даже не замечал этого зловония, столь привычного для его носа, и безмятежно улыбался; он не чувствовал жары, хотя и был облачен в толстое синее сукно; не испытывал он ни малейшего беспокойства и от мух, которые вынуждали присяжных заседателей, королевского прокурора, адвокатов, сторожей и даже карабинеров столь отчаянно жестикулировать. Мухи облепляли ему руки, сонно жужжали вокруг лица, хищно впивались в лоб, губы, глаза: Тарара их не чувствовал, не гнал и только улыбался.
Молодой защитник, назначенный судом, заранее уверил своего подзащитного в благополучном исходе дела, поскольку речь шла всего лишь об убийстве жены, измена которой была доказана.
С блаженной наивностью, свойственной животным, Тарара оставался совершенно спокойным. На его лице не было и тени угрызений совести. Ему было решительно непонятно, почему он должен отвечать за дело, которое никого на свете, кроме него, не касалось. Он воспринимал правосудие только как печальную неизбежность. В хозяйстве крестьянина — неурожайные годы, в жизни — правосудие. Не все ли равно?
Правосудие со всей его парадностью — величественными скамьями, судейскими шапочками, тогами, пышными плюмажами — было для Тарара чем–то вроде той большой новой паровой мельницы, которую так торжественно открывали в прошлом году. Разглядывая год назад вместе с другими зеваками эту удивительную машину, все это нагромождение колес, всю эту чертовшину из поршней и блоков, Тарара ощущал, как мало–помалу в нем росло чувство удивления и вместе с тем недоверия. Каждый привозил на эту мельницу свое зерно, но кто бы мог поручиться потом, что полученная обратно мука была именно из его зерна, а не из чужого? Приходилось закрывать на это глаза и покорно брать ту муку, которую давали.
Вот так и теперь, с тем же самым недоверием и той же покорностью, Тарара вручал свою судьбу машине правосудия.
Он знал лишь, что размозжил жене голову топором. Произошло это так. Тарара целую неделю батрачил на полях возле городка Монтаперто. Вернувшись в очередной субботний вечер домой, промокший и грязный, Тарара узнал о большом скандале, который произошел в Арко ди Спото, где он жил.
За несколько часов перед тем его жену застали на месте преступления с кавалером доном Агатино Фьорикой.
Донна Грациелла Фьорика, супруга кавалера, — руки в браслетах и кольцах, щеки нарумянены, вся изукрашена, как мул, на котором под звуки тамбурина возят в церковь зерно, — сама лично привела двух полицейских во главе с комиссаром Спано в тупичок Арко ди Спото, чтобы те удостоверили факт прелюбодеяния.
Соседи не смогли скрыть от Тарара постигшего его несчастья, ибо жену, вместе с кавалером, продержали всю ночь под арестом. На следующее утро, как только она показалась в дверях дома, Тарара бросился на нее и, прежде чем успели вмешаться соседи, размозжил ей голову.
А что там бубнит секретарь суда — кто его разберет?..
Когда секретарь кончил чтение, председательствующий снова приказал подсудимому встать и отвечать на вопросы:
— Подсудимый Ардженту, вы поняли, в чем вас обвиняют? Тарара чуть шевельнул рукой и с обычной своей улыбкой ответил:
— Ваша честь, по правде сказать, я не очень–то слушал. Председательствующий сердито сделал ему внушение:
— Вы обвиняетесь в том, что утром десятого декабря тысяча девятьсот одиннадцатого года убили топором Росарию Феминеллу, вашу жену. Что вы скажете в свое оправдание? Повернитесь лицом к присяжным и говорите ясно, с должным уважением к суду.
Тарара прижал руку к сердцу, словно в знак того, что у него нет ни малейшего желания относиться к суду с неуважением. Присутствующие зрители, уже настроенные на веселый лад, заранее предвкушали ответ. Тарара это заметил и некоторое время смущенно молчал.
— Отвечайте же! — понукал его председательствующий. — Скажите присяжным то, что имеете сказать.
Тарара пожал плечами и наконец решился:
— Видите ли, ваша честь, тут сидят все люди ученые, и, что написано в бумагах, они сами разберут. Я, ваша честь, человек простой. Но раз в этих бумагах написано, что я убил жену, значит, так оно и есть. И говорить тут не о чем.
На этот раз не удержался от смеха сам председатель.
— Не о чем говорить? Э, нет, почтенный, тут есть о чем поговорить...
— Я хочу сказать, ваша честь, — пояснил Тарара, снова прижимая руку к сердцу, — хочу сказать, что убил ее я, вот и все. Я убил ее — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, — я убил ее собственными руками, синьоры присяжные, потому что иначе я не мог поступить, вот. Больше мне прибавить нечего.
— Прошу соблюдать порядок, синьоры! Прекратите смех! — напустился председательствующий, яростно трезвоня колокольчиком. — Где вы находитесь? Вы же в зале суда! Судят человека за убийство! Если смех будет продолжаться, я прикажу очистить зал. Мне чрезвычайно стыдно, господа присяжные, уж вам–то напоминать о серьезности дела!
И, грозно нахмурившись, он обратился к подсудимому:
— Что вы имели в виду, когда сказали, что иначе поступить не могли?
В наступившей гробовой тишине Тарара смущенно ответил:
— Я хотел сказать, ваша честь, что не я в этом виноват.
— Как так не виноваты?
Тут молодой защитник, назначенный судом, не выдержал и счел долгом восстать против грозного тона, с каким председатель обращался к подсудимому.
— Прошу прощения, синьор председатель, но этак мы вовсе собьем с толку беднягу! Мне кажется, он прав, утверждая, что не он в этом виноват, а жена, которая изменила ему с кавалером Фьорикой. Это же ясно!
— Извините, синьор адвокат, но я прошу вас не мешать суду! — сердито прервал его председательствующий. — Пусть говорит подсудимый. Продолжайте, Тарара: вы согласны с тем, что сказал ваш защитник?
Тарара сперва отрицательно покачал головой, потом пояснил:
— Нет, ваша честь. Бедняжка покойница тоже не виновата. Всему виной одна эта... супруга кавалера Фьорики, которая нипочем не хотела оставить все шито–крыто, как было. Какого рожна, ваша честь, понадобилось ей закатывать такой скандал возле самого моего дома? Такой скандал, ваша честь, что камни мостовой — и те покраснели, глядя, как достойного, высокочтимого кавалера. Фьорику — а ведь мы все его знаем за такого — накрыли в одной рубашке, без штанов, в берлоге грязной крестьянки? Одному Богу известно, ваша честь, на что только не приходится нам идти ради корки хлеба!
Пока Тарара все это говорил дрожащим от волнения голосом, со слезами на глазах и прижимая к груди сцепленные в пальцах руки, в зале гремел неудержимый хохот, а многие просто корчились от смеха. Но даже сквозь этот смех председательствующий сумел уловить, что подсудимый своим заявлением придал делу новый, неожиданный для него оборот. Понял это и молодой адвокат, который увидел, как разом рушилась вся придуманная им система защиты. Он повернулся к обвиняемому и стал делать ему предостерегающие знаки.
Но было слишком поздно. Председательствующий, неистово потрясая колокольчиком, задал подсудимому вопрос:
— Так вы признаете, что знали о связи вашей жены с кавалером Фьорикой?
— Синьор председатель, — вмешался защитник, вскочив с места, — извините... но так я... так я...
— Что так, так?.. — прервал его окрик председательствующего. — Я же обязан немедленно все уточнить!
— Я протестую против вашего вопроса, синьор председатель.
— Протестовать вы не имеете никакого права, синьор адвокат! Допрос веду я!
— В таком случае я слагаю с себя обязанности защитника.
— Сделайте одолжение... Нет, неужели вы это серьезно? Раз подсудимый сам признает...
— Нет, позвольте, позвольте, синьор председатель! Подсудимый еще ничего не признает. Он только сказал, что, по его мнению, во всем виновата синьора Фьорика, которая устроила скандал перед самым его домом.
— Допустим! Но на каком основании вы мешаете мне спросить подсудимого, знал ли он о связи Своей жены с Фьорикой или нет?
В ту же секунду из зала посыпались предостерегающие Тарара возгласы и знаки. Председательствующий пришел в бешенство и снова пригрозил очистить зал.
— Подсудимый Ардженту, отвечайте: вы знали о связи вашей жены с кавалером?
Смешавшийся, сбитый с толку, Тарара покосился на защитника и обвел глазами зал.
— Должен ли я... сказать «нет»? — вопросительно пробормотал он наконец.
— Болван! — крикнул из задних рядов какой–то старик крестьянин.
Молодой защитник стукнул в сердцах кулаком по скамейке и пересел на другое место.
— Говорите всю правду, это в ваших же интересах! — обратился к Тарара председательствующий.
— Ваша честь, я и так говорю чистую правду, — начал Тарара, на этот раз прижав к сердцу сразу обе руки. — А правда вот она в чем: все было так, как если бы я ничего не знал! Потому как дело это — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, — потому как дело это, господа присяжные, было тайным и, значит, никто не мог сказать мне в лицо, что я о нем знал. Я говорю так, синьоры присяжные, потому как я человек простой, неученый. Что может знать бедняк, который обливается потом на полях с понедельника рано утром и до субботы поздно вечером? Такая беда может приключиться со всяким! Конечно, вот если б кто подошел ко мне в поле и сказал: «Тарара, гляди, твоя жена путается с кавалером Фьорикой», — мне не оставалось бы ничего иного, как схватить топор, бежать домой и размозжить ей голову. Но никто, ваша честь, не приходил и не говорил мне такого, а я на всякий случай, когда мне случалось вырваться домой на неделе, всегда кого–нибудь посылал предупредить жену. Говорю это к тому, ваша честь, чтобы вы поняли, что я никому не желал зла. Мужчина есть мужчина, ваша честь, а женщина есть женщина. Оно конечно, мужчина должен понимать, что женщина так уж устроена, что не может не изменять, даже когда она вовсе не остается по целым дням одна, то есть я хотел сказать, когда ее муж и не пропадает на работе по целым неделям; но ведь и женщина должна уважать мужчину и понимать, что он не может позволить кому попало плевать себе в лицо, ваша честь! Есть вещи... которые, ваша честь, — я обращаюсь к синьорам присяжным, — есть вещи, синьоры присяжные, хуже плевков — они режут глаза! И мужчина не может их сносить! Я, синьоры, готов поклясться, что эта несчастная всегда уважала меня, хоть и то верно, что я в жизни не тронул у нее волоска на голове. Все соседи могут это подтвердить! При чем тут я, синьоры присяжные, если эта синьора, храни ее Бог, примчалась... Вы, ваша честь, велели бы позвать сюда эту синьору, и уж я бы с ней поговорил! Нет ничего хуже, — я обращаюсь к вам, синьоры присяжные, — нет ничего страшнее крикливых баб! «Если бы ваш муж, — сказал бы я этой синьоре, будь она тут сейчас передо мной, — если бы ваш муж спутался с незамужней, то ваша милость могли бы скандалить сколько душе угодно, потому как никто от этого не страдает... Но по какому праву вы, ваша милость, пришли досаждать человеку тихому и спокойному, который никогда не совал нос в чужие дела, который никогда не хотел ничего ни видеть, ни слышать; который, синьоры присяжные, без шума, с утра до позднего вечера добывал свой хлеб с мотыгой в руках? Для вашей милости это веселая шутка, — сказал бы я этой синьоре, будь она сейчас тут, передо мной. — Что значит для вас этот скандал, ваша милость? Пустяк! Одна забава! Через два дня вы уже помирились с мужем. А подумали вы, ваша милость, что тут замешан еще один муж? Что этот муж не может позволить плевать себе в лицо, что этот муж должен что–то сделать? Если бы ваша милость сперва пришли ко мне и все как есть рассказали, я бы ответил: «Бросьте, синьора! Мы же мужчины! Мужчина, дело известное, от рождения охотник! Что вам за дело до грязной крестьянки? Кавалер, ваш муж, привык с вами к тонкой французской булке; так не перечьте ему, если изредка ему придет охота побаловаться коркой крутого деревенского хлеба!» Вот как сказал бы я ей, синьор судья, и тогда, быть может, не произошло бы того, что, видит Бог, к сожалению, произошло только по вине этой синьоры.
Председательствующий снова пустил в ход звонок, и лишь ценой неимоверных усилий ему удалось угомонить зал, который встретил лихорадочную исповедь Тарара выкриками и смехом.
— Таковы, значит, ваши показания? — спросил он у подсудимого.
Выдохшийся Тарара отрицательно покачал головой:
— Нет, ваша честь. Какие же это показания? Это чистая правда, синьор судья.
За эту чистую правду Тарара получил тринадцать лет тюрьмы.
ЛОВУШКА (Перевод В. Федорова)
Нет–нет, я не смирюсь! Чего ради? Если бы у меня были какие–нибудь обязанности перед другими, я бы еще подумал. Но у меня же их нет! А так — ради чего?
Вот что я тебе скажу: ты не можешь меня осудить. И, вообще говоря, никто меня осудить не может. Ведь то, что понимаю я, понимаешь и ты, понимает любой и каждый.
Почему вы пугаетесь, проснувшись в темноте? Потому что источником и основой жизни вы считаете дневной свет. Свет, порождающий иллюзии.
Вы боитесь мрака и безмолвия. Поэтому вы зажигаете свечу. Но свет ее кажется вам печальным, унылым, не так ли? Не к этому свету вы тянетесь. Вам подавай солнце! Солнце! У вас не порождает иллюзий тусклый свет, зажженный вашей дрожащей рукой.
Дрожит ваша рука, и колеблется все, что для вас составляет реальность. Эта ваша реальность кажется вам в полутьме ненастоящей, призрачной, искусственной, как свет свечи. И ваши нервы судорожно напрягаются, вы цепенеете от страха: а ну как из–под этой реальности, призрачность которой вы открыли, проглянет другая: темная, страшная — настоящая! Слышится вздох... Что там такое? Какой–то скрип...
И вот от ужаса перед неведомым вас охватывает дрожь, на лбу выступает холодный пот, а перед вами в неверном свете свечи движутся по комнате призрачные образы ваших дневных иллюзий. Вглядитесь — у них, как и у вас, водянистые глаза в опухших веках, они, как и вы, желты от бессонницы, у них ревматизм грызет суставы, как и у вас. Слышите, как скрипят суставы пальцев на ногах?
А что делается с вещами! Они все будто застыли в напряженном ожидании, и это вас пугает.
Вещи окружают вас и тогда, когда вы спите.
Сами они не спят. Стоят на своих местах и днем и ночью.
Ваша рука открывает и закрывает дверцы шкафа. А завтра их будет открывать и закрывать другая рука. Неизвестно чья... Но шкафу все равно. Сейчас он набит тряпьем, старыми костюмами, которые хранят форму ваших усталых коленей, ваших острых локтей. Завтра в нем будут развешаны чьи–то другие костюмы. Зеркало в шкафу сегодня отражает ваш образ, но не хранит его; не сохранит оно и ничей другой образ.
Само зеркало ничего не видит. Зеркало — как истина.
Ты думаешь, я брежу? Говорю загадками? Полно, ты меня понимаешь, ты понимаешь даже то, чего я не говорю, потому что очень трудно выразить словами смутное чувство, которое овладело мной и не дает мне покоя.
Ты знаешь, как я жил до сих пор. Знаешь, что я всегда с отвращением и ужасом относился к тому, чтобы обрести какую–то определенную форму, застыть и отвердеть в ней хотя бы на мгновение.
Друзья немало потешались над моими постоянными... как вы их там называете? Ах, да, трансформациями, вот именно: над трансформациями в моем облике. Вы потешались над ними, не давая себе труда вникнуть в суть дела, а она заключалась вот в чем: мне до зарезу нужно было видеть свое отражение в зеркале каждый раз иным, я пытался тешить себя иллюзией, будто каждый раз я становлюсь другим, не тем, что прежде!
Но увы! Что я мог изменить? Дошло до того, что я обрил себе голову, раньше времени стал лысым; потом поочередно: сбривал усы, оставляя бороду; сбривал бороду, оставляя усы; сбривал и то и другое; отпускал то окладистую бороду, то эспаньолку, то длинные бакенбарды...
Я вел игру с помощью собственных волос.
Но глаза, нос, уши, торс, ноги и руки я изменить не мог. Оставалось только гримироваться подобно актеру. Я не раз об этом подумывал. Но пришел к выводу, что тело–то мое и под маской останется прежним... и будет стареть!
Пробовал я отыграться на духовном мире. О, тут игра пошла повеселей!
Вот вы ставите превыше всего хваленое постоянство чувств и твердость воли. А почему? Да все по той же причине: вы трусите! Вы боитесь сами себя, то есть опасаетесь, как бы вам, изменившись, не потерять ту реальность, которую вы сами себе сотворили, — ведь тогда пришлось бы признать, что реальность это не более чем ваша иллюзия и, стало быть, никакой другой реальности, кроме той, которую мы творим себе сами, вообще не существует.
Но в том–то и штука, что сотворить собственную реальность — это значит фиксировать какое–то свое душевное состояние, застыть в нем, затвердеть, окаменеть! Иначе говоря, надо остановить в себе непрерывное движение жизни, превратиться в крохотное затхлое болотце, ибо жизнь — это вечный и беспредельный огненный поток.
Вот какая мысль терзает и бесит меня!
Жизнь — это ветер, жизнь — это море, жизнь — это огонь! Но не земля, ибо земля покрылась корой и обрела форму.
Всякая форма — смерть.
Все, что обретает форму и обособляется от вечного и беспредельного огненного потока, обречено на смерть.
Мы все — существа, попавшие в ловушку, выхваченные из вечного живого потока и тем самым преданные смерти.
Какое–то короткое время поток бежит в нас, внутри нашей особой, изолированной, неизменной формы, но мало–помалу течение ослабевает, огонь гаснет, форма засыхает, хотя в этой отвердевшей форме движение еще не совсем замерло.
Смерть — лишь завершение процесса умирания, который мы называем жизнью!
Я ощущаю себя пленником ловушки, поставленной смертью, — именно ловушка вырвала меня из потока жизни, где я лился, не принимая никакой формы, и фиксировала во времени, в том времени, в котором я живу!
Почему я попал в это время, а не в другое?
Я мог струиться дальше и быть схваченным позже, жить в другое время, обрести другую форму... Ты говоришь, получилось бы то же самое? Ну да, раньше или позже... Но все–таки я был бы другим — не важно кем, не важно каким, но другим. Ловушка определила бы мне другую судьбу, я увидел бы другие вещи или, может быть, те же самые, но с иных сторон и в ином порядке.
Ты не представляешь себе, как я ненавижу все вещи, которые попадаются мне на глаза, ибо они оказались в ловушке вместе со мной, они существуют в моем времени, они понемногу умирают со мной вместе! Я ненавижу их и жалею! Ненавижу, пожалуй, больше.
Правда, если бы я попал в ловушку попозже, я ненавидел бы и туг другую свою форму, как теперь ненавижу эту; я ненавидел бы и другое время, как ненавижу мой сегодняшний день; и я точно так же ненавидел бы все иллюзии жизни, которые мы, мертвецы всех времен, строим себе из жалких крох движения и тепла, что еще остаются в нас от вечного потока настоящей жизни, которому нет предела.
Мы — хлопотливые мертвецы, а воображаем, что строим себе жизнь.
И мы еще соединяемся в объятии — покойник с покойницей — и думаем, что даруем кому–то жизнь, а на самом деле даруем смерть... Еще одно существо в ловушке!
— Иди, милый, иди сюда! Начинай умирать, милый, ну, давай... А, ты плачешь? Плачешь и сучишь ножками... Ты хочешь струиться дальше? Ну, будь умницей, милый! Что поделаешь! Ты схвачен, ты створожился, обрел форму... Придется потерпеть! Будь умницей...
Пока мы маленькие, пока наше нежное тело растет, пока оно почти невесомо, мы вовсе не замечаем, что попали в ловушку! Но потом мы тяжелеем, начинаем ощущать собственный вес, замечаем, что прежней легкости движений уже нет.
Я с досадой и горечью наблюдаю, как дух мой мечется в ловушке, не желая обрести покой в моем уже не юном, отяжелевшем теле. Тотчас гоню всякую мысль, которая грозит утвердиться во мне, бросаю любое занятие, которое грозит стать привычкою; я не хочу быть рабом долга или собственных привязанностей, не хочу, чтобы дух мой застыл под твердой корой убеждений. Но я чувствую, как тело мое день ото дня все более неохотно подчиняется мятежному духу: оно стареет, слабеет в коленях, да и в руках нет уж былой силы... Оно просит покоя. И оно его получит.
Нет и еще раз нет! Я не могу и не хочу смириться, не хочу медленно умирать, являя собой жалкое зрелище старческой немощи. Не хочу. Но сначала я... не знаю, что я сделаю, только мне обязательно нужно дать выход той ярости, которая душит меня.
Ну хотя бы... вцеплюсь вот этими самыми ногтями в лицо какой–нибудь хорошенькой женщине, которая держится вызывающе, затуманивая голову каждому встречному!
Как глупы, как глупы женщины, эти жалкие неразумные существа! Наряжаются, прихорашиваются, стреляют глазками направо и налево, улыбаются, выставляют напоказ свои соблазнительные формы, насколько это позволяют приличия, и ни на минуту не задумываются о том, что и они тоже в ловушке, что их ожидает смерть и что в себе они носят ловушку для тех, кто еще не появился на свет!
Да, именно в них, в женщинах, ловушка для нас, мужчин. Они на какой–то миг доводят нас до белого каления, чтобы исторгнуть из нас еще одно существо, обреченное на смерть. Распаленные их ласками и речами, слепые от буйной страсти, мы опрометью кидаемся в ловушку.
Меня самого — это меня–то! — они заставили пасть. Причем, совсем недавно. Вот почему я в такой ярости.
Подлая ловушка! Если б ты ее видел... Что твоя непорочная дева! Скромная, робкая. Завидев меня, всякий раз опускала глаза и краснела. Знала, что иначе меня не совратишь.
Она приходила сюда во исполнение высокого христианского долга милосердия, приходила к больному и страждущему. Не ко мне, конечно, а к моему отцу. Помогала нашей старой домоправительнице ухаживать за бедным моим отцом, который лежит вон в той комнате...
Живя по соседству, она подружилась с нашей домоправительницей и заходила к ней поплакаться на своего мужа: этот кретин вечно попрекал ее тем, что она бездетна.
Понимаешь, в чем тут дело? Когда человек начинает костенеть, когда не может уже двигаться, как прежде, ему хочется видеть вокруг себя других мертвецов, маленьких, мягких и гибких, которые еще движутся, как двигался он сам, когда был мягким и гибким; ему хочется, чтобы эти маленькие мертвецы походили на него и выделывали всякие штучки, на которые сам он уже не способен.
Приятная забава — утирать нос маленькому мертвецу, который еще не понимает, что он в ловушке, прихорашивать его и водить на прогулку.
Так вот, она сюда ходила.
— Я представляю себе, — говорила она мне, опуская взор и заливаясь краской, — как вам, должно быть, больно, синьор Фабрицио, столько лет видеть вашего отца в таком состоянии!
— Да–да! — бросал я в ответ и шел прочь.
Теперь–то я уверен, что она, как только я отворачивался, давилась смехом и закусывала губу, чтобы не расхохотаться.
Я каждый, раз уходил от нее, так как чувствовал, что против собственной воли восхищаюсь этой женщиной, и совсем не потому, что она хороша собой (а она была настоящая красавица, и чем скромнее она держалась, выказывая пренебрежение к своей красоте, тем неотразимее становилась для меня); я восхищался ею потому, что она не удовлетворяла желания мужа поймать в ловушку еще одно несчастное существо.
Я думал, все дело было в ней. Оказалось — наоборот: у них ничего не выходило из–за этого болвана, ее мужа. И она это знала или, по крайней мере, подозревала, пока у нее не было полной уверенности. Потому, видно, и смеялась — надо мной смеялась, надо мной: ведь я восхищался ею как раз из–за ее мнимого бесплодия. Смеялась втихомолку, затаив коварство в душе, — и ждала. И вот однажды вечером...
Случилось это здесь, в этой самой комнате.
Я сидел тут в полумраке. Мне, видишь ли, нравится наблюдать, как за окнами угасает день, как меня понемногу обволакивают сумерки, при этом я говорю себе: «Меня здесь нет. Если бы в этой комнате был кто–нибудь, он встал бы и зажег лампу. Я не зажигаю лампу, потому что меня здесь нет. Я — как вещи в этой комнате — кресла, столик, портьеры, шкаф, диван, — которым не нужен свет, которые не знают, не видят, что я здесь. Я хочу быть таким же, как они: не видеть себя, забыть, что я тут сижу...»
Итак, я сидел в темноте. Она вышла на цыпочках вон оттуда, из комнаты моего отца, где горел ночник, слабый свет которого едва пробивался сквозь щель приоткрытой двери, не рассеивая сумерек.
Я не видел ее, сидел к ней спиной. Может быть, и она меня не видела. Наткнувшись на меня, вскрикнула, вроде бы лишилась чувств и упала мне на грудь. Я наклонился к ней, щека моя слегка коснулась ее щеки, так что я совсем близко ощутил жар ее трепещущих губ, и...
Меня пробудил наконец ее смех. Демонический смех. Он до сих пор звучит у меня в ушах! Как смеялась, ну как смеялась эта злодейка, смеялась, пока не скрылась за дверьми! Смеялась тому, как ловко заманила меня в ловушку напускной скромностью, смеялась над моей посрамленной суровостью и еще кое над чем, как я понял впоследствии.
Она уже три месяца как уехала отсюда — ее муж получил место преподавателя лицея где–то в Сардинии.
Бывает, что и назначение приходит кстати.
Я не увижу плод моего падения. Не увижу никогда. Но порой меня так и подмывает помчаться к этой злодейке и задушить ее до того, как она поймает в ловушку несчастное существо, исторгнутое из меня таким предательским способом.
Я рад, друг мой, что не знал своей матери. Если бы я ее знал, моя неутолимая ярость скорей всего не вспыхнула бы во мне. Но раз уж она вспыхнула, я рад, что не знал матери...
Идем, загляни–ка в эту комнату. Смотри!
Это мой отец.
Он семь лет уже в таком состоянии. Все, что от него осталось, рот да глаза. Рот жует, глаза плачут. Он не говорит, не слышит, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Ест и плачет. Ест, когда в рот положат. Плачет самостоятельно, без причины, а может, в нем что–то осталось, последняя искорка, которая упрямо тлеет через семьдесят шесть лет после начала угасания.
Ну, как ты думаешь, разве не ужасно застыть вот так, намертво, и все–таки оставаться в ловушке, не имея никакой возможности вырваться из нее?
Он скорей всего не думает о своем отце, о том, кто вырвал его из потока жизни семьдесят шесть лет тому назад и тем самым обрек на смерть, которая так безбожно запаздывает. Но я–то о своем отце думаю, я сознаю, что я — отпрыск этого человека, который уже перестал двигаться, я понимаю, что он, и никто другой, определил, когда мне попасть в ловушку!
Гляди — плачет! Вот всегда так: сам плачет и меня до слез доводит! Он хочет освободиться, это ясно. Что ж, настанет день, когда я его освобожу. С собой вместе. Вечера теперь стали холодные, и вот как–нибудь вечерком мы растопим жаровню... Не хочешь ли составить компанию?..
Нет?.. Не стоит благодарности... Да, конечно, пойдем прогуляемся, дружище. Я вижу, ты соскучился по солнцу. Идем.
БУМАЖНЫЙ МИР (Перевод А. Косе)
Шум и толкотня на виа Национале, в самом начале проспекта; в центре толпы — двое спорящих: мальчишка лет пятнадцати и синьор со щетинистой желтой, словно дыня, физиономией, на которой поблескивали стекла очков от близорукости, толстые, как бутылочные донышки.
Сей последний, напрягая надтреснутый фальцет, пытался доказать свою правоту и непрестанно размахивал руками, в одной из которых сжимал эбеновую трость с набалдашником слоновой кости, а в другой — книжку, судя по шрифту, старинную.
Мальчишка орал и топал ногами, пиная осколки пошлейшей терракотовой статуэтки, валявшиеся на тротуаре вперемешку с обломками столбика из крашенного под бронзу алебастра, служившего статуэтке цоколем.
Из зрителей некоторые громко хохотали, некоторые строили постную мину, некоторые — сострадательную; а из малолетних сорванцов, забравшихся на фонари, кто лаял, кто свистел, кто гудел в кулак.
— Это уже третья! Это уже третья! — вопил синьор. — Я читаю на ходу, а он нарочно подставляет мне под ноги свои мерзкие статуэтки, чтобы я их опрокинул. Это уже третья! Он охотится за мной! Подстерегает! Один раз на Корсо Витторио, потом на виа Вольтурно, теперь вот здесь...
Торговец статуэтками, в свой черед, сыпал заверениями и оправданиями, пытаясь убедить близстоящих в своей невиновности:
— Да нет же! Он сам виноват! Не читает он вовсе! Наступает прямо на мой товар! То ли не видит, то ли в облаках витает, как бы то ни было, вот что вышло...
«Но трижды?» — со смехом переспрашивали слушатели.
Наконец сквозь толпу удалось пробиться двум полицейским, вспотевшим и запыхавшимся; и поскольку при их появлении тяжущиеся стороны принялись выкрикивать свои обвинения и оправдания еще громче, стражи порядка решили, дабы прекратить представление, отвезти обоих в наемном экипаже в ближайший полицейский участок.
Но едва синьор в очках сел в экипаж, как, выпрямившись, изо всех сил вытянул шею и стал судорожно вертеть и встряхивать головой, затем, устав от этого занятия, раскрыл книгу и сунулся в нее лицом, коснувшись носом страниц, отвел лицо, весь передернувшись, поднял очки на лоб и снова уткнулся в книгу, пытаясь читать невооруженным глазом; после этой пантомимы впал в сильнейшее волнение, лицо его страшно перекосилось в гримасе ужаса, даже отчаяния:
— О Господи!.. Глаза... не вижу... ничего не вижу!
Кучер резко остановил экипаж. Полицейские и торговец статуэтками так растерялись, что не могли даже понять, всерьез ли все это или сеньор сошел с ума; они недоумевающе приоткрыли рты в почти недоверчивой ухмылке.
Неподалеку от того места, где остановился экипаж, была аптека; у дверей уже толпились люди — одни пришли сюда, следуя за экипажем, другие остановились поглазеть; и синьор в очках, мертвенно–бледный, совершенно подавленный, был под руки проведен сквозь толпу в помещение.
Он постанывал. Его усадили на стул, он сидел, покачивая головой, поглаживая ладонями ноги, дрожь которых не мог унять, и не обращал внимания ни на аптекаря, который хотел осмотреть его глаза, ни на зрителей, которые утешали его, подбадривали и не скупились на советы: он должен успокоиться, ничего страшного, временное нарушение, от приступа гнева в глазах потемнело... Вдруг он перестал покачивать головой, поднял руки, стал сжимать и разжимать пальцы.
— Книга, книга! Где моя книга?
Присутствующие недоуменно переглянулись, затем рассмеялись. Ах, так у него была с собою книга? И у него хватало мужества читать на ходу с такими–то глазами? Как... три статуэтки? Вот. как. И кто же, кто... вон тот? Вот как, нарочно подставлял ему под ноги? Ну и ну! Ну и ну!
— Я хочу заявить на него! — вскричал тут синьор, встав со стула, выставив вперед руки и выпучив глаза, отчего подергивавшаяся его физиономия казалась и смешной и жалкой одновременно. — Перед лицом всех присутствующих я хочу заявить на него! Он заплатит за мои глаза! Убийца! Здесь двое полицейских — живо запишите фамилии, мою и его. Вы все свидетели. Полицейский, пишите: Баличчи... Да, Баличчи, это моя фамилия, Валериано, да; виа Номентано, дом сто двенадцать, последний этаж. И фамилию этого мерзавца... Где он, здесь? Не выпускайте его! Трижды, пользуясь моим слабым зрением, моей рассеянностью... да, господа, три мерзких статуэтки... А, превосходно, благодарю, моя книга, весьма признателен! Мне нужен экипаж, окажите милость... Домой, домой, я хочу домой! Заявление сделано.
И он двинулся к выходу, вытянув вперед руки, пошатнулся, его поддержали, усадили в экипаж, и двое сердобольных из числа зрителей проводили его до самого дома.
Таков был шумный и балаганный финал истории тихого помешательства, длившегося долгие годы. Бессчетное множество раз врач–окулист твердил Баличчи, что есть одно лишь лекарство от его недуга, неотвратимо грозящего слепотой, — отказаться от чтения. Но каждый раз Баличчи выслушивал врача с той неопределенной улыбкой, какою отвечают на явную шутку.
— Вы не согласны? — сказал врач. — Что ж, читайте, читайте, потом поплатитесь! Вы теряете зрение, повторяю вам. Потом не говорите: «Ах, если бы мне знать!» Я вас предупредил!
Милое предупреждение! Да ведь жить для Баличчи — значило читать. Лучше умереть, чем отказаться от чтения.
Эта маниакальная страсть овладела им с тех пор, как он выучился азбуке. Доверившись с давних–предавних пор попечениям старой служанки, любившей его, как сына, он мог бы жить безбедно, если бы не влез в долги ради приобретения бесчисленных книг, загромождавших в величайшем беспорядке его жилище. Лишившись возможности покупать новые книги, он уже дважды перечитал старые, просмаковав каждую от первой до последней страницы. И подобно тому как иные животные принимают, по законам мимикрии, окраску и внешние признаки той местности, той растительности, среди которой обитают, так и он постепенно стал каким–то бумажным: руки и лицо — как бумага, волосы и борода — цвета бумаги. Близорукость его усилилась за эти годы до предела, и теперь казалось, что книги действительно пожирают его даже в прямом смысле слова — настолько близко подносил он их к лицу при чтении.
После этой ужасной истории он, по предписанию врача, сорок дней провел в темной комнате, хотя вовсе не уповал на целительное действие такого средства; и как только срок заключения кончился, Баличчи велел отвести себя в кабинет. Остановившись возле первого же шкафа, он нащупал какую–то книгу, взял ее, раскрыл, уткнулся в нее лицом — сначала в очках, потом без них, как тогда, в экипаже, — и беззвучно заплакал, вжавшись лицом в страницы. Потом тихонько обошел просторное помещение, ощупывая пальцами книжные полки: вот он, весь его мир! А ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память!
Реальной жизнью он никогда не жил; можно сказать, он нигде и никогда толком ничего не видел; за столом, в постели, на улице, на скамьях в общественных садах — всегда и всюду он делал лишь одно: читал, читал, читал. А теперь ему, слепому, никогда не увидеть живой действительности, которой он так и не изведал, и не увидеть действительности, изображенной в книгах, потому что читать он больше не мог.
Книги свои он всегда оставлял в величайшем беспорядке, сваливая кучами или разбрасывая как попало по стульям, на полу, по столам, по шкафам, и теперь это приводило его в отчаяние. Он столько раз намеревался навести хоть какой–то порядок в этом содоме, расставить все книги по их содержанию, но так и не навел — жалко было времени. А сделай он это, мог бы теперь подойти к одному шкафу, к другому, и не было бы такого чувства растерянности, мысли не разбегались бы так, стали бы яснее.
В поисках опытного библиотекаря, который взялся бы за такую работу, он поместил объявление в газетах. Через два дня к нему явился некий премудрый юнец, каковой весьма удивился тому, что слепой хочет привести в порядок свою библиотеку, да вдобавок еще притязает на то, чтобы давать ему указания. Но юнец этот сразу же понял, что бедняга скорее всего помешался — в этом все дело; ведь слыша название книги — вот она, тут, — он каждый раз подпрыгивал от радости, плакал, просил передать ему книгу, ласково поглаживал страницы и прижимал ее к сердцу, словно друга после разлуки.
— Профессор, — фыркал юнец, — ведь так мы никогда не кончим, подумайте сами!
— Да, да, верно, верно, — соглашался тотчас же, Баличчи. — Но эту книгу вы поставьте сюда... Погодите, приложите мою руку к тому месту, куда вы ее поставили... Хорошо, хорошо, вот тут... Чтобы я мог разобраться.
По большей части это были книги о путешествиях, о нравах и обычаях разных народов, книги по естественной истории и беллетристика, книги по истории и философии.
Когда работа была наконец завершена, Баличчи показалось, что обступившая его тьма уже не так непроглядна, он почти извлек свой мир из хаоса. И на некоторое время словно замер, заново вживаясь в него.
Теперь он просиживал целые дни у себя в библиотеке, прижимаясь лбом к корешкам выстроившихся на полках книг, словно надеялся, что от соприкосновения с ними ему в голову перельется то, что в них напечатано. Сцены, эпизоды, обрывки описаний воскресали у него в памяти со всей очевидностью, четкой и выразительной; более того, он снова обретал способность видеть — видеть в этом своем мире какие–то подробности, особенно хорошо ему запомнившиеся в ту пору, когда он перечитывал свои книги: красные огни четырех маяков, горящих на ранней заре в порту, пустынное море с одним только ошвартовавшимся, кораблем, рангоут которого со всеми вантами силуэтом вырисовывается на пепельной бледности предрассветного неба; на вершине поросшего деревьями холма, на огненном фоне осеннего заката две громадных вороных лошади, уткнувшиеся мордами в мешки с сеном.
Но он не смог долго выдержать в этом гнетущем безмолвии. Он захотел, чтобы мир его вновь обрел голос и голос этот, коснувшись его слуха, поведал бы, каков его мир на самом деле, а не в смутных воспоминаниях. Он снова поместил объявление в газетах, на этот раз в поисках чтеца или чтицы; и случай послал ему некую юную синьорину, всю трепещущую в постоянной лихорадке непоседливости. Эта беспокойная особа исколесила полсвета и своей суетливостью, чувствовавшейся даже в манере говорить, напоминала ошалевшего жаворонка, который то вспорхнет, сам не зная, куда лететь, то вдруг опустится на землю и, неистово захлопав крыльями, примется скакать, вертясь во все стороны.
Ворвавшись в кабинет, она выпалила:
— Тильде Пальоккини. А вы?.. Ах, да, я же... О, ради Бога, профессор, не надо! Послушайте, не делайте так глазами, мне страшно... Ничего, ничего, извините, я ухожу...
Таково было ее первое появление. Она не ушла. Старая служанка со слезами на глазах объяснила ей, что местечко самое что ни на есть для нее подходящее. — А он не опасен?
Да какое там — опасен! Ничего подобного! Только странноват немного из–за этих книг. Да–да, из–за этих книжонок, будь они прокляты, и сама она, несчастная старуха, уже не знает, кто она такая — женщина или тряпка, чтобы пыль вытирать.
— Лишь бы вы ему хорошо читали...
Синьорина Тильде Пальоккини поглядела на нее и, ткнув себя указательным пальчиком в грудь, вопросила:
— Кто, я?
Таким голосом — в раю не сыщешь благозвучнее.
Но когда она в первый раз продемонстрировала свое искусство Баличчи, играя интонациями, меняя регистры, то шепча, то переходя на крик, то замирая, то держась на одной ноте, и все это в сопровождении мимики, столь же неистовой, сколь ненужной, бедняга обхватил голову руками и весь сжался, словно пытаясь отбиться от множества псов, скалящих на него клыки.
— Нет! Не надо так! Ради Бога, не надо так! — закричал Баличчи.
— Я плохо читаю? — удивилась синьорина Пальоккини с самым простодушным видом на свете.
— Да нет! Но, ради Бога, не так громко! Как можно тише, синьорина, почти без голоса! Поймите, я ведь читал одними только глазами!
— И очень плохо, профессор! Читать вслух полезно. Если не читать вслух, лучше уж не читать совсем. Но, простите, почему вы так реагируете? Послушайте (она постукивала костяшками пальцев по книге). Звук слабый... Глухой... А предположите, профессор, что я вас целую...
Баличчи оцепенел, побледнел:
— Я запрещаю...
— Да нет же, простите! Вы что, боитесь, что я вас и вправду поцелую? Не буду, не буду! Я только привела пример, чтобы вы сразу поняли разницу. Ну вот, я пробую читать почти без голоса. Но, заметьте, когда я так читаю, у меня «эс» получается свистящее, профессор!
При новой попытке Баличчи сжался еще больше. Но он понял, что отныне то же самое произойдет с ним при какой угодно чтице, при каком угодно чтеце. От любого чужого голоса его мир представится ему совсем иным.
— Синьорина, послушайте... Сделайте одолжение, попробуйте читать только глазами, без голоса...
Синьорина Тильде Пальоккини снова поглядела на него, широко раскрыв глаза.
— Как вы сказали? Без голоса? Но тогда как же? Про себя?
— Вот именно... для себя самой...
— Благодарю покорно! — взвилась синьорина. — Вы что, смеетесь надо мною? Что мне прикажете делать с вашими книгами, если вы не сможете их слышать?
— Сейчас объясню, синьорина... — отвечал Баличчи спокойно, с горькой улыбкой. — Я испытываю радость оттого, что кто–то читает их здесь вместо меня... Вам, пожалуй, и не понять этой радости. Но я уже сказал, это мой мир, мне становится легче при мысли, что он обитаем, вот так... Я буду слышать, как вы перевертываете страницы, буду ощущать ваше сосредоточенное молчание и спрашивать время от времени, какое место вы читаете, а вы будете говорить... О, достаточно только намека... А я буду следовать за вами по памяти... Ваш голос, синьорина, мне все портит!
— Но я прошу вас верить, профессор, что у меня красивейший голос! — негодующе запротестовала синьорина.
— Верно... знаю... — поспешно отвечал Баличчи. — Я не хотел вас обидеть. Но вы мне все окрашиваете по–другому, понимаете? А мне нужно, чтобы в моем мире ничто не менялось, чтобы все оставалось как есть... Читайте, читайте... Я скажу вам, что читать. Согласны?
— Ну, согласна, согласна. Давайте книгу.
Едва только Баличчи показывал, какую книгу читать, синьорина Тильде Пальоккини на цыпочках выскальзывала из кабинета и отправлялась поболтать со старухой служанкой. Баличчи меж тем жил в мире книги, выбранной им для нее, и наслаждался тем. наслаждением, которое, по его представлениям, она должна была испытывать. И время от времени спрашивал:
— Прекрасно, не правда ли? Либо:
— Вы уже перевернули страницу?
Не слыша даже ее дыхания, он воображал, что она углубилась в чтение и не отвечает, чтобы не отвлекаться.
— Да, читайте, читайте... — поощрял он ее полушепотом, почти сладострастно.
Иной раз, возвратившись в кабинет, синьорина Пальоккини заставала Баличчи в раздумье: он сидел в кресле, опершись локтями о подлокотники и закрыв лицо руками.
— О чем вы задумались, профессор?
— Я вижу... — отвечал он голосом, доносившимся, казалось, из дальней дали. И добавлял со вздохом, словно пробуждаясь:
— А все–таки я помню, они были рожковые!
— Что именно, профессор?
— Деревья, деревья на холме... В том месте, посмотрите... в третьем шкафу, на второй полке... кажется, третья книга от конца...
— И вы бы хотели, чтобы я вам их отыскала, эти рожковые деревья? — вопрошала синьорина с испугом, но фыркая.
Если она соглашалась доставить ему это удовольствие, то во время поисков чуть ли не вырывала страницы, раздражаясь при просьбе переворачивать их медленнее. Все это ей уже осточертело. Она привыкла жить в движении, мчаться, мчаться — на поезде, в автомобиле, на велосипеде, на пароходах... Мчаться, жить! Она чувствовала, что уже задыхается в этом бумажном мире. И однажды, когда Баличчи выбрал ей для чтения чьи–то путевые заметки о Норвегии, она уже не смогла сдержаться. В ответ на его вопрос, как ей нравится то место, где описывается тронхеймский собор, поблизости от которого, за деревьями, раскинулось кладбище, и субботними вечерами набожные родичи усопших приносят на могилы свежие венки из живых цветов, синьорина пришла в величайшую ярость:
— Да нет же! Нет же! Нет! — закричала она. — Ничего подобного! Я была там, понятно? И могу сказать вам, что все там совсем не так, как сказано в этой книжке!
Баличчи встал, трясясь от гнева, лицо его перекосилось.
— Я запрещаю вам говорить, что все там совсем не так, как в этой книжке! — закричал он, воздев руки. — Мне наплевать, были вы там или нет! Там все так, как сказано в этой книжке, и точка! Должно быть так, и точка! Вы хотите меня погубить! Уходите! Уходите! Здесь вам больше нечего делать! Прочь отсюда! Уходите!
Оставшись один, Валериано Баличчи ощупью отыскал книгу — синьорина, уходя, швырнула ее на пол — и упал в кресло; раскрыл книгу, дрожащими пальцами любовно разгладил помятые страницы, затем уткнулся в нее лицом и надолго замер так, вглядываясь мысленно в картину Тронхейма с его мраморным собором, с кладбищем неподалеку — богобоязненные родичи усопших субботними вечерами приносят туда венки из живых цветов — все так, в точности так, как сказано в книге. И нельзя менять... Холод, снег, эти живые цветы и синяя тень собора... Нельзя ничего менять. Там все именно так, и точка... Это его мир... его бумажный мир... весь его мир...
НУ ХОРОШО (Перевод В. Лукьянчука)
§ 1
Послужной список
(по 5 марта 1904 года включительно)
В Сорренто от Корвара Франческо Аурелио и Флориды Амидеи рождается в ночь с 12 на 13 февраля 1861 года Козмо Антонио Корвара Амидеи, и принимают его, уже сразу, как только он появляется на свет, крайне недружелюбно: шлепком по попе; подхваченный повивальной бабкой за ножки, он несколько минут висит вниз головой, поскольку, чуть не задохнувшись еще в утробе матери из–за слабо протекавших у нее схваток, он вступил в жизнь, не издав ни звука.
Вот и получай, пока не закричишь.
Появляясь на свет, следует кричать.
С 13 февраля 1861 года по 15 марта 1862 года при нем успевают смениться пять кормилиц. Первую кормилицу, а также и вторую прогоняют потому, что как у одной, так и у другой почти совсем нет молока. Третью потому, что как–то раз утром, собравшись его купать, она забывает разбавить воду и опускает его в почти что крутой кипяток. Ожог второй степени. Он готов отдать Богу душу; но Бог всемилостивый не желает; вместо него он призывает к себе мамашу. Четвертая кормилица трижды — ни разом больше, ни разом меньше — роняет его с кровати; а со временем, но, правда, только раз, он кубарем слетает у нее с лестницы, с нею же заодно. Увечья незначительные: из самых серьезных — перебитый нос.
В девять лет, переболев всеми болезнями, по которым, как по ступенькам, начиная с нежных младенческих лет, ребенок — с помощью врача, с одной стороны, и аптекаря — с другой, — добирается до возраста резвого, непоседливого, — в девять лет Козмо Антонио Корвара Амидеи, преисполненный пылом религиозного рвения, поступает в духовную семинарию.
Накануне поступления он, следуя букве одной из семи основных заповедей милосердия, снял с себя чудный новый костюмчик, который папа привез ему из Неаполя, и надел его на нищего мальчика с пляжа, отродясь не ходившего в одежде, сам же вернулся домой в одной бескозырке. В награду за это папа назвал его такими чудными словами — дураком, ослом, слабоумным и с таким жаром обласкал его уши, что просто чудо, как они только остались целы.
В семинарии Козмо Антонио Корвара Амидеи с величайшим усердием овладевает науками и с особой ревностью занимается «уставом», то есть тем, как надо править церковные службы; рвение его столь велико, что — и это в шестнадцать–то лет! — у него грозит открыться чахотка. Но тут вдруг, уже после того, однако, как он принял первоначальное посвящение, случается ему натолкнуться на следующую мысль в трактате «De Gratia» («О милости Господней» (лат.).).
«Si quis dixerit gratiam perseverantiae non esse gratis datam, anathema sit» («Если кто скажет, что терпение — не милость, дарованная Богом, тот анафема проклят» (лат.).).
Понеже, согласно христианской католической теологии, Терпение — на случай, если кто захочет узнать, что сие значит, — есть милость, которую Господь дарует тому, кого хочет спасти, невзирая, заслуживает того или нет его избранник.
«Deus libеre movet» («Господь волен поступать по своему усмотрению» (лат.).), — говорит Святой Фома.
Козмо Антонио Корвара Амидеи обстоятельно, в течение нескольких недель, размышляет над этим, и в результате как–то раз ночью его накрывают на том, что он, в одной рубашке, со свечой в руке, с пылающим лицом, вытаращив сверкающие лихорадочным блеском глаза, бродит по спальне и ищет ключ.
Какой ключ?
Ключ к терпению.
Ум у него зашел за разум. К счастью, он тогда же заболевает менингитом. Выходит из семинарии. Месяц находится между жизнью и смертью.
Когда же наконец дела его идут на поправку, то, как выясняется, он утратил веру; похоже, кстати, что вместе с ней он утратил и много чего другого: волосы, например, дар речи, зрение — правда, не до конца; он решительно ничего не помнит и почти год сидит как пришибленный, словно его обухом хватили по голове. Выводят его из этого состояния струи ледяной воды, почище трубного гласа забарабанившие по его спине; и вот, в двадцать два года с небольшим он уже в состоянии держать экзамен за лицейский курс и получить диплом, а затем, облысевший, полуслепой, с приплюснутым от падения в детстве носом, он уезжает в Неаполь, в университет, с намерением закончить курс науки и получить диплом и звание доктора философии и филологии.
В октябре 1887 года, выдержав конкурс, он занимает место штатного смотрителя начальной гимназии города Сассари. Мальчишки, как известно, народ бедовый. Профессор же уродлив и к тому же подслеповат; и тут начинается веселая жизнь; в результате — бесконечные нарекания от директора гимназии нижестоящему по должности за то, что тот не умеет поддерживать дисциплину. Но и на улицах Сассари учителю Козмо Антонио Корвара Амидеи нет прохода от ребятни до тех пор, правда, пока за него наконец не вступается один его коллега, Дольфо Дольфи, преподаватель естествознания; он берется покровительствовать ему и в школе, и на улице; он даже на большее идет: предлагает своему подопечному поселиться вместе (ноябрь 1888 г.).
Учительствовать Дольфо Дольфи начал поздно, не имея при этом ученых званий, не участвуя даже в конкурсе, а благодаря лишь протекции одного весьма влиятельного депутата; до этого он был исследователем Африки, потом долгое время был журналистом в Генуе; раз десять дрался на дуэлях, был бит и сам бил, больше бил, нежели был бит; он человек свободных взглядов, и при нем живет его внебрачная дочь, для которой он придумал роскошное имя: Сатанина.
Имея такого покровителя, Козмо Антонио Корвара Амидеи, казалось бы, может наконец свободно вздохнуть, но как бы не так: покровитель не дает ему ни минуты передышки — он все рассказывает о своих путешествиях, о своих журналистских кампаниях, о своих поединках; не переставая делиться своими нескончаемыми, невероятными подвигами и похождениями, да еще ко всему прочему требует обсуждать с ним разные философские и религиозные вопросы и т. д., и т. д. Словом, непролазное, надутое спесью невежество, скотство, выпятившее колесом грудь. (NB: лицо Дольфо Дольфи от рождения сплошь усыпано пупырышками, и в разговоре он не переставая ковыряет их; ноги его при этом широко расставлены.) Козмо Антонио Корвара Амидеи становится как–то все меньше и меньше, чем больше тот врет, и соглашается с ним, соглашается, ни слова не говоря против. Еще бы ему противоречить! Ведь как–никак, а он теперь под надежной защитой, верно? Гимназисты и уличные мальчишки, зная, что будут иметь дело с Дольфи, боятся теперь его задевать; но столь же верно и то, что он больше не хозяин ни самому себе, ни своему времени, ни своему жалкому учительскому жалованью, которое он зарабатывает в начальной гимназии. Когда ему позарез бывает нужна мелочишка, он должен идти и выпрашивать у Сатанины, и девочка, которой уже пятнадцать и которая ну прямо настоящая маменька, выдает ему деньги, заклиная его, под стать настоящей маменьке, чтобы только, ради всего святого, он не проговорился папеньке, иначе и папеньке захочется получить свою долю на мелкие, минутные развлечения, — так до чего же они дойдут после этого, спрашивается? К чему это их приведет?
Славная она девчушка, Сатанина, такая добрая, что Козмо Антонио Корвара Амидеи не прочь даже называть ее покороче и поизящнее: Нина или, еще лучше, Нинетта, но Дольфо Дольфи не разрешает.
— Какая она Нина! Придумал тоже — Нинетта! Сатана она, Сатаной и называется:
Приветствую тебя, о Сатана,
О искуситель,
О гений мщенья
Непокоренного ума.
Так проходят три года.
Все спрашивают профессора Корвара Амидеи, как только он уживается с этим гремучим, как буря, человеком, учителем Дольфо Дольфи; он съеживается, разводит руками, прикрывает глаза, и на губах его обозначается едва уловимая жалобная улыбка, ибо этим вопросом — это же любому дураку понятно — люди хотят помочь ему проникнуться сознанием собственной его глупости.
Да... Козмо Антонио Корвара Амидеи и сам, в общем, готов признать, что он дурак, хотя он еще не вполне убежден в этом, потому что ведь если хорошенько вдуматься, то лично ему кажется, что, возможно, глупее его просто жизнь вообще. Вот. А раз так, то стоит ли после этого осторожничать или хотя бы даже просто делать вид, что ты всегда настороже, когда она чуть ли не на каждом шагу с такой настырностью показывает тебе, что терпение ее неистощимо, коль скоро она замыслила тяпнуть беднягу, и как ты ни изворачивайся, а она все равно рано или поздно, так или иначе, но тяпнет. Уж лучше пустить ее, жизнь то есть, на самотек, потому как она, может, преследует какую–то свою, неведомую нам, цель; а если цели нет, то уж конец всяко будет, уж в этом будьте уверены.
Конец таки пришел, однажды и внезапно. Но не ему, к сожалению! А учителю Дольфо Дольфи. Апоплексический удар, словно молния, сразил его во время урока (16 марта 1891 г.).
Козмо Антонио Корвара Амидеи потрясен. Уж этого он не ожидал! Ему кажется, что дом вдруг опустел, как–то загадочно опустел; это, верно, потому, что ни в одном из находящихся в нем предметов нет даже проблеска души, ни с одним из них не связаны у него дорогие, близкие ему воспоминания — напротив, кажется, каждый предмет стоит особняком, сиротливо притаившись, словно ожидая того, кто уже никогда не придет.
Сатанина плачет не переставая. На первых порах он даже и не пытается ее утешать, понимая, что все, что бы он ни сказал, все равно ничего не даст. Но тут директор гимназии, коллеги–учителя спрашивают его, как он намерен поступить с несчастной сироткой, ведь она осталась ни с чем, выброшена на улицу: без прав на пенсию, без единого родственника, близкого или дальнего. Профессор Корвара Амидеи живо отвечает, что она, конечно же, останется с ним, стоит ли даже говорить об этом. Он, черт побери, он заменит ей отца! Но как директор, так и коллеги–учителя при этих словах пожимают плечами, опускают глаза, вздыхают. Как?! Их это не устраивает? Они недовольны? Они считают, что это неправильное решение? Профессор Корвара Амидеи ретируется в полной растерянности. Он говорит о том же с Сатаниной и, к величайшему своему изумлению, слышит и от нее, что это невозможно, что она не может более оставаться с ним, что лучше уж ей уйти совсем, и как можно скорее, нет, лучше прямо сейчас — собраться и уйти.
— Но куда?
— Куда глаза глядят.
— Но почему?
Почему — ему разъясняют позже его собратья–учителя. Профессору Корвара Амидеи немногим более тридцати лет, верно? А Сатанине как–никак уже восемнадцать. Выходит, не такой он еще и старый, чтобы быть ей отцом, а она не такая уж и маленькая, чтобы годиться ему в дочки. Ну как, ясно теперь? Но профессор Корвара Амидеи разглядывает сперва носки своих ботинок, потом смотрит на кончики пальцев, пытается сглотнуть. Не намекают ли коллеги на то, что он должен... жениться на Сатанине? Стоило этой мысли блеснуть в его сознании, как он едва не лишается чувств, потом с горечью улыбается. Ну, полноте, они ведь просто шутят. Он чувствует, что придется ему, видимо, еще раз говорить с Сатаниной: надо постараться внушить ей, что она совершит безумие, воистину великое безумие, если, как она говорит, уйдет куда глаза глядят. Так; тогда и она, Сатанина, дает ему понять, что она, конечно, может остаться с ним, но при одном условии, именно так, милостивые государи, при условии, что она станет его женой.
Козмо Антонио Корвара Амидеи боится, не сходит ли он с ума, или же все просто сговорились, чтобы над ним зло подшутить. До него никак не доходит, как может такая молоденькая девушка всерьез чувствовать, что ей необходимо стать его женой, как будто иначе жизнь с ним вдвоем в одном доме, под одной крышей и впрямь может стать поводом для городских пересудов. Да и возможно ли, чтобы сама эта необходимость не казалась ей смешной и, что греха таить, омерзительной? Он подходит к зеркалу взглянуть на себя и кажется себе еще уродливее, чем есть на самом деле: пожелтевший от бед и лишений, бледный, тощий, лысый, почти слепой. Он думает о ней, о Сатанине, такой юной, свежей, цветущей, и у него голова идет кругом. Она — его жена? Да может ли это быть? Снова идет он к ней, переспрашивает, чуть внятно бормоча, верно ли он ее понял? И Сатанина — да, судари вы мои, — Сатанина, ничуть не краснея, отвечает ему, что да, и говорит, что если он все–таки согласен жениться, то она будет благодарна ему по гроб жизни.
И тут Козмо Антонио Корвара Амидеи, как малый ребенок, начинает плакать, жестом показывая ей, что, ради всего святого, ни слова больше! Она — и благодарна? Да что она такое говорит? А он тогда что же? Так вот, значит, какое счастье приберегла для него судьба? Как только в него поверить? В течение всех последующих дней профессор Корвара Амидеи не в силах вымолвить слова.
Со свадьбой приходится поспешить, учитывая, с одной стороны, тот существенный факт, что жениху с невестой приходится жить под одной крышей, с другой же — потому, что директор гимназии очень надеется, что женитьба выведет учителя Корвара Амидеи из состояния блаженной одури, в которой тот изволит пребывать все последнее время. Но надеждам директора не суждено сбыться. После свадьбы — был заключен лишь гражданский брак (14 марта 1892 г.), поскольку профессор Корвара Амидеи не смеет, ввиду его прошлых дел с церковью, вступать в брачный союз перед Богом, — после свадьбы одурь его растет соразмерно вкушаемому блаженству.
То, чего не смогли сделать долгие годы страданий, то под силу в два счета сделать радости. На радостях Козмо Антонио Корвара Амидеи забрасывает латинскую грамматику, забывает все, становится решительно ко всему бесчувственным. Он видит только одну Сатанину, думает только об одной Сатанине, грезит лишь о ней, о Сатанине; он забывал бы даже о пище, если бы все та же Сатанина самолично не заставляла его есть; с него достаточно уже одного того, что он видит ее напротив себя, как она, заливаясь смехом, с ненасытной жадностью поглощает кусок за куском; он готов был бы даже собственные худущие телеса отдать ей на съедение, если бы считал, что они достойны ее зубов.
А между тем Дольфо Дольфи нет, и некому больше держать в узде школяров и уличную ребятню, и они как будто взбесились: такая катавасия началась и в школе, и на улице, что хоть караул кричи. Директор гимназии мечет громы и молнии; он делает нижестоящему по должности самые строгие выговоры; но что толку от них? Учитель Корвара Амидеи смотрит на него, улыбаясь, так, как будто все это вовсе не к нему относится. Приходится тогда Сатанине засесть за письмо к депутату — большому другу и покровителю ее блаженной памяти горячо любимого папочки, заклиная его употребить весь его возросший авторитет, дабы просто немедленно освободить профессора Корвара Амидеи от преподавательской работы и приискать ему местечко поспокойнее — где–нибудь в библиотеке или в министерстве народного просвещения.
Таким образом, по истечении двух месяцев Козмо Антонио Корвара Амидеи, к величайшему огорчению своих учеников, которые, в сущности, очень его любят, но к величайшему облегчению директора гимназии и коллег, отъезжает в Рим, чтобы, согласно предписанию, явиться в министерство. Сатанина беременна, и переезд по морю доставляет ей великие мучения; но стоит ей сойти на землю в Чивитавеккья, как все страдания словно рукой снимает — столь велика ее радость вновь ступить на континент, веселит ее мысль о Риме, до которого осталось совсем ничего.
Ах, как неожиданно, как бурно взыграла в ее жилах кровь ее папочки, великого любителя приключений.
В министерстве профессор Корвара Амидеи помещен в дальнюю комнату к письмоводителям на место корректора. Но он ничего не корректирует. Эти жалкие чинуши, вертопрахи, которым бы только баклуши бить, сразу учуяли, С кем имеют дело. Был бы он, предположим, матерым вором с безупречной репутацией, тогда, конечно, с ним бы и расшаркивались, и шляпы бы в воздух взлетали; ну а какой же прок оказывать знаки уважения обыкновенному порядочному человеку, к Тому же такому недотепе, как он? Впрочем, довольно уже того, что они его не трогают. Время от времени от нечего делать, то есть когда нету дел и переписывать нечего, сыграют с ним какую–нибудь невинную шутку, чтобы как–то скоротать время. Ну а в ошибках, которые они допускают при переписке бумаг, естественно, всегда виноват учитель Корвара Амидеи.
— Умоляю вас, господа, давайте мне просматривать ваши бумаги. Будьте внимательны! Вас я просто умоляю, сделайте милость, слово «рассудок» пишите с двумя «с».
— О, профессор, насчет рассудка вы, по–моему, хватили лишку.
— Ну хорошо! — вздыхает профессор Корвара Амидеи, приподнимая плечи, вытягивая шею и опуская веки за двойными линзами очков для близоруких, напоминающих два бутылочных донышка.
Переписчики, услышав всякий раз, как он произносит вздыхая, свое «Ну хорошо!», дружно начинают хохотать. С чего бы это? Профессор Корвара Амидеи не обращал внимания на этот смех; он все знай себе повторяет (когда у него совсем что–нибудь не клеится) свое извечное «Ну хорошо!». И вот уже все переписчики называют его между собой не иначе как Профессор Нухорошо.
Когда же он узнает, какое ему дали прозвище, он съеживается, приподнимает плечи и, улыбаясь, вытягивает шею, опускает веки и вот–вот, гляди, уже вымолвит... Ах, да... стало быть верно, ну конечно: он незаметно пристрастился к этому словечку по давнишней своей привычке безропотно смиряться под ударами злой судьбы, но теперь–то он вознагражден за все то, что пережил, за все то, что, возможно, в будущем ему еще предстоит пережить, так что теперь ему абсолютно все равно. Хотят — пусть насмехаются над ним все переписчики в мире, пусть называют его Нухорошо, Нуплохо, Нуподижты, как только их душе угодно, — у него теперь есть Сатанина, и на все остальное ему начихать. К ней одной тянутся из министерства его мысли, и он, кажется, воочию видит ее в комнатушках неказистого домика на улице Сан Никколо да Толентино, в котором они сняли квартирку.
15 августа 1893 года Сатанина счастливо разрешается мальчиком, который был назван именем Дольфино. Средь умопомрачительных восторгов, которыми отмечены те дни, возникает одна маленькая неприятность: Сатанина не желает сама вскармливать ребенка. Приходится отдать Дольфино кормилице, в далекое местечко Сабины. Ну да ничего! Впредь он всего лишь откажется от сигары, кофе и кой–каких других привычных пустячков, чтобы было чем заплатить кормилице.
Когда циркач, окруженный собравшейся отовсюду толпою, наблюдающей за ним с замиранием сердца, со сдавленным криком восторга, заставляет работать своего хрупкого, бледного паяца, как он кричит? «А сейчас, господа, вы увидите еще более сложный номер! Смотрите все — начинается номер с риском для жизни!»
Какие только номера, начиная с самого рождения, циркачка–судьба не заставляла выделывать Козмо Антонио Корвара Амидеи, своего маленького, печального паяца! Но самый трудный она пока еще приберегает, дожидаясь 20 марта 1894 года.
С пакетиком меренг под мышкой (Сатанина просто обожает меренги!) профессор Корвара Амидеи возвращается в тот день, как обычно, ровно в 18. 30 домой, поднимается по нескончаемо длинной лестнице, вынимает ключ, ищет на ощупь, наконец находит замочную скважину, открывает, входит. Сатанины нет. А где она? Обычно она никогда не выходит из дома в этом часу. Видимо, что–то случилось; вот и стол в столовой не накрыт, и на кухне ничего не готово к обеду: плита холодная; в доме, как все было прибрано к двенадцати часам, времени, когда уходит служанка — они держат приходящую с утра на полдня служанку, которая занимается уборкой квартиры и ходит за покупками, — так все и осталось. Да что же наконец могло произойти с Сатаниной? Может, ее неожиданно вызвала нянька Дольфино? И она опрометью, бросив все, сорвалась и уехала; до того ли ей было, чтобы еще забегать в министерство и предупреждать его. Спускается он, спускается, как ни длинна эта лестница, к привратнику спросить, может быть, он что–нибудь знает? Потом заходит в лавочки, расположенные поблизости от дома, расспрашивает их владельцев, горничную из меблированных комнат, оказавшуюся рядом, — никто ничего не знает. Дома же оставаться, когда на душе полная неразбериха, — а тут, в трех комнатушках, такой порядок и такая тишина, что кажется, будто они, все эти комнаты вместе со всей наполняющей их мебелью, затаились и ждут, когда же опять потечет в них заведенная, привычная жизнь, — он долго не в силах. Выходит на улицу, идет на поиски, в первое время не представляя себе ни куда идти, ни где искать; потом заходит на телеграф и отправляет телеграмму–молнию с оплаченным ответом кормилице Дольфино; снова куда–то идет, куда — сам не знает, идет, куда ноги несут; а в голове кружится, как в мельнице; он даже не замечает, как стемнело. Когда же ему кажется, что до ответной телеграммы осталось уже недолго, он поворачивает к дому, надеясь втайне, что сейчас подымется, а наверху его уже ждет Сатанина, но привратник одним словом убивает всю его надежду; и тогда он такую вдруг чувствует усталость, такую, что просто уже и не знает, как ему еще раз одолеть эту лестницу. Но, слава Богу, поднимается. Входит в потемках, в потемках добирается до спальни, там, не зажигая света, погружается в кресло и принимается ждать.
В какой–то момент ему вдруг кажется, что он слышит внутри себя какой–то странный звук, как будто там что–то бешено завертелось, зажужжало и жужжит, просверливая его всего насквозь, жужжит в голове, в животе, даже в подошвах ног жужжит и в коленках, втягивая его в это яростное жужжание и путая все его мысли и чувства; когда же он, совсем ошалевший, подбирается к окну и смотрит вниз, желая удостовериться, не стоит ли у дверей посыльный с телеграфа, он замечает, что это жужжит электрическая лампочка, которая висит над улицей и — тьфу ты, проклятая! — жужжит как сумасшедшая.
На рассвете приходит наконец телеграмма от няньки — ответ отрицательный. Таким образом, порвалась и эта, последняя, нить надежды.
Потом, через несколько часов, приходит служанка, чтобы, как обычно, сходить за продуктами и прибрать в комнатах. Родом она из Тосканы: маленькая, толстенькая, но работа у нее горит в руках; лицо суровое, а на язык бойкая.
— С добрым утром!
— Сатанины нету... — сообщает ей хозяин, бледный как покойник, с блуждающим взором. — Со вчерашнего дня нету.
— Батюшки светы! Да что вы говорите?
Учитель Корвара Амидеи разводит руками. Потом медленно приседает, приседает и садится на стул и, как пришибленный, застывает в таком положении. Молчит, а через минуту добавляет:
— Всю ночь не было.
— Да куда ж она. могла деться?
Профессор Корвара Амидеи снова разводит руками.
— А знаете что, хозяин, попробуйте–ка вы сходить, — подает ему мысль служанка, — попробуйте–ка вы сходить туда, где живут эти... ну, как их... приезжие они со всего света, ну, картины еще рисуют. Там один, я знаю, этот, как его... портрет, кажись... да, портрет ее рисовал.
Учитель Корвара Амидеи очнулся, смотрит на нее:
— Портрет? Ее портрет? Это когда же?
— И, а я–то думала, вы знаете. Неужто нет? Хозяйка каждое утро к нему бегала. И после обеда бегала.
Он сидит, раскрыв рот, потом молча начинает потирать узловатыми пальцами колени.
— Может, лучше мне туда сбегать, хозяин? Хотите, я сбегаю? Я туда и назад, мигом обернусь... Я его, голубчика, знаю, он французский художник.
Но он, кажется, и не слышит, что ему говорят, и тогда служанка решается: миг, и она выбегает. Не прошло и нескольких минут, как вот она, раскрасневшаяся, запыхавшаяся, уже тут как тут. Переведя дух, выпаливает:
— Ну, мое сердце как чуяло! Уехал, так что его тоже нет. Вчерась уехал. Вот вам и все... все совпадает.
Профессор Корвара Амидеи по–прежнему сидит молча, с застывшим, как у умственно больного, лицом, лишь руки машинально продолжают поглаживать колени.
Служанка уставилась на него, ее разбирает жалость, и минуту спустя она не выдерживает и, хмыкнув, говорит самой себе, намекая на хозяйку:
— Подумать только, ну не дура ли, а? Могла бы жить припеваючи при таком–то муженьке, уж как он ее обхаживал, бедолага, страдалец, такой чудесный мужчина, смирный такой, глянь только — настоящая черепаха. Да будет вам, хозяин, убиваться–то! Плюньте вы, не сидите вы так, вам надо дать себе выход. Ни черта она не смыслит после этого, скажу я вам. Любовь... Как же! Да вы знаете, какая она, любовь–то? Да она как молоко, когда его поставишь кипятить: сперва оно поднимается, потом закипает, а там, глядишь, и убежало... Будет вам, будет, не убивайтесь. Вам теперь в самый раз сердце облегчить, вот вы попробуйте, сами увидите... а так не сидите, хозяин, не сидите.
Но в ответ на эти бесхитростные сердечные понукания профессор Корвара Амидеи лишь слегка покачивает головой и ни слова не говорит. Не плачет, потому что ему не для чего показывать, как он страдает; ему не нужно ничьей жалости, ничьей поддержки или сострадания. Он ошеломлен тем, что не чувствует в себе того горя, которое, как порою, видно, думалось ему, он должен будет испытать, если когда–нибудь по какой–нибудь ужасной, непредвиденной случайности у него не станет вдруг Сатанины или же он лишится ее любви. А теперь что же? Ничего, решительно ничего такого он не испытывает. Что же он думал, что, может, если это случится, мир рухнет или, по крайней мере, замертво рухнет он сам? Так ведь вот, пожалуйста, — ничего не произошло, решительно ничего не произошло. Он даже, к примеру, может сейчас поблагодарить служанку, сказать ей, что ее помощь больше не понадобится, заплатить ей за дни, остающиеся до конца месяца, и когда она, уходя, снова примется его подбадривать, ответить ей своим обычным: — Ну хорошо... хорошо...
Оставшись же один и снова усевшись на стул, он неожиданно для себя понимает, что даже желания пальцем пошевелить у него и того нет и что, стало быть, мир для него все–таки рухнул, но как–то так незаметно, даже не верится. Стулья вон как стояли, так и стоят, шкаф стоит, их кровать — стоит... Только вот что делать теперь со всем этим?
Вот он уже потирает колени чуть–чуть посильнее, и делает это непроизвольно, потому что чувствует, что по телу пробегает холодок, какой–то потешный такой холодок в костях, и пронизывает его всего насквозь. Но он не двигается с места. Повторяет про себя те две–три скупые фразы из новостей, которые сообщила ему служанка: «Портрет... Французский художник... Бегала к нему каждое утро..» А теперь у него начинают стучать зубы, и он еще сильнее потирает ноги, которые уже отплясывают настоящую чечетку. Три мысли — мысль о ее портрете, о художнике–французе и о том, что она бегала к нему каждое утро, — накрепко западают ему в голову и, наподобие трех маленьких бумажных ветрячков, которые под напором ветра начинают вертеться, вертятся, вертятся... В глазах у него темнеет, его трясет, он валится со стула и лежит, словно мертвый.
И вот март 1904 года. Прошло девять лет и десять месяцев. Профессор Корвара Амидеи уже и не помнит, как он чуть было не отдал тогда Богу душу, после того как исполнил свой «номер с риском для жизни». Спасла его мысль о том, что где–то там, в далеком местечке Сабины, находится его сынишка. Теперь он неразлучен со своим Дольфино. Мальчику уже десять, но, похоже, никогда бы ему не дотянуть до этих лет, не будь рядом папы, который своими неустанными кропотливыми заботами мало–помалу вытянул, дорастил его до этого возраста; но тем не менее, увы, опасность, что несчастное дитя повторит судьбу своего отца, как была, так и осталась, хотя, впрочем, будем надеяться, что все еще как–нибудь обойдется; дело в том, что мальчик — такой хрупкий, такой щупленький — предрасположен к той же болезни, которая угрожала его отцу, когда тот учился в семинарии.
До восьми лет Дольфино считал, что его мама умерла, когда он появился на свет; а тут, два года назад, в один прекрасный день, когда папа был на службе, к ним в дом вошла какая–то синьора, одетая очень странно, накрашенная, напудренная, и, обливаясь слезами, с радостью сообщила ему, что его мама жива и что это она — его мама, что только она одна его любит — о! как она его любит! — и хочет все время быть с ним, и заботиться о нем, и ласкать его днем и ночью так, как она ласкает его сейчас, вот так, вот так, славненького своего, родного своего сыночка.
Но тут кормилица, которая его вырастила, а потом, овдовев и будучи женщиной одинокой, приехала как–то навестить его, да так и осталась у них, взяв на себя одновременно обязанности экономки и служанки, — тут кормилица, вернувшись домой с набитыми провизией сумками, накинулась на эту дамочку и вырвала у нее из рук мальчика; и бедный, насмерть перепуганный Дольфино слышал, как нянька обзывала ту, которая говорила ему, что она его мама, всякими скверными словами, а потом они начали драться; это была жуткая сцена, такая жуткая, что после нее он слег, потому что у него началась жесточайшая лихорадка.
Козмо Антонио Корвара Амидеи тогда же пошел в полицейскую часть заявить на эту бесчестную женщину, которой недостаточно было горя, которое она принесла ему, так она теперь решила добавить еще — и кому? — ни в чем не повинному ребенку.
Сатанина, которая еще в восемнадцать лет, после смерти отца, собиралась, как известно, уйти куда глаза глядят, сбежав с художником–французом, писавшим ее портрет, четыре года провела в Париже, потом побывала в Ницце, затем в Турине, после — в Милане и с каждым годом падала все ниже и ниже. Он увидел ее через несколько дней после того, как она объявилась в Риме, и хотя он уже представлял себе, во что она могла превратиться, но когда увидел ее воочию, ему стало дурно прямо посреди улицы, и люди отвели его под руки в ближайшую аптеку.
Еще до этого он попал в руки некоего священника из Сардинии, знакомого еще по Сассари, по имени дон Мелькиорре Спану, который вбил себе в голову, что должен вернуть в овчарню сию заблудшую, давно отбившуюся от стада овечку; он приносил ему для чтения богословские книги — множество книг, — чтобы тот читал их в нескончаемые часы урочных занятий; он доказывал ему на наглядных примерах, что единственная причина всех выпавших на его долю бед была в том, что он недостойно обошелся в молодости со святой нашей матерью–церковью и что, уж конечно, Господь неспроста надумал забрать в сонм своих ангелов и праведников непорочных дорогого его сынишку, кроткого мальчика Дольфино; словом, это ему, профессору Корвара Амидеи, богоотступнику, предостережение свыше, чтобы он, когда останется один, долго не раздумывал и шел в монастырь, ну хоть в монастырь «Три Фонтана», что в Траппе. Святое место, святое место, как раз то, что нужно для покаяния.
Слушая его, профессор Корвара Амидеи съеживался, приподнимая плечи, вытягивая шею, и, прищурив глаза, всякий раз говорил:
— Ну хорошо!
В иные дни, когда он после урочных часов выходил из министерства, его встречали с одной стороны дон Мелькиорре Спану, стоя на ступеньках церкви Санта–Мария делла Минерва, с другой — жена, величественно облокотясь на ограду Пантеона. Стоя друг против друга, они обменивались молниеносными испепеляющими взглядами: священник — потирая при этом пальцами подбородок и щеки, на которых жесткая щетина вырастала, кажется, прямо из–под бритвы; женщина — кривя в лукавой ухмылке ярко накрашенные губы.
Каждый вечер, ступив на площадь, профессор Корвара Амидеи искоса, украдкой поглядывал на решетку, возле которой облюбовала себе место жена, но поворачивал в сторону священника, так как знал, что на улице Пье ди Мармо она все равно его догонит и выпросит денег, отказать в которых он был не в силах, раз уж он ей и так столько раз с негодованием отказывал в прощении... После каждой очередной такой ее выходки, когда она кидалась к нему, он, желая предупредить очередной нагоняй от священника, приближался к нему со вздохами, с привычной своей ужимкой, потирая чаще обычного руки:
— Ну хорошо! Хорошо!
Между тем близилась весна — время, самое неблагоприятное для страдающих грудью; врач порекомендовал профессору Корвара Амидеи свозить Дольфино на море, хотя бы на первый месяц, когда римский воздух будет для него особенно губителен.
И вот профессор Корвара Амидеи подал прошение о месячном отпуске и 5 марта 1904 года отправился в Неттуно с намерением снять там квартирку с видом на море.
§ 2
Сосновая шишка
Месяц отдыха и передышки и не мог обещать лучшего. Вплоть до последнего дня дожди лили не переставая, нынче же прозрачным светом первого чистого мартовского солнца Весна словно бы говорила:
— Я тут.
И в самом деле, профессору Корвара Амидеи, уткнувшемуся в окошко вагона третьего класса, показалось, что он даже увидел ее, Весну, едва только поезд отошел от вокзала: Весну у Римских ворот, в чем–то неуловимо розовом, трепетном, мелькавшем среди нежной зелени лугов. Что это было?.. Наверное, несколько цветущих персиковых деревьев. Ну конечно, конечно, так и есть: вон еще такие же, и вон, и вон. Весна! Ах, как давно он не видел такой Весны, Весны в самом–самом ее начале, шаловливо улыбавшейся розовыми устами персиковых деревьев!
Он глубоко, прерывисто вздохнул и почувствовал, что его пьянит этот непривычно новый воздух, пьянит так легко и светло, что ему даже захотелось заплакать. Милостью, дарованною ему враждебной судьбой, показалось ему это восхитительное зрелище, от которого в нем поднималась радость такая сокровенная, что непонятно было, почему, если он сейчас, сию минуту испытывает ее, она ему кажется тою, давешней, давно позабытой радостью, которой были исполнены светлые, воздушные годы его в родном, волшебном городе детства.
И он позабыл на минуту обо всех своих бедах, прошлых и нынешних, о тяжело больном своем сыне; о той, погрязшей в разврате, позорившей его женщине; о священнике, тиранившем его; о предстоящих тратах, превышавших его скудные возможности, тратах, на которые все же приходилось идти в надежде, быть может, увы, и несбыточной, что хоть это пойдет на пользу Дольфино; забыл о тоске своей, мрачной, горькой; о непосильной тяжести своей нестерпимой жизни. Со всей накопившейся у него в душе чернотой спорила сейчас зелень лугов, голубизна небес и эта восхитительная, разлитая в воздухе свежесть, это живое дыхание Весны. И он сидел, зачарованный, и улыбался.
Да, жизнь могла, могла быть прекрасной; но только здесь, среди этой зелени, на этих просторах; здесь безжалостная судьба не осмелится гоняться за ним, преследуя его так жестоко, как в городе. То, как она преследовала его по мрачным, гнетущим городским улицам, представало ему в образе до осязаемости реальном: он слышал, как за его спиной, крадучись, словно какая–то жуткая тень, заставляющая его идти пригнувшись, сжавшись в комок, боясь оглянуться назад, следует она: его жена.
Он тотчас же отогнал от себя этот образ, внезапно всплывший перед глазами и затуманивший такую пленительную картину, и снова, уже не отвлекаясь, принялся любоваться. Вон Албанские горы; как высоко взметнулись они в небо, и чудится, как будто дышат, такие легкие, невесомые, словно бы и не из камня. А вон и Каве, вершину которого, как короной, венчают клены и буки, и старый монастырь, и белесый лес, опоясывающий гору как раз посередине склона. Чуть дальше — городок Фраскати, сплошь залитый солнцем. От грохота поезда взлетела стайка воробьев, а в вышине, покачиваясь на переливающихся крылышках, повис жаворонок и выводит свои трели. Профессор Корвара Амидеи тотчас же вспомнил первую фразу из латинской грамматики, которую уже столько лет как не преподавал: «Alauda est laeta» (Жаворонок весел» (лат.).), и покачал головой. Сейчас даже первые годы преподавания казались ему чуть ли не прекрасными, до тех пор, правда, пока он не стал жить одним домом с этим...
— Ну хорошо! — вздохнул он, опять разволновавшись.
Но ненадолго. Проехали станцию Крочетто, и он почувствовал, что уже близко море, и душа его раздалась, повеселела, затрепетала в предвкушении этой голубой, подернутой рябью бескрайности, которая с минуты на минуту могла распахнуться перед глазами. Ах, море! Как давно он его не видел и как хочется, как сильно, страстно, неудержимо хочется вновь повидаться с ним! Но ведь вот же оно! Уже? Вот оно! Море! Море! Профессор Корвара Амидеи вскочил на ноги, дрожа от восторга, высунулся из окошка и с таким нетерпением, с таким сладострастьем вдохнул в себя морской бриз, что у него закружилась голова; он упал на вагонную скамью и уткнулся лицом в ладони.
Поезд остановился в Анцио всего на несколько минут, и профессор Корвара Амидеи, никогда не бывавший в этом прелестном городке, с жадностью стал пожирать глазами все, что отсюда, с вокзала, можно было увидеть. Вскоре и он сошел, на станции Неттуно, все еще как во хмелю, с шумом в голове после встречи с морем, когда, увидев его, он сгоряча вздохнул сразу так глубоко, полной грудью, как уже давненько с ним не случалось.
Переписчики из министерства кое–что рассказали ему об этом городке. Он направился к главной площади и спросил, где бы здесь, за небольшую плату, можно было снять простенькую квартирку с видом на море. Его направили вниз от площади и направо, к домику, стоявшему на самом берегу. Квартирка, по правде сказать, была дороговата для его кармана — ну да что ж делать! Окно комнатки, расположенной по фасаду дома, смотрело в сторону небольшой площади перед казармой солдат–артиллеристов, которые отрядами направлялись на учебные стрельбы, и было едва ли на высоте мезонина; окно другой комнатки, обращенной в сторону моря, — на высоте второго этажа; море словно стремилось влиться через это окно прямо сюда, в комнатку, — одно море, кроме него отсюда ничего больше не видно было. Профессор Корвара Амидеи уплатил хозяину задаток, сказал, что переедет завтра же утром, и спустился к пляжу.
Напротив домика с западной стороны поднимался, возвышаясь на гряде скал, и уходил в самое море величественный, потемневший от времени замок Сансовино. Профессор Корвара Амидеи вскарабкался на скалы под замком и, потрясенный открывшейся его взору картиной, просидел здесь в созерцании больше часа. Он увидел, как поднимается над морем, словно невесомый остров, голубая, почти тающая в воздухе гора Чирчелло, а чуть ближе, на берегу, — замок Стура; увидел, совсем рядышком, справа от себя, порт Анцио с вошедшими в него кораблями, — порт был весь черный от угля, которым здесь бойко торговали; а дальше, дальше была вода, необъятный простор воды, сверкавшей на солнце яркими бликами и такой спокойной, что волны у пляжа набегали на песок, почти неслышно. Оторвавшись наконец от этого завораживающего зрелища, он решил перекусить и спустился вниз; потом, зная, что раньше пяти часов не будет ни одного поезда на Рим, решил употребить оставшиеся у него три часа на осмотр великолепного парка Боргезе, расположенного на полпути между Анцио и Неттуно.
Он не помнил, чтобы хоть раз в жизни ему выпадало провести день более восхитительный; он блаженствовал посреди этого раннего, сладостного весеннего тепла; с одной стороны у него было море, плескавшееся внизу под отвесной стеною плато, с другой — зелень лесов и полей. Ворота парка были открыты, и профессор Корвара Амидеи, залюбовавшись, уже двинулся было по одной из спускавшихся по склону аллей, как его окликнули; обернувшись, он увидел карлицу, которая, переваливаясь, словно утка, бежала за ним и кричала:
— Эй! Эй! Вы! У нас вход платный! Сперва купите билет.
Пять сольди. Уплатил, хотя и дал себе слово, что будет ограничивать себя в расходах. И продолжил свой путь, блуждая по тянувшимся вглубь пустынным, тенистым аллеям, какие бывают только во сне. И действительно, в сон, казалось, погружены были величественные деревья, стоявшие в тишине, которую пение птиц не нарушало, а, напротив, лишь придавало ей еще больше таинственности. Ему рассказывали, что в этом почти заброшенном парке полно соловьев. Прислушался, и ему показалось, что где–то в глубине чащи он услышал, как запел один, и он устремился в ту сторону. Он долго шел, пока не очутился в дивном сосновом бору. Стройные высокие стволы походили на колонны в каком–то гигантском храме, их сомкнувшиеся в вышине кроны скрывали от глаз небо. В этом бору, казалось, был какой–то особый, отдающий медью, воздух, насыщенный прохладой, которая бывает лишь под сводами церквей.
Идти куда–то еще профессор Корвара Амидеи уже не мог. Инстинктивным движением он снял с себя шляпу, сел, потом лег.
За долгие годы, прожитые в бедах, следовавших одна за другой, мозг его как будто зачерствел; мелкие, тягостные хлопоты не давали возможности возвысить дух до тех вопросов, которые мучили его в молодости и довели до того, что он даже на какое–то время лишился рассудка, а затем и веры. Нынче же, в этот день кратковременной передышки, когда ему наконец удалось разглядеть своими близорукими глазами, как можно было бы жить, по–настоящему испытывая радость от жизни, у него возникло искушение вновь углубиться в дебри былых своих рассуждений. И он спросил себя, почему он, ни разу умышленно не сделавший никому, ни одному человеку зла, почему именно он оказался мишенью, по которой палила судьба; да, именно он, который всегда желал творить одно лишь добро — и тогда, когда отказался от рясы священника, убедившись, что логика его мыслей разошлась с логикой отцов–учителей церкви, логикой, которая должна была быть для него непреложным законом; и тогда, когда женился, дабы не оставить без куска хлеба сироту, настоявшую на том, что лишь при этом условии, при условии женитьбы, она сможет есть его хлеб, в то время как он–то безо всякой задней мысли, от чистого сердца готов был дать ей тот же кусок и просто так. А теперь еще, не говоря уже о подлой измене и бегстве этой бессовестной женщины, разбившей всю его жизнь, теперь ему почти наверняка придется еще столько выстрадать, видя, как медленно погибает его сынишка, единственное, каким бы горьким оно ни было, единственное оставшееся у него добро. Почему все это так? Бог? Богу так было угодно? Нет, Бог не мог этого желать. Ведь если Бог есть, то с добрыми он должен быть добрым. Он оскорбил бы Бога, думая про него так. Так кто же наконец, кто управляет миром этой нашей несчастнейшей жизнью?
Сосновая шишка. Что, что? Ну да, сосновая шишка, оторвавшись в ту минуту от одной из верхних веток, спикировала в качестве молниеносного ответа на голову профессора Корвара Амидеи.
Бедняга как лежал, так и продолжал себе лежать, вытянувшись, тихо–мирно, без сознания, словно насмерть сраженный молнией. Придя же в себя, он обнаружил, что лежит в луже крови. И добро бы только это, так ведь кровь все не переставала идти: вытекая из глубокой раны на макушке, она тоненькой струйкой пробегала за ухом и убегала за шиворот. Еще мало что соображая, он кое–как поднялся на ноги и с трудом поплелся к выходу из парка. Карлица–сторожиха, увидев его и его лицо, перепачканное кровью, в ужасе завизжала:
— Господи Иисусе! Что вы натворили?
Он поднял кверху дрожащую руку и сморщился от боли и смеха.
— Шишка... сосновая, — пробормотал он, — сосновая шишка правит миром... Увы!
— Сумасшедший, — мелькнуло у карлицы, и, струсив, она поскорее заковыляла за пастухом с молочной фермы, примыкавшей к парку, чтобы тот с помощью одного из железнодорожных рабочих, ремонтировавших полотно у самых ворот, отвел этого несчастного в находившийся неподалеку туберкулезный санаторий «Творите, братья, добро».
Здесь профессора Корвара Амидеи первым делом наголо обрили, затем наложили шесть основательных швов, наконец перебинтовали. Он торопился, он боялся пропустить поезд. Врач, услышав, что он собирается еще куда–то ехать, решил усилить меры предосторожности и соорудил у него на голове из бинтов нечто вроде тюрбана, на который шляпа уже не налезала. Когда все было готово, профессор Корвара Амидеи приподнял плечи, осторожно попробовал вытянуть шею и, прикрыв глаза, в очередной раз вздохнул:
— Ну хорошо!
§ 3
Ветер
«Не понимаю, любезная Весна, зачем тебе понадобилось в этом году приходить раньше того дня, который люди в своих календарях назначили для твоего прихода. И Зима нынче была довольно мягкой и вялой, и, конечно, под конец, до того как исчезнуть, ей хотелось бы хоть немного побуянить — это ее право; она бы просила тебя, к примеру, чтобы ты дала ей время разродиться парочкой бурь, которые давно тяжелят ее чрево; но, если это тебя не устраивает, если ты боишься при своем триумфальном возвращении испачкать свои розовые ножки, застав города и деревни тонущими в грязи, так Зима велит передать тебе, что на этот счет ты можешь не волноваться: ее, бедную старуху, еще вовсю распирает от ветра, и она просто умоляет тебя, сделай удовольствие, разреши ей, раз уж другого ничего нельзя, хоть его–то выпустить, и тебе же самой от этого только польза будет: ветер развеет перед тобою туманы, очистит землю от мусора, которым завалила ее зима. Ты ей доставишь великое удовольствие, а мне и того подавно, ведь я — знала бы ты! — себя не щадя, покровительствую одному стоящему человеку с момента его рождения и по сию пору. Ну вот, представь себе, расскажу тебе для примера такой случай: вчера, пока он, развалясь, выставив брюхо, блаженствовал, наслаждаясь тобою в сосновом бору, — есть тут такой неподалеку, в одном дивном парке, — я решила повеселиться и подшутила над ним, уронив ему на голову чудную шишку, крупную, крепкую; она могла бы, конечно, уложить его прямо на месте, еще как бы могла, но я не захотела. Ты ведь знаешь, мой герб украшает кошка, гоняющаяся за мышкой: она с ней лишь забавляется, но не убивает ее».
Словно вычитав когда–то в какой–то старинной книге и теперь, словно для того чтобы жестокость прочитанного казалась еще более изощренной, он без умолку повторял про себя в течение вот уже двух недель это искуснейше составленное прошение, с которым добрейшая его судьба, несомненно, должна была обратиться к Весне и которое последняя — разумеется! — тотчас же удовлетворила. На голове у него по–прежнему красовался тюрбан, и он сидел, примостившись на краешке постели Дольфино, который с той самой минуты, как сошел с поезда в Неттуно, таял у него на глазах от медленно сжигавшего его лихорадочного жара, не снижавшегося даже днем. Раньше хоть, в Риме, жар у него поднимался только лишь по ночам.
И ветер, ветер, ветер! Две недели он не утихал ни на минуту, ни ночью, ни днем. Свистел, скулил, завывал на все лады, а иные порывы бывали особенно страшные, когда он, налетев, приступом шел на дома и таранил их с таким ожесточением и таким упорством, что, казалось, готов был снести их с лица земли и унести с собою. Но это всего лишь казалось, потому что на самом–то деле он сносил лишь какую–нибудь черепицу, валил дерево или телеграфный столб и разбивал чье–нибудь окно. Потом он еще забавлялся тем, что дразнил море, чтобы оно, выйдя из себя, затопило пляж и, разбежавшись и не в силах остановиться, натолкнулось на стены прибрежных домов и ударившись, со страшным грохотом разбилось.
Профессору Корвара Амидеи казалось, что он попал на застигнутый штормом корабль, который швыряло из одной стороны в другую. Несчастный Дольфино вообще был напуган до полусмерти, а он, он не имел даже возможности подбодрить его словом–другим, потому что от этого завывания ветра, больше еще, чем от грохота моря, у него не то что голос пропадал — дух перехватывало, переворачивалось все нутро, и он впадал в такую дикую, немую тоску, которая лишь изредка и то по чистой случайности находила себе выход в лечении глотки несчастной кормилицы, которая, дабы уж картина совсем была полной, заболела ангиной и была вынуждена тоже оставаться в постели.
— Только, ради Бога, барин, не сильно! — умоляла она, едва он, словно призрак, возникал перед ней с пузырьком карболовой кислоты в одной руке и кисточкой для смазывания горла — в другой. — Полегоньку, умоляю вас!
Она привставала на кровати и открывала рот, из которого несло жаром, как из раскаленной печки.
Профессор Корвара Амидеи не хотел мазать сильно; но каждый раз, словно ветер, с силой ударившись в ту минуту в окно, толкал его под руку, он устраивал ей такую смазку, что просто чудо еще, как у бедняги глаза не вылезали на лоб.
— Сплюньте! Сплюньте!
И со свирепостью, еще не остывшей во взоре, развернувшись, он отступал назад, пятился к Дольфино, лишь бутылочка с карболовой кислотой подрагивала у него в руке. Карболка... отрава... но очень мало, очень мало, и потом разбавленная... наверняка не хватит... Да и как оставить Дольфино в этом его состоянии? Нет, нет. Искушение, однако же, было велико. Этот ветер сводил его с ума.
«Отдых!» — ворчал он про себя.
Полмесяца уже пролетело. Плата за жилье, большая, чем он рассчитывал, отсутствие в доме удобств, болезнь служанки — вот и все, чего он здесь добился. И потом — не спешите, это еще далеко не все, — потом все приходилось делать ему самому: самому топить, самому ходить за покупками, самому накрывать на стол... И ни одного дня, когда бы можно было хоть на минутку вывести ребенка на пляж. Сиди себе в этих трех комнатушках, как в тюрьме, осажденный с двух сторон ветром и морем.
Многовато, правда?
Тинь–тинь–тинь — тихонько–тихонько — в дверь. «Кто там?»
Кто же еще? Сатанина, известно! Она, прилетевшая верхом на ветре; Сатанина, маменька родимая; маменька, безумно любящая сына, которая ни перед чем не остановится, лишь бы повидать свое заболевшее чадо.
Входит, стремительно бросается вперед, падает на колени перед учителем, который от неожиданности отшатывается назад, ловит его за полы пиджака и, вся растрепанная, кричит:
— Козмо! Козмо, ради всего святого! Дай мне взглянуть на Дольфино, на мою кровинку! Прости меня! Спаси меня! Смилуйся надо мной!
При этом она пускается в слезы, плачет навзрыд, и, надо сказать, плачет по–настоящему, настоящими слезами, плачет, не утихая, захлебываясь рыданиями, тоже настоящими, от которых сотрясается все ее тело; она не встает, уткнула в ладони лицо и не переставая умоляет:
— Я буду целовать, я землю буду целовать там, где ты ступишь, Козмо, если ты только простишь меня, если ты меня спасешь! Я больше не могу! Я хочу быть матерью своему сыну, хочу принадлежать только ему одному! Ну позволь мне находиться при нем, дай я буду ухаживать за ним, умоляю тебя!
Козмо Антонио Корвара Амидеи падает на стул и сидит, тоже уткнувшись лицом в ладони, хотя, если разобраться, и так уже ничего не видно, потому что уже стемнело и в комнатку наползли вечерние сумерки. Звонят к вечерне, колокола поют «Аве Мария».
— Ave Maria... — нарочито громко, дабы уберечь хозяина от искушения, начинает с постели свою вечернюю молитву кормилица.
И Дольфино, не понимая, что происходит, тревожно кричит из дальней комнаты, зовет его:
— Папа... папа...
И тогда, словно ее подхлестнули плетью, Сатанина вскакивает и мчится к сыну.
Профессор Корвара Амидеи сидит, как пригвожденный к стулу. Из комнаты Дольфино до него доносятся нежные, полные любви слова, с которыми она обращается к сыну; он отчетливо слышит звук поцелуев, которыми она его осыпает. Ему кажется, что внезапно все стихло, стихло на улице, повсюду, на всем белом свете. Он отрывает от лица руки и с изумлением прислушивается. Еле–еле позвякивает стекло в оконной раме. Ах, вот оно что, ветер, это же ветер утих. Неужто? Быть не может... Он подходит к окну взглянуть на освещенную улицу, которая проходит по ту сторону близлежащего сада, принадлежащего офицерскому дому. Да, ветер действительно стих, как–то вдруг, сразу. Слышны веселые голоса выходящих из столовой офицеров. А у Дольфино еще не зажжен свет, и он один, в потемках, в комнате с этой... И учитель Корвара Амидеи направляется, чтобы зажечь у. него свечу.
— Оставь, я сама! — живо подхватывается Сатанина. — Где тут у вас свечи? Там?
И она с заботливой предупредительностью выбегает за свечой.
— Папа, — говорит тогда ему потихоньку Дольфино, — папа, зачем она нам нужна... От нее так сильно пахнет духами...
— Тише, сынок, тише...
— Папа, а ты где будешь спать? У нас ведь больше нет кроватей, для нее... ты ложись здесь, слышишь, папа? Вместе со мной...
— Да, мой хороший, да... Тихонько только, тихонько... Тишина. А что так долго нет Сатанины? Свечку она, что ли, не может найти? Чем она занята? Профессор Корвара Амидеи вдруг чувствует, что по ногам тянет каким–то странным, необычным холодком, как если бы в той комнате открыли окно. Неужели?
Он подымается с постели и в темноте на цыпочках подходит к двери в ту комнату, где низко расположенное над полом окно выходит на площадь перед казармой, и, остановившись, прислушивается. Сатанина высунулась из окна и шепотом разговаривает с кем–то внизу. Как! С кем? Ах бесстыжая! Опять за старое? Козмо Антонио Корвара Амидеи сжимается весь и, как кошка, неслышно, потихоньку, без единого шороха подбирается к ней, и, услышав, как она говорит стоящему под окном офицеру: «Нет, Джиджино, нет, сегодня не получится: не вырваться мне. Завтра, слышишь... завтра непременно...» — наклоняется, обхватывает ее за ноги и — туда ее! — выкидывает из окна, крича вниз:
— Ловите, господин поручик!
Снизу ответили в два голоса — крикнул офицер, вскрикнула, упав, она, — профессор Корвара Амидеи с содроганием отшатывается назад и, конвульсивно передернувшись, всем телом начинает дрожать, пытается закрыть створки окна, но не может, потому что все новые голоса поднимаются с площади, кричат солдаты, офицеры, люди, сбежавшиеся отовсюду. Пошатываясь, еле передвигая словно спутанными ногами, он кое–как добирается до комнаты Дольфино, злобно огрызнувшись по дороге на кормилицу, которая, услышав крик, вскочила с постели в одной сорочке и хотела было остановить его, узнать, что там. случилось, что он натворил.
— Ничего... Ничего.... — отвечает он ей, задыхаясь от злости, уткнувшись в лежащего на кровати Дольфино и обнимая его. — Ничего... не пугайся... Это черепица... просто черепица упала на голову какому–то поручику.
В дверь бешено колотят. Кормилица, кое–как натянув на себя юбку, бежит открывать, — море людей, солдат, офицеров, предводительствуемых двумя карабинерами и уполномоченным местной полицейской управы, наполняют шумным, нестройным ропотом квартиру, в которой по–прежнему все еще темно.
— Повремените, сейчас я зажгу... — бормочет в испуге служанка.
Козмо Антонио Корвара Амидеи крепко, обеими руками прижимает к себе Дольфино, вставшего на колени в кроватке.
— Собирайтесь! Пойдете со мной! — кричит, обращаясь к нему, уполномоченный.
Козмо Антонио Корвара Амидеи, резко повернув голову, всматривается в него. Бледное, как у трупа, лицо его под тюрбаном из бинтов, с очками на носу приводит в замешательство, вселяет ужас в толпу, заполнившую комнату.
— Куда? — спрашивает он.
— Со мной! И довольно валять дурака! — кладя на плечо ему руку, отрывисто бросает уполномоченный.
— Ну хорошо. А как же ребенок? — снова спрашивает Корвара Амидеи. — Он болен. На кого я его брошу? Видите ли, господин уполномоченный...
— Пошли, пошли, пошли! — резко обрывает его тот, не давая ему досказать. — Ваш сын будет помещен в санаторий. Вы же отправитесь со мной.
Профессор Корвара Амидеи укладывает Дольфино обратно в постель; испуганный, мальчик дрожит; он тихонько уговаривает его, подбадривает, что, дескать, все это ничего, он скоро вернется, и, сдерживая слезы, при каждом слове целует его. Один из карабинеров, потеряв терпение, хватает его за руку.
— Даже наручники? — удивлен профессор Корвара Амидеи. В наручниках он снова наклоняется над сыном и говорит:
— Сынок, мои очки...
— Что тебе надо?.. — дрожа всем телом, до смерти перепуганный, спрашивает его Дольфино.
— Сними с меня очки, сынок... Вот так.„ Умница! Теперь я тебя больше не вижу...
Он поворачивается к толпе, сильно прищуривается, лицо его сжимается и открывает в улыбке желтые зубы; он съеживается, вытягивает шею, но тоска так сильно сдавливает ему горло, что на сей раз он даже не может сказать:
— Ну хорошо!
ПУГОВИЦА ОТ ПЛАЩА (Перевод Л. Вершинина)
Они не шумели и не кричали. Просто стояли друг против друга и вполголоса, почти шепотом перебранивались.
— Доносчик!
— Жулик!
Вытянув шею, словно гуси, готовые вот–вот ущипнуть противника, они без передышки повторяли «доносчик», «жулик» и, как видно, не собирались замолчать, все сильнее нажимая один на «о» в слове «доносчик», а другой — на «у» в слове «жулик».
Невысокие деревца по обеим сторонам узкой и каменистой улочки словно наслаждались этой сценкой.
Ведь те, что росли по правую сторону, совсем недавно видели, как Мео Дзецца взбирался на стенку, а их собратья на левой стороне знали то место, где прятался дон. Филиберто Фиориннанци.
Воробьи, синицы, маленькие серые винноягодники, точно получив сигнал от своих, бдительных дозорных — деревьев, веселым разноголосым хором вторили злобному шипению двух врагов, которые неподвижно стояли друг против друга и без устали повторяли все те же два слова.
Ни тот, ни другой не повышали голоса, не кричали фальцетом, а лишь презрительно тянули:
— Доно–о–осчик!
— Жу–у–улик!
— Доно–о–осчик!
— Жу–у–улик!
Наконец, когда у обоих совсем пересохло в горле и каждый решил, что теперь ему удалось навсегда запечатлеть на гнусной физиономии врага несмываемое пятно позора (недаром же они с такой яростью великое множество раз повторяли это свое «доносчик» и «жулик»), Мео Дзецца направился в одну сторону, а дон Филиберто Фиориннанци — в другую.
Но и разойдясь, они продолжали кипятиться, глаза их горели злобным огнем. Вытянув шеи и втянув животы, враги все еще повторяли пересохшими, дрожащими губами: «доносчик, доносчик, доносчик», «жулик, жулик, жулик».
То были последние искры догорающего пламени. Однако едва дон Филиберто Фиориннанци переступил порог своего дома, гнев и ненависть вспыхнули в нем с новой силой.
Это он–то доносчик?
Дон Филиберто Фиориннанци чувствовал себя как бы запачканным этим словом. Тяжело отдуваясь, он снял плащ.
Значит, если честный человек изобличит жулика, который много лет безнаказанно обделывает свои делишки, он — доносчик?
Дрожащими руками он принялся чистить щеткой плащ, потом повесил его в шкаф.
Но кому и когда он, дон Филиберто Фиориннанци, доносил на этого матерого ворюгу? Он ни разу даже словом ни с кем не обмолвился, ни разу!
Разве только смотрел на Мео Дзеццу пристально и многозначительно. Да, да, когда это грубое животное Мео Дзецца с развязной веселостью подходил к нему, скаля зубы и нагло подмигивая, и пытался похлопать его по плечу своими толстыми волосатыми ручищами, он лишь многозначительно щурился в ответ! Суровый, прямой дон Филиберто Фиориннанци отстранялся от него; холодный и строгий взгляд его пожелтевших от чрезмерной раздражительности глаз ясно говорил: «Я все видел и все знаю...»
— Жулик... жулик... — все еще повторял он, расхаживая по комнате в рубашке, без пиджака, нервно притрагиваясь дрожащими руками то к одной, то к другой вещи.
В конце концов полумертвый от усталости дон Филиберто сел на край кровати. Взгляд его с удивлением остановился на свече, которая спокойно горела на ночном столике, словно призывая хозяина улечься спать.
Он даже не помнил, что зажег эту свечу.
Наконец он разделся и лег в постель, но так и не смог сомкнуть глаз в эту ночь.
Когда–то дону Филиберто казалось, что он может толково и обстоятельно объяснить себе любое явление; словом, ему казалось, что он понимает, как устроен мир.
И вот дон Филиберто медленно–медленно пустился в путь по жизни. Нельзя сказать, чтобы шагал он очень уверенно, нет. В душе его постоянно жил страх перед неожиданным и безжалостным нападением, которое в один миг может разрушить воздвигнутый им с таким трудом домик спокойствия.
С давних пор, во время оживленных споров в клубе и в кафе, а также при решении более серьезных дел, он являл собой образец благоразумия и сдержанности; эти примерные качества дона Филиберто Фиориннанци сказывались даже на его походке и в манере одеваться. Один только Бог знает, какие мучения претерпевал он, когда в жаркий летний день выходил в наглухо застегнутом плаще. Конечно, плащ уже далеко не новый, но какую суровую важность придает он своему владельцу! А как тяжело дону Филиберто Фиориннанци нести прямо и гордо свою большую и упрямую голову на длинной и тоненькой шее! Но ведь должен же он сохранять торжественную многозначительность.
Он хотел, чтобы во взгляде его, ясном как зеркало, каждый мог прочесть молчаливое предостережение или немой упрек, найти совет и поддержку. Правда, из опасения, как бы отвратительное дыхание повседневности не замутило поверхность зеркала, а грубый пинок не отбросил его далеко в сторону, лишив тем самым возможности оказать поддержку ближнему, дон Филиберто держался в сторонке. Но всем своим видом он неизменно показывал, что собирается вмешаться и, в зависимости от обстановки, примирить спорящих или отразить удар.
У него начинали нестерпимо чесаться пальцы, когда он видел на ком–нибудь расстегнутый пиджак или съехавший набок галстук. Дон Филиберто сам, из своей пенсии, заплатил бы маляру, лишь бы тот покрыл лаком панель в лавке, что напротив кафе. Сменить–то ее сменили, а вот отлакировать не удосужились.
Каждый вечер дон Филиберто Фиориннанци возвращался со своей прогулки по аллее, которая тянулась до самой окраины поселка, раздраженный и подавленный; ведь прошло уже столько месяцев, а муниципалитет все еще не распорядился заменить на последнем фонаре разбитое стекло. И словно судьба вселенной зависела от этого разбитого стекла, дон. Филиберто никак не мог успокоиться.
Чужая небрежность и бездеятельность оскорбляли его и в конце концов доводили до белого каления. Однако, желая успокоиться и сохранить незыблемыми свои суждения о разумном устройстве мира, он мало–помалу начинал подыскивать этой небрежности и бездеятельности всяческие оправдания. И в конце концов это ему удавалось, хотя и дорогой ценой. Его суждения после всех оговорок и оправданий постепенно утрачивали категоричность, начинала колебаться вся стройная система мироздания, и дону Филиберто Фиориннанци то и дело приходилось укреплять ее.
О Боже, теперь он дошел до того, что стал оправдывать воровство! Да, да, красть можно, но только с умом, так, чтобы честные люди понемногу прониклись уважением к вору, начали его ценить. Тогда со временем все решат, что, в сущности, виноват не столько сам вор, сколько глупец, который позволяет себя обкрадывать.
Однако случай с Мео Дзеццой был поистине необычайным. В самое короткое время этот ворюга до того возгордился, что стал требовать к себе особого, ничем не заслуженного внимания. Наглость его была беспредельна. Он повел себя запанибрата с теми, кто по рождению, по возрасту, по воспитанию стоял и стоит неизмеримо выше его. И потом, нельзя было сказать, что хозяин, которого Мео Дзецца буквально грабил, был глупцом. Наоборот, в Форни знали, что маркиз Ди Джорджи–Декарпи образцово управлял своими обширнейшими земельными владениями. Каждый год ученики коммерческих школ под руководством своих наставников приходили даже изучать на месте эту столь совершенную систему управления.
Лет тридцать тому назад отец маркиза рискнул вложить все свои капиталы в осушение Ирбийских болот. Он умер, не дождавшись счастливого конца этой рискованной затеи. Его сын жил теперь в городе и получал огромный доход со своих обширных земельных угодий, едва ли не самых крупных и плодородных на всем юге Италии.
Правда, молодой маркиз ни разу не побывал на своих землях, но вся заслуга в создании образцовой системы управления принадлежала ему. Земельный массив был разбит на десять секторов. Во главе каждого сектора, в который входило десять участков, стоял управляющий. Мео Дзецца был одним из этих десяти. Как же при столь совершенной системе маркиз не замечал, что этот бандит и наглец постоянно обкрадывает его? Ведь бесчестность Мео Дзеццы была видна всем окружающим, да и сам Дзецца с непосредственностью глупого животного почти не скрывал этого.
Когда на следующее утро дон Филиберто встал с постели, в ушах у него все еще со звоном отдавалось это мерзкое слово «доносчик». Наконец, стиснув зубы и сжав кулаки, он принял твердое решение — действовать. Видит Бог, он должен положить конец столь неслыханному безобразию и наглости.
Доносчик? Пусть так, он доносчик; он принимает вызов. Он напишет донесение по всей форме о постоянных хищениях, которые этот тип совершает уже много лет.
Дон Филиберто трудился над донесением целых десять дней. Когда наконец все было готово, дон Филиберто с особой тщательностью наглухо застегнул свой неизменный плащ, открыто, с папкой под мышкой сел в повозку и отправился на железнодорожную станцию. Оттуда он поездом выехал в город.
Приехав в город, он прямо с вокзала пошел в управление маркиза Ди Джорджи–Декарпи.
Войдя внутрь, он сразу же почувствовал такое благоговение, что не только не оскорбился, когда ему объяснили, как трудно попасть на прием к маркизу, но, наоборот, с радостью одобрил все эти строгие правила и, без конца кланяясь и сладко улыбаясь, изъявил полную готовность подчиниться им.
Здесь было настоящее царство порядка. Управление работало с точностью часового механизма. Все кругом сверкало и блестело. Курьеры в ливреях, мраморные лестницы, залитые электрическим светом, сияющие, как зеркало, паркеты, великолепные ковры, паровое отопление. И кругом таблички: «Секция I», «Секция II», а на каждой двери дощечки с указанием отдела.
Его сиятельство синьор маркиз принимал посетителей только в определенные дни и часы, по средам и субботам от десяти до одиннадцати. Чтобы попасть к нему на прием, надо было предварительно за два дня подать письменную просьбу, заполнив печатный бланк за первым столиком во второй комнате личной канцелярии маркиза: второй этаж, секция I, второй коридор направо. Тот, кто очень спешит и не может дожидаться приемного дня, должен обратиться в отдел срочных заявлений на том же втором этаже, та же секция, третья дверь по первому коридору налево.
— Да нет же, нет... — лепетал дон Филиберто.
Сведения, которые он хочет сообщить, не столь срочны, сколь серьезны, и он желает передать их маркизу лично.
— Вы специально для этого приехали из Форни? — спросил старший курьер.
— Да, синьор, из Форни, специально для этого.
— Но сегодня только четверг.
— Не важно. Раз у вас такие правила, я подожду до субботы.
Тогда старший курьер обратился к мальчишке–рассыльному, тоже одетому в ливрею:
— Сбегай наверх и принеси бланк.
Однако дон Филиберто Фиориннанци ни за что не соглашался:
— Нет, нет, извините, зачем же? Я сам схожу, сам.
И он поднялся заполнить бланк на первом столике во второй комнате личной канцелярии, второй этаж, секция I, второй коридор направо.
Эти два дня дон Филиберто Фиориннанци, напрягая все свои способности, готовился к встрече с маркизом, точно к великому испытанию. Сначала вступление, короткое, конечно, — ведь у маркиза нет времени слушать абстрактные рассуждения, но должен же он прежде всего объяснить причину и мотивы, побудившие его написать донесение. Потом пункт за пунктом он изложит факты. Дон Филиберто Фиориннанци был счастлив бескорыстно передать все сведения, собранные им об этом жулике, который с редким упрямством старался обойти столь великолепно действующий правопорядок.
В субботу утром, за десять минут до назначенного времени, дон Филиберто уже сидел в приемной. Он был первым в списке, и едва часы пробили десять, его пропустили к маркизу.
Маркиз Ди Джорджи–Декарпи оказался маленьким, плюгавеньким человечком. На нем был изящный костюм, который лишь подчеркивал грубость сухого, словно крестьянского лица. Он сидел за письменным столом в старинном кресле, спинка которого на целую пядь возвышалась над его головой. На глубокий поклон посетителя маркиз ответил еле, заметным кивком; движением руки пригласил его сесть; потом, облокотившись о ручку кресла, подпер лоб рукой.
Теперь один его глаз был прикрыт ладонью, а другой с моноклем в костяной оправе смотрел дону Филиберто прямо в лицо. И столько было в этом неподвижном взгляде упрямой враждебности и жестокости, что дон Филиберто Фиориннанци почувствовал, как у него кровь стынет в жилах, а слова столь тщательно приготовленного краткого вступления застряли в горле.
Глаз этот глядел с недоверием, как бы строго предупреждал: «Я не верю в твое бескорыстие, смотри же, не говори ничего такого, чего нельзя доказать фактами»; казалось, глаз этот с неумолимой строгостью следил за каждым словом, которое слетало с дрожащих губ перепуганного дона Филиберто.
Но вдруг маркиз убрал руку от лба и открыл второй, дряблый и мутный глаз, который, если так можно выразиться, зевая, глядел на посетителя и как бы уныло просил его: «Сжалься!»
Дон Филиберто Фиориннанци внезапно почувствовал неприятную пустоту в желудке. Значит, тот глаз, тот глаз, который нагнал на него столько страху, был... был искусственный, стеклянный? О Боже, да, да, стеклянный! И, значит, маркиз, закрыв здоровый глаз, не только не смотрел на него пристально, изучающе и с угрозой, но даже не потрудился взглянуть, кто к нему пришел.
Быть может, маркиз даже не слышал ни слова из того, что он с таким трепетом говорил ему.
— Позвольте... синьор маркиз... перейти к фактам, — побледнев, растерянно пробормотал дон Филиберто.
— Вот именно, сделайте одолжение, — пробурчал маркиз. Он перенес руку на стол, снова подпер ею лоб, и больше уже не менял этой покойной позы. Доя Филиберто Фиориннанци вполне мот подумать, что он спит. Когда посетитель кончил, маркиз, отняв руку от лба, сказал:
— Разрешите?
И протянул руку за донесением.
Он рассеянно пробежал его своим единственным глазом, затем сунул руку в карман, вытащил оттуда связку ключей, открыл ящик секретера и вынул какую–то бумагу. Потом положил бумагу рядом с донесением и синим карандашом стал делать на нем какие–то пометки, сверяясь с бумагой. Покончив с этим странным занятием, маркиз молча протянул дону Филиберто испещренное карандашными пометками донесение и вынутую из секретера бумагу.
Дон Филиберто ошеломленно перевел взгляд с донесения на бумагу, посмотрел на маркиза, потом вновь стал сравнивать донесение и бумагу и наконец заметил, что в бумаге почти в том же порядке перечислены все махинации Дзеццы, о которых он приехал сообщить.
— Так, значит... — сказал он, с трудом придя в себя от изумления, — значит, вашей светлости... вашей светлости было уже известно...
— Как видите, — холодно прервал его маркиз. — И если вы повнимательней посмотрите мою бумагу, то заметите, что в ней перечислен целый ряд хищений, не упомянутых в вашем донесении.
— Да... ах, да... вижу... вижу, — поспешно согласился дон Филиберто, совсем растерявшись. — Но, следовательно...
Маленький маркиз снова облокотился о ручку кресла и закрыл ладонью здоровый глаз, смотревший устало и равнодушно.
— Уважаемый синьор, а почему это должно меня интересовать? — вздохнул он.
Пугающе неподвижный взгляд его стеклянного глаза с моноклем в костяной оправе никак не вязался с этим усталым вздохом.
— Подобные вещи, — продолжал он, — выходят за рамки моей компетенции.
— Выходят за рамки?
— Разумеется. Мы должны следить и следим за действиями Дзеццы — управляющего. Как таковой, он выполняет свои обязанности образцово. А что он за человек — нас, уважаемый синьор, не интересует. Больше того: нам даже выгодно, что Дзецца столь бесчестен или, точнее, так жаждет разбогатеть. Сейчас я вам поясню. Другим управляющим, которые более или менее удовлетворяются одним только жалованьем, нет нужды выжимать из моих владений больше, чем они дают сейчас. Дзецца же вынужден заботиться об увеличении прибыли, потому что должен кое–что выгадать и для себя. И вот результаты: ни один из секторов не приносит нам такого дохода, как тот, где управляющим Мео Дзецца.
— Но, следовательно... — заикаясь повторил дон Филиберто.
— Следовательно, — подхватил маркиз, поднявшись с кресла и давая этим понять, что прием окончен, — я благодарю вас, уважаемый синьор, за вашу заботу о моих интересах. Но все–таки... о Боже... право же, вы должны были догадаться, что при таком управлении, как мое, мы не могли не заметить этих фактов. Этих и, как вы могли убедиться, многих других. Во всяком случае, я вам весьма признателен. Честь имею, уважаемый синьор.
Дон Филиберто Фиориннанци вышел от маркиза совершенно ошеломленный, растерянный, если не сказать обезумевший.
— И, следовательно...
Осязаемый результат визита, пуговицу от плаща, он держал в руке. Выслушивая из уст маркиза столь невероятные вещи, дон Филиберто так долго вертел эту пуговицу, что в конце концов она оторвалась и застряла у него между пальцами.
Но зачем, она ему теперь?
Отныне он вполне мог ходить по улице в расстегнутом и даже надетом наизнанку плаще и в сдвинутой на затылок шляпе.
Весь мир для дона Филиберто Фиориннанци раз и навсегда перевернулся вверх дном.
ТЕСНЫЙ ФРАК (Перевод Н. Трауберг)
Обычно профессор Гори был довольно терпелив со старой служанкой, которая работала у него около двадцати лет. Но сегодня в первый раз в жизни ему предстояло надеть фрак, и это вывело его из равновесия.
Сама мысль, что такая чепуха способна сломить столь сильный дух, чуждый мирской суеты и погруженный в заботы высшего порядка, — сама эта мысль возмущала его. Как мог он согласиться напялить эту дурацкую штуку, предписанную нелепым обычаем для всех тех случаев, когда жизнь обманывает себя самое иллюзорными радостями празднеств!
И потом — Господи, ведь он же толстый, как бегемот, как допотопное чудище!
Профессор тяжело пыхтел и бросил испепеляющие взгляды на служанку, а она, маленькая и пухленькая, похожая на мягкий тючок, не сводила глаз с тучного своего хозяина и, ослепленная его блеском, не замечала, как жалко выглядит все вокруг — потрепанные книги, старомодная дешевая мебель, вся неприглядная обстановка неубранной, полутемной комнатки.
Понятно, это был чужой фрак. Гори взял его напрокат. Приказчик из соседней лавки принес целую охапку фраков, на выбор. И теперь, прищурив глаз и снисходительно усмехаясь, — ни дать, ни взять arbiter elegantiarum (Арбитр изящества (лат.).) — он рассматривал несчастного учителя, заставлял его поворачиваться то тем, то другим боком — «Pardon! Pardon!» — и время от времени решительно изрекал, встряхивая чубом:
— Не то.
Учитель пыхтел и отирал пот.
Уже примерили восемь фраков... девять фраков... целую груду фраков. Один теснее другого! А тут еще воротничок — как будто затягивают петлю! И эта манишка совсем измялась и вылезает из жилета! И белый крахмальный галстук, его надо завязать, а Бог его знает, как это делается!
В конце концов приказчик милостиво изрек:
— Вот этот ничего себе. Лучше не подберем, поверьте, синьор.
Измученный Гори повернулся к служанке и грозным взглядом остановил ее причитания: «Ну, как картинка! Прямо, как картинка!» Затем он оглядел фрак (несомненно, только из почтения к этому одеянию приказчик и величал его синьором) и повернулся к приказчику:
— Не найдется ли у вас еще какого–нибудь?
— Я принес целую дюжину, синьор!
— А это, что же, и есть двенадцатый?
— Двенадцатый, к вашим услугам, синьор.
— Ну, тогда, конечно, куда уж лучше!
Этот фрак был еще теснее, чем предыдущие. Проклятый молодой человек признал не без раздражения:
— Тесноват, конечно... но как–нибудь сойдет. Не будете ли вы так добры повернуться к зеркалу, синьор?
— Премного благодарен! — рявкнул Гори. — Хватит того, что вы на меня глаза пялите!
Приказчик сдержанно поклонился и ушел, унося одиннадцать фраков.
— Господи помилуй! — простонал в ярости несчастный Гори, тщетно пытаясь поднять руку.
Он взглянул на пригласительный билет, валявшийся на комоде, и снова тяжело запыхтел. В восемь надо быть в доме невесты, на виа Милане. Двадцать минут пути! А теперь уже четверть восьмого.
Вернулась служанка, которая провожала приказчика до дверей.
— Ни слова! — закричал на нее синьор Гори. — Лучше попробуйте затянуть этот галстук.
— Ну, ну, будет вам... сейчас все сделаю... А то воротничок... — запричитала она. И, хорошенько обтерев передником дрожащие руки, приступила к делу.
Минут пять царило молчание. И сам Гори, и все предметы в комнате замерли, словно в ожидании Страшного суда.
— Ну как, готово?
— О–ох! — вздохнула старуха. Синьор Гори вскочил и прорычал:
— Хватит! Не могу больше! Пустите, я сам!
Он глянул в зеркало и тут же пришел в такую ярость, что несчастная служанка затряслась. Он неуклюже поклонился, но при этом почувствовал, что фалды странно зашевелились; тогда он резко обернулся, словно кот, которому что–то прицепили к хвосту. И тут — т–р–р! — фрак лопнул под мышкой.
Гори задохнулся от бешенства.
— Это по шву! По шву! — кинулась к нему служанка. — Снимите, я сейчас зашью!
— Я опаздываю, — рычал он. — Я так пойду! Так пойду!.. Никому руки не подам! Пустите, я пойду!
Он яростно завязал галстук, набросил пальто на позорное свое одеяние и ринулся на улицу.
Ну, в конце концов не так уж все плохо, черт возьми. Сегодня свадьба любимой его ученицы, Чезары Рейс. Да, она заслужила счастье. Она так самоотверженно трудилась, бедняжка, все эти бесконечные годы.
По дороге он размышлял о том, какое странное стечение обстоятельств привело к этому браку. Да... только как же фамилия жениха? Гори вспомнил, как тот пришел к ним в Учительский институт; его детям нужна была гувернантка. Такой богатый вдовец, синьор... Грими? Грити? Нет, Митри, ну, конечно, Митри.
Вот как это произошло. Чезара Рейс сильно бедствовала, отца она потеряла в пятнадцать лет и так билась, так самоотверженно работала, чтобы прокормить свою старую маму: шила, давала частные уроки... И при этом она училась, получила диплом. Гори восхищался ее упорством, а когда она кончила институт, много хлопотал, просил и добился для нее места учительницы в Риме. Потом к нему обратился этот синьор Грити (Грити, Грити, вот, Грити его фамилия, а совсем не Митри!)... и он рекомендовал ему Чезару Рейс. Через несколько дней тот пришел снова, очень огорченный. Чезара отказалась от места гувернантки. Она слишком молода, неопытна, она не может бросить свою старую маму, и больше всего она боится злых языков. Надо было видеть, как она все это говорила и как смотрела при этом, негодница!
Красивая она девушка, Чезара Рейс. Как раз такой тип красоты нравится ему больше всего. Бесчисленные удары судьбы (недаром Гори был преподавателем словесности — он так и подумал: «бесчисленные удары судьбы») придали ее чертам утонченность и печальное, мягкое благородство.
Так что ничего нет странного в том, что этот синьор Грими (да, боюсь, его фамилия все–таки Грими)... Ничего нет странного, что этот синьор Грими, как только ее увидел, влюбился до безумия. Бывает так в жизни. Он раза три приходил, а то и четыре, и все зря. Тогда Грими обратился к нему, к ее учителю, попросил замолвить словечко. Ведь синьорина Рейс так скромна, так прекрасна и добродетельна; она будет не гувернанткой, а второй матерью его детям. Почему бы ей не согласиться? Гори с радостью взялся помочь, и Чезара Рейс уступила. И вот, сегодня свадьба, хотя его родные были против, все эти... Грими? Грити? Нет кажется, все–таки Митри.
— Ну и черт с ними! — заключил тучный синьор Гори тяжело отдуваясь.
Невесте полагается дарить цветы. Она так просила его быть свидетелем при бракосочетании! Но он ей сказал, что тогда он должен будет сделать ей подарок, приличествующий высокому положению жениха, а это ему не по средствам, совсем не по средствам. Хватит того, что он напялил этот фрак! Вот цветы — это пожалуйста. Сильно смущаясь и робея, вошел он в цветочный магазин и приобрел пучок зелени, из которой выглядывало несколько цветков. Да, цветов там было немного, а денег он потратил достаточно!
Он свернул на виз Милано и увидел в глубине улицы, у дома где жила Чезара, большую толпу любопытных. Так и есть, опоздал! Вот у подъезда кареты. Наверное, все эти люди собрались поглазеть на свадебное шествие. Он подошел к дому. Почему это они так смотрят на него? Фрак пока что скрыт, под пальто. Может быть, фалды? Он посмотрел через плечо. Нет, не видно. Так в чем же тут дело? Что происходит? Почему закрыта входная дверь?
Привратник спросил его тихим, печальным голосом:
— Синьор пришел на свадьбу?
— Да... Я приглашен...
— Свадьбы не будет.
— Как не будет?
— Несчастная синьора... мать синьорины Чезары...
— Умерла? — закричал Гори, бессмысленно глядя на дверь.
— Сегодня ночью... скоропостижно... Учитель остолбенел.
— Господи, что ж это? Мать?.. Синьора Рейс?..
Он обвел собравшихся растерянным взглядом, как будто хотел найти в их глазах, подтверждение этих страшных слов. Букет упал на мостовую. Гори наклонился и тут же почувствовал, что фрак рвется под мышкой; он замер. О Господи! Так и есть. Лопнул.
Этот фрак был предназначен для свадебного торжества и вот теперь он предстанет в нем перед лицом смерти. Что делать? Подняться в таком виде? Вернуться домой?
Он подобрал цветы и зелень и растерянно протянул их привратнику.
— Будьте добры, подержите, пожалуйста. — И вошел в дом. Попытался взбежать по лестнице; первый пролет одолел без труда. Но на последней площадке (черт бы побрал этот жилет!) ему не хватило дыхания.
Он вошел в гостиную и сразу заметил какое–то замешательство среди собравшихся — как будто при его появлении кто–то быстро ушел или внезапно оборвалась оживленная беседа.
Сильно смутившись, Гори Остановился в дверях и обвел комнату растерянным взглядом. Он был один среди неприятельского лагеря. Все — важные господа, родственники и друзья жениха. Вон та старуха, должно быть, его мать. Вот эти две старые девы, наверное, сестры или кузины. Он неловко поклонился. (О Господи! Опять фрак!) Согнувшись, как будто бы его ударили в живот, он быстро огляделся — не услышал ли кто легкого треска. Да, снова этот проклятый шов под мышкой! Никто не ответил на его поклон, как будто серьезность момента не допускала даже легкого кивка. Какие–то люди (наверное, близкие друзья) растерянно толпились вокруг одного из мужчин. Гори присмотрелся, и ему показалось, что это сам жених. Он облегченно вздохнул и поспешил к нему:
— Синьор Грими...
— Мигри, к вашим услугам.
— Ах, Мигри! Ну, конечно! То–то я думаю... Грими, Митри, Грити... и не догадался, что просто Мигри! Простите... Я профессор Фабио Гори... вы, может быть, припомните... мы встречались...
— Очень рад, но... — прервал тот, высокомерно и холодно взглянув на него; затем внезапно вспомнил: — А, Гори... ну как же. Вы, должно быть... ну, так сказать, виновник... косвенный виновник этого брака. Да, брат говорил мне...
— Простите, простите? Как вы сказали? Значит, вы брат синьора?..
— Карло Мигри, ваш покорный слуга.
— Очень рад, очень рад... Вы так похожи, черт возьми! Прошу простить меня, синьор Гри... Мигри, да. Но этот гром среди ясного неба... К сожалению, я... то есть я, к сожалению, не... ну, не то чтобы виновник... косвенно... так сказать, косвенным образом способствовал, это–да...
Мигри не дал ему кончить.
— Разрешите представить вас моей матери, — сказал он, вставая.
— Почту за честь...
Они подошли к канапе, половину которого занимала очень толстая старуха в черном платье. Из–под черного чепца выбивались пушистые седые волосы. Лицо у нее было плоское, желтоватое, словно пергамент.
— Мама, это синьор Гори. Ну, тот самый, знаешь... который устроил брак Андреа.
Старуха подняла тяжелые, сонные веки. Ее тусклые, невыразительные глаза приоткрылись по–разному — один больше, другой чуточку меньше.
— Видите ли, я... — пробормотал учитель, осторожно кланяясь, — я... не то чтобы устроил... как бы это сказать... Я просто...
— Рекомендовали гувернантку для моих внуков, — прогудела старуха. — Да, так будет вернее.
— Видите ли... — лепетал Гори. — Зная достоинства и скромность синьорины Рейс...
— О, превосходная девушка, ничего не скажешь! — согласилась старуха, медленно опуская веки. — Поверьте, мы все чрезвычайно сожалеем...
— Такое несчастье! И так внезапно! — воскликнул Гори.
— На все воля Божья... Гори взглянул на нее.
— Жестокий рок...
Затем, оглядев гостиную, он спросил:
— А... где синьор Андреа?
Брат жениха ответил ему с притворным равнодушием:
— Не знаю... только что был тут. Наверное, пошел приготовиться.
— О! — воскликнул Гори, внезапно оживившись. — Значит, свадьба все–таки состоится?
— Нет! Что вы говорите?! — вскочила ошеломленная старуха. — О Господи Боже! Когда в доме покойница! О–о–о!
— О–о–о, — вторили потрясенные старые девы.
— Он готовится к отъезду, — сказал Мигри. — Сегодня они должны были уехать в Турин. У нас фабрика в тех краях, в Вальсангоне. Его присутствие необходимо.
— И... он уедет? — спросил Гори.
— Это необходимо. В крайнем случае завтра. Мы настояли на этом. Совершенно очевидно, что его дальнейшее пребывание здесь было бы неприличным.
— Для нее... конечно... — прогудела старуха: — Злые языки...
— Вот именно, вот именно, — подхватил Мигри. — И потом — дела не ждут. Этот брак был несколько...
— Необдуманным, — подсказала одна из старых дев.
— Ну, скажем, несколько поспешным, — постарался смягчить Мигри. — Теперь судьба обрушила на них этот удар, как бы для того, чтобы дать время... вот именно, чтобы дать время подумать. Траур, знаете ли... и, таким образом, можно будет здраво рассудить, обдумать со всех сторон...
Гори онемел. Эти слова, все эти осторожные недомолвки, раздражали его совсем как тесный фрак, лопнувший под мышкой.
Потяни чуть–чуть — и все расползется по швам. Вот так же, как может оторваться рукав, стоит только дернуть — и сразу прорвется наружу все лживое лицемерие этих господ.
Гори почувствовал, что не может вынести ни минуты больше. Особенно раздражало его белое кружево у ворота старой синьоры. Такое кружево почему–то всегда напоминало ему о неком Пьетро Карделло, который держал галантерейную лавку в его родной деревушке; у него еще была огромная шишка на затылке... Гори чуть было не фыркнул, но вовремя сдержался и глупо вздохнул:
— Да... Бедная девушка!
Посыпались соболезнования. Тут он внезапно пришел в себя и раздраженно спросил:
— Где она? Можно ее видеть? Мигри показал ему дверь:
— Вот сюда, пожалуйста.
И Гори выскочил из комнаты.
На белой кровати лежало вытянутое, окоченевшее тело. Огромный туго накрахмаленный чепец, закрывал волосы покойной.
Войдя, Гори увидел только это. Раздражение его росло, он был смущен, подавлен, ошеломлен, голова у него кружилась; и печальное зрелище не растрогало, а скорее раздосадовало его. Какая нелепость! Какой жестокий, бессмысленный предрассудок. Нельзя, черт побери, ни в коем случае нельзя так оставить.
Неподвижность умершей казалась ему намеренной, словно бедная старая женщина в огромном накрахмаленном чепце нарочно вытянулась тут, на кровати, чтобы хитростью лишить счастья собственную дочь. Гори захотелось крикнуть:
— Встаньте! Встаньте, бедная моя синьора! Сейчас не время для таких шуток!
Чезара стояла на коленях у кровати. Она вся сжалась и уже не плакала, как будто оцепенела в безнадежном, немом отчаянье. В ее черных растрепанных волосах с вечера торчали бумажные папильотки.
Но даже тут он почувствовал не жалость, а скорее досаду. Главное сейчас — поднять ее с пола, вырвать из этого оцепенения. Он не даст судьбе сломить ее. Судьбе, которая так подло играет на руку всём этим лицемерным господам в гостиной! Нет, не даст! Все готово! Те господа пришли во фраках, как он, пришли на свадьбу! Нужно только, чтобы у кого–нибудь хватило воли поднять эту несчастную девушку, повести ее, потащить вот так, почти без сознания, только бы свадьба состоялась сегодня. Иначе она погибла.
Не так это легко — противопоставить свою волю враждебной воле всех этих людей. Но когда Чезара едва заметно шевельнула рукой и сказала ему, не поднимая головы: «Видите, учитель?» — Гори не вытерпел.
— Да, дорогая, да, — закричал он так громко и сердито, что девушка вздрогнула. — Только ты встань! Я не могу опуститься на колени!, Ты сама встань! Вставай! Ну, живо! Сделай это для меня!
Его тон ошеломил Чезару. Невольно она стряхнула оцепенение и с ужасом посмотрела на него.
— Зачем? — спросила она.
— Вот зачем, дорогая... только ты сперва встань. Говорю тебе, я не могу опуститься на колени! О Господи! — повторил Гори.
Чезара поднялась. Она взглянула на тело матери и страшно зарыдала, закрыв лицо. Но Гори схватил ее за руку и стал яростно трясти, волнуясь еще больше, чем прежде.
— Не надо! Не надо! Не надо! Потерпи, дорогая! Послушай, что я скажу!
Она посмотрела на него, с трудом сдерживая слезы, и спросила:
— Как же мне не плакать?
— Сейчас не надо плакать. Не время сейчас плакать, — сердито говорил Гори. — Ты теперь одна и должна о себе позаботиться. Понимаешь? Сама должна о себе позаботиться. Сейчас, вот сейчас! Собери все свое мужество. Стисни зубы и делай, как я скажу.
— Что мне делать?
— Ничего особенного. Сперва вынь бумажки из волос.
— Господи Боже мой! — простонала она, снимая папильотки дрожащими пальцами. Гори не давал ей опомниться:
— Вот молодец! Теперь иди к себе, надень скромненькое платье, шляпку надень, и мы поедем.
— Куда мы поедем?
— В мэрию, дорогая.
— Господи, что вы говорите!
— Я говорю: мы поедем в мэрию, зарегистрируем брак, а потом — в церковь. Свадьба будет сегодня. Иначе ты погибла. Видишь, как я для тебя нарядился? Фрак надел! И я буду свидетелем, как ты хотела. Оставь ненадолго свою бедную маму. Ее ты не оскорбишь. Она сама хочет, чтобы ты это сделала. Твоя мама хочет! Послушай меня, ступай оденься, а я пойду и все приготовлю.
— Нет... нет... я не могу... — в отчаянии говорила Чезара, снова роняя голову на кровать и пряча лицо. — Я не могу. Все кончено, я знаю! Он уйдет, он меня бросит... он не вернется. Только я не могу... не могу...
Гори не отступил. Он хотел наклониться, чтобы оторвать ее от кровати, но не смог. Тогда он яростно затопал ногами и закричал:
— Глупости! Я поеду с одним рукавом! Но вы обвенчаетесь сегодня! Ты пойми... Ну посмотри мне в глаза! Ты пойми, если мы упустим момент, все пропало! Что с тобой будет? У тебя нет работы! Ты одна! Хочешь свалить вину на свою бедную маму? Ты забыла, как она мечтала об этом браке? Несчастная синьора! И ты хочешь, чтобы все расстроилось из–за нее? Ну, возьми себя в руки, Чезара! Что тут дурного? Я с тобой! Я за все отвечаю. Ступай же, оденься! Оденься, дорогая, надо спешить!
И он повел ее к двери, поддерживая за плечи. Потом вернулся, пересек комнату, закрыл дверь и воинственно вошел в гостиную.
— Где жених?
Все повернулись, пораженные его тоном. Мигри спросил с притворной заботливостью:
— Синьорине дурно?
— Синьорина чувствует себя прекрасно, — ответил Гори, в упор глядя на него. — Имею честь сообщить вам, господа, что мне удалось ее убедить. Она согласилась взять себя в руки. Мы все в сборе. Все готово. Нужно только — не перебивайте меня! — нужно только, чтобы кто–нибудь из вас... вот, например, вы (обратился он к одному из гостей) взял на себя труд отправиться в мэрию и предупредить, что...
Ему не дали договорить. Как можно? Какой скандал! Это немыслимо!
— Дайте мне объяснить! — крикнул Он, заглушая хор протестов. — Зачем откладывать? Ведь препятствием был траур невесты? Но если сама невеста...
— Не позволю! — крикнула старуха. — Не допущу, чтобы мой сын...
— Исполнил свой долг и сделал доброе дело? — перебил ее синьор Гори.
Карло Мигри выступил на защиту матери.
— По какому праву вы вмешиваетесь? — спросил он, с трудом сдерживая гнев.
— Я вмешиваюсь в это дело потому, что считаю вас порядочным человеком, дорогой синьор Грими...
— Мигри!
— Мигри, Мигри, и поймите, что не подобает пользоваться этим внезапным несчастьем. Мы не должны поддаваться удару судьбы, постигшему несчастную девушку. Наш долг — спасти ее. Разве мы можем бросить ее так, одну, беспомощную, без работы? Нет. Свадьба состоится, несмотря на несчастье и несмотря на... простите!
Он остановился, яростно пыхтя, залез в рукав пальто, с ожесточением дернул рукав фрака, оторвал его и подбросил над головой. Все невольно рассмеялись при этой неожиданной выходке. А он продолжал со вздохом облегчения:
— ...и несмотря на проклятый рукав, который меня так мучил.
— Вы шутите! — сказал Мигри, приходя наконец в себя.
— Нет, синьор. Он лопнул.
— Вы шутите! Это насилие!
— Другого выхода нет!
— Вы так думаете? Повторяю, это невозможно, при подобных обстоятельствах...
К счастью, в эту секунду в комнату вошел жених.
— Нет! Не соглашайся! Андреа, не соглашайся! — закричали со всех сторон.
Не обращая внимания на крики, Гори направился к нему.
— Решайте сами! Дайте мне сказать! Дело в следующем. Я убедил синьорину Рейс взять себя в руки. Она согласилась, принимая во внимание серьезность момента. Так что, дорогой синьор Мигри, если вы тоже согласны, поедем сейчас в мэрию потихоньку, в закрытой карете, и зарегистрируем брак... Надеюсь, вы не откажетесь? Только скажите, скажите, что согласны.
Андреа Мигри растерянно взглянул на Гори, потом на других и нерешительно произнес:
— Но... если Чезара согласна...
— Согласна! Согласна! — воскликнул Гори, стараясь перекричать протесты. — Вот наконец искренние слова! Ну, скорее! Летите в мэрию, дорогой мой синьор!
Он схватил за руку одного из гостей и потащил его к дверям. В передней он споткнулся о цветочные корзины и снова бросился в гостиную, чтобы освободить жениха от окруживших его разъяренных родственников.
— Синьор Мигри! Синьор Мигри! — кричал он. — Одну минутку! У меня к вам просьба!
Андреа Мигри подошел к нему.
— Сделаем приятное бедной Чезаре. Вот эти цветы... К покойной... Помогите мне!..
Он схватил две корзины и побежал через гостиную прямо в комнату, где лежала покойная. Жених следовал за ним с двумя другими корзинами. Все внезапно преобразилось. Многие бросились в прихожую за остальными корзинами и потащили их туда же.
— Цветы — покойной. Очень хорошо! Цветы — покойной! Вскоре появилась Чезара, очень бледная, в простом черном платье. Ее волосы были слегка растрепаны. Она дрожала — видно было, что ей очень трудно сдерживаться. Жених кинулся к ней и нежно ее обнял. Все замолчали. Чуть не плача от радости, Гори попросил троих гостей отправиться с ним вместе в качестве свидетелей, и они тихо удалились.
Тогда оставшиеся — мать, брат, старые девы, все гости — Дали волю негодованию, которое им поневоле приходилось сдерживать в присутствии Чезары. Хорошо, что бедная, старая женщина, там, среди цветов, уже не могла слышать, как возмущаются эти люди таким оскорблением ее памяти.
По пути в мэрию синьор Гори думал о том, что говорят в гостиной. Выходя из кареты, он шатался, как пьяный, и был так ошеломлен, что совсем забыл об оторванном рукаве, и стал снимать пальто вместе со всеми.
— Учитель!
— Ах! Черт возьми! — спохватился он.
Чезара улыбнулась. Но Гори было не до смеха. Он уже успокоился, думая, что больше не вернется туда, к тем людям, а теперь придется ехать за рукавом. Ведь фрак взят напрокат. Подписаться? Как это? Ах, подписаться! Да, конечно, он поставит свою подпись как свидетель. Здесь, что ли?
Потом они отправились в церковь, наскоро совершили обряд и поехали домой.
Их встретило ледяное молчание.
Стараясь казаться как можно меньше, Гори оглядел комнату, а потом шепотом, приложив палец к губам, обратился к одному из гостей:
— Не знаете ли вы, куда делся рукав от моего фрака, помните — я его подбросил в воздух?
Вскоре он отыскал свой рукав и незаметно ушел. По дороге домой он размышлял о случившемся. В конце концов, только благодаря тесному фраку удалось ему одержать такую блестящую победу над судьбой. Ведь если бы этот расползавшийся рукав не раздражал его так сильно, он бы вел себя, как всегда, и, пораженный внезапной бедой, оплакивал бы несчастную судьбу бедной девушки Но тесный фрак лишил его обычной кротости, и он нашел в себе силы восстать и. победить.
МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ (Перевод Л. Виндт)
Конь и бык — прочитал я однажды в книге, заглавия и автора которой я не запомнил, — конь и бык... Но быка лучше опустить. Приведем лишь то, что относится к коню. Итак:
«Коню, который не знает, что ему предстоит умереть, метафизика незнакома. Но если бы конь знал, что он должен умереть, проблема смерти и для него стала бы в конце концов важнее, чем проблема жизни.
Добывать сено и траву, конечно, задача чрезвычайно важная. Но вслед за ней возникает другая: почему, потрудившись двадцать — тридцать лет, чтобы обеспечить себе сено и траву, обязательно нужно умереть, так и не узнав, для чего жил?
Конь не знает, что ему придется умереть, и не задается такими вопросами. Но перед человеком, то есть — согласно определению Шопенгауэра — животным метафизическим (что означает животное, знающее, что ему придется умереть), этот вопрос стоит неотступно».
Из этого, если не ошибаюсь, следует, что все люди Должны бы искренне завидовать коню. А тем более метафизические животные вроде меня, которые больны и знают не только, что им предстоит умереть очень скоро, но также и то, что произойдет в их доме после их смерти, и при этом не имеют даже права возмущаться.
Осадок никогда не бывает прозрачным. По мере приближения к концу жизненные соки изо дня в день перекисают во мне все больше и больше. И вот я хочу, заполнив эти несколько листков, доставить себе удовольствие, правда, отдающее горечью морской воды (удовольствие, которое мне не суждено испытать): хочу, чтобы жена моя узнала, что я все предвидел заранее.
Эта мысль родилась у меня сегодня утром. И родилась она потому, что жена застала меня врасплох в коридоре у входа в гостиную, когда я, пригнувшись, тихонько подглядывал в замочную скважину.
— Да ведь ты не ревнивый, — крикнула она мне, — что же ты здесь делаешь? Скажите пожалуйста! Даже ботинки снял, чтобы не шуметь.
Я посмотрел на ноги. И вправду босые! А тем временем жена заливалась хохотом. Что я мог сказать? Я бормотал глупейшие оправдания: я и не думал шпионить, мне захотелось посмотреть просто из любопытства — я перестал слышать звуки рояля, не видел, когда ушел учитель, и вот... Но клянусь, что ботинки (с позволения сказать) я скинул гораздо раньше и без всякой задней мысли. Просто они жмут. Она, моя дорогая Еуфемия, которая застала меня здесь босиком, должна бы знать, почему они жмут, и не смеяться над этим, по крайней мере в моем присутствии. У меня отекают ноги, и иногда я от нечего делать их щупаю: надавлю пальцем и жду, пока ямка снова забухнет.
Но это отнюдь не значит, что я совершил непростительную глупость.
Ведь я же знал, ведь я же знаю, что моя жена его терпеть не может, этого своего учителя музыки. И потом, я уверен, совершенно уверен, что — пока я жив — она мне не изменит. Она столько лет мне не изменяла, так неужели же она захочет себя запятнать из–за каких–то двух или, допустим, четырех, шести месяцев? Да нет же, я уверен, у нее хватило бы терпения, даже если бы я протянул еще год в таком состоянии.
И потом, я его знаю, прекрасно знаю мужа (будущего) моей жены! И тоже могу дать голову на отсечение, что он не причинит мне ни малейшего зла, пока я еще скриплю.
Он, разумеется, мой близкий друг. Отличный молодой человек.
По правде сказать, не такой уж молодой. Сорок лет, почти мой возраст. Но я выгляжу, как будто мне сто, а он — крепыш, твердо стоящий в жизни, как дуб среди леса, и, кроме того, одарен, как говорили древние, всеми качествами, необходимыми для образцового мужа: «нравственным поведением, великодушным и благородным нравом».
Об этом свидетельствуют и его заботы обо мне.
Вот, к примеру сказать, почти каждое утро он приезжает за мной в экипаже, чтобы дать мне глотнуть воздуха. Берет меня под руку и помогает мне потихонечку спуститься с лестницы, заставляя отдыхать на каждой площадке, пока он не сосчитает до ста, потом щупает мне пульс, не частит ли он, заглядывает мне в глаза, ласково спрашивает:
— Пошли?
— Пошли.
И так и дальше, до самого низа, тихонько, тихохонько. После прогулки меня несут наверх в кресле, он с одной стороны, швейцар — с другой.
Я пробовал протестовать, но тщетно. Правда, мне не одолеть разом и семи ступенек без мучительной одышки; но я хотел бы, чтобы мой друг не утруждал себя такими докучными обязанностями; чтобы швейцар нашел себе другого помощника... Куда там! Флорестано, если бы ему позволяли силы, готов бы нести меня один, безо всякой помощи. Ну что ж, в конце–то концов я вешу немного (что–нибудь около сорока пяти кило со всеми отеками); и потом, я думаю: помогая мне, он хочет заслужить будущее счастье. Ну и пусть старается!
С другой стороны, и жене моей Еуфемии почти приятно страдать из–за меня, и она рада бы мучиться еще больше, лишь бы отвоевать у собственной совести право радоваться впоследствии без всяких угрызений. Законное право, законнейшая компенсация, в которой ни жизнь, ни совесть не могут ей отказать и на которые я, повторяю, не смею обижаться.
Сознаюсь, однако, что бывают минуты, когда мне почти хочется, чтобы оба они были отъявленными негодяями. Их честные помыслы, их тонкие чувства нередко оборачиваются для меня самой изощренной жестокостью: поскольку я лишен возможности взбунтоваться против того, что, вне всякого сомнения, случится после моей смерти, то я, например, часто чувствую себя обязанным подозвать моего малыша, моего единственного сыночка, поставить его между колен и внушать ему, чтобы он любил и по–сыновнему почитал того, кто в скором времени станет его вторым отцом, чтобы он старался никогда не давать ему повода для жалоб. Я говорю ему:
— Посмотри, милый Карлуччо, у тебя грязные ручки. Что тебе сказал вчера дядя Флорестано, когда увидел у тебя на носике чернильное пятнышко? Он тебе сказал: «Умойся, Карлуччо, а не то тебя посадят в тюрьму». Только это неправда: дядя Флорестано шутит. Теперь за грязные руки на каторгу не посылают. Но ты все равно их мой, потому что дядя Флорестано любит чистеньких мальчиков. Он такой добрый и так тебя любит, милый Карлуччо, и ты тоже, смотри, должен его очень, очень любить и, помни, всегда его слушаться, чтобы он всегда был доволен тобой. Понял, сыночек?
И я расхваливаю все подарочки, которые он приносит ему, чтобы доставить удовольствие Еуфемии. Бедный мри малыш следует моим советам и уже благоговеет перед ним. На днях, например, Флорестано водил его гулять, а вернувшись, со смехом рассказал мне, что во время прогулки, когда они переходили залитую солнцем площадь, Карлуччо вдруг вскрикнул, остановился и огорченно спросил:
— Я тебе сделал больно, дядя Флорестано?
— Нет, Карлуччо. Почему ты спрашиваешь? А мой малыш простодушно ответил:
— Я наступил на твою тень, дядя Флорестано.
Ну нет, это уж чересчур, бедненький мой Карлуччо! Ах ты дурачок! Знай же, что тень топтать можно; дядя Флорестано и твоя мамочка будут в свое время топтать тень твоего папы в уверенности, что они не делают ему больно, потому что при жизни они очень остерегались наступить ему хотя бы на ногу.
Какое между нами тремя идет состязание в вежливости! И в то же время — какое добровольное мученичество. Мне, бедному больному, хотелось бы безвольно плыть по течению, а я, наоборот, вынужден держать себя в руках, чтобы как можно меньше их отягощать, не то они окружат меня еще большим вниманием и заботой, а это иной раз вызывает во мне отвращение, даже ужас. Возможно, я не прав. Но зрелище нашей изысканной любезности, наших постоянных церемоний у порога смерти кажется мне тошнотворным балаганом. Я вижу, как они в желтых перчатках и с бесконечными реверансами мягко подталкивают меня к этому порогу; и мне кажется, что они низко кланяются мне и говорят с приятной улыбкой на устах:
— Ну проходи же. Счастливого пути! И будь уверен, мы всегда будем помнить тебя, такого доброго, такого благоразумного и рассудительного!
Они всегда говорили мне, что надо быть искренним. Искренним? Но для меня искренность означала бы в данный момент только одно: убить. Не дай Бог! Что меня удерживает?
Поговорим серьезно. Если бы я не был верующим, если бы не верил в Бога по–настоящему и думал бы, напротив, что со смертью кончается все, даже душа, и что, когда земля уйдет у меня из–под ног, меня поглотит пустота, и ничего больше, — вы думаете, что я не убил бы Флорестано?
Когда я ночью, во время бессонницы, представляю себе, как. он будет ложиться в мою постель, на мое место, со всеми моими правами на мою жену и на мои вещи; когда думаю, что в соседней комнате, лежа в кроватке, мой сыночек, мой сиротиночка ночью вдруг заплачет и позовет свою маму, а тот, может быть, скажет моей жене, если она захочет вскочить и посмотреть, что с моим малышом, почему он плачет: «Да пусть его плачет, дорогая, не вставай, еще простудишься.» — тогда, клянусь вам, я готов убить Флорестано!
А вместо этого я каждую ночь тихо сижу у окна и подолгу смотрю на небо. Там есть малюсенькая звездочка, от которой я не отвожу глаз, и я часто говорю ей:
— Жди меня, я приду!
А Еуфемии, которая как дочь вольнодумца, хвалится, что не верит в Бога, я часто повторяю:
— Верь, глупая: Бог есть. И благодари Его, слышишь? Благодари Его.
Еуфемия смотрит на меня, как будто ей кажется странным, что я, Лука Леучи, могу так говорить: ведь я, по ее мнению, вовсе не обязан верить в Бога, поскольку он плохо обращается со мной, заставляя так рано умереть. Но если она от всей души любит своего Флорестано, она еще будет благодарить Бога, когда ей в руки попадут эти листки.
Я прекрасно понимаю, что мне следует умереть как, можно скорее. Я иногда замечаю, как Флорестано взглядами и вздохами дает понять моей жене, какие желания терзают его, беднягу! Тогда я воображаю, как моя жена, томно склонив красивую белокурую голову на его широкую мощную грудь, ласково поглаживает его великолепные усы, легонько, двумя пальцами, расправляя их длинные рыжеватые волоски!.. О, блаженство! Потерпи и ты, дорогая моя Еуфемия! А те ночные словечки, которые ты твердила, обнимая меня, ты будешь говорить и ему, почти не сознавая этого:
— Радость моя... Ах, дорогой... да, да... Дорогой, дорогой... Я начинаю неудержимо смеяться. Тогда оба они удивленно спрашивают меня, над чем я смеюсь; я отделываюсь шуткой, а Флорестано замечает:
— Ты до старости, дорогой Леучи, останешься все таким же шутником.
Но часто мне не удается быть шутником, как называет меня мой друг. Остроты мои против воли становятся едкими, и тогда Флорестано, сидящему рядом со мной в экипаже, бывает не по себе. Я ему говорю:
— Я предложил бы тебе, дорогой Флорестано, очутиться на минуту в моем положении, если бы оно не было таким скверным. Уверяю тебя, что у тебя появилось бы такое же странное чувство, как у меня, если бы ты был способен видеть жизнь такой, какой она останется для других, будучи при этом уверен, что для тебя она кончится очень скоро — может быть, даже пока ты об этом говоришь, — и представлять себе, как поведут себя другие, когда тебя не станет.
Я выражаюсь ясно, но Флорестано делает вид, что не понимает. А я продолжаю:
— Дорогой Флорестано, я даже знаю, например какой венок с фарфоровыми цветами ты возложишь на мою могилу, когда меня зароют.
Флорестано принимается мне возражать, и тогда я умолкаю: сижу, такой худой, бледный и грустный, и смотрю из угла коляски, едущей шагом по просторным аллеям Джаниколо, на мирное зрелище заходящего солнца; и не все ли равно, как будут другие наслаждаться жизнью, хотя бы и горькой? Вот этот широкоплечий здоровяк, который сидит рядом со мной и вздыхает; моя жена, которая тоже вздыхает, сидя дома; а еще мой малыш (уже без меня), который когда–нибудь, очень скоро, начисто забудет, кем я был, какой я был!
— Папа...
А Флорестано, обернувшись, нетерпеливо ответит ему:
— Ну что тебе?
Муж твоей матери, Карлуччо, он тебе не настоящий папа. Понимаешь?
И все–таки жизнь, Карлуччо, — она так прекрасна... так полна.
ВОЗВРАЩЕНИЕ (Перевод А. Косе)
Когда через много–много лет Паоло Марра вернулся в свой родной город, уныло пристроившийся на холме, он понял, что для отца крушение началось, по сути, в тот момент, когда он начал строить дом для себя самого, после того как построил столько домов для других.
И понял это Паоло Марра, как только снова увидел отцовский дом, где недолго прожил ребенком; дом этот, уже давно ставший для него чужим, стоял в верхней части города на одной из старых улиц, спускавшихся по склону и напоминавших пересохшие реки, от которых остались лишь выстланные булыжником русла.
Зримым образом отцовского крушения была арка ворот — самих ворот так и не навесили, — которая полукружием возвышалась с обеих сторон над стенами, отгораживавшими от. улицы просторный двор перед домом; стены эти, выложенные из красного камня, так и остались недостроенными и теперь казались старыми.
Посреди двора, тоже поднимавшегося вверх по склону и вымощенного, как улица, булыжником, был большой колодец. Красноватый лак на железной ручке ворота был теперь почти весь съеден ржавчиной. И какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной. Может быть, больной она казалась из–за того, что ворот тоскливо скрипел, когда по ночам веревку шевелил ветер; а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей дымкой, словно пылью, припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.
Отец хотел, чтобы дом стоял подальше от улицы, потому–то и задумал этот двор. Но затем — в предчувствии, быть может, что пользы от его стараний все равно не будет, — прекратил работы, оставив арку недостроенной и доведя стены лишь до половины высоты.
Вначале никто из прохожих не решался зайти во двор, потому что там еще лежало множество нетесаных камней, и по этой причине казалось, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но как только между булыжниками и вдоль стен начала прорастать трава, ненужные уже камни стали казаться старыми и отслужившими свое. Часть их со двора унесли после смерти отца, когда дом был продан трем разным покупателям, а прав на двор никто не предъявил; часть же заменила скамейки окрестным кумушкам, которые с тех пор как бы присвоили себе двор и заодно колодец: здесь они стирали белье и здесь же развешивали его на просушку; а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом слепящую белизну простынь и сорочек, развевающихся на веревках, женщины распускали по плечам блестевшие от масла волосы и начинали искаться, как это делают обезьяны.
Словом, улица снова завладела двором, оставшимся без ворот, которые могли бы преградить ей доступ.
И сейчас, когда Паоло Марра видел впервые и вторжение улицы во двор, и разбитый каменный въезд под арку, и облупившиеся по углам пилястры, и булыжники, изъезженные колесами повозок и экипажей, которые находили пристанище в предназначавшихся для служб строениях по правую руку от дома, когда–то чистых и светлых, но давным–давно превращенных в грязные сараи, сдававшиеся под наемные экипажи; сейчас, когда его мутило от зловония навоза и сгнившей соломы, когда под ногами у него извивались бурые ручейки — вода, которую выплеснули после стирки, — и, обтекая булыжники, тоненькой струйкой сбегали вниз, к улице, он почувствовал лишь облегчение и досаду, но не испытал того тайного трепета, которым пронизано было далекое детское воспоминание: пустынный двор, над ним усыпанное звездами небо, мертвенная белизна всех этих булыжников, широко раскинувшаяся, наклонная; а посередине колодец, который начинал вдруг бормотать таинственно и звонко.
Женщины и дети между тем разглядывали его с головы до ног, удивляясь старому длинному сюртуку, который сам он, возможно, считал вполне уместной одеждой для преподавателя, но который вместо того придавал ему вид протестантского пастора из других широт и другого племени, и это впечатление усиливалось очками и взлохмаченной гривой, ниспадавшей на сутулые узкие плечи; увидев, что он с тем же выражением досады на бледном лице пошел к воротам, они проводили его взрывом хохота.
Разозлившись, он хотел было тут же вернуться во двор, все еще принадлежащий ему, согнать всех этих женщин с камней, на которых они расселись, и выставить пинками на улицу. Но он уже давно привык взвешивать свои поступки и рассудил, что даже если женщины еще, может быть, помнят о его существовании, им не узнать под этим чужеземным и смешноватым обличьем того мальчика, которым был он когда–то, потому что он преждевременно постарел и подурнел, ведя безрадостную жизнь, заполненную нелегким умственным трудом; и, стало быть, ему не следует пускать в ход право собственности, доказать которое ему не дают разочарование и досада — оттого что слишком тягостны старые воспоминания.
Да, впрочем, достаточно было лишь одного из этих воспоминаний, чтобы у него пропала всякая охота ополчаться на сидевших во дворе женщин, — оно все еще жгло его, — то было воспоминание о том, как мать навсегда уходит из этого дома, ведя его за руку, отвернув лицо и придерживая свободной рукой кончик накинутого на голову черного платка, чтобы скрыть слезы и следы жестоких побоев мужа.
И он, мальчик, был причиной этих побоев, причиной непоправимого разрыва между супругами и последовавшей за тем смерти матери — она умерла от горя всего лишь год спустя; причиной был он, глупец, захотевший в четырнадцать лет рыцарски вступиться за мать, отомстить изменившему ей отцу; и он не понимал тогда, как понимал теперь, став взрослым человеком, что мать, лицо которой было чудовищно обезображено, потому что девочкой она выпала из окна, была вынуждена сносить измену, если хотела жить по–прежнему в доме мужа.
Для него, сына, матерью была именно она. Он не мог себе представить своей матерью другую женщину. Он жил под покровом и защитой бесконечной нежности, светившейся у нее в глазах, которые могли бы быть красивыми — такие черные, — если бы не отставали нижние веки, открывавшие блекло–розовые соединительные оболочки, ибо и веки, и глазницы, и щеки провалились в чудовищно глубокую вмятину, откуда выступал только кончик носа. И в голосе ее он тоже ощущал всю святую и кровную материнскую любовь, не замечая, что голос этот, почти беззвучный, доносится не столько из огромного жалкого рта ее, сколько из ноздрей.
Он знал, что отец, вышедший из низов, стал синьором благодаря жене, и злился, видя, что мать не только не притязает хоть на малейшую благодарность с его стороны, но чуть ли не стелется перед ним во прах лицом вниз — своим несчастным изуродованным лицом! — злился, видя, что она прислуживает ему, как рабыня, выказывая ежеминутно и каждым своим движением благодарность приниженного животного; и вечно ее мучила боязнь не успеть вовремя предупредить желание или потребность мужа, а всякий небрежный знак его благосклонности она торопилась принять как незаслуженную милость.
Ему еще не было шести, а он уже бунтовал, возмущаясь, и в ярости выбегал из комнаты всякий раз, когда мать, слыша от кого–нибудь упреки в том, что она слишком унижается перед мужем, показывала в ответ на него, на сына; и он затыкал себе уши, чтобы не слышать доносившихся из соседней комнаты слов, которыми она обыкновенно сопровождала этот жест, повисавший в воздухе из–за его бегства: она говорила, что у нее есть ребенок и, если вспомнить о ее несчастии, это воистину неожиданная награда, посланная ей Господом.
В том возрасте он еще не мог понять, что она заслонялась этим оправданием — им, сыном, — чтобы скрыть, может быть, даже от себя самой, то, в чем никому не могла признаться, — жалкую слабость своей несчастной плоти, так приниженно вымаливавшей любовь у этого человека; а ведь она знала, что он душой и телом предан другой женщине, ведь она наверняка замечала, с каким отвращением он удостаивает ее этой страшной милостыни. И вот сын решил, что обязан вознаградить мать за унижение, ибо считал, что она терпит это унижение на глазах у всех ради него.
Было известно, что отец состоит в связи с одной вдовой, простолюдинкой, своей двоюродной сестрой, некоей Нуццей Ла Диа; когда–то он был с ней помолвлен, но оставил ее, чтобы жениться на другой, из более высоких кругов и с богатым приданым; уродлива — что ж, потерпим, зато дочь инженера, который помог ему выбиться в люди и, получая столько заказов, сделал его своим компаньоном во всех подрядах.
Паоло знал, что по воскресеньям отец и Нуцца Ла Диа встречаются утром в монастыре святого Викентия, в личной приемной настоятельницы, доводившейся теткой им обоим. Они делали вид, что приходят навестить ее, и старуха настоятельница, возможно оправдывавшая родством нежную интимность этих встреч, радовалась, глядя на племянников из–за двойной решетки: они сидели за столиком друг против друга — он, самый настоящий синьор в своем синем воскресном костюме — ткань казалось, вот–вот расползется на могучих плечах, — в твердом воротничке, врезавшемся в темно–багровую шею, и при пунцовом галстуке; она, привлекательная чисто плотской привлекательностью, но безмятежная в своей удовлетворенности, вся в черном атласе, поблескивающая золотом украшений в полутьме приемной, тесной и по–церковному строгой.
Они поклевывали — кусочек ты, кусочек я — невинные монастырские лакомства и попивали из рюмок светлый ликер с коричным букетом — глоточек ты, глоточек я. И смеялись, И даже старуха тетка, настоятельница, кулем сидевшая, за двойной решеткой, откидывалась назад от смеха.
И вот в одно из воскресений он явился туда, чтобы застичь их врасплох.
Отец успел спрятаться за зеленой портьерой, прикрывавшей дверцу, которая была справа; но портьера была коротковата, и из–под бахромы, еще шевелившейся, виднелась пара больших лакированных башмаков, гладких и блестящих; а Нуцца Л а Диа так и осталась сидеть за столиком с поднесенной к губам рюмкой. Паоло остановился прямо против нее и, немного откинувшись назад, изо всей силы плюнул ей в лицо. Отец за занавеской не пошевельнулся. И потом, дома, пальцем его не тронул, слова ему не сказал. Гнев он выместил на матери: избил ее в кровь и выгнал из дому, а потом на глазах у всех переселил любовницу к себе в дом и слышать больше не хотел ни о жене, ни о сыне. Мать умерла через год, а его поместили в учебное заведение в другом городе, и он никогда больше не видел отца.
И вот теперь, когда он через столько лет вернулся в родные места, никто его не узнал.
Один только человек подошел к нему, но он даже представить себе не мог, кто же это такой: малорослый, закутанный в плащ, нелепый почти до смешного, настолько сам он был маленький, а плащ большой.
Человечек сначала таинственно поманил его в сторону, а потом еле слышным голосом повел речь про дом и про то, что он, Паоло Марра, мог бы предъявить право собственности на двор — либо для себя самого, либо, если для себя не хочет, в пользу одной несчастной женщины, ибо было бы поистине благим деянием вознаградить ее за любовь к его отцу, и за преданность, и за то, что она заботилась об отце его до самого конца, когда тот, парализованный и утративший дар речи, был обречен на голодную смерть; то была некая Нуцца Ла Диа, да, она самая; под конец она стала побираться ради отца и теперь, не имея крова, каждую ночь пристраивается на ночлег в этом доме под лестницей.
Пабло Марра повернулся к человечку и поглядел на него так, словно перед ним был сам дьявол.
И вот в ответ на его взгляд человечек подмигнул ему одним глазом, прижмурив другой с выражением поистине дьявольского коварства. Так, словно это он сам вытолкнул мать в детские ее годы из окна, чтобы обезобразить ее; словно он сделал такой красавицей Нуццу Ла Диа во искушение отцу; и он же надоумил мальчика плюнуть в лицо этой красавице им всем на погибель.
И, подмигнув таким манером, дьявол этот запахнулся в свой нелепый плащ, подняв сильнейший ветер, и исчез.
Паоло Марра отлично знал, что все это — лишь игра воображения, порожденная тайными угрызениями совести, уже давно мучившими его за то, что он не захотел позаботиться об отце и допустил, чтобы тот умер в нищете.
И сейчас тоже он ощутил эти угрызения, но заглушил их мгновенно вспыхнувшей ненавистью, хотя и знал, что слово «ненависть» здесь не годится. Действительно, эту вспышку вызвало другое чувство, которому он так и не пожелал дать точное определение, чтобы не оскорбить воспоминание, мучившее его сильнее всех остальных, — воспоминание о матери. А воспоминание это смешивалось теперь с непереносимым чувством стыда и унижения, тем более острого, что каждый раз рядом с изуродованным лицом матери в его воображении возникало прекрасное лицо той, другой; и он не мог забыть, как она на него посмотрела, не отерев еще плевка со щеки; неуверенная улыбка изумления, почти радостная, раздвинула алые губы, между которыми блеснула белизна зубов, а в глазах, наоборот, столько боли, столько боли в глазах.
БЕГСТВО (Перевод А. Косе)
Как раздражал этот туман синьора Бареджи! Сгустился,, точно назло ему, чтобы легонько покалывать лицо его и затылок, будто тончайшими ледяными иголочками, и это еще не самое худшее.
— А завтра вот что тебе предстоит, — проговорил синьор Бареджи вслух, — ломота во всех суставах, голова как свинцовая, мешки под глазами набрякнут, глаз не открыть — красота. Честное слово, дело кончится тем, что я совершу это безумство.
Ему было пятьдесят два года, но нефрит превратил его в развалину: постоянная боль в пояснице, ноги так отекают, что, если ткнуть пальцем, останется ямка; и все равно он плетется в своих парусиновых башмаках по длинному проспекту, уже влажному, словно после дождя.
В этих парусиновых башмаках синьор Бареджи каждый день тащился из дому на службу и со службы домой. И, медленно переставляя обмякшие, наболевшие ступни, он, чтобы отвлечься, давал волю мечтам: в один прекрасный день он уйдет, скроется, исчезнет, уйдет, навсегда и никогда больше не вернется домой.
Потому что сама мысль о доме приводила его в неистовую ярость. Только подумать: дважды в день возвращаться туда, в дальний переулок в самом конце длинного–длинного проспекта, по которому он сейчас брел.
И дело не в расстоянии, хоть оно тоже вещь немаловажная (с такими–то ногами!), и даже не в том, что переулок пустынен — это ему как раз нравилось; совсем недавно проложен, ни фонарей, ни издержек цивилизации, слева три домика, почти крестьянские, а справа изгородь, тоже как в. деревне, и торчит на шесте табличка, выцветшая от времени и дождей: «Участок продается».
Он жил в третьем домике. Четыре Комнаты в нижнем этаже, полутемные, со ржавыми решетками на окнах и, кроме решеток, еще проволочные сетки, чтобы уберечь стекла от метких камней окрестных сорванцов; а на верхнем этаже три спальни и терраска — любимейшее его место в сухую погоду — с видом на сады.
Нет, в неистовую ярость приводило его другое — тревожные заботы, которыми сразу по возвращении домой начинали донимать его жена и дочери — бестолковая курица и два пискливых цыпленка, следовавшие за ней по пятам: мечутся туда, сюда, за домашними туфлями, за стаканом молока с яичным желтком; одна уже присела на корточки, чтобы расшнуровать ему башмаки, другая вопрошает жалобным голосом, не попал ли он под дождь, не вспотел ли (в зависимости от времени года), словно сами не видят, что он пришел домой без зонтика и вымок — хоть выжимай, или что в августовский полдень у него рубашка прилипла к телу, а лицо бледнее воска — так он вспотел.
Его выводили из себя все эти заботы, да, выводили из себя; жена и дочери усердствовали словно для того только, чтобы лишить его возможности отвести душу.
Как мог он жаловаться, когда перед ним были эти три пары глаз, затуманенных состраданием, эти три пары рук, готовых оказать ему помощь?
А ведь ему было на что пожаловаться, поводов хоть отбавляй! Стоило только поглядеть по сторонам, и у него появлялся повод, о котором они и не подозревали. Вот хоть кухонный стол, например, — старый, громоздкий, за ним обедала вся семья, но сам–то синьор Бареджи сидел на хлебе и молоке, ему от этого стола мало было радости, а как пахло от дерева сырым мясом и луком — красивыми сухими луковицами в золотистой шелухе! И мог ли синьор Бареджи упрекать дочерей за то, что им–то можно есть мясо с луком, которое так вкусно готовит мать? Или упрекать их за то, что они, экономии ради стирая дома, по окончании стирки выплескивают за окно мыльную воду и едкий сырой запах, по их милости, не дает ему в вечерние часы наслаждаться свежестью, которой веет из окрестных садов?
Каким несправедливым, наверное, показался бы этот упрек обеим его дочерям, ведь они надрывались с утра до вечера, ни с кем не видясь, словно в ссылке на краю света, и даже не думали, кажется, о том, что при других обстоятельствах могли бы жить совсем другой жизнью, для самих себя.
К счастью, обе были недалекого ума, в матушку. Он сочувствовал дочерям, но видел, что обе смирились с участью прислуги за все, и от этого сочувствие переходило в злобное раздражение.
Потому что он не был добрым, отнюдь нет. Не был он добрым, каким казался своим бедным женщинам, да, впрочем, и всем, кто его знал. Он был злым. И по глазам его тоже, наверное, иногда бывало видно, что ему не чужда злость, хотя и запрятанная глубоко внутри. Злость проступала наружу, когда он оставался один у себя в служебном кабинете и, сам того не замечая, поигрывал перочинным ножиком, сидя за конторкой; его охватывали искушения, которые можно было бы приписать и приступу безумия: искромсать лезвием этого ножика вощеную бумагу, прикрывавшую откидную доску конторки, или исполосовать кожаную обивку кресла, но вместо того он клал на эту самую доску руку, казавшуюся такой маленькой и пухлой — руки у него тоже отекали, — он глядел на нее, и крупные слезы катились у него по щекам, а другая рука между тем старательно выщипывала рыжеватые волоски на тыльной стороне пальцев.
Да, он был злой. И к тому же сознавал безнадежность своего положения, ибо в скором времени должен был умереть — в кресле, отчаявшись и впав в беспомощность, окруженный этими тремя женщинами, которые, выводили его из себя и вызывали в нем неодолимое стремление — бежать прочь, пока сеть время, бежать, как в безумии.
И в тот вечер — да, так и было — безумие проникло внезапно — не в мозг его, нет, а в мышцы рук и ног, и по его велению синьор Бареджи поставил ногу на подножку, одной рукой ухватился за козлы, а другой — за оглоблю повозки торговца с молоком, которую синьор Бареджи случайно заметил в самом начале своего переулка.
Но как же так? Он, синьор Бареджи, человек серьезный, солидный, почтенный, — и сел в повозку торговца молоком?
Да, сел в повозку торговца молоком, повиновался причуде сразу, как только завидел повозку в конце проспекта на повороте к переулку, как только в ноздрях у него защекотало от свежего хмельного запаха отменного сена в торбе и от козлиного духа, которым разила накидка торговца, валявшаяся на сиденье: деревенские запахи далекой равнины, которая представилась ему вдруг в воображении, — она лежала там, внизу, за Номентанским виадуком, за виллой Пацци, обещая простор, забвение и свободу. Лошадь, вытянув шею, пощипывала травку, беспрепятственно росшую по обочинам; должно быть, она потихоньку отошла самовольно от трех домиков, невидимых в тумане, заполнившем переулок, в то время как торговец, как всегда, подолгу болтал с женщинами в каждом доме, уверенный, что скотина по привычке смирно дожидается на улице, когда он выйдет с порожними бутылками; не застав на месте ни лошади, ни повозки, он сразу бросится на поиски и поднимет крик — мешкать было некогда; и синьор Бареджи в порыве внезапного безумия, от которого зажглись блеском его глаза, задыхаясь и весь трепеща от удовольствия и страха, не задумываясь о том, что станется с ним самим, с его женщинами, с торговцем, в сумбуре всех представлений, уже закружившихся вихрем в его помрачненном сознании, с силой хлестнул лошадь, и повозка понеслась!
Он не ожидал, что эта тварь рванется с места таким отчаянным скачком: лошадь, оказывается, была вовсе не старая; он не ожидал, что от сотрясения загремят все бидоны и кувшины; когда лошадь понесла, он схватился за козлы, чтобы не выпасть из повозки, и выронил вожжи, ноги его подбросило оглоблями, хлыст рассекал воздух, и он чуть было не опрокинулся назад, на все эти бидоны и кувшины; и не успел он прийти в себя после первой опасности, как тут же ему пришли на ум новые и неминуемые, при мысли о них у него перехватило дыхание, и он замер, а эта проклятая тварь мчалась без удержу бешеным аллюром в тумане, становившемся все гуще, по мере того как спускался вечер.
И никто его не выручит? Не позовет других ему на выручку? А ведь эта летящая вперед повозка со всеми своими кувшинами и бидонами, которые от тряски бились друг о друга, должно быть, гремела на ходу так, словно разразилась гроза. Но, видимо, на проспекте никого не было, либо синьор Бареджи за грохотом не слышал криков, а из–за тумана он не видел даже электрических фонарей, которые, должно быть, уже зажглись.
Он и хлыст отбросил, в отчаянии вцепившись в козлы обеими руками. Видно, безумие овладело не только им, но и лошадью: то ли из–за удара хлыстом — возможно, она к этому не привыкла, — то ли от радости, что в этот вечер так быстро покончено было с привычным маршрутом, то ли оттого, что ее больше не сдерживали вожжи. Она ржала, ржала. И синьор Бареджи в ужасе глядел, как в неистовом галопе взлетают копыта мчащейся лошади, и, казалось, с каждым скачком она неслась все быстрее.
В какой–то миг у синьора Бареджи мелькнула мысль, что за поворотом повозке грозит опасность на что–нибудь налететь, и он протянул было руку, пытаясь снова ухватить вожжи, но, потеряв равновесие, ударился обо что–то носом: рот, подбородок и ладонь стали влажными от крови; однако у него не было ни времени, ни возможности ощупать себе лицо — нужно было снова как можно крепче уцепиться за козлы обеими руками. Лицо все в крови, спина вся в молоке! О Господи, молоко булькало в бидонах и кувшинах и выплескивалось прямо ему на спину! И синьор Бареджи смеялся — хоть и в страхе, от которого у него холодело внутри, смеялся над этим страхом; и мысль о неминуемой и близкой катастрофе — а мысль эта была вполне определенной — он инстинктивно отгонял мыслью о том, что, в сущности, все это шутка, просто шутка, которую он захотел сыграть и которую завтра будет всем рассказывать со смехом. И он смеялся. Смеялся, в отчаянии пытаясь представить себе безмятежную картину, которую видел каждый вечер со своей терраски: садовник поливает рассаду по ту сторону изгороди; и думал он о смешном: о том, как потешно одеваются крестьяне — они на старье нашивают заплаты как будто напоказ, как будто возглашая свою нищету, но нищету веселую — заплаты на заду, на локтях, на коленях, словно вызов; а за этими мирными и забавными видениями мелькало с не меньшей живостью совсем другое, грозное: как с минуты на минуту он опрокинется при очередном толчке, от которого все полетит в тартарары.
Повозка миновала Номентанский мост, пронеслась мимо виллы Пацци и — вперед, вперед, в простор полей, уже угадывавшийся в тумане.
Когда — поздно вечером — лошадь остановилась перед деревенским домом, повозка была разбита, бидонов и кувшинов не было и в помине.
Жена торговца молоком, услышав, что повозка подъехала к дому в такое необычное время, окликнула мужа из окна. Никто не ответил. С фонарем она вышла к двери, увидела разбитую повозку, снова окликнула мужа: да где же он? Что случилось?
Вопросы, на которые лошадь, еще тяжело дышащая и счастливая после лихой скачки, не могла, разумеется, дать ответа.
Глаза у нее налились кровью, она фыркала и, тряся головой, била копытом.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ (Перевод Я. Лесюка)
— Не могу я понять, что это за люди! — по крайней мере, раз двадцать на дню повторял дон Маркине, негодующе поднимая плечи и выставляя перед собой растопыренные руки; при этом углы его рта опускались. — Не могу я понять, что это за люди!
Дело в том, что люди эти в большинстве случаев вели себя не так, как вел бы себя он, и почти всегда осуждали все, что он делал и что ему казалось правильным.
Видит Бог, по какой–то непонятной причине прихожане в Стравиньяно с первого же дня стали относиться к нему недоброжелательно! Они никак не могли простить ему, что он безжалостно вырубил (разумеется, с соизволения церковного начальства) дубовую рощу, которая некогда возвышалась в лощине позади храма и ничего не приносила приходу. Не могли они спокойно относиться и к его благословенной усадьбе, и к уютному флигельку из четырех комнат, который он выстроил на деньги, вырученные от продажи деревьев; флигелек этот примыкал к церкви с одной стороны, а с другой стороны стоял одноэтажный дом, где жил сам дон Маркине со своей сестрой Марианной. Но разве часть полученных денег не была употреблена на содержание храма? И что тут плохого, если он каждое лето сдает флигелек в наем какой–нибудь семье, приезжающей провести жаркое время года в Стравиньяно?
Как видно, жителям Стравиньяно непременно хотелось, чтобы их приходский священник был беднее самого Иова. Но возмутительнее всего было то, что, с одной стороны, они хотели в нем видеть служителя для всех, а с другой — не дай Бог, если его встречали с мотыгой в руках или на пастбище! Должно быть, они боялись, что он запачкает сутану или что руки его, которым предстояло прикасаться к святому причастию, покроются, чего доброго, мозолями! Однако не мозолей на руках следует страшиться, а нечистой совести, да, нечистой совести.
Дон Маркине, возможно, и прав, но... если бы он только мог себя видеть! Впрочем, и тогда ему не пришло в голову, что у него самого, как и у его сестры Марианны, ноги походили на гусиные лапы, и оба они переваливались на ходу, совсем как гуси; брат и сестра были одного роста, тучные и, казалось, вовсе лишенные шеи. Дон Маркине, надо думать, никогда не прислушивался к своему голосу, а если и прислушивался, то ему не приходило в голову, что его гнусавый, вечно простуженный голос походил на кошачье мяуканье. А ведь неприязнь прихожан в большой мере зависела именно от этих его особенностей, в которых он не отдавал себе отчета, — от телосложения, голоса и манеры разговаривать. Приходили к нему, скажем, посреди ночи просить ослицу и одноколку, чтобы срочно привезти врача из Ночеры, и дон Маркине в таких случаях неизменно отвечал:
— Да тебе туда на ней не доехать. Ты рискуешь, любезный, сломать себе шею, ведь она тебя непременно раза два или три опрокинет, хорошо еще, если только три раза, а не больше.
Разговаривая, он то и дело пересыпал свою речь острыми словечками, которые слышал Бог знает когда и от кого; но повторял он их кстати и некстати и вовсе не из пристрастия к острословию. Ослица его и впрямь была норовиста, настолько норовиста, что дон Маркине и в самом деле не решался без боязни одалживать ее. Видит Бог, сколько раз она даже ему не позволяла посадить кого бы то ни было в одноколку! И чтобы она не кусалась и не лягалась, когда ее запрягали или седлали, приходилось прибегать к бесконечным уловкам, называть ее самыми ласковыми именами и отечески втолковывать ей, что необходимо проявлять терпение и покорность, коль скоро Господу Богу было угодно сотворить ее ослицей.
— И немудрено! — толковали в Стравиньяно.
Ведь эта ослица, за которой почти все время присматривал сам дон Маркине; куры и три борова, за которыми ходила его сестра Марианна; две коровы, которых, пасла босоногая служанка Роза, — все они, постоянно видя перед собой хозяев, как две капли воды походивших на гусей, непременно должны были считать их родственными себе существами. Вот почему животные и вели себя так, как ни за что не посмели бы вести себя у других хозяев. И все жители потешались, видя, как эти дурно воспитанные животные не проявляют никакого уважения ни к приходскому священнику, ни к его сестре, как три огромные молочно–белые свиньи, возможно, и без злого умысла, обижают Марианну. А с каким отчаянием она по утрам разыскивала яйца, которые куры, будто нарочно, прятали от нее, несясь всякий день в другом месте. Кстати, у каждой из этих кур лапки были повязаны тряпочками, чтобы их, упаси Господи, не подменили.
— Отчего бы вам, донна Марианна, не привязать и поросятам голубые бантики к хвостам?
Судите сами, пристойно ли обращаться с подобными речами к несчастной сестре бедного приходского священника, который никому ничего дурного не делал? Эх!.. И дон Маркине негодующе поднимал плечи и выставлял перед собой растопыренные руки; при этом углы его рта опускались, и он повторял:
— Не могу я понять, что это за люди!..
Больше, чем когда–либо прежде, у него было причин повторять это свое излюбленное восклицание в тот день, когда он отправился в Ночеру на ближний рынок.
Дон Маркино не собирался ничего ни продавать, ни покупать; он поехал на рынок только для того, чтобы поглядеть да послушать; в том году у него кончался контракт с работавшими на церковной земле крестьянами, и он уже объявил, что на будущий год наймет других; а теперь как раз и срок уже подошел. Там, на ярмарке, куда съезжались жители со всей округи, ему нетрудно будет разузнать, кто что покупает, а кто продает и что говорят о тех и о других.
Так вот, именно те, кого никогда не увидишь в церкви даже по большим праздникам, осуждали дона Маркино за то, что он оставил свой приход и околачивается на ярмарке до самого вечера. Но это бы еще куда ни шло! Когда же он уселся в одноколку, чтобы возвратиться в Стравиньяно, внезапно поднялся сильный ветер, а в довершение всего ему повстречалась эта Нунциата со своим сыном, мальчиком лет восьми, на руках и тощей козой в поводу: именем Господа Бога она заклинала священника помочь ей.
Еще девчонкой, много лет назад, Нунциата была служанкой в доме дона Маркино; у него на глазах она превратилась в самую красивую девушку в Стравиньяно, и он уже собирался выдать ее замуж за сына своего работника, который был в нее влюблен. Однако неожиданно, так и не объяснив, в чем дело, Нунциата отказала этому малому и вышла замуж за другого — крестьянина из соседней деревни в приходе Сорифа. С тех пор прошло уже девять лет; дон Маркино сменил за это время четырех работников и собирался сменить пятого; он и думать забыл о Нунциате, которая жила теперь в другом приходе. Поначалу в Стравиньяно говорили, что она живет в Сорифе хорошо, что муж ее — усердный труженик; затем пошли слухи, будто ей приходится туго, потому что муж у нее тяжело заболел почками: его придавило деревом, которое он пилил. Должно быть, болезнь зрела внутри, а потом вышла наружу, и у бедняги так распухли ноги, что доктор запретил ему работать и посоветовал не вставать с постели; больной нуждался в хорошем уходе, а кормить его можно было только молочными продуктами. Великолепные советы для тех, кто живет трудом своих рук!
В этой женщине, походившей на нищенку, босой, в жалком, хотя, видимо, праздничном платье, дон Маркино с трудом узнал Нунциату. Между тем его ослица, обеспокоенная свирепым ветром и суматохой, поднявшейся оттого, что крестьяне гнали скот, торопясь вернуться домой до ливня, заупрямилась еще больше обычного и ни за что не хотела стоять на месте. А Нунциата именно в это время вздумала слезно молить дона Маркино подвезти до Стравиньяно ее сынишку, который не мог уже держаться на ногах: бедняжка был болен еще серьезнее, чем его отец; на обратном пути в Сорифу она зайдет за мальчиком, прибавила Нунциата. Священник, прилагавший героические усилия для того, чтобы сдержать ослицу, пришел в ярость и, вытаращив глаза, завопил:
— Да в своем ли ты уме, дочь моя?!
Ярость его стала еще сильнее, когда несколько зевак, которые стояли поблизости и глазели на них, осмелились схватить ослицу под уздцы, чтобы дон Маркино мог выслушать эту несчастную, дошедшую до полного отчаяния женщину; а затем, когда он стал отказываться, ссылаясь на буйный нрав своей ослицы, они принялись кричать, что ему должно быть стыдно, ведь он же, черт побери, священник! Ослица? Да при чем тут ослица? Огреть ее два раза кнутом — и всё! Да натянуть как следует поводья! Бедная женщина... бедный мальчонка... вы только поглядите на него: желтый, как лимон! А коза... Господи, да что с ней такое? Ведь у нее все ребра пересчитать можно... Как, они пришли из Сорифы? Она шла оттуда пешком и козу вела? Собиралась продать ее? За сколько? За девять скуди?.. А теперь и одного скудо за нее не дают... Ну, разве не прав был дон Маркино, когда он закричал: — Не могу понять, что это за люди!
Какие у него обязательства в отношении этой женщины, которая уже столько лет не состоит его прихожанкой? Христианское милосердие? Да это просто наглость! Нет, нет и еще раз нет! Это противоречит здравому смыслу. Какое еще там милосердие? Какая жалость? Сама мать должна была прежде всего пожалеть своего ребенка, а не тащить его, тяжелобольного, в такую даль; ей–то уж совсем ничего не стоило пожалеть его. Ну, нет, синьоры! И вместо этого принуждать человека совершенно постороннего к милосердию, связанному для него с огромными трудностями! Да, конечно, с огромными трудностями — в силу целого ряда причин! Легкое ли дело — больной мальчишка, который на ногах едва стоит, да к тому же еще эта строптивая ослица... Да, да! Он это должен прямо сказать, уж он–то ее хорошо знает! Ослица его и вообще–то не идет с поклажей, а уж особенно в гору, да еще при этаком ветре. Нет, нет, прочь с дороги! Прочь с дороги, прочь!.. И, угрожающе размахивая кнутом, дон Маркино быстро укатил, провожаемый криками, свистом и бранью.
Ветер дул ему в спину и, казалось, хотел поднять его на воздух вместе с ослицей и одноколкой, подобно тому как он поднимал дорожную пыль и сухие листья.
Когда, уже поздно вечером, священник сошел с одноколки возле приходской церкви, стоявшей у поворота дороги, то почувствовал, что у него онемела рука, которой он всю дорогу придерживал свою добротную плюшевую шапочку: этот проклятый ветер, который и сейчас еще с такой силой завывал и свистел среди деревьев, что росли вдоль дороги и на холме напротив церкви, не раз норовил сорвать эту шапочку с его головы. Из–за свистевшего ветра Марианна не расслышала звон колокольчика, болтавшегося на шее у ослицы, и не вышла навстречу брату, как она это обычно делала, чтобы поскорее помочь ему.
Дону Маркино пришлось громко звать ее и стучать кнутовищем в ворота, рискуя — вы только подумайте! — повредить при этом и кнутовище и ворота.
Наконец Марианна вышла на стук с фонарем в руках. Берегись, гусыня! Ветер внезапно задул фонарь и... ох, юбки! Боже святый, ну и голова! А фонарь? Юбки накрыли ей голову, а фонарь–то в руках! Долго ли до пожара...
— Убирайся домой! Убирайся домой!
И дон Маркине, вне себя от ярости, принялся сам распрягать ослицу, ворча на сей раз по адресу сестры:
— Не могу я понять, что это за люди!..
Отведя ослицу в конюшню, которая находилась на холме против церкви, и вкатив под навес одноколку, дон Маркино, прежде чем войти в дом, сказал сестре, что надо бы выставить на улицу кадки и лохани, потому что ночью, без сомнения, пойдет дождь; кстати, и ветер стих. А еще в Ночере он слышал раскаты грома.
— Гроза пока еще далеко, но уже приближается. Ночью она непременно разразится тут, у нас.
Немного позже, за ужином, он без всякого удовольствия глотал довольно жидкую, похлебку, которую приготовила Роза, и рассказывал сестре о том, что произошло в Ночере, о неслыханной наглости этой Нунциаты и о насилии, которому его чуть было не подвергли. Но затем он пришел в хорошее расположение духа от доброго виноградного вина, которое, смакуя, пил небольшими глотками после ужина, и перестал думать об этой неприятной встрече. Насытившись, он стал рассказывать обо всем, что видел и слышал на ярмарке, с довольным видом оглядывая свою небольшую, но теплую и уютную столовую и неторопливо покуривая трубку; Марианна тем временем лечила ноги Розе, разумеется, по доброте душевной, но также и для того, чтобы завтра, на заре, служанка не отказалась бы выгнать коров на пастбище, ссылаясь на то, что у нее болят ноги.
Снаружи по–прежнему завывал ветер, с каждой минутой все более грозно.
Что это, ветер? Да нет! Должно быть, кто–то стучится в ворота.
— В такое время? — проговорил дон Маркино, растерянно глядя на сестру и служанку.
Роза пошла узнать, в чем дело, а брат и сестра навострили уши. Прошло довольно много времени; до них долетали звуки голосов, но ни священник, ни его сестра не могли догадаться, кто бы это мог быть.
Внезапно порыв ветра донес до их слуха долгое, жалобное и прерывающееся блеяние.
Дон Маркино задрожал от гнева и стукнул кулаком по столу:
— Это она! Опять она! — закричал он. — Да что ей от меня нужно, этой несносной женщине? Что я могу для нее сделать?
И, обращаясь к Розе, которая в эту минуту вошла в комнату, он спросил:
— Так что ей нужно? Ночлег? Ослица? — Роза отрицательно покачала головой:
— Она спрашивает, не дадите ли вы ей благословение? Дон Маркино был потрясен до глубины души.
— Благословение? Кому? Ей? Она сказала тебе, что просит благословения? Какого еще благословения? Ступай! Пусть она идет сюда! Но только одна! А то она, чего доброго, притащит сюда и мальчишку и козу... Просит благословения в такую пору!
Нунциата вошла, приглаживая растрепавшиеся на ветру волосы; она была босая. Очутившись в теплой уютной комнате, в этом знакомом ей с детства доме, она вспомнила былое время, закрыла лицо руками и разрыдалась. Тогда Марианна спросила, действительно ли ее муж так серьезно болен. Нунциата кивнула головой.
— А что, болезнь его смертельна?
— Пока что нет, до этого еще не дошло, — отвечала крестьянка. — Но только...
И она покачала головой; выражение отчаяния и тоски, застывшее в ее заплаканных глазах, вдруг сменилось злобным блеском.
— Знаю я, отчего все это случилось! — закричала она. — Здесь, здесь меня сглазили!.. Видели, что я покойна и счастлива... Мало им было одного мужа, они наслали порчу и на сына, и на единственную нашу козу, которую я берегла как зеницу ока, потому как она давала мне молоко для больного... Ах, негодяи! Негодяи!
Еще совсем недавно, рассказала она, коза эта, купленная за девять скуди, вызывала у всех зависть. И вот однажды, когда мальчик пас козу, ее вдруг чем–то «испугали». Оба они, и мальчонка и коза, возвратились в тот вечер домой вконец «перепуганные», и с тех пор они просто тают на глазах: мальчик, ах, надо только на него посмотреть, и сразу поймешь, до чего он дошел, ну а коза... коза и того хуже! На ярмарке никто за нее даже двух скуди не давал. Нужно, чтобы дон Маркино нынче же вечером благословил их обоих, ну, пожалуйста, ради Христа!
— Но у тебя теперь другой пастырь в Со рифе! — резко сказал Дон Маркино.
— Нет, нет, вы — мой пастырь! — молила его Нунциата. — И я хочу, чтоб вы их тут благословили, потому как отсюда на них порчу наслали, я знаю, знаю!
Дон Маркино пытался убедить ее, что вера в дурной глаз — просто глупый предрассудок и если она винит того малого, который был в нее влюблен, когда она еще была девушкой, то пусть выбросит из головы этот вздор, ибо он... Но куда там! Нунциата прямо не говорила, кого именно она обвиняет. Она только молила, молила о благословении.
— Но как же это, в такой поздний час? — упирался дон Маркино.
Порыв ветра снова донес жалобное блеяние козы.
— Слышите? — спросила Нунциата. — Прошу вас, ради Христа.
— Ну, тогда уж, во всяком случае, не обоих! — заявил дон Маркине. — Это дело долгое, моя милая, а уже поздно. Я ведь Уже и спать собрался, понимаешь? Выбирай сама: или мальчик, Или коза. Кто из них в этом больше нуждается?
— Мальчик, — не задумываясь, ответила Нунциата. — Он лежит там, на скамье у входа в церковь, лежит еле живой. Ах, сколько муки я приняла, дон Маркине, благодетель вы наш, пока с ним сюда дотащилась: он то следом ковылял, то его нести приходилось. У меня прямо руки отнимаются.
Дон Маркине рассвирепел:
— Виданное ли это дело, виданное ли это дело, говорю я, тащить больного ребенка в Ночеру?
— Но ведь коза–то, дон Маркине, — поспешила объяснить Нунциата, — не хочет теперь и шагу ступить без него. Животное чувствует, что оба они связаны одной болезнью, она все время зовет мальчика и никак не желает с ним разлучаться.
— Довольно! Стало быть, мальчик? — спросил дон Маркино. Нунциата на этот раз задумалась, потом, поколебавшись, сказала:
— Если уж вы никак не хотите благословить обоих...
— Нет! Обоих не могу: или мальчика, или козу, я же сказал!
— Ну, коли так... благословите лучше козу, она, по крайней мере, опять станет давать молоко для моего Джиджи...
Снаружи, во мраке ночи, по–прежнему бушевал ветер; Нунциата сразу же посмотрела на скамью, где, скорчившись от холода, спал мальчик.
— Джеральдино... — позвала она.
Ребенок не отозвался. И тогда она внезапно ощутила ужас перед разбушевавшейся стихией. Вокруг неистово свистел ветер. По небу с бешеной быстротой мчались рваные облака и, казалось, увлекали за собою луну; деревья сгибались и скрипели, как будто томились упорным желанием вырвать свои корни из земли и бежать, бежать туда, куда по воле ветра неслись облака. Нунциата отвязала от дерева блеявшую козу и еще долго ждала у входа в церковь, потому что дон Маркино не спеша допивал вино, а затем облачался в сутану, разыскивал молитвенник, кадило и наливал масло в лампаду.
Козу нельзя было ввести в церковь. И благословлять ее пришлось возле входа. Дон Маркино изнутри приоткрыл одну створку двери и пристроил светильник так, чтобы он был защищен от ветра. Крестьянка, обняв козу за шею, опустилась на колени в полосе колеблющегося света.
— Вот так и приходится приноравливаться, — ворчал священник.
— Прошу вас, дон Маркино, уж вы ее получше благословите, Бога ради.
— Святое небо! Как могу я благословить плохо? Я все совершу согласно с тем, как в книге написано.
И, водрузив очки на кончик носа, он стал бубнить слова молитвы. Время от времени коза жалобно блеяла и поворачивала голову в ту сторону, где лежал мальчик. Вдруг дон Маркино остановился:
— Слышишь, Нунциата? A malis oculis, a malis oculis, что по–латыни и означает как раз «от дурного глаза»!
Крестьянка, которая, опустившись на колени, с жаром повторяла за священником непонятные ей слова молитвы, при этом объяснении еще ниже наклонила голову в знак того, что она поняла.
— Да, да, от дурного глаза, от дурного глаза... — повторил дон Маркино.
Окончив благословение, он поторопился затворить двери храма, сославшись на то, что ветер задувает светильник; Нунциата все еще продолжала стоять на коленях. Однако не успел дон Маркино пройти по внутреннему коридору, соединявшему церковь с его домом, как с паперти до него донесся пронзительный вопль, походивший на крик раненого животного. Навстречу ему уже бежали перепуганные сестра и служанка.
— Что там еще случилось? — завопил дон Маркино. — Клянусь, я больше не позволю себя беспокоить, даже если земля разверзнется под ногами!
Но все же побеспокоиться ему пришлось, потому что жители Стравиньяно сбежались в ту ночь на крики несчастной Нунциаты, которая внезапно обнаружила, что ее мальчик умер на скамье. И на сей раз дону Маркино пришлось одолжить свою ослицу тому крестьянину, который из человеколюбия согласился отвезти в Сорифу мертвого ребенка. Переминаясь на своих кривых ногах и ежась от холодного ветра, священник обращался к возбужденной толпе крестьян:
— Подумать только, она захотела благословить козу, а не мальчика!
Однако все с негодованием отворачивались от него, а он втягивал голову в плечи и выставлял перед собою растопыренные руки; при этом углы его рта опускались, и он бормотал:
— Нет, не могу я понять, что это за люди!
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ (Перевод Я. Лесюка)
Война началась совсем недавно.
Марино Лерна добровольно поступил в офицерскую школу и, пройдя ускоренный курс обучения, был выпущен в звании лейтенанта пехоты; после недельного отпуска, проведенного дома, он отбыл в Мачерату, где была расквартирована его часть — Двенадцатый полк бригады Казале.
Прежде чем отправиться на фронт, Лерна рассчитывал провести здесь несколько месяцев, обучая новобранцев. Однако три Дня спустя, когда он находился во дворе казармы, чей–то голос неожиданно выкрикнул его фамилию. На лестнице он столкнулся с остальными одиннадцатью лейтенантами, прибывшими в Мачерату из различных офицерских школ.
— Куда? Зачем?
— Наверх, в залу. К полковнику.
Стоя вместе с товарищами навытяжку возле массивного стола, заваленного бумагами, он с первых же слов полковника карабинеров, на которого было возложено командование казармой, понял, что, должно быть, получен приказ об их отправке на фронт.
Ослепительное июньское солнце заливало ярким светом просторный двор, и глаза молодого офицера сначала не могли различить в этой темной угрюмой зале ничего, кроме расшитого серебром воротника на мундире полковника, его розового, продолговатого лошадиного лица, как будто перерезанного пышными усами, и бумаг, белевших на столе.
В бурной сумятице мыслей и чувств значение слов, произнесенных резким металлическим голосом командира, не сразу дошло до него. Он напряг все свое внимание... да, да, речь шла именно об этом: приказ об их отправке вечером следующего дня.
Всем уже было известно, что батальоны двенадцатого полка занимали на фронте одну из наиболее опасных позиций у Подгоры; многие молодые офицеры нашли там свою смерть во время тяжелых и бесплодных атак. Вот почему и потребовалось незамедлительно послать пополнение.
Едва полковник отпустил офицеров, душевное напряжение каждого из этих двенадцати юношей в первую минуту вылилось в странное оцепенение, как будто все они внезапно опьянели. Однако почти тотчас же оно уступило место судорожному взрыву шумного веселья; но вскоре все они опомнились и наперебой стали убеждать друг друга, что веселятся от всей души.
Все единодушно решили не мешкая отправиться на телеграф и в осторожной форме сообщить родителям о предстоящем отъезде.
Все, кроме одного. Это был один из восьмидесяти молодых лейтенантов, окончивших вместе с Марино Лерной офицерскую школу в Риме; он тоже получил назначение в двенадцатый полк. Фамилия его была Сарри; этого Сарри Марино Лерна недолюбливал и вовсе не хотел служить с ним в одной части, но именно тот волею судьбы был выделен из числа восьмидесяти курсантов римской офицерской школы и направлен вместе с Лерной в один полк.
По правде сказать, Сарри некому было телеграфировать о своем отъезде. За три дня, проведенных вместе с ним в Мачерате, Марино Лерна не то чтобы полностью переменил свое мнение о Сарри, но все же стал гораздо лучше относиться к нему, быть может, потому, что наедине с ним Сарри отбросил свои надменные замашки, которые восстанавливали против него товарищей по офицерской школе. Марино Лерне теперь казалось, что он понял источник надменности Сарри: ее причиной было почти безотчетное стремление этого юноши не смешивать собственных чувств с чувствами других, а доказывать всеми возможными способами, что он испытывает не просто иные, а прямо противоположные чувства; при этом Сарри нисколько не заботился об уважении окружающих. Можно сказать, не столько сам Сарри, сколько его манера держать себя возбуждала неприязнь к нему, которой он, между прочим, даже гордился. Сарри был богат и совершенно одинок и мог поэтому вести себя так, как ему заблагорассудится.
Из Рима он привез с собой в Мачерату девицу легкого поведения, которую содержал уже около трех месяцев; она была хорошо знакома его товарищам по офицерской школе. Сарри рассчитывал пробыть в тылу, по крайней мере, месяц и собирался за это время вкусить, как он сам выражался, ото всех плодов, и прежде всего от самого доступного — от плотской любви; он не сомневался, что ему суждено погибнуть на войне; к тому же мысль, что после окончания войны ему пришлось бы жить в стране, где будет полным–полно героев, окруженных поклонением, казалась ему невыносимой.
Когда Марино Лерна собрался уже идти на телеграф, он увидел Сарри и спросил его:
— А ты не пойдешь? Сарри пожал плечами.
— То есть... Я хотел сказать... — продолжал Лерна, смешавшись и стараясь исправить свою неловкость. — Я хотел попросить у тебя совета.
— Почему именно у меня?
— Сам не знаю... Понимаешь, когда я три дня тому назад уезжал из Рима, я обнадежил отца и мать...
— Ты единственный сын?
— Да, а что?
— Сочувствую тебе...
— А, понимаю, из–за моих родителей... Так вот, я обнадежил их, сказав, что меня отправят на фронт не раньше чем через несколько месяцев и что перед тем, как уехать, я непременно повидаюсь с ними в...
Он собирался сказать «в последний раз», но замялся. Сарри все понял и усмехнулся:
— Ты так и скажи: «в последний раз».
— Нет, почему же? Станем надеяться, что нет, тьфу, тьфу, не сглазить! Скажем, повидаться «еще раз» перед отъездом.
— Ну ладно, а дальше что?
— Подожди. Отец взял с меня слово, что, если мне откажут в отпуске, я заблаговременно извещу его, чтобы он мог приехать сюда вместе с мамой и проститься со мною. А теперь вот мы отправляемся завтра в пять вечера.
— Если они выедут нынче десятичасовым поездом, — заметил Сарри, — они будут здесь завтра в семь утра и смогут провести с тобою почти, целый день.
— Итак, ты мне советуешь?! — воскликнул Марино Лерна.
— Нет, что ты, — ответил Сарри не задумываясь. — Скажи–ка, тебе удалось уехать из Рима без слез?..
— Нет, конечно! Мама горько плакала.
— И тебе этого еще мало? Тебе хочется снова увидеть ее плачущей? Сообщи им, что уезжаешь сегодня вечером и простись по телеграфу! Так будет лучше и для тебя, и для них.
Затем, увидя, что Лерна в смятении и нерешительности, Сарри сказал:
— Прощай! Пойду сообщу Нини, что мы завтра уезжаем. То–то смеху будет! Она ведь меня любит. Ну, если эта вздумает плакать, я ее просто прибью.
С этими словами он ушел.
Марино Лерна отправился на телеграф, все еще сомневаясь, последовать ли ему совету приятеля или нет. Там он нашел своих товарищей, все они один за другим посылали прощальные телеграммы; Марино поступил так же; но затем он подумал, что совершает предательство по отношению к своей бедной матери И отцу. Он тут же послал еще одну срочную телеграмму, в которой предупредил родителей, что если они выедут в тот же вечер десятичасовым поездом, то прибудут вовремя и успеют проститься с ним перед разлукой...
Мать Марино Лерны была женщина строгая, старинного склада, какие еще встречаются в провинции.
Прямая, жилистая, довольно поджарая, но не худая, в своем неизменном корсете, она вечно тревожилась, подозрительно и недоверчиво озиралась по сторонам, и ее острые крысиные глазки беспокойно перебегали с предмета на предмет.
Она до такой степени обожала своего единственного сына, что ради него, дабы не расставаться с ним, когда он поступил в университет, покинула свой уютный старинный деревенский дом в Абруццах, пожертвовав патриархальным укладом своей жизни; вот уже два года, как она обосновалась в столице, где чувствовала себя совершенно затерянной.
Утром следующего дня она прибыла в Мачерату в таком состоянии, что сын внезапно пожалел о том, что заставил ее приехать. Однако мать протестовала. «Нет, нет», — повторяла она, выйдя из вагона; потом обняла сына за шею и, не в силах разжать рук, припала к его груди, лепеча сквозь слезы: — Не говори так, Ринуччо, не говори так...
Отец между тем с суровым видом похлопывал сына по плечу. Он–то был ведь как–никак мужчина. И потому не плакал.
В Риме, перед самым отъездом, он беседовал с одним незнакомым господином, сын которого был на передовых позициях с первых дней войны, а дома у него осталось еще двое малышей. Так, просто, короткий разговор. Разговор двух отцов, и только.
И никто при этом не плакал...
Однако отчаянные усилия любой ценой сдержать слезы (о чем говорили его лихорадочно блестевшие глаза) придавали худой и опрятной фигуре отца Марино нарочитую и потому несколько комическую торжественность, и он являл собою еще более тягостное зрелище, чем горько рыдавшая мать.
Он был, без сомнения, крайне возбужден, намекал на свой разговор с тем незнакомым господином, силясь таким образом скрыть свое беспокойство. Между тем все это привело в конце концов к довольно неожиданному результату: он вдруг как бы. взглянул на себя со стороны, заметил свое сильное возбуждение едва прикрытое личиной наружного спокойствия, и невольно испытал острую боль и тоску, сравнив собственное поведение с неприкрытым, сильным, хотя и безмолвным волнением сына который страдал от слез матери и утешал ее больше лаской нежели словами.
Как и предвидел Сарри, расставание превратилось для всех в ненужную, бесполезную муку...
Проводив родителей в гостиницу, Марино Лерна должен был спешно отправляться в казарму, откуда возвратился лишь около полудня. И, едва закончив здесь, в номере, свой обед, потому что мать, у которой глаза распухли от слез, не могла спуститься в ресторан (к тому же она с трудом держалась на ногах), едва выйдя из–за стола, он должен был опять мчаться в казарму за последними инструкциями. Таким образом, отец с матерью увидели его снова только за несколько минут до отъезда.
Зато какую великолепную речь, длинную и рассудительную, попытался произнести отец, оставшись наедине с женою. Сколько превосходных мыслей высказал он в этой речи, часто глотая,, воздух и проводя дрожащей рукой по трясущимся губам: нет, она не должна так плакать, ведь нигде не сказано, что Ринуччо... Боже избави... события могут принять совсем иной оборот... полк ведь могут теперь отвести во второй эшелон, раз уж он, как говорят, с самого начала войны находится на передовых позициях... и затем, если бы все солдаты, уходящие на фронт, погибали, тогда пиши пропало!.. Куда вероятнее, что его ранят... легко ранят... например, в руку... Бог поможет их мальчику... зачем же причинять ему горе своими слезами? Да... да... видя, как она безутешно плачет, Ринуччо расстроится, конечно же, он расстроится.
Однако мать утверждала, что она тут ни при чем. Это все ее глаза... да, глаза... Что с ними поделаешь? Каждое слово» каждое движение сына так странно, так мучительно действует на нее, как будто все уже позади...
— Понимаешь, всякое его слово доходит до меня словно бы из прошлого, точно он не сейчас говорит, а уже говорил когда–то... Да, да! Мне чудится, будто мальчика уже нет здесь больше... Что я могу с этим поделать?.. О Господи, Господи...
— Ну, разве не грешно думать так?
— Что ты такое говоришь?
— Говорю, что это грех! А я стану смеяться, вот увидишь, я стану смеяться, когда он будет уезжать!
Еще немного, и они бы непременно поссорились. Ожидание сына превратилось для них в нестерпимую муку. Господи Боже, как это его начальники не понимают, что последние минуты перед разлукой должны быть отданы несчастным родителям?
Их волнение стало просто невыносимым, когда они увидели, что товарищи Марино начали один за другим съезжаться в гостиницу; молодые офицеры собирали свои вещи и тотчас же отправлялись на станцию. Ординарцы сносили вниз сундучки, мешки, шинели, сабли, и экипажи стремительно мчались к вокзалу.
Марино, который ушел из казармы чуть ли не последним, забежал еще по дороге в гостиницу за парой тяжелых походных сапог, заказанных им накануне; потому он и задержался.
Это было не прощание, а сплошные муки, спешка и суета. Марино Лерна рисковал опоздать к поезду. И в самом деле, когда вместе с отцом и матерью он приехал на вокзал, дверцы вагонов уже начали задвигаться: он едва успел вскочить в какой–то вагон, откуда товарищи громко звали его, и состав тотчас же тронулся, провожаемый воплями, плачем и последними напутствиями; провожающие махали руками, платками и шляпами.
Синьор Лерна размахивал своей шляпой еще очень долго, но безо всякой уверенности в том, что сын его видит. Когда же раздосадованный тем, что ему не удалось как следует проститься с Марино, еще наполовину оглушенный разлукой, он обернулся к стоявшей рядом с ним жене, то не обнаружил ее возле себя: несчастную мать унесли в обмороке в зал ожидания.
На вокзале мало–помалу воцарилась тишина. Платформа опустела. В безмятежном сиянии долгого, медленно клонившегося к закату летнего дня лишь блестели железнодорожные рельсы да слышался далекий неумолчный звон цикад. Все экипажи возвратились в город, увозя с собою тех, кто только что проводил на фронт своих близких; и когда мать Марино Лерны пришла наконец в себя и почувствовала, что в состоянии вернуться в гостиницу, на площади перед вокзалом не оказалось ни одной кареты.
Станционный сторож пожалел ее и вызвался сходить и соседний гараж за омнибусом, который, должно быть, уже возвратился из города.
Синьора Лерна, которую, поддерживая под руки, почти внесли в омнибус, заняла место рядом с мужем, и громоздкая машина уже было тронулась с места, как вдруг на подножку торопливо вскочила неизвестно откуда появившаяся молоденькая блондинка в огромной соломенной шляпе, украшенной розами. На ней было причудливое, чрезмерно открытое платье; ресницы и губы у нее были накрашены. Она горько плакала.
То была очень красивая женщина.
В одной руке она сжимала крохотный вышитый платочек голубого цвета, другую, унизанную кольцами, приложила к правой щеке, как. будто старалась прикрыть багровый след от ужасной пощечины.
Это была та самая Нини, которую лейтенант Сарри привез с собою из Рима три дня тому назад.
Отец Марино Лерны тотчас же понял, какого сорта женщиной была эта блондинка. Но супруга его ничего не поняла и, очутившись лицом к лицу с другой женщиной, плакавшей, как и она сама, не удержалась и спросила:
— Вы, верно, мужа проводили?
Но та, прижимая свой кукольный платочек к глазам, отрицательно покачала головой.
— Тогда, должно быть, брата? — допытывалась мать Марино. Тут муж незаметно толкнул ее локтем.
Молодая женщина, видимо, заметила это; так или иначе, она поняла, что заблуждение пожилой дамы на ее счет не может долго продолжаться, и промолчала.
Однако она поняла и нечто другое, гораздо более грустное. Она поняла, что помешала матери плакать, ибо теперь эта старая дама будет стыдиться смешивать свои слезы с ее слезами.
А между тем ведь и ее слезы были вызваны горем, но только куда более редким, чем всем понятное и естественное горе матери.
Да, в Риме Нини принадлежала не одному только Сарри: она принадлежала многим его товарищам из офицерской школы и — кто знает? — быть может, и тому юноше, которого теперь оплакивала его мать.
Еще сегодня, в полдень она обедала с десятью юными офицерами. То была настоящая оргия! Чего только они не выделывали с ней! А она все им разрешала: ведь, безумствуя, они пытались забыться, эти бедные мальчики, которым предстояло отправляться на фронт. Они даже потребовали, чтобы она обнажила грудь, прямо там, в ресторане, на глазах у всех; ведь им была хорошо знакома ее небольшая, высокая, почти девическая грудь. И эти сумасшедшие хотели во что бы то ни стало окропить ее грудь шампанским! Она им все позволяла: обнимать, целовать, тискать, гладить, ласкать себя; ей так хотелось, чтобы они унесли с собою живое воспоминание о ее теле, созданном для любви, унесли это воспоминание туда, где, быть может, завтра всем им, этим красивым двадцатилетним юношам, суждено было погибнуть, одному за другим. Она столько смеялась, а потом, да, о Господи... потом расцеловала их всех в последний раз... И тут–то она получила от Сарри эту ужасную пощечину, от которой у нее до сих пор горит щека. Нет, нет, она на него совсем не сердится...
Полно! Она имела, имела право дать волю слезам, не оскорбляя этим безутешную мать. Правда, та не мешала ей плакать, но почему она сама больше не плачет, эта бедная дама? Ведь ей это, наверное, так нужно.
И Нини постаралась сдержать свои слезы, чтобы не мешать матери плакать. Но тщетно. Чем больше она сдерживала слезы, тем обильнее они текли у нее из глаз, и немалую роль здесь играла жестокая мысль о том, что она и плакать–то не смеет!
В конце концов, обессилев от этой жестокой муки, она закрыла лицо обеими руками и разразилась рыданиями.
— Бога ради... Бога ради... я не могу больше, синьора... —
Простонала она. — Эти мои слезы... Я тоже имею право плакать... Вот вы горюете о своем сыне... а я... не то чтобы именно о нем... а о другом, который уехал на фронт с ним вместе и даже ударил меня за то, что я горько плакала... Вы грустите об одном... я же обо всех... Мне жаль их всех... и вашего сына, синьора, тоже... мне жаль всех... всех...
И она снова закрыла лицо руками, не в силах вынести строгого и хмурого взгляда старой матери, которая смотрела на нее с ревнивым недоброжелательством, какое все матери испытывают к женщинам подобного сорта.
Слишком тяжелым ударом был для матери отъезд сына на фронт. И теперь она очень нуждалась в тишине и покое, а эта особа не только раздражала ее, но и оскорбляла своим присутствием. Мысль о том, что Марино еще целых два дня не будет подвергаться смертельной опасности, даровала ей благодетельную передышку. Поэтому она могла позволить себе проявить жестокость и проявила ее. По счастью, путь от вокзала до города был коротким. Едва омнибус остановился у гостиницы, мать сошла, даже не взглянув на свою попутчицу.
На следующий день синьора Лерна и ее супруг возвращались в Рим; на станции Фабриано из окна вагона первого класса они вновь увидели ту же молодую женщину, которая торопливо искала места в поезде. Ее сопровождал какой–то юноша; она держала в руках огромный букет цветов и звонко смеялась.
Синьора Лерна повернулась к мужу и громко, так, чтобы ее слышала молодая женщина, сказала:
— О, взгляни туда, видишь, вон та, что вчера всех оплакивала!
Нини оглянулась и посмотрела на нее без гнева и досады.
«Бедная мама, славная и глупая, — говорил ее взгляд. — Неужели ты не понимаешь, что такова жизнь? Вчера я оплакивала одного. Сегодня я смеюсь для другого».
СКАМЬЯ ПОД СТАРЫМ КИПАРИСОМ (Перевод Н. Фарфель)
Даже в лучшую свою пору (а о ней еще многие помнили) он был из тех людей, чье поведение всегда остается непонятным: то они смотрят на тебя как–то по–особенному; то смеются ни с того ни с сего, прямо тебе в лицо, безо всякого повода; то вдруг поворачиваются к тебе спиной, и ты сразу чувствуешь себя дураком. Сколько ни имеешь с ними дела, ты никогда до конца не узнаешь, что там у них кроется в глубине души; вечно они рассеянны, вечно где–то витают; однако в какой–то миг, когда ты вовсе этого не ждешь, они приходят в ярость из–за такой ерунды, которую и замечать–то не стоило, или, того хуже, ты с чувством какого–то унижения неожиданно узнаешь, что они давным–давно, по неизвестной причине, затаили против тебя глубокую и коварную злобу и в то же время не отказывают в дружбе и уважении людям, весьма дурно поступившим с ними не далее как месяц назад.
Странной и несколько смешной были и наружность его, и манера держаться. Ноги, без того достаточно тощие, казались палками в узких, как у циркового наездника, брючонках; пиджак, неизменно двубортный, был ему всегда настолько тесен, поэтому туловище походило на торс манекена, привинченного к трехногой подставке и выставленного в магазине готового платья. А над этим туловищем — маленькая головка, торчком сидящая на непомерно длинной шее, нафабренные усики и живые, пронзительные птичьи глазки, моргавшие беспрестанно.
Каждому, кто знал, что это один из лучших адвокатов в наших краях, невольно при виде его хотелось наделить его другой внешностью. Но адвокат Лино Чимино в ответ на их разочарование хохотал им в лицо, как всегда.
Кое–кто из приятелей, искренно к нему расположенных, не раз пытался внушить ему, что такому человеку, как он, надо бы воздержаться от некоторых разговоров, некоторых поступков и не давать то и дело пищу сплетникам, вынося на люди тайные горести семейной жизни.
Да куда там! Он словно испытывал бесстыдное наслаждение, делаясь предметом всеобщего злословия. Так, например, размахивая что было сил руками, он в самых безобразных выражениях громко взывал к небу о мщении за то, что жена четыре раза подряд приносила ему девочек; будто она проделала это нарочно, чтобы показать всем, что он — да, черт возьми, он, именно он! — не способен произвести на свет ребенка мужского пола! Нелепые вспышки ярости привели наконец к тому, что друзья, чтобы его не расстраивать, мало–помалу прекратили свои уговоры.
Трудно было поверить, что такой талантливый человек может с головой погружаться в убогие, ничтожные мелочи жизни и в то же время волновать и потрясать слушателей, когда его внезапно осенит вдохновение или когда, разбирая какой–то сложный, запутанный случай, он приводит доводы, в свете которых все становилось ясным и понятным.
В доме у него, однако, царил сущий ад из–за постоянных ссор с женой, то и дело грозивших семье полным развалом. То один, то другой из его друзей вынужден был откликаться на его зов и приходить, чтобы восстановить там мир; особенно часто выпадало это на долю одного из них, кому Чимино, по своей привычке неожиданно дарить кому–то свою дружбу, внезапно стал полностью доверять; на этот раз, впрочем, по общему мнению, выбор его оказался разумным: то был молодой адвокат Карло Папия.
Чимино пригласил его в свою адвокатскую контору, как только тот получил университетский диплом. Все четыре девочки, тогда еще маленькие, едва завидев, как он торопливо направляется к их дому, бежали ему навстречу, зная, что с его приходом на лицо матери и даже отца вернется улыбка; как только в доме восстанавливался мир, девочки звали его гулять и наперебой хватались за него, каждая хотела, чтобы он шел с ней за руку, а он с шутливым отчаянием объяснял, что у него только две руки и поэтому он никак не может угодить всем четырем. Друзья, видя, как он идет по городу с этими ласковыми, щебечущими девчушками, радушно приветствовали его и предсказывали, что теперь, когда Чимино ему покровительствует и он стал любимцем семьи, окупятся наконец все жертвы, принесенные за годы его учения несчастными, давно обедневшими родителями.
Но можно ли безнаказанно брать в посредники между собой и молодой женой человека еще моложе, чем она, с приятной наружностью, приветливого в обхождении, да еще старающегося установить в доме любовь и согласие? Как только измена была обнаружена, Лино Чимино повел себя так странно, как умел вести себя только он. Нелепость следовала за нелепостью, одна глупее другой. Всем известно, что иные происшествия нипочем не скроешь, не сохранишь в тайне от людей; как ни старайся, новость просочится то тут, то там, пока не станет общим достоянием, и только из жалости все делают вид, будто ничего не знают. Но куда хуже самому поднять шум, а потом, поняв, как далеко зашло дело, вдруг остановиться, застыть среди позора, собственными руками выставленного напоказ, и странным бездействием обмануть ожидания окружающих.
Сперва Чимино выгнал из дому жену, но даже не подумал отомстить любовнику, а, напротив, заявлял всем и каждому, что благодарен ему за услугу; потом, из жалости к дочкам, разрешил жене вернуться при условии, что она никогда больше не увидится с любовником; но стоило ему в первый раз встретить Папия на улице, как он выхватил из кармана револьвер и — пиф–паф — давай палить себя не помня; прохожие разбежались кто куда; Папия отделался легкой раной в руку, а его противника схватили двое полицейских. Когда суд его оправдал, он построил себе двухэтажный особнячок, видом смахивающий на тюрьму, поселив жену с дочками в верхнем этаже, а сам жил внизу и водил к себе на ночь девок, всех одного пошиба, — словом, вел себя так глупо и постыдно, что растерял бы вместе с уважением друзей еще и всех клиентов, если бы страх, что он может оказаться на противной стороне, не удержал их от желания обратиться к другим адвокатам.
Знаете, как бывает, когда вдруг схватит страшная резь в животе, такая, что дыхания не переведешь, не поймешь, как и куда повернуться, цепляешься за кровать, готов на стену лезть, рад бы кричать, да не хватает сил; все окружающее, на что ни посмотришь, вызывает нестерпимое отвращение, в особенности лекарства, которые наперебой предлагают те, что стоят радом, смотрят на тебя и мало–помалу раздражаются, глядя на твои муки: и тебе становится легче от их раздражения, будто это единственная отдушина, найденная тобой, никем не предложенная.
По счастью, такие приступы быстро проходят. Но адвокату Лино Чимино боль свела внутренности и не отпускала, а грызла его год за годом.
Жена снова находилась у него в доме, любовник спокойно уехал из города, после того как Чимино был оправдан, и все находили дальнейшую месть ненужной и дальнейшую шумиху бессмысленной.
Однако ему было мало того, что жена его жила, словно в заточении, и даже в окно не могла посмотреть, так как ставни были всегда закрыты. Ему было мало этого, потому что при ней оставались девочки (но ведь и это, если угодно, заслуживало осуждения, ибо не может хорошо воспитать детей женщина, позабывшая, что она мать, и ставшая плохой женой); к тому же, лишившись свободы и общения с людьми, она была зато избавлена от его присутствия и в то же время сама по–прежнему была ему в тягость. Живя внизу, он слышал, как она ходит у него над головой, не раз слышал также, как она поет и смеется. Он довел до полного разорения родителей Папия, и без того живших в нужде, и продолжал втайне преследовать их сына, но и этого ему было мало, так как он знал, что уехал Папия не из–за его преследований, а из–за сыпавшихся на него отовсюду попреков в том, что он–де, как последний дурак, поддался соблазну любовной интрижки и причинил такое зло своему благодетелю, а также самому себе и своим родным. А если так (и Чимино понимал, что так оно и есть), то он, Чимино, продолжает втаптывать его в грязь скорее на радость другим, нежели себе. И ему, пожалуй, хотелось, чтобы кто–нибудь, наперекор всем, уговорил этого дурака пренебречь всеобщим осуждением, вернуться сюда и вызвать в нем куда более неистовый гнев, возродить в нем ярость куда более страшную.
Но никто и пальцем не пошевелил; и мало–помалу вовсе испарились и гнев и ярость. О Папия ничего не было слышно. Шли годы, и когда девочки выросли, вышли замуж за клиентов отца и те развезли их, униженных и расстроенных, без свадебных торжеств по разным провинциальным городкам, никто не задумывался, как теперь сложится жизнь Чимино в опустелом доме, где жена, в одиночестве, жила наверху, а он, в одиночестве, внизу.
Бурные чувства; кипевшие в нем в ту далекую пору, остыли в унылой повседневной жизни, и само воспоминание о них, быть может, было погребено и забыто.
Но воспоминание это пробудилось, нежданно–негаданно ожило на глазах у всех, подобно ужасному призраку, и всем почудилось, будто неведомое правосудие годами втайне готовило страшную кару; на улицах города неизвестно откуда появился, с одной стороны, Папия, просивший милостыню, оборванный, истощенный, неузнаваемый, с растрепанной уже седой бородой, полуслепой, а с другой — Чимино, превратившийся в собственную тень после нескольких месяцев, что он просидел взаперти у себя дома, скрывая какую–то тяжелую болезнь. А затылок–то у него, Боже мой, раздулся над воротничком чуть ли не на ладонь, весь лоснился и так затвердел, что головы не поднять, будто под ярмом; подбородок уткнулся в шейную ямку, а глаза застыли в мучительной, пугающей неподвижности на бледном, исхудавшем и в то же время отечном лице, осыпанном черными точками вроде тех, какими бывают испещрены камни старых домов. Коварная болезнь, много лет таившаяся в нем после бурной жизни и постоянных безумств, которым он предавался в отместку за измену жены, теперь захватила его врасплох, и беспощадно впилась в затылок, до непристойности обнаженный и затвердевший.
Но глаза его, застывшие в нестерпимой муке, все еще горели таким ярким огнем, что никому не могло прийти в голову, будто рассудок его помрачился. Однако глаза эти внушали ужас. И клиенты один за другим покидали навсегда кабинет, где он с прежней точностью ждал их по утрам, сидя за письменным столом, уже не заваленным, как раньше, бумагами, не сводя глаз с пожелтевшей, некогда зеленой портьеры, которую никто уже не отдернет. В привычный час он запирал кабинет и шел прогуляться по пустой аллее за городскими воротами, откуда открывался прекрасный вид на холмы и долины.
На повороте аллеи, там, где она поднималась по довольно крутому склону соседнего холма, стояла, под кипарисом, скамья. Деревья, образующие аллею, были молодыми и свежими. Один только кипарис казался здесь чужим и одиноким. Хвоя давно с него осыпалась, и на старости лет он стал похож на огромный шест, мертвый и гладкий, увенчанный реденьким султаном, похожим на щетку для чистки ламповых стекол. Никто не приходил посидеть на скамейке под сенью этого старого, зловещего кипариса. А Чимино как раз там–то и сидел долгими часами, неподвижный и мрачный, как пугало, кем–то посаженное тут смеха ради.
Был еще ранний вечер, но уже почти что стемнело. Сидя на скамье, Чимино увидел, что по пустой аллее идет Папия, протянутой рукой как бы отгоняя темноту, а другой рукой, с палкой, нащупывая дорогу. Чимино окликнул его.
Скамья стояла на виду и в то же время словно пряталась в полумраке, как все, что смутно видишь в сумерках.
Полуслепой Папия услышал голос и вытянул шею, чтобы разглядеть, кто его зовет; узнав Чимино, он сперва вздрогнул, а потом разразился рыданиями, булькавшими где–то в животе и сотрясающими все его тело; он упал на скамью; громко плакать он не мог и только жалобно и непрерывно скулил и хлюпал носом.
Оба молчали.
Услышав, как плачет Папия, Чимино, все так же не поворачивая головы, протянул руку и тихонько похлопал его по колену.
Так они и сидели, внезапно сближенные острой горечью всего, что пережили по обоюдной вине; и горечь эта порождала в них, быть может всего на мгновение, безысходную жалость, не приносившую утешения ни тому, ни другому.
ПРАХ (Перевод С. Бушуевой)
Сущее наказание для своих племянников, которые, однако же, должны были сильно его любить, раз уж терпели даже после того, как сняли с него последнюю рубашку, синьор Федерико Бьёбин, или, как его называли, дядя Фифо, — маленький человечек с лысой грушевидной головкой и острой мышиной мордочкой, на которой топорщились десятка два — по десятку с каждой стороны — жестких крашеных волосков, подымался обычно затемно и сразу же начинал тихонько шастать по дому, сопя, отхаркиваясь, гримасничая, словно желая доставить постоянное упражнение своему востренькому носику и губам, оснащенным теми самыми двумя десятками волосков, и шастал до тех пор, пока все вдруг не просыпались от грохота мисок, валившихся в кухне с сушилки, или ящиков, один за другим рушившихся в кладовке.
Сбегались все — кто в рубашке, кто в пижаме, кто в нижней юбке.
— Дядя, что ты делаешь? Что случилось? Отвечал он обычно самым неожиданным образом:
— Ничего. Вы чувствуете, какая все–таки идет вонь от этой старой мебели?
Словно весь этот шум произвел не он и словно он его вообще Даже не слышал: спокойно и как бы утомленно он еще замечал, как было здесь тихо до их прихода.
Не проходило и дня без чего–нибудь вроде этого. И самое интересное, что все эти его дурацкие выходки, раздражавшие племянников и служанок до того, что их. буквально трясло, он рассматривал как свои им услуги. Он способен был целый день проторчать на кухне, нарезая бумагу полосками и пытаясь склеить ими разбитое стекло в< дверях, выходивших на какое–то подобие террасы, где была расположена ужасно воняющая уборная. Кухарка была вне себя.
— Если вы чувствуете, как воняет старая мебель, как вы не чувствуете вони из этой уборной?
Но вот этого он как раз не чувствовал и продолжал, сопя, отхаркиваясь и гримасничая, наклеивать на стекло полоски бумаги.
Или вот он в саду яростно сражается со створкой калитки, которая, увязнув в земле, не желает открываться ни внутрь, ни наружу. Посинев от прилива крови, со вздувшимися на черепе венами, он так тряс калитку, что прутья ее прогибались, а руки у него, казалось, вот–вот оторвутся от тела. Племянники кричали из окон:
— Брось, дядя! Ты что, не видишь — она не открывается?
— Чтобы я да бросил? Или открою, или сдохну!
Но и калитка не открывалась, и он не издыхал: он возвращался в дом еле живой, мокрый от пота и протягивал свои доведенные до отчаянного состояния крохотные ручки, чтобы ему смазали Их маслом и забинтовали.
Когда ему надоедало связываться со своими, он выходил из дому и досаждал людям на улице: если, к примеру, дождь начинал лить как из ведра, он становился на тротуаре таким образом, чтобы на его зонт хлестала вода из водостока, и было так очевидно, что он делал это нарочно, что у прохожих являлось искушение схватить его за руку и оттащить от стены, к которой он прислонялся. Испытываемое им при этом злорадство кривило уголки его рта вместе с двадцатью дыбом стоявшими над ним волосками в том едва заметном оскале, какой бывает у злых собачонок.
Последнее, что он выкинул, это была покупка серого плаща из альпака, который он принял за халат; племянники, посмеявшись, объяснили ему, что это дорожный плащ.
— Дорожный? В таком случае я собираюсь в дорогу.
— В какую дорогу? Куда?
— Поеду в Бергамо, к Эрнесто, попрощаюсь с ним, перед тем как он уедет в Геную, а оттуда в Америку.
И невозможно было отговорить его от этой блажи — вот так вот вдруг сорваться и поехать! Хотя для бедняги Эрнесто этот визит посреди предотъездной суеты, накануне отплытия в Америку должен был быть скорее досадной помехой, чем радостью, но раз так, то — тем более! А то, что врач велел ему соблюдать покой и не переутомляться, так как он страдал склерозом сердца, что же, и это — тем более! Он желал умереть. Что? Умереть в Бергамо, в то время как Эрнесто уедет из дому? Да, господа, умереть в Бергамо, в покинутом доме.
И он уехал в этом своем сером плаще, и, к сожалению, опасения насчет риска, которые римские племянники хотели посеять в нем нарочно, сами в них не веря, — эти опасения полностью оправдались. Неожиданное известие о смерти дяди Фифо в тот самый день, когда он приехал в Бергамо, повергнуло римских племянников в полуобморочное состояние: и из–за того, что они предсказали эту смерть, сами в нее не веря, и из–за того, что, предвидя ее, но в нее не веря, они позволили ему уехать.
Причинив, таким образом, племянникам, находившимся далеко, эту последнюю неприятность, а тому, что был рядом с ним, в Бергамо, не только последнюю, но и чрезвычайно серьезную, дядя Фифо, покоившийся на железной кроватке посреди поставленного вверх дном дома, такой худенький, в том самом аккуратном сером плащике, из–под которого выглядывали две маленькие сомкнутые ступни, казался не просто довольным — он прямо–таки блаженствовал.
Среди всей этой мебели, сдвинутой со своих мест и жавшейся к стенам, только его железная кроватка и оставалась нетронутой, и он лежал в ней так покойно и так удобно, в окружении четырех свечей — две в головах и две в ногах, сложив крохотные ручки на чуть вздувшемся животе.
И в самом деле: свою задачу приехать в Бергамо, чтобы там умереть — на радость племяннику Эрнесто, и без того захлопотавшемуся с отъездом, — он выполнил; теперь уж это было дело других — вывезти его отсюда и либо похоронить на кладбище в Бергамо, либо, если решат положить его в семейном склепе, отослать тело в Рим.
Племянник Эрнесто решил, что проще будет отослать его в Рим и предоставить тамошним кузенам остальные хлопоты и траты по похоронам; у него и так оставались считанные минуты, по прибытии в Геную он едва успевал подняться на пароход.
Однако, к несчастью, когда он приступил к пересылке, он решил, что слово «прах» будет в данном случае звучать лучше, чем грубое слово «труп» — как–то в нем было больше скорби и благородства; а может быть, он прибегнул к нему еще и потому, что хотел как–то компенсировать проклятия, которые он обрушил на бедного дядю, когда увидел, что в его предотъездный хаос затесался еще и покойник.
И вот когда — с целой горой венков и великолепным катафалком, запряженным четверкой коней, и в сопровождении доброй сотни друзей, знакомых и представителей разных братств с хоругвями и стягами, и со священником, который должен был благословить прах, и тянувшимися следом двумя вереницами монахов и монахинь — римские племянники прибыли на вокзал встречать гроб, за это самое слово, в котором было столько скорби и благородства, таможенный чиновник предъявил им штраф в несколько тысяч лир.
— Штраф? За что?
— За подлог в документе!
— Какой подлог?
— Уж не думаете ли вы, господа, что гроб можно безнаказанно именовать прахом? Прах — это одна статья, прах — это горсточка пепла и костей в жестяной банке, и оплачивается он по определенному тарифу. Гроб — это совсем другая статья. Каким бы он ни был маленьким, платить за него надо, как за гроб! Совсем другой тариф!
Племянники заявили, что кузен Эрнесто не мог сознательно совершить подобного обмана. Но так это или иначе, все равно: если штраф требуется платить, то платить его должен отсылавший, а не тот, кто явился за получением. Что касается их, то они–то даже готовы оплатить разницу в тарифе, поскольку речь действительно идет о гробе, а не о прахе (хотя на первый взгляд в подобной дифференциации было что–то софистическое!), но — штраф? Нет, нет и нет! Они ни в чем не виноваты, кузен Эрнесто уже отплыл в Америку, и, следовательно, отвечать за ошибку (ради Бога, не будем употреблять слово «подлог»!) должна экспедиция бергамской таможни, которая, не заметив, пропустила в качестве праха целый гроб. Чтобы успокоить начальника вокзала, вызванного в поддержку чиновнику таможни, племянники дали ему понять, что готовы даже извинить экспедицию бергамской таможни: они объяснили, что кузен Эрнесто за эти дни должен был переслать через нее Бог знает сколько багажа, а так как всему городу было известно, что он вот–вот покинет Италию навсегда, таможенник, занимавшийся пересылкой, вполне мог подумать? что он отсылает также и прах какого–нибудь родственника, давно похороненного на бергамском кладбище, не желая оставлять его здесь. Так что вина его только в том, что он не проверил все собственными глазами. И вот за это платить штраф? Так вот, если штраф действительно нужно платить, то пусть его и платит тот таможенник, а не они, которые здесь ни сном ни духом не виноваты.
А пока в таможне шел этот спор, прибывшие на похороны, все в черном, все в цилиндрах, отхлынули от Центра площади и выстроились в ряд у самой стены, ища защиты от палящего августовского солнца, близкого к полудню. Вдоль стены была полоска тени, но такая узенькая, что не покрывала даже кончиков ног; вокруг же все было раскалено и слепило от солнца. Вытянувшись в струнку под самой стеной, все стояли и как зачарованные разглядывали застывший посреди площади огромный катафалк; он, с его мрачной чернотой и позолотой, казался каким–то чудовищным, привидевшимся всем кошмаром, так же как и эти бесстрастные, с опущенными глазами монахини в черных остроконечных капюшонах, в рясах из грубой коричневой ткани, в накрахмаленных белых нагрудниках, скромных, но позволявших угадать скрываемые или формы тела, с зажженными свечами в руках. Да, Боже мой, какие там свечи! Пламени не было даже видно в слепящем солнечном свете, един только едва заметный дрожащий дымок. Но что случилось? Почему не выносят гроб? Чего ждут? Сначала пошли узнавать, в чем дело, самые нетерпеливые, а потом один за другим и все остальные — кроме возницы катафалка, монахов с монахинями и хоругвеносцев — перебрались в восхитительную прохладу таможни, которая представляла собою высокий просторный склад, где по стенам громоздились друг на друге ящики, тюки и пакеты.
Там эхом отдавались крики спора между племянниками умершего, с одной стороны, и таможенниками во главе с начальником вокзала — с другой. Начальник вокзала был непоколебим: или штраф, или никакого вам гроба! Старший из племянников в ярости пригрозил, что в таком случае оставит гроб здесь. Покойник — это не тот товар, который можно продать с аукциона. Хотел бы он поглядеть, что начальник вокзала будет с ним делать! А начальник с насмешливой улыбкой ответствовал, что, получив разрешение — уж он знает у кого! — он пошлет двух могильщиков похоронить труп, а заняться штрафом, тарифами и похоронными расходами потом спокойно смогут и судебные исполнители. Этот ответ был встречен негодующим гулом, и тогда второй племянник, ободренный всеобщей поддержкой, призвал начальника поостеречься выполнять свою угрозу: в этом случае администрации придется ответить за причиненный ею моральный и материальный ущерб, потому что дядя их — это не собака какая–нибудь, чтобы хоронить его подобным образом. Вон сотни людей со стягами и хоругвями пришли воздать ему заслуженные траурные почести, и священник тут, и монахи, и монахини с сорока свечами, и катафалк первого класса!
Но тут багровые, как индюки, в белых рубахах, которые в горячке спора вылезли у них из рукавов и на животе, из–под жилета, оба племянника были выведены вон и ушли, дрожа от негодования и плача от ярости.
Но когда, подпрыгивая на мостовой, так и отправился обратно пустым этот словно в кошмаре привидевшийся всем катафалк и монахини стали переворачивать свечи, туша их об землю, все, даже едва владевшие собою племянники, почувствовали вдруг облегчение: как будто, раз похороны откладывались, дядя Фифо вроде бы и не умирал!
Да и как можно было считать его умершим, если он и сейчас с таким упорством продолжал делать то, что делал в течение всей своей жизни: доставлял людям хлопоты и неприятности.
Я знаю, не было случая, чтобы покойник оторвал от груди руки и согнал с носа муху, но я вполне могу себе представить, что, лежа в своем двойном, орехово–цинковом гробу, дядя Фифо, оставшись наедине с почесывавшим себе голову начальником вокзала, — дядя Фифо оторвал–таки от груди свои крохотные ручки и потер их одна об другую с самым искренним удовольствием.
НЕЗАДАЧЛИВЫЙ ПИФАГОР (Перевод Р. Хлодовского)
— Черт возьми!
Приподняв шляпу, я взглянул на прелестную девушку, шествовавшую между женихом и старухой матерью.
Др...др...др... Боже мой, как радостно скрипели новенькие ботинки моего приятеля, вышагивающего в это воскресное утро По залитой солнцем площади! А невеста! Ее по–детски голубые глазки, розовые щечки, белые зубки так и сияли счастьем. Раскрыв над головой крикливо–красный шелковый зонтик, она что есть мочи обмахивалась веером, словно желала погасить пламя радости и смущения: впервые она, совсем еще девочка, шла по людным улицам рядом — др, др, др — с таким блистательным женихом, совсем новоиспеченным, прилизанным, надушенным и самодовольным.
Мой приятель тоже приподнял шляпу (осторожно, чтобы не помять поля) и посмотрел на меня. Но что такое? Видя, что я остановился посреди площади, он поклонился мне со смущенной улыбкой. Я ответил ему тоже улыбкой и помахал рукой, как бы говоря: «Поздравляю! Поздравляю!»
Через несколько шагов я опять обернулся. Мне было очень приятно взглянуть не столько на гибкую фигурку маленькой невесты, сколько на него, моего друга, с которым я не виделся около трех лет. Неужели он не оглянется, чтобы посмотреть на меня хотя бы еще раз?
«Ревнив он, что ли? — подумал я и повесив нос пошел дальше. — Ну что ж — это понятно. Черт возьми, она и впрямь мила. Но он–то, он...»
Странное дело: мне показалось, что он стал даже выше ростом. Любовь творит чудеса! Он весь как–то помолодел, особенно глаза; было совершенно ясно, что он следит за своей внешностью с такой тщательностью, на какую я никогда не счел бы его способным, так как помнил, что он враг тех интимных и весьма занятных бесед, которые каждый молодой человек, часами простаивая перед зеркалом, имеет обыкновение вести с собственным отражением. Любовь творит чудеса!
Где же он пропадал все эти три года? Прежде он жил здесь, в Риме, у своего родича и моего лучшего друга Квирино Ренци. Для меня Тито всегда был именно «родичем Ренци», а не Бинди, как его звали дома. Он уехал в Форли года за два до того, как Ренци покинул Рим, и с тех пор я его больше ни разу не встречал. И вот он снова в Риме — и вдобавок жених.
«Ну, дорогой мой, — подумал я, — теперь–то ты, уж конечно, не занимаешься живописью! Др, др, дp. Твои ботинки слишком громко скрипят. Это говорит о том, что ты занялся более прибыльным делом. Ну что же, молодец. Хвалю, пусть даже твои дела заставили тебя подумать о женитьбе».
Дня через два–три, почти в тот же самый час, я опять встретил его вместе с невестой и будущей тещей. Мы опять раскланялись и обменялись улыбками. На этот раз, грациозно кивнув головкой, мне улыбнулась и невеста.
По тому, как она улыбнулась, я понял, что Тито много рассказывал ей обо мне, о мое пресловутой рассеянности и, уж конечно, сообщил, что его родственник Квирино Ренци зовет меня Пифагором, потому что я не ем фасоль; он, несомненно, объяснил ей также, почему того, кто не ест фасоль, можно в шутку называть Пифагором и т. п. Все это действительно очень забавно.
Я заметил, что история с фасолью и Пифагором особенно забавляла тещу, потому что всякий раз, когда я встречал их втроем, старая сычиха, отвечая на мой поклон, буквально заходилась от смеха и ничуть не скрывала этого, а потом, не переставая хохотать, долго глядела мне вслед.
Мне хотелось как–нибудь встретить Тито одного и спросить, неужто теперешнее счастье не дает ему, его невесте и теще какого–нибудь другого повода для веселья. Я надеялся пристыдить его, но удобного случая для этого все не представлялось. А кроме того, мне очень хотелось узнать у Тито что–нибудь о Ренци и его жене.
Но вот в один прекрасный день я получаю из Форли следующую телеграмму: «Дела плохи, Пифагор. Завтра буду в Риме. Встречай на вокзале в 8.20. — Ренци».
«Странно! — подумал я. — Здесь его родственник, а он обращается ко мне».
Я долго раздумывал над тем, что значит «дела плохи», и наиболее вероятным мне показалось вот что: Тито впутался в скверную историю, и Ренци спешит в Рим, чтобы расстроить свадьбу. Признаюсь, после трех месяцев поклонов и улыбок я испытывал к этой куколке, невесте Тито, непреодолимую антипатию, а ее мать внушала мне просто омерзение.
На следующий день в восемь я уже был на вокзале.
А теперь посудите сами: не смеется ли надо мной судьба. Поезд подходит, из окна вагона высовывается Ренци, я устремляюсь к нему... Но вдруг ноги у меня подкашиваются, руки опускаются...
— Со мной бедняга Тито, — говорит Ренци и сокрушенно указывает на кузена.
— Тито Бинди с тобой? Как? А с кем же я вот уж три месяца раскланиваюсь на улицах Рима? Тито... Боже мой, до какого состояния он дошел! Тито, Тито!.. Но как же? — растерянно бормочу я. — Ты...
Тито бросается мне на шею и горько рыдает. Я ошеломленно смотрю на Ренци. В чем дело? Что случилось? Я чувствую, что схожу с ума. Тогда Ренци пальцем показывает на лоб и вздыхает, закрывая глаза.
— Кто, Ренци, кто, я или Тито? Кто сошел с ума?
— Ну, будет, Тито, — уговаривает Ренци кузена. — Успокойся! Успокойся! Постой здесь и присмотри за чемоданами. Я вместе с Пифагором схожу за багажом.
По дороге он в общих чертах рассказал мне печальную историю своего родственника, который два с половиной года назад женился в Форли: у него родилось двое детей и один из них через четыре месяца ослеп; это несчастье, полная невозможность содержать семью на те деньги, которые давала ему живопись, вечные ссоры с тещей и женой, женщиной глупой и эгоистичной, довели Тито до полного безумия. Теперь Ренци привез его в Рим, чтобы показать врачам и немного развлечь.
Если бы я собственными глазами не видел, в каком состоянии находится Тито, то наверняка решил бы, что Ренци, как всегда, разыгрывает меня. С чувством некоторого смущения и стыда я рассказал Ренци о недоразумении, жертвой которого я был, до самого сегодняшнего дня раскланиваясь на улицах Рима с Тито — женихом. Как ни тревожился Ренци за своего кузена, он все–таки не смог удержаться от смеха.
— Уверяю тебя, — оправдывался я. — Похож как две капли воды. Вылитый он! Три месяца мы раскланиваемся и улыбаемся друг другу. Мы стали вроде бы как приятелями. Теперь–то, конечно, я вижу разницу. Я каждый день здоровался с ним, с Тито, каким он был до того, как три года назад уехал в Форли. И знаешь, он просто вылитый Тито: смотрит, как Тито, говорит, как Тито, улыбается, как Тито, ходит, как Тито. Он, да и только! Вообрази, что почувствовал я сейчас, увидев, до чего он дошел, ведь всего лишь вчера около четырех я видел Тито, счастливого и сияющего, с невестой под ручку.
Меня никто не принимает всерьез — такова уж моя незадачливая судьба. Ренци, как я сказал, посмеялся и немного погодя, чтобы развлечь больного, рассказал ему всю эту прелестную историю. А теперь послушайте, что из этого вышло.
Сперва моя ошибка как–то очень странно поразила беднягу: пока мы ехали от вокзала до гостиницы, его воображение усиленно работало, потом, схватив меня за руку и уставившись на меня своими широко раскрытыми глазами, он закричал:
— Ты прав, Пифагор!
Я вздрогнул, но «попытался улыбнуться:
— Что ты хочешь этим сказать, дорогой Тито?
— Я говорю, что ты прав! — повторил он, не выпуская моей руки, и в его широко раскрытых глазах засверкали безумные искорки.
— Ты не ошибся. Тот, с кем ты здоровался, это я. Именно я, Пифагор, я, который никогда не уезжал из Рима, никогда! Кто утверждает обратное, тот мой враг. Я здесь, здесь, ты прав, я всегда оставался в Риме, юный, свободный, счастливый, каким ты видел меня каждый день, здороваясь со мной. Дорогой мой Пифагор, я снова дышу свободно, снова дышу! Какую тяжесть снял ты с моей души! Спасибо, милый, спасибо, спасибо... Я счастлив!
Счастлив!
— Нам приснился дурной сон, Квирино, — сказал он, обращаясь к Ренци. — Поцелуй меня! Я слышу, как в моей старой римской студии снова поет петух. Вот Пифагор, он подтвердит тебе это. Не правда ли, Пифагор? Да? Каждый день ты встречал меня здесь, в Риме... А что делаю я в Риме? Расскажи об этом, Квирино. Я художник! Художник! Покупают ли мои картины? Ты видишь, я смеюсь — значит, покупают! О!.. Все обстоит чудесно... Да здравствует юность! Я холостой, свободный, счастливый...
— А невеста? — вырвалось у меня; к несчастью, я не заметил, что Ренци, рассказывая Тито о случившемся со мной недоразумении, благоразумно опустил эту опасную деталь.
Тито вдруг помрачнел. Теперь он вцепился в меня обеими руками.
— Что ты сказал? Что такое? Я женюсь? Он испуганно взглянул на кузена. Ренци сделал мне знак.
— Да что ты! — тут же воскликнул я, желая исправить свою оплошность. — Да что ты, милый Тито! Я прекрасно знаю, что ты просто шутишь с этой сычихой!
— Шучу? А, шучу, говоришь? — в ярости наседал на меня Тито, вращая глазами и сжимая кулаки. — Где я? Где я живу? Где ты меня видел? Избей меня, как собаку, если увидишь, что я шучу с женщиной. С женщинами не шутят... Всегда начинается просто так, Пифагор! А потом... потом...
Он снова расплакался, закрыв лицо руками. Напрасно я и Ренци пытались утешить его и успокоить.
— Нет, нет, — отвечал он нам, — если я женюсь еще и здесь, в Риме, я погиб, погиб окончательно! Посмотри, Пифагор, до чего я дошел в Форли. Спаси меня, Бога ради, спаси! Во что бы то ни стало меня надо остановить! Там я тоже начал с шуток.
Его трясло как в лихорадке.
— Но ведь мы пробудем здесь всего несколько дней, — сказал ему Ренци. — Ровно столько, сколько понадобится, чтобы переговорить с некоторыми здешними господами о продаже твоих картин. А потом сразу вернемся в Форли.
— Теперь уж ничем не поможешь, — ответил Тито и в отчаянии махнул рукой. — Мы вернемся в Форли, а Пифагор будет по–прежнему встречать меня здесь, в Риме! Да и может ли быть иначе? Я всегда живу в Риме, Квирино, даже когда я далеко отсюда. Всегда в Риме, всегда в Риме, все мои лучшие годы, холостой, свободный, счастливый, такой, каким меня видел вчера Пифагор, не правда ли? А ведь вчера мы были в Форли. Скажи, разве не так?
Взволнованный, вконец расстроенный Квирино Ренци резко встряхнул головой и прищурился, чтобы не расплакаться. Никогда еще безумие его кузена не обнаруживалось с такой ужасающей очевидностью.
— Скорей же, скорей, — твердил Тито, — пойдем, отведи меня поскорее туда, где ты меня обычно встречаешь. Пойдем в мою студию, на виа Сардиния. Сейчас я должен быть там; надеюсь, что в это время там нет моей невесты.
— Но как же так? Ты здесь с нами, мой дорогой Тито! — воскликнул я с улыбкой, надеясь, что он придет в себя. — Ты это серьезно? Разве ты не знаешь, что со мной постоянно случаются всякие недоразумения? Я спутал тебя с одним очень похожим на тебя человеком.
— Нет, это я! Негодяй! Предатель! — крикнул несчастный безумец, сверкая глазами и замахиваясь на меня. — Подумай об этом бедняге. Я обманул его. Я женился, не сказав ему ничего. А теперь ты, кажется, задумал обмануть меня? Скажи правду, ты сговорился с ним? Ты с ним заодно? Хочешь втихаря женить меня? Отведи меня на виа Сардиния... А нет, так я дорогу знаю и доберусь туда сам.
Чтобы не отпускать его одного, нам пришлось пойти вместе. По пути я спросил его:
— Прости, разве ты забыл, что уже не живешь на виа Сардиния?
Он остановился, ошарашенный моим вопросом, взглянул на меня нахмурившись и сказал:
— А где же я живу? Ты должен знать это лучше меня.
— Я? Вот так здорово? Как же я могу знать, где ты живешь, когда ты сам этого не знаешь?
Ответ показался мне весьма убедительным. Я ожидал, что Тито будет им сражен. Я и не подозревал, что так называемые сумасшедшие тоже обладают тем сложным мыслительным аппаратом, который именуется логикой и работает у них превосходно, пожалуй, даже лучше, чем у нас, так как не останавливается даже перед самыми невероятными выводами.
— Я? Но ведь я даже не подозревал, что собираюсь жениться. Ты хочешь, чтобы я в Форли знал, что я делаю здесь, в Риме, один, и свободный, как когда–то? Об этом знаешь ты, ты, который видишь меня ежедневно. Идем же, идем, проводи меня. Я целиком полагаюсь на тебя.
Идя по улицам, он время от времени вопросительно поглядывал на меня, и немая мольба в его взгляде разрывала мне сердце; его взгляд говорил мне, что на улицах Рима он ищет свое второе «я», себя, свободного и счастливого, такого, каким он был в давно минувшие времена; он спрашивал, не вижу ли я чего–нибудь поблизости, он искал себя моими глазами, которые до вчерашнего дня видели его здесь.
Мною овладело тревожное беспокойство. «А что, если, к несчастью, — думал я, — мы натолкнемся на того, другого. Тито, конечно, его узнает: сходство слишком велико! Кроме того, из–за ботинок, которые скрипят не умолкая, на эту скотину все оборачиваются!» Мне казалось, что вот–вот я услышу у себя за спиной — дp, дp, дp — скрип его проклятых ботинок.
Но этого ведь могло и не произойти? Как бы не так.
Ренци зашел в магазин что–то купить. Я и Тито ждали его на улице. Вечерело. Я нетерпеливо поглядывал на дверь, в которой должен был появиться Ренци, и каждая минута ожидания казалась мне вечностью. Вдруг я почувствовал, как кто–то тянет меня за рукав, и я увидел Тито, его широко открытый рот вдруг растянулся в блаженной улыбке. Несчастный! Из его светлых, сияющих радостью глаз катились крупные слезы. Он увидел «его». Он указал мне на него, стоявшего тут же в двух шагах от нас на тротуаре.
Кроме шуток, попробуйте поставить себя на мое место. Этот господин, увидев, что на него пристально смотрят и указывают пальцем, смутился; но, заметив меня, как обычно, раскланялся. Бедняга, он был такой воспитанный! Я попытался одной рукой сделать ему украдкой знак, а другой в это время тащил прочь Тито. Но не тут–то было!
По счастью, господин понял мой жест и улыбнулся; однако он понял лишь то, что мой товарищ безумен; он не узнал себя в облике Тито, в то время как тот сразу же увидел в нем себя. Увы! Так выглядел он три года назад. Это был он сам, он наконец встретил себя таким, каким был всего лишь три года назад. Тито подошел к своему двойнику. Он восхищенно смотрел на него, нежно поглаживал ему руки, обнимал его и шептал:
— Как ты хорош... как хорош... Взгляни, а это наш дорогой Пифагор. Видишь?
Господин смотрел на меня и улыбался растерянно и испуганно. Чтобы успокоить его, я тоже печально улыбнулся. Лучше бы я этого не делал! Тито заметил, что мы обменялись улыбками и, сразу же заподозрив заговор, набросился на этого господина с угрозами:
— Не женись, дурак: ты меня погубишь! Хочешь дойти до такого же состояния, как я? Хочешь стать никчемным оборванцем? Брось эту девушку! Такими вещами не шутят, глупец! Мерзавец! Не зная жизни...
— Но в конце концов!.. — закричал бедняга, обращаясь ко мне, когда увидел, что вокруг нас собирается толпа любопытных.
— Извините... — только и успел вымолвить я. Тито перебил меня:
— Молчи, предатель!
Он дал мне пинка; потом снова обратился к тому — другому, и голос его звучал теперь мягко и вкрадчиво:
— Не надо, успокойся, пожалуйста. Выслушай меня... Я знаю, ты вспыльчив... Но я не дам тебе погубить меня еще раз.
В эту минуту, расталкивая толпу, к нам подбежал Ренци.
— Тито! — закричал он. — Тито! В чем дело?
— В чем? — ответил ему бедняга Бинди. — Посмотри на него. Вот он! Хочет жениться! Скажи ему ты, что у него родится слепой ребенок... Скажи, что он...
Ренци утащил его прочь.
Потом мне пришлось объяснить этому господину все как есть. Я ждал, что мой рассказ вызовет у него улыбку; ничего подобного. Он спросил меня испуганно:
— Так, значит, я действительно очень похож на него?
— О, сейчас нет, — ответил я. — Но если бы вы видели его здесь, в Риме, прежде, года три назад, холостого... Вылитый вы!
— Ну, будем надеяться, — ответил он, — что через три года я все–таки не окажусь в таком положении.
Я уже считал, что этим все и закончилось. Но не тут–то было, господа!
Позавчера — почти два месяца спустя после того злополучного происшествия, о котором я только что рассказал, — я получил открытку, подписанную Эрманно Леверой. В ней говорилось:
«Сударь!
Сообщите Бинди, что я последовал его совету. Я никак не могу его забыть. Он стоит перед моими глазами, точно призрак моей неминуемой участи. Я отказался от женитьбы и завтра уезжаю в Америку.
Ваш Эрманно Левера»
Вот тебе и на! Бедный молодой человек, не поздоровайся я с ним, приняв его за другого, возможно, он был бы теперь счастливым супругом... Как знать! В нашем мире возможно все, даже небольшие чудеса.
Однако, я думаю, раз эта встреча так подействовала на него и привела к подобной развязке, значит, он тоже решил, что встретил в лице Бинди себя самого, такого, каким он стал бы через три года. И пока мне не докажут обратного, я не могу с уверенностью утверждать, что господин Левера не в своем уме.
Теперь же я жду, что в ближайшие дни ко мне явятся покинутая невеста и оскорбленная теща. Даю слово, я пошлю их обеих в Форли. Бог весть, не узнают ли они себя в жене и теще несчастного Тито Бинди. Сейчас мне самому кажется, что все они действительно ничем не отличаются друг от друга, разве что слепой ребенок у них теперь не родится, если, конечно, господин Левера в самом деле уехал вчера в Америку.
СИЦИЛИЙСКИЕ ЛИМОНЫ (Перевод Э. Линецкой)
— Здесь живет Терезина?
Лакей, еще в жилете, но уже в высоченном крахмальном воротничке, оглядел с ног до головы молодого человека, стоявшего перед ним на лестничной площадке: с виду деревенщина, воротник дешевого пальто подняв так, что ушей не видно, руки посинели от холода, в одной — грязная сумка, в другой, словно для противовеса, — видавший виды чемоданчик.
— Терезина? Какая Терезина? — в свою очередь, спросил он, поднимая сросшиеся лохматые брови, больше похожие на усы, сбритые с губы и для сохранности приклеенные ко лбу.
Молодой человек мотнул головой, пытаясь стряхнуть каплю, повисшую на кончике носа.
— Терезина, певица.
— Ах, вот что! — воскликнул лакей, улыбаясь с насмешливым недоумением. — Вы ее так изволите величать? Терезина — и все? А сами–то вы кто такой?
— Дома она или нет? — спросил молодой человек, хмурясь и шмыгая носом. — Доложите ей, что приехал Микуччо, и впустите меня.
— В такое время их никогда не бывает дома, — с деланной улыбкой ответил лакей. — Госпожа Сина Марнис в театре и...
— А тетушка Марта? — прервал его Микуччо.
— Так, значит, ваша милость племянником ей приходится? — Лакей мгновенно стал воплощением учтивости. — Входите, пожалуйста, входите. Дома никого нет. Тетушка Марта тоже в театре. Раньше полуночи не воротится. Нынче бенефис госпожи... кем она приходится вашей милости? Кузиной, выходит?
Микуччо смешался и ответил не сразу:
— Нет, мы с ней... нет, она мне не кузина... Я... я Микуччо Бонавино, она знает. Мы земляки, я приехал повидать ее.
Услышав это, лакей решил, что можно обойтись обыкновенным «вы», без «вашей милости», и провел гостя в каморку возле кухни, где кто–то оглушительно храпел.
— Посидите здесь. Сейчас принесу лампу, — сказал он. Микуччо первым делом бросил взгляд туда, откуда доносился храп, но ничего не разглядел, потом начал рассматривать кухню, где повар с помощью поваренка готовил ужин. Смешанный запах горячих кушаний ударил ему в нос — у него даже голова закружилась: Микуччо приехал из заштатного городка Мессинской провинции, больше суток провел в поезде, с утра ничего не ел.
Лакей внес лампу, и существо, храпевшее за занавеской, которая висела на шнуре, протянутом от стены до стены, сонно пробурчало:
— Кто там?
— Вставай, Дорина! — громко сказал лакей. — Я привел сюда господина Бонвичино.
— Бонавино, — поправил Микуччо, согревавший в эту минуту дыханием руки.
— Бонавино, верно, Бонавино, знакомого госпожи. Ты спишь как убитая: в двери звонят, а ты и не пошевелишься. Мне надо на стол накрывать, не могу же я разорваться, слышишь? То повару объясняй, что и как, то с приезжими гостями разговаривай...
Кто–то оглушительно зевнул, потом закряхтел, потягиваясь, потом, очевидно от холода, издал звук, напоминавший ржание, — таков был ответ на замечание лакея, который удалился, воскликнув:
— Ну и ну!
Микуччо, улыбаясь, следил, как тот шел по смежной, тоже полутемной, комнате, как потом открыл дверь в огромный ярко освещенный зал, где стоял роскошно сервированный стол, в изумлении он уставился на этот стол и, только когда снова услышал храп, перевел глаза на занавеску.
Лакей, перекинув салфетку через руку, сновал взад и вперед, ворча то на Дорину, которая так и не проснулась, то на повара, нанятого, судя по всему, специально для сегодняшнего торжества и надоедавшего непрерывными требованиями объяснить то одно, то другое. Чтобы и его не сочли надоедливым, Микуччо благоразумно решил проглотить непрерывно возникавшие вопросы. Конечно, следовало бы сказать или дать понять, что он — жених Терезины, но Микуччо помалкивал, а почему — и сам не знал; скорее всего потому, что скажи он это — и лакею пришлось бы повести себя с ним, с Микуччо, как с хозяином, меж тем, глядя на него, такого непринужденного и даже в жилете элегантного, он смущался при одной мысли о подобном признании. И все–таки, когда тот в очередной раз пробегал по комнате, Микуччо не выдержал и спросил:
— Простите, а чей это дом?
— Наш, надо полагать, покамест мы в нем живем, — бросил в ответ лакей, не замедляя бега.
И Микуччо только и мог, что покачивать головой.
Значит, черт подери, это все–таки правда! Поймала фортуну за хвост! Ну и дела! Лакей — по виду важный господин, повар, мальчишка–поваренок, какая–то Дорина, которая храпит за занавеской, — и все они в услужении у Терезины! Кто бы мог подумать?..
Он мысленно представил себе убогую мансарду — там, далеко, в Мессинской провинции, где некогда жила Терезина с матерью. Пять лет назад, когда бы не он, Микуччо, мама и дочка умерли бы с голоду. И это он, он открыл сокровище, скрытое в горле Терезины! В ту пору она пела не умолкая, пела, как чирикает воробей под стрехой, понятия не имея о своем сокровище; пела от горькой досады, пела, чтобы не думать о нищете, которую он старался по мере сил облегчить, несмотря на вечные ссоры из–за этого с родителями, особенно с матерью. Но мог ли он бросить Терезину на произвол судьбы после смерти ее отца? Бросить только потому, что она осталась без гроша за душой, а он худо–бедно, но все же зарабатывал на жизнь, состоя флейтистом в муниципальном оркестре? Уважительная причина, нечего сказать! Сердцу–то ведь не прикажешь!
Да, это было поистине наитием свыше, подсказкой самой судьбы — его решение сделать ставку на голос Терезины, на который никто и внимания не обращал, решение, принятое им сияющим апрельским днем. Стоя у слухового оконца, обрамлявшего ярко–синий клочок неба, Микуччо слушал Терезину — она напевала любовную сицилийскую песенку, — и он до сих пор помнил, какие там были нежные и страстные слова. В тот день Терезина была очень печальна — отчасти из–за смерти отца, отчасти из–за упрямого сопротивления родителей Микуччо; помнится, он тоже был печален — так печален, что, слушая Терезину, не удержался от слез. А ведь она не раз пела ее, эту песенку, но с таким чувством — впервые. И до того он был потрясен, что через день, не предупредив ни Терезину, ни ее мать, привел в мансарду своего приятеля–дирижера. Тогда–то и начала она учиться пению, и два года сряду он тратил на Терезину почти все свое жалованье: взял для нее пианино напрокат, накупил нот, делал время от времени дружеские приношения учителю. Далекие прекрасные времена! Терезина горела желанием пробить себе дорогу, завоевать славу, которую предсказывал ей учитель; и какие пламенные ласки расточала она в ту пору Микуччо, стараясь выразить всю глубину своей благодарности, и какие у обоих были надежды на совместное счастье!
Меж тем тетушка Марта только горестно качала головой: так много всякого повидала в жизни бедная старуха, что ни на что уже не надеялась; она боялась за дочку, не хотела, чтобы та хоть на миг поверила в возможность вырваться из сетей смиренной нищеты, и к тому же знала, знала, как дорого обходится ему эта безумная и пагубная затея.
Но Микуччо с Терезиной все пропускали мимо ушей, и тщетно она сопротивлялась, когда молодой, но уже известный композитор, услышав ее дочь в концерте, заявил, что не дать ей настоящего музыкального образования у лучших педагогов — значит поистине совершить преступление: в Неаполь, пусть едет в Неаполь и поступит там в консерваторию, чего бы это ни стоило.
И тогда он, Микуччо, не долго думая, рассорившись с родителями, продал именьице, завещанное ему дядей–священником, и отправил Терезину в Неаполь для завершения музыкального образования.
С тех пор он ее не видел. Письма... да, письма он получал, сперва от нее, пока она училась в консерватории, потом от тетушки Марты, когда, после блистательного дебюта в театре «Сан–Карло», Терезину наперебой стали приглашать лучшие оперные театры и ее с головой захлестнула сценическая жизнь. На почтовых открытках под тщательно выведенными дрожащей рукой каракулями бедной старушки всегда была коротенькая приписка Терезины — на большее у нее не хватало времени: «Дорогой Микуччо, подписываюсь под всем, что сообщила тебе мама. Будь здоров и помни обо мне». Они заранее договорились, что Микуччо даст ей пять–шесть лет, чтобы утвердиться на сцене: им ведь не к спеху, оба молоды. И все пять лет он показывал эти письма направо и налево, стараясь опровергнуть клевету на Терезину и тетушку Марту, которую распускали его родные. Потом он заболел, чуть не отправился на тот свет; и вот тогда, без ведома и согласия Микуччо, тетушка Марта и Терезина перевели на его имя кругленькую сумму; деньги частью разошлись во время болезни, но то, что осталось, он буквально вырвал из загребущих рук родителей и теперь приехал, чтобы вернуть их Терезине. Потому что денег ему не надо — нет, нет и нет! Не из–за того, что Микуччо считал их милостыней — он ведь достаточно на нее потратился, но... нет, нет и нет! Почему? Он и сам не знал, особенно сейчас, в этом доме... только нет, нет и нет! Прождавши столько лет, можно подождать еще немного. К тому же денег у Терезины явно вволю, будущее она себе обеспечила, значит, приспело время исполнить давний их уговор назло всем маловерам.
Нахмурившись, Микуччо встал, словно чтобы утвердиться в своем решении; он опять подышал на окоченевшие руки и начал притопывать.
— Замерзли? — спросил, пробегая мимо, лакей. — Теперь уже скоро. Идите на кухню. Там согреетесь.
Микуччо не последовал совету лакея — тот слишком смущал и сбивал его с толку своим вельможным, видом. В полном унынии он сел и задумался. Немного погодя в дверь так громко позвонили, что он вздрогнул.
— Дорина, госпожа вернулась! — заорал лакей; лихорадочно натягивая фрак, он кинулся к дверям, но, увидев, что Микуччо идет вслед за ним, остановился на бегу и отдал приказ:
— Ждите здесь, пока я не доложу.
— Ой–ой–ошеньки... — раздалось сонное оханье за занавеской, и вскоре, прихрамывая, с трудом разлепляя веки, оттуда выползла толстенная особа в кое–как напяленном платье; ее крашенные в цвет золота волосы были всклокочены, шерстяная шаль натянута по самый нос.
Микуччо выпучил на нее глаза. Она, в свою очередь, удивленно воззрилась на незнакомца.
— Госпожа вернулась, — повторил за лакеем Микуччо. И тут Дорина пришла в себя.
— Сейчас, сейчас... — забормотала она, пригладила волосы, кинула шаль за занавеску и, колыхаясь всей своей грузной персоной, помчалась в прихожую.
Появление этой крашеной ведьмы и приказ лакея вселили в Микуччо, и без того подавленного, какое–то горестное предчувствие. До него донесся пронзительный голос тетушки Марты:
— Туда, в зал, в зал, Дорина!
Мимо него прошествовали Дорина с лакеем, нагруженные великолепными корзинами цветов. Он вытянул шею, стараясь разглядеть, что происходит в этом залитом светом зале, и увидел толпу мужчин во фраках, услышал гул голосов. Потом все вокруг затуманилось: до глубины души взволнованный, потрясенный, он даже не заметил, что глаза его полны слез; Микуччо зажмурился и в наступившем мраке весь внутренно сжался, стараясь справиться с режущей болью, вызванной взрывом звонкого смеха. Это как будто Терезина? Господи, над чем она так смеется?
Приглушенный возглас заставил его открыть глаза: перед ним стояла — почти неузнаваемая! — тетушка Марта; она была в шляпе — вот бедняжка! — и в тяжело обвисшей роскошной бархатной накидке.
— Микуччо? Ты?
— Тетушка Марта! — воскликнул он, не двигаясь и с некоторым испугом глядя на нее.
— Как это так? — растерянно продолжала она. — Не предупредив? Что стряслось? Когда ты приехал? Это ж надо, как раз сегодня вечером! О Боже Милостивый!
— Я приехал, чтобы... — забормотал Микуччо, не зная, что сказать.
— Погоди! — перебила его тетушка Марта. — Как же быть? Как быть? Видишь, сынок, сколько там народу? Сегодня у Терезины праздник, ее бенефис. Посиди немного здесь...
— Если вы... — выдавил из себя Микуччо: от душевной муки у него перехватило горло. — Если считаете, что мне лучше уйти...
— Да нет, говорю тебе, посиди немного здесь, — торопливо и сконфуженно пробормотала, старуха.
— Дело в том, — снова заговорил Микуччо, — что я не знаю, куда мне здесь деться... так поздно...
Сделав рукой в перчатке знак обождать, тетушка Марта прошла в зал, который, как показалось Микуччо, сразу обезлюдел, такая там наступила тишина. Потом он услышал отчетливый звучный голос Терезины:
— Простите, господа...
Он подумал, что вот сейчас она придет сюда, и у него снова потемнело в глазах. Но она не пришла, и в зале снова стало шумно. Зато через несколько бесконечно долгих минут вернулась тетушка Марта, уже без перчаток, без шляпы и накидки и не такая сконфуженная.
— Подождем немножко здесь, хорошо? — сказала она. — Я побуду с тобой. Они там ужинают. А мы побудем здесь. Дорина накроет на этом столике, поужинаем вдвоем, вспомним доброе старое время, ладно? Просто не верю, что это ты, сыночек, здесь, со мной... ты да я! Видишь, сколько там господ собралось... Она, бедняжечка, иначе никак не может... Сам понимаешь, карьера требует... А какую она сделала карьеру! Ты ведь читал в газетах? Прямо неслыханную, сынок! Но я... я до сих пор как рыба на песке... Просто не верится, что проведу сегодняшний вечер с тобой!
Старуха все говорила, говорила не умолкая, бессознательно стараясь отвлечь его внимание, потом наконец улыбнулась, потирая руки, растроганно глядя на него.
Вошла Дорина и накрыла на стол, явно торопясь, потому что там, в зале, ужин уже начался.
— Она придет? — отрывисто и тревожно спросил Микуччо. — Удастся мне хоть взглянуть на нее?
— Конечно, придет, — скороговоркой произнесла старушка, с трудом скрывая смущение. — Сразу, как улучит минутку, — она сама мне это сказала. — Глаза их встретились, и они оба улыбнулись, словно наконец узнали друг друга. Казалось, их сердца, победив волнение и неловкость, обменялись приветствиями. «Вы — тетушка Марта», — говорили глаза Микуччо. «А ты — Микуччо, мой дорогой, мой хороший сынок, и ничуть ты не изменился, бедняга», — отвечали глаза тетушки Марты. Но почти сразу она потупилась, чтобы он не прочел в них лишнего.
— Закусим? — снова потирая руки, спросила она.
— Я голоден как волк! — воскликнул Микуччо, успокоившись и повеселев.
— Первым делом перекрестимся: при тебе я могу себе это позволить. — И, лукаво подмигнув, тетушка Марта осенила себя крестом.
Появился лакей с первым блюдом. Микуччо напряженно следил за тем, как старуха накладывает себе еду, но, когда очередь дошла до него, он, поднимая руки, вдруг вспомнил, какие они у него грязные после долгой езды в поезде, покраснел, сконфузился и взглянул на лакея, а тот, образец учтивости, слегка кивнув головой, улыбнулся, приглашая угощаться. К счастью, на помощь пришла тетушка Марта.
— Погоди, я хочу поухаживать за тобой.
Он был так благодарен, что чуть не расцеловал ее тут же. Когда с раскладыванием кушанья было покончено и лакей ушел, Микуччо тоже торопливо перекрестился.
— Молодец, сынок, — похвалила его тетушка Марта.
И он сразу почувствовал уверенность, блаженное спокойствие, забыл о своих грязных руках и о лакее и принялся есть с таким аппетитом, словно всю жизнь голодал.
Но всякий раз, когда лакей, бегая взад и вперед, распахивал стеклянную дверь зала и оттуда доносился смутный гул голосов или громкий смех, Микуччо взволнованно оборачивался, а потом смотрел в скорбные и любящие глаза старухи, пытаясь прочесть в них объяснение. Но читал только мольбу ни о чем сейчас не расспрашивать, отложить разговор на после. И они снова улыбались друг другу и продолжали есть, беседуя о далеком своем городе, о друзьях и знакомых, и расспросам; тетушки Марты не было конца.
— Почему ты не пьешь?
Он потянулся за бутылкой, но тут дверь зала вновь распахнулась: шуршание шелка, торопливые шаги и такое сияние, словно каморку внезапно залили ярким светом для того, чтобы ослепить Микуччо.
— Терезина...
Слова замерли на губах, так он был потрясен. Королева, воистину королева!
Весь красный, выпучив глаза, раскрыв рот, он остолбенело уставился на нее. Может ли быть, чтобы она... вот так?... Голая грудь, голые плечи, голые руки... в переливчатом блеске тканей и драгоценностей... Она стоит перед ним, и все равно это не она, не настоящая. Что в ней от прежней Терезины? Ни голоса, ни глаз, ни смеха — он ничего не узнавал в этом точно во сне привидевшемся существе.
— Как поживаешь, Микуччо? Ты совсем выздоровел? Вот молодчина! Ведь ты, если не ошибаюсь, болел? Мы поболтаем с тобой, но попозже... А сейчас посиди с мамой... Хорошо?
И Терезина умчалась в зал, шурша шелками.
— Что ж ты не ешь? — нарушив молчание, робко спросила тетушка Марта, чтобы хоть немного привести его в себя.
Но он даже не взглянул? на нее.
— Поешь, пожалуйста, — настаивала старушка, указывая на тарелку.
Двумя пальцами Микуччо оттянул измятый, перепачканный паровозной копотью воротничок — ему не хватало воздуха.
— Поесть?
И несколько раз провел рукой под подбородком, точно благодарил ее и давал понять: сыт по горло, больше не лезет. Снова помолчал, униженный, подавленный только что явившимся ему видением, потом прошептал:
— Какая она стала...
И тетушка Марта горестно кивнула в ответ и тоже отодвинула тарелку, будто все знала наперед.
— Смешно и думать... — добавил он, как бы размышляя вслух, и закрыл глаза.
И в этой тьме отчетливо увидел пропасть, разделившую их. Нет, это была не она — вон та, в зале, — не его Терезина. Все кончено, все давно уже кончено, и только он один, болван несчастный, ничего не понимал. Сколько раз ему говорили об этом там, на родине, но он упрямо отказывался верить. И теперь каким чучелом выглядит он здесь, в ее доме! Если бы эти господа и даже этот лакей, если бы они узнали, что он, Микуччо Бонавино, приехал из такой дали, тридцать шесть часов провел в поезде, всерьез считая себя женихом этой королевы, как бы они хохотали — и эти господа, и этот лакей, и повар, и поваренок, и Дорина! Как бы хохотали, если бы Терезина притащила его в зал на всеобщее обозрение и воскликнула: «Смотрите, этот дурачок, этот жалкий флейтист говорит, что хочет жениться на мне!» Правда, она Сама Дала ему слово, но могла ли она представить себе, что когда–нибудь станет вот такой? Правда и то, что это он открыл ей путь, помог вступить на него, но теперь она уже ушла так далеко, так далеко, что он, оставшийся на месте, по–прежнему играющий на флейте по воскресеньям на городской площади, может ли он рассчитывать настигнуть ее? Смешно и думать... И потом, что значат эти жалкие гроши, потраченные когда–то на нее, ставшую теперь такой важной дамой? Его кинуло в жар при одной мысли, что кто–то может заподозрить, будто он и приехал только для того, чтобы предъявить свои права на оплату за те мизерные гроши. И тут он вспомнил, что в кармане у него деньги, посланные Терезиной во время его болезни. Он залился краской, так ему стало стыдно, и сразу полез во внутренний карман пиджака за бумажником.
— Я еще и для того приехал, тетушка Марта, — скороговоркой сказал он, — чтобы вернуть вам те деньги, которые вы прислали. Вернуть, уплатить долг, называйте как хотите. Вижу, Терезина стала теперь... да, мне показалось — передо мной королева! Вижу... ладно, даже и думать смешно! Но деньги — нет уж, увольте, этого я от нее не заслужил. Все кончено, тут и говорить не о чем, но деньги — увольте! Мне только одно неприятно, что я возвращаю не сполна.
— Что ты такое говоришь, сынок! — горестно, со слезами на глазах, попыталась его прервать тетушка Марта.
Микуччо сделал ей знак замолчать.
— Не я их истратил, истратили мои родители, когда я был болен и понятия ни о чем не имел. Но пусть они пойдут в уплату за ту мелочь, которую я истратил... помните? И довольно об этом. Тут все, что не разошлось тогда. А теперь я ухожу.
— Как уходишь? Что на тебя нашло? — воскликнула тетушка Марта, стараясь его удержать. — Подожди, я хотя бы предупрежу Терезину. Ведь она же тебе сказала, что хочет еще повидать тебя. Сейчас пойду к ней...
— Нет, это ни к чему, — твердо сказал Микуччо. — Пусть остается с теми господами, ее место там. А я, горемыка... еще раз повидал ее, с меня, и довольно... Лучше и вы... идите к ним и вы... Слышите, как они смеются? Не хочу, чтобы смеялись надо мной. Я ухожу.
В неожиданном решении Микуччо тетушка Марта усмотрела самое для себя тягостное: знак презрения, порыв ревности. Ей, бедняжке, теперь вечно чудилось, что при виде ее дочери все сразу начинают подозревать худшее, то самое, из–за чего она так много и так безутешно плакала, из–за чего втайне терзалась среди сутолоки этого ненавистно–роскошного существования, которое постыдно пятнало ее и без того утомленную старость.
— Но ведь мне, сынок, — вырвалось у нее, — мне уже не уберечь ее...
— Почему? — спросил Микуччо и тут же стал мрачнее тучи, прочитав в глазах старушки ответ, который до сих пор не приходил ему в голову.
Сломленная горем, тетушка Марта закрыла лицо дрожащими руками, но справиться с хлынувшими слезами не смогла.
— Да, да, уходи, сынок, уходи... — всхлипывала она. — Ты прав, не для тебя она теперь... Если бы вы меня послушались тогда!..
— Значит... — крикнул Микуччо, бросаясь к ней и силой отрывая одну ее руку от лица, но она приложила палец к губам, таким скорбным, таким униженным взглядом моля о пощаде, что он овладел собой и совсем другим тоном, стараясь приглушить голос, сказал: — Ах, так, значит, она... она уже не достойна меня. Ладно, ладно, теперь я сам уйду... Значит, еще и это... Какой же я болван, тетушка Марта, ни о чем не догадывался! Не плачьте... Что поделаешь! Карьера, как говорится, карьера...
Он вытащил из–под стола чемоданчик и сумку и направился к выходу, но вдруг вспомнил, что в сумке лежат чудесные лимоны, купленные перед отъездом для Терезины.
— Ох, посмотрите, тетушка Марта! — сказал. он. Развязав сумку и одной рукой придерживая ее, Микуччо высыпал на стол налитые ароматные плоды, потом добавил: — А не запустить ли мне ими в головы вон тех благородных господ?
— Ради Бога! — простонала старушка, все еще плача, и жестом снова попросила его замолчать.
— Ну, ну, успокойтесь, — горько посмеиваясь, сказал Микуччо и спрятал пустую сумку в карман. — Я привез их в подарок ей, но сейчас оставляю вам одной, тетушка Марта. — Он выбрал лимон и поднес его к носу старухи. — Понюхайте, тетушка Марта, понюхайте, как пахнет наша родина. Подумать только, я ведь даже пошлину за них заплатил!.. Ладно. Но помните, вам одной. А ей от моего имени скажите: «Желаю удачной карьеры!»
Подхватил с пола чемоданчик и ушел. Но на лестнице вдруг пал духом: один–одинешенек ночью в огромном чужом городе, так далеко от родных мест, обманутый, униженный, опозоренный... Он вышел на крыльцо — дождь лил как из ведра. У него не хватило мужества пуститься в путь по незнакомым улицам под таким проливнем. На цыпочках Микуччо вернулся, поднялся по лестнице на один марш, сел на верхнюю ступеньку, облокотился о колени, обхватил голову руками и беззвучно заплакал.
Когда все отужинали, Сина Марнис снова зашла в каморку. Ее мать тоже заливалась слезами в одиночестве, меж тем как из зала доносились веселые голоса и смех гостей.
— Он что, уже ушел? — удивленно спросила она.
Не поднимая на нее глаз, тетушка Марта кивнула головой. Сина постояла, задумчиво уставившись в пространство, потом вздохнула:
— Бедняга...
И тут же, без перехода, улыбнулась.
— Погляди, — сказала ее мать, уже не утирая слез салфеткой, — какие он привез тебе лимоны.
— Ой, какие дивные! — подпрыгнув, воскликнула Сина. Прижав руку к груди, она другой рукой стала накладывать на нее лимоны.
— Не надо, слышишь, не надо! — возмущенно запротестовала мать.
Но Сина, пожав плечами, бегом бросилась в зал, выкрикивая: — Сицилийские лимоны! Сицилийские лимоны!
ПОХИЩЕНИЕ (Перевод В. Федорова)
Сидя верхом на осле, Туарнотта покачивался в такт движениям животного, будто сам шагал по дороге; ноги его, не продетые в стремена, и в самом деле едва не чертили дорожную пыль.
Как всегда, он возвращался в этот час со своего поля, расположенного на выступе плоскогорья, откуда открывался вид на море. Осел, такой же старый, грустный и усталый, как его хозяин, натужно вышагивал в гору. Бесконечная дорога петляла по склону холма, на вершине которого теснились, налезая друг на друга, ветхие домишки.
Все крестьяне уже возвратились с полей, и дорога была пустынна. Если бы кто–нибудь встретился старику, то наверняка поздоровался бы с ним. Слава Богу, его тут все знали и уважали.
Для Гуарнотты весь мир был таким же пустынным, как эта дорога, а его собственная жизнь — пепельно–серой, как опускавшиеся сумерки. Когда он смотрел на голые ветви деревьев над потрескавшимися камнями ограды, на запыленную листву смоковниц, выстроившихся в ряд, на кучи щебня у обочины, которые никто не собирался разравнивать на изрытой, ухабистой дороге, ему казалось, что все вокруг оцепенело в тишине и безлюдье, что над всем нависла безысходная и бесконечная тоска, которая томила его душу. Чувство безысходности усиливала тишина, мягкой пылью осевшая на дорогу, так что не слышно было даже цокота ослиных копыт. А сколько этой дорожной пыли каждый вечер приносил Гуарнотта домой! Когда он снимал и отдавал жене свой пиджак, та, держа его на вытянутой руке, показывала поочередно шкафу, кровати, комоду и стульям и отводила душу такими восклицаниями:
— Ну, посмотрите–ка! Вы только посмотрите! Да на нем можно пальцем рисовать узоры!
Если бы она сумела убедить мужа не надевать хотя бы в поле этот черный суконный костюм! Она специально заказала для него три (три!) бумазейных.
Гуарнотта, стоявший без пиджака перед женой, готов был вцепиться зубами в три узловатых пальца, которые та яростно совала ему под самый нос. Но, будучи по характеру незлобивым, ограничивался тем, что бросал на нее косой взгляд — пусть себе болтает. Пятнадцать лет тому назад у него умер единственный сын, и он дал обет одеваться только в черное. Стало быть...
— Да в поле–то на что тебе траур? Давай нашью черную полоску на рукав бумазейного пиджака. Ведь прошло уже пятнадцать лет, хватило бы и черного галстука!
Что с ней толковать! Разве не проводит он каждый божий день на своем поле у моря? В деревне уж много лет его никто и не видал. Стало быть...
— Что стало быть?
А стало быть, если он не будет носить траур по сыну в поле, где же еще его носить?
— Господи Боже, хоть бы подумал, прежде чем ляпать что попало.
В сердце? Вот удружила! Будто в сердце я его не ношу! Но я–то хочу носить его еще и на себе...
— Ну да, чтобы, его видели деревья или птицы небесные...
А ведь и правда: сам он одежду у себя на плечах не видит. Да что жена так расходится? Не самой же ей выколачивать и чистить щеткой этот костюм каждый вечер? Есть ведь служанки, целых три на двоих. Денег жалко? Один костюм в год — восемьдесят или девяносто лир. Великое дело! Могла бы понять, что распускать язык ей не подобает. Она его вторая жена. А покойный сын был от первого брака! Родственников у Гуарнотты нет, даже дальних, и после, его смерти все его добро (которого немало) достанется ей и ее внукам. Так придержала бы язык, хотя бы из благоразумия. Да где уж! Если б она это поняла, то не была бы тем, что она есть...
Вот почему Гуарнотта весь день проводил на своих полях у моря. В одиночестве, среди деревьев, под легкий шелест листвы, под глухое неторопливое ворчанье моря возделывал он полосу за полосой и научился понимать тщету всего на свете, научился видеть томительную тоску человеческой жизни.
До селения оставалось меньше километра. С колокольни церкви неслись негромкие размеренные звуки вечернего благовеста. И вдруг на крутом повороте дороги:
— Стой! Слезай!
Из темных кустов выскочили трое мужчин. У каждого на лице была повязка, в руках — ружье. Один схватил осла за недоуздок, другие два в мгновение ока стащили старика с седла и повалили на землю, затем один из них, прижав коленом к земле ноги Гуарнотты, связал ему руки, а другой наложил ему на глаза сложенный в несколько раз платок и затянул его концы узлом на затылке.
Старик успел Только вымолвить:
— Вы что, ребята?
Его поставили на ноги и повлекли, яростно подталкивая, Дергая за руки, в сторону от дороги, вниз по каменистому склону, в долину.
Больше, чем рывки и толчки, Гуарнотту пугало тяжелое дыхание тех людей, что творили над ним насилие. Раз они дышат, как загнанные звери, значит, собираются совершить над ним что–то ужасное.
Однако сразу убивать его они, судя по всему, не хотели. Если б они выполняли чей–то приказ или вершили вендетту, то покончили бы с ним там, на дороге, пристрелив его из засады. Стало быть, его захватили в плен, чтобы получить выкуп.
— Ребята...
Те еще пуще стали толкать его и дергать, снова велели ему молчать.
— Ну ослабьте хоть малость повязку! Глаза выдавливает. Не могу больше...
— Шагай!
Сначала под гору, потом в гору, вперед, назад, опять под гору, в гору и в гору. Куда они его тащат?
Гуарнотта задыхался от этого бега вслепую по камням, сквозь кусты; его по–прежнему толкали и дергали, в голове бурлил водоворот мыслей и чувств, мелькали картины одна другой страшнее, и все же (странное дело!) он видел перед собой огни, первые огни деревни, свет керосиновых ламп, зажигавшихся там, на вершине холма, — огоньки, в окнах и на улицах, причем видел он их такими же, какими они были перед тем, как на него напали, какими он видел их каждый вечер, возвращаясь с поля, и теперь он видел их (странное дело!) так отчетливо, будто на глазах его не было тугой повязки и будто он шел прямо на эти огоньки. Так он и шел, дергаясь от толчков и спотыкаясь о камни, шел, обуреваемый страхом, и нес в себе мирные и грустные огоньки, а с ними и весь холм, всю деревню, где никто не подозревал, какое насилие чинят сейчас над ним, где каждый спокойно и не спеша занимался привычным делом.
В какой–то момент он услышал торопливое цоканье ослиных копыт.
— Вон оно что!
Значит, они тащат с собой и его старого, усталого помощника. Да этому–то что! Чувствует, наверно, бедняга, непривычную грубость, но идет, куда ведут, а что и к чему — не понимает. Если б остановились хоть на минуту, если б разрешили Гуарнотте говорить, он им спокойно сказал бы, что отдаст все, чего они хотят. Не так уж много ему осталось жить, чтобы он за малую толику денег, которые теперь уже не приносили ему никакой радости, пошел на такую муку, которую приходится терпеть сейчас.
— Ребята...
— А ну, тихо! Шагай!
— Да не могу я больше! Зачем вы со мной так? Я же готов... — Молчи! Потом поговорим... Иди!
И он шел, повинуясь их приказу, шел целую вечность. Наконец совсем изнемог от усталости и боли в глазах из–за тугой повязки, ноги его подкосились, и он потерял сознание.
Гуарнотта пришел в себя лишь под утро в какой–то пещере с низким сводом и почувствовал, что его насквозь пропитал острый запах плесени, который исходил, казалось, даже от мертвенно–бледных рассветных лучей.
Тусклый свет едва–едва пробивался сквозь небольшое отверстие в глиняной стене, служившее входом в пещеру, но все же этот свет хоть как–то смягчал терзавший Гуарнотту кошмар воспоминаний о минувшей ночи, о сценах жестокости, которые он припоминал как бы сквозь сон, о сценах слепой, звериной жестокости, проявленной к нему: когда он уже не мог держаться на ногах, его то несли по очереди, взвалив, как куль, на плечи, то бросали на землю и тащили волоком, то несли вдвоем за руки и за ноги.
Где он теперь?
Гуарнотта прислушался. Снаружи — как будто безмолвие горных высей. На какой–то миг ему показалось, что он висит в пустоте. Но пошевелиться он не мог. Лежал на земле, как забитый баран, со связанными ногами. Руки и ноги отяжелели, словно налитые свинцом, голова гудит. Может, он ранен, и его здесь бросили, сочтя мертвым?
Но нет: снаружи доносились голоса. Значит, судьба его еще не решена. Однако о том, что с ним произошло, он думал уже не как об опасности, которая еще не миновала, от которой надо во что бы то ни стало избавиться. Нет. Он знал, что от беды не уйти, и у него почти не было желания предпринять что–то для избавления от нее. Для него беда уже произошла, она осталась где–то в прошлом, чуть ли не в другой жизни, в той жизни, которую, быть может, и надо было спасать, если б так не отяжелели руки и ноги, если б не разламывалась от боли голова. Теперь все на свете стало ему безразлично. Прежняя жизнь — жалкая и никчемная — осталась внизу, далеко–далеко, там, где его схватили, а здесь — высь, пустота и тишина, от которой он давно отвык.
Если бы его сейчас отпустили, ему недостало бы сил, а может, и желания спуститься в долину и продолжать свою прежнюю жизнь.
Но нет — какая–то глубокая нежность, жалость к самому себе вдруг шевельнулась в нем, и он содрогнулся от страха, когда увидел, как в пещеру вползает на четвереньках один из трех, и лицо его по–прежнему скрыто под красной повязкой с прорезью для глаз. Гуарнотта бросил взгляд на его руки — оружия не было. В одной руке — незаточенный карандаш из самых дешевых. В другой — мятый листок почтовой бумаги и конверт. Гуарнотта вздохнул с облегчением и невольно улыбнулся.
В пещеру вползли остальные двое, также с замотанными лицами. Один из них приблизился к Гуарнотте и развязал ему руки, только руки. Вошедший первым сказал:
— Пишите! И не вздумайте валять дурака!
Голос показался Гуарнотте знакомым. Ну конечно, это же Сухорукий, его так прозвали, потому что у него одна рука короче другой. Что ж, тогда... Но он ли это? Гуарнотта взглянул на руки говорившего. Он самый. Старик тотчас узнал бы и остальных двух, не будь они в масках. Он знал всех в округе. И он ответил:
— Сами вы не валяйте дурака, ребята! Кому я напишу? И чем? Этим, что ли?
Он указал на карандаш.
— Ну да! Это же карандаш.
— Карандаш–то карандаш. Да вы же не знаете, как им пользуются.
— А что?
— Его сначала надо очинить.
— Очинить?
— Ну да, перочинным ножиком заточить его конец.
— Перочинным?.. Ха! И Сухорукий повторил:
— Не валяйте дурака, черт побери!
— И я говорю: не валяй дурака, Сухорукий.
— А–а! — вскричал тот. — Вы меня узнали!
— Посуди сам: ты прячешь лицо, а руку оставляешь на виду! Сними платок и погляди мне в глаза. Это со мной ты так обходишься?
— Хватит болтать! — заорал Сухорукий, яростно рванув с лица повязку. — Я вам сказал, не валяйте дурака! Пишите, не то я вас пристукну!
— Да ладно, я согласен, — сдался Гуарнотта. — Только очините карандаш. И дайте мне сказать... Вам нужны деньги, ребята, верно? Сколько же?
— Три тысячи унций!
— Три тысячи? Ничего себе!
— У вас они есть! Не прибедняйтесь!
— Три тысячи унций?
— Да еще и побольше.
— Может, и побольше. Но не в сундуке, не наличными. Мне придется продать земли, дома. И вы думаете, это можно сделать за день–другой, да еще в мое отсутствие?
— Тогда пусть вам их кто–нибудь одолжит!
— Кто?
— Ну, ваша жена, внуки!
Гуарнотта горько улыбнулся и чуть приподнялся на локте.
— Вот что я вам скажу, — продолжал он. — Вы дали маху, ребята. Рассчитываете на мою жену да на ее внуков? Если хотите убить меня, это одно дело: я здесь — убивайте, тут говорить не о чем. Но коли вам нужны деньги, это дело другое: их вы можете получить только от меня, если отпустите меня домой.
— Ну, вот еще! Домой! Вас самого! Да что мы, дураки? Смеетесь, что ли?
— Что ж, тогда Сухорукий яростным движением выхватил у товарища почтовую бумагу и повторил:
— Хватит болтовни! Сказано вам — пишите! Вот карандаш... Ах да, его очинить нужно. А как это делается?
Гуарнотта объяснил, и трое, переглянувшись, направились к выходу. Увидев, как они пробираются на четвереньках — совсем по–звериному, — Гуарнотта снова улыбнулся. Он подумал, что если они, выйдя из пещеры, примутся втроем очинять карандаш, то как бы они не стали тесать его, как кол, и не срезали бы весь. Думая об этом, Гуарнотта улыбался, а ведь жизнь его, быть может, зависела от этого смешного затруднения, возникшего у тех троих при выполнении непривычной для них операции: обозлившись на то, что карандаш разломался на кусочки в их руках, они могли вернуться и показать ему, что их ножи, не очень пригодные для очинки карандашей, вполне годятся для того, чтобы перерезать ему глотку. Он поступил неправильно, допустил непростительную ошибку, когда сказал Сухорукому, что узнал его. Вот слышно, как они там ворчат, переругиваются, чертыхаются... Видно, передают друг другу этот злосчастный грошовый карандаш, а тот становится все короче. Бог знает, что за ножи в их грубых, перепачканных глиной ручищах...
Один за другим все трое вернулись в пещеру — ничего не вышло.
— Никудышное дерево, — сказал Сухорукий. — Дерьмо! Вы ведь умеете писать, так нет ли у вас часом хорошего, заточенного карандаша?
— Карандаша у меня нет, ребята, — ответил Гуарнотта. — Да и писать–то бесполезно, честное слово. Ну, я напишу, если будет чем, но кому? Жене и внукам? Они же ее внуки, а не мои, понимаете? И никто из них на письмо отвечать не станет, можете не сомневаться; они сделают вид, будто никакого письма и никакого вымогательства не было — и дело с концом. Чтобы получить с них деньги, вам не к чему было нападать на меня, наоборот — вы могли пойти к ним и сказать: за столько–то — ну, допустим, за тысячу унций — мы вашего старика прикончим. И то бы вам не заплатили: смерти моей они, конечно, хотят, но только я уже старый, вот они и ждут ее не сегодня завтра, Господь Бог пошлет им ее бесплатно, зачем деньги тратить? Так неужели вы всерьез надеетесь получить с них хотя бы медный грош за то, что оставите меня в живых? Тут вы сплоховали. Жизнь моя может быть дорога только мне самому. Но и мне она не дорога, клянусь вам; однако мне, конечно, не хотелось бы Умереть вот так, лютой смертью; и только потому, что я такой смерти не хочу, я обещаю вам и клянусь бессмертной душой моего сына, что дня через три–четыре, как только смогу, я сам принесу вам деньги туда, куда укажете.
— Но сначала донесете на нас.
— Клянусь, не донесу! Словом ни с кем не обмолвлюсь! Дело–то идет о моей жизни!
— Это сейчас. А как выйдете на свободу? Домой не заходя, пойдете доносить.
— Нет, клянусь вам. Чего ж вам мне не верить? Ведь я каждый день хожу на поля. А там моя жизнь в ваших руках. И я всегда был с вами как отец. Вы же меня уважали, а теперь, Бог ты мой... Ну неужели вы думаете, что я рискну завести кровных врагов? Поверьте мне, отпустите меня домой и будьте уверены, деньги вы получите...
Они ему не ответили. Снова посмотрели друг на друга и на четвереньках поползли наружу.
В течение всего дня он их больше не видел. Сначала слышно было, как они о чем–то говорят недалеко от пещеры, потом все стихло.
Он ждал, перебирал в мыслях все возможные предположения по поводу того, что же они решили. Одно он считал несомненным: он попал в руки глупцов, новичков, совершивших, наверно — лучше сказать, наверняка, — свое первое преступление.
Они сунулись в это дело как слепые, не подумав об отношении к нему членов семьи, они видели перед собой только деньги. Теперь, когда поняли, что совершили ошибку, они уже не знают, вернее, еще не додумались, как ее исправить. Его клятве, что он на них не донесет, никто из троих не поверил, а уж Сухорукий, которого он узнал, и подавно. Что же теперь будет?
Теперь ему можно было лишь надеяться, что никого из похитителей не охватит раскаяние в бессмысленном и безрезультатном поступке, ибо за раскаянием придет и желание уничтожить последствия этого опрометчивого шага и вернуться на стезю добродетели; для него, Гуарнотты, лучше, чтобы произошло обратное: пусть все трое предпочтут ступить на путь преступления, жить вне закона, потому что тогда им будет незачем уничтожать следы первого преступления, беря на душу лишний грех. Ведь если эти три обормота признают свою ошибку, но решат остаться в бандитах, они вполне могут его пощадить и отпустить домой, не боясь доноса; если же они раскаются и пожелают вернуться на стезю добродетели, тогда им обязательно надо его убить, ибо они не сомневаются, что он донесет на них.
Получалось, что Бог должен помочь ему, внушив похитителям, как невыгодно для них оставаться порядочными людьми. Убедить их в этом не так трудно: они уже проявили добрую волю к тому, чтобы стать на путь зла, — захватили Гуарнотту в плен. Но следовало опасаться, как бы их разочарование не оказалось слишком глубоким и не привело их к раскаянию, к желанию сойти с пути, где они оступились при первом шаге. Чтобы повернуть вспять, чтобы замести следы неудачного начала, им, по логике вещей, надо было совершить злодеяние, это верно; но если они его не свершат, разве не будут они вынуждены, следуя той же логике, пуститься во все тяжкие, искать других злодеяний? Тогда уж лучше обойтись одним, первым и последним, которое останется в тайне и не повлечет наказания, а не разбойничать в открытую, рискуя головой. Если они совершат одно–единственное преступление, у них еще останется надежда на спасение: грех останется на душе, а перед людьми они будут чисты; если же преступления не совершать, они погибнут безвозвратно.
Результатом этих мучительных раздумий явилась уверенность в том, что не сегодня завтра; а может, и этой самой ночью, во время сна, его прикончат.
День прошел, и в пещере стало совсем темно.
Тут Гуарнотта подумал, что усталость и безмолвие могут оказаться сильнее его страха перед сном, и его охватил озноб, в нем пробудился животный инстинкт самосохранения, и, несмотря на то что его руки и ноги были связаны, он пополз к выходу, упираясь в землю локтями и извиваясь, как червяк; ему нелегко было заставить себя, вопреки обуявшему его животному страху, двигаться по возможности бесшумно. Да к чему все это? Чего он достигнет, высунув, подобно ящерице, голову из норы? Да ничего! Увидит хотя бы небо и ее увидит, свою смерть, встретит ее лицом к лицу, не станет дожидаться, пока его предательски умертвят во время сна. Только и всего.
Ага, вот... Тихо! Луна, что ли? Да, молодая луна и звезды, звезды... Какой вечер! Где же это я? На горе... Тут и воздух другой, и тишина! Это, видно, гора Кальтафарачи или Сан–Бенедетто... А там, значит, равнина Консолида или Клеричи? Так и есть, а вон там, к западу, гора Арапецца. Но тогда огоньки, что мерцают вдали, будто искорки в опаловом море лунного света... Ну конечно, это Джирдженти! Так, значит... Бог ты мой, до селения рукой подать! А ведь шли, шли, и дороге конца не было...
Старик посмотрел по сторонам: его почти испугала мысль о том, что вдруг все ушли и оставили его одного. На светлом фоне сочащегося лунным светом неба четко вырисовывался темный силуэт одного из троих: страж застыл, сидя на корточках над глинистым обрывом, как огромный сыч. Спит, что ли?
Гуарнотта попытался высунуться немного подальше наружу, но замер, услышав голос своего караульщика, который, не меняя позы, произнес:
— Я за вами смотрю, дон Виче! Полезайте обратно, не то буду стрелять.
Старик затаил дыхание, словно надеясь, что тот сказал это наугад и усомнится в правильности своего подозрения, но снова услышал:
— Я за вами смотрю. Тогда он сказал:
— Дайте мне немного подышать воздухом. Там и задохнуться недолго. Я хочу пить.
Тот повернулся к пленнику и угрожающим тоном предупредил:
— Если хотите тут побыть, так придержите язык. Я сам пить хочу и не ел с утра. Помалкивайте, не то затолкаю обратно.
И снова тишина. И лунный свет над покоем горных долин... Здесь хоть воздух чистый, легко дышится... А там, вдали, теплые огоньки родной деревни...
Но куда ушли остальные двое? Может, поручили этому третьему прикончить пленника ночью? А почему не сразу? Чего он ждет? Пока придут товарищи?
Гуарнотту подмывало заговорить, но он сдержался. Если они так и порешили, то к чему...
Он снова глянул на своего стража — тот застыл в прежней позе. Кто же это? По голосу напоминает одного человека из Гротте, большого поселка на серных копях! Неужели это действительно он, Филлико? Парень что надо, самостоятельный, жадный до работы, не болтун... Плохо дело, если это он! Если уж такой молчун и упрямец сошел со стези добродетели — дело плохо.
Гуарнотта не стерпел и каким–то чужим голосом, Совсем бесстрастным, ровным, исходившим будто бы не из его уст, произнес:
— Филлико...
Тот не шелохнулся.
Гуарнотта подождал минуту, затем повторил тем же бесстрастным тоном, устремив взор на свой палец, чертивший узоры на песке:
— Филлико...
И тут по спине его пробежал холодок: он подумал, что, упрямо повторяя это имя, как будто даже невольно, он в конце концов схлопочет себе пулю.
Но его страж и на этот раз не шелохнулся. Тогда Гуарнотта, устало вздохнув, выдохнул из себя. всю смертную муку своего отчаяния и уронил на песок голову, будто она налилась свинцом и он уже не в силах был ее держать. Так, уткнувшись лицом в песок, который забивался ему в рот, словно павшей скотине, он говорил, говорил безостановочно, как в бреду, говорил вопреки запрету, рискуя получить пулю. Он говорил о том, как хороша молодая луна, которая вот–вот спрячется за гору; говорил о звездах, которые Господь–Творец поместил так далеко, чтобы ни одна тварь животная не догадалась, что каждая звездочка — огромный мир, намного больше Земли; говорил и о Земле: только звери не знают, что она крутится, как волчок, и добавил еще, вроде себе в утешение, что вот сейчас где–то люди ходят вверх ногами и не падают на небо, а почему не падают, это обязан знать или хотя бы стараться узнать любой живой человек, если он не из совсем сырой глины, на которую еще не дохнул Господь Бог.
В середине этой лихорадочной речи Гуарнотта вдруг сообразил, что говорит об астрономии будто какой–нибудь профессор, что караульщик подошел к нему поближе и сел рядом, у входа в пещеру, что это был–таки Филлико из Гротте, и оказалось, что Филлико давно хотел узнать о таких вещах, хотя не очень–то верил в то, что они на самом деле существуют, — зодиак... Млечный Путь... туманности...
Ну да. Все это верно. Но вот почему, когда человеку уж невмоготу, когда нет сил даже на отчаяние, он способен на всякие нелепые поступки? Почему он может под дулом ружья как ни в чем не бывало выковыривать грязь из–под ногтей былинкой, заботливо и внимательно следя, как бы эта былинка не сломалась и не погнулась, или же сунуть палец в рот и ощупывать последние зубы — три резца... один клык — ив это же время самым серьезным образом размышлять о том, трое или четверо детей у соседа–бочара, овдовевшего две недели тому назад.
— Давай говорить серьезно. Скажи, ты думаешь, я травинка, черт побери? Вот вроде этой, которую сломать — плёвое дело? Да ты потрогай меня! Из плоти и крови я, святая мадонна! Бог мне, как и тебе, дал душу, понимаешь, душу! А вы что же, хотите зарезать меня сонного? Да нет... ну, постой... куда ты? Вот оно как: пока я тебе про звезды говорил... Послушай, режь меня тут в открытую, а не во время сна, как предатель... Что? Не хочешь отвечать? А чего ты ждешь? Чего вы ждете, скажи на: милость? Денег вам не получить, держать меня здесь вы не сможете, отпустить не хотите... Хотите убить? Так убейте, разрази вас гром, и делу конец!
С кем Гуарнотта говорил? Филлико уже снова сидел над обрывом, нахохлившись, как сыч, и тем самым давал понять, что об этих вещах он ничего и слышать не хочет — что проку?
Гуарнотта подумал, что и сам он хорош: зачем лезть на рожон? Разве не лучше, чтоб они его прикончили во сне, раз УЖ так решили? Если он еще не уснет, когда они вползут на четвереньках в пещеру, ему надо закрыть глаза и притвориться спящим. Да что там, при чем тут глаза?! В темноте смотри, сколько хочешь. Лишь бы ты не двигался, когда будут на ощупь искать у тебя глотку, как у барана. Старик сказал:
— Доброй ночи.
И пополз обратно в пещеру.
Однако они его не убили.
Поняв свою ошибку, похитители не захотели ни отпустить его, ни убить. Они решили оставить его в пещере.
Это как же? На веки вечные?
Как будет угодно Богу. На него они уповают: он сам назначит им срок наказания за ошибку, которую они совершили, похитив Гуарнотту.
Но чего же они, собственно говоря, хотят? Чтобы он умер своей смертью тут, на горе? Так, что ли?
Именно так.
— Тогда при чем же тут Бог? Не Бог меня убьет, скоты вы эдакие, а вы сами — я умру от голода, жажды и холода, умру, оттого что валяюсь в этой пещере связанный, как баран, сплю на земле и тут же справляю нужду, как свинья!
Да что толку было в его речах — все трое препоручили себя Господу Богу, и теперь старик взывал к камням.
К тому же неправдой было, что он умирает от голода и спит на земле. Они притащили три снопа соломы и сделали ему ложе и еще принесли чье–то старое пальто, чтоб ему было чем укрыться от холода. Ну и, конечно, хлеб и еще какую–нибудь еду каждый день. Отрывали от себя, от своих жен и детей, но его кормили. И это был хлеб, действительно добытый в поте лица, потому, что каждый день кто–то из них сторожил пленника, так что двое работали за троих. В глиняном кувшине всегда была питьевая вода, а добывать воду в горах — дело нелегкое. Нужду справлять можно снаружи, когда стемнеет.
— Это как же? У тебя на глазах?
— Я на вас не смотрю.
Перед лицом такого глупого твердокаменного упрямства Гуарнотте хотелось затопать ногами и зареветь, как младенцу. Да что они — истуканы? Да?
— Признаете вы или нет, что сваляли дурака? Они признавали.
— Признаете, что вам за это и расплачиваться?
Да, они будут расплачиваться тем, что не убьют его, подождут, пока он не умрет своей смертью, по воле божьей, а меж тем постараются, как могут, облегчить его страдания.
— Вот спасибо–то! Но это же из–за вас, чурбаны вы неотесанные, это все из–за того зла, что вы сотворили, вы сами это признаете! А я? Я–то при чем? Что дурное я сделал? Я или не я — жертва вашей глупости? Так что же вы заставляете и меня расплачиваться за зло, содеянное вами? Вы согрешили, а я — страдай? Хорошо же вы рассуждаете!
Нет, они не рассуждали. Слушали его безучастно, устремив на него ничего не выражающий взгляд, их каменные лица оставались неподвижны. Тут вам и солома... и пальто... и кувшин с водой... и хлеб, добытый в поте лица... а до ветру выходите наружу.
Разве они не несли тягот, разве один из них не оставался здесь, чтобы караулить его и составлять ему компанию? И они просили его рассказывать о звездах и о всяких вещах из жизни города и деревни, о добрых старых временах, когда в людях больше было настоящей веры, и о разных болезнях растений, о которых прежде, когда веры было больше, никто и не слыхал. Они даже разыскали Бог знает где и принесли ему старый выпуск «Барбанеры», чтобы он мог коротать время за чтением, раз уж он такой счастливчик — знает грамоту.
— Ну, что там? О чем рассказывает эта книжица, где нарисовано столько всякой всячины: целая куча лун, весы, рыбы, скорпион?
Они слушали его жадно, открыв рот, и время от времени выражали свое восхищение изумленными возгласами. Ему по душе был их ребячий восторг... как нечто живое, порожденное им самим, порожденное всем, что он в своих рассказах открывал заново и для себя, как нечто, порожденное его душой, которая пробудилась от многолетней спячки под гнетом его прежнего жалкого бытия.
И он понял, что втягивается в эту жизнь, к которой был вынужден приспособиться, когда утихла его ярость пред лицом необоримой силы, и теперь он уже не считал эту жизнь временной, хотя она и оставалась для него неопределенной, странной и как будто взвешенной в пустоте.
Для всех, кто был там, на дальнем поле, выходящем к морю, и в селении, огни которого он видел вечерами, — для всех он давно уже умер. Наверно, никто не взял на себя труд пуститься на его розыски, когда он так загадочно исчез; если и поискали, то без особого старания, ибо никто не жаждал его найти.
Сердце его усохло и отвердело, как глина на склоне горы; что ему было делать теперь в той, прежней жизни? Стоило ли оплакивать все то, чего он здесь был лишен, если возместить эту утрату можно было лишь ценой возвращения к горькой тоске прежней жизни? Разве прежде не влачился он по той тошнотворной жизни с тяжким гнетом на плечах? Здесь, по крайней мере, он распростерт на земле, и влачиться уже не надо.
Здесь, в тиши горных высей, дни его текли как бы независимо от общего потока времени, без всякой цели, без всякого смысла. Он ощущал себя висящим в пустоте, и даже внутренняя жизнь замерла в нем: его спина и глиняная стена у входа, на которую он откидывался, были вещами, действительно существовавшими для него, а вот его рука, если он задерживал на ней взгляд, представлялась ему существовавшей как бы сама по себе, вне его, подобно вот этому камню или вон тому кусту.
Кроме того, стал он замечать, что уже не считает случившееся с ним таким большим несчастьем, как ему казалось поначалу из–за возмущения несправедливостью; он стал признавать, что, оставив его в живых, те трое наложили на себя действительно тяжелое, суровое наказание.
Для всех он был мертв и только для этих троих оставался живым, для них он по–прежнему влачил груз своей прежней бесполезной жизни, от которого он в душе ощущал себя освобожденным. Им ничего не стоило уничтожить этот груз, который потерял уже всякую ценность и никому не был нужен; но они этого не сделали, нет, они оставили пленника в пещере, поддерживали, смирившись с епитимьей, наложенной ими на себя, и не только не роптали, но и делали, по сути дела, всё, чтобы усугубить свое наказание заботами о нем. А как вы думаете, почему? Да потому, что они к нему привязались, все трое, ведь он принадлежал им, только им и больше никому, и тяготы, связанные с его содержанием, непонятно почему приносили им удовлетворение, отсутствие которого они сразу ощутили бы, хотя потребность в таком удовлетворении и не осознавали.
Однажды Филлико привел к пещере свою жену, державшую на руках грудного младенца, и дочь, которая цеплялась за юбку матери. Девочка вручила «дедушке» аппетитный крендель.
Оторопело смотрели на Гуарнотту мать и дочь. Уже прошел, как видно, не один месяц после похищения, и Бог знает, на кого он стал похож: грязный, оборванный, обросший клочковатой бородой... Но он улыбался, желая оказать им радушный прием, потому что был им благодарен за посещение и за чудесный крендель. Может быть, как раз улыбка на лице призрака вызвала оторопь у доброй женщины и девочки.
— Ну что ты, малышка, поди сюда... подойди... Держи, на, съешь и ты кусочек, ешь... Это мама испекла?
— Мама...
— Молодец! А братишки у тебя есть? Трое? О, бедняга Филлико, четверо детей... Ты как–нибудь приведи мальчишек, хочу с ними познакомиться. Ладно, пусть на будущей неделе. Но, даст Бог, до будущей–то недели и не дотянем...
Дотянули. И не только до следующей недели. Долгим, ох каким долгим сделал Господь их наказание: растянул его еще на два месяца!
Умер Гуарнотта в воскресенье, погожим вечером, когда на горе было еще совсем светло. В тот день Филлико и Сухорукий привели своих сыновей навестить дедушку. В кругу детей он и умер, до последней минуты шутил с ними, спрятав седые космы под красным платком, будто снова стал мальчишкой.
Трое мужчин подошли и подняли его, когда среди смеха и общего веселья он вдруг рухнул на землю.
Неужели умер?
Мальчики боязливо отступили. Их отправили вместе с женщинами по домам. А трое мужчин преклонили колени и стали оплакивать усопшего, молиться за него, а кстати и за себя. Потом похоронили его в пещере.
До конца своих дней каждый из них, когда при нем вспоминали Гуарнотту и его загадочное исчезновение, говорил:
— Это был святой! Он наверняка отправился прямехонько в рай, тут и говорить нечего!
Конечно, ведь они знали, что сами устроили ему чистилище там, на горе.
ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ (Перевод Н. Трауберг)
Тартана, которую дядюшка Нино Mo назвал в честь первой своей жены «Филиппой», входила в порт Эмпедокле. Пламенел закат, прекрасный закат Средиземноморья; в сказочном великолепии огней и красок переливалась и трепетала бесконечная водная гладь. Горели стекла разноцветных домиков, сверкало мергелевое плоскогорье, отливал золотом песчаный берег, и единственным темным пятном по соседству с молом выступали мрачные очертания древнего замка.
Минуя узкий проход между двумя рифами, матросы увидели, что вся пристань, от замка до белой башни маяка, кишит народом, и народ этот что–то кричит, размахивает беретами и платками.
Конечно, ни дядюшке Нино, ни его матросам не могло прийти в голову, что это их так встречают, хотя, казалось, крики и бурные жесты относятся именно к ним. Должно быть, сюда вошла какая–нибудь флотилия миноносцев, сейчас она собирается поднять якоря, и население ее приветствует — ведь не каждый день удается повидать настоящий военный корабль.
Дядюшка Нино Mo на всякий случай распорядился спустить паруса и ждать пароходика, который должен был взять «Филиппу» на буксир.
Паруса спустили; тартана медленно скользила между рифами по перламутровой глади воды; и любопытные юнги проворно, как белки, полезли наверх — один на ванты, другой на самую верхушку мачты, третий на рею.
Вон идет буксир, очень быстро, а за ним множество лодок, и они чуть не тонут, столько в них народу набилось, кричат все, размахивают руками, показывают куда–то...
Значит, это все–таки их встречают? Столько народу? И такой шум? Может быть, тут думали, что они погибли?
Команда кинулась на нос, навстречу лодкам — скорее узнать, о чем это так кричат. Пока что можно было разобрать только одно слово:
— Филиппа! Филиппа!
Дядюшка Нино Mo спокойно стоял в стороне. Он один не выказывал любопытства, не двигался с места и невозмутимо смотрел из–под низко надвинутого берета, прищурив, как всегда, левый глаз. Этот глаз был косой. Наконец он вынул изо рта свою пенковую трубку, сплюнул, пригладил тыльной стороной руки жесткие рыжие усы и остроконечную бородку, резко повернулся к юнге и приказал звонить к вечерней молитве.
Он провел в плаваньях всю жизнь, глубоко верил в Промысел Божий, смиренно переносил все превратности судьбы, и крики толпы всегда возмущали его.
При первом ударе колокола он снял берет, обнажив лысую голову, едва прикрытую легким рыжеватым пушком. Он перекрестился и собрался было начать молитву, как вдруг увидел, что матросы бегут к нему и орут как сумасшедшие:
— Дядюшка Ни! Дядюшка Ни! Жена ваша! Тетка Филиппа! Жива! Вернулась!
Дядюшка Ни оторопел; он испуганно обвел их взглядом и понял, что это правда, а не наваждение. На его лице мгновенно сменили друг друга гримасы тупого непонимания, недоверия, ужаса, радости. Потом, внезапно придя в бешенство, он оттолкнул напиравших на него матросов, схватил одного из них за грудь и стал яростно трясти, крича:
— Что? Что? — И подняв руки, как будто защищаясь от опасности, кинулся он к носу тартаны, навстречу прибывшим; они оглушительно кричали и махали ему руками. Он отпрянул, опасаясь подтверждения новости (а может быть, внезапного желания броситься в воду?), и опять обернулся к своим, словно просил помочь или удержать его. Жива? Как так жива? Вернулась? Откуда вернулась? Когда? Он не мог говорить, только знаками просил спустить канат, да, да, поскорей. Канат спустили, он крикнул: — Ну, держите! — крепко ухватился за него, подтянулся и ловко, как обезьяна, вскарабкался на буксир, откуда уже спешили помочь ему.
Команда тартаны разочарованно и сердито смотрела ему вслед. Потом, боясь упустить редкое зрелище, матросы стали кричать, чтобы подобрали канат и прицепили тартану к буксиру. Никто не обратил на них внимания; все шлюпки устремились за буксиром, на борту которого дядюшка Нино Mo растерянно слушал сбивчивый рассказ о воскресении своей первой жены. Три года тому назад она поехала в Тунис к умирающей матери, и все думали, что она погибла, как и все пассажиры, — корабль пошел ко Дну, — а вот, оказывается, нет, не погибла, спаслась: сутки пробыла в воде, на доске, потом ее подобрал русский пароход; по пути в Америку она сошла с ума от страха и два года восемь месяцев сидела в сумасшедшем доме в Нью–Йорке; потом выздоровела, пошла в консульство и через три дня уехала сюда — через Геную.
Дядюшка Нино Mo под градом этих фраз, сыпавшихся на него со всех сторон, моргал косыми глазами; левое веко судорожно подергивалось, и все лицо искажалось, как от уколов булавкой.
С одной из шлюпок крикнули: «Две жены завел, вот молодец!» — и грубо захохотали. Он стряхнул оцепенение и обвел толпу презрительным, недобрым взглядом. Жалкие черви! Не раз видел он из бесконечной дали моря, как они исчезают на горизонте. Вот они, сбежались, ждут не дождутся! Толкаются, орут как бесноватые. Интересно им поглядеть на человека, которого встречают две жены. Да, им смешно, а ему–то каково! Ведь его жены — родные сестры. Как они друг друга любили! Старшая, Филиппа, заменила Розе родную мать, и после свадьбы ее не оставила, взяла к себе в дом, как дочку. Так что Роза, с самой их свадьбы, жила в его доме. И вот, когда Филиппа пропала, он подумал: «Кто ж еще будет так заботиться о маленьком?» Вот он и женился на младшей сестре, все честь честью. А теперь? Теперь–то что делать?. Филиппа пропала, а Роза давно его жена, и к тому же беременна, на четвертом месяце. Да, тут есть над чем посмеяться! У одного мужа две жены, да еще сестры друг другу, да еще у обеих от него дети! Вон она, вон стоит на пристани. Вон она, Филиппа! Вон она! Живая! Машет ему рукой — видно, хочет ободрить. Другой рукой обнимает беднягу Розу; та плачет, дрожит, убивается, стыдно ей. А кругом хохочут, хлопают в ладоши, беретами размахивают — ждут.
Дядюшка Нино Mo затрясся от ярости. Хоть бы утонуть, тут же, на месте! Он подумал было заставить гребцов повернуть назад. Бежать надо, далеко, подальше, навсегда. Но тут же он понял, что не сможет противостоять этой враждебной силе и этим людям. Внезапно что–то оборвалось у него внутри, в ушах зашумело, в глазах стало темно. Потом он увидел, что голова его покоится на груди воскресшей жены. Она была выше его на голову — длинная, худая, лицо у нее было смуглое, суровое, она всем походила на мужчину — жестами, голосом и походкой. Выпустив его из объятий, она на глазах у всех толкнула его к Розе, чтобы он и ее обнял. А та, бедняжка, не сводила с него светлых, прозрачных глаз, похожих на полные слез озера. Оглушенный криками, не помня себя от стыда и горя, он с трудом подавил рыдание, наклонился к трехлетнему ребенку, взял его на Руки и в бешенстве зашагал по дороге, крича:
— Домой! Домой!
Обе женщины пошли следом, а за ними по бокам и даже впереди двинулась толпа. Филиппа поддерживала за плечи Розу, вела ее, защищала; ей приходилось поминутно оборачиваться, огрызаться на шутки и насмешки. Время от времени она наклонялась к сестре и громко говорила ей:
— Ну, не реви! Тебе вредно! Вот, вот так, молодец! Чего тут плакать? Все в руках божьих. Все хорошо будет. Ну, не реви, не реви, не реви ты! Все устроится. Бог не оставит.
Потом оборачивалась и кричала то тому, то другому:
— Ну, что тут такого? Видите — не подрались, не поругались, все у нас тихо. Мы люди мирные.
Когда дошли до замка, пламя заката уже померкло, пурпурное небо посерело, и народ потихоньку стал расходиться. Многие зажгли фонари и свернули на широкую дорогу, в сторону города; но все–таки большая часть последовала за ними вдоль берега, мимо рыбачьих хижин, в Балате, где жил дядюшка Нино. У дома все остановились — посмотреть, что же станут делать эти трое. Как будто можно было что–то решить вот так, на ходу.
Домик был низенький, без окон. И от этой толпы любопытных, сгрудившейся у дверей, в комнате стало еще темней и еще труднее дышать. Однако ни дядюшка Нино, ни беременная его жена не посмели ничего сказать; тень этой толпы омрачала их души, и они, или по крайней мере Роза, не видели способа избавиться от этой тяжести. Только тетка Филиппа обо всем позаботилась. Она зажгла лампу, поставила ее на стол, уже накрытый к ужину, и подошла к дверям.
— Опять уставились! — крикнула она. — Чего стоите? Посмотрели, посмеялись — и ладно. Мы в своих делах сами разберемся. Шли бы лучше домой.
Тогда народ стал понемногу отходить от дверей, отпуская последние шуточки. Правда, многие все–таки притаились на берегу, в темноте, поглядеть, что будет.
Любопытство было особенно возбуждено потому, что все знали безупречную честность, крайнюю богобоязненность, примерное поведение дядюшки Нино Mo и обеих сестер.
Новое доказательство этих качеств не заставило себя: ждать. Всю ночь входная дверь была открыта настежь. Печально темнел морской берег, изрезанный крохотными бухтами; маслянисто поблескивала плотная, темная вода; уныло торчали черные рифы, разъеденные приливом, липкие, поросшие водорослями, иногда одинокая волна перекатывалась через них и сразу же катилась обратно, низвергалась маленьким водопадом. И всю ночь из дверей хижины струился желтый свет лампы. Всякий, кто проходил мимо открытой двери, мог видеть, что сперва все четверо ужинали; потом обе женщины стояли на коленях, а дядюшка Нино сидел у стола, подперев рукой щеку, и все молились; потом ребенок лежал, скорчившись, на супружеском ложе, вторая жена, беременная, примостилась на полу, склонив голову на тюфяк, а те двое, дядюшка Нино и тетка Филиппа, тихо беседовали за столом, друг против друга; потом они присели на пороге, и все говорили, тихо–тихо, в темноте, при слабом свете звезд, под медленный плеск воды.
Наутро дядюшка Нино и тетка Филиппа, никому не сказавшись, отправились искать жилище. Они сняли лачужку на самом краю селения, по дороге на кладбище, в горах; перевезли туда кровать, столик, два стула, а к вечеру и саму Розу, вторую жену, беременную. Роза заперла двери, а они молча вернулись домой, в Балате.
Вся округа жалела Розу. Нехорошо они сделали! Вышвырнули женщину из дому! Одну, в таком положении. Подумать только, в таком положении! И как у них духу хватило? Разве она в чем провинилась? Конечно, закон так велит... только какой закон? Турецкий это закон! Нет, нет уж, Бог свидетель, не по совести они поступили! Не по совести!
Многие тут же отправились поговорить с дядюшкой Нино. Он ходил по пристани, наблюдал за погрузкой (тартана готовилась к плаванию) и был еще мрачнее, чем всегда.
Он не остановился, даже не обернулся, только надвинул свой берет на самые глаза (один глаз открыт, другой закрыт) и, не выпуская изо рта трубки, резко пресек все требования и обвинения:
— Не ваше дело!
Сухо обошелся он и с теми, кого называл «начальством» — с маклерами, торговцами, лавочниками. Правда, с ними он все–таки был чуть помягче:
— Всяк по–своему живет, синьор, — говорил он. — Это дела семейные. В таких делах один Бог судья.
Через два дня он ушел в плаванье; но даже своей команде не сказал ничего.
Пока его не было, сестры жили вместе, в старом доме. Жили они дружно, мирно, вместе возились по хозяйству и смотрели за мальчиком. А на расспросы соседей разводили руками, поднимали глаза к небу и печально улыбались:
— Как Бог велит, кума.
— Как Бог велит, куманек.
Вместе отправились они на пристань встречать тартану. Малыш шел посередине. На этот раз любопытных было немного. Сойдя на берег, дядюшка Нино поздоровался с обеими сестрами, молча поцеловал сына, взял его на руки и пошел к дому; жены отправились следом. Но теперь в дом вошла Роза, вторая, беременная. А Филиппа с мальчиком тихо ушли в домик, что по дороге на кладбище.
И тут вся округа поняла, что Розу жалеть нечего — никто ее не обижал. Все пришли в ярость. Возмущала разумная простота этого решения. Правда, сперва открытие ошеломило всех, потом — рассмешило. Но, посмеявшись, все возмутились. В глубине души никто не мог отрицать, что лучше не придумаешь — ведь ни одна не обманывала, ни одна не виновата, обе законные его жены перед Богом и перед людьми. Особенно раздражало полное спокойствие, согласие, глубокое смирение набожных сестер. Они не ревнуют, не завидуют. Понятно, Розе ревновать нечего; она сестре всем обязана, и потом, как ни говори, она все–таки завладела чужим мужем. Вот Филиппа — другое дело. Хотя и Филиппе обижаться не на что, Роза ее не обманывала и ни в чем перед ней не провинилась. Так как же тогда? Значит, обе они соблюдали святость брака, обе верны своему долгу по отношению к хозяину, кормильцу. Кстати, сам он домой почти не заходил, на суше бывал дня два–три в месяц.
Да, тут ничего не скажешь. Все честь по чести... А все–таки, хоть и честно, хоть и мирно они порешили — что–то тут не так.
И как только дядюшка Нино вернулся во второй раз, мировой судья вызвал его к себе, чтобы сообщить ему со всей строгостью, что двоеженство преследуется законом.
Прежде чем идти к судье, дядюшка Нино посоветовался с адвокатом и потому выслушал наставления с обычной своей невозмутимостью. Потом он возразил, что в данном случае о двоеженстве говорить нельзя, поскольку в бумагах сказано, что первая жена умерла, и по закону у него только одна жена, Роза. «А превыше закона человеческого, — заключил он, — есть закон Божеский, и я из него не выходил».
Были у него неполадки и в мэрии, куда каждые пять месяцев он аккуратно являлся регистрировать рождение ребенка. «Этот от мертвой», «Этот — от живой».
Когда он пришел в первый раз — зарегистрировать ребенка от Розы, все сошло хорошо. Филиппа недавно приехала и по закону числилась мертвой. Но как быть со вторым, через пять месяцев, от Филиппы? Она ведь мертвая. Так что или тот незаконный, или этот.
Дядюшка Нино Mo почесал затылок, сдвинул берет на самый нос и сказал чиновнику:
— А... прошу прощенья, нельзя будет его записать как будто от второй?
Чиновник удивленно уставился на него:
— Как так от второй? Да ведь пять месяцев только прошло...
— Это верно, это верно, — согласился дядюшка Нино, скребя в затылке. — Как же тут быть?
— Как тут быть? — вскипел чиновник. — Это вы меня спрашиваете, как быть? А вы кто такой будете? Султан? Паша? Может быть, бей? Кто вы такой, интересно знать? Надо было раньше думать, черт вас дери, а не морочить мне голову! Сами хороши!
Дядюшка Нино Mo отшатнулся от него и ткнул себя пальцем в грудь:
— Я? — закричал он. — А что же мне делать, если на то воля Божья?
Тут чиновник рассвирепел:
— Бог! Бог! Бог! Все Бог да Бог! Умер кто — Бог взял! Не умер — Бог миловал! Ребенок родился — Бог послал! Две жены завел — тоже Бог! Да хватит вам все на Бога валить! Черт вас дери, приходите хотя бы раз в девять месяцев. Я вам всех запишу как следует, все будут законные!
Дядюшка Нино Mo выслушал его спокойно. Потом сказал: — Это уж от меня не зависит. Вы делайте, как вам будет угодно. Я свой долг выполнил. Честь имею.
И каждые пять месяцев он выполнял свой долг, твердо веря, что такова воля Божья.
ПОДУМАЙ, ДЖАКОМИНО! (Перевод Я. Лесюка)
Вот уже три дня, как дом профессора Агостино Тоти покинули радость и покой, на которые он, по его мнению, имел теперь полное право.
Профессору уже под семьдесят, и при всем желании его красивым не назовешь: он почти карлик, его несоразмерное, лишенное шеи туловище на двух паучьих ножках венчает огромная лысая голова... Да, да! Профессор Тоти это прекрасно сознает и не питает никаких иллюзий: разве его хорошенькая жена Маддаленина, которой не исполнилось еще двадцати шести лет, может любить его?
Правда, он взял ее из бедной семьи и возвысил до себя: дочь служителя лицея стала супругой ординарного профессора естественных наук, который через несколько месяцев должен получить право на высшую пенсию. Мало того, два года тому назад на него, точно манна небесная, неожиданно свалилось крупное состояние: брат профессора Тоти, который много лет назад уехал в Румынию, умер там холостяком и оставил ему в наследство почти двести тысяч лир.
Однако профессор Тоти считает, что не это дает ему право на радость и покой. Он философ и понимает, что одних только материальных благ недостаточно для молодой и красивой женщины.
Если бы наследство было получено им до брака, он, пожалуй, мог бы еще требовать, чтобы Маддаленина проявила некоторое терпение, то есть дождалась бы его уже недалекой смерти и только после этого вознаградила бы себя за жертву, которую она принесла, выйдя за него замуж. Но, увы, эти двести тысяч лир были получены слишком поздно — через два года после свадьбы, когда... когда профессору Тоти пришлось философски признать, что одной пенсии, которую он в один прекрасный День получит, а затем оставит своей жене, оказалось недостаточно, дабы компенсировать принесенную ею жертву.
Профессор Тоти давно уже примирился со всем этим и полагает, что теперь благодаря весьма значительному наследству он больше, чем когда–либо прежде, имеет право на покой и на радость в собственном доме. Тем более что, будучи человеком благожелательным и мудрым, он не ограничился тем, что облагодетельствовал свою супругу, но пожелал также облагодетельствовать... да, да, именно его, славного Джакомино, одного из лучших своих учеников, юношу скромного, порядочного, деликатного и к тому же красивого, белокурого и кудрявого, точно ангел.
Разумеется, разумеется, он все сделал, обо всем позаботился, старый профессор Агостино Тоти! Джакомино Делизи болтался без дела, собственная праздность огорчала и унижала его, и профессор Тоти подыскал ему место в Земельном банке, куда поместил двести тысяч лир, полученные в наследство.
В доме теперь есть ребенок, ангелочек двух с половиной лет, и старик привязан к нему всей душою, словно влюбленный в своего господина раб. Каждый день, сразу же после занятий в лицее, он спешит домой и покорно выполняет все капризы своего маленького тирана. По правде говоря, получив наследство, он мог бы уйти на покой, отказаться от своей пресловутой пенсии и все время отдавать малышу. Но нет! Это было бы грешно! Он должен нести свой крест до конца, как бы ни было это тяжко! Ведь он женился единственно для того, чтобы облагодетельствовать свою жену, а между тем супружество это стало для него нескончаемой мукой.
Да, профессор вступил в брак с этой юной особой с одним только намерением — облагодетельствовать ее, и любит он свою супругу, можно сказать, по–отечески, особенно с того времени, как родился ребенок... Насколько ему было бы приятнее, если бы малыш называл его дедушкой, а не папой! Бессознательная ложь, слетающая с чистых, невинных уст младенца, заставляет его страдать; ему кажется, что это оскорбляет его собственную любовь к ребенку. Но ничего не поделаешь! Вслед за поцелуем с непорочных уст Нини слетает это слово «папа», вызывающее насмешки недобрых людей; они не способны понять нежность, которую он испытывает к этому невинному существу, и ощущение счастья, которое приносит ему сознание того, что он, Тоти, делал и продолжает делать добро молодой женщине, и славному юноше, и малышу, а также и себе, и себе, конечно! Какое это счастье — прожить последние свои годы в радости, в кругу милых твоему сердцу людей и, шествуя к могиле, чувствовать в своей руке теплую ручку ангелочка!
Однако они смеются, смеются над ним, все эти злобные люди! Какой жалкий, какой глупый смех! А все потому, что они не понимают... Потому что они не могут представить себя на его месте... Они видят только смешную, даже гротескную сторону его положения, не умея проникнуть в его подлинные чувства!.. Но что ему до них! Ведь он же счастлив!
Только вот уже три дня...
Что, собственно, произошло? У жены глаза распухли и покраснели от слез; она жалуется на сильную головную боль и не выходит из своей комнаты.
— Ах, молодежь!.. Молодежь!.. — вздыхает профессор Тоти, покачивая головой, и на губах у него появляется грустная и проницательная улыбка. — Какое–нибудь облачко... мимолетная гроза...
И вместе с Нини он слоняется по дому, печальный, встревоженный, даже немного раздраженный, ибо... по правде сказать, он не заслужил такого к себе отношения ни со стороны жены, ни со стороны Джакомино. Молодые никогда не считают дней: у них еще много времени впереди... Но для несчастного старика потеря каждого дня — это тяжкая утрата!
А ведь уже целых три дня по вине жены он места себе не находит; Маддаленина не радует его больше песенками и романсами, которые она обычно распевает своим страстным звонким голосом, и не выказывает по отношению к нему той заботы, к какой он уже успел привыкнуть.
Нини тоже задумчив и серьезен, как будто понимает, что маме сейчас не до него. Профессор водит его за ручку из комнаты в комнату, и при этом старику почти не приходится наклоняться — настолько он мал ростом; он подносит ребенка к фортепиано, несколько раз наугад ударяет по клавишам, отдувается, зевает, потом садится, устраивает малыша у себя на коленях и, сидя, пускается вскачь, но затем внезапно встает — он чувствует себя как на угольях. Он уже раз пять или шесть пытался вызвать на откровенность свою молодую жену, но тщетно.
— Голова все еще болит? Ты себя все так же дурно чувствуешь?
Маддаленина по–прежнему не хочет ему ничего рассказать, она только плачет, просит притворить ставни и унести ребенка из комнаты: ей хочется побыть одной, в темноте.
— Голову сильно ломит? Да?
Бедняжка, у нее так мучительно болит голова... Эх, должно быть, ссора между ними произошла нешуточная!
Профессор Тоти отправляется на кухню и пробует завести разговор со служанкой, чтобы выпытать у нее хоть какие–нибудь сведения; однако он не знает, как к ней подступиться, ибо служанка ему враг: она, как и все остальные, злословит на его счет, позорит его, дура несчастная! Старику так ничего и не удается у нее узнать.
И тогда профессор Тоти принимает героическое решение: отводит Нини к матери и просит, чтобы она одела его потеплее.
— Зачем? — спрашивает Маддаленина.
— Я пойду с ним гулять, — отвечает профессор. — Сегодня праздник... Бедный малыш скучает дома!
Мать не соглашается. Она знает, что скверные люди всегда насмехаются, когда видят старого профессора с ребенком; ей известно даже, что какой–то злобный наглец осмелился сказать ее мужу: «До чего же сынок похож на вас, профессор!»
Однако Тоти упорствует:
— Нет, мы пойдем гулять, мы непременно пойдем гулять... И вместе с малышом он направляется к дому Джакомино Делизи. Юноша живет у своей незамужней сестры, она заменяет ему мать. Не подозревая об истинной причине благодеяний профессора Тоти, синьорина Агата была сначала весьма ему признательна; теперь же, напротив, эта ханжа считает его сущим дьяволом — ни больше ни меньше, — ибо он толкнул ее Джакомино на смертный грех.
Профессор Тоти звонит, и ему приходится довольно долго ждать, пока откроют дверь. Синьорина Агата подошла к дверям, поглядела в щелку и убежала. Она, без сомнения, хочет предупредить брата о визите, сейчас возвратится и скажет, что Джакомино нет дома.
Вот и она. В черном платье, тощая, хмурая, с восковым лицом, на котором выделяются синие круги под глазами; едва приоткрыв дверь, она, дрожа от негодования, обрушивается на профессора:
— Вот вы как... позвольте... выходит, его теперь не оставляют в покое даже дома?.. Что я вижу?! И ребенка привели? И ребенка с собой привели?
Профессор Тоти не ожидал подобного приема; он просто оторопел, затем взглянул на синьорину Агату, перевел взор на малыша, растерянно улыбнулся и пробормотал:
— Но... в чем дело?.. Что произошло?.. Я не могу... не могу прийти к...
— Его нет! — ответила Агата резко и сухо. — Джакомино нет дома.
— Превосходно, — кивнул головой профессор Тоти. — Однако вы, синьорина... прошу прощения... вы встречаете меня так, что... и не знаю, как это понять! Кажется, ни вашему брату, ни вам я не причинил...
— Видите ли, профессор, — сказала несколько мягче синьорина Агата, — мы, что и говорить, весьма... весьма вам признательны, но вы должны также понять...
Профессор Тоти прищурил глаза, снова улыбнулся, поднял руку и несколько раз ткнул себя кончиком пальца в грудь, как будто говоря, что уж кто–кто, а он–то прекрасно все понимает.
— Я уже стар, синьорина, — сказал он, — и понимаю... многое понимаю! Но прежде всего, мне представляется, никогда не следует поддаваться гневу, и когда возникают недоразумения, то лучше всего объясниться начистоту... да, да, объясниться, синьорина, объясниться начистоту, ничего не утаивая и не горячась... Разве не так?
— Конечно, так... — растерянно подтвердила синьорина Агата.
— А посему, — продолжал профессор Тоти, — позвольте мне войти и позовите сюда Джакомино.
— Но его дома нет!
— Вы опять за свое?! Зачем вы мне говорите, что его нет дома? Джакомино здесь, и вы должны тотчас же позвать его. Мы с ним все спокойно обсудим! Я уже стар и все понимаю, потому что и я ведь был когда–то молодым, синьорина. Мы с ним все спокойно обсудим, так и скажите ему. А теперь позвольте мне войти.
В скромной гостиной профессор Тоти опустился на стул и усадил к себе на колени Нини; ему пришлось довольно долго ожидать, пока сестра уговаривала Джакомино.
— Сиди спокойно, Нини... мой хороший! — говорил старик время от времени ребенку, которому непременно хотелось подойти к столику, где так заманчиво сверкали фарфоровые безделушки; между тем профессор терялся в догадках, что за нелепая и, видимо, серьезная ссора могла произойти в его доме, и притом так, что он даже ничего не заподозрил. Ведь Маддаленина такая добрая! Что дурного могла она совершить? Чем могла она вызвать столь сильное негодование даже у сестры Джакомино?
Профессор Тоти, до сих пор полагавший, что речь идет о мимолетной размолвке, начал теперь не на шутку тревожиться.
А вот наконец и Джакомино! Господи, до чего у него взволнованное лицо! Какой взъерошенный вид! Но что это? Как он смеет? Он холодно отстраняет малыша, который бросился к нему навстречу, протягивая ручонки и радостно крича: «Джами! Джами!»
— Джакомино! — сурово, восклицает пораженный в самое сердце профессор Тоти.
— Что вы хотели мне сказать, профессор? — быстро спрашивает Джакомино, избегая смотреть в глаза старику. — Я нездоров... Я лежал в постели... Мне трудно говорить, и мне сейчас не до гостей...
— Но ведь ребенок!..
— Ах, да... — спохватывается Джакомино, наклоняется и целует малыша.
— Ты себя дурно чувствуешь? — продолжает профессор, слегка успокоенный этим поцелуем. — Я так и предполагал, потому и пришел сам. У тебя голова болит, да? Садись, садись... Давай немного побеседуем. Пойди сюда, Нини... Ты слышал, что Джами бобо? У него голова болит... да, дорогой, у нашего Джами головка болит... Будь умником, мы скоро пойдем домой. Я хотел спросить тебя, — прибавляет старик, поворачиваясь к Джакомино, — говорил ли с тобой о чем–нибудь директор Земельного банка?
— Нет, а что такое? — спрашивает с беспокойством Джакомино.
— Дело в том, что вчера я разговаривал с ним о тебе, — отвечает с загадочной улыбкой профессор Тоти. — Твое жалованье не слишком–то велико, сынок. И знай, одного моего слова...
Джакомино корчится на стуле и с такой силой сжимает кулаки, что ногти впиваются ему в ладони.
— Профессор, я вам весьма признателен, — говорит он, — но сделайте милость, ради Бога, не заботьтесь больше обо мне! Очень прошу вас!
— Ах, так! — произносит профессор Тоти, все еще продолжая улыбаться. — Браво! Выходит, мы уже больше ни в ком не нуждаемся, да? Ну а положим, что я хочу это сделать ради собственного удовольствия? Мой милый, если не о тебе, то о ком же мне, по–твоему, заботиться? Я уже стар, Джакомино! А старики — ну, если, разумеется, они не эгоисты! — старики, которые бедствовали, как я, пока не добились определенного положения, радуются, видя, что достойные молодые люди продвигаются в жизни с их помощью; они разделяют радость своих питомцев, их чаяния и надежды, они с удовлетворением наблюдают, как те мало–помалу занимают должное место в обществе. А по отношению к тебе... я к тому же... ну, ты ведь прекрасно знаешь... я смотрю на тебя, как на сына... Что с тобой? Ты, кажется, плачешь?
Джакомино и в самом деле закрыл лицо руками и весь содрогается от безудержных рыданий, которые тщетно пытается подавить.
Нини, испуганно смотрит на него, потом поворачивается к профессору и говорит:
— Джами бобо...
Старик поднимается и хочет положить руку на плечо Джакомино, но тот вскакивает со стула, точно в порыве отвращения; лицо юноши вдруг искажается, и он с отчаянной решимостью, не помня себя, кричит:
— Не приближайтесь ко мне! Уходите, профессор, умоляю вас, уходите! По вашей вине я испытываю адские муки! Я не заслуживаю вашего расположения и не желаю его, слышите, не желаю!.. Уходите, Бога ради, уходите, уведите ребенка и забудьте, что я существую на свете!
Профессор Тоти ошеломлен, он растерянно спрашивает:
— Но почему?
— Сейчас я вам скажу! — кричит Джакомино. — Я помолвлен, профессор, понимаете, помолвлен!
Профессор Тоти пошатнулся, как будто его ударили по голове. Воздев руки, он бормочет:
— Ты? Помо... помолвлен?
— Да, профессор, — отвечает Джакомино. — А потому все между нами кончено, кончено навсегда!.. Теперь вы, надеюсь, поймете, что я не могу больше видеться... видеться с вами...
— Ты меня выгоняешь? — почти беззвучно роняет старик.
— Нет, — горестно отвечает Джакомино, — Только лучше будет, если вы... если вы уйдете, профессор...
Уйти? Агостино Тоти без сил опускается на стул. У него подкашиваются ноги. Он хватается за голову и стонет:
— О Господи! Беда–то какая! Так вот оно что! Горе мне! Горе! Но когда это случилось? Каким образом? Ничего мне не сказав! С кем же ты обручился?
— Видите ли, профессор... уже давно... — лепечет Джакомино. — С одной бедной сиротою, такой же, как и я... с подругой моей сестры...
Профессор Тоти устремляет на него блуждающий взгляд, совсем угасший; из его открытого рта вырываются нечленораздельные звуки, он заикается:
— И... и... и ты бросил все... так вот просто... и... и... и больше не думаешь о... ни о ком... больше ничего не принимаешь в расчет...
Джакомино слышится в этих словах упрек в неблагодарности, и он мрачно возражает:
— Однако позвольте... Вы что же, меня своим рабом считаете?
— Я считаю тебя своим рабом? — с рыданием в голосе спрашивает профессор Тоти. — Я?! И ты можешь так говорить? Ведь я сделал тебя господином в моем доме! Вот уж поистине черная неблагодарность! Ты, видно, считаешь, что я оказывал тебе благодеяния для моей собственной выгоды? Но что мне это дало, кроме насмешек глупцов, которые не в силах понять и оценить моих подлинных побуждений? Стало быть, и тебе они непонятны, стало быть, и ты не сумел оценить по достоинству чувства несчастного старика, который готовится вскоре покинуть этот мир и был покоен и радовался, что оставляет все в должном порядке, что его маленькая семья не будет нуждаться... и будет счастлива! Мне уже семьдесят лет, не сегодня завтра я умру, Джакомино! Что это взбрело тебе в голову, сынок? Ведь я же вам все оставлю... Что тебе еще нужно? Я не знаю и не хочу знать, кто твоя невеста, если ты ее выбрал, она, должно быть, достойная девушка, ведь ты и сам хороший человек... но подумай... подумай, что... быть того не может, Джакомино, чтобы ты нашел кого–нибудь лучше, чем... да, во всех отношениях... Я имею в виду не только обеспеченное положение... но ведь у тебя уже есть собственная семья, в которой только один я лишний, но и это ведь ненадолго... да я ив счет не иду... Разве я вам докучаю? Ведь я для вас как отец... Могу даже, если хотите... для вашего спокойствия... Но скажи мне, как все это произошло? Как все это случилось? Как это ты вдруг так переменился, сразу?.. Ответь мне! Скажи...
Профессор Тоти приблизился к Джакомино, намереваясь Дружески похлопать его по плечу; но тот весь съежился, как будто охваченный ужасом, и отпрянул назад.
— Профессор! — воскликнул он. — Как вы не понимаете, как вы не видите, что вся эта ваша доброта...
— Что?
— Оставьте меня в покое! Не заставляйте меня говорить! Как вы не понимаете, что такие вещи могут происходить только втайне? А теперь, когда об этом знаете вы, когда все вокруг смеются над вами, над нами, это немыслимо!
— Ах, так ты, стало быть, боишься сплетен? — вскричал профессор Тоти. — И ты...
— Оставьте меня в покое! — повторил Джакомино, в страшном возбуждении размахивая руками. — Оглянитесь по сторонам! Вокруг столько других молодых людей, нуждающихся в поддержке, профессор!
Профессор Тоти почувствовал, что слова эти ранили его в самое сердце: ведь в них таилось жестокое и несправедливое оскорбление для его жены. Он побелел как полотно и, весь дрожа, воскликнул:
— Маддаленина молода, но глубоко порядочна! И ты, черт побери, это и сам прекрасно знаешь! Она после всего этого может и умереть... потому что болезнь ее — здесь, здесь, в сердце... Да, да, неблагодарный! И ты смеешь говорить о других молодых людях? Ко всему еще и оскорбления? Бесстыжий! И ты не испытываешь угрызений совести, ты еще можешь смотреть мне прямо в глаза? Отваживаешься говорить мне такие вещи прямо в лицо? По–твоему, она может переходить вот так, от одного к другому как Бог весть кто? Она, мать вот этого ребенка? Да что ты такое говоришь? Как ты смеешь так говорить?
Побледневший Джакомино в изумлении воззрился на старика.
— Я? — пробормотал он. — Скорее я должен спросить вас об этом, профессор. Простите, но как вы можете так говорить? Вы все это серьезно?
Профессор Тоти закрыл лицо руками, веки его задрожали, голова затряслась, и он разразился судорожными рыданиями. Нини, глядя на него, тоже расплакался. Старик услышал плач ребенка, поднял его и прижал к своей груди.
— Ах, бедный мой Нини... ах, горе–то какое, мой родной, какая беда! Что теперь будет с твоей мамой? И что будет с тобою, малыш? Ведь мамочка твоя так неопытна, а у нее не останется никакой опоры... Ах, какое горе, какая беда!
Профессор поднял голову и сквозь слезы посмотрел на Джакомино.
— Я плачу, — проговорил он, — и меня мучат угрызения совести: ведь я тебе покровительствовал, ввел тебя в свой дом, всегда говорил ей о тебе только хорошее... я разрушил все сомнения, которые мешали ей полюбить тебя... а теперь, когда она, отбросив все колебания, полюбила тебя... она, мать этого малыша... ты...
Он остановился и, дрожа от негодования, сурово и твердо сказал:
— Берегись, Джакомино! Я ведь способен, взяв за руку ребенка, отправиться в дом к твоей невесте!
От бессвязных речей и слез профессора Джакомино бросало то в жар, то в холод; теперь же, при этой угрозе, он умоляюще сложил руки и стал заклинать старика:
__ Профессор, профессор, неужели вы хотите сделаться всеобщим посмешищем?
— Посмешищем? — закричал профессор. — А что мне до этого, когда я вижу, как ты разбиваешь жизнь несчастной женщины, свою собственную жизнь и жизнь невинного малыша? Пойдем отсюда, Нини, пойдем!
Джакомино бросился к нему: — Профессор, вы этого не сделаете!
— Нет, непременно сделаю! — заявил профессор Тоти с решительным видом. — И чтобы помешать твоему браку, я готов даже добиться твоего увольнения из банка! Даю тебе три дня на размышление.
Ведя малыша за ручку, старик идет к дверям; на пороге он оборачивается и с угрозой произносит:
— Подумай, Джакомино! Подумай хорошенько!
ПУТЕШЕСТВИЕ (Перевод В. Федорова)
Тринадцать лет жила Адриана Браджи затворницей в старом и тихом, как монастырь, доме, в который вошла совсем еще молоденькой девушкой. Все эти годы она не выходила из дома, ее не видели даже у окна редкие прохожие, которым случалось пройти по круто подымавшейся в гору улочке, такой заброшенной и пустынной, что меж булыжниками мостовой пучками росла трава.
В двадцать два года она овдовела, не прожив с мужем и четырех лет, и тем самым умерла для мирской жизни. Теперь ей было тридцать пять, но одевалась она только в черное, как и в день смерти мужа. Черный шелковый платок скрывал ее густые каштановые волосы, которые она уже не укладывала, а лишь расчесывала на пробор и скручивала узлом на затылке. Но ее бледное, с тонкими чертами лицо словно улыбалось нежной и грустной улыбкой.
Это ее добровольное заточение ничуть не удивляло жителей городка, затерянного в горной глуши Сицилии, где суровый обычай предписывал вдове чуть ли не следовать за мужем в могилу и за соблюдением этого обычая ревностно следили все соседи. Вдова обязана была жить уединенно и носить траур до конца своих дней.
Впрочем, женщины из немногих зажиточных семей городка, как девицы, так и замужние, вообще редко показывались на улице — по воскресеньям шли к мессе да иногда ходили друг к другу. Зато уж наряжались как можно богаче, носили платья, заказанные у самых модных портных Палермо или Катании, и драгоценности, причем делалось это не из кокетства: они шли опустив глаза и разрумянившись от смущения рядом с мужем, отцом или старшим братом. Щегольство это было чуть ли не принудительным: выход в гости или в церковь, расположенную в двух шагах, превращался для женщин в настоящую экспедицию, готовиться к которой начинали накануне. Тут речь шла о чести семьи, и мужчины пеклись о женских нарядах, пожалуй, даже больше, чем сами женщины, ибо хотели показать, что могут себе позволить потратиться на своих женщин и знают в этом толк.
А женщины, во всем послушные, покорные, наряжались, как велели мужчины, старались не подвести; совершив короткую вылазку, преспокойно возвращались к своим домашним делам: замужние рожали детей сколько Бог пошлет — таков уж был их удел, а девицы дожидались дня, когда родители скажут: «Иди за такого–то». Выходили замуж, и мужей вполне устраивала эта рабская покорность без любви.
Только слепая вера в царство небесное давала женщинам силы сносить, не впадая в отчаяние, тягучую тупую тоску монотонной жизни маленького городка в горах, такого тихого, что он казался безлюдным. Под знойным ярко–синим небом — лабиринт узких, плохо замощенных улиц, по обе стороны которых стояли дома из нетесаного камня, крытые черепицей, с желобом для стока воды.
Если пройти до конца любой из улочек, взору открывались унылые ряды выжженных полос земли — серные копи. Сушь в небе, сушь на земле; неподвижную тишину нарушает лишь сонное жужжанье мух, песня сверчка, далекий крик петуха или собачий лай; в ослепительном сиянии полдня от земли поднимается густой запах сухих трав, из хлевов тянет навозом.
Ни в одном доме не было воды; на просторном внутреннем дворе каждого из немногих господских домов, в средоточии водостоков, ждали милости неба старые чистерны — колодцы для сбора дождевой воды, но дождь шел редко даже зимой; зато уж когда он шел, наступал праздник: женщины выставляли на двор корыта, ведра, ванночки, бочонки, а сами, подоткнув подол грубошерстного платья, стояли в дверях и глядели, как крутые тропинки превращаются в стремительные ручьи, слушали, как вода, стекая с черепицы, бурлит в водосточных желобах и с шумом низвергается в горловину чистерны. Дождь омывал мостовую, стены домов, и люди с наслаждением вдыхали благоуханную свежесть напитанной влагой земли.
Мужчины находили себе хоть какое–то развлечение в делах, в борьбе местных группировок накануне муниципальных выборов, а по вечерам могли пойти в кафе или в гарнизонный клуб; а женщины, у которых с малых лет вытравливали всякие тщеславные помыслы, женщины, которых выдавали замуж без любви, эти рабыни домашнего очага, закончив всегда одни и те же повседневные дела, томились скукой, держа на руках ребенка или перебирая четки, в ожидании, когда же вернется муж — хозяин, повелитель.
Адриана Браджи мужа не любила.
Был он тщедушен, вечно беспокоился о своем слабом здоровье, а ее все четыре года тиранил и мучил, ревнуя даже к своему старшему брату, которому своей женитьбой причинил большое зло, можно сказать, предал его. В тех краях еще держался обычай, согласно которому из всех сыновей зажиточной семьи жениться должен лишь один, старший, чтобы состояние родителей не. оказалось распыленным среди множества наследников.
Чезаре Браджи, старший брат, никогда не выказал неудовольствия по поводу узурпации братом его права, может быть, потому, что отец, умерший незадолго до свадьбы, перед смертью распорядился, чтобы главой семьи стал Чезаре, а младший брат беспрекословно повиновался бы ему во всем.
Войдя в старый дом семейства Браджи, Адриана почувствовала себя как–то униженной тем, что оказалась в зависимости от деверя. Положение ее стало вдвойне стеснительным и тягостным, с тех пор как сам ее муж в приступе ревности намекнул, что, мол, Чезаре и сам был не прочь жениться на ней. Теперь она уже совсем не знала, как ей держаться с деверем, и ее смущение углублялось еще и тем, что Чезаре вовсе и не помышлял показывать перед ней свою власть, а, напротив, принял ее сердечно, с искренней симпатией и с первого дня относился к ней, как к сестре.
Чезаре был благороден — в речи, в одежде, в обращений с кем бы то ни было — тем особым врожденным благородством, которое не могли поколебать ни общение с грубыми и простыми земляками, ни дела, которыми ему приходилось заниматься, ни праздный образ жизни, к которому вынуждает провинция на протяжении многих месяцев в году.
Впрочем, каждый год он на неделю–другую, а то. и на месяц или даже больше, уезжал из городка, оставляя на время все дела. Отправлялся в Палермо, Неаполь, Рим, Флоренцию, Милан, ехал окунуться в жизнь, или, как он говорил, вкусить цивилизации. Из этих поездок он возвращался помолодевшим душой и телом.
Адриана, никогда не покидавшая родных мест, всякий раз как Деверь возвращался в могильную тишину старого дома, где застаивалось и гнило само время, ощущала какое–то непонятное, пугавшее ее смятение.
Деверь приносил с собой атмосферу иного мира, который она не могла даже себе представить.
Смятение ее росло, когда она слышала визгливый смех мужа, которому брат рассказывал в соседней комнате о своих пикантных приключениях. А потом, вечером, ее охватывал негодование и отвращение, когда муж, наслушавшись рассказов брата, приходил к ней в спальню взвинченный, едва владеющий собой и яростно накидывался на нее. Негодование и отвращение к мужу были тем сильнее, чем больше уважения видела она со стороны деверя.
Когда муж умер, Адриана с тревогой и страхом подумала, как это она останется с деверем одна в доме. Было, правда, двое ребятишек, родившихся за четыре года супружеской жизни. Она ощущала себя матерью, но все равно никак не могла совладать со своей природной застенчивостью и робела перед деверем, как девочка. Впрочем, эта робость никогда не перерастала у нее в неприязнь, но теперь обстоятельства изменились. Во всем был виноват покойный муж, терзавший ее ревностью, недоверием и тайным надзором.
Чезаре Браджи, проявив присущие ему такт и деликатность, тотчас пригласил мать Адрианы переехать в их дом и жить вместе с овдовевшей дочерью. Адриана, избавившись от тирании мужа и ощущая постоянную поддержку матери, стала понемногу приходить в себя, и если не обрела еще совершенного покоя, то, во всяком случае, перестала терзаться душой. Всем своим существом отдалась она заботам 6 детях, изливая на них всю любовь и нежность, которые сохранила в неприкосновенности за годы своей несчастливой супружеской жизни.
Чезаре, как и прежде, раз в год уезжал на континент и через месяц возвращался, нагруженный подарками: и невестке, и ее матери, и, конечно, племянникам, о которых всегда заботился по–отечески.
Женщинам было страшно в доме без мужчины, особенно по ночам. А днем Адриане казалось, что в тишине, которая с отъездом Чезаре стала еще более глубокой и зловещей, таится какая–то страшная угроза, нависшая над всем домом; мороз пробегал у нее по коже, всякий раз как она слышала скрип блока над горловиной чистерны, когда ветер тряс веревку. Но неужели ради двух женщин и двух мальчишек, которые, собственно говоря, не составляли его семьи, Чезаре должен был лишать себя единственного праздника за целый год отупляющей скуки в кругу одних и тех же будничных дел? Ведь он мог бы и вовсе ни о ком не заботиться, жить в свое удовольствие, наслаждаться свободой, раз уж брат, женившись, лишил его возможности завести собственную семью; он же вместо того — надо отдать ему должное — все свои короткие часы досуга посвящал заботам о доме, о племянниках–сиротах.
Со временем все печали в сердце Адрианы улеглись. Сыновья подрастали, и она была довольна тем, что воспитанием их руководит их дядя. Она до такой степени вся отдалась детям, что ее удивляло, когда деверь или сами мальчики протестовали против ее чрезмерных забот. Ей непонятно было, как это ее заботы могут быть чрезмерными. О ком же ей еще думать, как не о детях?
Большим горем для нее явилась смерть матери, которая много лет была ее единственной подругой, как бы старшей сестрой. К. тому же пока рядом была мать, Адриана ощущала себя молодой, какой на самом деле и была. Теперь, когда матери не стало, а сыновья достигли юношеского возраста — одному шестнадцать, другому четырнадцать — и грозили перерасти дядю, она стала считать себя старухой.
Так жила Адриана до того дня, когда впервые ощутила какое–то стеснение в груди, будто что–то давило изнутри на грудную клетку, отдаваясь то под лопаткой, то меж ребрами, то в левом плече, а в какой–то момент Адриану пронзала такая острая боль, что перехватывало дыхание.
Она никому жаловаться не стала, и болезнь ее так и оставалась бы в тайне, если бы один из приступов острой боли не застиг ее за столом во время ужина.
Позвали врача, который много лет лечил членов семейства Браджи. Тому сразу не понравились симптомы болезни, а после тщательного осмотра больной он по–настоящему всполошился.
Поражена плевра. Но какой болезнью? Старик врач призвал на помощь коллегу, и вдвоем они попробовали сделать пункцию, которая, однако, ничего не дала. Потом, обнаружив некоторое затвердение лимфатических желез над ключицами, врач заявил Чезаре, что надо поскорей везти больную в Палермо, ибо он боится, что у нее злокачественная опухоль.
Уехать тотчас они не смогли. После тринадцати лет заточения у Адрианы не осталось платья, в котором она могла бы показаться на людях. Пришлось послать срочный заказ в Палермо.
Она всячески противилась, уверяя деверя и сыновей, что ей вовсе не так уж плохо... От одной только мысли о такой дальней дороге ее бросало в дрожь. К тому же наступило время, когда Чезаре уезжал на месяц отдохнуть. Если она с ним поедет, она его стеснит, испортит ему все удовольствие. Нет–нет, она ни за что не поедет! Да и на кого они оставят дом и детей? Последний довод она считала самым сильным, но сыновья и Чезаре только смеялись над ее страхами. Она упрямо твердила, что, от такого путешествия ей наверняка станет хуже. О, святая мадонна, разве они не знают, какие у них тут дороги? Одно мученье! Нет, пусть уж они, ради всего святого, оставят ее в покое!
Когда из Палермо прибыли заказанные платья и шляпки, восторгу сыновей не было границ.
С ликованьем втащили они огромные коробки, обернутые клеенкой,, в комнату матери и наперебой стали требовать, чтобы она тут же примерила обновки. Им невтерпеж было увидеть свою мать нарядной, красивой. Они подняли такой шум, так упрашивали, что ей пришлось в конце концов согласиться.
Платья, правда, были черные, траурные, но из дорогой ткани и элегантного покроя. Адриана так давно отошла от нарядов, что не имела никакого представления о модных фасонах, не знала даже, как эти платья надевают. На что столько крючков и застежек? Боже мой, какой высокий воротник! И рукава с буфами... Неужели сейчас мода такая?
Меж тем за дверью бушевали мальчишки:
— Ну что, мама, ты готова?
Как будто их мать одевалась, чтобы ехать на бал! В этот момент они не вспомнили о первопричине появления в доме нарядов; по правде говоря, она и сама о ней сейчас не думала.
Когда Адриана, раскрасневшись от волнения, подняла глаза и глянула на себя в зеркало, ее словно ударило горячей волной стыда. Платье, обтянув ее бедра и талию, мягкими линиями подчеркнуло округлость бюста — она увидела в зеркале стройную девичью фигуру. Адриана считала себя старухой, а из зеркала на нее глядела молодая женщина — это не она!
— Что это? Что это такое? Не может быть! — воскликнула она, отворачиваясь от зеркала и прикрывая лицо рукой, чтобы ничего не видеть.
Услышав ее восклицание, сыновья принялись колотить в дверь руками и ногами, дергать ручку, крича, чтобы она открыла и показалась им.
Нет! Какое там! Ей стыдно. На что это похоже! Нет! Нет...
Но мальчишки заявили, что сейчас выломают дверь. Пришлось открыть.
Сыновья тоже остолбенели, пораженные такой неожиданной метаморфозой. Мать пыталась их выпроводить:
— Ну что вы... Оставьте меня! Угомонитесь... С ума сошли!..
И тут вошел деверь. О Господи! Адриана рванулись, ее первая мысль была — убежать, спрятаться, будто он застал ее голой. Но сыновья не пустили — им, конечно, хотелось показать дяде, какая стала мама, а тот лишь посмеивался над ее смущением.
— Да оно тебе идет, очень идет! — сказал он наконец серьезным тоном. — Ну постой, дай на тебя посмотреть.
Она решилась поднять глаза.
— Мне кажется, я разряжена, будто, для карнавала...
— Вовсе нет. С чего ты взяла? Оно сидит на тебе превосходно. Повернись чуточку... Вот так, в профиль...
Она повиновалась, изо всех сил стараясь обрести спокойный вид, но грудь ее, четко обрисованная платьем, вздымалась слишком часто и выдавала ее волнение, которое вызвано было тем, что ее так внимательно и серьезно рассматривает Чезаре, великий знаток женщин.
— В самом деле очень хорошо. А как шляпки?
— Вроде корзин с фруктами…
— Такие сейчас и носят: чем больше, тем лучше.
— Мне такую и на голову не натянуть, придется причесать волосы как–то по–другому.
Чезаре снова поглядел на нее со спокойной улыбкой:
— Ну да, у тебя такие роскошные волосы...
— Правильно! Правильно! — подхватили мальчишки. — Ай да мама у нас! Давай–ка причешись поскорее!
Адриана грустно улыбнулась.
— Вот видите, к чему вы меня принуждаете? — сказала она, обращаясь к деверю.
Отъезд был назначен на следующее утро.
И вот она с ним!
Она отправилась с ним в одно из тех путешествий, о которых прежде думала с таким смущением. А теперь боялась только одного: как бы Чезаре не заметил, что она смущена, ведь сам он сидит перед ней, как всегда, внимательный, но, как всегда, спокойный.
Это его спокойствие, совершенно естественное, могло бы заставить ее устыдиться своего смущения и даже покраснеть, если бы она — заведомо обманывая себя, лишь бы не поддаться чувству стыда — не приписала это свое смущение новизне для нее такого события, как это путешествие, обилию впечатлений, которых никогда раньше не знала ее робкая, замкнутая в себе душа. А свое старание скрыть от него это смущение (хоть оно и не содержало в себе ничего предосудительного) Адриана объясняла как нежелание показать себя слишком наивной и восторженной перед человеком, у которого такое ее поведение могло вызвать скуку и раздражение, так как сам он совершал путешествия который год подряд, знал все на свете и никакого волнения не испытывал. Разве она не смешна с ее детским восторгом, которым так и сияют ее глаза? Это в тридцать–то пять лет!
Вот почему она старалась сдержать радостное возбуждение или, по крайней мере, не выдавать его лихорадочным блеском глаз, старалась реже крутить головой, хоть по обе стороны дороги и мелькали разные чудеса, которые она видела впервые. Она старалась скрыть восторг, обуздать свое любопытство, которому хотела бы дать полную волю, чтобы оно помогло ей преодолеть смущение, от которого слегка кружилась голова. А может, виной тому был ритмичный перестук колес и призрачное мельканье деревьев и изгородей за окном вагона?
На поезде она ехала впервые. Ей казалось, что с каждым /мгновением, с каждым оборотом колес она все дальше проникает в какой–то новый для нее, совсем другой мир, и мир этот складывался из вещей и явлений, которые теперь были рядом, но все равно оставались для нее далекими, которые радовали взор и вместе с тем порождали в душе легкую и неизъяснимую грусть, из–за того что они существовали где–то вне ее жизни и даже за пределами ее воображения, существовали всегда, и она среди них была чужеродным телом — она уйдет, а здесь жизнь, как и прежде, будет идти своим чередом.
Вот деревня: улицы, дома, крыши, окна, двери, каменные ступеньки; там люди со всеми их помыслами и делами живут, словно в плену, на жалком клочке необъятной земли, как до сих пор жила и она в своем городке; за их горизонтом для них не существует ничего, жизнь Для них — сон, они рождаются, растут и умирают, не увидев того, что теперь увидит она в своем путешествии, а то, что она увидит, — ничтожно малая часть мира, но для нее это много.
Поворачиваясь от одного окна к другому, Адриана время от времени встречала взгляд и улыбку Чезаре, и тогда он спрашивал:
— Как ты себя чувствуешь? Она отвечала, кивнув головой:
— Хорошо.
Не раз он садился с ней рядом, чтобы показать ей какое–нибудь селение, где он бывал, гору, напоминающую своими очертаниями какого–то зверя, — все, что он считал достойным ее внимания. Он не понимал, что самые обычные и незначительные для него вещи вызывают в ней бурю новых ощущений, а его замечания и пояснения не только не усиливают, но даже снижают остроту ее впечатлений, из которых в душе ее, охваченной восторгом и непонятной грустью, складывается представление о величии открывавшегося ей неведомого мира.
К тому же его голос не успокаивал смятения ее чувств, а словно бил по нервам, заставляя вздрагивать, и при этом она отчетливее и острее ощущала свою непонятную грусть. Самой себе она казалась жалкой простушкой; она замечала в себе какое–то смутное чувство досады, почти злость, при виде всего, что теперь — слишком поздно для нее — зачаровывало ее взор и переполняло душу.
На другой день по прибытии в Палермо они побывали на приеме у лучшего врача Палермо, и там Адриана все поняла; она заметила, какие усилия делает над собой Чезаре, чтобы не выказать своего глубокого огорчения, с какой деланной озабоченностью просит он врача еще раз повторить его предписания и как тот ему отвечает; она поняла, что ей вынесен смертный приговор и что лекарство, которое надо принимать по столько–то капель два раза в день перед едой, не превышая дозы, ибо оно содержит яд, — обман во имя милосердия, посох идущему через медленную агонию навстречу смерти.
Однако как только Адриана, еще ощущая в ноздрях противный запах эфира, вышла из тени подъезда на улицу навстречу закатному солнцу, которое в нимбе пламенеющих небес висело над морем в конце длинного Корсо, как только увидела окрашенные багрянцем экипажи и купы деревьев, лица и одежды прохожих в пурпурных лучах, витрины и вывески магазинов и кафе, сверкающие, как драгоценные камни, она почувствовала, что в ее мятущуюся душу через все органы чувств, обостренные словно каким–то божественным опьянением, врывается жизнь, жизнь, жизнь! Она не испытывала тоски, вовсе не думала о близкой неотвратимой смерти, о смерти, которая свила в ней гнездо, затаившись под левой лопаткой, где она ощущала наиболее острые уколы боли. Нет, нет — жить! И все же в этом буйном водовороте чувств откуда–то из глубин ее существа подымался к горлу комок — возможно, ее прежняя, та самая грусть, от которой на глаза навертывались слезы.
— Ничего... Ничего... — сказала она, улыбнувшись деверю, и ее глаза сквозь слезы сверкнули радостью, озарившей все ее лицо. — Я, кажется... Не знаю... Пойдем же, пойдем...
— В гостиницу?
— Нет... нет...
— Тогда, может, поужинаем в «Шале» на берегу моря, возле Форр Италико? Хорошо?
— Да, как хочешь.
— Вот и прекрасно. Идем! Потом прогуляемся по бульвару к Форо, послушаем музыку...
Взяв извозчика, они поехали навстречу лучезарному нимбу.
Как чудесно прошел для нее этот вечер в «Шале» на морском берегу: светила луна, освещая здание Форума, вдоль бульвара катились элегантные коляски, из садов доносился запах цветущего померанца... Ею овладело всепобеждающее очарование, которому она отдалась бы до конца, если бы не тревожное сомнение в том, что все это происходит с ней на самом деле, ибо она смотрела на себя как будто издалека, а сама ничего не понимала, ни о чем не думала и не рассуждала — ей снился сон, и во сне открывалась бесконечная даль.
Это ощущение бесконечной дали охватило ее с новой силой на следующее утро, когда они ехали в коляске по длинным и пустым в тот час аллеям парка Ля Фаворита, и в какой–то момент она глубоко вздохнула и на миг почти вернулась к действительности, так что смогла почувствовать эту даль, не нарушая очарования и не пробуждаясь от сладкого дурмана этого сна, с открытыми глазами при свете дня, ибо и деревья в парке, казалось, тоже спали беспробудным сном в чуткой и таинственной тишине раннего утра.
В какой–то момент она, сама не зная почему, повернулась к Чезаре и благодарно улыбнулась ему.
Но эта улыбка пробудила в ней острую и глубокую жалость к себе самой, ведь она вот–вот умрет, и ее изумленные глаза не увидят всей этой неописуемой красоты, не увидят жизни, которой и она могла бы жить, как живут другие люди. И тут она подумала, не жестоко ли с его стороны вот так показывать ей мир.
Но вот коляска наконец остановилась в глубине самой дальней аллеи. Чезаре подал невестке руку, и она сошла на землю, чтобы рассмотреть как следует фонтан с фигурой Геракла; и там, у фонтана, под кобальтово–синим небом, которое казалось почти черным вокруг лучезарной беломраморной статуи полубога, стоявшей на высоком цоколе в центре чаши, Адриана наклонилась и стала смотреть в прозрачную воду, на поверхности которой плавали, отбрасывая тень на дно, листья и зеленоватые сгустки тины; и вот, когда она заметила, что при малейшем колыхании водной глади бесстрастные лица сфинксов, стражей водоема, словно затуманиваются раздумьем, тогда и она вдруг почувствовала, как вместе со свежестью, которой пахнуло от воды на ее лицо, в сознание ее проникла какая–то мысль; и сразу же душа ее будто оцепенела, будто свет новых небес загорелся вдруг в пустоте мироздания; ей показалось, что она в это мгновение постигла суть вечности, обрела ясное и полное представление обо всем на свете, в том числе и о том, что сокрыто в бездонном кладезе тайников души человеческой; ей показалось, что раз она все это постигла, то ей этого и достаточно, ибо на какой–то миг — вот на этот самый миг — она ощутила себя вечной.
Она предложила отправиться домой в тот же день. Пора освободить его от себя, он и так потерял уже четыре дня своего отдыха. Еще день уйдет на то, чтобы проводить ее до дома, а потом он может продолжить путешествие, ехать в дальние края, туда, за синее море. Смело может отправляться: за месяц его отсутствия она не умрет.
Ему она этого не сказала, а только попросила, чтобы он отвез ее домой.
— Да что ты? Зачем? — возразил он. — Раз уж ты здесь, поедем со мной, посмотришь Неаполь, там я на всякий случай покажу тебя еще какому–нибудь хорошему врачу.
— О нет, Чезаре. Разреши мне вернуться домой. Это все ни к чему.
— Как это ни к чему? Так будет лучше. На всякий случай.
— Разве еще мало того, что мы узнали здесь? У меня ничего не болит, я себя хорошо чувствую, ты сам это видишь. Буду принимать лекарство: Чего же еще?
Тогда он посмотрел на нее и сказал очень серьезным тоном:
— Адриана, я так хочу.
На это ей нечего было возразить, она была дочерью своего края, где женщина никогда не оспаривает того, что мужчина счел правильным и нужным; она подумала, он хочет застраховать себя тем, что не ограничится консультацией одного врача, так чтобы после ее смерти все в их городе говорили: «Он сделал все, чтобы спасти ее, возил и в Палермо, и в Неаполь...» А может быть, он надеялся, что другой врач, поопытней, сочтет болезнь излечимой, найдет средство спасти ее? А может быть... да, пожалуй, это верней всего: зная, что она обречена, он хотел оставить ей это последнее удовольствие, чтобы хоть как–то смягчить жестокий удар судьбы.
Но она боялась, да, страшно боялась моря. Как взглянет на него да подумает, что его надо переплыть, у нее дух захватывает, будто ей предстоит преодолеть его вплавь.
— Да нет же, ты сама увидишь, — с улыбкой успокаивал он ее. — В это время года ты и не заметишь, что плывешь по морю. Посмотри, какое оно спокойное. А потом, ты увидишь, какой пароход! Ты ничего и не почувствуешь!
Нет, не могла она поведать ему о неясном тревожном предчувствии, которое испытывала, глядя на это море, — ей почему–то казалось, что если она покинет берег, где она и так считала себя на чужбине, вдали от родного городка и где испытала столько нового, неведомого для нее волнения, если она пустится с ним в еще более дальнее путешествие, затеряется в необъятных просторах этого таинственного моря, то уж никогда больше не вернется домой, на свой родной остров, — разве что в гробу. Она гнала это предчувствие прочь, не признавалась в нем себе самой, заставляла себя поверить, что все дело тут в ее страхе перед морем: она его никогда прежде не видела, а теперь надо через него плыть!
В тот же вечер они. сели на пароход, отправлявшийся в Неаполь.
Когда пароход снялся с якоря и вышел из гавани, а Адриана, слегка оглушенная криками и гомоном суетливой толпы на причале, грохотом и скрежетом кранов и лебедок, пришла в себя, она стала смотреть, как берег уходит вдаль и все, что она видит, уменьшается в размерах: толпа на пристани и трепещущие над ней платки, суда на рейде, дома на берегу; вот уже весь город сливается в светлую туманную полосу у подножья красновато–серых гор, усеянную неяркими точками огней, — и тут она почувствовала, что опять погружается в сон, сон наяву, но при этом глаза ее все больше раскрывались от страха, по мере того как пароход, сотрясаясь всем корпусом от ритмичных ударов винтов, — того и гляди, сломается, хоть он и огромный, — углублялся в безбрежное море, слитое воедино с небом.
Чезаре посмеялся над ее страхами и, взяв под руку, чего прежде никогда себе не позволял, повел ее к тому месту на палубе, откуда можно было видеть могучие, сверкающие сталью поршни, которые приводили в движение винты парохода. Но она, и без того смущенная прикосновением его руки, не выдержала открывшегося у ее ног зрелища, а еще более — горячих испарений, напитанных запахом машинного масла, ей стало дурно, она качнулась и чуть не упала ему на грудь. Но удержалась и пришла в ужас перед силой своего неосознанного желания уступить охватившей ее слабости.
— Тебе плохо?
В голосе его звучала тревога.
Она отрицательно покачала головой — говорить не было мочи. И они, по–прежнему рука об руку, пошли на корму и стали смотреть на фосфоресцирующий след корабля в море, казавшемся черным под небом, усыпанным звездами, к которым из гигантской дымовой трубы медленно вздымались густые клубы дыма, раскаленного докрасна в топках. Довершая волшебную картину, из моря выплыла луна: сначала на горизонте показался окутанный дымкой огромный багровый лик, словно какой–то властелин в грозной тишине осматривал свое водяное царство, потом мало–помалу лик посветлел, и бескрайний морской простор засверкал серебром. И Адриана еще больше встревожилась, снова почувствовав, как неотразимо влечет и манит ее томительно–сладкое желание упасть без сил ему на грудь.
Случилось это в Неаполе, в тот момент, когда они выходили из ресторана–варьете, где поужинали и посмотрели концерт. Ее спутнику в его ежегодных путешествиях не раз случалось выходить поздно вечером из подобных заведений под руку с какой–нибудь дамой, но на этот раз, когда он по привычке предложил Адриане руку, из–под шляпки с пером и огромными полями сверкнул такой пламенный взгляд, что он, сам того не сознавая, прижал ее руку к своей груди. Этого было достаточно. Пожар вспыхнул.
В полутьме закрытого экипажа, отвозившего их в гостиницу, они сплелись в объятия, губы их встретились в ненасытном поцелуе, и за несколько коротких мгновений они рассказали друг другу все: он узнал всю ее жизнь, сотканную из долгих лет молчания и муки. Она рассказала ему, что всегда, всегда его любила, не желая этого и не зная об этом; а он — какой желанной была она ему в юности, как он мечтал прижать ее к сердцу, быть с ней всегда! Всегда!
Это было безумие, неистовство, бушующее пламя, питаемое страстным желанием наверстать за немногие дни, счет которым открыл смертный приговор, свои потерянные годы, годы v воздержания от чувства, годы затаенных желаний; им обоим так необходимо было забыть обо всем, отрешиться от прошлого, от самих себя, какими они были по отношению друг к другу прежде, когда соблюдали внешнюю благопристойность, навязанную им жестокими нравами их городка, жителям которого их нынешняя любовь и предстоящая свадьба представятся позорным делом, святотатством.
Свадьба? Нет. Зачем ей вынуждать его на такой непристойный в глазах окружающих поступок? Зачем связывать его какими–то узами, когда ей так мало осталось жить? Нет–нет, только любовь, любовь безумная и всепоглощающая, на весь короткий срок их путешествия, любовного путешествия без возврата, путешествия через любовь в смерть.
Она не сможет вернуться домой, к сыновьям. Она хорошо это понимала, когда садилась на пароход, она знала, что из–за моря для нее обратной дороги нет. Теперь она поедет об руку с ним дальше, как можно дальше, поедет, ни о чем не думая, без оглядки, навстречу смерти.
Они посетили Рим, Флоренцию, затем Милан, но нигде почти ничего не видели. Таившаяся в ней смерть напоминала о себе острой колющей болью и еще больше разжигала их страсть.
— Ничего! — говорила она при каждом приступе. — Ничего... И хотя от боли лицо ее заливала смертельная бледность, она тянулась губами к его губам.
— Адриана, тебе же очень больно...
— Нет, ничего... Да что мне боль!
В последний день их пребывания в Милане, откуда они направлялись в Венецию, Адриана, перед тем как надеть платье, внимательно посмотрела на себя в зеркало. И когда, проведя ночь в пути, они вышли утром на палубу и перед ними в рассветной тишине предстал возникающий из моря город, сказочно прекрасный, величественный и вместе с тем навевающий грусть, Адриана поняла, что дальше она не поедет, что ее путешествие подошло к концу.
Она пожелала, однако, насладиться Венецией, и весь день, до глубокой ночи, они катались в гондоле, бесшумно скользившей по глади каналов. А ночью не сомкнула глаз, перебирала в памяти впечатления дня, и этот день почему–то казался ей бархатным.
Был это бархат сиденья в гондоле? Или бархат тихих тенистых каналов? Как узнаешь! Бархат внутри гроба.
Наутро, когда Чезаре отправился на почту послать письма в Сицилию, она вошла в его номер; взяла со столика вскрытый конверт, узнала почерк старшего сына и, поднеся конверт к губам, покрыла его поцелуями; потом вернулась в свой номер, достала из элегантной кожаной сумочки нетронутый пузырек лекарства, содержащего яд, легла на свою неубранную кровать и одним духом осушила пузырек.
РУКА БОЛЬНОГО БЕДНЯКА (Перевод Э. Линецкой)
Всего раз? Три раза, не меньше! Три? Пять... уже и сам не помню. Почему больница так действует на вас?
У меня нет дома... нет близких...
И потом, знаете ли, транжирить деньги (если они есть) На удовольствия — не важно, что мне такие траты никогда не грозили, я свои удовольствия не покупаю, так вот, на это, пожалуй, я бы согласиться. Но вдобавок к болезни, ко всем страданиям еще тратиться на лекарства, на врачей — вот уж на это моего согласия нет. Впрочем, у меня никогда не было денег на то, что принято именовать жизненными удовольствиями; следовательно, я имею право на лечение gratis (Даром (лат.).) тех хворей, которые успел заполучить.
А их, кажется, немало; нет, не кажется, а безусловно. Они — мой пропускной билет в больницу, без них туда нет входа. И, судя по всему, хвори вполне добротные, я имею в виду — хронические: ну, скажем, не в порядке сердце, печень, почки... Говорят, я подорвал весь свой организм. Наверное, так оно и есть, но для меня это не суть важно, потому что, в общем, при всем при том — я имею в виду, если дело обстоит именно так — эта беда еще не беда. Настоящая беда в другом... — В чем?
Ах, друзья мои, вы слишком много хотите знать! В отличие от меня, который никогда не хотел и не хочет знать ничего! Если я должен объяснять вам, в чем настоящая беда, значит, для вас она не существует. А если так, с какой стати мне пускаться в объяснения?
Я, например, никогда не спрашивал лечивших меня врачей, какие хвори терзают мое тело, этого усталого, замученного осла, который тащит меня на себе. Я и сам знаю, что совсем загонял его, да еще по таким дорогам, на которые не свернет ни один здравомыслящий человек. И точка!
Одно мне противно: из–за этого я слыву среди врачей разумным пациентом. Полное мое безразличие к тому, чем именно я болен, врачи, видите ли, принимают за веру в глубину их познаний. По их первому требованию я послушно высовываю язык; кричу «тридцать три, тридцать три!» четыре, пять, десять раз подряд; безропотно терплю, когда чужое холодное ухо прижимается к моей спине; не протестую, когда любую часть моей персоны, будто она вовсе и не моя, слишком фамильярно щупают чужие руки, пусть мытые–перемытые, но, о Господи, занятые омерзительно грязной службой обществу — копанием во всех язвах рода человеческого; предоставляю их пальцам изо всех сил молотить по мне, а их шприцам меня колоть; глотаю все их гнусные микстуры и пилюли, не жалуясь на тошноту и отвращение: «Боже мой, доктор, что это вы мне прописали? Почему оно такое горькое, доктор?» — и, следовательно, где вы найдете пациента разумнее, чем я? Больной, который так нелепо верит в медицину, не может не быть, по их убеждению, разумнейшим из существ.
Ну и довольно об этом. Мне приятно, что вы смеетесь. Пусть это пойдет вам на пользу.
Вот поэтому... поэтому, что касается меня, то я никогда не взять в толк, зачем, желая понять, каковы на самом деле окружающие нас вещи, зачем расспрашивать других? Другие скажут вам, как они сами понимают их, какими эти вещи представляются им. Вас это удовлетворяет? Ну а я, благодарю покорно, я хочу понять сам, хочу запечатлеть их в себе, какими они представляются мне, и только мне. Разве вещи имеют свой собственный, не зависящий от нас образ и смысл, свою собственную ценность? Нет, это я придаю им образ, вкладываю в них смысл, награждаю ценностью. Так почему я должен принять вашу точку зрения? Вот уж увольте! Если я буду спрашивать вас, то сам никогда ничего не узнаю, потому что, сверх ваших представлений, вы тоже ничего не знаете. А какой мне толк знать, каким представляется этот мир вам? Так что увольте.
Вот в чем, друзья мои, истинная наша беда — все, что под нами, и над нами, и вокруг нас, все предметы и явления уже века, и века имеют тот образ и смысл, ту ценность, которые приданы им людьми. Такое–то и такое–то небо, такие–то и такие–то ч звезды, море и горы такие–то и такие–то, и поля, и города, и улицы, и дома... Господи Боже мой, чего вам еще нужно? Нам теперь силой навязывают невыносимую скучищу этой неподвижной действительности, условной и обусловленной, и все безропотно ее принимают. Я просто готов их убить! Говорю вам, для меня сидеть на стуле — и то стало настоящей пыткой. Чтобы хоть немного ее облегчить, я должен — вы не возражаете? — по меньшей мере положить его вот так, да, на спинку, и сесть на него верхом. Это к примеру! Но многие ли пытаются содрать эту коросту общих мест? Избавиться от гнетущей скуки избитых понятий? Освободить вещи от обветшавших видимостей, в которые по привычке, по лености разума нас всех с таким тупым упрямством заставляют верить? А ведь почти нет человека, которому не случилось бы хоть раз в некую счастливую минуту по–новому посмотреть на мир, на жизнь, проникнуть во внезапном озарении в иной, новый смысл вещей, понять в единый миг, что, наверное, с ними, с этими самыми вещами, возможны новые, неслыханные, небывалые отношения, и тогда жизнь, представшая нашим прозревшим, по–новому восприимчивом глазам, обретает чудесную, многообразную, переменчивую ценность. И тут же — увы! — мы возвращаемся к единообразию привычных понятий, к рутине привычных отношений, вновь принимаем на веру привычные ценности ежедневного существования: неизменно лазурное небо глядит на нас по вечерам неизменными своими звездами, море усыпляет неизменным плеском, дома отовсюду глазеют окнами неизменных фасадов, и неизменными мостовыми ложатся нам под ноги улицы. И меня считают сумасшедшим только потому, что я хочу жить в том мире, который для вас был мгновенным миражем, кратким, благотворным потрясением сна наяву, животрепещущего и светоносного; в мире без единой привычно–исхоженной тропы, без окостенелых установлений, свободном от всех обветшалых видимостей, хочу всегда свободно и глубоко дышать среди всегда обновляющихся и полных жизни вещей.
У меня изношено сердце, пришли в негодность легкие, что из того? Пусть я слыву сумасшедшим, но я живу. Нет у меня ни дома, ни положения. Отправляюсь в больницу? Поверьте, никогда я не шел туда по собственной воле, своими ногами, — всегда отправляли другие, бесчувственного, на носилках. Там я приходил в сознание и сразу решал:
— Ага, вот я где! Что ж, придется снова высовывать язык.
И немедленно, охотно и послушно, без единой жалобы, высовывал его по первому требованию, чтобы поскорее оттуда выбраться.
Как занятно выглядит лицо человека — врача ли, санитара ли, — когда он стоит у вашей постели, а вы лежите и смотрите на него снизу вверх и видите черные, с вывернутыми краями дыры ноздрей и дугу рта, концами опертую на шар подбородка! А когда этот рот начинает произносить слова, вам открывается над оградой зубов уздечка верхней губы, а позади — почти все небо.
Уверяю вас, даже и не вслушиваясь в то, что изрекает рот, вы все равно теряете уважение к человечеству.
Но я пообещал рассказать вам о руке больного бедняка.
Вступление получилось длинноватое, но, думаю, не совсем бесполезное, потому что теперь вы, по крайней мере, не станете требовать от меня подробностей, которые помогли бы вам расчувствоваться на привычный манер, то есть всяких там сведений вроде:
1. Кто такой этот человек.
2. Как он очутился в больнице.
3. Чем болен...
Об этом, дорогие мои, не будет ни слова. Я сам ничего решительно не знаю, не удосужился узнать, хотя наверняка мог бы спросить у санитара. Я видел только руку больного и только о ней и могу рассказать.
Вас это устраивает? Ну что ж, слушайте.
Было это в той больнице, где я лежал в последний раз. Не делайте таких дурацких скорбных лиц, ничего душещипательного в рассказе не будет. Мне всегда удавалось установить с больницей — притом, что я терпеть не могу врачей и медицину — теплые, проникновенные отношения.
Вы только подумайте, внимание к пациентам довели там до такой утонченности, что мы не видели друг друга, так как между кроватями стояли одностворчатые ширмочки, вернее, рамы с прибитыми по углам муслиновыми занавесками, всегда безукоризненно чистыми — их еженедельно снимали, стирали и гладили. Порою вся эта белизна создавала иллюзию — тут ей на помощь приходил лихорадочный жар, — будто лежишь в облаке и вместе с ним плывешь по лазури, которая вливалась в палату через стекла огромных окон.
Справа к каждой постели в этой длинной, очень светлой, хорошо проветренной палате была вплотную придвинута вот такая рама, в вышину доходившая до верхнего края подушки. Поэтому я видел только руку моего соседа слева, когда он выпрастывал ее и опускал на покрывало. Я разглядывал эту руку с любопытством влюбленного, и мало–помалу она поведала мне историю, которую я собираюсь вам пересказать.
Ну, разумеется, поведала она ее либо жестами, скорее всего непроизвольными, либо тем, как лежала, желтая, костлявая, на белом покрывале, иногда ладонью кверху с полусогнутыми, чуть сведенными пальцами, уже совсем покорная судьбе, пригвоздившей ее к этой кровати, словно к кресту, иногда сжатая в кулак от внезапной ли судорожной боли или от приступа гнева и нетерпения, который всегда сменялся бессилием смертельной усталости.
Я понял, что вижу руку больного бедняка: пусть она дочиста отмыта по всем правилам больничной гигиены, но на ней, костлявой и пожелтевшей, точно застыл слой неистребимого пота, который, собственно, даже не пот, а патина нужды, и никакой водой эту патину не смоешь. Она была на утолщенных, немного шероховатых суставах пальцев; на их сгибах, где кожа сморщилась, точь–в–точь как на шее у черепахи; в линиях ладони, про которые говорят, будто это смерть поставила на руку человека свою печать.
И тогда я стал раздумывать, каким же ремеслом занималась эта рука.
Конечно, не черной работой — рука была хрупкая и тонкая, как у женщины, не узловатая, не деформированная, разве что последняя фаланга, указательного пальца казалась необычайно цепкой, а большой палец был всегда полусогнут и от пясти до косточки слишком мускулист.
Я заметил, что, когда кончик указательного пальца нажимал на большой, тот непроизвольно, как бы по привычке, поддавался ему, точно мой сосед, сам того не сознавая, этим нажатием призывал какую–то далеко отступившую действительность и дотрагивался до нее вот здесь, на подушечке предупрежденного таким образом пальца: действительность собственного своего существования до болезни. Может быть, магазин, где в нос ударяет острый запах новых тканей; штуки материи, аккуратно разложенные одна на другой по полкам, по скамьям, в витринах; стойка для проданного товара; стол, где лежит развернутая ткань, от которой нужно отрезать кусок, и на ней пара больших ножниц; серый кот под столом; портные, сидящие рядами и готовые в любой Момент что–то приметать, что–то пришить на машинке, и среди них — он. Ему, может, и не нравилась эта действительность; он, может, отнюдь не вкладывал душу в свое ремесло, но ремесло тем не менее было вот в этих двух пальцах, в этом большом пальце, который по привычке стольких лет непроизвольно покорялся нажатию указательного. А вокруг была нынче куда более унылая действительность: пустота и томительная праздность больничного распорядка, недуг, усталое и тревожное ожидание — чего? — может быть, смерти.
Да, несомненно, то была рука портного.
По другому ее жесту я затем понял, что бедняк портной с недавних пор отец, что у него родился ребенок.
То и дело он поднимал колено под покрывалом. Тогда рука, до этого неподвижная, тоже поднималась, ее пальцы дрожали, она начинала делать круги над выставленным коленом, точно ласкала, но, конечно, ласка относилась не к колену.
К кому же она могла относиться?
Может быть, на этом колене не раз лежала головка его малыша, и рука поднималась, чтобы погладить тонкие шелковистые волосики.
Наверное, пока рука, делая дрожащие круги над коленом, ласкала что–то отсутствующее, веки больного были сомкнуты, и глаза под их защитой видели ребячью головку и наполнялись горячими слезами, и вот они уже текут по скрытому от меня лицу. И впрямь, рука прервала неуверенно ласкающие движения, она скрылась за рамой, сперва приподняв край простыни. Через несколько секунд простыня снова была в порядке, но вот оно, место с краю, намокшее от слез.
Итак, вывод: у портного был ребенок. НЪ не торопитесь: эта история не так уж проста. Впрочем, речь ведь идет только о том, как двигалась и как лежала рука.
Однажды, поздним утром, я очнулся от глубокого, свинцового забытья, которое обычно следует за особенно острым приступом болезни, самой, пожалуй, тяжкой из всего моего набора.
Открыв глаза, я увидел у постели соседа целое сборище женщин и мужчин, видимо родственников. Первым делим я подумал, что он умер. Нет. Никто не плакал, не причитал. Более того, посетители разговаривали и с больным, и между собой, притом весело, хотя и вполголоса, чтобы не потревожить других больных.
День был неприемный. Так почему и зачем у постели больного столпилось столько народу?
О чем они говорили, я не слышал и не желал слушать. Меня так обессилил долгий летаргический сон, что даже видеть их было невыносимо. Я закрыл глаза.
Возле самой ширмы стояла спиною ко мне толстая старуха, и вся ее разбухшая персона, особенно ее... ну просто необъятная, туго обтянутая плиссированной юбкой в черную и красную клетку, навалилась на меня, душила, как мучительный кошмар. Вот уж неподходящее время для такого сборища! Сквозь полуприкрытые веки я мельком увидел долговязого священника, но не обратил на это внимания. Может быть, даже наверное, я опять надолго впал в забытье. Красные и черные клетки на юбке растягивались передо мной, как сеть, как тюремная решетка, полосы огня переплетались в ней с полосами мрака и, огненные, жгли мне глаза. Когда я открыл их, у постели больного уже не было ни души.
Я поискал глазами его руку... Что такое? На безымянном пальце кольцо? Да, маленький золотой обруч, обручальное кольцо. Так вот в чем дело, он новобрачный... Свадьба! Эти люди собрались здесь, чтобы сочетать его браком.
Бедная рука, такая желтая, такая костлявая, и этот символ обручения... С любовью? Нет. Со смертью... Ведь на больничной койке вступают в брак только в предвидении смерти.
Значит, болезнь неизлечима. Да, мне об этом достаточно ясно сказала рука, слишком желтая, слишком костлявая, слишком неуверенная в движениях, в каждом своем жесте. С какой медлительной печалью большой ее палец вращал на безымянном кольцо, которое было ему слишком велико...
И, наверное, глаза, хотя и глядели на золотой кружок вблизи, были устремлены куда–то вдаль, а в мыслях, вероятно, мелькало: «Это колечко... Что оно означает? Я здесь, чтобы от всего, оторваться, а оно меня связывает... С кем? И надолго ли? Сегодня надели его мне на палец, завтра, может быть, придут и снимут...»
Рука поднялась к самому лицу и на весу застыла. Она хотела, чтобы ее видели совсем близко с этим колечком–однодневкой, которое могло бы рассказать о многом, а говорило только об одном, о горестном, горестном...
Но нет, подумал он потом, все–таки, все–таки это кольцо что–то связывает: связывает его имя с жизнью его ребенка. Этот ребенок родился до свадьбы, значит, имени у него не было, а вот теперь будет. Так что благодаря кольцу одним угрызением совести меньше.
Большой палец начал снова поглаживать кольцо, потом рука бессильно опустилась на покрывало.
Утром, проснувшись, я больше не увидел руку, о том, как она лежит, можно было догадаться только по чуть приподнятой в одном месте простыне, затягивающей теперь всю постель, чтобы не было туда доступа мухам, за сто миль чующим смерть.
СОЛОМЕННОЕ ЧУЧЕЛО (Перевод В. Федорова)
Кроме отца, который умер в пятьдесят лет от воспаления легких, все остальные члены их семьи — мать, братья, сестры, дядья и тетки по материнской линии — один за другим умерли от чахотки, не дожив до среднего возраста.
Впечатляющая вереница гробов.
Держались только двое: Марко и Аннибале Пикотти — они как будто решили дать бой болезни, грозившей оборвать сразу две генеалогические линии.
Братья заботливо оберегали друг друга, всегда были начеку и во всеоружии, не только скрупулезно и неукоснительно выполняли предписания врачей в отношении количества и качества принимаемой пищи, не только добросовестно глотали пилюли и пили микстуры, но также одевались соответственно времени года и погоде, ложились спать и вставали в строго определенный час, совершали ежедневные прогулки и ко всем дозволенным врачами развлечениям относились как к лечебным процедурам.
Ведя такую жизнь, они надеялись в добром здравии достичь возраста, который был предельным для всех их родичей за исключением отца, умершего от другой болезни.
Когда братья — сначала Марко, затем Аннибале — достигли этого возраста, они сочли, что одержали большую победу.
Да только Аннибале, младший брат, благодаря этой победе осмелел настолько, что стал чуточку отпускать поводья, которые до той поры держал натянутыми, стал мало–помалу выходить за рамки жестких правил.
Марко, будучи на два или на три года старше, пытался использовать свой авторитет и призвать брата к порядку. Но Аннибале не внял его уговорам, полагая, что теперь, дескать, можно уж не так опасаться смерти, раз она не скосила его в том возрасте, в каком настигала его родных.
Братья были, в общем, одинаковой комплекции — коренастые, хорошо сложенные, с раскосыми глазами, невысоким лбом и пышными усами, но все же он, Аннибале, хотя и младший, был покрепче брата: он мог похвастаться и небольшим брюшком, и более выпуклой грудью, и в плечах был пошире. Стало быть, если Марко, хоть он и послабее, живет и здравствует, то уж Аннибале за счет своего преимущества перед братом может без опаски позволить себе кое–какие нарушения режима.
Марко, выполнив свой долг, как того требовала его совесть, оставил свои укоры и увещевания, с тем чтобы, не подвергая себя никакому риску, посмотреть, как подействуют на здоровье брата те излишества, которые тот себе позволяет. Ведь если Аннибале со временем не будет наказан за такое поведение, то и сам он... Как знать! Может, и ему дозволено дать себе послабление, отчего не попробовать?
О нет, нет. Это уж слишком: в один прекрасный день Аннибале сказал ему, что влюблен и хочет жениться. Глупец! Жениться, когда над тобой висит угроза смерти? Да это все равно что броситься прямо в ее объятия! Зачем еще жена? А кроме того, разве не преступление производить на свет других обреченных? И что за несчастная пошла на такой союз? Для нее это двойное преступление, вот именно — двойное!
Аннибале приуныл. Прежде всего заявил брату, что ни в коем случае не позволит ему говорить в таких выражениях о девушке, которая скоро станет его женой, а в остальном — если ему надо сохранить жизнь за счет отказа от нее, то ему такую жизнь не страшно и потерять: чуть раньше, чуть позже — какая разница? Он сыт по горло, с него хватит.
Марко выслушал брата, испытывая к нему снисходительную жалость, и в ответ лишь покачал головой.
Дурачок! Жить... не жить... Разве в этом дело? Главное — не умереть! И не из страха перед смертью, а из–за того, что она являет собой ужасающую несправедливость, против которой восстает все его существо, и своим яростным, упорным сопротивлением он отомстит ей не только за себя, но и за всех погибших родственников.
Довольно. Хватит. Не надо волноваться. Жаль, что он погорячился и потерял самообладание. Больше это не повторится. Нет!
Брат хочет жениться? Ради Бога! На здоровье, сделай одолжение!.. Он один будет противостоять смерти, не попадаясь в ловушки, которые расставляет жизнь.
Но во всем должна быть ясность. Вместе жить нельзя: недоразумения, осложнения — все это ни к чему. Хочешь жениться — уходи из дома. Старший брат — глава семьи, дом по праву принадлежит ему. Остальное можно поделить поровну. В том числе, и мебель. Пусть Аннибале забирает, что ему понравится, только без суеты и не всё вдруг, чтобы пыль не поднимать, потому что он, Марко, свое здоровье хочет сохранить.
Этот платяной шкаф? Хорошо, и этот комод тоже, и трюмо, и кресла, и умывальник... да, да... Портьеры? Ладно, пусть и портьеры... и большой обеденный стол, будет куда сажать краснощеких карапузов, которые народятся, и горку со всей посудой... Пусть Аннибале только оставит все, что в комнате Марко: старинный диван с креслами — он к ним привык, — два книжных шкафа со старыми книгами да письменный стол — их он оставляет себе.
— И это тоже? — улыбаясь, спросил Аннибале.
Между шкафами, на специальном насесте, какие устраивают Для попугаев, стояло чучело большой птицы, такое старое, что по выцветшим перьям уже невозможно было определить, что это за птица.
— И это тоже, — ответил Марко. — Все, что здесь находится. Чучело птицы... Семейная реликвия. Пусть висит!
Он не стал говорить брату, что это чучело, не поддававшееся годам, служило ему вдохновляющим примером всякий раз, как он обращал на него взор: оно так хорошо сохранилось.
Когда Аннибале женился, он даже не пошел на свадьбу. Один–единственный раз (дань приличиям!) зашел в дом невестки и не вымолвил ни одного слова поздравления или хотя бы теплого привета. Пять минут холодной учтивости. Не зайдет он к брату, разумеется, и по возвращении молодоженов из свадебного путешествия, не зайдет вообще никогда. При одной лишь мысли об этом браке он ощущал дурноту и дрожь в коленях.
— Какое несчастье, какое безумие! — повторял он, прохаживаясь взад–вперед по комнате, закупоренной от всех сквозняков и провонявшей лекарствами, глядя в пустоту и ощупывая нервными пальцами оставшуюся мебель. — Какое несчастье, какое безумие!
На старых обоях выделялись места, где стояла вывезенная мебель; эти следы усиливали впечатление утраты, нехватки, пустоты.
— Какое несчастье! Какое безумие! — повторял он снова и снова.
Им так хорошо было, когда оба заботились друг о друге, друг за другом ухаживали, делились мыслями.
А что теперь?
Теперь он один в старом доме, будто неприкаянная душа.
Нет! Прочь эти мысли! Нечего падать духом, размышляя об этом неблагодарном, об этом безумце! Обойдемся и без него.
И Марко принимался тихонько насвистывать какой–нибудь мотив или барабанить пальцами по оконному стеклу, глядя на остовы деревьев, оголенные осенью, и вдруг замечал мертвую муху, высушенную чахоткой и прилипшую к стеклу, по которому он барабанил...
После свадьбы брата прошел почти год.
В канун рождества Марко услышал звуки волынки и бубна перед часовенкой, украшенной ветками, — хор девушек и подростков исполнял гимны, какие полагается петь в сочельник; громко трещала солома в двух кострах, зажженных у входа в часовенку. Марко, которого этот шум раздражал, приготовился было лечь спать — наступал установленный час отхода ко сну, — как вдруг подпрыгнул от сумасшедшего звона колокольчика у входной двери, словно потрясшего весь дом.
Это зашли брат и невестка. Аннибале и Лиллина.
Они ввалились, с трудом переводя дух, закутанные, озябшие, и принялись топать ногами, чтобы согреться, и хохотать, хохотать... Как они смеялись! Праздничные, веселые, счастливые.
Ему показалось, что они пьяны.
О, они зашли на минутку поздравить его с рождеством, они не хотят, чтобы из–за них его отход ко сну задержался хоть на минуту. И... а нельзя ли немножко открыть форточку совсем ненадолго, проветрить комнату? Нельзя? Даже на минуту нельзя? О Боже! Что это за страшилище, вон то чучело на насесте? А это что, весы? Чтоб взвешивать лекарства? Какая прелесть, ну просто прелесть!.. А донна Фанни, где же донна Фанни?
Все десять минут Лиллина не умолкала, порхая по комнате деверя от вещи к вещи.
Марко Пикотти был потрясен, словно в дом ворвался вихрь, возмутивший не только тишину его обжитой комнаты, но и покой его души.
— Однако... однако... — повторял он, сидя на постели, когда гости ушли, и при этом обеими руками тер себе лоб. — Однако...
Он не знал, что сказать.
Возможно ли? Он был так уверен, что брат через неделю после свадьбы свалится, рассыплется... Вышло наоборот: он здоров и бодр! А как весел! Он по–настоящему счастлив...
Стало быть... ( Может, и ему больше уже не нужны все эти трусливые меры предосторожности? Нельзя ли и ему сбросить с себя этот жуткий кошмар ожидания смерти и жить, жить, окунуться в жизнь с головой, как его брат?
Тот, смеясь, поведал ему, что не принимает никаких лекарств и не соблюдает никакого режима. К черту! Ко всем чертям врачей и лекарства!
— А что, если и мне попробовать?
Приняв такое решение, Марко впервые отправился с визитом к брату.
Его встретили с таким ликованием, что он на какое–то время оторопел. Зажмуривался и выставлял руки ладонями вперед, всякий раз как Лиллина порывалась броситься ему на шею. Что за милый чертенок эта Лиллина! Так вся и кипит! Она — жизнь, сама жизнь! Невестка настояла на том, чтобы он остался обедать с ними. Сколько она заставила его съесть и выпить! Марко встал из–за стола пьяный не столько от вина, сколько от радости.
Однако, возвратившись от них вечером, он почувствовал недомогание. Сильная простуда и несварение желудка уложили его в постель больше чем на неделю.
Напрасно Аннибале пытался доказать ему, что это случилось с ним потому, что он слишком много думал, а не отдался безрассудству с легким сердцем. Нет, нет. С него довольно. Довольно. И посмотрел на брата таким взглядом, что Аннибале вдруг... Нет, не может быть!
— Что? Что ты во мне разглядел? — спросил тот, бледнея, с улыбкой, застывшей на устах.
О, несчастный! Смерть... смерть... Она уже поставила на его лице свою метку, свое неизгладимое клеймо!
Марко увидел этот знак, когда брат вдруг побледнел: на скулах остались два розовых пятна! Вот чем кончилась радость — двумя яркими точками смертного огня, выступившими на скулах.
Аннибале Пикотти действительно умер примерно через три года после женитьбы.
Для Марко это был страшный удар.
Он, разумеется, предвидел такой исход, он прекрасно знал, что брата ожидает неминуемая смерть. Но все равно, какое это зловещее предупреждение ему, какое потрясение!
Марко не рискнул проводить брата на кладбище. Он слишком разволнуется, а кроме того, испытает чувство досады и даже ненависть, когда к нему станут подходить со словами соболезнования и при этом будут глядеть на его лицо, отыскивая приметы той болезни, от которой умерли все его родные, в том числе и этот — последний.
Нет, он обязан не умирать! Он один из всего рода должен победить смерть. Ему уже сорок пять. Надо продержаться до шестидесяти. А тогда пускай смерть берет свое, но другая, не та, которая постигла всех его родственников. Ему уже будет все равно.
И он удвоил заботы о своем здоровье. Но в то же время опасался, как бы постоянная настороженность и тревога не повредили ему. И тогда он дошел до того, что стал притворяться перед самим собой, будто о смерти вовсе и не думает. Время от времени у него непроизвольно, без какого бы то ни было раздумья, стали вырываться слова вроде «жарко» или «хорошая погода»; он произносил их совсем не для того, чтобы проверить, не хрипит ли его голос.
Он ходил взад–вперед по комнатам старого дома, тряся кисточкой на бархатной ермолке и насвистывая какой–нибудь мотив.
Миниатюрная донна Фанни, домоправительница, еще не считала себя старухой и за несколько лет службы у Марко ухитрилась сохранить убеждение, что хозяин имеет на нее виды, но не решается признаться в этом из робости. Видя, как он бродит по дому, она подходила, ласково улыбалась и спрашивала:
— Вам что–нибудь нужно, синьорино?
Марко Пикотти глядел на нее сверху вниз и сухо отвечал:
— Мне ничего не нужно. Высморкайте нос! Донна Фанни кокетливо изгибала стан и говорила:
— Понимаю, понимаю... Вы меня ругаете, потому что любите.
— Никого я не люблю! — кричал он ей тогда, тараща глаза. — Я прошу вас высморкать нос, потому что вы нюхаете табак, а когда человек нюхает табак, он не замечает, что у него под носом капля!
Повернувшись к ней спиной, он снова принимался свистеть, трясти кисточкой и шагать взад–вперед.
Однажды вдове его брата пришла в голову нелепая мысль навестить его.
— Нет, ради Бога, нет! — вскричал он, закрывая лицо руками, чтобы не видеть, как женщина в трауре плачет. — Уходите, прошу вас, уходите, сейчас же уходите! Я не могу, не могу вас видеть!
Ее приход он воспринял как покушение на его здоровье. Она думала, он не вспоминает брата, что ли? Вспоминает, как же, вспоминает... Но притворяется, что не вспоминает, так как это ему вредно.
Весь день ему было не по себе. А ночью он вдруг проснулся и зарыдал. Поутру же притворился, что ничего не помнит. Утром он был вновь весел и бодр, как дрозд, и время от времени приговаривал:
— Жарко... Хорошая погода...
Когда его усы, долго сохранявшие черный цвет, начали седеть, равно как и виски, Марко не только не опечалился этому, но даже обрадовался, именно обрадовался. Поскольку все его родные умерли молодыми, чахотка для него ассоциировалась с цветущей молодостью. Чем больше удалялся он от своего расцвета лет, тем в большей безопасности себя считал. Он хотел, он должен был состариться. Вместе с молодостью он ненавидел и все, что с ней связано: любовь, весну. Особенно весну. Ведь весна — самое опасное время года для больных чахоткой. С глухой злобой глядел он, как набухают и лопаются почки на деревьях в саду.
Весной он из дома не выходил.
После обеда оставался за столом и развлекался, выстукивая вилкой на стаканах какой–нибудь мотив. Если на этот звон прилетала, как бабочка на огонь, донна Фанни, он немилосердно гнал ее прочь.
Бедная донна Фанни! Ее жестокий хозяин действительно не питал к ней никаких добрых чувств. Она убедилась в этом, когда серьезно заболела: он отправил ее умирать в больницу. Марко Пикотти был огорчен этим событием лишь оттого, что вынужден был искать новую домоправительницу. И сколько их пришлось ему сменить за три–четыре года! В конце концов, из–за того что ни одна из них не могла ему потрафить, да и сами они долго не выдерживали, он решил обходиться без прислуги.
Так он дожил до шестидесяти лет.
И тогда напряжение, в котором он держал себя долгие годы, сразу спало.
Марко Пикотти счел себя удовлетворенным. Он достиг–таки цели своей жизни.
Что же теперь?
А теперь он мог и умереть. Ну да, умереть, умереть, ничего другого ему не надо: он устал, ему все осточертело, ему тошно! Что теперь для него жизнь? Свою задачу он выполнил, цели достиг, вот и остались ему в жизни лишь усталость, скука, тоска.
Стал он жить без всяких правил: вставать раньше положенного часа, выходить по вечерам, посещать злачные места, есть любые блюда. Немного испортил желудок, изрядно похудел, его все больше раздражали знакомые, которые при встрече с ним, как прежде, выражали радость по поводу того, что видят его в добром здравии.
Его хандра и тоска стали настолько невыносимыми, что однажды он наконец понял: надо что–то сделать; он еще не знал точно, что именно, но, во всяком случае, необходимо было избавиться от того кошмара, который его мучил. Победил он или нет? Нет. Он чувствовал, что пока еще не победил.
Ему сказало об этом, ему окончательно доказало это чучело птицы, торчавшее на насесте между шкафами со старыми книгами.
— Солома... солома... — сказал себе Марко Пикотти в тот день, глядя на птицу.
Он сорвал ее с насеста, извлек из жилетного кармана перочинный нож и вспорол ей брюхо.
— Вот она — солома... солома...
Оглядел свою комнату, увидел диван и старинные кресла из искусственной кожи и тем же ножом принялся вспарывать обивку, вытаскивая пригоршнями волос и продолжая твердить в отчаянии и с отвращением:
— Вот... солома... солома... солома...
Что он хотел этим сказать? А вот что: он сел за письменный стол, вытащил из ящика револьвер и приставил его к виску. Только и всего. Лишь теперь он победил по–настоящему.
Когда по городу разнеслась весть о самоубийстве Марко Пикотти, поначалу никто не хотел этому верить, настолько это противоречило тому несгибаемому, яростному упорству, с которым он до старости берег свою жизнь. А многие, кто побывал в его комнате и видел вспоротые кресла и диван, не находя объяснения этому обстоятельству, равно как и факту самоубийства, полагали, что тут было совершено преступление и все это дело рук грабителя или даже шайки преступников. К этой мысли пришли прежде всего судебные власти, которые тотчас приступили к допросам и расследованию.
Среди вещественных доказательств почетное место заняло чучело птицы, набитое соломой, и, поскольку оно могло оказаться главным козырем следствия, был приглашен дотошный орнитолог, которого попросили определить, что же это за птица.
КАНДЕЛОРА (Перевод Я. Лесюка)
Нане Папа, терзая в своих крупных руках поля старой помятой панамы, говорит Канделоре:
— Не подобает тебе это. Пойми, дорогая. Не подобает тебе это.
Разъяренная Канделора кричит:
— А что мне, по–твоему, подобает? Оставаться с тобой? И подыхать от бешенства и омерзения?
А Нане Папа невозмутима, еще сильнее терзая свою панаму:
— Конечно, дорогая. Только зачем же подыхать? Немного терпения и... Посуди сама, ведь Кико...
— Я запрещаю тебе так его называть!
— Но разве ты сама не так его называешь?
— Вот именно поэтому я и не хочу!
— Ну что ж, прекрасно. Я–то думал доставить тебе удовольствие. Стало быть, ты хочешь, чтобы я называл его бароном? Барон... Я и говорю, что барон тебя любит, милая Канделора, и тратит на тебя...
— Ах, на меня? Паяц! Негодяй! Да разве на тебя он не тратит куда больше?
— Позволь уж мне закончить... Барон тратится и на тебя, и на меня. Но, видишь ли, если на меня он и тратит больше, о чем это говорит? Будь рассудительна. Это значит, что тебя он ценит постольку, поскольку на тебя падает отблеск моей славы. Уж этого ты отрицать не станешь.
— Отблеск твоей славы? — снова вопит вконец взбешенная Канделора. — Нет, отблеск вот чего...
Она поднимает ногу и показывает ему туфельку.
— Срам! Срам! Срам на меня падает!
Нане Папа усмехается и с самым безмятежным видом заявляет:
— Нет уж, извини. Если говорить о сраме, то он падает на меня. Ведь я — твой муж. И в этом все дело, поверь Лоретта. Если бы я не был твоим мужем и, главное, если бы ты не оставалась со мною под этим гостеприимным кровом, вся прелесть — понимаешь? — для них пропала бы. Теперь все они могут являться сюда безнаказанно и воздавать тебе должное, и делают они это с тем большим удовольствием, чем больше — скажем прямо — ты мне приносишь бесчестья и позора. Если бы я перестал существовать, ты, Лоретта, тотчас же превратилась бы в особу весьма мало заманчивую, с которой к тому же весьма рискованно иметь дело; и Кико... то есть барон, не стал бы на тебя тра... Что это с тобой? Да ты, никак, плачешь? Ну же, перестань! Ведь я пошутил...
Нане подходит к Канделоре и собирается ласково потрепать ее по щеке; но она хватает его за руку и, хищно оскалив зубы, впивается в нее; в ярости она долго не отпускает руку мужа, все сильнее и сильнее сжимая челюсти.
Наклонившись и стараясь держать свою руку на уровне ее рта, Нане также оскаливает зубы, но это всего лишь немая гримаса боли, заставившей его побледнеть.
Взгляд его с каждым мгновением становится все более лихорадочным и напряженным.
Затем — о блаженство! — зубы Канделоры разжимаются, но тут же он ощущает такую нестерпимую боль, точно руку его прижгли раскаленным железом.
Нане молчит.
Медленно–медленно оттягивает он рукав пиджака, но рубаха не поддается: полотно глубоко застряло в мякоти руки. На белом рукаве — красное пятно. Это кровавый след, след ровных, крепких зубов Канделоры: все они отпечатались тут. Попробуй отверни теперь рукав! В конце концов Нане, с бледного лица которого все еще не сходит улыбка, это удается. На его руку страшно смотреть! Место укуса — сплошная рана; внутри рука уже почернела.
— Видишь? — спрашивает Нане, показывая ей руку.
— Да я бы в сердце тебе так впилась! — рычит Канделора, скорчившись на скамье.
— Знаю, — спокойно роняет Нане. — Именно это похвальное желание и должно убедить тебя в том, это твое место здесь. Сними же наконец шляпку! Мне нужны йод, чистая вата и бинт, чтобы уберечься от заражения крови. Все это лежит там, в ящике письменного стола, Лоретта, во втором справа. Я ведь знаю, что ты из породы зверушек, которые кусаются, и потому у меня всегда в запасе средства первой помощи.
Канделора берет его руку и смотрит, смотрит исподлобья. Нане в эту минуту любуется ею.
Вечно новая и изменчивая Канделора — неповторимое сочетание форм и красок — постоянно стоит перед его мысленным взором и словно дразнит его взор художника.
В этот полуденный час, под медно–красным августовским солнцем, здесь, в саду виллы, исчерченном резкими тенями, она почти что пугает. Только нынешним утром она возвратилась с морских купаний, погрубевшая, опаленная солнцем, пропитанная солью; блестящие светлые глаза, слегка заострившийся подбородок, выгоревшие рыжие волосы делают ее похожей на сладострастную косулю. Сильные обнаженные руки покрыты царапинами, крепкие ноги, кажется, при каждом движении готовы разодрать легкое тесное платье из голубого газа, которое так и трещит на ее загорелом теле.
Ах, до чего смешное платьице!
Канделора голая подолгу плавала в море, голая подолгу лежала на пустынном пляже, посыпая раскаленным песком свое упругое бронзовое от загара тело и чувствуя, как свежая морская пена щекочет ей пятки. И может ли теперь это легкое голубое платье скрыть ее победоносную наготу? Оно надето из приличия, и Канделора выглядит в нем еще более вызывающе, чем если бы она была вовсе обнаженной.
Еще вне себя от ярости она ловит восхищенный взгляд мужа, и на ее губах сама собой появляется довольная улыбка. Но улыбка эта тотчас сменяется гримасой ожесточения.
И, разразившись рыданиями, Канделора стремительно убегает по направлению к вилле.
Нане Папа провожает ее глазами, и на лице его почти непроизвольно появляется озорная усмешка; затем он смотрит на свою руку, которая мучительно горит под лучами солнца, и внезапно — кто знает почему? — чувствует, что на глазах у него выступают слезы.
И в самом деле, как тяжело, в такой вот августовский полдень, признаться себе в том, что тебя нестерпимо тяготит и давит эта позорная омерзительная жизнь, и, обливаясь от зноя потом, предаваться горьким сожалениям, в то время как твою душу переполняют отвращение и стыд.
В этом исчерченном тенями саду, под зловещим раскаленным солнцем, Нане Папа вдруг ощущает (и ощущение это гнетет, раздражает, почти пугает его) присутствие множества немых свидетелей, как будто застывших в изумлении: это высокие стволы акаций, бассейн, окруженный искусственными утесами, зеленое зеркало неподвижной воды, деревянные скамьи.
Чего они все ждут?
Ведь он–то может передвигаться, может даже уйти отсюда. Но что за наваждение! Ему чудится, будто все эти неодушевленные предметы насмешливо глядят на него отовсюду, и не просто глядят, а опутывают его своими враждебными чарами — чары эти рождает их жуткая неподвижность. И он внезапно сознает, как тщетна, нелепа, просто смешна призрачная возможность его ухода.
Ведь сад этот — воплощение богатства барона Кико. Нане Папа живет здесь уже почти полгода и только сегодня утром испытал неодолимую потребность взглянуть самому и заставить взглянуть Канделору на их общий позор во всей его неприглядности; и он горько смеялся, когда его жена вдруг захотела уйти от этого позора, теперь, когда — по ее словам — они уже могли это сделать.
О да! Ныне картины Нане Папа нарасхват, а его новая неповторимая манера завоевала всеобщее признание, однако не потому, что его искусство и в самом деле понято людьми, а потому, что критика привлекла к его полотнам внимание богатых глупцов, посещающих выставки.
Критика? Ему–то хорошо известно, что это такое! Ведь она запрятана в штанах самого критика. И критик, у которого Канделора однажды с возмущением спросила, справедливо ли, что такой художник, как Нане Папа, умирает с голоду, — критик этот (один из наиболее известных) выступил со внушительной статьей, дабы привлечь внимание глупцов к новому и неповторимому искусству Нане Папа; однако затем он пожелал, чтобы признание, которое с его помощью снискал художник, было не то что бы оплачено, но, скажем... вознаграждено нежной благосклонностью Канделоры. И она, Канделора, опьяненная победой, которая представлялась ей Бог весть какой значительной, внезапно оказалась весьма щедрой на изъявления благодарности — и не только к этому критику, но и ко всем наиболее страстным поклонникам нового искусства ее супруга; она расточала свою благосклонность многим, и в особенности барону Кико, который даже поселил их обоих на своей вилле, дабы иметь честь предоставить приют жрецу искусства и баловню славы... А какое обхождение! Какие подарки! Какие празднества!..
Она не видела в этом ничего дурного, бедняжка Канделора!
Просто ее пугала бедность. Она, правда, отрицает это и говорит, что бедность ее вовсе не пугала, а просто приводила в ярость: не в нужде, мол, дело и даже не в унижении, нет! Но до чего несправедливо, что он, Нане Папа, с его талантом вынужден был жить в нищете. И она захотела отомстить судьбе за эту несправедливость. Но как? А вот как: вилла, автомобиль, прогулочная яхта, драгоценности, путешествия, роскошные туалеты, празднества... Канделора просто кипела, видя, что он, Нане, так и остался прежним, каким был раньше, — ни грустным, ни веселым, по–прежнему безразличным ко всему, кроме своих красок, одержимым только одним стремлением — еще глубже уйти в свое искусство; казалось, им владело неодолимое желание целиком посвятить себя живописи, как будто таким путем он мог отгородиться от шутовского карнавала, который царил вокруг него.
А его слава, разве не составляет она часть все той же шутовской жизни? Разве можно отделить ее от драгоценностей Лоретты, от окружающей роскоши, от всех этих ее поклонников и шумных оргий? Разумеется, нет! Да, его слава неотделима от его позора. Но что ему до того!
Всю свою жизненную энергию, всю свою душу он вкладывает, отдает, растрачивает без остатка для того, чтобы вдохнуть жизнь в какой–нибудь холст; его собственная плоть и кровь становятся плотью и кровью этого холста; кажется, даже мертвый камень, холодный камень оживает на его полотнах; только одно это и имеет цену в его глазах.
Его позор? Его собственная жизнь? Жизнь других людей? Для Нане Папа все это вещи чуждые, преходящие. Стоит ли принимать их в расчет? Для него существует лишь одно самодержавное искусство, лишь одни холсты — плод озарений и мук его души.
Таков его удел, иным он его и не мыслит. Каким далеким представляется ему все окружающее!
Таким же далеким от всего был он и в то утро, когда сказал Лоретте — о, не придавая этому серьезного значения! — что ему хотелось бы, да, очень хотелось бы, чтобы рядом с ним была настоящая подруга, которую не приводила бы в ярость нищета, подруга скромная и кроткая, на чьей груди он мог бы обрести покой и чьи страдания вдохновляли бы его на труд, подобно тому как некогда вдохновляло его на упорный труд его непризнанное искусство.
Лоретта, понятно, набросилась на него, как рассвирепевшая кошка.
Кстати, что она там так долго делает? Почему не возвращается с йодом, бинтом и ватой? Убежала вся в слезах, бедняжка...
Теперь ей, Лоретте, хочется быть любимой. Любимой им, должно быть, именно потому, что он к ней равнодушен. Ну, не безумие ли это? Ведь если бы он ее по–настоящему любил, то непременно убил бы. Да, ему необходимо это равнодушие, ибо только оно помогает сносить позор, виновница которого — она, Канделора. Избавиться от этого позора? Но разве это возможно теперь, когда они оба уже навсегда опозорены? Единственное, что им остается, — не придавать значения всему происходящему и продолжать дальше: ему — писать картины, ей — развлекаться, сегодня с Кико, завтра с другим или же с Кико и с кем–нибудь другим одновременно, а главное — легко, не размышляя. Дело житейское, пустяки... Так или иначе, в жизни все проходит без следа. Но позволительно ли смеяться над уродством, над тем, кто обречен страдать, влача свою безобразную оболочку до той поры, пока он вместе с нею не обратится в прах? Все сущее несет на себе проклятье собственной формы, ему суждено быть таким, и только таким — вечно. Именно в том, чтобы дать почувствовать проклятье формы, и состоит новизна его искусства. Он–то хорошо знает, что всякий горбун должен покорно нести свой горб. Поведение людей подчиняется тому же закону, что и форма. Сделанного нельзя уже ни исправить, ни изменить. Так, к примеру, Канделора, что бы она ни делала, никогда уже не будет так чиста, как в пору бедности. Хотя чистой она, пожалуй, никогда не была, даже в детстве. Иначе она не могла бы веселиться теперь, после всего...
Но откуда же в ней эта внезапная, болезненная жажда чистоты? Это стремление любить его и жить с ним вдвоем спокойной, скромной и тихой жизнью? С ним? После всего, что произошло? Как будто он сейчас в состоянии относиться серьезно к чему бы то ни было, а тем более к любви, к ее любви, опошленной шутовской фигурой Кико, и того критика, и многих других, которые, крепко обнявшись, казалось, несутся вокруг него и Канделоры в шумном веселом хороводе!
Ох! Кровь совсем запеклась, кисть да и вся рука распухли, вены вздулись.
Нане Папа стряхивает раздумье и устремляется к вилле. Дважды — сперва на лестнице, затем в передней — громко зовет:
— Канделора! Канделора!
Голос его гулко отдается в пустом доме. Никакого ответа. Он входит в комнату, расположенную рядом со студией, где стоит его письменный стол, и испуганно шарахается. В этой светлой, залитой солнцем комнате прямо на полу лежит Канделора; она вытянулась во всю длину, платье ее измялось и завернулось, обнажив бедро. Он подбегает, приподнимает ей голову. Господи, что она сделала? Рот, подбородок, шея, грудь — все слилось в сплошное темно–желтое пятно.
Она, видно, выпила целый пузырек йода!
— Это ничего, ничего! — кричит он. — Как ты могла сделать такую глупость, Лоретта? Девочка моя... Но это пустяки! У тебя пожжет немного внутри... Вставай же, вставай!
Нане пробует поднять ее и не может: бедняжку свела судорога. Теперь он больше не называет ее бедняжкой, он шепчет: «Девочка моя... девочка...» Ему кажется немного смешным, что она выпила настойку йода. «Девочка моя, — повторяет он и прибавляет: — Глупышка ты моя!...» И старается оправить ее легкое голубое платье, прикрыть бедро, нагота которого ему неприятна. И отводит глаза, чтобы не видеть этот почерневший рот... Материя рвется от прикосновения его дрожащей руки и еще больше обнажает тело.
Он один на всей вилле. Лоретта только утром возвратилась с морских купаний, а перед отъездом ей вздумалось отпустить всю прислугу. Поэтому никто не может помочь ему поднять ее с пола; некого послать за извозчиком, чтобы отвезти ее в больницу, где окажут немедленную помощь. Но тут, к счастью, с дороги доносится гудок автомобиля: это Кико, барон. И тотчас же появляется сам Кико, одетый с подчеркнутой элегантностью; его тупое, старообразное лицо, которое так не вяжется со стройной еще фигурой, выражает недоумение и растерянность.
— О! Что здесь произошло?
Непроизвольно он вставляет монокль в глаз и пристально разглядывает обнаженное бедро Канделоры.
— Да помоги же мне, черт тебя побери, поднять ее! — с раздражением кричит Нане. — Ты же видишь, мне одному не справиться.
Но когда они поднимают Канделору, из ее руки, плотно прижатой к телу, на пол неожиданно падает пистолет, а на груди — там, где сердце, — оба замечают кровавое пятно.
— А–а! — стонет Нане, перенося с помощью барона тело Канделоры в спальню.
Нет, не судорога, а смерть сковала тело несчастной Лоретты. И, уложив ее труп на постель, Нане Папа как безумный кричит барону:
— Кто еще был с вами на купаньях? Скажи мне, кто еще был с вами на купаньях в этот раз?
Ошеломленный Кико называет несколько имен.
— Ах, дьявол! — свирепо рычит Нане, набрасывается на барона, хватает его за горло и, не помня себя, трясет изо всех сил. — Выходит, все вы, богачи, такие жалкие болваны?!
— Это мы болваны? — лепечет вконец растерявшийся Кико, пятясь от Нане.
— Ну да! Ну да! Ну да! — продолжает с ожесточением вопить Нане Папа. — Ведь это вы, жалкие болваны, пробудили у бедняжки желание быть любимой мною! Понимаешь? Быть любимой мною! Мною! Мною!
Он падает на труп Канделоры и разражается безутешными рыданиями.
В ГОСТИНИЦЕ УМЕР… (Перевод Н. Трауберг)
Сто пятьдесят номеров. Три этажа. Три ряда одинаковых окон; низенькие решетки на подоконниках, серые рамы, серые ставни — распахнутые, плотно закрытые, приоткрытые.
Фасад непригляден и не внушает доверия. Но какой бы он ни был, все равно, если смотреть с улицы, такими смешными кажутся эти сто пятьдесят коробок, по пятидесяти в ряд, и люди, копошащиеся за оконными стеклами.
И все же это вполне приличная и очень удобная гостиница; есть тут и лифты, и расторопные лакеи, и удобные постели, и хороший ресторан, даже автомобиль есть. Многие жалуются, что дорого... Но, в конце концов, все признают, что хотя в других гостиницах и платишь меньше — там куда хуже;, а потом, она в самом центре, в самом оживленном месте города, это тоже немалое преимущество. Хозяина не беспокоят жалобы на высокие цены — он никого силой не держит. Гостиница и так всегда переполнена. Утром, когда приходит пароход, или днем, когда прибывают поезда, многим действительно приходится идти в другие гостиницы; однако не потому, что здесь хуже, а потому, что не хватает номеров.
Здесь останавливаются коммивояжеры, мелкие дельцы, провинциалы, приехавшие по торговым делам, или с жалобой в суд, или за советом к врачу — все ненадолго, дня на три–четыре, а то и меньше. Иногда всего на одни сутки.
Чемоданчиков тут много, больших чемоданов мало.
Приезжают, уезжают, постоянно сменяются, с раннего утра до полуночи. У здешнего управляющего голова идет кругом. Не успеешь оглянуться — нет номеров. Через две минуты — три, четыре, пять номеров освободились! Номер пятнадцатый на первом этаже... Тридцать второй на втором... Второй, двадцатый, сорок пятый — на третьем... А вот еще двое приехали! Бывает, кто–нибудь приедет очень поздно и получает лучший номер в первом этаже; другой прибыл минутой раньше — вынужден довольствоваться пятьдесят первым номером на самом верху. (На каждом этаже пятьдесят комнат, но есть три пятьдесят первых номера, потому что везде пропущен номер семнадцатый; после шестнадцатого идет сразу восемнадцатый. Число хорошее, оно несчастья не приносит.)
В этих комнатах останавливаются те, кто бывает здесь часто: они зовут коридорных по имени и очень гордятся, что их тут знают — не то что других, случайных, которых называют по номеру комнаты. Это — люди бездомные, путешествуют круглый год, с чемоданом не расстаются, им везде хорошо, они ко всему привыкли и всегда довольны собой.
А новички чувствуют себя плохо. Они беспокоятся, они растерянны, им не по себе. Они не только уехали из родных мест — они уехали от самих себя. От своих привычек, от знакомой обстановки и знакомых вещей, которые воплощали будничное, убогое существование. Они не узнают себя, все словно застыло, повисло в пустоте, и они не знают, как эту пустоту заполнить; особенно их пугает, что в любой момент, из–за любого пустяка, самые обычные предметы могут повернуться новой стороной, могут возникнуть какие–то незнакомые мысли и желания. Им удивительна и любопытна эта новая, необычная, загадочная действительность; она не только вокруг, она и внутри, в них самих.
На рассвете их будит беготня коридорных и шум, доносящийся с улицы. Они быстро встают и разбегаются по своим делам. Но всюду закрыто. Адвокат придет только через час; врач принимает с половины десятого. Потом, когда все дела кончены, они возвращаются в номер, вне себя от усталости и раздражения; до поезда еще целых два часа, а то и три! Они ходят взад и вперед по комнате, тяжело вздыхают, поглядывают на кровать — нет, лежать не хочется; на кресла, на канапе — нет, сидеть тоже не хочется; на подоконник — ив окно смотреть не хочется. Какая тут странная кровать! И канапе какое–то странное... А зеркало, Господи, вот ужас! Внезапно они вспоминают о забытых поручениях: надо купить бритву, и еще подвязки для жены, и ошейник для собаки. Они звонят коридорному.
— Ошейник, с такой металлической дощечкой, чтобы там выгравировать имя...
— Чье имя? Собаки?
— Нет, мое. И адрес.
Каких только поручений не дают коридорному! И так все время, ни минуты отдыха — столько дел, столько всяких забот. Вот, например, в номере двенадцатом на втором этаже остановилась старушка, в трауре, она до сих пор никогда не путешествовала, сейчас едет в Америку, и обязательно ей скажи, качает на море или не качает. Приехала она вчера вечером, совсем валилась с ног от усталости, ее с двух сторон поддерживали дети — сын и дочь, тоже в трауре.
А как раз по понедельникам, в шесть часов вечера хозяин желает точно знать, сколько есть свободных номеров. Дело в том, что в это время прибывает пароход из Генуи, привозит итальянцев, возвращающихся из Америки, и одновременно приходит поезд с юга, всегда переполненный.
Вот и вчера в шесть часов приехало больше пятнадцати человек. Удалось разместить только четверых, было всего два свободных номера, оба на втором этаже. Двенадцатый дали этой несчастной старушке с детьми, а тринадцатый, соседний, — какому–то господину, прибывшему из Генуи.
Управляющий записал в книге:
Синьор Персика Джованни, с матерью и сестрой, из Виктории.
Синьор Фунарди Розарио, предприниматель из Нью–Йорка.
Старушка в трауре очень огорчилась, что приходится расстаться с другой семьей, тоже из трех человек. Они вместе ехали в поезде, и новые знакомые рекомендовали ей эту гостиницу. Она совсем расстроилась, когда узнала, что, явись они минутой раньше, буквально одной минутой раньше, их бы поместили рядом, в соседнем номере. А теперь его занял этот синьор Фунарди, предприниматель из Нью–Йорка...
Сын увидел, что она рыдает на плече вчерашней спутницы, и решил попросить синьора Фунарди уступить свой номер. Он обратился к нему по–английски — он ведь тоже американец, приехал вместе с сестрой из Соединенных Штатов дней сорок тому назад; у них в семье несчастье, умер брат, который жил в Сицилии вместе с матерью, и она осталась одна. Теперь она плачет. Она так много плакала, столько пришлось ей вынести, так мучилась в поезде,, она ведь в первый раз путешествует, а ей уже шестьдесят шесть лет! Ей пришлось бросить родной дом и могилу сына, с которым она прожила столько лет... Она рассталась со всем, что ей было дорого, и с родной страной расстается, с Сицилией... Она теперь ко всему и ко всем так привязывается! И к женщине этой так сильно привязалась... Если бы только синьор Фунарди согласился...
Нет. Синьор Фунарди не согласился. Выслушав сбивчивую английскую речь, он отрицательно покачал головой. Решительный отказ. Да, чего уж ждать от такого человека! Настоящий американец, грубиян, вон какие у него густые, насупленные брови, какое толстое лицо, какая щетина! Он отказал и направился к лифту — к себе пошел, в свой тринадцатый номер на втором этаже.
Детям так и не удалось затащить старушку в лифт. Она и слышать не хотела обо всех этих ужасных механических штуках. И подумать только, что нужно ехать в Америку, в самый Нью–Йорк! Туда такой долгий путь, через океан. Дети успокаивали ее, твердили, что на море совсем не качает. Но она не верила. Ее и в поезде укачало! И она поминутно спрашивала всех и каждого — правда ли, что на море совсем не качает?
Коридорные, горничные, носильщики, чтобы избавиться от нее, все утро наперебой советовали ей обратиться к синьору из соседнего номера. Он ведь совсем недавно сошел с корабля в Генуе, едет из Америки! Он провел на пароходе столько времени, пересек океан — кому же лучше знать, качает на море или не качает!
И вот, с самого утра (дети ушли на вокзал за багажом, а потом — купить кое–что), с самого утра, каждые пять минут, старушка тихонько открывает дверь и робко выглядывает в коридор. Она подстерегает синьора из соседнего номера, который пересек океан и скажет ей, качает на море или не качает.
При бледном утреннем свете, падающем из окна в конце мрачного коридора, видит она два ряда башмаков. У каждой двери — пара башмаков. Время от времени та или другая дверь приоткрывается, высовывается рука и забирает их. Ряды постепенно редеют. Вот уже совсем нет башмаков, все забрали — только одна пара еще стоит, как раз у соседней двери, у номера того самого синьора, который приехал из–за океана и скажет ей, качает на море или не качает.
Девять часов; Начало десятого. Половина десятого. Десять. А башмаки все стоят! Стоят и стоят. Одна пара на весь коридор. Так и стоят перед дверью, а дверь закрыта.
Такой шум в коридоре, ходят взад и вперед, двери хлопают, коридорные носятся, горничные бегают, лифт все время гудит, то и дело звонки... А он все спит! Скоро одиннадцать. Башмаки стоят. Да, все еще стоят.
Старуха теряет терпение. Мимо идет лакей. Она подзывает его и указывает на башмаки:
— В чем дело? Неужели он спит?
— А что ж? — пожимает плечами лакей. — Устал. Издалека ведь приехал. — И уходит.
Старушка возмущенно хмыкает и втягивает голову в дверь. Вскоре она опять высовывается и, все больше волнуясь, смотрит на башмаки.
Да, видно, много он путешествовал, много дорог исходил в этих башмаках... Вон какие большие, с резинками, стоптанные, каблуки сбиты, кожа потрескалась... Кто знает, сколько пришлось ему пережить, как он устал, намучился...
Ей очень хочется тихонько постучаться в соседний номер. Но она преодолевает искушение и затворяет дверь. Волнение ее растет, вот и дети что–то запаздывают. Наверное, пошли посмотреть, как там море, они ведь обещали.
Только с земли все равно не разберешь! Море такое большое... Океан... Ну, скажут, что все хорошо. Разве она им поверит? Вот ему, синьору из соседнего номера, поверить можно. Он знает. Она прислушивается, прикладывает ухо к стене — нет ли какого шума? Нет. Тихо. А ведь скоро полдень. Неужели все еще спит?
Звонок. Это к обеду. Из всех дверей выходят люди, они идут по коридору, к лестнице, в столовую. Старушка снова высовывается — интересно, заметят они башмаки или не заметят. Нет. Не замечают. Идут и не смотрят. Приходит коридорный — дети только что вернулись и ждут ее в столовой. И она идет вниз.
В номерах никого. Коридор пуст. Тишина. Только пара башмаков стоит перед закрытой дверью.
Бедные, обиженные башмаки!
Никому они не нужны, стоят без дела, совсем поношенные. Отслужили... Им как будто не по себе, и они так жалобно просят, чтобы их унесли отсюда, забрали наконец.
Примерно через час постояльцы возвращаются из столовой. Старушка смотрит и цепенеет от ужаса. Все останавливаются, начинаются пересуды. Американец... приехал вчера вечером... Видел его кто–нибудь? Он приехал из Генуи... Наверное, прошлую ночь не спал... Да, наверное, качка была... Он из Америки, пересек океан... Страдал от морской болезни, много ночей не спал... вот теперь отдыхает, будет спать целый день. Ну, что вы! Разве тут заснешь? Такой шум!
Башмаки стоят перед закрытой дверью, и почему–то никто не приближается к ним, все выстроились полукругом. Спор разгорается. Лакей бежит за управляющим. Тот посылает за хозяином. Они по очереди стучатся в номер. Ответа нет. Пробуют открыть дверь. Заперто изнутри. Они стучат громче... еще громче... Ничего. Сомнений быть не может. Надо заявить в полицию! К счастью, отделение тут рядом. Вскоре является комиссар, с ним слесарь и два жандарма. Слесарь открывает дверь. Жандармы сдерживают толпу. В номер входят комиссар и хозяин гостиницы.
Человек, приехавший из Америки, умер в чужой постели в первую ночь после приезда. Он умер во сне и вот лежит, подложив ладонь под щеку, как ребенок. Должно быть, удар.
А те, кто остался в живых, кого беспокойная жизнь соединила здесь на один день, бросили свои дела, свои бесконечные хлопоты и толкаются у входа в крохотную ячейку большого улья, где так внезапно оборвалась чужая жизнь.
— Сюда нельзя!
В комнате заперлись следователь и врач. Но через трещину в двери можно разглядеть зеркало, а в нем отражается кровать и мертвое тело — вон, видите, вон его лицо — ой, какой бледный! Ладонь положил под щеку... как будто спит... точно ребенок... Кто он такой? Как его звали? Никто не знает. Известно только, что приехал он из Америки, из Нью–Йорка. Куда он ехал? К кому? Неизвестно. В карманах и в чемодане обнаружены бумаги, но в них тоже нет никаких сведений. Предприниматель... Довольно туманно. В портфеле нашли шестьдесят пять лир, в кошельке — немного мелочи. Один из жандармов ставит на мраморную доску комода бедные, осиротевшие башмаки со стоптанными каблуками.
Толпа понемногу тает, одни идут наверх, другие — вниз, третьи — на улицу, по своим делам.
Только старушка, которая так хотела узнать, качает на море или не качает, стоит перед дверью. Дети зовут ее, она не слышит. Она плачет, ей жалко этого человека. Он умер после трудного путешествия, которое так скоро предстоит ей самой!
Главный вход закрыли в знак траура. Извозчики ругаются, носильщики еще больше — им неудобно ходить через маленькую боковую дверь.
— Закрыто? Почему это?
— Да так. Тут в гостинице умер...
ДУНОВЕНИЕ (Перевод Я. Фарфель)
I
Бывает так, что какая–то новость застанет нас врасплох и до того ошеломит, что мы поневоле находим выход в самом избитом восклицании, в самой пошлой фразе. Вот, например, когда молодой Кальветти, секретарь моего друга Бернабо, сообщил мне, что у Массари скоропостижно умер отец, у которого мы с Бернабо совсем недавно завтракали, я воскликнул: «Вот что такое жизнь! Дунешь — и нет ее!» И, приставив указательный палец к большому, будто держал ими перышко, дунул на них.
Но не успел я это сделать, как молодой Кальветти переменился в лице, согнулся пополам и схватился рукой за грудь, будто почувствовал острую боль где–то внутри. Я не придал этому особого значения, ведь было бы абсурдом предположить, что Кальветти стало дурно из–за моего дурацкого замечания и нелепого жеста, которым я его вдобавок пояснил. Я просто подумал, что его, должно быть, кольнуло то ли в печень, то ли в почки, то ли в сердце, но, что бы это ни было, все скоро пройдет, ничего серьезного тут нет. Да только в тот же день, поближе к вечеру, ко мне влетел совершенно потрясенный Бернабо:
— Знаешь, мой Кальветти умер.
— Умер?
— Сегодня, скоропостижно.
— Да ведь он сегодня был у меня. Постой, в котором же часу? Пожалуй, в три.
— А в половине четвертого умер!
— Через полчаса?
— Через полчаса.
Я сердито посмотрел на него, будто он, подтвердив мои слова, установил какую–то связь (но какую?) между приходом ко мне несчастного юноши и его внезапной смертью. Что–то побуждало меня поскорей отделаться от этой связи, пусть даже случайной, — может быть, я опасался укоров совести. Мне захотелось объяснить его смерть любой причиной, лишь бы она не имела отношения к его приходу, и я рассказал Бернабо о внезапном недомогании молодого человека, когда он был у меня.
— Ах, вот как? Недомогание?
— Вот что такое жизнь! Дунешь — и нет ее.
Да, я машинально повторил эту фразу, потому что пальцы моей правой руки, указательный и большой, украдкой, сами по себе, соединились, а рука, сама по себе, незаметно для меня, поднялась к губам. Клянусь, я не хотел, сознательно, никакой проверки, скорее мне просто вздумалось подшутить над собой, а сделать это я мог только тайком, чтобы не показаться смешным, и, когда пальцы мои оказались возле губ, я потихоньку дунул на них.
По лицу Бернабо видно было, как он расстроен смертью своего молодого секретаря, к которому был очень привязан; мне и раньше случалось видеть, что стоило ему, человеку тучному, полнокровному, с короткой шеей, пробежаться или даже просто ускорить шаг, как его уже мучила одышка и он хватался рукой за сердце, чтобы успокоиться и перевести дух; и сейчас, когда он сделал этот жест и сказал, что задыхается, а в голове у него мутится и в глазах темнеет, разве мог я что–то заподозрить, Боже Правый?
Несмотря на всю мою растерянность и смятение, я сразу бросился на помощь моему бедному другу, который рухнул навзничь в кресло, хватая ртом воздух. Но он с яростью оттолкнул меня; тут уж я вовсе перестал что–либо понимать, застыл в каком–то бесчувственном оцепенении и все стоял и смотрел» как он бьется в этом ярко–красном плюшевом кресле, будто сплошь залитом кровью, бьется уже не как человек, а как раненый зверь, и дышит все тяжелее, и лицо его из багрового становится чуть ли не черным. Одной ногой он уперся в ковер, для того, быть может, чтобы приподняться без чужой помощи, но на этом силы его окончательно иссякли; я увидел, будто в дурном сне, как выскользнул из–под его ноги край ковра и свернулся в трубку. На другой ноге, переброшенной через ручку кресла, задралась штанина и показалась шелковая подвязка, зеленоватая, в розовую полоску.
Прошу не судить меня слишком строго: вся моя тревога как бы раздробилась, рассеялась; я даже мог как ни в чем не бывало вовсе позабыть о ней, стоило мне с привычной неприязнью взглянуть на уродливые картины, висевшие у меня на стенах, или упереться взглядом в эту зеленоватую подвязку с полосками. Но вдруг я опомнился, ужаснувшись,, как мог я в такую минуту настолько отвлечься от происходящего, и крикнул слуге, чтобы он поскорее привел извозчика и помог мне перевезти умирающего в больницу или к нему домой. Пожалуй, лучше домой, решил я, это ближе. Он жил не один, а со старшей сестрой, не то вдовой, не то старой девой, заправлявшей его жизнью с невыносимой, мелочной педантичностью. Бедная женщина побелела как полотно и схватилась за голову: «О Боже, что случилось? Как это случилось?» И пристала ко мне с ножом к горлу — черт ее побери! — чтобы я рассказал ей, что случилось да как оно случилось, именно я, и никто другой, и именно сейчас, когда я вконец обессилел, пока тащился, пятясь, вверх по бесконечной лестнице, изнемогая под страшной тяжестью бесчувственного тела. «На кровать! На кровать!» Похоже было, что она сама не знает, где эта кровать, а мне казалось, что я никогда туда не доберусь. Он все хрипел, пока я его укладывал (да я и сам хрипел), а потом я, смертельно усталый, привалился к стене и, наверно, грохнулся бы на пол, если бы меня не успели подхватить и усадить в кресло. Беспомощно тряся головой, я все же сумел сказать слуге: «Врача, врача!» — и тут же у меня опустились руки при мысли, что я останусь наедине с этой женщиной и она накинется на меня с расспросами. Выручила меня тишина, внезапно наставшая в комнате: хрип прекратился. На мгновение мне почудилось, будто все в мире смолкло, — да так оно и было для несчастного Бернабо, лежавшего на кровати, уже ничего не слыша, ничего не чувствуя. Затем раздались истошные вопли его сестры... Я обомлел. Как вообразить, а тем более поверить, что возможен такой чудовищный случай? Мысли мои разбредались во все стороны. Но как ни был я потрясен, мне невольно показалось забавным, что бедная женщина, всегда называвшая брата Джулио, теперь без конца повторяла: «Джульетте! Джульетте!» — хотя никакие уменьшительные не подходили сейчас к этому тучному, неподвижному телу. Потом настала минута, когда я, в ужасе вскочил с кресла. Покойника словно разозлил крик: «Джульетта! Джульетта!» — и он возразил страшным урчанием в животе. На этот раз я, в свою очередь, поддержал сестру его, не то она со страху грохнулась бы на пол; она потеряла сознание, едва я подхватил ее, и вот, когда она без чувств лежала у меня на руках, а тот, мертвый, лежал на кровати и я не знал, что делать и о чем думать, меня завертел какой–то вихрь безумия, и я принялся нещадно трясти бедняжку, чтобы вернуть ей сознание, — все–таки обморок это уж чересчур. А она, едва придя в себя, отказалась верить, что брат ее умер: «Вы же слышали? Он жив! Не может быть, чтобы он умер!» Наконец пришел врач, засвидетельствовал смерть и объяснил, что урчание в животе — пустяк, просто газы или что–то там еще, и такое случается почти со всеми покойниками. Тогда она, женщина опрятная и сдержанная, очень смутилась и закрыла глаза рукой, как будто врач сказал ей, что с ней после смерти случится то же самое.
Врач этот был плешивый молодой человек, из тех, что свысока поглядывают на других, словно гордясь своей ранней лысиной, разредившей густые заросли черных кудрей, которые исчезли на макушке, но зато буйно разрослись вокруг нее. Близорукие глаза его блестели, как эмаль, из–под сильных стекол очков; был он высоким, довольно толстым, но крепким, под коротеньким носом темнели аккуратно подстриженные пучочки усов, а пухлые, ярко–красные губы очерчены были так резко, что казались накрашенными; он насмешливо и снисходительно держался с бедной, непонятливой женщиной и говорил о смерти с такой нахальной фамильярностью, как будто от постоянного общения с ней ему ни один случай не казался сомнительным или неясным; поэтому в конце концов у меня невольно вырвался ехидный смешок. Пока он говорил, я случайно увидел себя в зеркале платяного шкафа и удивился холодному, недоброжелательному взгляду моего отражения, взгляду, скользнувшему обратно мне в глаза, как змея. А пальцы мои, большой с указательным, все прижимались да прижимались друг к другу с такой силой, будто их свело судорогой до онемения. Как только врач, услышав мой смех, обернулся, я подошел к нему вплотную и, кривя губы в усмешке, чувствуя, что бледнею, прошептал:
— Смотрите, — и показал пальцы, — вот так! Вы ведь здорово разбираетесь в жизни и смерти: дуньте на них и увидите, удастся ли вам прикончить меня. — Он отшатнулся и окинул меня взглядом, думая, не рехнулся ли я. Но я опять придвинулся к нему вплотную: — Всего и надо, что разок дунуть, проверьте! Только дунуть!
Потом я отошел от него и схватил за руку сестру Бернабо:
— Сделайте это вы! Вот так! — Я взял ее руку и поднес к ее губам: — Соедините два пальца и дуньте на них! — Бедная женщина в испуге вытаращила глаза и задрожала; а врач, позабыв, что тут лежит покойник, развеселился и засмеялся. — Я–то больше этого делать не стану, с вами не стану, с меня на сегодня хватит, вот этого одного, а вместе с Кальветти — двоих! Но тогда мне надо бежать отсюда, бежать, поскорее бежать!
И я впрямь убежал как сумасшедший.
На улице безумие сорвалось с цепи. Вечер уже настал, повсюду толпился народ. Дома выступали из темноты один за другим, по мере того как в окнах зажигался свет, а люди бежали, пряча лица от преследующего их пестрого потока фонарей, витрин, световых реклам, бежали, точно скрываясь в этой исступленной толчее от чьих–то неведомых подозрений. Впрочем, не все: вот здесь, в отличие от других, женское лицо озарилось радостью в отблесках красного света; а вон там ребенок смеется на руках у старика, перед зеркальной витриной магазина, где отражаются бесчисленные изумрудные струи. Я рассекал толпу и, держа два пальца возле губ, дул, дул на все эти летящие мимо лица, не оглядываясь, чтобы убедиться, происходит ли позади меня то, что уже дважды случилось за этот день из–за моего дуновения. А если и происходит, кто может обвинить в этом меня? Разве не имею я права приставить два пальца к губам и дунуть на них ради невинного своего развлечения? Кто может всерьез поверить, что в двух моих пальцах и едва ощутимом Дуновении кроется такое неслыханное, страшное могущество? Смешно даже допустить подобную мысль, ее можно считать всего лишь ребячьей шуткой. Вот я и шутил. Язык мой уже одеревенел, так неистово я дул, дыхание едва пробивалось сквозь запекшиеся губы, когда я дошел до конца улицы. Если то, что дважды случилось сегодня, было правдой, значит, черт побери, я, должно быть, прикончил, шутки шутками, более тысячи человек. Не может быть, чтоб на следующий день такой загадочный мор не стал известен, к ужасу всего города. И действительно, все о нем узнали. Газеты на следующее утро только об этом и писали. Город, проснувшись, оказался во власти чудовищного кошмара; разразилась какая–то молниеносная эпидемия, от которой не было спасения. За одну ночь умерло девятьсот шестнадцать человек. На кладбище не знали, как всех похоронить; невозможно даже было вывезти из домов всех умерших. Врачи обнаружили во всех случаях одинаковые симптомы, сперва странное недомогание, потом удушье. При вскрытий не было найдено никаких признаков болезни, вызвавшей столь внезапную смерть.
Я читал эти газеты в смятении, похожем на тяжкое похмелье после буйного пьянства; неясные, смутные образы сплетались и клубились, как туча, увлекая меня за собой в неистовом вихре; и необъяснимая тревога, подобная горячечному ознобу, боролась и билась во мне с чем–то черным и неподвижным, а сознание мое, то поддаваясь ему, то сопротивляясь и вставая на дыбы, то чуть ли не разлетаясь вдребезги, все еще отказывалось подступать к нему вплотную и, едва коснувшись его, вновь жаждало отпрянуть. Сам не знаю толком, что я хотел выразить, когда повторял, судорожно сжимая лоб рукой: «Это только так кажется! Это только так кажется!» Знаю одно, что слова эти, пусть бессмысленные, выручили меня, прорезав как молния окружавшую тучу, и я на мгновение почувствовал себя легким и свободным. «Все это, должно быть, безумие, — думалось мне. — Это запало мне в голову, потому что я сделал вчера такой смешной, ребяческий жест как раз перед тем, как в городе разразилось такое бедствие, эпидемия. Как часто из подобных совпадений рождаются глупейшие суеверия, нелепейшие навязчивые идеи. Впрочем, чтобы от них избавиться, мне надо только подождать несколько дней и не повторять больше моей шутки. Если это эпидемия, а оно, несомненно, так и есть, этот ужасный мор будет продолжаться, а не прекратится внезапно, как начался».
Ладно; я ждал три дня, пять дней, неделю, две; газеты больше не сообщали ни об одном случае заболевания; эпидемия разом кончилась.
Э, нет, я не спятил, прошу прощения; нельзя так жить дальше — вечно сомневаться, помешался я или нет; да еще такое помешательство, что каждый расхохочется, если ему рассказать, нет уж, увольте! От такого наваждения надо освободиться возможно скорее. Но как? Опять дуть на пальцы? Ведь речь идет о человеческих жизнях. Я должен был убедиться, что мой поступок сам по себе совершенно невинен, детская игра, и если люди умирают, я здесь ни при чем. Я, конечно, готов был поверить в новую вспышку эпидемии после двухнедельного перерыва, потому что в конце концов все же не мог допустить мысли, будто смерть зависит от меня. Но в то же время явилось дьявольское искушение обрести уверенность куда более страшную, нежели боязнь помешательства, уверенность, что я обладаю небывалым могуществом, — и разве мог я устоять перед таким искушением?
II
Я должен был позволить себе еще одно испытание, пусть даже робко и осторожно, испытание, возможно, более «справедливое». Смерть, как известно, несправедлива. Та, что зависела от меня (если она от меня зависела), должна быть справедливой.
Я знал одну милую девочку, которая все играла да играла в куклы, а сонные грезы ее сменяли одна другую, непохожие друг на друга, потому что одна уносила ее в горную деревушку, другая — на морской берег, а оттуда — в далекую–предалекую страну, где жили незнакомые люди и говорили на незнакомом языке; однажды сонным грезам пришел конец, и она очнулась, все еще девочкой, только двадцатилетней, но совсем, совсем девочкой, а рядом с ней оказался тот, кто явился ей в последней грезе и внезапно наяву обратился в огромного чужого мужлана, двухметрового верзилу, тупого, ленивого и порочного; а на руках у нее, вместо куклы, лежало несчастное создание, которое и уродцем–то нельзя было назвать, потому что болезненное личико его было поистине ангельским в те редкие минуты, когда его не искажали до чудовищного безобразия непрерывные судороги, сводившие все его тело. «Болезнь такого–то», не помню имени иностранного врача, не то англичанина, не то американца, как будто Потта, если я правильно пишу (силы небесные, назвать болезнь своим именем!), «болезнь Потта», в самой тяжкой и неизлечимой форме. Этот малыш не мог ни говорить, ни ходить, даже ручки его, исхудавшие и исковерканные страшными судорогами, отказывались служить ему. Но он мог так протянуть еще много лет. Ему было только три года. Он вполне мог дожить и до десяти. И вот, как ни трудно поверить, стоило ему оказаться на руках у человека, умело державшего его, например, у этого верзилы отца, несчастный малыш на мгновение успокаивался и улыбался такой блаженной улыбкой, озарявшей его ангельское личико, что все окружающие забывали о судорогах, только что наводивших на них ужас, и слезы нежного сострадания выступали у них на глазах. Казалось невероятным, что врачи не понимают, какую просьбу выражает улыбка малыша. А может быть, они и понимали, ведь сказал же как–то один из них, что нипочем не стал бы колебаться, будь на то разрешение закона и согласие родителей. Закон есть закон, он может быть жестоким и нередко бывает им, а на жалость он не имеет права, не то он уже не будет законом.
Итак, я пришел к этой матери.
Комната, где она приняла меня, была полутемной, и только в глубине ее сквозь занавешенные два окна проступал бледный сумеречный свет. Мать сидела в кресле возле кроватки и держала на руках ребенка, бившегося в судорогах. Я наклонился над ним, не говоря ни слова, держа пальцы возле губ. Когда я дунул, малыш Улыбнулся и испустил дух. Мать, привыкшая к напряженности и корчам крохотного тельца, почувствовала, что оно внезапно обмякло и утихло у нее на руках, и, едва сдержав крик, подняла голову, взглянула на меня, потом на него:
— Боже мой, что ты с ним сделал?
— Ничего, ты же видела, только дунул...
— Но он умер!
— Теперь ему хорошо!
Я взял ребенка у нее из рук и положил его, спокойного, тихого, на кроватку, ангельская улыбка еще играла на его бледных губках.
— Где твой муж? Там? Я избавлю тебя от него тоже. Больше ему незачем мучить тебя. А ты продолжай по–прежнему грезить, девочка. Видишь, что случается, когда очнешься от грез?
Мужа далеко искать не пришлось. Он уже стоял на пороге, остолбеневший великан. Но я, охваченный ликованием, после того как обрел наконец эту страшную уверенность, чувствовал себя огромным, возвышался над ним.
— Что такое жизнь? Смотри, только дунешь вот так — и нет ее! — Я дунул ему в лицо и вышел из этого дома, став гигантом за один вечер.
Это я, это я; смерть — это я; вот она здесь, у меня, в двух пальцах и дуновении; теперь я мог покончить со всеми. Разве не должен я теперь убить всех, чтобы быть справедливым к тем, кто первыми умерли из–за меня? Мне ведь ничего не нужно, лишь хватило бы дыхания. Я это сделаю не из ненависти: я ведь никого не знаю. Как не знает смерть. Дуновение — и конец. Сколько их было, унесенных ее дыханием, живших до тех, кто теперь, как тени, идут мимо меня? Но могу ли я уничтожить все человечество? Чтобы обезлюдели все дома? Все улицы всех городов? И поля, и горы, и моря? Чтобы обезлюдела вся земля? Нет, это невозможно. Тогда вообще не надо, никого больше не надо трогать, никого. Может быть, отрубить эти два пальца? Но как знать, вдруг достаточно только дыхания? Попробовать? Нет, нет. Хватит! При одной мысли об этом я задрожал от ужаса с ног до головы. Вдруг достаточно одного дуновения? Как помешать этому? Как побороть соблазн? Зажать рот рукой? Но разве можно всегда ходить, зажав рот рукой?
В таких бредовых размышлениях я оказался у ворот больницы, распахнутых настежь. Дежурные санитары «Скорой помощи» болтали в подворотне с двумя полицейскими и стариком привратником, а на пороге, в длинном медицинском халате, уперев руки в бока, стоял и глядел на улицу тот самый молодой врач, с которым я повстречался у смертного одра бедняги Бернабо. Когда я проходил мимо, он узнал меня и рассмеялся, быть может, оттого, что я, как в бреду, размахивал руками. Этого я не мог снести! Я остановился, крикнул ему:
— Не смей подстрекать меня сейчас своей дурацкой ухмылкой! Это я, это я; она у меня вот здесь... — И я снова соединил два пальца и показал ему. — А может быть, только дуновение! Хочешь попробовать, вот перед этими господами?
Удивленные, заинтересованные санитары, полицейские и старик привратник подошли поближе. С натянутой улыбкой на красных, будто накрашенных губах и по–прежнему упираясь руками в бока, несчастный не только подумал, нет, он на этот раз посмел сказать мне, пожав плечами:
— Да вы рехнулись!
— Рехнулся? — наступал я на него. — Эпидемия прекратилась две недели назад. Хотите, я ее вызову, и она вспыхнет снова с еще более страшной силой?
— Подув на пальцы?
Общий громогласный хохот, вызванный вопросом врача, поколебал мою решимость. Я ведь дал себе слово не поддаваться раздражению, не обращать внимания на издевки, которые неизбежно сопровождали этот мой жест, стоило кому–нибудь его заметить. Никто, кроме меня, не мог всерьез поверить в его ужасные последствия. И все же раздражение взяло верх, будто открытую рану жгло огнем, когда я почувствовал, что смерть, наделив меня неслыханным могуществом, навсегда заклеймила меня смехом. Как бичом, хлестнул меня вдобавок вопрос молодого врача:
— Кто вам сказал, что эпидемия кончилась? Я обмер:
— Как не кончилась? — Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло от стыда. — Газеты, — сказал я, — не упоминают больше ни об одном случае.
— Газеты, — возразил он, — но не мы, в больнице.
— Были еще случаи?
— Три или четыре в день.
— И вы уверены, что это та самая болезнь?
— Конечно, дорогой синьор, совершенно уверен. Скоро причина ее станет известна. Так что не тратьте дыхание попусту, не надо!
Остальные опять засмеялись.
— Ладно, — сказал я. — Если так, значит, я рехнулся, и вы смело можете позволить мне проделать опыт. Берете вы на себя ответственность также за этих пятерых синьоров?
Молодой врач в ответ на мой вызов минуту стоял в замешательстве, потом снова засмеялся и повернулся к тем пятерым:
— Вы понимаете? Синьор считает, что ему стоит дунуть себе на пальцы — и все. мы умрем, сколько нас есть. Вы согласны? Я лично — да.
Они хором воскликнули, смеясь:
— Да, конечно, дуйте, дуйте, мы все согласны, вот мы стоим перед вами! — И встали в ряд передо мной, глядя мне в лицо.
Это было похоже на сцену из спектакля, здесь, в подворотне больницы, под красной лампочкой «Скорой помощи». Они были уверены, что имеют дело с сумасшедшим. Отступать я уже не мог...
— Стало быть, в случае чего, это эпидемия, а я ни при чем, так? — И для пущей важности я, как обычно, соединил два пальца возле губ.
Когда я дунул, все шестеро изменились в лице, один за другим, все шестеро согнулись пополам, все шестеро прижали руку к груди, глядя друг на друга помутневшими глазами. Потом один из полицейских бросился вперед и схватил меня за руку, но тут же дыхание его пресеклось, ноги подкосились, и он упал, будто молил о помощи; из остальных — кто бормотал что–то, как в бреду, кто размахивал руками, кто стоял неподвижно, разинув рот. Инстинктивно я протянул вперед свободную руку, чтобы поддержать молодого врача, падавшего на меня, но он, как раньше Бернабо, гневно оттолкнул меня и с размаху рухнул на землю. Меж тем перед воротами собрались люди, сперва кучкой, потом уже толпой. Зеваки, что стояли подальше, протискивались вперед, в то время как передние, испугавшись, пятились прочь от порога и отталкивали любопытных, хотевших поглазеть на то, что творится в подворотне. Они спрашивали меня, думая, что я–то уж должен знать, очевидно, потому, что лицо мое, в отличие от других, не выражало ни любопытства, ни тревоги, ни страха. Не могу сказать, как я выглядел тогда; я чувствовал себя бродягой, на которого внезапно набросилась свора собак. У меня не было другого выхода, кроме привычного ребяческого жеста. Наверное, в глазах моих все же появился испуг и в то же время жалость к тем шестерым, что упали, да и к остальным, окружавшим меня; может быть, я даже улыбнулся, говоря то одному, то другому, чтобы меня пропустили:
— Надо только дунуть... вот так... вот так…
Молодой врач, упорствуя до конца, лежа на земле и корчась в судорогах, кричал:
— Эпидемия! Эпидемия!
Началось всеобщее бегство; какое–то время я еще видел, как я иду совсем один, медленным шагом, разговаривая сам с собой, как пьяный, тихо, еле слышно; и вот я оказался, не знаю как, перед зеркалом какого–то магазина, все еще держа два пальца возле губ и дуя на них: «Вот так... вот так...» — быть может, чтобы доказать единственно возможным способом, как невинен этот жест, направляя его на себя же. Еще мгновение я видел себя в этом зеркале, хотя сам не понимал, как могут что–то видеть мои глаза, так глубоко они запали на моем помертвелом лице; потом то ли пустота меня поглотила, то ли закружилась голова, только я больше себя не видел: я дотронулся до зеркала, оно было здесь, передо мной, но я в нем не отражался; я ощупал себя, голову, тело, руки; руками я чувствовал свое тело, но не видел его и не видел рук, которыми ощупывал себя; однако слепым я не был — я видел все: улицу, людей, дома, зеркало; и вот я снова дотронулся до него, прижался к нему вплотную, силясь найти себя в нем, но меня там не было, хотя я ощущал пальцами холодное стекло. Меня охватило неистовое желание помчаться вдогонку за моим отражением, сгинувшим, изгнанным из зеркала моим же дыханием; так я стоял, прижавшись к стеклу, пока кто–то, выйдя из магазина, не столкнулся со мной и тотчас в ужасе отпрянул, раскрыв рот в немом крике, не вырвавшемся из горла; ведь он столкнулся с кем–то, значит, кто–то должен здесь стоять, но никого не было; тогда я почувствовал непреодолимое желание уверить его, что я здесь; словно воздух говорил моим голосом, я выдохнул ему в лицо: «Эпидемия!» — и одним толчком в грудь свалил его на землю. Поднялась суматоха, улицу заполнили люди; те, кто в страхе убежали, теперь повернули обратно и возбужденно, с безумными лицами толклись вокруг меня как одержимые, они появлялись отовсюду, и не было им числа, улица пестрела и клубилась, как густой дым, душивший меня, носилась передо мной в чаду страшного, бредового сна; но как ни стискивала меня толпа, я пробивался вперед, я расчищал себе путь, дуя на невидимые пальцы. «Эпидемия! Эпидемия!» Меня больше не было; теперь наконец я понял: я — эпидемия, а человеческие жизни — тени, уносимые прочь одним моим дуновением. Сколько времени длился этот кошмар? Всю ночь и следующее утро я боролся, силясь выбраться из толпы, и наконец–то покинул тесные улицы страшного города и почувствовал себя воздухом среди воздуха полей. Все золотилось в солнечных лучах; у меня не было тела, не было тени; зелень казалась такой свежей и юной, будто ее только что породила моя безмерная жажда прохлады; и я слился с ней настолько, что чувствовал, как вздрагивает каждая травинка под тяжестью какой–нибудь букашки. Мне вздумалось оторваться от земли, и я взлетел клочком бумаги, подражая любовному полету двух белых бабочек; и теперь я и впрямь шутил; ведь только дунь — и нет их, и вот оборванные крылья бабочек уже носятся в воздухе и падают, легкие, как клочки бумаги. А там, подальше, на скамье под олеандрами сидела молоденькая девушка в небесно–голубом, воздушном платье и большой соломенной шляпе, украшенной цветами шиповника; ресницы ее трепетали; она мечтала и улыбалась такой улыбкой, что казалась мне далекой, как образ моей юности. А может быть, она и была образом всего, что некогда жило здесь, и отныне останется она на земле одна–одинешенька. Но только дунь — и нет ее! И я, до отчаяния растроганный ее беспредельной нежностью, смотрел на нее издали, оставаясь невидимым, крепко держа себя за руки, затаив дыхание; а взгляд мой был воздухом, что ласкал ее, но она даже не чувствовала его прикосновения.
БОСИКОМ ПО ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЕ (Перевод Л. Степановой)
Он заснул в другой комнате прямо в кресле, и теперь его будили — пора, если он хочет посмотреть на нее в последний раз, пока не опустилась крышка гроба.
— Но ведь темно еще?! Зачем так рано?
— Нет, уже половина десятого. Просто день такой выдался — почти ничего не видно. А вынос — в десять.
Он смотрит по сторонам как невменяемый. Не верится, что можно было столько спать, целую ночь, и так крепко. Он совсем, отупел от сна, и боль отчаяния, мучившая его последние дни, тоже притупилась; непривычные лица соседей, обступивших его кресло, в сумраке утра; хочется поднять руки, заслониться от них, но сон растекся по всему телу, будто налитому свинцом; только в пальцах ног почему–то возникает желание встать, которое тут же пропадает. Неужели опять надо выказывать свое горе? «И всегда...» — вырывается у него, но говорит он с видом человека, который поудобнее сворачивается под одеялом, чтобы снова заснуть. Так что все переглядываются в недоумении. Что, всегда?
Что сегодня выдался такой день — это ему хотелось бы сказать, но нет смысла. День смерти, день похорон — они всегда такие в памяти, сумрачные — почти ничего не видно. Он спал, а между тем в комнате покойницы, там окна...
— Окна?
Да, ставни закрыты. А может, их и не открывали. Там, наверное, теплый ровный свет от больших оплывающих свечей, кровать вынесена, гроб стоит прямо на полу; жесткое бледное лицо в оборках из кремового атласа.
Нет, хватит; он уже видел ее.
И он закрывает глаза, опускает веки, распухшие от пролитых за последние дни слез. Хватит. Теперь он выспался, и все кончено, перегорело, все погребено этим сном. Хорошо бы так и остаться с этим ощущением расслабленности и блаженной щемящей пустоты. Надо закрыть гроб; закрыть, и с ним вынести все свое прошлое.
Но гроб еще тут и...
Он вскакивает на ноги, пошатывается; его поддерживают и, как слепого, подводят к гробу; остановившись, он открывает глаза и, увидев, выкрикивает имя покойной, живое имя, точно ему одному могла открыться в этом имени она вся, живая, какой была для него всегда, во всех действиях и проявлениях жизни. С горькой досадой смотрит он на окружающих — где им понять такое, стоят и видят только мертвое тело, хотя бы задумались, что значит для него эта потеря. Хотелось бы крикнуть это им; но тут сын успевает оттащить его от гроба с такой яростью, что он сразу догадывается, в чем дело. От этой догадки он холодеет, как от разоблачения. Стыдно, опять ему не справиться со своими порывами, даже в такой момент и после целой ночи сна. Теперь нужно торопиться, нельзя уже больше задерживать друзей, собравшихся, чтобы проводить гроб в церковь.
— Отойди, отойди. Возьми себя в руки, папа.
Его глаза становятся жесткими и жалостными, как у нищего, и он покорно возвращается на свое место.
Взять себя в руки. Разумеется. Бесполезно выкрикивать то, что поднимается из нутра и все равно не обретает смысла не только в словах, которые выкрикиваешь, но даже в поступках. Разве может сравниться участь мужа, осиротевшего в том возрасте, когда он не может обойтись без жены, с судьбою сына, обреченного пережить своих родителей волею провидения. Провидение! А на что оно обрекает его? Провидеть скорую женитьбу, сразу же после трех месяцев глубокого траура, под тем предлогом, что и тому и другому нужна женщина, которая заправляла бы хозяйством в доме.
— Парди! Парди! — громко зовут из прихожей.
И он еще больше холодеет, когда до него впервые доходит, что этим именем, его именем, зовут уже не его, а его сына и что это имя будет теперь живым для сына, а не для него. А он–то, дурак, там, будто живое, выкрикивал имя жены, какое кощунство, стыдно. Да, да, бесполезный порыв, он и сам это признает, после того как сон, великий сон освободил его от всего. Теперь, в самом деле, живо в нем только любопытство: посмотреть, каким станет дом после переделки, что изменится, куда его положат спать. Большую двуспальную кровать уже вынесли. Может, для него поставят другую, поменьше? Например, кровать его сына. Ну конечно, он будет теперь спать в кровати своего сына. А сын завтра проснется в его большой двуспальной кровати рядом с женой и обнимет ее. Он же на своем узком ложе будет обнимать пустоту.
Он совсем ослаб, в голове страшная путаница и ощущение все той же пустоты внутри и снаружи. Слабость в теле, наверное, оттого что он долго сидел без движения; но стоит только пересилить себя и встать, как — он уверен — его понесет в этой пустоте как пушинку, ведь у него внутри ничего нет, его жизнь обратилась в ничто. Он не видит особой разницы между собой и этим вот стулом. Стул, наверное, очень даже доволен собой на своих четырех ножках, тогда как он не знает, что делать со своими ногами и куда девать руки. Кому теперь интересна его жизнь? А впрочем, и ему ни до чьей жизни нет дела. Но свою жизнь, коль скоро она у него есть, надо ведь как–то доживать. Начать сызнова. Жизнь, о которой он пока еще не может думать, о которой он никогда бы и не стал думать, если бы все оставалось так, как перед тем, когда все кончилось. Теперь, когда он выбит из колеи, выброшен, разом, внезапно, еще не старый и уже не молодой...
Он улыбается и пожимает плечами. Для сына он сразу и внезапно стал почти что ребенком. Известное дело, так и выходит обычно, что отцы превращаются в детей своих собственных детей, которые выросли, встали на ноги и пошли дальше отца, заняв положение, позволяющее отправить отца на покой и возместить то, что получили от него в детстве, теперь, когда он сам стал опять как маленький.
Узкая кроватка...
Даже детскую, где прежде спал его сын, ему не отдали, а отвели другую комнату, почти потайную, с выходом во двор, под тем предлогом, что там ему будет гораздо свободнее и удобнее жить по–своему среди самого лучшего, что отобрали из его мебели и расставили так искусно, что никому бы и в голову не пришло, что это бывшая каморка его прислуги. В передних комнатах поселилась новая и претенциозная мебель, и все в них было новое,; вплоть до такой роскоши, как ковры. В этом заново отделанном доме не осталось и следа от его прежних привычек, даже старые вещи, его вещи, распиханные по полутемным комнатам и расставленные так, что теперь не знают, как им себя держать друг с другом. Но — странное дело! — пренебрежение к нему и к его вещам не вызывает в нем никакой обиды, и не только из–за того, что, любуясь заново отделанными комнатами, он радуется за сына, но, в глубине души, из–за иного чувства, еще ему самому неясного ощущения другой жизни, которая с ее лоском и глянцем, с преобладанием новых сторон, вытеснила даже воспоминание о старой. Что–то новое может незаметно возродиться и в нем. Сам того не замечая, он как бы улавливает это новое в полоске света, который проникает из двери, распахнувшейся у него за спиной, через которую можно выскользнуть, пользуясь удобным случаем, нередким теперь, когда никто не обращает на него внимания, предоставив ему право «жить по–своему», как на каникулах, в полумраке заброшенных комнат. Он чувствует в себе небывалую легкость. А в глаза ему брызнул яркий свет, который, перекрасив все вокруг, заставляет его без конца удивляться, будто он и вправду стал ребенком. С глазами, какие были у него в детстве. Острыми. Широко раскрытыми на мир, где все кажется новым.
Он взял себе за правило выходить по утрам из дому, чтобы хоть как–то провести свои каникулы, которые уже начались, но, видимо, не кончатся, пока не кончится его жизнь. Он избавился от всех хлопот, договорившись с сыном, сколько из своей пенсии будет отдавать каждый месяц на свое содержание; мало, он предпочел бы отдавать все, чтобы быть свободнее и не иметь никаких соблазнов, ведь ему ничего не нужно; но сын говорит, а вдруг тебе чего захочется, какое–нибудь желание. Какое? Теперь ему довольно лишь наблюдать жизнь со стороны.
Сбросив с себя груз всего прежнего опыта, он не знает, о чем говорить со стариками, и избегает их, а с молодыми не может: они его считают старым; и он идет в парк, где играют дети.
Начинать новую жизнь надо вместе с детьми на луговой траве. Там, где она выше всего и так густа, что одуряет запахом свежести, там дети играют в прятки и скрываются с головой. Беспрерывное журчание ручья, укрытого в траве, заглушает шорох задетых листьев. Но дети быстро забывают игру и начинают разуваться, вот уже босая ножка розовеет среди зелени. Какое, должно быть, счастье — погрузить ноги в свежесть молодой травы! Он тоже пробует украдкой высвободить ногу и уже расшнуровывает второй ботинок, как вдруг перед ним возникает девичье лицо с горящими щеками и сверкающими глазами, она кричит ему: «Старый кобель!» — тороплива прикрывая колени подолом, потому что он смотрит снизу вверх, а подол у нее слегка задрался, зацепившись за ветку.
Он застывает как в шоке. Что она подумала? Убежала! У него было такое невинное желание. Он прикрывает обеими руками босую заскорузлую ногу. Что в этом плохого? Что, если он старый, то нельзя доставить себе удовольствие и, как дети, побегать босиком по зеленой траве? Сразу думают о чем–то дурном — только потому, что он старый? Конечно, он может в мгновение ока превратиться из ребенка в мужчину, он еще мужчина, мужчина, только к чему об этом думать, да он и не думал, он–то был как ребенок и просто хотел снять ботинки. Ах, как это низко, несправедливо! Бессовестная! И он зарывается лицом в траву. Его скорбь, его утрата и то, что у него больше никого нет, и потому он довольствуется малым, и что даже в этом ему отказано, будто он собирался сделать что–то непристойное, — все сразу подступает к его горлу горькой обидой. Дура. Если бы он захотел, сын ведь тоже допускает «какое–нибудь желание», у него нашлись бы на это деньги.
Он поднимается с перекошенным от возмущения лицом. Трясущимися руками стыдливо натягивает носок, надевает ботинок. Кровь прилила к его голове, и он сердито моргает глазами. Он знает, куда надо пойти для этого, знает.
Но по дороге он успокаивается и возвращается домой. Среди этого нагромождения вещей, будто нарочно устроенного, чтобы свести его с ума, он пробирается к своей кровати и валится на нее лицом к стене.
ПОСЕЩЕНИЕ (Перевод Н. Рыковой)
Сотни раз говорил ему — не пускать ко мне никого, с кем я заранее не условился. «Дама пришла» — подумаешь. Оправданье.
— Ты сказал — Уэйль?
— Так точно, синьор, Вайль.
— Госпожа Уэйль скончалась вчера во Флоренции.
— Она сказала, что ей надо что–то вам напомнить.
(Сейчас я уже не знаю, приснилось мне это или действительно мы с моим слугой обменялись этими репликами. Он пускал ко мне много людей без предварительной договоренности, но то, что сейчас он доложил о покойнице, показалось мне совсем уж невероятным. Тем более что я ведь только что видел ее, синьору Уэйль, во сне, еще совсем юную и красивую. Помню, что, едва проснувшись, я прочел в газете сообщение о ее смерти во Флоренции, а затем опять заснул и увидел ее во сне, улыбающуюся, смущенную: она была в полной растерянности, куда ей укрыться, ибо ее обволакивало белое весеннее облачко, которое мало–помалу таяло, исчезало, так что сквозь него уже проступала розовая нагота ее тела, и притом как раз там, где стыдливость требует, чтобы оно было закрыто. Она старалась удержать этот легкий покров рукой, но разве можно натянуть на себя еле осязаемую кайму тумана?)
Мой рабочий кабинет выходит с двух сторон окнами в обширный густой сад. Это пять больших окон: три на одной стороне, два — на другой. Первые три — побольше, сводчатые; другие два — стеклянные двери, выходящие на великолепную, залитую солнцем террасу на южной стороне. И над всеми пятью — непрерывный трепет голубых шелковых маркиз. Но в комнате воздух кажется зеленоватым из–за отражения высящихся перед окнами деревьев. Спинкой к среднему окну стоит широкий диван с обивкой, тоже зеленой, но более светлого оттенка морской волны. И какое, правду сказать, наслаждение отдыхать, точнее говоря — утопать во всей этой зелени и лазури.
Входя в кабинет, я еще держал в руке газету с сообщением о кончине вчера во Флоренции синьоры Уэйль. У меня не было и тени сомнения в том, что я его прочел: газета тут, у меня в руках, но тут же сидит на диване, ожидая меня, прекрасная синьора Анна Уэйль, она самая, и никто другой. Впрочем, возможно, она и не настоящая. Да, возможно. Это бы меня, по правде сказать, не удивило: я ведь с некоторых пор привык к подобным явлениям. А если нет — выбор между двумя возможностями не велик: значит, сообщение газеты о ее смерти — неправда.
Вот она здесь, одетая, как три года назад, в белое летнее платье из органди, простое и почти детское, хотя и с большим вырезом на груди. (Понимаю — это и есть облако из моего сна.) На голове у нее большая соломенная шляпа, подвязанная под подбородком широкими черными шелковыми лентами. Глаза слегка сощурены, как бы от яркого света, бьющего в стеклянные двери напротив дивана. Но, странное дело, этому же свету она подставляет, нарочито запрокинув голову, свое несказанно нежное горло, как бы устремленное от упоительной белой груди к чистейшей линии подбородка.
Эта поза, принятая ею, без сомнения, совершенно сознательно, делает внезапно для меня все вполне явным. Передо мною то, что прекрасная синьора Уэйль должна была напомнить мне — нежность этого горла, белизну груди, — одно лишь мгновение, но такое, которое становится вечностью и смывает все, даже смерть, как и жизнь, в некоем божественном опьянении, в котором возникает из глубокой тайны, озаряясь и принимая четкие очертания, все самое главное и существенное, раз и навсегда.
Я едва знаю ее (если она умерла, я должен был бы сказать: «едва знал ее», но ведь она здесь, сейчас, как в абсолютности вечно длящегося времени, поэтому и можно сказать: «едва знаю»). Я встретился с нею только один раз на летнем приеме в саду виллы наших с ней общих друзей, куда она явилась в этом платье из белого органди. В том саду в то утро женщины покрасивее и помоложе словно искрились той страстностью, которую в любой женщине порождает радость оттого, что она желанна. Они охотно отдавались кружению танца и, чтобы еще распалить мужское желание, улыбаясь в объятиях кавалера, смотрели прямо на его губы, как бы вызывая на поцелуй. Ранним летом возникают такие упоительные минуты, от еще немного пьянящего тепла первых солнечных лучей, когда в мягком воздухе как бы действует некая закваска от тонких запахов, источаемых свежей зеленью лугов и яркой, сочной, возбуждающей зеленью густых деревьев сада. Она обволакивает тебя нитями светящихся звуков, ошеломляет внезапными вспышками света, беглыми молниями, блаженным головокружением. И сладость жизни становится как бы призрачной, порожденной и всем и ничем, ничто не может быть признано истинным, можно ничему не придавать значения, вспоминая позже, в сумраке, когда солнце это угасает, все сделанное и сказанное. Да, она меня поцеловала. Да, я ей обещал. Но поцелуй едва коснулся моих волос во время танца. Но обещание было дано так, в шутку. Скажу, что я не придал ему значения. Спрошу у нее, неужели же не чистое безумие притязать на то, чтобы я взаправду сдержал его?
Можно быть полностью уверенным в том, что ничего подобного не происходило с прекрасной синьорой Анной Уэйль, ибо прелестный облик ее казался столь отрешенным от окружающего, столь умиротворенным, что ничье плотское вожделение и не могло на нее посягнуть. Я же мог бы поклясться, что именно из–за моего почтения к ней в глазах ее то и дело вспыхивали искры лукавого, даже предательского смеха, и не потому, чтобы про себя она Считала, что отнюдь не заслуживает этого уважения, а потому что из–за него (ей, впрочем, вполне подобающего) никто не решается показать, что желает ее как женщину. Возможно, что этот огонек в ее глазах означал зависть к другим женщинам и ревность, возможно — гнев и печальную иронию, а возможно также — все это, вместе взятое.
Наступил момент, когда я мог в этом убедиться. Сперва я некоторое время следил за ней, когда она танцевала и участвовала в общих играх, а под конец стала возиться с детьми и как безумная бегать с ними по лужайке — может быть, просто ради того, чтобы как–то отвести душу. Со мною была хозяйка дома, которой захотелось представить меня ей как раз в тот момент, когда она, нагнувшись, приглаживала детям растрепанные волосы и приводила в порядок их одежду. Чтобы поздороваться со мной, синьора Анна Уэйль быстро выпрямилась, но ей не пришло в голову сразу же поправить широкий вырез своего платья из органди. Так что и я не смог не разглядеть ее грудь гораздо подробнее, чем это, может быть, следовало. Длилось это лишь мгновение, и она тотчас же привела в порядок свое декольте. Но по тому, как она взглянула на меня, делая это почти незаметное движение, я понял, что моя невольная нескромность не была ей неприятна. И глаза ее заблестели теперь совсем по–иному — они светились какой–то почти исступленной признательностью, ибо в моих глазах она прочла уже не почтительность, а благодарность за то, что я увидел, — благодарность столь чистую, что для какого–либо похотливого чувства в ней не было места, была в ней только ясная очевидность того, как высока в моих глазах цена радости, которую может дать любовь такой женщины, как она, столь непосредственно стыдливым движением прикрывшая свою божественную едва мелькнувшую наготу человеку, который сумел бы эту любовь заслужить.
Вот что сказали ей мои глаза, еще сияющие восхищением, и вот почему я стал для нее единственным настоящим мужчиной среди всех, находившихся в этом саду, так же как и она среди всех других женщин предстала мне подлинной женщиной. И затем, пока продолжался этот прием, мы уже не в состоянии были разлучиться друг с другом. Но, кроме этого молчаливого взаимопонимания, длившегося одно мгновение, между нами ничего не произошло. Ничего не сказали мы друг другу, кроме вполне обычного и общепринятого — о прелести этого сада, о том, как нам здесь весело, о милом гостеприимстве наших общих друзей; но, хотя разговор шел только о посторонних и случайных вещах, в глазах ее все время блистал счастливый смех, точно струйки живой воды, вырвавшейся из глубин этого нашего таинственного взаимопонимания и блаженно растекавшейся, не обращая внимания на камни и травы, среди которых она бежит. Таким камнем оказался и ее муж, на которого мы вскоре натолкнулись у поворота дорожки. Она познакомила меня с ним. Я на миг поднял глаза, чтобы они встретились с ее глазами. Еле заметное движение век скрыло их ликующий блеск. И только этим движением прекрасная синьора доверительно сказала мне, что этот ее муж, славный, в общем, человек, никогда и не пытался понять того, что в одно мгновение понял я. И что это отнюдь не смешно, а для нее — великая скорбь, ибо такая женщина, как она, никогда не могла бы принадлежать другому человеку. Но это и не важно. Достаточно было того, что хоть один по–настоящему понял ее.
Нет, нет, теперь, когда мы снова шли и беседовали вдвоем, я не должен был даже нечаянно глянуть на ее обнаженную грудь и заставить ее руку незаметным движением воспрепятствовать моей нескромности. Теперь было бы грехом с моей стороны на чем–то настаивать, а с ее — проявить уступчивость. Между нами возникла некая близость. Ее и было достаточно. Речь уже шла не о нас двоих. Не о том, чтобы пытаться узнать или хоть мельком увидеть ее, прекрасную, такой, какой она сама себя знала. В этом случае пришлось бы обдумывать другие вещи, касавшиеся уже меня, и прежде всего то обстоятельство, что мне следовало бы быть самое меньшее лет на двадцать моложе. Нет, не надо по этому поводу скорбных и бесполезных сожалений. Достаточно прекрасно уже то, что мы на миг преисполнились с толь чистой радостью в солнечном сиянии этого весеннего дня. Нам открылось самое существенное, радостное на земле: в невинной обнаженности своей, среди зелени земного рая женское тело, дарованное Богом мужчине как высшая награда за все его труды, тяготы и заботы.
— Если бы я думала только о тебе и обо мне...
Я резко обернулся. Как! Она говорит мне «ты». Но прекрасная синьора Анна Уэйль исчезла.
И все же я вновь обретаю ее, она тут, рядом со мной, в своем белом платье из органди, в зеленоватом свете, наполняющем кабинет.
— А мои груди — если бы ты только знал! Из–за них я и умерла. У меня их вырезали из–за жесткого недуга, резали дважды. Первый раз едва год спустя после того, как ты — помнишь? — случайно увидел их. Теперь я могу обеими руками расширить вырез платья и показать тебе их такими, какими они были. Смотри же, смотри теперь, когда меня нет.
Я посмотрел: на диване лишь одно белое пятно — развернутая газета.
ДОМ СМЕРТНОЙ ТРЕВОГИ (Перевод Я. Рыковой)
Входя в дом, посетитель, без сомнения, назвал свое имя. Но старая кривая негритянка, похожая на обезьяну в фартуке, которая открыла ему дверь, либо не расслышала, либо сразу позабыла о нем, так что в течение трех четвертей часа он оставался в этом молчаливом доме безымянным «господином, который там ожидает».
«Там» — означало в гостиной.
Кроме этой старой негритянки, застрявшей у себя на кухне, в доме никого не было, и царило такое глубокое молчание, что медленное тиканье старинных стенных часов где–то в столовой отчетливо слышалось во всех других комнатах так, словно это билось само сердце дома. И казалось, что различные предметы обстановки в каждой из остальных комнат, даже самых дальних, старые, но содержавшиеся в полном порядке, немного смешные, так как уже совершенно вышли из моды, прислушиваются к этому тиканью и их как–то успокаивает ощущение, что в этом доме никогда ничего не произойдет и поэтому они смогут, по–прежнему бесполезные, спокойно стоять на месте, любоваться друг другом, молчаливо сожалеть о себе, а вернее всего — просто дремать.
И мебель, особенно старая, обладает душой, которую придают ей воспоминания дома, где она так долго стояла. Чтобы в этом убедиться, достаточно появления какой–нибудь новой вещи среди старых.
Новая вещь души еще не имеет, но уже благодаря одному тому, что она выбрана и приобретена, стремится ее получить.
Стоит понаблюдать, как неодобрительно смотрят на нее старые вещи: для них она нахальная втируша, которая еще ничего не знает, Да и не может знать, и потому питает невесть какие иллюзии; они–то, старые вещи, не имеют уже ни малейших иллюзий и потому всегда так печальны; им хорошо известно, что со временем замирают и воспоминания и что вместе с ними мало–помалу замрет и их душа; потому–то обивка у них выцвела, дерево покрылось паутиной, и стоят они себе, тоже не разговаривая друг с другом.
Если, на их беду, еще живет какое–то воспоминание, с ними связанное, и притом неприятное, им грозит опасность быть просто выброшенными.
Это старое кресло, например, с величайшим сокрушением наблюдает, как мелкий прах от его изъеденной молью обивки падает на поверхность стоящего перед ним столика, к которому оно очень привязано. Оно знает, что тяжесть его слишком сильно давит на слабые ножки, особенно на обе задние, и опасается, — как знать? — не возьмут ли его вдруг за спинку и не стащат ли с места. Пока этот столик стоит перед ним, оно чувствует себя как–то уверенней, ему кажется, что оно как бы находится под защитой; и ему очень не хотелось бы, чтобы моль придала столику этой пыльцой из объеденной обивки совсем неказистый вид и его бы вдруг взяли и убрали на чердак.
Все эти наблюдения и соображения принадлежали безымянному посетителю, позабытому в гостиной.
Этот человек, почти полностью растворившийся в тишине дома и уже потерявший в нем свое имя, казалось, утратил там и личность свою, превратившись в одну из тех вещей, с которыми он себя отождествил, внимательно прислушиваясь к медленному тиканью стенных часов, которое так отчетливо доносилось сюда через оставшуюся приоткрытой дверь.
Невысокий и худощавый, он тонул в большом темном кресле, крытом лиловым бархатом, на которое уселся. Тонул он и в своей одежде: его хлипкие ручки и ножки словно терялись в рукавах и штанинах. Он был только лысым черепом с двумя острыми глазами и усами, словно у крысы.
Разумеется, хозяин дома уже позабыл, что сам пригласил этого человека к себе, и тот уже не раз подумывал о том, имеет ли он еще право сидеть здесь и поджидать хозяина теперь, когда любое время, подходящее для посещения, уже истекло.
Но он, впрочем, вовсе и не поджидал хозяина дома. Если бы тот сейчас и появился, его бы это ничуть не обрадовало.
Слившись с этим креслом, в котором сидел, неподвижно глядя с какой–то судорожной пристальностью перед собой, со все растущей в нем и прерывавшей ему дыхание тревогой, он ждал совсем иного, ужасного. Он ждал крика с улицы, крика, возвещавшего ему о чьей–то смерти, смерти случайного прохожего, который среди стольких других людей, проходящих по улице, — мужчин, женщин, молодых, старых, детей, чьи шаги и голоса пока еще невнятно долетали до него, — должен был сейчас пройти под окном этой гостиной на пятом этаже.
И все потому, что через полуоткрытую дверь вошел, даже не обратив на посетителя ни малейшего внимания, большой серый кот и легким прыжком вскочил на подоконник открытого окна.
Из всех животных меньше всего шума производят кошки, не могло не быть кошки в такой тихой квартире, как эта.
На голубом прямоугольнике окна резко выделялся вазон с розовой геранью. Голубизна эта, сперва яркая, ослепительная, мало–помалу подергивалась лиловатостью, словно легким дыханием сумрака, дошедшего до нее издалека, от еще отдаленного вечернего часа.
Ласточки, стремительно пролетавшие мимо окна туда и обратно и словно опьяненные последними лучами дня, издавали по временам пронзительные крики и стрелой неслись на окно, словно стремясь прорваться в гостиную, но, достигнув подоконника, мгновенно устремлялись назад. Но не все. Каждый раз то одна, то другая прятались под карниз неизвестно как и зачем.
Еще до того, как кот зашел в гостиную, посетителем завладело любопытство, он подошел к окну, немного отодвинул вазон с геранью и высунулся, желая найти этому объяснение. Таким образом он обнаружил, что пара ласточек устроила себе гнездо под карнизом окна.
Но вот что было ужасно: все проходившие внизу по этой улице погружены были в мысли о своих заботах и делах, и никому из них и в голову не пришло бы, что под карнизом одного из окон пятого этажа одного из многочисленных домов этой улицы устроили себе гнездо две ласточки, а на подоконнике того же окна стоит вазон с геранью и тут же находится кот, пытающийся поймать этих ласточек. И еще меньше мог думать об идущей по улице толпе кот, который в данный момент, весь сжавшись, укрылся за этим вазоном и, слегка двигая головой направо и налево, следит будто бы равнодушным взглядом за бешеным лётом оглушительно кричащих, опьяненных воздухом и светом, проносящихся за окном стай. И когда мимо него мчится очередная стая, он лишь чуточку пошевеливает кончиком свисающего с подоконника хвоста, готовый вцепиться когтистыми лапами в первую из двух ласточек, которая попыталась бы проникнуть в гнездо.
Но только посетитель, ожидавший в гостиной, только он один знал о том, что едва лишь кот порезче толкнет вазон, он тотчас же полетит вниз на голову кому–нибудь из прохожих; нетерпеливые движения кота уже дважды сдвигали его с места, и сейчас он находился совсем близко к краю карниза. Посетитель уже едва дышал от волнения, на лысом черепе его проступили капли пота. Так непереносимо было для него это судорожное ожидание, что в нем даже возникло дьявольское желание, тихохонько согнувшись и вытянув палец, подойти к окну и самому сбросить вниз этот проклятый вазон, не дожидаясь, пока это сделает кот. Сейчас это неизбежно случилось бы от малейшего толчка.
И ничего нельзя было сделать.
Доведенный глубоким молчанием этого дома до полного изнеможения, он уже был никем. Он стал самим этим молчанием, отмечаемым медленным тиканьем стенных часов. Он стал этими вещами, немыми и бесстрастными свидетелями здесь, наверху, того несчастного случая, который должен был произойти внизу, на улице, и о котором они даже не узнали бы. Он–то знал, но только благодаря выкладкам своего ума. Ему уже некоторое время следовало бы и не находиться здесь. Он мог бы считать, что в гостиной сейчас Никого нет и никем не занято кресло, к которому он словно привязан был наваждением злого рока, нависшего здесь, на подоконнике, «над головой неизвестного прохожего внизу.
Ему бесполезно было бы вмешиваться в эту судьбу, эту естественным образом возникшую связь между котом, вазоном с геранью и гнездом ласточек.
Вазон находился здесь именно для того, чтобы быть выставленным на подоконнике. Если бы посетитель убрал его, чтобы не случилось беды, это отсрочило бы ее на какой–нибудь один день. Завтра старая негритянка все равно снова водворила бы вазон на подоконник, ибо он, этот подоконник, был для вазона положенным ему местом. И кот, сегодня отогнанный, завтра вернулся бы на охоту за двумя ласточками.
Все было неизбежно.
Вот вазон еще больше сдвинулся с подоконника — теперь он уже на целый палец выступал на самый карниз.
Посетитель оказался не в силах выносить такое напряжение и пустился наутек. Он стремительно сбежал вниз по лестнице, и в это мгновение его словно молния поразила мысль, что он очутится на улице в тот самый момент, когда вазон с геранью упадет из окна прямо ему на голову.
ЧЕРЕПАХА (Перевод Я. Рыковой)
Как ни странно, но даже в Америке имеются люди, верящие, что черепахи приносят счастье. Однако можно с полной уверенностью сказать, что сами черепахи этого даже не подозревают.
У мистера Мишкоу есть приятель, который совершенно в этом убежден. Он играет на бирже и каждое утро, перед тем как туда идти, ставит свою черепаху перед маленькой лесенкой. Если черепаха делает попытки подняться по лесенке, он проникается уверенностью, что ценные бумаги, на которые он намеревается играть, поднимутся в цене. Если черепаха вбирает голову и лапы под щиток, бумаги будут иметь прежний твердый курс; если она отворачивается и уходит, он решительно играет на понижение. И это дело безошибочное.
Высказавшись как–то раз в таком духе, он зашел в магазин, где продавались черепахи, купил одну и вложил ее в руку мистеру Мишкоу:
— Попробуй, сам увидишь.
Мистер Мишкоу — особа впечатлительная. Неся домой черепаху (тьфу!), этот подвижной кругленький человечек весь охвачен дрожью — может быть, удовольствия, но, возможно, также и легкого отвращения. Ему крайне безразлично, что встречные прохожие удивленно оборачиваются, замечая у него в руках черепаху. Он дрожит при мысли, что эта вещь вроде неподвижного, холодного камня на самом деле нисколько не камень, а напротив, под этим щитком живет таинственное животное, которое в любой момент может выпустить тут, у него на ладони, четыре кривые шершавые лапки и головку старой морщинистой монашки. Будем надеяться, что черепаха этого не сделает. Мистер Мишкоу швырнул бы ее на землю, содрогаясь с головы до ног.
Нельзя сказать, что дома его дочь Элен и сын Джон пришли в особый восторг от черепахи, когда он положил ее, как подобранный булыжник, на ковер в гостиной.
Просто невероятно, насколько старческими кажутся глаза обоих детей мистера Мишкоу по сравнению с удивительными глазами отца.
Дети роняют на черепаху, лежащую, словно булыжник, на ковре, тяжелый–тяжелый взгляд этих своих свинцовых глаз. Затем они смотрят на отца с абсолютно твердой уверенностью в том, что он не сможет дать им разумного объяснения неслыханной вещи, которую сделал, положив на ковер в гостиной черепаху, и бедный мистер Мишкоу весь как–то тускнеет, разводит руками, на губах его блуждает растерянная улыбка, и он выдавливает из себя, что в конце концов это всего–навсего совершенно безвредная черепаха, с которой можно бы даже поиграть.
Словно в доказательство того, что он всегда был славным парнем, по натуре немного ребячливым, он становится на четвереньки на ковер и осторожненько, деликатно принимается подталкивать черепаху сзади, побуждая ее таким образом выпустить из–под щитка лапки и голову и поползти. Но, Бог ты мой, поистине это стоило сделать, чтобы убедиться, каким веселым был этот красивый дом, весь стеклянный и зеркальный, куда он ее принес. Неожиданно сын его Джон находит гораздо менее деликатный, но зато более действенный способ вывести черепаху из состояния окаменелости, в котором она упорно пребывает. Кончиком ботинка он опрокидывает ее на щиток, и тогда зверюшка начинает двигать лапками и с трудом вытягивать шейку, пытаясь вернуться в естественное свое положение.
Элен при виде этого, не меняя выражения своих старческих глаз, разражается громким смехом, похожим на скрип заржавленного колодезного блока при внезапном резком падении какого–нибудь спятившего ведра.
Легко понять, что на детей не производит никакого впечатления то обстоятельство, что черепахи приносят счастье. Напротив, все их поведение с яркой очевидностью свидетельствует о том, что терпеть в доме черепаху они станут, лишь поскольку смогут обращаться с ней, как с самой жалкой игрушкой, которую подбрасывают кончиком ботинка. А это весьма и весьма не нравится мистеру Мишкоу. Он смотрит на черепаху, которую сразу же перевернул спинкой вверх и которая вновь возвратилась к своей окаменелости; смотрит в глаза своих детей и внезапно обнаруживает таинственное сходство между старческим выражением этих глаз и извечной каменной инертностью зверька на ковре. Он охвачен каким–то ужасом перед своей детской непосредственностью в том мире, который, обнаруживая столь неожиданные и странные сходства вещей и явлений, как бы расписывается в собственном одряхлении; ужасом перед тем, что он, сам того не зная, может быть, ожидал чего–то, чего уже не может произойти, так как дети на земле рождаются теперь столетними, как черепахи.
Он снова пытается изобразить на лице растерянную улыбку, еще более поблекший, чем когда–либо, и у него не хватает мужества признаться, по какой причине приятель подарил ему черепаху.
Мистер Мишкоу на редкость не знает жизни. Жизнь для него не есть нечто вполне четкое, и общеизвестные вещи не имеют для него значения. С ним вполне может случиться, что в одно прекрасное утро, залезая голышом в ванну и уже занеся одну ногу над ее краем, он вдруг с удивлением поглядит на свое собственное тело, как будто за сорок два года жизни он его ни разу не видел, и сейчас оно открывается ему впервые. Тело человеческое, прости Господи, не такая вещь, которую можно без стыда показывать в голом виде даже самому себе. Предпочтительнее его игнорировать. Но все же для мистера Мишкоу остается полным значения тот факт, что ему никогда не приходила в голову такая мысль: с этим своим телом и всеми его частями, обычно никем не видимыми, ибо они всегда скрыты под одеждой, он бродит по жизни уже в течение сорока двух лет. Ему представляется невероятным, чтобы всю свою жизнь он мог прожить только в этом своем теле. Нет, нет. Неизвестно где, неизвестно как и, может быть, даже вполне безотчетно. Может быть, он всегда незаметно перелетал от одной вещи к другой — а мало ли их попадалось ему на пути с детских лет, когда уж наверняка тело у него было совсем другое, и кто его знает, какое именно. И правда, ведь довольно–таки мучительно и даже немного страшно, что. нет возможности объяснить себе, почему тело твое неизбежно должно быть таким, какое оно есть, не каким–нибудь другим, совершенно иным. Лучше об этом не думать. И вот сейчас, в ванной комнате, он снова улыбается своей растерянной улыбкой, даже не соображая, что уже давно сидит в ванне. Ах, как лучезарны эти накрахмаленные кисейные занавески большого окна и как легко, как изящно шевелятся они на своих латунных карнизах от нежного весеннего дуновения, словно слетающего с высоких деревьев парка! Вот он уже вытирает полотенцем это свое действительно весьма неприглядное тело, но все же должен согласиться с тем, что жизнь прекрасна и ею вполне можно наслаждаться даже и в этой телесной оболочке, для которой каким–то странным образом оказалась возможной самая сокровенная близость с такой непроницаемой женщиной, как миссис Мишкоу.
Женатый уже девять лет, он до сих пор не может разгадать тайну, как оказался возможным этот его немыслимый брак с миссис Мишкоу.
Никогда не осмеливался он двигаться в каком–либо направлении без чувства неуверенности после каждого сделанного шага — можно ли делать следующий. И под конец у него по телу словно мурашки ползли, а в душе возникало испуганное изумление, когда оказывалось, что, несмотря на столь медленные и осмотрительные шаги, он уже весьма продвинулся вперед. Надо было так или иначе обдумать, что это для него означало бы?
И вот в один прекрасный день, даже как–то сам в это не веря, он оказался супругом миссис Мишкоу.
Она и теперь, после девяти лет брака, красивая фарфоровая статуэтка, так отрешена и изолирована от всех, так замкнута и словно глазурью покрыта в своей непроницаемой манере существовать, что кажется просто невероятным, как могла она сочетаться браком с таким человеком из плоти и крови, как он. Зато вполне понятно, как от их союза могли произойти такие высохшие на корню детки. Может быть, если бы выносить их во чреве мог вместо жены сам мистер Мишкоу, они родились бы иными. Но выносить их должна была она, по девять месяцев каждого; и вот, зачатые, по всей видимости, такими, какими проявили себя с самого начала, и к тому же принужденные столько времени провести во чреве из майолики, словно конфеты в коробке, они состарились еще до своего появления на свет.
В течение всех девяти лет брака он, естественно, жил в постоянном страхе, что в каком–нибудь его необдуманном слове или неловком жесте миссис Мишкоу может найти повод для развода. Первый день брака был для него самым ужасным, ибо, как можно себе представить, не было полной уверенности в том, что миссис Мишкоу знает, что именно он должен сделать, чтобы окончательно счесть себя ее супругом. К счастью, она это знала. Но потом она никогда не давала ему понять, что помнит о том, что в тот раз он вполне мог быть в этом уверен. Все было так, словно она, со своей стороны, ничего в это не внесла, и, таким образом, хотя он ею и овладел, ей не к чему было об этом помнить. Однако же родилась сперва девочка, Элен, а затем второй ребенок, мальчик, Джон. Но никаких разговоров не было. Не сказав ему ни слова, она оба раза отправлялась в клинику и через полтора месяца возвращалась домой: в первый раз с девочкой, во второй — с мальчиком, и оба ребенка выглядели старичками, один старше другого. Просто руки опускались. И оба раза ему самым решительным образом запрещалось навещать ее в клинике. Так что ни в первый, ни во второй раз он даже не мог дать себе отчета в ее беременности, ничего не знал о том, как протекали роды, как она разрешилась, а между тем в доме оказалось двое ребят, словно две приобретенные в путешествии собачки, и у него не могло быть даже никакой твердой уверенности, что их родила она и это его дети.
Тем не менее мистер Мишкоу нисколько в этом не сомневается и даже уверен в том, что в лице этих двух детей ему представлено извечное и в данном случае дважды подтвержденное доказательство, что мисс Мишкоу обретает в сожительстве с ним некую компенсацию за те страдания, которые должна была испытать, родив на свет двоих ребят.
И поэтому он никак не мог прийти в себя от изумления, когда жена его, вернувшись от своей матери, жившей в гостинице и уже собиравшейся возвращаться в Англию, и найдя его стоящим на четвереньках на ковре перед черепахой под холодно–издевательскими взглядами детей, не сказала ему ни слова, но, незамедлительно вернувшись к матери в гостиницу, через час прислала ему записку с самым ультимативным требованием: либо в доме не будет черепахи, либо через три дня она вместе с матерью уедет в Англию.
Как только к мистеру Мишкоу вернулась способность разумно мыслить, он сразу же понял, что черепаха могла быть в данном случае только предлогом. И каким несерьезным, каким легко уязвимым! Но, может быть, именно поэтому гораздо более трудно устранимым, чем если бы жена потребовала, чтобы он полностью изменил свою внешность или хотя бы убрал с лица свой нос и заменил его другим, который был бы ей более по вкусу.
Однако он не хотел потерять ее. Он ответил жене, чтобы она спокойно возвращалась домой, а он уж найдет для черепахи другое, более подходящее место. Он взял ее, так как ему сказали, будто она приносит счастье. Но, принимая во внимание, что сам он уже не первой молодости, и у него такая супруга, как она, и двое таких ребят, как их дети, какого ему еще нужно счастья?
И вот он выходит из дому, снова с черепахой в руке и с намерением оставить ее в каком–нибудь месте, которое несчастной, неприкаянной зверюшке подойдет больше, чем их дом. Между тем наступил вечер, и он только сейчас с удивлением в этом убедился. Хотя он и привык к зрелищу своего огромного фантасмагорического города, но тем не менее сохранил способность всегда по–новому изумляться ему, притом с некоторой даже грустью, ибо все эти грандиозные сооружения как долговечные архитектурные памятники, и они высятся со всех сторон, словно колоссальная, но временная декорация некоей огромной ярмарки с этим неподвижным, пестро–цветным, ярким светом бесчисленных ламп и фонарей, нагоняющим нечто вроде тоски, когда долго идешь под ним, и со множеством других вещей, столь же суетных и непрочных.
Идя по улице, он даже забыл, что держит в руке черепаху, но вдруг вспоминает о ней, и ему приходит в голову, что лучше бы он оставил ее в парке неподалеку от своего дома, вместо того чтобы идти дальше по направлению к магазину, где она была куплена, кажется, на 49–ой улице.
Так он и идет себе, будучи вполне уверенным, что в такой час магазин уже наверняка закрыт. Но одолевшие его грусть и усталость словно требуют, чтоб он натолкнулся на запертую дверь.
Вот он подходит к этой двери и глядит на нее: магазин действительно закрыт, — потом на черепаху у себя в руке. Что с ней делать? Мимо проезжает такси, он садится в машину. Где–нибудь в подходящем месте он выйдет, а черепаху оставит внутри.
Жалко, что у этой зверюшки, все еще съежившейся под своим щитком, по–видимому, так мало воображения. Интересно представить себе, как черепаха ночью разъезжает по всему Нью–Йорку.
Нет, нет. Мистер Мишкоу охвачен раскаянием: это было бы жестоко. Он выходит из такси. Уже недалеко до Парк–авеню с бесконечной линией цветочных клумб посредине, окаймленных низеньким плетеным бордюром. Он собирается оставить черепаху на одной их этих клумб, он едва успевает положить ее наземь, как рядом вырастает фигура полицейского, наблюдающего за порядком движения на углу 50–й улицы под одной из гигантских башен Уолдорф Астории. Полицейский желает знать, что такое он положил на клумбу. Бомбу? Да нет же, не бомбу. И мистер Мишкоу улыбается ему, чтобы тот понял, что он на это не способен. Просто–напросто черепаху. Но полицейский велит ему немедленно ее убрать: пускать животных на клумбы запрещено. Да ведь какое же это животное? Это вроде камня, пытается объяснить мистер Мишкоу, она здесь не помешает, кроме того, ему, по некоторым семейным соображениям, необходимо избавиться от нее. Но теперь полицейскому кажется, что мистер Мишкоу над ним насмехается, и он заговаривает грубым тоном, а мистер Мишкоу тотчас же убирает с клумбы черепаху, которая по–прежнему неподвижна.
— Говорят, они приносят счастье, — произносит он с улыбкой, — не хотите ли взять ее? В подарок?
Тот яростно передергивает плечами и велит ему убираться.
И вот черепаха опять в руке мистера Мишкоу, а он до крайности растерян. Бог ты мой, да ведь ее можно оставить здесь же, на середине улицы, как только он выйдет из поля зрения этого полицейского, который был так груб явно потому, что не поверил в важные причины семейного характера. И тут мистера Мишкоу внезапно озаряет мысль. Конечно, для жены его черепаха только предлог, а устранишь этот предлог, она тотчас же найдет другой, но трудно ей будет найти более нелепый, более способный повредить ей в глазах судьи и всех прочих. Глупо с его стороны было бы не воспользоваться этим. И в конце концов он решает вернуться домой с черепахой.
Жену он находит в гостиной. Ни слова не говоря, наклоняется и кладет черепаху, словно камень, на ковер прямо перед ней. Жена вскакивает с места, устремляется в свою комнату и возвращается оттуда в шляпе.
— Скажу судье, что обществу своей жены вы предпочитаете общество черепахи.
И исчезает.
Словно услышав ее с ковра, зверюшка внезапно выпустила из–под щитка свои четыре лапки, хвост, голову и, слегка раскачиваясь, почти приплясывая, поползла по гостиной.
Мистеру Мишкоу не остается ничего другого, как радоваться этому, пока еще робко. Он слегка похлопывает в ладоши и, глядя на черепаху, думает, что он должен признать, хотя и без твердого убеждения:
— А счастье–то вот оно, счастье!
СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЛОШАДЬЮ (Перевод Я. Рыковой)
Конюшня там, за запертой дверью, тотчас же за воротами в деревенский дворик, немного наклонный, мощенный уже стершимся камнем, с водоемом в центре.
Дверь ветхая, подгнившая; некогда покрывавшая ее зеленая краска облупилась, желтоватая штукатурка дома осыпается, и оттого он кажется самым старым и жалким в местечке.
Сегодня рано утром дверь конюшни закрыли снаружи на огромный проржавевший засов, а лошадь, находившуюся там, выпустили наружу — кто знает почему — без уздечки, без седла, без переметной сумки — словом, без ничего.
Лошадь в течение нескольких часов стоит перед дверью, терпеливо, почти неподвижно. Она чует из–за запертой двери запах своего стойла — такого близкого, запах дворика, и кажется, что, вдыхая его раздутыми ноздрями, она по временам вздыхает.
Любопытно, что каждый вздох сопровождается нервным подергиванием шкуры на спине, где явственно проступает след старого набоя.
Теперь, когда ни на голове, ни на спине у нее ничего не надето, можно видеть, во что превратило ее время: голова, когда она ее поднимает, еще хранит какое–то, хотя и грустное, благородство очертаний, но на туловище просто жалко смотреть — на спине сплошное затвердение узлов, ребра торчат, заострены тазовые кости. Но грива еще густая, хвост длинный и лишь немного поредел.
Лошадь, которая, по правде сказать, ни на что больше не годится.
Чего она ждет, стоя здесь перед дверью?
Кто, проходя мимо, замечает ее и знает, что хозяин уже убрался отсюда в другие места, вывезя предварительно весь домашний скарб, может подумать, что кто–нибудь по его поручению и явится за ней. Но в таком виде, без ничего она скорее кажется брошенной на произвол судьбы.
Другие останавливаются, смотрят, и какой–то человек сказал, что хозяин перед отъездом всеми способами старался избавиться от лошади, сперва пытаясь продать ее за любую цену, потом отдавая даром любому, кто согласился бы ее взять, между прочим, предлагал и ему, но никто, в том числе и он, не пожелал с ней связываться.
Как–никак лошади нужен корм. А то, чем эта может еще послужить, такая старая и изможденная, стоит ли она, по правде говоря, потребного для нее сена и соломы?
Это ведь немалая обуза — иметь лошадь и не знать, что с ней делать.
Многие заговаривают о самом легком и быстром способе избавиться от нее — пристрелить. Ружейная пуля недорого стоит. Но не у всех хватает духу это сделать.
Но, может быть, еще более жестоко предоставить ее своей судьбе. Конечно, очень жалко видеть, как несчастная скотина стоит перед запертой дверью пустого, покинутого дома. Прямо–таки хочется подойти поближе и сказать ей на ухо, чтобы она перестала без толку стоять здесь и чего–то ждать. Хоть бы уж оставили у нее на шее веревку, чтобы можно было ее куда–нибудь увести, но и того нет. Упряжь всякая, видимо, нашла покупателя — ее еще можно пустить в дело. Может быть, если бы хозяину и удалось продать ее вместе с упряжью, покупатель все равно снял бы упряжь, а ее бросил на дороге.
А мухи–то, поглядите, мухи! Тут уж не скажешь, что они–то, мухи, ее бросили в беде! И если несчастная лошадь еще делает какие–то движения, то только хвостом, отгоняя мух, когда их укусы уж слишком больны, а это бывает часто — ведь теперь у нее меньше крови и высасывать ее труднее.
Но она уже устала от многочасового стояния на ногах и теперь, с трудом подгибая колени, ложится на землю отдохнуть, но неизменно головой к двери.
У нее даже не возникает мысли, что она свободна. Но даже если лошадь действительно обретает свободу, может ли у нее появиться какое–нибудь представление об этом? Может, и она даже радуется свободе, не думая о ней. Когда же ее лишают свободы, она сперва инстинктивно сопротивляется, но затем, приручившись, смиряется и привыкает. Может быть, впрочем, эта лошадь, родившаяся в стойле, никогда и не знала свободы. Хотя нет, пожалуй, знала — юным жеребенком где–нибудь в деревне, где ее пускали свободно пастись на лугах. Но и это была лишь относительная свобода: луга–то были огорожены. И если она там паслась, то может ли об этом помнить?
Она лежит на земле, пока голод не побуждает ее снова встать с большим трудом на ноги; прождав так долго у этой двери, она теперь уже не надеется, что дверь откроют, поворачивает голову, и взгляд ее устремляется в сторону, вдоль улицы поселка. Ржет, скребет землю копытом. Но ничего другого сделать не умеет. К тому же она, видимо, убеждена, что это бесполезно, ибо через некоторое время фыркает и качает головой, а затем делает несколько неуверенных шагов.
Теперь за нею наблюдают уже немало любопытных. В деревне, где она выросла, не принято, чтобы лошадь бегала на свободе, когда кругом слабые женщины и дети.
Лошадь ведь на то что собака, которая может, оставшись без хозяина, бегать туда–сюда, и никто не обращает на это внимания. Лошадь есть лошадь, и если она сама этого не знает, то знают Другие, которые ее видят — животное с телом громоздким, гораздо больше, чем у пса. Оно как–то не внушает полного доверия, перед ним все немного настороже: возьмет, чего доброго, да и сделает неизвестно почему какой–нибудь неожиданный скачок. И глаза у лошади странные, с белками, которые временами наливаются кровью, и тогда они кажутся свирепыми; в этих глазах отражается все, они мечут какие–то искры, молнии, их никак не понять, в них все время некая тревожная жизнь, которая порою вдруг застилается мраком от любого пустяка.
Предубеждения здесь, впрочем, нет. Но это не собачьи глаза, почти человеческие, просящие о прощении или о жалости, умеющие даже притворяться и бросать такие взгляды, которые наше людское лицемерие ничему новому не научит.
А глаза лошади — их все видят, а прочесть в них ничего нельзя.
Правда, эта лошадка в таком плохом состоянии никому не представляется опасной. Да и вообще, к чему вся эта тревога?
Пускай себе бродит. Если кто–нибудь испытает из–за нее какое–нибудь неудобство, он пускай и заботится о том, чтобы ее убрать. Либо этим займутся полицейские.
Ребята, не швыряйте камней. Видите, на ней же ничего нет! Она не взнуздана, если понесется — попробуй останови ее.
Давайте лучше спокойно поглядим, куда она направится.
Ну вот, прежде всего она заходит во двор к одному человеку, который фабрикует макароны на продажу: они у него разложены для просушки под открытым небом на сетчатых рамах, а те сами лежат на довольно шатких козлах.
О Боже, она натыкается на них, некоторые падают.
Но хозяин вовремя подбегает и отгоняет лошадку. Черт бы... да чья же это лошадь?
Мальчишки совсем распоясались, бегут вслед за лошадью, кричат, хохочут:
— Лошадь убежала!
— Да нет же, ее бросили.
— Как так бросили?
— Да вот так. Хозяин выпустил ее на волю.
— Вот что! Значит, эта лошадка будет бегать себе на приволье по всем дорогам?
Будь то человек, можно бы поинтересоваться, не спятил ли он часом. А от лошади что узнаешь? Лошадь знает, когда она голодна, больше ничего. Эта недаром сейчас тянет морду к роскошному пучку салата, выставленному среди прочих овощей перед входом в лавку зеленщика.
И отсюда ее тоже грубо отгоняют.
К ударам она привыкла и приняла бы их совершенно спокойно, если бы при этом ей предоставили возможность поесть.
Но именно этого–то они не хотят. Чем упорнее она сопротивляется, выказывая полнейшее безразличие к их ударам, тем сильнее они толкают ее в шею, чтобы мордой она уже не могла достать салата. И ее упорство вызывает всеобщее веселье. Неужто так трудно понять, что этот салат, выставили тут на продажу тому, кто захотел бы его поесть? Это же так просто. Но лошадь по–прежнему не понимает, и грубый хохот усиливается.
Ну и скотина! Нет у нее и клочка сена пожевать, а подавай ей салат.
Никому не приходит в голову, что животное может смотреть на это дело с иной, куда более простой точки зрения. Но что поделаешь?
Лошадка уходит, а за ней бегут мальчишки, которым теперь, когда она показала, что удары ей нипочем, уже удержу нет. Они поднимают вокруг нее адский галдеж, так что лошадь вдруг останавливается в полном обалдении, словно раздумывая, как бы его прекратить. Тут появляется какой–то старик, пытающийся убедить ребят, что с лошадью не шутят.
Видите, как она сразу остановилась?
И он поднимает руку, чтобы погладить ее по шее, угомонить, успокоить. Но она вдруг резко прыгает в сторону, навострив уши. Старик, не ожидавший ничего подобного, сперва несколько испуган, но тотчас же усматривает в этом подтверждение того, что он только сейчас говорил.
Вот видите!
Пример на мгновение действует. Ребята продолжают следовать за лошадкой, но на некотором расстоянии. Куда же она идет?
Вперед. Не решаясь больше подходить к другим лавкам, она трусит вдоль всей улицы поселка до вершины холма и там, где начинается спуск и по обеим сторонам дороги уже нет жилья, нерешительно останавливается.
Ясно, что она уже не знает, куда идти.
Здесь, на дороге, веет легкий ветерок. Лошадка поднимает голову, словно чтобы вдохнуть этого ветерка, и немного щурит глаза, может быть, потому, что ветер донес до нее запах травы с дальних полей.
Она стоит так долго; глаза у нее сощурены, челка на твердом лбу слегка колышется от порывов ветерка.
Но не будем уж чрезмерно жалостливы. Не должны мы забывать о счастье, выпавшем на долю этой лошадки, как и всех вообще лошадей, — счастье быть лошадью.
Если одни ребята в конце концов устали смотреть на нее и ушли, то другие, в еще большем количестве, составили ей теперь веселый кортеж, ибо к вечеру она стала как бы другой, невесть откуда явившаяся, в каком–то странном возбуждении от голода, и стоит здесь, на середине дороги, подняв голову, и нетерпеливо бьет копытом твердый настил, словно желая сказать: тотчас же принесите мне поесть, сюда, сюда, сюда.
В ответ на это повелительное топанье раздаются свист, хлопки, смех, разнообразные крики и возгласы. Пустеют лавки, столики в кафе — все хотят знать, что же с этой лошадью, которая убежала, да нет — брошена, пока наконец двое стражников не продираются сквозь толпу: один хватает лошадь за гриву и отводит в сторону, другой не дает мальчишкам бежать за ней, оттесняя их назад.
Лошадка отведена теперь за пределы поселка, за последние его дома и мастерские, на ту сторону моста. Она ни в чем не отдает себе отчета, кроме одного: до нее снова доносится запах травы, теперь уже близкий, тут, по обочинам дороги, за мостом, ведущим в поле.
Ибо среди всех бед, которые могут обрушиться на нее из–за людей, лошади в одном отношении повезло: она ни о чем не думает. Даже о свободе. Даже о том, когда и как все для нее кончится. Ни о чем. Прогонят ее совсем? Сбросят с обрыва, чтобы она разбилась насмерть?
Сейчас, в данный момент, она ест траву на обочине. Ночь теплая, небо вызвездилось, завтра — будь что будет.
Она об этом не думает.
Примечания
Луиджи Пиранделло бесспорно, крупнейшая фигура в итальянской литературе XX века. Родился он на острове Сицилия (г. Агридженто) в 1867 году, умер в Риме в 1936 году. Учился сперва в Палермо, потом в Риме, а затем в Боннском университете в Германии, который окончил в 1891 году.
Литературную деятельность начал как поэт. Но едва ли не лучшим его стихотворным произведением явился перевод «Римских элегий» Гете, вышедший отдельным изданием в 1896 году. Вернувшись в Рим, Л. Пиранделло знакомится с писателями-веристами, главой которых был Луиджи Капуана. Веризм — итальянское литературное направление, близко и тесно связанное с французским натурализмом. Л. Пиранделло не очень долгое время находился под влиянием этого течения. Скоро рамки веризма становятся для него тесными, он порывает с веризмом и выходит на свой собственный путь, который позднее, в 1908 году, назовет «Юморизмом». В представлении Л. Пиранделло «юмористический» означало «гротесковый»: окружающий нас мир не таков, каким он нам кажется, и человек не таков, каким он нам представляется. Жизнь, в изображении Л. Пиранделло, превращается в трагикомический спектакль, в котором каждый герой носит маску. Задача писателя заставить героя сбросить эту маску, показать свое истинное лицо.
Пиранделло выступает и как ученый-филолог (1891), и как новеллист (1894), и как драматург (1898), и как романист (1901). Однако главенствующее место в его дальнейшем литературном творчестве заняли все же новелла и драматургия. Первая, преобладающая в количественном отношении (15 томов вышли под общим названием «Новеллы на год»), доставила Л. Пиранделло национальную славу, вторая — славу международную: в 1934 году он был награжден Нобелевской премией. Следует при этом иметь в виду, что в творчестве Пиранделло оба эти жанра тесно связаны не тольке тематически (многие из новелл послужили сюжетом для последующих и нередко одноименных драм), но и связаны рядом существенных для автора утверждений о жизни и принципов организации литературного материала. Мысли об относительности привычных человеческих ценностей, о видимости и сущности поступков и явлений, о пародоксальной на первый взгляд автономии порождений творческой фантазии присутствуют в новеллистике Л. Пиранделло и в его драматургии. Но в последней все это получило выражение более заостренное и, пожалуй, более отчетливое. Именно драматургия Л. Пиранделло, вернее, некоторые идеи, в ней проводимые, дали удобный повод для всякого рода критических схематизации и даже Для создания некоей обобщенной полуфилософской, полуэстетической системы «пиранделлизма», к которой сам Л. Пиранделло имеет примерно такое же отношение, как Макиавелли к пресловутому «макиавеллизму», фальсифицировавшему трагический смысл знаменитого трактата великого флорентийца.
И вот меркой этого произвольно выведенного критиками из драматургии Л. Пиранделло «пиранделлизма» стали поверять и его новеллистику.
Тут полезно бы вспомнить незавершенную, но поразительную по ясности мысли статью Льва Толстого «Об искусстве» (1889). Толстой писал: «Произведение искусства хорошо или дурно от того, что говорит, как говорит и насколько от души говорит художник» . И далее, в зависимости от того, насколько произведение соответствует этим трем условиям («что», «как» и «насколько от души»), Толстой делает вывод: «Совершенным произведением искусства будет только то, в котором содержание будет значительно и ново, и выражение его вполне прекрасно, и отношение к предмету художника вполне задушевно и потому вполне правдиво. Такие произведения всегда были и будут редки. Все же остальные произведения, несовершенные сами собой, разделяются по основным условиям искусства на три главные рода: 1) произведения, выдающиеся по значительности своего содержания, 2) произведения, выдающиеся по красоте формы, и 3) произведения, выдающиеся по своей задушевности и правдивости, но не достигающие, каждое из них, того же совершенства в двух других отношениях.
Все три рода эти составляют приближение к совершенному искусству и неизбежны там, где есть искусство! У молодых художников часто преобладает задушевность при ничтожности содержания и более или менее красивой форме, у старых наоборот; у трудолюбивых профессиональных художников преобладает форма и часто отсутствует содержание и задушевность.
По этим трем сторонам искусства и разделяются три главные ложные теорий искусства, по которым произведения, не соединяющие в себе всех трех условий и потому стоящие на границах искусства, признаются не только за произведения, но и за образцы искусства». В зависимости от признания преимущественной роли того или иного условия (содержания, формы или задушевности и правдивости) Толстой именует эти ложные, с его точки зрения, теории «теорией тенденциозной», «теорией искусства для искусства» и «теорией реализма». Следуя толстовской терминологии, можно сказать, что большинство критиков пиранделловского искусства исходили в своих оценках из этой первой, «тенденциозной» теории, отыскивая в нем в первую голову лишь некую сумму модных по времени общих идей, сродных, как казалось этим критикам, «экзистенциализму», «отчуждению» и тому подобное, почти полностью игнорируя два других условия, о которых так прекрасно писал Толстой в своей статье. А ведь лучшие рассказы и пьесы Л. Пиранделло вполне подходят к тому, что Толстой именовал произведением «совершенным». И уж во всяком случае, большинство рассказов Л. Пиранделло скорее должны были бы рассматриваться с точки зрения «теории реализма» (опять же в толстовской терминологии), то есть с точки зрения их абсолютной искренности и правдивости.
Историческая (временная) «тенденциозность» Л. Пиранделло ушла. Остался Пиранделло художник, стоящий над своим временем. Таким и хотелось представить его в этом сборнике.
Н. Томашевский
Примечания
1
Искаженное «Буэнос–Айрес» (столица Аргентины).
(обратно)2
Сальмо — мера площади в Сицилии.
(обратно)3
Кампо Верано — кладбище в Риме.
(обратно)4
По–итальянски «огромная глотка» (про обжору), от слова gola (горло).
(обратно)5
Дворец в Риме, в котором находится итальянский парламент.
(обратно)6
Игра слов: по–итальянски саrа значит «дорогая».
(обратно)7
Общественные бани Древнего Рима.
(обратно)8
Мартиникка — ручной специальный тормоз экипажа или телеги.
(обратно)9
«Сор» — сокращение «синьор» (разговорная форма).
(обратно)10
То есть крышку от чаши со святой водой.
(обратно)11
Речь идет об успешном походе «Тысячи» гарибальдийцев (1860), в результате которого Сицилия воссоединилась с уже освобожденной частью Италии.
(обратно)12
Фамилия значащая, производная от piccarone — нищий, плут (ит.).
(обратно)13
Короли из династии Бурбонов правили в Королевстве обеих Сицилии до 1860 г.
(обратно)14
Фамилия значащая, производная от dolce — сладкий, сладостный и mascolo — мужчина (ит.).
(обратно)

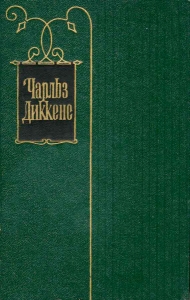
Комментарии к книге «Новеллы», Луиджи Пиранделло
Всего 0 комментариев