Джин Уэбстер Пэтти в колледже
I. Чувствительный Питерс
– Пресс-папье, – заметила Пэтти, посасывая ушибленный большой палец, – сделано явно не для того, чтобы забивать им гвозди. Хотелось бы мне иметь молоток.
Это замечание не вызвало ответа, и Пэтти, стоя на верхней ступени приставной лестницы, пристально посмотрела на свою соседку по комнате, которая сидела на полу и вытаскивала диванные подушки и занавеси из ящика для белья.
– Присцилла, – воззвала она, – ты ничего полезного не делаешь. Сходи вниз и попроси у Питерса молоток.
Присцилла неохотно поднялась. – Думаю, что уже пятьдесят девчонок ходили за молотком.
– О, в заднем кармане у него имеется свой собственный молоток. Одолжи его. И, Прис, – позвала ее Пэтти, наклонясь над фрамугой, – попроси его прислать мужчину, который бы снял с петель дверь туалета.
Воспользовавшись передышкой, Пэтти уселась на верхней ступеньке и принялась изучать хаос внизу. В центре комнаты возвышались: восточное тростниковое кресло, сильно потертое на подлокотниках, несколько разношерстных стульев, два письменных стола, диван, стол и два ящика для белья. Проглядывавший в промежутках пол устилал ядовито-зеленый ковер, а шторы и портьеры были кричащего, ярко-красного цвета.
– Едва ли кто-нибудь назвал бы это симфонией цвета. – Заметила Пэтти в отношении обстановки в целом.
В дверь постучали.
– Войдите, – отозвалась она.
В дверном проеме возникла девушка в голубом полотняном матросском костюмчике, доходившем ей до лодыжек, с волосами, уложенными в косу, спускавшуюся вдоль спины. Пэтти молча изучала ее. Девушка в некотором удивлении оглядела комнату и, наконец, глаза ее остановились на верхушке лестницы.
– Я… я первокурсница, – начала она.
– Дорогуша, – проворчала Пэтти неодобрительно, – я едва не приняла тебя за старшекурсницу; однако входи и присаживайся, – показала она взмахом руки на ближайший бельевой ящик. – Мне нужен твой совет. Так вот, – сказала она, словно продолжая беседу, – существуют оттенки зеленого, которые неплохо смотрятся с красным; но я прошу сказать мне откровенно, подойдет ли к чему-нибудь этот оттенок зеленого?
Первокурсница посмотрела на Пэтти, затем на ковер, и улыбка ее выразила сомнение. – Нет, – признала она. – Не думаю, что он к чему-либо подойдет.
– Я знала, что ты это скажешь! – воскликнула Пэтти с облегчением. – А как ты посоветуешь нам поступить с ковром?
Первокурсница выглядела озадаченной. – Я… я не знаю, ну разве что свернуть его, – произнесла она с запинкой.
– Это то, что нужно! – сказала Пэтти. – Интересно, как мы раньше до этого не додумались?
В этот момент вновь появилась Присцилла и объявила:
– Питерс – самый подозрительный человек, которого я когда-либо встречала! – Однако, заметив первокурсницу, она умолкла в нерешительности.
– Присцилла, – произнесла Пэтти сурово, – я надеюсь, ты не проговорилась о том, что мы драпируем стены, – и сопроводила свои слова взмахом руки в сторону набивной хлопчатобумажной ткани, свисающей с молдинга.
– Я пыталась, – сказала Присцилла виновато, – но в моих глазах он прочел слово «драпировка». Едва взглянув на меня, он сказал: «Послушайте, мисс, вы знаете, что вешать ткань на стены против правил, и вы не должны забивать гвозди в штукатурку, и в любом случае, не думаю, что вам нужен молоток».
– Отвратительное создание! – промолвила Пэтти.
– Однако, – продолжила торопливо Присцилла, – на обратном пути я остановилась и одолжила молоток у Джорджи Меррилс. О, я забыла, – прибавила она, – он сказал, что мы не можем снять дверь туалета с петель: как только мы ее снимем, остальные пятьсот молодых леди захотят снять свои двери, и понадобится полдюжины мужчин, которые все лето будут вешать их обратно.
Брови Пэтти зловеще нахмурились и первокурсница, желая предупредить возможную домашнюю трагедию, робко поинтересовалась: – Кто такой Питерс?
– Питерс, – ответила Присцилла, – это низенький, кривоногий господин с рыжей бородкой клином, который по своей технической должности является вахтером, а фактически – диктатором. Все боятся его, даже Прекси.
– А я нет, – сказала Пэтти. – И эта дверь, – твердо добавила она, – будет снята, разрешит он или нет, так что, я полагаю, нам придется сделать это самим. – Она перевела взгляд на ковер, и лицо ее просветлело. – О, Прис, у нас появился новый прекрасный план. Моя подруга говорит, что ковер ей совсем не нравится, и предлагает убрать его, принести черной краски и самим покрасить пол. Я согласна, – прибавила она, – что пол цвета фламандского дуба, устланный коврами, был бы огромным усовершенствованием.
Присцилла перевела неуверенный взгляд с первокурсницы на пол. – Ты думаешь, нам позволят это сделать?
– Было бы неловко их об этом спрашивать, – ответила Пэтти.
Первокурсница с беспокойством поднялась. – Я пришла, – сказала она нерешительно, – чтобы узнать… то есть, насколько я понимаю, девочки одалживают свои старые книги во временное пользование, и я подумала, если вы не против…
– Против! – сказала Пэтти обнадеживающе. – Мы бы сдали в аренду наши души за пятьдесят центов в семестр.
– Я… я хотела латинский словарь, – произнесла первокурсница, – а девочки по соседству сказали, что, возможно, у вас он есть.
– Есть чудесный словарь, – подтвердила Пэтти.
– Нет, – перебила Присцилла, – у нее потеряны листы от «О» до «Р», и он весь изодран, а мой, – нырнув в один из ящиков, она извлекла маленький, пухлый томик без обложки, – хотя и не такой красивый, каким он был когда-то, но по-прежнему полезный.
– Мой с аннотациями, – сказала Пэтти, – и с иллюстрациями. Я покажу тебе, какая это превосходная книга, – и она начала спускаться по лестнице. Но Присцилла набросилась на нее, и она снова отступила на верхнюю ступеньку. – Как, – взвыла она испуганной первокурснице, – разве ты не попросила словарь прежде, чем она вернулась? Позволь мне дать тебе совет в начале твоей карьеры в колледже, – добавила она предостерегающе. – Никогда не выбирай в соседки тех, кто крупнее тебя. Они опасны.
Первокурсница стремительно отступала к двери, как вдруг она распахнулась и перед ними предстала привлекательная девушка с пушистыми рыжими волосами.
– Прис, негодница, ты ушла с моим молотком!
– О, Джорджи, нам он нужен больше, чем тебе! Заходи и помоги забить гвозди.
– Привет, Джорджи, – позвала Пэтти с лестницы. – Эта комната будет замечательной, когда мы все здесь закончим, да?
Джорджи огляделась. – Вы более оптимистично настроены, чем я, – засмеялась она.
– Пока рано говорить, – парировала Пэтти. – Мы хотим закрыть обои этой красной материей, покрасить пол черным, поставить темную мебель, повесить красные портьеры, установить мягкое освещение. Она будет выглядеть, как Восточная комната в «Уолдорфе».
– Как, ради всего святого, – поинтересовалась Джорджи, – вы заставили их позволить вам все это сделать? Сегодня я прикрепила три безобидные кнопки, так ощетинившийся от ярости Питерс налетел на меня и сказал, что, если я их не вытащу, он доложит обо мне.
– А мы и не просили, – объяснила Пэтти. – Это единственный способ.
– Вам придется потрудиться, если вы хотите устроиться к понедельнику, – заметила Джорджи.
– C'est vrai,[1] – согласилась Пэтти, спускаясь с лестницы под внезапным приливом энергии, – и тебе придется остаться и помочь нам. Нам нужно перетащить всю эту мебель в спальни и поднять ковер, прежде чем начать красить. – Она осторожно обратилась к первокурснице. – Ты не слишком занята?
– Нет. Моя соседка еще не приехала, так что я не могу устраиваться.
– Чудесно. Тогда помоги нам передвинуть мебель.
– Пэтти! – сказала Присцилла, – по-моему, ты невыносима.
– Я бы очень хотела остаться и помочь, если вы позволите.
– Конечно, – сказала Пэтти любезно. – Я забыла спросить твое имя, – продолжала она, – и я не думаю, что ты бы хотела, чтобы тебя называли Первокурсницей, – это довольно неопределенно.
– Меня зовут Женевьева Эйнсли Рэндольф.
– Женевьева Эйнс… боже правый! Такое я не в состоянии запомнить. Ты не возражаешь, если я стану звать тебя коротко: леди Клара Вере де Вере?
Лицо первокурсницы выразило сомнение, а Пэтти продолжила. – Леди Клара, позвольте вам представить мою соседку мисс Присциллу Понд – она не имеет никакого отношения к экстракту. Она занимается атлетикой и побеждает в забеге на сто ярдов и в барьерном беге, и имя ее попадает в газету в поистине удовлетворительной степени. А это моя дорогая подруга мисс Джорджи Меррилс из одного из старейших семейств в Дакоте. Мисс Меррилс очень талантлива: поет в клубе хорового пения, играет на расческе…
– И, – прервала ее Джорджи, – позвольте представить мисс Пэтти Уайатт, у которой…
– Нет никаких особенностей, – сказала Пэтти скромно, – но которая просто добра, красива и умна.
В дверь постучали и открыли, не дождавшись ответа. – Мисс Теодора Барлет, – продолжала Пэтти, – обычно известная как Близняшка, мисс Вере де Вере.
Близняшка потрясенно пробормотала: «Мисс Вере де Вере» и опустилась на бельевой ящик.
– Термин «Близняшка», – пояснила Пэтти, – используется в исключительно аллегорическом смысле. На самом деле у нее нет сестры-близнеца. Прозвище было ей дано на первом курсе, а причина утеряна со смутных незапамятных времен.
Первокурсница посмотрела на Близняшку и открыла рот, но снова закрыла, не сказав ни слова.
– Моим любимым афоризмом, – произнесла Пэтти, – всегда было «Молчание – золото». Я замечаю, что мы родственные души.
– Пэтти, – сказала Присцилла, – перестань утомлять бедное дитя и принимайся за работу.
– Утомлять? – молвила Пэтти. – Я не утомляю ее; мы просто знакомимся. Замечу, тем не менее, что теперь не время для пустых любезностей. Тебе что-то нужно? – добавила она, поворачиваясь к Близняшке. – Или ты заскочила, чтобы поговорить?
– Просто зашла поговорить, но, полагаю, я зайду снова, когда не нужно будет двигать мебель.
– Ты случайно не поедешь сегодня после обеда в город?
– Да, – ответила Близняшка. – Однако если речь идет о карнизе для штор, – прибавила она осторожно, – я отказываюсь привозить его. Вчера вечером я вызвалась привезти карниз для Люсиль Картер, поскольку она торопилась отпраздновать новоселье, так я уколола им кондуктора, когда залезала в трамвай; а пока я извинялась перед ним, другим концом карниза я сшибла шляпку миссис Прекси.
– У нас есть все необходимые карнизы для штор, – ответила Пэтти. – Речь идет о краске – о пяти банках черной краски – и о трех кисточках, продаваемых в магазине полезных мелочей, и большое тебе спасибо. Прощай. А теперь, – продолжала она, – прежде всего, следует снять эту дверь, а я отвоюю у несговорчивого Питерса отвертку, пока вы вытаскиваете кнопки из ковра.
– Он не даст тебе ее, – промолвила Присцилла.
– Увидим, – ответила Пэтти.
Пять минут спустя она вернулась, размахивая над головой настоящей отверткой. – Voilà, mes amies![2] Собственная отвертка Питерса, за которую я лично отвечаю.
– Как ты ее достала? – подозрительно поинтересовалась Присцилла.
– Ты ведешь себя так, – сказала Пэтти, – словно я сбила его с ног в каком-нибудь темном углу и ограбила. Я просто вежливо ее попросила, и он спросил, что я собираюсь с ней делать. Я сказала, что хочу отвинтить шурупы, и причина его настолько впечатлила, что он вручил мне ее без единого слова. Питерс, – прибавила она, – душка, просто он похож на всех остальных мужчин – с ними следует быть дипломатичными.
В десять часов вечера ковер из рабочего кабинета «399» был аккуратно свернут и перенесен в конец коридора наверху, где было бы сложно проследить его происхождение. Все пространство было пропитано запахом скипидара, пол рабочего кабинета «399» сверкал черным цветом, кроме четырех-пяти неокрашенных пятен, обозначенных Пэтти как «островки», которыми следовало заняться позже. Кто бы ни зашел к ним в тот день или вечер, получал в руку кисть, должен был опуститься на колени и красить. Кроме пола, три книжных шкафа и стул из цвета красного дерева перекрасили в цвет фламандского дуба, и оставалось еще полбанки краски, от которой Пэтти настойчиво пыталась избавиться.
На следующее утро, несмотря на сложности с передвижением, вновь воздвигли приставную лестницу, и крепление декоративной ткани было с энтузиазмом продолжено, как вдруг работу прервал стук в дверь.
Совершенно не подозревая о нависшем роке, Пэтти весело отозвалась: – Войдите!
Дверь отворилась, и на пороге выросла фигура Питерса. Присцилла подло сбежала, оставив свою соседку на лестнице, в затруднительном положении.
– Вы та юная леди, которая взяла у меня взаймы отвертку… – Питерс замер, посмотрел на пол, и челюсть его отвисла в крайнем изумлении. – А ковер где? – вопросил он тоном, подразумевающим, что, по его мнению, ковер находится под краской.
– Он в холле, – радостно ответила Пэтти. – Осторожно, пожалуйста, не наступите на окрашенное. Так гораздо лучше, Вы не находите?
– Вам следовало получить разрешение… – начал было он, но его взгляд упал на обои, и он снова замолчал.
– Да, – сказала Пэтти, – но мы знали, что Вы не можете прямо сейчас выделить человека, который покрасил бы за нас, поэтому мы не стали Вас беспокоить.
– Вешать занавески на стены – против правил.
– Я слышала об этом, – сказала Пэтти приветливо, – и считаю, что обыкновенно это очень хорошее правило. Но взгляните на цвет этих обоев. Это зеленый горох. У вас имеется достаточный опыт по части обоев, мистер Питерс, чтобы понимать, что это не возможно, особенно учитывая, что шторы и портьеры у нас красные.
Взгляд Питерса переместился на туалетную комнату, лишенную двери. – Вы та юная леди, – резко поинтересовался он, – которая попросила меня снять эту дверь с петель?
– Нет, – ответила Пэтти, – полагаю, это была моя соседка. Она была очень тяжелой, – продолжала она жалобно, – и нам пришлось изрядно повозиться, снимая ее, но мы, разумеется, понимали, что Вы ужасно заняты и что в этом нет Вашей вины. Для этого мне и нужна была отвертка, – прибавила она. – Простите, что я не вернула ее вчера вечером, просто я очень устала и забыла об этом.
Питерс только хрюкнул. Он рассматривал угловой шкафчик, висевший на стене. – Разве Вы не знали, – сурово спросил он, – что правила запрещают вбивать гвозди в штукатурку?
– Это не гвозди, – запротестовала Пэтти. – Это крючки. Памятуя, что Вам не нравятся дырки, я установила два крючка, хотя, боюсь, что нужны три. Как Вы думаете, мистер Питерс? Это выглядит прочным?
Питерс подергал. – Достаточно прочным, – мрачно сказал он. Когда он обернулся, его взгляд упал на стол в спальне Присциллы. – Там газовая плита? – поинтересовался он.
Пэтти пожала плечами. – Извините за… осторожно, мистер Питерс! Не наскочите на тот книжный шкаф. Его недавно покрасили.
Питерс отпрыгнул и встал в позу Колосса Родосского, одной ногой наступив на один «островок», другой – на другой «островок» в трех футах от первого. Даже вахтеру сложно возмущаться в подобном положении, и покуда он собирал воедино свои разрозненные впечатления, Пэтти жадно огляделась в поисках кого-нибудь, кто насладился бы зрелищем вместе с ней. Однако, почувствовав, что тишина становится угрожающей, она поспешила прервать ее.
– С этой плитой не все в порядке: она совсем не горит. Боюсь, что мы неправильно собрали ее. Меня бы не удивило, если бы Вы, мистер Питерс, сказали бы, что с ней произошло. – Она мило улыбнулась. – Мужчины столько всего знают о таких вещах! Вы на нее не взглянете?
Питерс снова хрюкнул, однако подошел к плите.
Спустя пять минут, когда Присцилла заглянула в комнату, чтобы посмотреть, не осталось ли случайно чего-нибудь от Пэтти, она увидела Питерса, стоявшего на коленях на полу в ее спальне, вокруг валялись разбросанные детали плиты, и услышала, как он говорит: «Не знаю, есть ли необходимость докладывать о вас, так как, полагаю, раз уж они в стене, пусть там и остаются»; и голос Пэтти, отвечающий: «Вы очень добры, мистер Питерс. Разумеется, если бы мы знали…». Присцилла тихо закрыла дверь и ретировалась за угол, чтобы дождаться ухода Питерса.
– Как, черт возьми, ты управилась с ним? – спросила она, врываясь в комнату, как только замер звук его шагов, удалявшихся по коридору. – Я думала, что буду петь реквием над твоими останками, а обнаружила Питерса на коленях, погруженного в дружескую беседу.
Пэтти загадочно улыбнулась. – Ты должна запомнить, – сказала она, – что Питерс – не только вахтер, он к тому же мужчина.
II. Преждевременный испуг
– Сегодня я приготовлю чай, – благосклонно сказала Пэтти.
– Как угодно, – ответила Присцилла, скептически пожав плечами.
Пэтти принялась хлопотать, дребезжа фарфором. – Чашки довольно пыльные, – заметила она с сомнением.
– Тогда помой их, – парировала Присцилла.
– Нет, – ответила Пэтти, – слишком долго возиться. Просто закрой, пожалуйста, ставни, мы зажжем свечи, и этого хватит. Войдите, – отозвалась она на стук.
В дверном проеме появились Джорджи Меррилс, Люсиль Картер и Близняшка Бартлет.
– Я слышала, что у двух «Пэ» сегодня угощают чаем? – поинтересовалась Близняшка.
– Да, проходите. Я приготовлю его сама, – отвечала Пэтти, – а вы увидите, насколько я более внимательная хозяйка, чем Присцилла. Вот, Близняшка, – добавила она, – возьми чайник и набери в него воды; а ты, Люсиль, сходи, пожалуйста, к первокурсницам в конце коридора и займи у них немного спирта: наша бутылка пуста. Я бы и сама это сделала, просто за последнее время я столько наодалживала, а тебя они не знают, понимаешь? И… ах, Джорджи, ты сама любезность, сбегай-ка вниз в магазин, купи немного сахару. По-моему, я видела какие-то деньги в серебряной чернильнице на письменном столе Присциллы.
– У нас есть сахар, – возразила Присцилла. – Я купила вчера целый фунт.
– Нет, ягненочек, у нас его больше нет. Я дала его взаймы Бонни Коннот вчера вечером. Поищи лучше ложечки, – прибавила она. – Кажется, я их видела на верхней полке книжного шкафа, за Киплингом.
– А что же, позволь узнать, будешь делать ты? – поинтересовалась Присцилла.
– Я? – молвила Пэтти. – О, я буду сидеть в кресле и руководить.
Десять минут спустя, когда компания устроилась в комнате на подушках и вечеринка стала набирать обороты, обнаружилось, что нет лимонов.
– Ты в этом уверена? – требовательно спросила Пэтти.
– Ни одного, – отвечала Присцилла, заглядывая в глиняную кружку, где хранились лимоны.
Джорджи сказала: – Я отказываюсь снова идти в магазин.
– Нет необходимости, – любезно сказала Пэтти, – мы прекрасно без них обойдемся. – (Сама она не ела лимоны.) – Чаепитие совершается не ради чая, но ради сопровождающей его беседы, и не следует сердиться из-за случайностей. Видите, юные леди, – продолжала она говорить тоном учителя, читающего лекцию, – хотя я только что пролила спирт на сахар, я словно не заметила этого и продолжаю поддерживать плавное течение разговора, дабы отвлечь моих гостей. Хладнокровие следует культивировать прежде всего. – Пэтти вяло откинулась на спинку кресла. – Завтра День учредителя, – продолжала она словоохотливо. – Интересно, сколько…
– Кстати, – перебила Близняшка. – Девчонки, не нужно оставлять танцев для моего брата: сегодня утром я получила от него письмо, в котором он пишет, что не сможет приехать.
– Он ведь ничего не сломал, а? – спросила Пэтти сочувственно.
– Сломал?
– А-а… руку, или ногу, или шею. Несчастные случаи – столь частое явление в День учредителя.
– Нет, его вызвали из города по важному делу.
– По важному делу! – Засмеялась Пэтти. – Ну и ну! Он что, не мог придумать что-нибудь новенькое?
– Я и сама считаю, что это просто отговорка, – признала Близняшка. – Он, видимо, думает, что он будет здесь единственным мужчиной и что, будучи одиноким и беспомощным, ему придется танцевать со всеми шестьюстами девушками.
Пэтти грустно покачала головой. – Они все одинаковы. День учредителя не был бы Днем учредителя, если бы половина гостей в последнюю минуту не придумывала серьезную болезнь, важное дело или конец отношений. Единственно надежным способом будет пригласить троих мужчин и составить одну программу.
– Мне просто не верится, что завтра День учредителя, – сказала Присцилла. – Казалось бы, не прошло и недели, как мы распаковали свои дорожные сундуки после каникул, но не успеем мы опомниться, как снова начнем укладывать их на рождественские каникулы.
– Да, и не успеем мы опомниться, как будем снова их разбирать, за три недели до экзаменов, – сказала пессимистка Джорджи.
– О, коли на то пошло, – парировала оптимистка Пэтти, – не успеем мы опомниться, как уже поднимемся с одного конца на сцену за своими дипломами и спустимся с другого ее конца преуспевающими выпускницами колледжа.
– А потом, – вздохнула Джорджи, – прежде чем у нас будет время подумать о своей карьере, мы станем старушками, которые будут говорить внукам стоять ровно и не забывать надевать галоши.
– И прежде чем кто-либо из нас выпьет чаю, – произнесла Присцилла, – мы окажемся в могиле, если вы не перестанете болтать и не посмотрите за чайником.
– Он кипит, – сказала Пэтти.
– Да, – подтвердила Присцилла, – он кипит уже десять минут.
– Горячий, – заметила Пэтти.
– Думаю, так и есть, – согласилась Присцилла.
– Вопрос в том, как его снять и не обжечься.
– Сегодня ты главная: решай проблемы самостоятельно.
– Легко, – и Пэтти подцепила чайник одним концом клюшки для гольфа. – Юные леди, – сказала она, покачивая чайником, – ничто так не учит находить выход из любой сложной ситуации, как учеба в колледже. Если, шагнув в большой, большой мир…
«Где, ну, где степенные старушки-старшекурсницы?»
Произнесла нараспев Близняшка.
«Где, ну, где они?»
Остальные подхватили, и Пэтти терпеливо подождала.
«Этика Кэрнсли отправила их, Этика Кэрнсли отправила их, Этика Кэрнсли отправила их В большой, большой ми-и-и-р.»– Если вы покончили с восхвалениями, юные леди, я продолжу лекцию. Когда, говорю я, вы окажетесь в большом, большом мире и в один прекрасный день будете устраивать «файв-о-клок» для одного из молодых людей, имеющих обыкновение посещать такие мероприятия, который заскочил к вам с послеобеденным визитом… вы следите за моей мыслью, юные леди, или я слишком быстро говорю? Если, в то время как вы увлечены разговором, чайник станет слишком горячим, не кладите палец в рот с криком «Ай!» и не просите кокетливо молодого человека: «Сними его ты», как сделала бы это молодая женщина, у которой не имеется ваших преимуществ. Наоборот, отреагируйте на экстренную ситуацию, спокойно заметив: «Этот чайник перегрелся; могу я потревожить вас просьбой сходить в прихожую и принести зонтик?», а когда он вернется, грациозно и проворно подцепите им чайник, как это проделала я на ваших глазах, юные леди, и молодой…
– Пэтти, осторожно! – вскричала Присцилла.
– Ай-я-яй! – Это протяжно взвыла Джорджи.
Пэтти поспешно поставила чайник на пол. – Прости, пожалуйста, Джорджи. Больно?
– Ни капельки. Очень даже приятно, когда тебя обливают кипятком.
Близняшка Бартлет втянула носом воздух. – Пахнет паленым ковриком.
Пэтти застонала: – Я сдаюсь, Прис, сдаюсь. Послушай, руководи ты. Больше я на это не претендую.
– Хотелось бы мне посмотреть, – заметила Близняшка, – как Пэтти развлекает молодого человека.
– Это не такое уж беспрецедентное событие, – произнесла Пэтти с некоторой теплотой в голосе. – Ты сможешь понаблюдать за мной завтра вечером, если это доставит тебе такое удовольствие.
– Завтра вечером? Ты собираешься пригласить на студенческий бал мужчину?
– Таково мое намерение, – отвечала Пэтти.
– И ты не оставила мне хоть один танец! – послышался обиженный хор голосов.
– Я никому не оставила танец, – промолвила Пэтти с достоинством.
– Ты хочешь сказать, что все двадцать танцев ты будешь танцевать с ним сама?
– О нет, думаю, что мне удастся потанцевать с ним не больше десяти… Просто я пока не сделала его визитку, – прибавила она.
– Почему?
– Я никогда их не делаю.
– В таком случае, он бывал здесь раньше?
– Нет, в этом-то все дело.
– В чем?
– Ну, – соизволила объяснить Пэтти, – начиная с первого курса, я приглашала его на каждую вечеринку.
– И он отказывал?
– Нет, он принимал приглашение, но ни разу не приходил.
– Почему же?
– Он боялся.
– Боялся? Девушек?
– Да, частично, – сказала Пэтти, – но в основном преподавателей.
– Преподаватели ничего плохого ему не сделают.
– Естественно; но он не мог этого понять. Видите ли, в молодости он испугался.
– Испугался? А отчего?
– Ну, – сказала Пэтти, – произошло это следующим образом. Случилось это, когда я училась в средней школе. В то время он учился в Андовере, а жил на юге, и однажды, проезжая через Вашингтон, он остановился, чтобы навестить меня. Так получилось, что за два дня до этого наш дворецкий сбежал, прихватив с собой все ножи и вилки, все деньги, какие он только мог найти, золотые часы Нэнси Ли, две шляпные булавки, мою серебряную щетку для волос, бутылку бренди и пирог, – перечислила она, уделяя добросовестное внимание деталям, – и миссис Трент – директриса – дала рекламное объявление о найме нового дворецкого.
– Я, было, решила, что прежний отбил у нее охоту держать дворецких, – сказала Джорджи.
– Ты могла бы так решить, – ответила Пэтти, – однако она была очень целеустремленной женщиной. В день, когда Рауль – так его зовут – приехал меня проведать, на эту должность претендовали девятнадцать человек, и миссис Трент совершенно обессилела, интервьюируя их. Поэтому она велела мисс Саре, своей дочери, уделить внимание тем, кто придет вечером. Мисс Сара была высокой, носила очки и была… была…
– Истинным поборником дисциплины, – предположила Близняшка.
– Да, – с чувством сказала Пэтти, – жутко истинным поборником дисциплины. Ну вот, когда Рауль вошел, он дал свою визитную карточку Эллен и попросил позвать меня; Эллен, однако, не поняла и позвала мисс Сару. Когда мисс Сара увидела его в вечернем костюме, она…
– Приняла его за дворецкого, – вставила Джорджи.
– Да, она приняла его за дворецкого. Посмотрев на карточку, которую он дал Эллен, она вымолвила ледяным тоном: «Что это значит?»
«Это… это мое имя», – запнулся он.
«Вижу, – сказала мисс Сара, – но где рекомендательное письмо?»
«Я не знал, что оно необходимо», – проговорил он, страшно напуганный.
«Разумеется, оно необходимо, – ответствовала мисс Сара. – Я не могу позволить Вам войти в этот дом, не имея писем из тех мест, где Вы бывали раньше».
«Я не предполагал, что у вас здесь так строго», – сказал он.
«Нам приходится быть строгими, – твердо ответила мисс Сара. – У Вас большой опыт?»
– Он не понял, что она имела в виду, но решил, что безопаснее будет сказать, что нет.
«В таком случае, естественно, Вы не подходите, – ответила она. – Сколько Вам лет?»
– Тут он так испугался, что не мог вспомнить. «Девятнадцать, – вымолвил он задыхаясь, – то есть двадцать.»
– Увидев его смятение, мисс Сара подумала, что он строит планы относительно некоторых наследниц, вверенных ее заботам. «Не понимаю, как Вы посмели сюда прийти, – сказала она сурово. – Я ни на миг не допускаю мысли, чтобы принять Вас в дом. Вы столь же молоды, сколь привлекательны». – С этими словами Рауль встал и дал деру.
– Когда Эллен на следующий день рассказала мисс Саре, что он спрашивал меня, ей стало ужасно стыдно, и она заставила меня написать ему, все объяснить, и пригласить на ужин; но дикие лошади больше так и не смогли затащить его в этот дом. С тех пор он боится останавливаться в Вашингтоне. Он всегда едет в спальном вагоне, без остановок, и говорит, что и тогда его преследуют кошмары.
– И поэтому он не приезжает в колледж?
– Да, – ответила Пэтти, – причина в этом. Я сказала ему, что у нас здесь нет дворецких, но он сказал, что у нас есть дама-преподаватель, а это так же плохо.
– Но мне показалось, ты сказала, что он придет на студенческий бал.
– На сей раз он придет.
– Ты уверена?
– Да, – сказала Пэтти угрожающе, – я уверена. Он знает, – добавила она, – что случится, если он не придет.
– А что случится? – спросила Близняшка.
– Ничего.
Близняшка покачала головой, а Джорджи поинтересовалась:
– Тогда почему ты не составляешь его программу?
– Полагаю, я могла бы это сделать. Я не сделала этого раньше, поскольку это все равно, что в некотором роде искушать Судьбу. Я не хочу быть причиной какого-нибудь действительно серьезного происшествия, которое может с ним произойти, – объяснила она несколько двусмысленно, вытаскивая карандаш и бумагу. – Какие танцы оставить за тобой, Люсиль? Джорджи, а у тебя третий танец не занят?
Пока они улаживали этот вопрос, послышался стук в дверь, оставшийся без внимания. Постучали еще раз.
– Что там? – спросила Присцилла. – Кто-то стучал? Войдите.
Дверь открылась, на пороге стояла горничная с желтым конвертом в руке. В сгустившихся сумерках она неуверенно переводила взгляд с одного лица на другое. – Мисс Пэтти Уайатт? – спросила она.
Пэтти молча протянула руку за конвертом, положила на письменный стол и посмотрела на него с беспощадной улыбкой.
– В чем дело, Пэтти? Ты не будешь его читать?
– В этом нет необходимости. Я знаю, о чем там говорится.
– Тогда прочту я, – сказала Присцилла, вскрывая конверт.
– Нога или рука? – поинтересовалась Пэтти с кротким любопытством.
– Ни то, ни другое, – ответила Присцилла, – это ключица.
– О, – проворчала Пэтти.
– Ну, что там? – настойчиво спросила любопытная Джорджи. – Прочти вслух.
«Нью-Хейвен, 29 ноября.
Играя в футбол, сломал ключицу. Честное слово. Ужасно жаль. В другой раз повезет больше.
Рауль.»
– Другого раза, – заметила Пэтти, – не будет.
III. Впечатлительный мистер Тодхантер
– Почту уже приносили? – Присцилла окликнула девушку в противоположном конце коридора.
– Не думаю. В нашу комнату еще не заглядывали.
– А вот и почтальон! – Присцилла налетела на девицу, разносившую почту. – Есть что-нибудь для 399-ой?
– Вы возьмете и почту мисс Уайатт?
– Да, я возьму все. Как много! Это все нам? – И Присцилла пошла по коридору, размахивая висящей на веревочке тетрадкой и вскрывая на ходу конверты. В этот момент к ней присоединилась Джорджи Меррилс, которая точно так же держала тетрадку за веревочку и размахивала ею.
– Привет, Прис, идешь на английский? Помочь тебе нести твою почту?
– Спасибо, – сказала Присцилла, – можешь оставить себе большую ее часть. Итак, это, – прибавила она, вытаскивая голубой конверт, – реклама кольдкрема, без которого не может обойтись ни одна дама; а это, – извлекая желтый конверт, – реклама говяжьего экстракта, без которого не может обойтись ни один работник умственного труда; этот, – вытаскивая белый конверт, – хуже всех, поскольку выглядит, как официальное письмо, но на деле ничто иное как послание, адресованное «Уважаемой сударыне» и гласящее, что мой портной переехал с Двадцать второй на Сорок третью Улицу и надеется, что я по-прежнему буду оказывать ему содействие своим покровительством.
– А тут, – продолжала она, переходя к корреспонденции своей соседки, – кольдкремовое и говяжье-экстрактное письмо для Пэтти и одно из Йеля; видимо, это Рауль объясняет, почему он не смог приехать на студенческий бал. Хотя толку от этого мало. Ни один смертный мужчина не заставит ее поверить, что он сломал ключицу не преднамеренно. И я не знаю, от кого это, – продолжала Присцилла, рассматривая последнее письмо. – На нем значится «Отель А…, Нью-Йорк». Никогда о таком не слышала, а ты? И почерк мне тоже не знаком.
Джорджи засмеялась. – Ты ведешь учет всех корреспондентов Пэтти?
– О, на сегодняшний день я знаю большинство из них. Обычно самых интересных она цитирует вслух, а тем, кто не интересен, она не отвечает, так что они перестают писать. Скорее, сейчас прозвенит звонок. – И они протиснулись в толпу девушек, поднимавшихся по лестнице в класс.
Звонок прозвенел как раз, когда они вошли в класс, и Присцилла молча уронила письма в подол Пэтти, проходя мимо нее. Пэтти читала поэзию и не подняла головы. Со времени первого звонка она проглотила порядка десяти страниц из Шелли и, не будучи уверена, что именно будут спрашивать на уроке, столь же прожорливо поглощала теперь Вордсворта. Метод Пэтти относительно поэзии романтизма заключался в том, чтобы в первой части занятия быть весьма энергичной, поймать взгляд преподавателя в начале часа, с блеском ответить урок и провести оставшееся время в кротких раздумьях.
Сегодня, однако, необычная груда корреспонденции отвлекала ее разум от его прямого долга. Ей не удалось встретиться взглядом с преподавателем, и опрос продолжался без ее участия. Сидя позади нее, Присцилла наблюдала, как она, скептически нахмурившись, читала письмо из Йеля и состроила гримасу при виде голубого и желтого писем; но прежде чем она дошла до «Отеля А…», Присцилла вновь обратила свое внимание на урок. Подходила ее очередь, и, волнуясь, она стала формулировать мнение об отличительных признаках изображения бессмертия в творчестве Вордсворта.
Внезапно класс вздрогнул оттого, что Пэтти громко хихикнула. Она тут же сделала непроницаемое лицо, которое приняло выражение праздной невинности, но слишком поздно. Она встретилась-таки глазами с преподавательницей.
– Мисс Уайатт, каковы, на Ваш взгляд, наиболее серьезные ограничивающие обстоятельства нашего писателя?
Мисс Уайатт моргнула раз, другой. Этот вопрос, вырванный из контекста, ни о чем ей не говорил. Однако часть ее философии заключалась в том, чтобы никогда не сдаваться окончательно; она всегда выкарабкивалась.
– Значит так, – начала она с видом глубокомысленного раздумья, – этот вопрос можно рассматривать двояко: как с художественной, так и с философской точки зрения.
Это прозвучало многообещающе, и преподавательница ободряюще улыбнулась. – Да? – сказала она.
– И все же, – после еще более глубокомысленного раздумья продолжала Пэтти, – я думаю, что одна и та же причина послужит основным объяснением обеих.
Преподавательница чуть не спросила: «Что Вы имеете в виду?», но сдержалась и просто ждала.
Пэтти решила, что с нее довольно, и, однако, отчаянно бросилась в атаку, – Несмотря на его поистине глубокую философию, мы замечаем в его поэзии определенную… едва ли можно сказать, напористость и отсутствие… э-э… созерцания, что я приписала бы его незрелости и его… весьма буйному образу жизни. Если бы он прожил дольше, то, полагаю, со временем он бы с этим справился.
Группа была ошарашена, уголки губ преподавательницы подергивались. – Это определенно интересная точка зрения, мисс Уайатт, и, насколько мне известно, абсолютно оригинальная.
Когда в конце обзорного урока они толпились у выхода, Присцилла обрушилась на Пэтти. – Что, черт возьми, ты несла насчет молодости и незрелости Вордсворта? – вопрошала она. – Человек прожил больше восьмидесяти лет и на последнем вздохе сочинил стихотворение.
– Вордсворт? Я говорила о Шелли.
– Ну, а вся группа – нет.
– Откуда я знала? – возмущенно спросила Пэтти. – Она сказала «наш писатель», и я избегала конкретных деталей столько, сколько могла.
– Ох, Пэтти, Пэтти! И ты назвала его буйным – безропотного Вордсворта!
– И над чем ты все-таки смеялась? – пристала к ней Джорджи.
Пэтти снова улыбнулась. – Ну как же, – сказала она, разворачивая письмо из Отеля А…, – это письмо от одного англичанина, мистера Тодхантера, которого прошлым летом откопал мой отец и пригласил к нам в гости на несколько дней. Я совсем забыла о нем, а он пишет, чтобы узнать, может ли он приехать и в какое время, и если да, будет ли удобно приехать сегодня вечером. Всеобъемлющее предложение, не так ли? Его поезд прибывает в полшестого, на перрон он выйдет около шести.
– Он не собирается рисковать, – сказала Присцилла.
– Да, – ответила Пэтти, – но я не возражаю. Я пригласила его поужинать где-нибудь, хотя и забыла об этом. На самом деле, он очень славный и, несмотря на то, как газетные анекдоты изображают англичан, – довольно забавный.
– Намеренно или ненамеренно? – задала вопрос Джорджи.
– И так, и этак, – отвечала Пэтти.
– Что он делает в Америке? – спросила Присцилла. – Надеюсь, он не пишет книгу про Американскую Девушку.
– Все не настолько плохо, – сказала Пэтти. – Тем не менее, он пишет для газеты. – Она мечтательно улыбнулась. – Он весьма интересуется колледжем.
– Пэтти, я надеюсь, ты не пыталась заставить англичанина, гостя в доме твоего отца, поверить во все твои абсурдные выдумки!
– Конечно, нет, – сказала Пэтти, – я была осторожна в каждом сказанном мной слове. Однако, – признала она, – он… без труда составляет свое мнение.
– Когда с тобой разговаривают, мнение составить несложно, – заметила Джорджи.
– Он спросил меня, – продолжала Пэтти, игнорируя это замечание, – что мы изучаем в колледже! Но я вспомнила, что он иностранец в чужой стране, поэтому, сдержав свои природные инстинкты, перечислила предметы слово в слово согласно учебному плану, объяснила различные методики преподавания и описала библиотеку, лаборатории и лекционные залы.
– Это его впечатлило? – спросила Присцилла.
– Да, – проговорила Пэтти, – полагаю, можно сказать, ошеломило. Он спросил у меня извиняющимся тоном, что мы делаем для того, чтобы ослабить напряжение; то бишь, развлекаемся ли мы, и я сказала, что да, – у нас есть клуб любителей Браунинга и клуб любителей Ибсена, и иногда мы ставим греческие трагедии в оригинале. Он положительно побаивался подходить ко мне снова из опасения, что я забудусь и вместо английского заговорю с ним на греческом.
Учитывая факты, подруги Пэтти сочли это последнее высказывание особенно забавным, поскольку на первом курсе она трижды проваливала экзамен по греческому языку, и учителя посоветовали ей еще раз прослушать материал на втором курсе.
– Я надеюсь, с учетом того, что он газетный репортер, – промолвила Присцилла, – ты что-нибудь предпримешь, дабы смягчить его впечатления, иначе он не станет благоволить женским колледжам в Англии.
– Я об этом не подумала, – сказала Пэтти, – возможно, я так и сделаю.
Они подошли к ступенькам дортуара. – Давайте не будем заходить, – сказала Джорджи, – давайте пойдем в кондитерскую миссис Малдун и съедим немного шоколадного торта.
– Спасибо, – ответила Присцилла, – я занимаюсь спортом.
– Тогда – суп.
– Мне нельзя перекусывать между основными приемами пищи.
– В таком случае, пойдем с тобой, Пэтти.
– Извини, мне нужно отнести мое белое платье в прачечную и погладить его.
– Ты собираешься нарядиться для него не меньше, чем в вечернее платье?
– Да, – сказала Пэтти, – мне кажется, я обязана это сделать ради Американской Девушки.
– Ладно, – вздохнула Джорджи, – я голодна, но, думаю, я тоже зайду и наряжу куклу для Ассоциации сеттльментов колледжа. Сегодня вечером будет шоу.
– Моя готова, – сказала Присцилла, – а Пэтти не взяла ни одной куклы. Ты видела, как Бонни Коннот сидела этим утром на биологии, на задней парте, и весь урок подшивала нижнюю юбку своей куклы?
– Правда? – засмеялась Пэтти. – Хорошо, что профессор Хичкок страдает близорукостью.
Заметим в качестве отступления, что Ассоциация сеттльментов колледжа имела обыкновение ежегодно перед рождеством распределять между студентками триста кукол, которых следовало нарядить и отправить в нью-йоркский сеттльмент.[3] Куклы должны были быть так нарядно одеты, чтобы матери из Ист-Сайда могли использовать их в качестве моделей для изготовления одежды своим собственным детям, хотя следует признать, что среди девушек сложилась тенденция стремиться к внешнему впечатлению, а не к деталям. Накануне отгрузки кукол на корабль, вечером, обычно проводилось кукольное шоу; входной сбор в два цента (принимались и банкноты) шел на уплату срочной транспортировки товара.
Было десять минут седьмого, обитатели Филлипс-холла (во всяком случае, те, кто пришли вовремя) ужинали, когда появилась горничная с визитной карточкой мистера Алджернона Вивиана Тодхантера. Ослепительная в своем белом вечернем платье, Пэтти, отчаянно извиваясь, пыталась застегнуть его на спине.
– Ох, Сэди, – позвала она горничную, – зайди, пожалуйста, и застегни пуговки на моем платье. Я не могу достать ни сверху, ни снизу.
– Вы выглядите просто прелестно, мисс Уайатт, – восхищенно сказала Сэди.
Пэтти рассмеялась. – Ты считаешь, я смогу постоять за честь нации?
– Можете не сомневаться, мисс, – сказала Сэди любезно.
Пэтти пробежала по коридору до двери приемной и неторопливо, уверенно вошла, напустив на себя тот вид, который она называла «континентальной невозмутимостью». В комнате никого не было. Она огляделась несколько удивленно, так как знала, что обе приемные в противоположном конце холла были отведены для кукольного шоу. Пройдя на цыпочках через холл, она заглянула в приоткрытую дверь. Комната была забита рядами и ярусами кукол – они лежали на каждом предмете мебели, – а в дальнем углу, в конце длинной вереницы кукол, оказался мистер Алджернон Вивиан Тодхантер, робко сидевший на краешке дивана в окружении пупсов с льняными волосами и державший в руке трех из них, чье место он занял.
Пэтти отступила за дверь, и ей понадобилось добрых три минуты, чтобы вновь обрести континентальную невозмутимость; затем она вошла в комнату и бурно приветствовала мистера Тодхантера. Осторожно переместив кукол в левую руку, он встал и поздоровался с ней рукопожатием.
– Позвольте, я заберу у Вас прелестных малюток, – любезно сказала Пэтти, – боюсь, они стоят у Вас на пути.
Мистер Тодхантер пролепетал что-то вроде того, что держать их – для него удовольствие и привилегия.
Пэтти взбила кукольные одежки и заново рассадила кукол на диване, а мистер Тодхантер серьезно наблюдал за нею, тогда как его национальная вежливость и журналистский инстинкт боролись между собою за первенство. В конце концов, он неуверенно начал:
– Послушайте, мисс Уайатт, … э-э… много ли времени юные леди посвящают играм в куклы?
– Нет, – откровенно отвечала Пэтти, – я бы не сказала, что они посвящают этому слишком много времени. Я слышала вообще-то только об одной девушке, которая ради кукол пренебрегает своими обязанностями. Вам не следует думать, будто у нас тут в каждый вечер собирается так много кукол, – продолжала она. – Это весьма незаурядное явление. Раз в году девушки устраивают то, что они называют кукольным шоу, чтобы выяснить, кто из них нарядил свою куклу лучше всех.
– А, понимаю, – сказал мистер Тодхантер. – Небольшое дружеское состязание.
– Исключительно дружеское, – подтвердила Пэтти.
Когда они направились в столовую, мистер Тодхантер нацепил свой монокль и кинул прощальный взгляд на кукольное шоу.
– Боюсь, мистер Тодхантер, Вы считаете, что мы ведем себя, как дети, – заметила Пэтти.
– Вовсе нет, мисс Уайатт, – заверил он ее поспешно. – Видите ли, я считаю, это довольно очаровательно и так… э-э… неожиданно. Мне всегда говорили, что в этих женских колледжах играют в какие-то особые игры, но я никогда не предполагал, что здесь занимаются таким женским делом, как игра в куклы.
Вернувшись вечером в свою комнату, Пэтти увидела, что Джорджи и Присцилла обложились учебниками грамматики и словарями и готовят домашнее задание по немецкой прозе. Ее появление было встречено воплем возмущенного протеста.
– Когда ко мне приходит мужчина, – сказала Присцилла, – я делю его со своими подругами.
– В особенности, если он редкая диковина, – прибавила Джорджи.
– Мы вырядились в грандиозные наряды и, когда вы выходили со службы, встали у вас на пути, – продолжала Присцилла, – а ты даже не взглянула на нас.
– Англичане такие застенчивые, – заметила Пэтти в свое оправдание, – я не хотела его пугать.
Присцилла посмотрела на нее с подозрением. – Пэтти, я надеюсь, ты не обманула доверие этого бедняги.
– Ну, конечно, нет! – Возмущенно сказала Пэтти. – Я объяснила ему все, о чем он меня спрашивал, и была предельно внимательна, чтобы не преувеличить. Однако, – добавила она с очаровательной непосредственностью, – я не могу отвечать за впечатления, которые он себе, возможно, составил. Видите ли, если англичанину однажды взбредет что-нибудь в голову, то изменить это почти невозможно.
IV. Об этике
Методы классного образования, разработанные Пэтти, были результатом богатого опыта по части учительского склада ума. К последнему курсу она привела проблему устного опроса в систему и могла с неизменной точностью предсказать день, когда ее вызовут, и вопрос, который ей зададут. Тактика ее менялась в зависимости от предмета и преподавателя, являясь следствием проницательности и знания человеческой натуры, а в каком-нибудь более стоящем деле могла бы достигнуть совершенства.
Скажем, ее преподаватель по химии был человеком, пережившим все ранние иллюзии относительно того, что девочки намного сознательнее мальчиков. По натуре он не был подозрительным, однако долгий опыт преподавания развил в нем чрезмерную осмотрительность, которая иногда не вовремя проявлялась. На своих занятиях он не разрешал отвлекаться, и страдал тот, кто считал ворон. Пэтти обнаружила его слабость в начале года и спланировала свою кампанию соответственно. Пока производимый химический опыт был ей неясен, она наблюдала за преподавателем, всем своим видом выражая сообразительность; но, стоило ей понять и пожелать ответить, как она с мечтательной, далекой улыбкой переводила рассеянный взгляд в окно, а, когда ей задавали вопрос, вздрагивала, возвращалась к химическим реалиям и через мгновение притворного раздумья выдавала блестящий ответ. Следует признать, что моменты, когда она отвлекалась, были редки; чаще всего она излучала заинтересованность.
На уроке французского она применяла абсолютно противоположную тактику. Преподаватель со всевозможной учтивостью, свойственной его нации, вызывал только тех, кто встречались с ним взглядом и, казалось, выражали страстное желание ответить. Это сравнительно упрощало дело, однако тоже требовало значительной ловкости. Пэтти роняла ручку, брызгала чернилами на страницы своей тетрадки, подвязывала шнурок и даже вовремя чихала, чтобы не встретиться с ним взглядом в неподходящие моменты. Остальные одноклассницы, которые не были актрисами, довольствовались тем, что попросту опускали глаза, когда он смотрел вдоль ряда; подобный метод, как презрительно полагала Пэтти, был ясен как день и подразумевал: «Пожалуйста, не вызывайте меня. Я не готова».
Однако в отношении профессора Кэрнсли, читавшего философию, сформулировать рабочую гипотезу было гораздо сложнее. Он состарился на преподавательском поприще и, накопив тридцатилетний опыт касательно женской природы, остался таким же открытым и доверчивым, каким был вначале. Принимая на веру, что его ученицы так же заинтересованы в созерцании философских истин, как и он сам, профессор проводил свои занятия, не подозревая о коварстве, и выстраивал весь процесс исключительно под влиянием момента. Ключ к его методу всегда был загадкой, и не одно поколение учащихся тщетно искало его. Некоторые утверждали, что он вызывает каждую седьмую девушку; другие – что он выбирает бессистемно. В самом начале учебного курса Пэтти победоносно объявила, что она, наконец, нашла секрет: по понедельникам он вызывает рыжеволосых девушек, по вторникам – тех, у кого желтые волосы; по средам и четвергам – шатенок, а по пятницам – брюнеток. Но это разъяснение, как и остальные, на практике потерпело фиаско; а что до Пэтти, то она пришла к выводу, что потребуется вся ее изобретательность и придется даже изрядно поучиться, чтобы сохранить репутацию блестящей ученицы на занятиях профессора Кэрнсли. И репутация эта была ей небезразлична ввиду того, что профессор ей нравился и она была одной из его любимых учениц. Она знала его жену до своего поступления в колледж, часто бывала у них дома и, короче говоря, служила примером идеальных отношений между преподавателем и студентом.
Поскольку над ней довлело множество интересов, философские исследования Пэтти были не столь глубоки, как того требовала программа, но она обладала хорошими, необходимыми в работе знаниями, которые, в частности, поразили бы профессора Кэрнсли, если бы он мог оказаться в другой обстановке. Несмотря на то, что знания ее были почерпнуты не только и не столько из учебника, в классе у нее была хорошая репутация и, как со вздохом признавала Пэтти, «чтобы поддерживать репутацию в области философии, воображение подвергается неимоверной нагрузке».
Это было достоверно установлено еще на втором курсе, на уроке психологии, когда первое введение в научную абстракцию заставило всю группу замолчать в благоговейном страхе, и только Пэтти посмела подать голос. Однажды утром профессор безмятежно распространялся на тему ощущений и в ходе лекции заметил: «Вероятно, что индивид испытывает все первоначальные ощущения в течение первых нескольких месяцев своей жизни и что в дальнейшем такого понятия, как новое ощущение, не существует».
– Профессор Кэрнсли, – произнесла Пэтти высоким голосом, – Вы когда-нибудь катались с горки?[4]
Лед, наконец, дал трещину, и группа почувствовала себя свободнее даже в изрядно глубоких водах философии; а Пэтти, хотя и необоснованно, заслужила репутацию человека, обладающего более глубокой способностью, нежели большинство студентов, проникать в физическую суть вещей.
Итак, начав изучать этику на четвертом курсе, она обладала незаслуженной, хрупкой, построенной на отговорках, репутацией, которая могла погибнуть при малейшем прикосновении. Она весьма похвально поддерживала ее до самых рождественских каникул, так разумно вступая в споры о первичных причинах морального обязательства и о происхождении совести, словно ранее ознакомилась с тем, что говорит учебник на эту тему. Но когда перешли к изучению определенных богословских течений, основанных на конкретных исторических фактах, Пэтти обнаружила, что от воображения мало пользы, а несколько раз только чистое везение спасло ее от разоблачения. Однажды в нужный момент прозвенел звонок, и два раза ей удалось избежать прямого ответа, переведя дискуссию на второстепенные вопросы. Тем не менее, она поняла, что удача не всегда будет ей благоприятствовать, и ввиду того, что профессор обычно забывал делать перекличку, Пэтти приобрела гнусную привычку пропускать лекции в случае, если она не выучила урок.
В частности, в течение примерно одной недели напряженная работа на ином поприще (и не всегда имеющем отношение к учебе) не позволяла ей затрачивать обычное количество энергии на выполнение задачи по поддержанию своей репутации в области философии; поэтому несколько дней подряд она бессовестно пропускала занятия по этике, не объяснившись по этому поводу с профессором.
– О чем была его лекция по этике – я имею в виду, обзорные занятия, которые я пропустила? – спросила она у Присциллы в один день.
– О Сведенборге.
– Сведенборг, – повторила мечтательно Пэтти. – Кажется, он изобрел новую религию? Или это была новая система физических упражнений? Я слышала о нем, но, похоже, не помню ни единой подробности.
– Лучше тебе наверстать упущенное, – это важно.
– Не сомневаюсь, однако прожив на свете двадцать один год и ничего о нем не зная, я могу подождать еще один месяц. Я оставляю Конфуция и иезуитов для экзаменационной сессии, к этому списку я добавлю Сведенборга.
– Лучше не надо. Профессор Кэрнсли увлечен им и в любой момент может огорошить специальным тестом.
– Только не профессор Кэрнсли, – рассмеялась Пэтти. – Он не любит терять время. Он будет читать лекции две недели кряду – душка – я вижу это по его глазам. Что меня восхищает в профессоре, так это хороший, ровный, трудолюбивый характер, не позволяющий себе сенсационных неожиданностей.
– Когда-нибудь ты поймешь, что ошибалась, – предупредила Присцилла.
– Ничего страшного, моя милая Кассандра. Я знаю профессора Кэрнсли, а профессор Кэрнсли думает, что знает меня; и мы просто прекрасно друг с другом ладим. Побольше бы таких, как он, – прибавила Пэтти со вздохом.
На следующее утро профессор Кэрнсли начал лекцию, которая, по явным подсчетам, должна была растянуться на целый час, и Пэтти, отвинчивая колпачок чернильной ручки и принимаясь за работу, бросила победный взгляд на Присциллу. Однако во время лекции у него появилась возможность сослаться на Сведенборга и, помедлив мгновение, он мимоходом попросил девушку в первом ряду сделать резюме по философии Сведенборга. К несчастью, она перепутала его с Шопенгауэром и бойко приписала ему доктрины, которые могли оскорбить его прах, доведись ему их услышать. Сказано, что всякому терпению приходит конец, и когда профессор переадресовал вопрос другой девушке, – с тем же успехом – ласковая улыбка сошла с его лица. Благодаря Пэтти, весь класс, очевидно, обманывал себя, что время, когда придется учить конспекты, не наступит. Удивленный и возмущенный, он доискивался до сути с настойчивостью и злостью, редко им проявленными. Он спрашивал всех подряд, с каждым ответом становясь все более саркастичным.
Увидев, что он покончил с впередисидящими и перешел к ее ряду, Пэтти стало ясно, что она обречена. Она терзалась попыткой вызвать хоть какие-нибудь воспоминания о Сведенборге. Для нее он был не более чем имя. Судя по тому, что ей было известно, он мог быть как древним греком, так и современным американцем. Продвигаясь вдоль ряда, профессор Кэрнсли постепенно вытягивал из напуганных студенток внешние особенности, более или менее свойственные всем философам. Пэтти сознавала, что ее воображение не может вызволить ее из затруднения, что некогда тихий профессор вышел на тропу войны и что помочь может Сведенборг, и только Сведенборг. В отчаянии она вскинула глаза на Присциллу, и в каждой черте присциллиного лица читалась ответная ухмылка: «Я же тебе говорила».
Пэтти безнадежно огляделась вокруг. В лекционном зале, построенном в виде амфитеатра, часть мест находилась на одном уровне с полом, остальные же располагались ярусом. Пэтти сидела на первом этаже, ближе к концу ряда. Она едва видела голову профессора, но он неуклонно приближался. Ей не нужно было видеть, чтобы знать это. Девушка, сидевшая впереди, ответила что-то нелепое; профессор нахмурился и, заглянув в классную ведомость, медленно и тщательно вывел «ноль».
Когда он в очередной раз поднял глаза, кресло Пэтти опустело. Опустившись на колени на пол, она спрятала голову за впередисидящей девушкой. Ничего не подозревающий профессор прошел взглядом поверх ее склоненной головы и вызвал девушку с другой стороны ряда; та истерически кашлянула раз-другой и окончательно потерялась. Пока же он фиксировал данный факт в ведомости, Пэтти вновь заняла свое место. По залу прокатилась легкая волна смеха, профессор нахмурился и заметил, что он не видит повода для веселья. Прозвенел звонок, и студентки несколько робко друг за другом покинули зал.
В этот день Пэтти ворвалась в кабинет, где Присцилла и Джорджи Меррилс заваривали чай. – Вы могли когда-нибудь подумать, что у меня почти есть совесть? – спросила она.
– Никогда не считала, что это твоя сильная сторона, – ответила Джорджи.
– Ну, так вот, у меня совершенно потрясающая совесть! Как по-вашему, чем я занимаюсь?
– Наверстываешь пропущенные лекции по этике, – предположила Присцилла.
– Хуже.
– Пэтти, ты пропустила тренировку! – сказала Джорджи.
– О господи, нет же! Я пока не зашла так далеко. Ладно, я скажу вам. Встретив у ворот профессора Кэрнсли, я вошла с ним внутрь и он, с вашего позволения, похвалил меня за мою работу по этике!
– Должно быть, тебе было стыдно, – промолвила Джорджи.
– Верно, – призналась Пэтти. – Я сказала ему, что на самом деле я не знаю столько, сколько, по его мнению, я знаю.
– И что он сказал?
– Он ответил, что я чрезмерно скромная. Понимаете, он такой доверчивый старичок, что его вроде как и неудобно обманывать. И что вы думаете? Я рассказала ему о том, как пряталась сегодня за креслом!
Присцилла одобрительно улыбнулась своей обычно малодушной соседке по комнате. – Ну, Пэтти, ты определенно лучше, чем я о тебе думала!
– Благодарю, – буркнула Пэтти.
– Я начинаю верить, что у тебя есть совесть, – сказала Джорджи.
– И просто замечательная, – подтвердила Пэтти самодовольно.
– Когда-нибудь тебе воздастся, – сказала Присцилла.
– О да, – согласилась Пэтти. – Профессор Кэрнсли сказал, что лично объяснит мне Сведенборга, и пригласил меня сегодня к ужину!
V. Неуловимая Кейт Феррис
Таинственная Кейт Феррис, которая целый семестр держала Присциллу на грани нервного истощения, приступила к своей карьере в колледже совершенно спонтанно, экспромтом. Это началось в один далекий ноябрьский денек. Джорджи Меррилс и Пэтти только что вернулись домой со спортивной площадки, где стали свидетелями старта «погони по бумажному следу» по пересеченной местности, в которой Присцилла исполняла роль лиса. Войдя в кабинет, Джорджи остановилась, чтобы изучить несколько наспех приколотых к двери листков бумаги.
– Что это, Пэтти?
– О, это список желающих вступить в Немецкий клуб. Видишь ли, секретарь Присциллы и все, кто желают стать его членами, приходят сюда. В кабинет все время набивается такое множество первокурсниц, что я велела ей вывесить список на дверь, чтобы они вступали в клуб за пределами кабинета: великолепно работает. – Пэтти перевернула листки и пробежала глазами по списку размашистых подписей. – Какая популярная организация, не так ли? Первокурсницы прямо-таки с трудом в нее протискиваются.
– Они стремятся показать фройляйн Шерин, насколько силен их интерес к предмету, – засмеялась Джорджи.
Пэтти взяла карандаш. – Ты не хочешь вступить? Я знаю, Присцилла будет довольна.
– Нет, спасибо, я уже и так плачу довольно членских взносов.
– Боюсь, что я и сама не вполне подхожу, так как не знаю немецкого. Тем не менее, грех не написать ни слова таким прекрасно отточенным карандашом. – На мгновение Пэтти нерешительно замерла с карандашом в руке, затем рассеянно вывела имя «Кейт Феррис».
Джорджи засмеялась: – Если случайно окажется, что в колледже учится некая Кейт Феррис, она будет удивлена, обнаружив себя в рядах членов Немецкого клуба. – И эпизод был предан забвению.
Несколько дней спустя обе девушки вернулись с занятий и увидели, что Присцилла и председатель Немецкого клуба, сидя на диване, голова к голове, яростно листают журнал.
– Она не студентка третьего курса, – объявила председатель. – Присцилла, должно быть, это первокурсница. Посмотри снова.
– Я просмотрела этот список трижды, и в нем не значится ни одной Феррис.
Джорджи и Пэтти обменялись взглядами и поинтересовались, в чем дело.
– Среди претендентов в Немецкий клуб зарегистрировалась девушка по имени Кейт Феррис, мы прошли по всем группам, но в колледже такой девушки просто не существует.
– Возможно, она в числе дополнительной группы студентов, – предположила Пэтти.
– Ну, конечно! Как мы раньше об этом не подумали? – И Присцилла перешла к списку дополнительных студентов. – Нет, ее здесь нет.
– Позволь мне взглянуть. – И Пэтти пробежала глазами столбец. – Ты перепутала имя, – заметила она, возвращая книгу и пожимая плечами.
Присцилла вытащила регистрационный лист и с триумфом продемонстрировала безошибочно написанную «Кейт Феррис».
– Ее забыли внести в список учащихся.
– Я никогда не слышала, чтобы подобная ошибка допускалась прежде, – с сомнением сказала председатель. – Не думаю, что нам следует вносить ее в ведомость, пока мы не узнаем, кто она такая.
– В таком случае, вы оскорбите ее чувства, – сказала Джорджи. – Первокурсницы ужасно чувствительны, когда к ним проявляют пренебрежительное равнодушие.
– О, отлично; тогда ладно. – И Кейт Феррис была соответствующим образом внесена в списки клуба.
Несколько недель спустя Присцилла была занята утомительным превращением протокола их последнего заседания в грамматически правильный немецкий язык; закрывая словарь и учебник грамматики со вздохом облегчения, она обратилась к Пэтти:
– А знаешь, вокруг этой Кейт Феррис творится что-то странное. Она не заплатила взносы и, насколько я могу судить, не посетила ни одного заседания. На моем месте ты бы не вычеркнула ее имя из списка? Не думаю, что она еще в колледже.
– Ты тоже можешь это сделать, – ответила Пэтти и безразлично наблюдала, как Присцилла вымарывала имя с помощью перочинного ножа. Пэтти никогда не переигрывала.
Вернувшись на следующее утро с урока, Присцилла обнаружила на дверной притолоке записку, написанную перпендикулярными буквами Кейт Феррис. В ней значилось:
Дорогая мисс Понд, я пришла заплатить членские взносы в Немецкий клуб и, поскольку Вас не оказалось на месте, оставила деньги на книжном шкафу. Сожалею, что пропустила так много заседаний клуба, но в последнее время я не имела возможности посещать занятия.
Кейт Феррис.
Присцилла показала записку председателю в качестве доказательства, что Кейт Феррис существует на самом деле, и вновь вписала ее имя в список членов.
Спустя несколько недель она нашла вторую записку на притолоке двери:
Дорогая мисс Понд, ввиду того, что я очень занята классной работой, я нахожу, что у меня нет времени посещать заседания Немецкого клуба, поэтому я решила выйти из его состава. Свое заявление о выходе из членов клуба я оставила на книжном шкафу.
Кейт Феррис.
Вычеркивая в очередной раз ее имя из ведомости, Присцилла обратилась к Пэтти: – Я рада, что эта Кейт Феррис ушла, наконец, из клуба. Она причинила мне больше неприятностей, чем все остальные члены вместе взятые.
На следующее утро на притолоке появилась третья записка:
Дорогая мисс Понд, так получилось, что я упомянула о своем выходе из Немецкого клуба в разговоре с фройляйн Шерин вчера вечером, и она сказала, что клуб поможет мне в работе, и посоветовала остаться в нем. Таким образом, я буду Вам весьма признательна, если Вы все-таки не представите письмо на заседании клуба, поскольку я решила последовать ее совету.
Кейт Феррис.
Присцилла со стоном швырнула записку Пэтти и, достав список членов, нашла букву «Ф» и снова вписала Кейт Феррис.
Пэтти сочувственно наблюдала за процессом поверх ее плеча. – Журнал в этом месте становится таким тонким, – сказала она со смехом, – что Кейт Феррис фактически проявляется на обратной стороне листа. Если она передумает еще несколько раз, от нее и мокрого места не останется.
– Я собираюсь спросить о ней у фройляйн Шерин, – объявила Присцилла. – Она доставила мне такую массу проблем, что мне любопытно посмотреть, как она выглядит.
Она действительно спросила фройляйн Шерин, однако фройляйн категорически отрицала, что знает что-либо об этой девушке. – У меня столько первокурсниц, – извинилась она, – я не могу их всех с их необычными именами помнить.
Присцилла расспросила о Кейт Феррис знакомых ей первокурсниц, но, несмотря на то, что все они полагали, что имя вроде знакомое, ни одна из них не могла с точностью вспомнить, как она выглядит. Ее описывали то высокой и темноволосой, то маленькой, со светлыми волосами, однако дальнейшие расспросы неизменно приводили к тому, что подразумеваемая ими девушка оказывалась совсем не тем человеком.
Присцилла постоянно со всех сторон слышала о девушке, но ей не удавалось увидеть ее даже мельком. Мисс Феррис несколько раз заглядывала по делу, но получалось так, что Присцилла всегда отсутствовала. Ее имя было помещено на доске объявлений в связи с тем, что она держала у себя просроченные книги из библиотеки. Она даже написала доклад для одного заседания Немецкого клуба (Джорджи не говорила свободно по-немецки, поэтому затратила на него целую субботу); но ввиду того, что ее неожиданно вызвали из города, она не читала его лично.
Через месяц-другой после второго пришествия Кейт Феррис, у Присциллы гостили подруги из Нью-Йорка, для которых в кабинете устраивалось чаепитие.
– Я собираюсь пригласить Кейт Феррис, – объявила она. – Я настаиваю на том, чтобы узнать, как она выглядит.
– Правильно, – сказала Пэтти. – Я и сама хотела бы это узнать.
Приглашение было отослано, и на другой день Присцилла получила ответ, официально уведомляющий о том, что приглашение принято.
– Странно, что она посылает уведомление о принятии приглашения к чаю, – заметила она по прочтении, – но я все-таки рада его получить. Я хочу быть уверенной, что, наконец, увижу ее.
В вечер чаепития, после того, как гости разошлись и мебель расставили по местам, изнуренные хозяйки в несколько помятых вечерних платьях (как следствие изрядной толкотни, когда пятьдесят человек устраивают прием в помещении, предназначенном максимум для пятнадцати) вновь угощали парочку подруг сэндвичами с листьями салата и пирожными, которые их любезные гости не смогли осилить. Обсудили компанию и наряды, беседа несколько повисла в воздухе, и Джорджи внезапно спросила:
– А Кейт Феррис приходила? Я так была занята, передавая пирожные, что не посмотрела, а ее я особенно хотела увидеть!
– Точно! – воскликнула Пэтти. – Я ее тоже не видела. Это самая аномально неприметная особа, о какой я когда-либо слышала. Прис, как она выглядела?
Присцилла нахмурила брови. – Она не смогла прийти. Я высматривала ее весь вечер. Не правда ли, странно, притом, что она проявила такое внимание, прислав уведомление о своем согласии? Положительно, во мне растет нездоровый интерес к этой девчонке; я начинаю думать, что она невидимка.
– Я сама начинаю так думать, – промолвила Пэтти.
С утренней почтой прибыли букет фиалок и извинение от Кейт Феррис. – У нее произошла неизбежная задержка.
– Воистину необъяснимо! – объявила Присцилла. – Я пойду к секретарше, сообщу ей, что эта Кейт Феррис не значится ни в журнале, ни в справочнике колледжа, и узнаю, где она живет.
– Не делай опрометчивых поступков, – попросила Джорджи. – Прими дар богов и будь благодарна.
Но Присцилла держала данное слово и вернулась из кабинета секретаря, уверенная в себе и непокорная. – Она настаивает, что в колледже подобной личности не существует и что, должно быть, я ошиблась при написании ее имени! Вы когда-нибудь слыхали нечто более абсурдное?
– Это кажется мне единственным разумным объяснением, – дружелюбно согласилась Пэтти. – Возможно, это «Хэррис», а не «Феррис».
Присцилла посмотрела на нее угрожающе. – Ты лично читала ее имя. Оно было так ясно написано, как будто напечатано.
– Все мы склонны делать ошибки, – успокаивающе пробормотала Пэтти.
– А знаете что, – сказала Джорджи, – я начинаю думать, что все это – галлюцинация и что в действительности не существует никакой Кейт Феррис. Разумеется, это странно, но не более чем некоторые из тех случаев, о которых ты читала в учебнике психологии.
– Галлюцинации не присылают цветов, – пылко сказала Присцилла и величавой поступью вышла из комнаты, оставив Пэтти и Джорджи пересматривать их военную кампанию.
– Боюсь, это слишком далеко зашло, – промолвила Джорджи. – Если она станет чрезмерно надоедать секретариату, будет назначено официальное расследование.
– Боюсь, ты права, – вздохнула Пэтти. – Было очень весело, но она становится крайне впечатлительной по поводу данной темы, и когда мы одни, я не решаюсь упомянуть имя Кейт Феррис.
– Расскажем ей?
Пэтти покачала головой. – Не сейчас… я бы не рискнула. Она верит в телесные наказания.
Несколько дней спустя Присцилла получила очередную записку, адресованную почерком, которого она стала бояться. Она выбросила ее, не раскрывая, в мусорную корзину, но любопытство превозмогло, она вытащила ее опять и прочитала:
Дорогая мисс Понд, ввиду того, что я была вынуждена покинуть колледж по состоянию здоровья, прилагаю мое заявление о выходе из Немецкого клуба. Я от всей души благодарю Вас за Ваше доброе ко мне отношение весь этот год и буду вечно помнить нашу дружбу, как одно из самых счастливых событий моей жизни в колледже.
С уважением, Кейт Феррис.
Когда пришла Пэтти, она обнаружила, что Присцилла молча и безжалостно трет ведомость до дырки в том месте, где раньше стояло имя Кейт Феррис.
– Она снова передумала? – любезно спросила Пэтти.
– Она ушла из колледжа, – сказала Присцилла отрывисто, – и больше никогда не упоминай при мне ее имени.
Пэтти сочувственно вздохнула и заметила, не обращаясь ни к кому в частности:
– Когда вся твоя жизнь в колледже сводится к дыре в архивах Немецкого клуба, это достойно жалости. Ну что я могу поделать, если мне ее жалко!
VI. История с четырьмя продолжениями
Была суббота, и Пэтти с самого завтрака, прервавшись ненадолго на обед, работала над манускриптом, озаглавленным «Человек Шекспир». В четыре часа она отложила ручку, швырнула написанное в корзину и с вызовом уставилась на свою соседку.
– Какое мне дело до Шекспира – человека? Он уже триста лет как умер.
Присцилла бесчувственно рассмеялась. – Если на то пошло, какое мне дело до нервной системы лягушки? Но я точно так же пишу об этом увлекательную монографию.
– А, рискну заметить, что ты делаешь ценный вклад в эту тему.
– Он равноценен твоему вкладу в шекспириану.
Многозначительно вздохнув, Пэтти отвернулась к окну и стала наблюдать, как тоскливо льет дождь.
– О, сдай свою работу, – сказала Присцилла утешительно. – Ты трудилась над нею весь день и, вероятно, она не хуже большинства тобой написанного.
– В этом нет смысла, – промолвила Пэтти.
– Они к этому уже привыкли, – засмеялась Присцилла.
– Ну, и над чем ты все-таки смеешься? – спросила Пэтти сердито. – Я не пойму, чему можно радоваться в таком чудовищном месте. Здесь вечно приходится делать то, что не хочешь делать, а не хочется чаще всего. Одно и то же, день за днем: просыпаешься по звонку, ешь по звонку, ложишься спать по звонку. Я ощущаю себя своего рода преступницей, живущей в сумасшедшем доме.
Присцилла наградила эту вспышку заслуживающим ее молчанием и Пэтти вернулась к созерцанию насквозь промокшего кампуса.
– Хоть бы что-нибудь произошло, – с досадой проговорила она. – Наверное, я сейчас надену плащ и отправлюсь на поиски приключений.
– Если ты это сделаешь, тебя ждет пневмония.
– Ну почему идет дождь, когда должен идти снег?
Так как вопрос не требовал ответа, Присцилла вернулась к своим лягушкам, а Пэтти уныло барабанила пальцами по стеклу до тех пор, пока не появилась горничная с визитной карточкой.
– Гость? – воскликнула Пэтти. – Миссионер! Спаситель! Избавитель! Мой небесный посланник!
– Мисс Понд, – сказала Сэди, кладя карточку на столик.
Пэтти набросилась на нее. – Мистер Фредерик К. Стэнтроуп. Кто это, Прис?
Присцилла подняла брови. – Понятия не имею, я никогда о нем не слышала. Как ты полагаешь, что бы это значило?
– Приключение. Я знаю, это приключение. Возможно, твой дядя, о котором ты никогда не слыхала, недавно скончался на южно-морских островах и оставил тебе наследство, поскольку ты была названа в его честь; или так: ты графиня по праву наследования, но в младенчестве тебя выкрали из колыбели, а он – юрист, приехавший тебе об этом сообщить. Я считаю, что коль скоро я умираю от скуки, это приключение должно было произойти со мной! Но торопись, хотя бы расскажешь мне о нем, – приключение из вторых рук лучше, чем ничего. Да, твоя прическа в порядке; нет нужды смотреться в зеркало. – Вытолкнув свою соседку вон, Пэтти вновь уселась за письменный стол, весьма оживленно достала из мусорной корзины отвергнутый манускрипт и принялась перечитывать его с явным одобрением.
Не успела она закончить, как вернулась Присцилла. – Он спрашивал вовсе не меня, – объявила она. – Он спрашивал мисс Маккей.
– Мисс Маккей?
– Третьекурсницу с такими волосами, – несколько расплывчато пояснила она.
– Как мерзко! – воскликнула Пэтти. – Я уже спланировала, как мы с тобою будем жить в твоем замке в горах Гарца,[5] а теперь получается, что графиня – мисс Маккей, а я ее даже не знаю. Как он выглядел, что делал?
– Ну, выглядел он довольно напуганным и только и делал, что заикался. В приемной сидели двое мужчин и, естественно, я выбрала не того, извинилась и спросила, не он ли мистер Стэнтроуп. Он ответил отрицательно. Его звали Уиггинс. Мне ничего другого не оставалось, как попросить прощение у второго.
– Он сидел на зеленом стуле с высокой спинкой и пристально разглядывал свои ботинки, держа перед собой шляпу и трость, наподобие бруствера, так, словно готовился отразить атаку. Он был не слишком расположен к общению, но я храбро обратилась к нему и спросила, не он ли мистер Стэнтроуп. Он встал, запнулся, вспыхнул с таким видом, словно собрался отрицать очевидное, но, в конце концов, признался в том, что это он, и стал вежливо ждать, чтобы я изложила свое дело! Я объяснила, он стал еще больше заикаться и, в результате, выяснилось, что он пришел навестить мисс Маккей и что горничная, по-видимому, совершила ошибку. Он был несколько сердит по этому поводу, понимаешь, и вел себя так, будто я его оскорбила. А второй мужчина – этот ужасный Уиггинс – засмеялся, потом стал смотреть в окно, притворившись, что он не смеялся. Извинившись, – хотя я не возьму в толк, за что мне было извиняться, – я сказала ему, что пошлю горничную за мисс Маккей, и ретировалась.
– Это все? – разочарованно спросила Пэтти. – Чем такое приключение, лучше не иметь ни одного.
– Но самое смешное, что когда я рассказала об этом Сэди, она настаивала, что спрашивал он меня.
– Ха! Дело все-таки принимает другой оборот. И что это значит? Он был похож на детектива или на обычного карманника?
– Он был похож на самого обычного сконфуженного молодого человека.
Пэтти уныло покачала головой. – Тут какая-то тайна, но я не представляю, что в ней забавного. Уверяю тебя, что когда пришла мисс Маккей, он сказал ей, что звал вовсе не ее; он спрашивал мисс Хиггинботам. Единственное объяснение, приходящее на ум, это то, что он сумасшедший, а в мире столько ненормальных, что это даже не интересно.
В тот вечер за ужином Пэтти подробно изложила историю о госте Присциллы.
– Я знаю продолжение, – сказала Люсиль Картер. – Второй мужчина, тот самый мистер Уиггинс, – двоюродный брат Бонни Коннот; он рассказал ей о молодом человеке, который приехал с ним в одном трамвае и спросил мисс Понд, но потом, похоже, внезапно передумал и неистово ринулся по коридору вдогонку за горничной, крича во все горло: «Постойте! Погодите!»; но не догнал ее, а когда появилась мисс Понд, притворился, что спрашивал кого-то другого.
– Это все? – спросила Пэтти. – Я не считаю это продолжением. Это попросту доказывает, что против Присциллы замышляются какие-то козни, а я об этом уже знала. Я намереваюсь расспросить о нем мисс Маккей. Я с ней не знакома, разве что видела мельком, но если речь идет о жизни и смерти, как в данном случае, не думаю, что необходимо ждать, когда нас друг другу представят.
На следующий вечер Пэтти объявила: – Продолжение номер два! Мистер Фредерик К. Стэнтроуп живет в Нью-Йорке и является лучшим другом брата мисс Маккей. До этого она видела его только однажды и ничего не знает о его прежних связях. Но странно то, что он ни разу не упомянул о Присцилле. Разве не естественно предположить, что он должен был рассказать ей о таком забавном недоразумении?
– Я считаю, – торжественно продолжала Пэтти, – что все было откровенно заранее продумано. Без сомнения, это переодетый злодей, который, как прикрытием, воспользовался своим знакомством с мисс Маккей, чтобы не быть обнаруженным. Я мыслю в следующем направлении: он нашел фамилию Присциллы по журналу и пришел сюда с целью убить ее ради ее бижутерии; но, увидев, какая она крупная, он испугался и оставил свое подлое намерение. А если бы он выбрал меня, мой труп к этому времени лежал бы спрятанным за диваном, и мой нагрудный классный значок покоился бы в кармане убийцы.
Пэтти содрогнулась. – Только вообразите, какой опасности я избежала. А я постоянно ворчала, что здесь ничего не происходит!
Через несколько дней она появилась за столом с очередным объявлением. – Юные леди, имею удовольствие предложить на ваше рассмотрение третье и последнее продолжение великой тайны Стэнтроупа – Понд – Маккей. И, таким образом, я пользуюсь возможностью извиниться перед мистером Стэнтроупом за беспочвенные подозрения. Он не взломщик, не детектив, не убийца и даже не юрист, а просто бедный молодой человек с тайной романтической историей.
– Как ты узнала? – воскликнули все хором.
– Я только что встретила в холле мисс Маккей; она ездила в Нью-Йорк, где ее брат поведал ей подробности. Года три-четыре назад мистер Фредерик К. Стэнтроуп был помолвлен с девушкой из нашего колледжа, по имени Элис Понд – теперь она миссис Хирам Браун, но к рассказу это не имеет никакого отношения.
– Приехав в прошлую субботу в город по делам, а также приходясь другом брату мисс Маккей, он решил заскочить и проведать ее, ну, и вспомнить старые времена. Всю дорогу в трамвае он развлекался воспоминаниями о своем тайном романе, с каждой милей становясь все более печальным. Когда он, наконец, оказался у двери и вручил свою карточку горничной, он по рассеянности вызвал мисс Понд, как делал это четыре года назад. Сначала он не понял, что натворил. Внезапно до него дошло, но он не смог догнать Сэди. Конечно, он знал, что другой мужчина все слышал, и он сел, смертельно напуганный, пытаясь придумать какой-нибудь благовидный предлог и с минуты на минуту ожидая, что появится мисс Понд и потребует объяснений.
– И действительно, занавес раздвинулся, в комнату горделиво вошло высокое, красивое, исполненное достоинства создание (я цитирую брата мисс Маккей) и, подойдя ко второму мужчине, надменно поинтересовалось, не он ли мистер Фредерик К. Стэнтроуп. Тот должным образом отверг это предположение, и настоящему мистеру Стэнтроупу ничего другого не оставалось, как встать и по-мужски признаться, что он и сделал, но на этом застрял. Его фантазия оцепенела, замерла, и он переключился на бедную Сэди. И он все время знал, что другой мужчина знает, что он лжет. Вот и все, – заключила Пэтти. – Не бог весть какая история, но хоть она и сомнительная, слава богу, что все закончилось.
– Пэтти, – позвала Присцилла на другом конце стола, – ты рассказываешь им эту абсурдную историю?
– Почему бы и нет? – спросила Пэтти. – Раз уж они слышали столько продолжений, то, естественно, пожелали услышать и окончание.
Присцилла засмеялась. – Но твое, оказывается, не последнее. Мне известно еще более позднее продолжение.
– Более позднее, чем у Пэтти? – спросили за столом.
– Да, более позднее, чем у Пэтти. Ну, это не совсем продолжение, а всего лишь дополнение. Мне не следовало бы вам рассказывать, но вы все равно узнаете, поэтому я расскажу. Мисс Маккей пригласила обоих мужчин на вечеринку третьекурсников и оба приняли ее приглашение. Поскольку с двумя одновременно трудно справиться, она (в порядке требования) попросила меня позаботиться об одном из них, а именно, о мистере Фредерике К. Стэнтроупе.
Пэтти вздохнула. – Я вижу в будущем целую серию продолжений. Это хуже, чем «Книги Элси»![6]
VII. Вдогонку за древнеанглийским
– Привет, Пэтти! Ты ознакомилась утром с доской объявлений? – Кэти Фэйр окликнула Пэтти, нагнав ее на обратной дороге после третьечасовой обзорной лекции.
– Нет, – сказала Пэтти. – Я считаю это плохой привычкой. Там можно увидеть слишком много неприятных вещей.
– Да уж, сегодня определенно есть одна неприятная вещь. Мисс Скеллинг желает, чтобы мы сегодня принесли письменные принадлежности на урок древнеанглийского.
Пэтти остановилась и охнула. – По-моему, совершенно отвратительно устраивать экзамен без всякого предупреждения.
– Не экзамен, а «всего лишь небольшой тест, чтобы проверить ваши знания», – процитировала Кэти.
– Я ничего не знаю, – взвыла Пэтти, – ну просто ничегошеньки.
– Глупости, Пэтти, ты знаешь больше, чем кто-либо другой в группе.
– Блеф… это чистой воды блеф. Я решительно подключаюсь к литературному анализу и дискуссиям общего характера, а она не осознает, что я не знаю ни слова из грамматики.
– У тебя есть два часа. Ты можешь прогулять занятия и повторить предмет.
– Два часа! – с грустью сказала Пэтти. – Мне понадобится два дня. Говорю тебе, я никогда это не учила. Ни один смертный не в состоянии удержать в памяти англо-саксонскую грамматику, и я подумала, что могу пока отложить ее, а перед экзаменом выучить.
– Не хочу показаться черствой, дорогуша, – рассмеялась Кэти, – но скажу, что так тебе и надо.
– О, еще бы, – сказала Пэтти. – Ты не лучше Присциллы. – И она подавленно потащилась домой.
Она обнаружила, что ее подруги повторяют биологию и едят маслины. – Будешь? – спросила Люсиль Картер, которая пользовалась шляпной булавкой в качестве вилки и в данную минуту распоряжалась бутылью.
– Нет, спасибо, – ответила Пэтти тоном человека, который прожил жизнь и жаждет смерти.
– В чем дело? – поинтересовалась Присцилла. – Ты же не хочешь сказать, что эта женщина дала тебе очередную специальную тему?
– Намного хуже! – И Пэтти поведала о своей трагедии.
За этим последовало сочувственное молчание; они понимали, что, возможно, хотя она и не вполне заслуживает участия, тем не менее, ее неизбежная судьба может застать врасплох каждого.
– Ты знаешь, Прис, – печально молвила Пэтти, – что я просто не смогу сдать тест.
– Согласна, – сказала Присцилла успокаивающе, – не думаю, что ты его сдашь.
– Я провалюсь с треском– с полным треском. Мисс Скеллинг больше никогда не будет доверять мне и весь остаток семестра заставит отвечать все темы по грамматике.
– Я считаю, что тебе нужно прогулять занятие, – позволила себе заметить Джорджи, предложив, по ее мнению, самый очевидный способ избежать экзамена.
– Я не могу. За пять минут до обрушившегося на меня удара я встретила в холле мисс Скеллинг, так что она знает, что я жива и в состоянии прийти; кроме того, группа снова соберется завтра утром, и мне придется всю ночь зубрить или пропустить и этот урок.
– А, может, тебе пойти к мисс Скеллинг, откровенно объяснить ситуацию, – предложила добродетельная Люсиль, – и попросить ее отпустить тебя на денек-другой? Она бы тебя еще больше зауважала за этот поступок.
– Только послушайте, что говорит это простодушное дитя! – воскликнула Пэтти. – И что я могу объяснить, позволь узнать? Едва ли я скажу ей, что предпочитаю не учить уроков, когда она их задает, но считаю, что легче вызубрить их одним махом прямо перед экзаменами. Это уж точно позволит мне втереться к ней в доверие!
– Ты сама в этом виновата, – сказала Присцилла.
Пэтти проворчала: – Я ждала, когда ты это скажешь! Ты всегда так делаешь.
– Потому что я всегда права. Куда ты идешь? – Последовал вопрос, поскольку Пэтти направилась к двери.
– Я иду, – отвечала Пэтти, – попросить миссис Ричардс назначить мне новую соседку по комнате, которая будет понимать и ценить меня, а также станет сочувствовать моим несчастьям.
Пэтти в мрачном настроении шла по коридору, углубившись в размышления. Ее путь проходил мимо двери врачебного кабинета, гостеприимно распахнутой. В комнате сидели три-четыре девушки, которые смеялись, разговаривали и ждали своей очереди. Пэтти заглянула внутрь, и лицо ее вдруг озарилось лучезарной улыбкой, в то же мгновение, однако, сменившейся видом неизменного уныния. Она вошла и со вздохом бухнулась в кресло.
– В чем дело, Пэтти? Ты выглядишь так, словно у тебя меланхолия.
Пэтти вяло улыбнулась. – Все не так плохо, – пробормотала она, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.
– Следующая, – позвала врач, возникшая в дверном проеме. Заметив, однако, Пэтти, она подошла к ней и встряхнула за руку. – Это Пэтти Уайатт? Что с тобой, детка?
Пэтти вздрогнула и открыла глаза. – Ничего, – сказала она, – просто я немного устала.
– Пойдем со мной.
– Сейчас не моя очередь, – возразила Пэтти.
– Не имеет значения, – парировала врач.
Пэтти, прихрамывая, плюхнулась во врачебное кресло.
– Покажи свой язык. М-мм… налет не большой. Пульс вроде бы регулярный, хотя, возможно, несколько лихорадочный. Ты слишком много занимаешься?
– Не думаю, что я занимаюсь больше, чем обычно, – сказала Пэтти правдиво.
– Засиживаешься допоздна?
Пэтти подумала. – На прошлой неделе я два раза ложилась довольно поздно, – призналась она.
– Если вы, девочки, продолжите заниматься по ночам, то мы, врачи, ничего с этим поделать не сможем.
На всякий случай, Пэтти не посчитала нужным объяснять, что дело было в вечеринке, на которой угощали гренками с сыром, поэтому она просто вздохнула и посмотрела в окно.
– У тебя аппетит хороший?
– Да, – произнесла Пэтти тоном, противоречащим сказанному. – Вроде бы, отменный.
– М-мм, – сказала врач.
– Я просто немного утомилась, – продолжала Пэтти, – но, думаю, со мной все будет в порядке, как только я смогу передохнуть. Может быть, мне нужно какое-нибудь тонизирующее средство, – предположила она.
– Лучше тебе один-два дня воздержаться от уроков и как следует отдохнуть.
– О нет, – проговорила Пэтти в явном смятении. – В нашей комнате постоянно так много девочек, что спокойнее будет пойти на занятия; и, кроме того, как раз сейчас я не могу пропускать.
– Отчего же, – настойчиво и подозрительно спросила врач.
– Видите ли, – несколько неохотно ответила Пэтти, – у меня еще куча дел. Мне необходимо вызубрить материал к экзамену и…
Слово «зубрежка» было для врача, словно красная тряпка для быка. – Чепуха! – воскликнула она. – Я знаю, как с тобой поступить. Прямо сейчас ты отправишься в лазарет на несколько дней…
– Ах, доктор! – сказала Пэтти умоляюще, со слезами на глазах, – со мною действительно все в порядке, и я должна сдать этот экзамен.
– Какой это экзамен?
– По древнеанглийскому… Мисс Скеллинг.
– Я сама повидаюсь с мисс Скеллинг, – сказала врач, – и объясню, что ты не сможешь сдать экзамен, пока не выйдешь из лазарета. А теперь, – прибавила она, делая запись в истории болезни Пэтти, – я помещу тебя в палату для выздоравливающих, и в течение нескольких дней мы испробуем лечение покоем, посадим тебя на куриный бульон и эггног[7] и проверим, удастся ли вернуть твой аппетит.
– Благодарю, – покорно сказала Пэтти с видом человека, который перестал бороться с неизбежностью.
– Мне нравится, что ты интересуешься своей учебой, – добавила врач мягко, – но ты всегда должна помнить, моя дорогая, что здоровье – прежде всего.
По возвращении в кабинет Пэтти исполнила импровизированный танец посреди комнаты.
– Что случилось? – воскликнула Присцилла. – Ты что, сошла с ума?
– Нет, только заболела, – сказала Пэтти, пошла в свою спальню и стала бросать вещи в саквояж.
Стоя на пороге, Присцилла изумленно взирала на нее. – Ты собралась в Нью-Йорк? – спросила она.
– Нет, – молвила Пэтти, – в лазарет.
– Пэтти Уайатт, ты жалкая маленькая лицемерка!
– Вовсе нет, – весело сказала Пэтти. – Я туда не просилась, но врач просто на этом настояла. Я сказала ей, что у меня экзамен, но она сказала, что это не важно, – здоровье должно быть на первом месте.
– А что в этой бутылке? – поинтересовалась Присцилла.
– Это для моего аппетита, – отвечала Пэтти, расплывшись в улыбке, – доктор надеется его улучшить. Я не хотела ее разочаровывать, но я не слишком верю, что ей удастся это сделать. – Она бросила в свой саквояж грамматику древнеанглийского языка и экземпляр «Беовульфа».[8]
– Тебе не разрешат заниматься, – заметила Присцилла.
– Я не стану спрашивать у них разрешения, – сказала Пэтти. – До встречи. Передай девочкам, чтобы они иногда заходили и навещали меня в моем принудительном уединении. Время посещения – с пяти до шести. – Она снова просунула голову в дверь. – Если кто-нибудь пожелает прислать мне фиалки, то, думаю, они могли бы меня подбодрить.
На следующий день Джорджи и Присцилла пожаловали в лазарет, где в дверях их встретила суровая фигура старшей сестры. – Я проверю, не спит ли мисс Уайатт, – сказала она неуверенно, – но боюсь, что вы ее растревожите, ибо она должна пребывать в полном покое.
– О нет, мы ей не повредим, – возразила Джорджи и обе девушки вошли на цыпочках вслед за сестрой.
Палата для выздоравливающих была просторной, хорошо проветриваемой комнатой, отделанной белым и зеленым цветом; здесь стояли четыре или пять кроватей, каждая из которых была обнесена медными опорами с прикрепленными к ним занавесками. Пэтти, опираясь на подушки, занимала одну из угловых кроватей возле окна, волосы ее взъерошено падали на лицо; подле нее стоял столик, заставленный цветами и стаканами с лекарством. Эти тщательно продуманные атрибуты болезни вызвали в воображении посетительниц кратковременную иллюзию. Присцилла подбежала к кровати и упала на колени подле своей беспомощной соседки по комнате.
– Пэтти, милая, – позвала она с беспокойством, – как ты себя чувствуешь?
Лицо Пэтти озарилось ангельской улыбкой. – Сегодня я смогла немного поесть, – сказала она.
– Пэтти, ты ужасная плутовка! Кто принес тебе эти фиалки? «С любовью, от леди Клары Вере де Вере» – эта святая первокурсница! – а ты до последней капли стащила весь спирт, который бедняжка считала своим. А от кого эти розы? Мисс Скеллинг! Пэтти, тебе должно быть стыдно.
Пэтти имела приличие слегка покраснеть. – Я была несколько смущена, – призналась она, – однако, поразмыслив о том, как бы она сожалела, если бы выяснила, как мало я знала, и как она обрадуется, обнаружив, сколько я знаю теперь, совесть моя успокоилась.
– А ты занимаешься? – спросила Джорджи.
– Не то слово! – Приподняв угол подушки, Пэтти продемонстрировала голубую книгу. – Еще два дня, и я буду главным экспертом в Америке по древнеанглийским корням.
– Как тебе это удается?
– О, – сказала Пэтти, – когда начинается тихий час, я ложусь и закрываю глаза, они начинают ходить на цыпочках, смотрят на меня, шепчут: «Она уснула» и задергивают занавески вокруг кровати; а я достаю книгу и добрых два часа занимаюсь неправильными глаголами, когда же они приходят посмотреть на меня, я продолжаю спать. Они совершенно поражены тем, как много я сплю. Я слышала, как сиделка сказала врачу, что ей кажется, будто я не спала целый месяц. А хуже всего, – прибавила она, – что я и впрямь устала, верите вы в это или нет, и я бы с великим удовольствием здесь побыла и поспала весь день, не будь я такой чудовищно сознательной в отношении древней грамматики.
– Бедняжка Пэтти! – засмеялась Джорджи. – В следующий раз она будет налагать обязательство не только на саму себя, но и на весь колледж.
В пятницу утром Пэтти вернулась в большой мир.
– Как дела с древнеанглийским? – поинтересовалась Присцилла.
– Отлично, спасибо. Пришлось зубрить, но, кажется, я знаю эту грамматику наизусть, от предисловия до алфавитного указателя.
– Ты вернулась к остальным своим занятиям. По-твоему, это того стоило?
– Поживем – увидим, – рассмеялась Пэтти.
Она постучала в дверь к мисс Скеллинг и после первых любезных приветствий изложила свое дело. – Я бы хотела, если это удобно, сдать экзамен, который я пропустила.
– Вы расположены сдать его сегодня?
– Я гораздо более расположена сдать его сегодня, чем это было во вторник.
Мисс Скеллинг доброжелательно улыбнулась. – Мисс Уайатт, Вы славно потрудились по древнеанглийскому в этом семестре, и я не стала бы просить Вас сдавать экзамен вовсе, если бы считала, что это честно по отношению ко всей группе.
– Честно по отношению ко всей группе? – Пэтти выглядела несколько озадаченной, она не рассматривала вопрос под таким аспектом; по лицу ее медленно разлился румянец. Поколебавшись мгновение, она нерешительно поднялась. – Раз уж дошло до этого, мисс Скеллинг, – созналась она, – боюсь, что с моей стороны было бы не слишком честно по отношению ко всей группе сдавать экзамен.
Мисс Скеллинг не поняла. – Но, мисс Уайатт, – возразила она заинтригованно, – это было не сложно. Я уверена, что Вы бы его сдали.
Пэтти улыбнулась. – Уверена, что так оно и было бы, мисс Скеллинг. Я не думаю, что Вы могли задать мне вопрос, на который бы я не ответила. Но дело в том, что все это я выучила, начиная со вторника. Доктор чуточку обманывалась – абсолютно естественно, учитывая обстоятельства – когда посылала меня в лазарет, и я провела там время в учебе.
– Но, мисс Уайатт, это очень необычно. Я не знаю, как Вас оценить, – пролепетала мисс Скеллинг, оказавшаяся в затруднительном положении.
– О, поставьте мне «ноль», – бодро сказала Пэтти. – Это не имеет никакого значения: я так много знаю, что сдам материал на выпускных экзаменах. До свидания, простите, что потревожила Вас. – И закрыв за собой дверь, она задумчиво повернула к дому.
– Это того стоило? – спросила Присцилла.
Пэтти засмеялась и едва слышно пробормотала:
«Король французский как-то раз на холм взойти решился; Он холм тот с войском покорил и тут же вниз спустился.»[9]– Ты о чем? – поинтересовалась Присцилла.
– О древнеанглийском, – сказала Пэтти, усаживаясь за стол и принимаясь за уроки, пропущенные ею за три дня.
VIII. Покойный Роберт
Было десять часов и Пэтти, в третий раз перечитав «этику», но так и не поняв ни слова, объявила сонным голосом: «Придется мне выезжать на вдохновении: похоже, я не в состоянии постичь принцип», когда раздался стук в дверь и горничная объявила: – Миссис Ричардс желает видеть мисс Уайатт.
– В такой час! – испуганно воскликнула Пэтти. – Должно быть, что-то серьезное. Подумай, Присцилла. Что я такого натворила в последнее время, что могло бы разгневать директрису до такой степени, чтобы она вызвала меня в десять вечера? Как по-твоему, меня не собираются временно отстранить, отчислить, окончательно выгнать или еще что-нибудь в таком духе? Честно говоря, мне не приходит в голову, в чем моя вина.
– Это телеграмма, – произнесла горничная с сочувствием.
– Телеграмма? – Пэтти побледнела и молча вышла из комнаты.
Присцилла и Джорджи сели на кушетку и встревоженно посмотрели друг на друга. Обычные телеграммы доставлялись студентам напрямую. Они знали, что если их отправляют директрисе, значит, случилось что-то серьезное. Джорджи встала и в нерешительности прошлась по комнате.
– Мне уйти, Прис? – спросила она. – Полагаю, что Пэтти предпочла бы остаться одной, если что-то произошло. Но если она поедет домой и станет собирать вечером свой дорожный сундук, зайди за мной, и я приду и помогу укладывать вещи.
Они постояли немного возле двери, переговариваясь вполголоса, и только Джорджи повернулась, чтобы уйти, в коридоре послышался звук шагов Пэтти. Она вошла со странной улыбкой на устах и опустилась на кушетку.
– Директриса определенно превратила дело доведения людей до истерики в искусство, – заметила она. – Мне в жизни еще не было так страшно. Я подумала, что, по меньшей мере, произошло землетрясение, которое целиком поглотило все мое семейство.
– Что случилось? – затаив дыхание спросили Джорджи и Присцилла.
Пэтти развернула на колене мятую телеграмму, и девушки прочли поверх ее плеча:
«Роберт скончался от передозировки хлороформа в десять утра. Завтра похороны.
Томас М. Уайатт.»
– Томас М. Уайатт, – сурово сообщила Пэтти, – это мой младший брат Томми, а Роберт – сокращенно от Бобби Шафто; так звали принадлежавшего Томми щенка бульдожьей породы, преглупую и самого дурного нрава собачонку, которую когда-либо принимали в кругу порядочной семьи.
– Но зачем, ради бога, он телеграфировал?
– Это шутка, – сказала Пэтти, уныло качая головой. – В семье ярко выражены способности к юмору, и мы все унаследовали эту склонность. Однажды мой отец… но, как говорит мой друг Киплинг, это другая история. Так вот, этот пес – Роберт Шафто – больше года назад бросил тень на мои каникулы. Он убил моего котенка, сожрал мой венецианский кружевной воротничок – это даже не вызвало у него несварения желудка. Выскочив на улицу под дождь, он вывалялся в грязи, вернулся в дом и лег спать на мою постель. Он украл бифштекс, поданный к завтраку, разметал калоши и дверные коврики по нескольким кварталам. Частная собственность на нашей улице заметно упала в цене, и в перспективе покупатели отказывались ее приобретать, пока Томми Уайатт держит собаку. Роберту то и дело угрожали расправой, но Томми всегда удавалось укрыть его от неминуемого правосудия, пока неприятности не проходили стороной. Но на сей раз, я думаю, он совершил какое-нибудь невероятно чудовищное преступление – наверное, слопал младенца, или один из персидских ковриков моего отца, или что-то в этом духе. И Томми, зная, как я ненавидела это чудовище, явно решил, что телеграфное сообщение будет хорошей шуткой, хотя в чем тут «соль», мне не ясно.
– А, понятно, – сказала Джорджи, – и миссис Ричардс подумала, что Роберт – твой родственник. Что она сказала?
– Когда я постучала в дверь, она сказала: «Пэтти, голубушка, входи». Обычно, когда я удостаивалась чести быть принятой ею, она довольно бесстрастно звала меня «мисс Уайатт». Услыхав это «Пэтти, голубушка», я открыла дверь с трясущимися коленями, а она взяла меня за руку и сказала: «Сожалею, что приходится сообщать тебе о том, что я получила плохие вести о твоем брате».
«Томми?» – еле слышно выдохнула я.
«Нет. Роберт.»
– Я онемела. Я напрягала мозги, но не могла вспомнить брата Роберта.
«Он очень болен, – продолжала она. – Да, я должна сказать тебе правду, Пэтти; этим утром бедняжка Роберт скончался.» – И она положила передо мной телеграмму. И тогда, как только меня осенило, гора упала с моих плеч, я положила голову на ее стол и начала хохотать, пока смех не перешел в слезы; она же, думая, что я все это время рыдаю, гладила меня по голове и читала псалмы. Понимаете, после того, как она проявила такое сострадание, я не посмела во всем ей признаться; поэтому, едва перестав смеяться (что случилось не очень скоро, поскольку я получила существенный импульс), я подняла голову и поведала ей, – пытаясь быть правдивой и в то же время не оскорбить ее чувств, – что Роберт был мне не братом, а чем-то вроде друга. И, знаете что, она немедленно пришла к умозаключению, что он был моим женихом, и начала гладить меня по волосам и бормотать, что иногда друзей терять труднее, чем родственников, но я еще молода и не должна портить себе жизнь, и что возможно в будущем, когда время притупит боль… но потом, вспомнив, что не годится советовать заводить второго жениха, прежде чем я не схоронила первого, она внезапно остановилась и спросила, не хочу ли я поехать домой на похороны.
– Я сказала, что нет, я не считаю, что так будет лучше; и она согласилась со мной, раз уж о нашей помолвке не было объявлено, поцеловала меня и сказала, что ее радует то, как мужественно я переношу свое горе.
– Пэтти! – вскричала Присцилла в ужасе, – это отвратительно. Как ты могла допустить, чтобы она так подумала?
– А как я могла этому помешать? – возмущенно спросила Пэтти. – Учитывая, что вначале меня напугали до истерики, после чего, и глазом не моргнув, нанесли удар каким-то странным женихом, мне кажется, что я перенесла эту ситуацию с редким тактом и изяществом. Ты полагаешь, было бы деликатно сказать ей, что она цитировала Священное писание в честь какого-то щенка бульдога?
– Я не вижу здесь твоей вины, – признала Джорджи.
– Спасибо, – сказала Пэтти. – Был бы у тебя такой брат, как Томми Уайатт, ты бы научилась мне сочувствовать. Полагаю, я должна быть признательна за новость о смерти собаки, но я бы хотела, чтобы это известие обрушилось на меня не столь мягко.
– Пэтти, – воскликнула Присцилла, так как ее неожиданно осенило, – ты случайно не забыла, что завтра вечером ты должна быть в приемной комиссии на презентации юных дарований в Театральном клубе? Что подумает миссис Ричардс, когда увидит, как ты, в вечернем платье, принимаешь гостей на вечеринке в тот самый день, когда был похоронен твой жених?
– Не знаю, – с сомнением заметила Пэтти. – Ты, правда, думаешь, что я должна остаться в стороне? После того, как я, словно маленькая пила, делала для вечеринки ленточки из шелковой бумаги, я ужасно не хочу пропускать ее только потому, что умер щенок моего брата, которого я даже не любила.
– Я пойду, – добавила она с просветлевшим лицом, – и буду принимать гостей с натянутой, машинальной улыбкой. И всякий раз, почувствовав на себе взгляд директрисы, я буду с усилием сглатывать слезы, а она скажет себе:
«Храбрая девочка! Как благородно она сражается, чтобы с невозмутимым лицом предстать перед людьми! Никто бы не подумал, глядя на это лучезарное на вид создание, что при своей внешней веселости в действительности она скрывает большое горе, которое гложет ее жизненно важные органы».
IX. Пэтти-Утешительница
Дело было накануне зимней сессии, и над колледжем сгустилась тьма. Сознательные студентки, которые трудились весь год, учили больше прежнего, ну а легкомысленные, которые весь год валяли дурака, учили с отчаянным неистовством, рассчитанным на то, что, когда настанет решающий час, их мозги будут как чистый лист бумаги. Но Пэтти не учила. Принцип ее философии, по личному опыту приобретенной за три с половиной года учебы в колледже, заключался в том, что не годится начинать заниматься за день до экзаменов. Независимо от того, произвел ты впечатление на преподавателя своей разумной заинтересованностью предметом или нет, результат так же очевиден, как если бы оценки были уже выставлены черным по белому в архивах колледжа. Таким образом, Пэтти, которая, по меньшей мере, жила согласно своим принципам, сознательно пренебрегала, за исключением некоторых вопросов, которые она намеревалась выучить специально ради этого события, «благоразумным повторением пройденного материала», рекомендованным преподавателями.
Однако ее подруги, которые по всей вероятности, исповедовали одинаковую философию, но были менее последовательны, подвергали себя испытанию, общеизвестному как «систематическая первокурсная зубрежка»; и поскольку ни одна из них не успевала поговорить с Пэтти или приготовить что-нибудь поесть, она пришла к выводу, что это время не приносит пользы. Даже ее собственная соседка по комнате выставила ее из кабинета, потому что она громко смеялась над книгой, которую читала; и, оказавшись в роли странницы, она бродила по кабинетам своих подруг, но на всех дверях висели таблички с надписью «занято». Она сидела на подоконнике в коридоре и размышляла о тщете вещей в целом, как вдруг вспомнила о своих подружках-первокурсницах из 321-го кабинета. Она их давно не навещала, а в эту пору студентки первого курса обычно бывают интересны. Поэтому она обогнула коридор, ведший в 321-ый кабинет, и увидела, что поперек двери буквами высотой в три дюйма написано: «вход категорически запрещен для всех!!». Это обещало массу развлечений, и Пэтти разочарованно вздохнула, достаточно громко, чтобы ее услышали за дверной фрамугой.
Переворачивание страниц и шуршание бумаги стихло. Очевидно, там прислушивались, но вида не подавали. Пэтти написала на дверной притолоке записку, звучно проставив знаки препинания, затем шумно ретировалась, но спустя мгновение на цыпочках подошла и прислонилась к стене. Любопытство победило: дверь открылась и из нее высунулась особа с затравленным выражением лица.
– Ой, Пэтти Уайатт, это ты? – спросила она. – Мы подумали, что с верхнего этажа пришла Фрэнсис Стоддард, чтобы мы объяснили ей геометрию, поэтому сидели тихо. Входи.
– Господи, нет, я ни за что не стану преступать знак «занято». Боюсь, что у вас нет времени.
Первокурсница схватила ее за руку. – Пэтти, если ты нас любишь, зайди и подбодри нас. Мы так напуганы, что не знаем, что делать.
Пэтти уступила, и ее втянули через порог в комнату. – Если вы чем-то заняты, – заметила она, – я не желаю вам мешать. – В кабинете сидели три девушки. Пэтти милостиво улыбнулась двум осунувшимся лицам напротив. – А где леди Клара Вере де Вере? – спросила она. – Наверняка, эти последние драгоценные мгновения она не тратит на что-то легкомысленное.
– Она в спальне с учебником геометрии в одной руке и с греческой грамматикой – в другой, пытается учить их одновременно.
– Велите ей прийти сюда, – я хочу дать ей хороший совет. – И, усевшись на диван, Пэтти с оценивающей улыбкой внимательно осмотрела усеянную словарями комнату.
– Ах, Пэтти, как я рада тебя видеть! – воскликнула леди Клара, появляясь в дверях. – Второкурсницы рассказывают нам самые омерзительные истории про экзамены. Но ведь в них нет ни слова правды, а?
– Боже правый, конечно, нет! Не верьте ни одному слову, что говорят вам эти второкурсницы. В прошлом году они сами были первокурсницами, и если бы экзамены оказались столь ужасны, как они говорят, они бы тоже их не сдали.
На трех лицах отразилось облегчение.
– Ты здорово умеешь утешить, Пэтти. Студентки старших курсов не принимают все близко к сердцу, верно?
– Со временем почти ко всему привыкаешь, – молвила Пэтти. – Если знаешь правильные ответы, экзамены даже бывают интересны.
– Но мы не знаем правильных ответов! – завопила одна из первокурсниц, вновь охваченная ужасом. – Мы попросту ничего не знаем, а завтра сдавать латынь, послезавтра – геометрию.
– О, ну что ж, в таком случае вы все равно не сдадите, поэтому не волнуйтесь. Отнеситесь к этому философски, ясно? – Пэтти расположилась среди подушек и улыбнулась своим напуганным зрителям с непринужденной беспечностью. – В качестве примера бесполезности зубрежки в одиннадцатом часу, когда в течение всего семестра не было выучено ни единого слова, приведу вам мой собственный опыт из первого курса по греческому языку. При поступлении в колледж я была плохо подготовлена, в течение семестра я не занималась и, без преувеличения, ничего не знала. За три дня до экзаменов я внезапно осознала ситуацию и начала поглощать грамматику в больших количествах. Я пила черный кофе, чтобы не уснуть, занималась до двух ночи и с трудом прерывала зубрежку неправильных глаголов во время еды. Я прямо-таки думала по-гречески, видела сны по-гречески. И после стольких усилий, вы не поверите, я провалила экзамен по греческому! Это подорвало мою веру в подготовку к экзаменам. С тех пор я этого не делаю и с тех пор больше не срезаюсь на экзаменах. Я верю в то, что как успешный, так и неуспешный результат полностью зависит от судьбы, поэтому больше не беспокоюсь.
Первокурсницы безутешно переглянулись. – Если все решено заранее, мы пропали.
Пэтти ободряюще улыбнулась.
«Даже лучшие из людей то и дело Срезаются на экзамене.»– Но я слышала, что людей отсылают домой, то есть, исключают, если они заваливают определенное количество экзаменов. Это правда? – приглушенным голосом спросила леди Клара.
– О да, – сказала Пэтти, – приходится так поступать. Я знавала нескольких умнейших девочек в колледже, подлежавших исключению.
Леди Клара простонала. – Пэтти, я ужасно слабая в геометрии. Много девочек на этом срезается?
– Много? – отвечала Пэтти. – Обычная канцелярская работа по составлению извещений отнимает у кафедры два дня.
– А экзамен очень трудный?
– Я не слишком его помню. Понимаете, с тех пор, как я была первокурсницей, прошло столько времени. Они выбрали самые трудные теоремы, которые мне были известны – вы даже не смогли бы их нарисовать, не то чтобы доказать: например, пирамида, поделенная на кусочки – я не помню, как она называется – и разветвленная пирамида, похожая на улитку, выползающую из своего домика: по-моему формально она называется «гроб дьявола». И – ах, да! – они задают примеры, ужасные примеры, которых прежде вы и в глаза не видели; а на верху страницы стоит небольшое примечание с указанием решить сначала их, и вы приходите в такое смятение, пытаясь думать быстро, что вовсе перестаете соображать. Я знаю девочку, которые все два часа пыталась решить пример, и когда она уже была готова его записать, прозвенел звонок, и ей пришлось сдать работу.
– И что произошло?
– О, она провалилась. Видишь ли, нельзя винить преподавателя в том, что он не читал между строк, поскольку этих строк не существовало; однако ее было в известной мере жаль, так как девчонка действительно знала до ужаса много, но не могла это высказать.
– Со мной то же самое.
– А, так происходит с доброй половиной человечества. – Повисло молчание, и первокурсницы уныло переглянулись. – Но жизнь продолжается, даже если вы не сдадите математику, – утешила их Пэтти. – Другие люди делали это до вас.
– Если бы дело было в одной геометрии… но мы боимся латыни.
– А, латынь! Бессмысленно к ней готовиться, поскольку всю ее прочитать невозможно, и если вы просто выберите какую-нибудь главу, то это, наверняка, будет не та глава, которую выберут они. Лучший способ – произнести над учебником заклинание, открыть его с завязанными глазами и выучить первую попавшуюся страницу; и тогда, в случае, если вы не сдадите – а, скорее всего, так оно и будет – вы сможете свалить вину на судьбу. Когда я училась на первом курсе, если я правильно помню, нам задали перевести на латынь для сочинения в прозе одно из эссе Эмерсона, а мы даже не могли сказать, что оно означало по-английски.
Три подруги снова переглянулись.
– Я бы не справилась с чем-то подобным.
– Я тоже.
– И я.
– И никто бы не справился, – сказала Пэтти.
– Мы можем срезаться на латыни и математике, но если мы завалим и другие предметы, – прощай, колледж.
– Думаю, вы правы, – сказала Пэтти.
– А я ужасно «плаваю» в немецком.
– А я – во французском.
– Я – в греческом.
– Ничего не знаю насчет немецкого, – заметила Пэтти. – Мне его не приходилось изучать. Но я помню, как Присцилла рассказывала, что отпечатанные экзаменационные работы не прибыли вовремя и фройляйн Шерин, у которой отвратительный почерк, написала вопросы на доске немецким шрифтом, и они даже не смогли их прочесть. Что касается французского, первым вопросом, кажется, было написать полный текст «Марсельезы». Она состоит из семи строф, и никто их не выучил, а «Марсельеза», да будет вам известно, такая вещь, которую попросту невозможно сочинить без подготовки. По поводу греческого, я рассказала вам о своем собственном опыте и я уверена, что хуже этого ничего быть не может.
Первокурсницы безнадежно посмотрели друг на друга. – Остались только английский, гигиена и история Библии.
– Английский – это такой предмет, о котором и сказать-то нечего, – промолвила Пэтти. – Вполне вероятно, что вас попросят написать героическую поэму пятистопным ямбом, если вы знаете, что это такое. Вам придется положиться на вдохновение, – такое не выучишь.
– Я надеюсь, – вздохнула леди Клара, – сдать тем не менее гигиену и историю Библии, поскольку на каждый предмет приходится всего лишь один час, полагаю, это не много.
– Не будь излишне оптимистична, – сказала Пэтти. – Все зависит от случая. Группа по гигиене настолько многочисленна, что профессор не успевает читать работы; он просто идет по списку и срезает каждую тринадцатую девочку. Я не уверена насчет истории Библии, но, думаю, он поступает в том же духе. Я поняла это еще на первом курсе, когда по ошибке вручила карту Святых земель, выполненную цветным мелом, профессору гигиены, а схему пищеварительной системы – профессору истории Библии, и никто из них этого не заметил. Они и впрямь были здорово похожи, но не настолько, чтобы их нельзя было друг от друга отличить. Мне приходится сказать только то, что я надеюсь, что ни одна из вас не будет тринадцатой в списке.
Первокурсницы воззрились друг на друга в безмолвном ужасе и Пэтти встала. – Ладно, дети мои, до встречи и, несмотря ни на что, не волнуйтесь. Я рада, если мне удалось немного вас подбодрить, ибо многое зависит от того, насколько вы спокойны. Не верьте дурацким историям, которые вам рассказывают второкурсницы, – обратилась она к ним, оглядываясь через плечо, – они просто пытаются вас запугать.
X. Во имя Италии
Колледж – место более или менее эгоистическое. Все здесь так заняты своими собственными делами, что не в силах уделять время ближнему, если только у этого ближнего нет чего-нибудь, что он мог бы дать взамен. Оливии Коупленд определенно нечего было предложить взамен. Она была тихой и незаметной, и только со второго взгляда выяснялось, что у нее поразительное лицо и что в глазах ее присутствует такое выражение, которого нет у других первокурсниц. По несчастливой случайности ее поместили в один кабинет с леди Кларой Вере де Вере и Эмили Уошбэрн. Они считали ее иностранкой и чудачкой, она думала, что они грубые и шумные, и после первых двух недель вежливых попыток познакомиться обе стороны перестали прилагать в этом отношении какие-либо усилия.
Учебный год шел своим чередом, но никто не знал или, во всяком случае, не обращал внимания на то, что Оливия Коупленд скучала по дому и была несчастлива. Ее соседки по комнате полагали свой долг исполненным, когда изредка звали ее поиграть в гольф или покататься на коньках (приглашать ее было весьма безопасно, поскольку ни того, ни другого она не умела делать). Ее преподаватели считали, что их долг состоит в том, чтобы подзывать ее после уроков к своему столу и предупреждать, что учиться она стала хуже прежнего и что, если она хочет сдать экзамен, ей следует подтянуться.
Английский язык был единственным предметом, по которому она не получала предупреждений; но ей было невдомек, что ее сочинения ходили по рукам различных преподавателей и что на кафедре о ней отзывались, как об «этой поразительной мисс Коупленд». Кафедра исповедовала теорию, что стоит девушке узнать, что она делает успехи, как она немедленно успокоится и будет полагаться на свою репутацию; и Оливия, как следствие, так и не узнала о том, какая она поразительная. Она выяснила только то, какая она жалкая и неуместная, и продолжала лить слезы в тоске по дому, сидя перед эскизом итальянской виллы, висевшим над ее письменным столом.
И именно Пэтти Уайатт впервые открыла ее миру. Однажды Пэтти заглянула в комнату к первокурсницам за какой-то надобностью (видимо, взять в долг спирта) и лениво взяла в руки кипу сочинений по английскому, которые лежали на столе в кабинете.
– Это чье? Ты не против, если я взгляну на них? – спросила она.
– Нет, можешь прочесть их, если хочешь, – сказала леди Клара. – Это сочинения Оливии, но она не будет возражать.
Пэтти небрежно переворачивала страницы, как вдруг ей в глаза бросился заголовок, и она принялась с интересом читать. – «Ловцы кораллов с острова Капри»! Ради всего святого, что известно Оливии Коупленд о ловцах кораллов с острова Капри?
– О, она живет где-то поблизости – в Сорренто, – сказала леди Клара равнодушно.
– Оливия Коупленд живет в Сорренто! – уставилась на нее Пэтти. – Почему ты мне не сказала?
– Я думала, ты знаешь об этом. Ее отец – художник или что-то вроде этого. Всю свою жизнь она прожила в Италии; оттого-то она такая чудаковатая.
Пэтти и сама однажды провела одну солнечную неделю в Сорренто и хмелела от одного воспоминания об этом. – Где она? – спросила она возбужденно. – Я хочу поговорить с ней.
– Я не знаю, где она. Возможно, гуляет. Она ходит на прогулку в полном одиночестве и никогда ни с кем не разговаривает, а когда мы зовем ее заняться чем-нибудь разумным, например, поиграть в гольф или баскетбол, она бездельничает дома и читает Данте в оригинале. Представляешь?
– Ну и ну, должно быть, она интересная! – удивленно сказала Пэтти и вернулась к сочинениям.
– По-моему, они восхитительны! – воскликнула она.
– А, по-моему, несколько странны, – сказала леди Клара. – Но есть одно довольно забавное. Оно было прочитано в классе – о крестьянине, потерявшем своего осла. Я найду его, – и она тщательно поискала в стопке сочинений.
Пэтти сдержанно читала, а леди Клара наблюдала за нею с оттенком разочарования.
– Тебе не кажется, что это хорошо? – спросила она.
– Да, я считаю, что это одно из лучших когда-либо прочитанных мной произведений.
– Ты даже не улыбнулась!
– Дитя мое, но это не смешно.
– Не смешно! Как, ведь группа хохотала до упада.
Пэтти пожала плечами. – Должно быть, твоя оценка удовлетворила Оливию. Уже февраль на дворе, а я едва перемолвилась с ней словом.
На следующий день Пэтти медленно шла с обзорных лекций домой и вдруг заметила, как Оливия Коупленд пересекла кампус, достигла Соснового Утеса и явно намеревалась прогуляться в одиночестве.
– Оливия Коупленд, погоди минуту, – позвала Пэтти. – Ты идешь на прогулку? Можно мне с тобой? – спросила, задыхаясь от скорого шага.
С нескрываемым изумлением Оливия согласилась и Пэтти пошла с нею рядом. – Я просто узнала вчера, что ты живешь в Сорренто, и хотела с тобой поговорить. Я была там однажды и считаю, что это самое восхитительное место на земле.
Глаза Оливии сверкнули. – Правда? – промолвила она, открыв рот от удивления. – О, я так рада! – И не успев опомниться, она уже рассказывала Пэтти про то, как она поступила в колледж, чтобы доставить удовольствие отцу, и как она любит Италию и ненавидит Америку; а о том, что она не рассказала, то есть, о своем одиночестве и тоске по дому, Пэтти угадала сама.
Она поняла, что девочка и правда поразительна и твердо решила на будущее принять участие в ее судьбе и заставить ее полюбить колледж. Но жизнь у старшекурсницы напряженная, занятая собственными делами, поэтому в последующие пару недель Пэтти редко виделась с первокурсницей, если не считать случайной болтовни в коридорах.
В один вечер они с Присциллой вернулись поздно из города, где они ужинали, и обнаружили темную комнату и пустой спичечный коробок.
– Подожди, я принесу немного спичек, – сказала Пэтти и постучала в дверь напротив, где жила первокурсница, с которой у нее завязалось знакомство по принципу «ты мне – я тебе». Там она нашла своих подруг-первокурсниц леди Клару Вере де Вере и Эмили Уошбэрн. По трем склоненным друг к другу головам и по тому, как они затихли при ее появлении, было очевидно, что только что был прерван какой-то важный треп. Забыв о своей соседке, оставленной в темноте, Пэтти опустилась в кресло с явной целью провести здесь весь вечер.
– Расскажите мне все, дети мои, – сказала она дружески.
Первокурсницы с сомнением переглянулись.
– Новый президент, – предположила Пэтти, – или просто бунт всей группы?
– Это касается Оливии Коупленд, – отвечала нерешительно леди Клара, – но я не знаю, должна ли я что-нибудь говорить.
– Оливии Коупленд? – Пэтти выпрямилась, и в глазах ее вспыхнул новый интерес. – А что такого делает Оливия Коупленд?
– Она заваливает экзамены и…
– Заваливает?! – На лице Пэтти отразилось смущение. – Но я считала ее такой умной!
– О, это правда, но, видишь ли, она не может сделать так, чтобы и другие люди это поняли. Кроме того, – прибавила леди Клара многозначительно, – она боится экзаменов.
Пэтти бросила на нее быстрый взгляд. – Что ты хочешь этим сказать? – спросила она.
Леди Клара любила Пэтти, но она была всего лишь человеком и сама испытывала страх перед экзаменами. – Понимаешь, – объяснила она, – она слышала множество историй от… э-э… студенток старших курсов о том, как тяжело сдавать экзамены, и про то, какие ужасные вещи тебя ожидают в случае провала, и, будучи иностранкой, она в них поверила. Конечно, мы с Эмили лучше знали, но она была напугана до смерти, совершенно измучена и…
– Чепуха! – сказала Пэтти нетерпеливо. – Вам не удастся заставить меня в это поверить.
– Если бы нас попыталась запугать какая-нибудь второкурсница, – продолжала говорить леди Клара, – мы бы не приняли это так близко к сердцу, но старшекурсница!
– Итак, Пэтти, ты не сожалеешь, что столько всего нам наговорила? – спросила Эмили.
Пэтти засмеялась. – Коли на то пошло, я все время говорю то, о чем жалею полчаса спустя. Однажды я выпущу в свет книгу, озаглавленную «Вещи, которые мне не следовало произносить: коллекция проступков», автор – Пэтти Уайатт.
– Я считаю, это больше, чем проступок, если напугать девчонку до такой степени, что она…
– По-моему, ты считаешь, что сыплешь соль на рану, – невозмутимо сказала Пэтти, – но девочки не заваливают экзамена, потому что боятся; они делают это из-за того, что не обладают знаниями.
– Оливия знала геометрию в пять раз больше моего, однако я сдала, а она – нет.
Пэтти молча изучала ковер.
– Она считает, что ее исключат, и теперь жутко рыдает, – не унималась Эмили, явно смакуя подробности.
– Рыдает! – резко сказала Пэтти. – С чего бы это?
– Наверное, потому что ей плохо. Она вышла прогуляться, попала под дождь и не успела вовремя к ужину, а потом она заметила эти адресованные ей письма. Она там, наверху, лежит на постели, у нее истерика, или римская лихорадка, или что-то в этом роде. Она велела нам убираться и оставить ее в покое. Она ужасно рассердилась ни с того, ни с чего.
Пэтти встала. – Наверное, я пойду и подниму ей настроение.
– Не трогай ее, Пэтти, – сказала Эмили. – Я знаю, как ты поднимаешь людям настроение. Если бы ты не повеселила ее до экзаменов, она бы не завалилась.
– Тогда я о ней ничего не знала, – несколько угрюмо ответила Пэтти, – во всяком случае, – прибавила она, открывая дверь, – я не сказала ничего такого, что, так или иначе, повлияло на ее оценку. – Тем не менее, к комнате Оливии она подходила с не совсем спокойной совестью. Она не помнила, что же она на самом деле рассказала этим первогодкам про экзамены, но ее терзало смутное чувство, что вряд ли это было нечто обнадеживающее.
– Как бы я хотела когда-нибудь усвоить, когда можно шутить, а когда нельзя, – сказала она себе, постучав в дверь кабинета.
Никто не ответил, она повернула ручку и вошла. В одной из спален послышалось сдавленное рыдание и Пэтти помедлила.
У нее не было привычки плакать и она всегда испытывала неудобство, когда плакали другие. Что-то, однако, нужно было делать, она встала на пороге, безмолвно и внимательно разглядывая Оливию, которая лежала на кровати лицом вниз. При звуке шагов Пэтти она подняла голову, окинула вошедшую испуганным взглядом и снова зарылась лицом в подушку. Пэтти нацарапала на табличке «занято», прикрепив ее на двери кабинета, затем пододвинула к кровати стул и села с видом терапевта, который собирается ставить диагноз.
– Итак, Оливия, – начала она деловым тоном, – что случилось?
Оливия разжала руки и показала какие-то измятые бумаги. Пэтти расправила их и торопливо пробежала глазами официально напечатанное уведомление об ошибках:
«Настоящим уведомляется, что мисс Коупленд признана неуспевающей по немецкому языку (три часа).
Настоящим уведомляется, что мисс Коупленд признана неуспевающей по латинской прозе (один час).
Настоящим уведомляется, что мисс Коупленд признана неуспевающей по геометрии (четыре часа).»
Пэтти произвела быстрые расчеты, – три плюс один равно четыре, и еще четыре, равно восемь, – и нахмурилась.
– Меня отошлют домой, Пэтти?
– Боже сохрани, детка, надеюсь, что нет. Человек, который так хорошо поработал по английскому, должен иметь право заваливать все остальные чертовы предметы, если того пожелает.
– Но если не успеваешь за восемь часов, тебя могут отчислить, – ты сама мне так сказала.
– Не верь тому, что я говорила, – заметила Пэтти обнадеживающе. – По большей части, я не знаю, о чем говорю.
– Мне бы не хотелось, чтобы меня отправили назад и мой отец узнал бы о моем провале, когда он столько времени посвятил моей подготовке; но, – Оливия вновь заплакала, – я так сильно хочу домой, что, наверное, меня все это не слишком волнует.
– Ты не знаешь, что говоришь, – произнесла Пэтти. Она положила руку на плечо девушки. – Боже мой, детка, ты промокла до нитки и ты дрожишь! Сядь и сними туфли.
Оливия села и потянула шнурки непослушными пальцами; ничего не получилось, тогда Пэтти развязала их и скинула туфли в вязкую кучу на полу.
– Ты понимаешь, что с тобой происходит? – спросила она. – Ты плачешь не потому, что провалила экзамены. Ты плачешь оттого, что простудилась, устала, промокла и хочешь есть. Ты сию же минуту снимешь эти мокрые вещи и отправишься в теплую ванну, а я принесу тебе чего-нибудь на ужин.
– Я не хочу ужинать, – завыла Оливия и, казалось, снова собралась уткнуться в подушки.
– Оливия, ты ведешь себя, как ребенок, – сказала Пэтти жестко, – сядь и будь… мужчиной.
Спустя десять минут Пэтти вернулась из успешного трофейного похода и выставила свою добычу на столике в спальне. Оливия сидела на краю кровати и безучастно за ней наблюдала, олицетворяя собой картину лихорадочного отчаяния.
– Выпей это, – приказала Пэтти, протягивая дымящийся стакан.
Оливия послушно поднесла его к губам и отодвинула. – Что это? – слабо спросила она.
– Все, что я могла найти горячего: хинин, виски, ямайский имбирь, сироп от кашля, щепотка красного перца и… парочка еще каких-то вещей. Это мое собственное изобретение. После этого ты не подхватишь простуды.
– Я… я не думаю, что хочу это выпить.
– Пей все – до последней капли, – беспощадно велела Пэтти, и Оливия закрыла глаза и осушила стакан.
– А теперь, – оживленно суетясь, сказала Пэтти, – я принесу ужин. У тебя есть открывалка? А спирта, случайно, нет? Прекрасно. У нас будет три блюда – консервированный суп, консервированная вареная фасоль и консервированный имбирь – и все в горячем виде. Нам сильно повезло, что Джорджи Меррилс была в Нью-Йорке, иначе она ни за что бы мне их не одолжила.
К своему собственному изумлению, Оливия, потягивая острый суп из кружки для чистки зубов и придерживая на колене поднос полный горячей вареной фасоли, обнаружила, что смеется (до этого она думала, что уже никогда не будет улыбаться).
– Итак, – сказала Пэтти, которая, когда с тремя блюдами было покончено, уложила первокурсницу в постель, – мы разработаем план кампании. Несмотря на то, что восемь часов – результат весьма серьезный, все же это не смертельно. Почему ты завалила экзамен по латинской прозе?
– Я никогда прежде ее не изучала и когда я рассказала мисс…
– Естественно, она сочла своим долгом тебя завалить. Тебе не следовало подымать эту тему. Ладно, не вешай нос. Это всего лишь один час, а чтобы отделаться от латыни, тебе хватит и минуты. А что с немецким?
– Понимаешь, немецкий малость сложноват, так как сильно отличается от итальянского и французского, и когда меня вызывают, я становлюсь какой-то пугливой и…
– В целом, выглядишь довольно глупо? – предположила Пэтти.
– Боюсь, что так, – созналась она.
– Ну что ж, рискну заметить, что свой провал ты заслужила. Можешь позаниматься дополнительно и сдать весной. Что насчет геометрии?
– Я полагала, что знаю предмет, но она спросила не то, что я ожидала и…
– Неудачное обстоятельство, но такое случается. Ты смогла бы немного повторить материал и пойти на пересдачу, не откладывая в долгий ящик?
– Да, уверена, что смогла бы, только мне больше не дадут шанса. Вначале меня отправят домой.
– Кто твой преподаватель?
– Мисс Прескотт.
Пэтти нахмурилась, потом рассмеялась. – Я подумала, что если это мисс Холи, я могла бы пойти к ней, объяснить ситуацию и попросить допустить тебя к переэкзаменовке. Иногда мисс Холи бывает человеком. Но мисс Прескотт! Не удивительно, что ты провалилась. Я сама ее боюсь. Она единственная женщина, получившая степень в каком-то немецком университете, и кроме математики ее ничто в этом мире не интересует. Я не верю, что у этой женщины есть душа. Если бы сюда явился один из тех медиумов и дематериализовал ее, то все, что от нее осталось бы, это равносторонний треугольник.
Пэтти покачала головой. – Я боюсь, что спорить с таким человеком бессмысленно. Видишь ли, если она прозрела однажды, то это навсегда. Но не волнуйся, я сделаю все от меня зависящее. Я скажу ей, что ты нераскрытый математический гений; что это проявляется в латентной форме, но если она снова тебя протестирует, то обнаружит это. Ей должно это понравиться. Спокойной ночи. Засыпай и не беспокойся, – я с ней справлюсь.
– Спокойной ночи и спасибо тебе, Пэтти, – донесся из-под одеял довольно веселый голос.
Закрыв за собой дверь, Пэтти немного постояла в холле, обдумывая ситуацию. Оливия Коупленд была слишком ценной персоной, чтобы бросаться ею. Нужно заставить колледж осознать ее ценность. Но это было трудно осуществить. Пэтти уже пыталась заставить колледж осознавать другие вещи. Мисс Прескотт была единственным средством спасения, которое приходило ей на ум, и средством сомнительным. Ей вовсе не улыбалось наносить ей визит, но, по-видимому, ничего другого не оставалось. Она состроила гримаску и засмеялась. «Я сама веду себя, как первокурсница, – подумала она. – Ступай, Пэтти, и не дрогни перед трудностями»; не дав себе время засомневаться, она решительно поднялась по лестнице и постучала в дверь мисс Прескотт. И только тогда сообразила, что, возможно, следовало быть более дипломатичной и отложить свое дело до завтра. Но дверь отворилась прежде, чем она успела убежать, и она поняла, что кланяется в некотором замешательстве мисс Прескотт, которая держит в руке не учебник по исчислениям, а обыкновенный, ежедневный журнал.
– Добрый вечер, мисс Уайатт. Прошу Вас, входите и присаживайтесь, – произнесла мисс Прескотт весьма сердечным тоном.
Погружаясь в глубокое тростниковое кресло, Пэтти мельком разглядела низкие книжные шкафчики, картины, коврики и полированную медь, которым стоявшая на столе затененная лампа придавала мягкие очертания. Не успев встряхнуться и собраться с мыслями, она уже весело болтала с мисс Прескотт о возможном исходе рассказа с продолжениями, напечатанного в журнале.
Мисс Прескотт, казалось, ничуть не удивилась необычному визиту, и, словно лучший представитель человеческой породы, без труда рассуждала на различные темы, шутила и рассказывала истории. Пэтти заворожено ее разглядывала. «Она хорошенькая», – думала она про себя. Ей стало интересно, сколько ей лет. Ни разу до сих пор она не связывала с мисс Прескотт какой-либо возраст. Она рассматривала ее в том же свете, что и научную истину, которая существует, но не зависит от времени или места. Она попыталась вспомнить какую-то историю, которая ходила среди девочек в ее бытность на первом курсе. У нее возникло смутное воспоминание, что в ней содержался намек на то, что мисс Прескотт некогда была влюблена. В то время Пэтти с сарказмом отвергла эту идею, но теперь она почти хотела в нее поверить.
Вдруг, посередине беседы, прозвонил десятичасовой колокол и, вздрогнув, Пэтти вспомнила о цели своего прихода.
– Полагаю, – проговорила она, – Вы недоумеваете, зачем я пришла.
– Я надеялась, – с улыбкой сказала мисс Прескотт, – Вы пришли просто, чтобы меня повидать, безо всяких скрытых мотивов.
– В следующий раз – обязательно, если Вы позволите мне прийти еще раз; но сегодня у меня другая причина, которую Вы, боюсь, сочтете оскорбительной и, – прибавила она откровенно, – я не знаю, как мне ее изложить получше, так, чтобы Вы не сочли ее оскорбительной.
– Изложите ее, как Вам угодно, а я постараюсь так не думать, – любезно заметила мисс Прескотт.
– Вам не кажется, что порой девушки могут сказать о способностях друг друга больше, нежели преподаватели? – спросила Пэтти. – Я знаю одну девушку, – продолжала она, – первокурсницу, которая в некотором роде является самым интересным человеком, какого я когда-либо встречала. Разумеется, я не могу быть уверена, но скажу, что однажды она добьется значительных успехов по английскому языку, – настолько значительных, что колледж будет ею гордиться. Так вот, эта девушка завалила столько экзаменов, что, боюсь, как бы ее не отправили домой, а колледж просто не может себе позволить потерять ее. Я, конечно, ничего не знаю о Ваших правилах, но мне представляется, что проще всего будет, если Вы, не откладывая, устроите ей еще один экзамен по геометрии, – она действительно готова, – а потом расскажете о ней преподавателям и убедите их испытать ее повторно.
Пэтти изложила эту удивительную просьбу самым будничным тоном, и уголки губ мисс Прескотт дрогнули, когда она спросила: – О ком Вы говорите?
– Об Оливии Коупленд.
Губы мисс Прескотт приняли резко-очерченное выражение, и она вновь стала похожа на преподавателя математики.
– Мисс Коупленд ровным счетом ничего не показала на экзамене, мисс Уайатт, а то немногое, что она отвечала на обзорных занятиях в течение года, не указывает на какие-либо необыкновенные способности. Извините, но это не возможно.
– Но, мисс Прескотт, – увещевала Пэтти, – девочка училась в таких специфически неблагоприятных условиях. Она американка, но живет за границей, и все наши обычаи для нее в диковинку. Она ни одного дня в своей жизни не училась в школе. К колледжу ее подготовил отец и, разумеется, не так, как готовили остальных девочек. Она застенчива и не привыкла отвечать в классе, она не умеет себя подать. Мисс Прескотт, я уверена, что если Вы возьметесь и лично ее проэкзаменуете, то поймете, что она разбирается в материале, то есть, если Вы позволите ей преодолеть свой страх, прежде всего, перед Вами. Я знаю, как Вы заняты, а это требует достаточно времени, – извиняющимся тоном закончила Пэтти.
– Дело не в этом, мисс Уайатт, поскольку я, безусловно, хочу оценить студента по справедливости; но у меня сложилось впечатление, что Вы переоценили способности мисс Коупленд. У нее был великолепный шанс проявить свой потенциал, и если она не сдала столько предметов, сколько Вы сказали… видите ли, колледж должен придерживаться стандарта в своей работе, в подобных же вопросах не всегда возможно считаться с индивидуумом.
Пэтти почувствовала, что ее больше не задерживают, и исступленно принялась выискивать новое оправдание. Ее взгляд упал на изображение старого монастыря в Амальфи, висевшее в раме над книжным шкафом.
– Вы жили в Италии? – спросила она.
Мисс Прескотт едва уловимо вздрогнула. – Нет, – сказала она, – но я там отдыхала некоторое время.
– Меня навел на мысль вид Амальфи, вон там наверху. А знаете, Оливия Коупленд живет недалеко, в Сорренто.
В глазах мисс Прескотт вспыхнул интерес.
– Так я впервые о ней услыхала, – продолжила Пэтти, – но она не вызвала во мне большого интереса, пока я с ней не поговорила. Ее отец, кажется, художник, она родилась в Италии, а в Америке была только раз, в детстве. Ее мать умерла, и они с отцом живут на старой вилле по дороге, что ведет вдоль побережья в Сорренто. У нее никогда не было подруг, только друзья ее отца – художники, дипломаты и тому подобное. Она говорит по-итальянски и знает все про итальянское искусство, политику, церковь, аграрное законодательство и про то, как людей облагают налогами. Все крестьяне вокруг Сорренто ее друзья. Она до смерти скучает по дому, и единственный человек, с которым она может поговорить об интересующих ее вещах, это торговец арахисом в городе.
– Девушки, с которыми она делит комнату, просто милые, брызжущие весельем американки, увлекающиеся гольфом, баскетболом, гренками с сыром, рассказами Ричарда Хардинга Дэвиса и картинами Гибсона, – а она даже ни разу ни о чем подобном не слышала до того, как приехала сюда четыре месяца назад. У нее есть акварельный набросок виллы, выполненный ее отцом. Знаете, она отделана белой лепниной, с террасами, мраморными балюстрадами и разбитыми скульптурами, с падубовой рощей и фонтаном в центре. Только представьте, мисс Прескотт, что значит принадлежать такому месту, как это, и вдруг перенестись в такое место, как наш колледж, без друзей или хотя бы тех, кто знает о близких твоему сердцу вещах… Подумайте, как Вам было бы одиноко!
Пэтти с раскрасневшимися щеками подалась вперед, захваченная собственным красноречием. – Вы знаете, что такое Италия. Это нечто вроде болезни. Если однажды ее полюбишь, то уже не забудешь никогда и не сможешь быть счастливым, пока не вернешься туда. А для Оливии, кроме того, Италия – родной дом. Ничего другого она не ведает. И поначалу очень сложно сосредоточиться на математике, если постоянно мечтаешь о падубовых рощах, фонтанах, соловьях и… и прочих вещах.
Она сбивчиво умолкла, заметив, что мисс Прескотт внезапно откинулась в кресле, спрятав лицо в тени, и Пэтти померещилось, что она побледнела, а рука, державшая журнал, задрожала.
Пэтти вспыхнула от неловкости и попыталась припомнить, что такого она наговорила. Она вечно произносила слова, которые огорчали людей без всякого на то намерения. И вдруг в голове вспыхнула старая история со времен первого курса. Он был художником, жил в Италии и умер от римской лихорадки; мисс Прескотт уехала в Германию изучать математику и с тех пор ее ничто не волновало. История, как будто, вымышленная, но, возможно, не далека от истины. Не наткнулась ли она случайно на запретную тему, печально спрашивала себя Пэтти. Ну, естественно, – это как раз в ее духе.
Тишина становилась невыносимой. Она силилась придумать, что бы сказать, но на ум ничего не приходило, и она резко встала.
– Простите, мисс Прескотт, что отняла у Вас столько времени. Надеюсь, что я Вас не утомила. Доброй ночи.
Мисс Прескотт поднялась и взяла Пэтти за руку. – Доброй ночи, дорогая, и спасибо, что зашли ко мне. Я рада, что узнала об Оливии Коупленд. Я посмотрю, что можно предпринять по поводу геометрии и, кроме того, я буду рада узнать ее как… как друга, поскольку и мне когда-то была небезразлична Италия.
Пэтти мягко затворила дверь и на цыпочках проследовала к себе по тускло освещенным коридорам.
– Ты принесла спички? – донесся сонный голос из спальни Присциллы.
Пэтти вздрогнула. – Ох, спички! – Она засмеялась. – Нет, я о них забыла.
– Пэтти Уайатт, я еще не видела, чтобы ты хоть раз доводила до конца то, что начинала делать.
– И, тем не менее, сегодня вечером я довела одно дело до конца, – парировала Пэтти с легкой ноткой триумфа в голосе, – но я понятия не имею, как у меня это получилось, – искренне добавила она про себя.
Она легла в постель и уснула, действительно не понимая, какое великое дело доведено до конца, ибо, сама того не сознавая, она положила начало дружбе, которая должна была скрасить будущее существование одинокой первокурсницы и в равной степени одинокой преподавательницы.
XI. Местный колорит
Старшекурсницы за третьим столиком открыли для себя новое развлечение, с тем чтобы, пока Мэгги рыскала по кухне в поисках еды, скрасить утомительность ожидания. Игра называлась «местный колорит»[10] в честь знаменитой формулировки, данной Пэтти Уайатт на уроке английского: «Местный колорит – это такое понятие, которое придает обману достоверность». Цель игры заключалась в том, чтобы посмотреть, кто может наврать с три короба и не быть разоблаченным; но согласно единственному правилу попавшихся на удочку следовало вывести из заблуждения прежде, чем они выйдут из-за стола.
Пэтти была зачинщицей, чемпионкой и последней жертвой игры. От некоторых ее выдумок покраснел бы сам барон Мюнхгаузен. Свои истории она излагала с видом такой простодушной искренности, что наиболее возмутительные из них завоевывали доверие.
Первоначальный замысел игры, возможно, был довольно невинен, однако правило не всегда соблюдалось с той осмотрительностью, которая предполагалась, и по колледжу начали витать самые невероятные слухи. Председатель христианского общества призван в армию за то, что прогулял службу. Первая отличница в группе завалила экзамен по этике и даже не смогла пересдать. Кэти Фэйр приходится кузиной профессору Хичкоку и в глаза называет его «Томми». Эти и еще худшие истории становились достоянием общественности, и даже инсинуации относительно педагогического состава, придуманные исключительно для студенческого пользования, стали достигать ушей самих преподавателей.
Однажды Пэтти заскочила по какой-то комитетской надобности в класс, где занимались младшие курсы, и увидела, что дети, подобно их старшим товарищам, угощаются лакомыми кусочками сплетен колледжа.
– Вчера я слышала одну забавную вещь о профессоре Уинтерсе, – заговорила одна второкурсница.
– Расскажи нам. Что там произошло? – воскликнул хор голосов.
– Мне бы хотелось услышать что-нибудь забавное о профессоре Уинтерсе, – он самый серьезный человек, которого мне приходилось видеть, – заметила некая первокурсница.
– Ну, – продолжила второкурсница, – кажется, он собирался жениться на прошлой неделе, все приглашения были отправлены, все подарки получены, когда невеста заболела свинкой.
– Правда? Как смешно! – хором сказали довольные слушатели.
– Да – для обеих сторон: священник никогда не болел свинкой, поэтому церемонию пришлось отложить.
Кровь застыла в жилах Пэтти. Она узнала эту историю, которая была из числа ее собственных «детищ», только лишенная несущественных украшений.
– Где, черт возьми, ты услыхала такую нелепость? – спросила она сурово.
– Я слышала, как Люсиль Картер рассказывала ее вчера в комнате Бонни Коннот, где устраивалась вечеринка со сливочной помадкой, – смело ответила второкурсница, уверенная в авторитетности источника.
Пэтти проворчала: – И я полагаю, что к этому времени каждая из этой чертовой дюжины девиц растрезвонила о ней еще дюжине, и только границы кампуса не позволяют ей выходить за его пределы. Итак, в этой истории нет ни слова правды. Люсиль Картер не знает, о чем говорит. Ага! Так я ей и поверила! – прибавила она с потрясающим пренебрежением. – Разве профессор Уинтерс похож на человека, который осмелится сделать девушке предложение, не говоря о том, чтобы на ней жениться? – И, гордо покинув класс, она поднялась в одноместную комнату, где проживала Люсиль.
– Люсиль, – сказала Пэтти, – ты зачем распространяешь историю о заболевшей свинкой невесте профессора Уинтерса?
– Ты сама мне ее рассказала, – немного запальчиво ответила Люсиль. Она была доверчивым созданием, все воспринимавшим в высшей степени буквально, и в далеком воображаемом царстве «местного колорита» она всегда была не в своей стихии.
– Я рассказала ее тебе! – произнесла Пэтти возмущенно. – Дурочка, ты же не станешь говорить, что ты этому поверила? Я просто играла в «местный колорит».
– Откуда мне было знать? Ты рассказывала так, словно это была правда.
– Ну конечно, – подтвердила Пэтти, – в этом смысл игры. Если бы я рассказывала неправдоподобно, ты бы мне не поверила.
– Но ты ведь не сказала, что это неправда. Ты не соблюдаешь правило.
– Я не считала, что это необходимо. Мне и в голову не могло прийти, что кто-нибудь поверит в этакую чепуху.
– Не понимаю, в чем моя вина.
– Разумеется, ты виновата. Тебе не следует распускать зловредные небылицы про учителей, это неуважительно. Теперь история гуляет по всему колледжу, и профессор Уинтерс, вероятно, сам ее уже слышал. Поспорим, что в отместку он срежет тебя на выпускных экзаменах. – И Пэтти отправилась домой, покинув Люсиль в раскаянии и совершенном негодовании.
Примерно за месяц до открытия «местного колорита» Пэтти занялась новым видом деятельности, которую справедливо именовала «формированием общественного мнения» и «продвижением прессы». Происходило это следующим образом.
Колледж, являвшийся благопристойным, скромным учебным заведением, жаждущим только, чтобы его не тревожили в обстановке академического спокойствия, недавно был использован в своих интересах одной газетой – охотницей до сенсаций. Тот факт, что ни одна история не была правдивой, не умерила раздражения. Колледж осадили репортеры, которые слышали слухи и хотели их подтвердить дополнительными фактами для эксклюзивной публикации в «Сенсор», «Эдвертайзер» или «Стар». Также им понадобилась фотография мисс Бентли в роли Порции, и, поскольку она отказалась дать ее им, они объявили о своем намерении поместить «поддельное» фото, которое, как они галантно заверили, будет намного безыскуснее оригинала.
Апогеем всего этого стал случай, когда Бонни Коннот, играя в баскетбол, имела несчастье растянуть лодыжку. В нью-йоркской вечерней газете появился ее портрет, чуть ли не в натуральную величину, где она была одета в мужской по виду свитер и держала под мышкой баскетбольный мяч, а трехаршинные красные газетные заголовки кричали о том, что чемпионка по легкой атлетике и самая популярная светская девушка колледжа находится при смерти по причине травм, полученных при игре в баскетбол.
В высшей степени респектабельная семья Бонни нагрянула в колледж в негодующе-полном составе с целью забрать ее домой и с трудом была утихомирена столь же возмущенными преподавателями. Выпускницы колледжа написали, что в их время такие жестокие игры как баскетбол не одобрялись и что они боятся, что колледж деградировал. Родители написали, что заберут своих дочерей из колледжа, если их собираются подвергать подобной публичности. И бедная госпожа ректор, конечно, была совершенно беспомощна перед знаменитым правом американцев на свободу слова.
В конце концов, колледж додумался до частичной меры предосторожности – поставки собственных новостей, для чего из числа студентов были сформированы регулярные репортерские войска, возглавляемые одним из преподавателей. Самые респектабельные газеты были очень рады иметь местного корреспондента, чьи факты не требовали расследования, а менее респектабельные прибегли в свое время к более благодатной сфере сплетен и успешно забыли о существовании колледжа.
Пэтти, обладавшую репутацией «акулы пера» по английскому языку, должным образом внесли в список кандидатур и вручили ей местную газету. Сначала ее переполняло здоровое чувство ответственности, которое давала эта должность, и сознательно пренебрегала ради нее своей учебой; со временем, однако, новизна утратилась, и ее еженедельные ресурсы становились все более типично поверхностными.
Возможно, было не слишком дальновидно избрать Пэтти именно для этой газеты, ибо редактор пожелал иметь еженедельную колонку, обозначенную как «неофициальные новости», тогда как мудрее было бы поручить ей городскую газету, требующую лишь краткого изложения важных событий. Следует признать, что собственные наклонности Пэтти имели «желтоватый» оттенок, и, учитывая подстрекательства восхищенного редактора, ей было нелегко подавлять в себе скрытую страсть к «местному колориту». Тем не менее газета пользовалась широкой популярностью среди преподавателей, вследствие чего тяготела к утонченности.
На следующий день после случившихся у нее с Люсиль непредвиденных осложнений по поводу заболевшей свинкой невесты была пятница, и Пэтти мучительно занималась еженедельным формированием общественного мнения. Это была бессодержательная неделя, писать было не о чем.
Она сделала полный обзор собрания французских энциклопедий, преподнесенных в дар библиотеке, и с воодушевлением поведала о замечательной коллекции челюстных костей доисторической коровы, подаренной кафедре палеонтологии. Она привела полный список семнадцати девушек, награжденных стипендией, старательно выводя их полные имена и прибавляя «мисс» к каждому имени, а также названия городов и штатов в развернутом виде. Однако набиралось не больше десяти страниц, тогда как для создания новостной колонки требовалось заполнить почерком Пэтти восемнадцать страниц.
Она прошлась к доске объявлений для повторного ее изучения и обнаружила не замеченное ранее новое объявление:
Профессор Джеймс Харкнер Уоллис из обсерватории Лика[11] проведет лекцию на тему «Теории звездной системы», которая состоится в пятницу, 17 января, в восемь часов.
Пэтти разглядывала объявление без эмоций. Оно не обещало дальнейшего развития, и она не испытывала ни малейшего интереса к звездной системе. Тем не менее, в краткой информации о лекторе, сопровождавшей объявление, сообщалось, что профессор Уоллис является одним из известнейших астрономов наших дней и что он осуществил новые важные исследования.
«Если бы я что-нибудь понимала в астрономии, – думала она в отчаянии, – я бы смогла „раскидать“ его на целых две страницы».
К доске объявлений не спеша подошла знакомая Пэтти.
– Ты когда-нибудь слыхала о нем? – спросила Пэтти, указывая на объявление.
– Никогда, но я ведь не астроном.
– Я тоже, – сказала Пэтти. – Интересно, кто он такой? – прибавила она тоскливо. – Кажется, он очень знаменит, и мне бы ой как хотелось что-нибудь о нем узнать.
Девушка сделала большие глаза, несколько удивившись такой тяге к беспочвенной информации: с репутацией Пэтти это не вязалось. С тех пор, когда в ее присутствии утверждали, что Пэтти Уайатт – личность замечательная, но поверхностная, она решительно повторяла, что Пэтти – гораздо глубже, чем думают о ней люди. Задумавшись на мгновение, она ответила, – Люсиль Картер проходит астрономию, она могла бы тебе о нем рассказать.
– Совершенно верно. Я забыла об этом. – И Пэтти мерным шагом направилась в комнату Люсиль.
Она обнаружила, что несколько девушек, расположившись на различных предметах мебели, едят сливочную помадку и обсуждают трагедии некоего Метерлинка.
– Это что? – спросила Пэтти. – Вечеринка?
– О нет, – сказала Люсиль, – просто специальное заседание группы по теории драматического искусства. Не пугайся, наверху на эркере сидит твоя соседка по комнате.
– Привет, Прис. Что ты здесь делаешь? – проговорила Пэтти, зачерпывая ложкой немного помадки. (Существовало разногласие относительно того, как долго она должна вариться.)
– Просто зашла в гости. А ты что делаешь? Я думала, ты торопишься закончить свою работу, чтобы сходить в город поужинать.
– Так и есть, – сказала Пэтти туманно, – но мне стало одиноко.
Ввиду того, что разговор вновь перешел на Метерлинка, она воспользовалась возможностью задать вопрос Люсиль: – Кто этот астроном, который будет читать вечером лекцию? Он довольно знаменит, правда?
– Весьма, – сказала Люсиль. – Всю последнюю неделю профессор Фелпс ежедневно говорит о нем.
– И где же все-таки расположена обсерватория Лика? – продолжила свою мысль Пэтти. – Хоть убей, не могу вспомнить, она в Калифорнии или на Пике Пайка.
Люсиль призадумалась. – Она в Дублине, в Ирландии.
– В ирландском Дублине? – спросила Пэтти удивленно. – Я могла поклясться, что это в Калифорнии. Люсиль, ты уверена, что знаешь, где она находится?
– Разумеется, уверена. Разве мы не изучаем ее три дня беспрерывно? Калифорния! Ты, верно, сошла с ума, Пэтти. На мой взгляд, тебе следовало выбрать факультатив по астрономии.
– Я знаю, – отвечала Пэтти кротко. – Я было хотела, но услышала, что она ужасно сложная, и я подумала, что на четвертом курсе у нас есть право выбрать что-нибудь полегче. Но, знаешь, есть нечто забавное в этой обсерватории Лика, так как я на самом деле много о ней знаю – совсем недавно читала о ней статью; и я не понимаю, откуда у меня сложилось такое впечатление, но я была почти уверена, что она находится в Соединенных Штатах. Это доказывает, что никогда ни в чем нельзя быть уверенным.
– Да, – сказала Люсиль, – это не надежно.
– Эта обсерватория связана с Дублинским университетом? – спросила Пэтти.
– Думаю, да, – сказала Люсиль.
– А этот астроном, – продолжила Пэтти, воодушевляясь своей работой, – полагаю, что в таком случае он ирландец.
– Конечно, – промолвила Люсиль. – Он очень известный человек.
– Что он сделал? – поинтересовалась Пэтти. – На доске объявлений сказано, что он совершил какие-то важные открытия. Хотя мне кажется, что это пугающая специальная терминология, о которой никто не слышал.
– Ну, – произнесла Люсиль, взвешивая свои слова, – он открыл кольца Сатурна и Млечный Путь.
– Кольца Сатурна! Как, я думала, что их открыли целую вечность назад. Должно быть, он ужасно стар. Я помню, что читала о них, когда еще под стол пешком ходила.
– Это было довольно давно, – подтвердила Люсиль. – По меньшей мере, восемь или девять лет назад.
– А Млечный Путь! – продолжала Пэтти, изобразив недоверие. – Я не понимаю, что могло помешать людям давным-давно открыть его. Я и сама бы это сделала и я не притворяюсь, будто что-то знаю об астрономии.
– О, конечно, – торопливо пояснила Люсиль, – феномен был замечен и раньше, но ему не было дано рационального объяснения.
– Понятно, – сказала Пэтти, тайком делая записи. – Должно быть, он и впрямь ужасно важная особа. И как он все это проделал?
– Он поднялся на воздушном шаре, – сказала Люсиль туманно.
– На воздушном шаре! Как весело! – воскликнула Пэтти, ее репортерский инстинкт уловил след. – В Европе воздушные шары используют гораздо чаще, чем здесь.
– По-моему, он привез с собой свой воздушный шар сюда, в Америку, – сказала Люсиль. – Он никогда без него не путешествует.
– Какая от него польза? – спросила Пэтти. – Полагаю, – продолжила она, представив свое собственное объяснение, – шар возносит его почти до самых звезд.
– Причина, несомненно, в этом, – сказала Люсиль.
– Как бы мне хотелось, чтобы он послал его сюда, – вздохнула Пэтти. – Тебе известны о нем еще какие-нибудь интересные подробности?
– Н-нет, – произнесла Люсиль. – Больше мне ничего не приходит в голову.
– Определенно, он самый интересный профессор из всех, о ком я когда-либо слышала, – промолвила Пэтти, – и странно, что о нем я до сих пор не слышала ни разу.
– Видимо, существует масса вещей, о которых ты никогда не слышала, – заметила Люсиль.
– Да, – признала Пэтти, – есть такие.
– Ладно, Пэтти, – сказала Присцилла, вынырнув из обсуждения в противоположном конце комнаты, – если ты собираешься сходить со мной поужинать, прекрати дурачиться с Люсиль, отправляйся домой и заканчивай свою работу.
– Отлично, – произнесла Пэтти, с услужливой расторопностью поднимаясь с места. – Пока, девочки. Заходите ко мне в гости, и я угощу вас сливочной помадкой, доведенной до готовности. Спасибо за информацию, – обратилась она к Люсиль.
В следующий понедельник Пэтти, Присцилла и еще две-три девушки не спеша возвращались с озера, ударяя коньками по рукам и позвякивая ими.
– Входите, девочки, и угощайтесь горячим чаем, – позвала Присцилла, когда они подошли к двери кабинета.
– Вот письмо для Пэтти, – сказала Бонни Коннот, беря со стола конверт. – Больно уж официальное. Должно быть, пришло с почтой колледжа. Вскрой его, Пэтти, поглядим, на каком экзамене ты срезалась.
– Боже мой! – промолвила Пэтти. – Мне казалось, что от этой привычки я избавилась на первом курсе.
Они столпились вкруг и прочитали записку поверх ее плеча. У Пэтти секретов не было.
Обсерватория, 20 января.
Мисс Пэтти Уайатт.
Дорогая Мисс Уайатт, меня уведомили, что Вы являетесь корреспондентом газеты «Субботняя вечерняя почтовая депеша», и я осмеливаюсь привлечь Ваше внимание к грубейшей ошибке, допущенной в последнем выпуске на прошлой неделе. Вы утверждаете, что обсерватория Лика находится в Дублине, в Ирландии, тогда как согласно общепринятой информации она расположена возле Сан-Франциско, в Калифорнии. Профессор Джеймс Харкнер Уоллис не ирландец, он американец. Невзирая на то, что он провел несколько важных исследований, он не является первооткрывателем ни колец Сатурна, ни Млечного Пути.
С искренним уважением,
Говард Д. Фелпс.– Это от профессора Фелпса… что он имеет в виду? – озадаченно спросила Близняшка.
– Ох, Пэтти, – простонала Присцилла, – ты же не хочешь сказать, что поверила во всю эту чушь на самом деле?
– Конечно, я поверила. Откуда мне было знать, что она лжет?
– Она не лгала. Не выражайся так опрометчиво.
– Позволь узнать, в таком случае, как ты это называешь? – рассерженно молвила Пэтти.
– «Местным колоритом», моя милая, просто «местным колоритом». Видишь ли, всякому терпению приходит конец.
– Почему ты мне не сказала? – завопила Пэтти.
– Я не могла предположить, что ты ей поверила. Думала, что вы шутите все время.
– В чем дело, Пэтти? Что ты натворила? – заинтересовались остальные, разрываясь между простительным чувством любопытства и ощущением, что следует удалиться, пока не разыгралась семейная драма.
– О, расскажи им, – горько сказала Пэтти. – Расскажи всем, кого увидишь. Прокричи это с купола обсерватории. Лучше так и сделай, а через пару часов эта новость разойдется по всему колледжу.
Присцилла принялась объяснять и покамест она объясняла, до нее начала доходить смешная сторона происшествия. Когда она закончила свой рассказ, все, кроме Пэтти, были доведены до истерики.
– Бедный редактор, – захлебываясь, сказала Присцилла. – Он вечно охотится за сенсациями и одну из них он теперь явно получил.
– Где она, Пэтти – газета? – задыхаясь, спросила Бонни.
– Я выкинула ее, – сказала Пэтти угрюмо.
Обыскав мусорную корзину, Присцилла извлекла газету и все четверо радостно склонились над ней.
Выдающийся ирландский астроном проводит несколько дней в Америке, читая лекции в ведущих колледжах… Его знаменитое открытие колец Сатурна сделано во время подъема на воздушном шаре на высоту три тысячи футов… Несмотря на его первый визит в Соединенные Штаты, он говорит лишь с легким провинциальным акцентом… Преданный сын старой Ирландии…
– Пэтти, Пэтти! Уж кому-кому, а тебе не пристало быть такой легковерной!
– Вслед за этим родители профессора Джеймса Харкнера Уоллиса напишут Прекси о том, что их сын не сможет больше выступать здесь с лекциями, если он должен подвергаться такого рода вещам.
– Отвратительно! – с жаром сказала Бонни Коннот.
– Когда вы перестанете смеяться, я хотела бы услышать от вас, что мне делать дальше.
– Скажи профессору Фелпсу, что это была описка.
– Описка длиною в добрую половину рубрики, – сказала Близняшка.
– Мне кажется, девочки, что с вашей стороны непристойно смеяться, когда, возможно, в эту минуту меня исключают из колледжа.
– Собрание факультета состоится не ранее четырех часов, – заметила Бонни.
Пэтти села за стол и зарылась лицом в ладони.
– Пэтти, – позвала Присцилла, – ты что, плачешь, а?
– Нет, – свирепо сказала Пэтти. – Я думаю.
– Тебе никогда не придумать того, что объяснило бы эту ситуацию.
Пэтти подняла голову с видом человека, озаренного вдохновением. – Я скажу ему правду.
– Не поступай столь опрометчиво, – умоляюще попросила Близняшка.
– Это, безусловно, единственное, что ты можешь сделать, – проговорила Присцилла. – Садись и напиши ему письмо, а я обещаю не смеяться, пока ты не закончишь писать.
Пэтти встала. – Я, пожалуй, пойду повидаюсь с ним.
– О нет. Напиши ему письмо. Это намного проще.
– Нет, – сказала Пэтти с достоинством. – По-моему, я должна ему персональное объяснение. Моя прическа в порядке? Девочки, если вы расскажете об этом до моего возвращения хоть одной душе, – прибавила она, закрывая дверь, – я не скажу вам ни слова из того, что он сказал.
Вернулась Пэтти полчаса спустя, как раз, когда они, наконец, усаживались пить чай. Она оглядела полутемную комнату. Обнаружив только четыре находившихся в ожидании лица, она неторопливо устроилась на подушке на полу и протянула руку за чашкой горячего чая.
– Что он сказал? Почему ты так задержалась?
– О, я зашла в секретариат, чтобы поменять факультативные программы, и задержалась.
– Ты же не хочешь сказать, что он заставил тебя выбрать для факультатива астрономию? – спросила Присцилла с негодованием.
– Нет, конечно, – ответила Пэтти. – Я бы не сделала этого, если бы он так поступил.
– О, Пэтти, я знаю, как тебе нравится играть на нервах, но, по-моему, это низко. Ты ведь знаешь, в каком мы напряженном ожидании. Расскажи нам, что произошло.
– Ну, – произнесла Пэтти, безмятежно раскладывая вокруг себя свои юбки, – я рассказала ему все как было. Я ничего не утаила – даже невесту со свинкой.
– Он рассердился или смеялся?
– Он смеялся до тех пор, – сказала Пэтти, – пока я не решила, что сейчас он упадет со стула, и стала с беспокойством оглядываться в поисках воды и колокольчика. Для преподавателя у него просто поразительное чувство юмора.
– Он был с тобой любезен?
– Да, – сказала Пэтти, – он был душкой. Когда он покончил с обсуждением Универсальной Истины, я спросила у него, могу ли я выбрать астрономию, и он ответил, что во втором семестре она покажется мне довольно сложной; но я сказала ему, что жажду работать, и он сказал, что я продемонстрировала замечательную способность объяснять феномены и что если я подойду к этому основательно, то он будет рад зачислить меня в группу.
– Мне кажется, мужчина, который так умеет прощать, должен быть выбран, – сказала Присцилла.
– Определенно, ты храбрее, чем я о тебе думала, – заявила Бонни. – Я ни за что на свете не пошла бы объясняться с этим человеком.
Пэтти сдержанно улыбнулась. – Если вам приходится объясняться с женщиной, – сказала она тоном человека, излагающего естественное право, – то лучше написать письмо; если же это мужчина, всегда объясняйтесь с ним лично.
XII. Крайности этикета
– Если бы именно я придумала этикет, – сказала Пэтти, – я бы устроила так, чтобы вечеринки посещались целый год после указанной даты, а в конце полагалась бы трехдневная передышка.
– В таком случае, – заметила Присцилла, – мне кажется, что ты бы полностью вычеркнула миссис Миллард из списка приглашенных.
– Абсолютно верно, – сказала Пэтти.
Миссис Миллард – более известная в интимном кругу как миссис Прекси – ежегодно приглашала старшекурсниц на званый ужин на десять персон. Недавно наступил черед Пэтти, но по прихоти своенравной неудачи она как раз лежала в лазарете. Пропустив веселье, она, тем не менее, посчитала, что теперь нанести визит необходимо.
– Разумеется, мне ясно, отчего предполагается, что вы придете, коль скоро вы бываете на приемах и вкушаете от яств, – продолжила она свою мысль, – но я просто не в состоянии понять, почему мирный гражданин, который всего лишь жаждет поступать по своему усмотрению, получив приглашение, которого он совершенно не запрашивал, вдруг считает своим долгом надеть свой лучший костюм, лучшую шляпу и перчатки, дабы отправиться в гости к людям, с которыми едва знаком.
– Ты немного запуталась в вопросах пола, – сказала Присцилла.
– Это недостаток языка, – сказала Пэтти. – Мне кажется, ты поймешь, что логически все верно. Увидишь, что произойдет, – продолжала она, – если довести эту идею до логического завершения. Предположим, например, что всем женщинам, которых я когда-либо встречала в этом городе, внезапно ударит в голову пригласить меня на ужин. И вот мне – абсолютно лишенной подозрительности и не виновной во всякого рода грехах, благодаря чистой условности, к изобретению которой я не имею отношения, – в последующие две недели пришлось бы не только сесть и написать сотню отказов, но и нанести сотню визитов. Одна мысль об этом приводит меня в содрогание!
– Не думаю, Пэтти, что тебе стоит об этом беспокоиться. Мы, конечно, знаем, как ты знаменита, но не до такой же степени.
– Нет, – согласилась Пэтти, – я не имела в виду, что считаю, будто я действительно получу много приглашений. Просто дело в том, что каждая из нас подвергается постоянной опасности.
В то время как разгоралась беседа, Джорджи Меррилс, развалившись на диване возле окна, читала «Венецианского купца» в той опасно бесстрастной манере, которую не слишком бы одобрил преподаватель по теории драматического искусства. Когда, в конце концов, в комнате стало слишком темно, чтобы читать, она отбросила книжку, подавляя зевоту. – Если бы Бассанио выбрал не тот ларец, – заметила она, – Порция стала бы посмешищем. – С этими словами она обратила свое внимание на территорию кампуса за окном. По тропинке со стороны озера шли стайки девушек, и звук их голосов, сопровождаясь смехом и звоном коньков, парил в сгущающихся сумерках. В других дортуарах сквозь снежное пространство и голые деревья начинали вспыхивать огоньки, а ближе, на расстоянии вытянутой руки, неправильными и гораздо более различимыми очертаниями возвышалось здание ректората.
– Пэтти, – произнесла Джорджи, прижавшись носом к оконному стеклу, – если ты и впрямь хочешь получить это труднодоступное приглашение, это твой шанс: миссис Миллард только что вышла.
Пэтти ринулась в спальню и принялась резко дергать выдвижные ящики письменного стола. – Присцилла, – отчаянно позвала она, – ты не помнишь, где я храню мои визитки?
– Уже без десяти минут шесть, Пэтти, ты не можешь пойти.
– Нет, могу. Не важно, который час, пока ее нет. Я пойду прямо так.
– Только не в накидке для гольфа!
На мгновение Пэтти замешкалась. – Согласна, – признала она, – думаю, что дворецкий может ей рассказать. Я надену шляпу. – У нее был вид человека, который идет на огромную уступку. Снова захлопали ящики стола, и она появилась в отороченной кружевом шляпке из черного бархата, в коричневом пиджаке от костюма поверх красной блузки, в голубой юбочке для гольфа и в ужасно грязных ботинках.
– Пэтти, ты позоришь нашу комнату! – воскликнула Присцилла. – Хочешь сказать, что ты намерена пойти к миссис Миллард в короткой юбке и в этих чудовищных ботинках для катания на коньках?
– Дворецкий не станет смотреть на мои ноги, а выше талии я прекрасна, – и за Пэтти захлопнулась дверь.
Джорджи и Присцилла прижались к окну, чтобы наблюдать, как будет проходить визит.
– Смотри, – задохнулась Присцилла. – Миссис Миллард входит через черный ход.
– А вот и Пэтти. Боже, как смешно она выглядит!
– Позови ее, – вскричала Присцилла, яростно пытаясь открыть окно.
– Оставь ее в покое, – рассмеялась Джорджи, – так забавно над ней позлорадствовать.
От резкого рывка окно поддалось. – Пэтти! Пэтти! – пронзительно закричала Присцилла.
Пэтти обернулась и беззаботно помахала рукой. – Не могу остановиться, скоро вернусь, – и она помчалась за угол.
Подруги понаблюдали несколько минут за домом, безотчетно ожидая, что произойдет какой-нибудь взрыв. Но ничего не случилось. Казалось, Пэтти поглотила бездна, и дом не подавал признаков жизни. Поэтому, пожав плечами, они переоделись к ужину с философским спокойствием, которому учит жизнь, полная тревог и неожиданностей.
Ужин наполовину миновал и за столом перестали обсуждать гибель Пэтти, когда в комнату вальяжно вошла эта юная леди, улыбнулась девушкам, на чьих лицах застыло выжидательное выражение, и поинтересовалась, какой суп они ели.
– Суп с фасолью, совсем не вкусный, – нетерпеливо ответила Джорджи. – Что произошло? Визит прошел нормально?
– Нет, Мэгги, сегодня я суп не буду. Принесите мне, пожалуйста, бифштекс.
– Пэтти! – умоляюще воскликнули все хором, – что случилось?
– О, прошу прощения, – мило сказала Пэтти. – Да, спасибо, я очень приятно провела время. Люсиль, тебя не затруднит передать мне хлеба?
– Пэтти, по-моему, ты несносна, – сказала Джорджи. – Расскажи нам, что там было.
– Ну, – начала Пэтти неспешно, – я спросила дворецкого: «Миссис Миллард дома?» и он ответил (даже не улыбнувшись): «Я не уверен, мисс, будьте добры, пройдите в гостиную, а я посмотрю». Я хотела сказать ему, чтобы он не беспокоился, так как я знаю, что ее нет, однако решила, что, наверное, будет лучше, если я подожду и позволю ему самому в этом убедиться. Поэтому я вошла и села в расшитое пурпурно-белыми узорами кресло в стиле Людовика Четырнадцатого. Передо мной висело большое зеркало, и у меня была масса времени изучить результат моих усилий, который, надо признать, получился немного аляповатым.
– Немного, – согласилась Джорджи.
– Я начала нервничать, – продолжила Пэтти, – что может войти кто-то из членов семьи, когда парень вернулся и доложил: «Миссис Миллард спустится через минуту».
– Если бы я увидела тебя в этот момент, Джорджи Меррилс, последовала бы драка, завершившаяся убийством и внезапной смертью. Моей первой мыслю было сбежать, однако парень сторожил дверь, а у миссис Прекси была моя визитка. Пока я бешено пыталась придумать подходящее извинение за мой наряд, леди вошла, я встала и приветствовала ее любезно, можно сказать, излишне любезно. Я говорила очень быстро, стараясь ее загипнотизировать, чтобы удержать ее взгляд на моем лице, но все напрасно: я увидела, как он перемещается вниз, и довольно скоро поняла по удивленному выражению ее лица, что он достиг моей обуви.
– Дальше скрываться было невозможно, – продолжала Пэтти, заговорив на свою любимую тему. – Я отдалась на ее милость и поведала убийственную правду. А что это за мороженое? – спросила она, наклоняясь и тревожно глядя вслед проходившей мимо горничной. – Только не говорите мне, что нам снова дают малиновое!
– Нет, это ванильное. Продолжай, Пэтти.
– Ладно, на чем я остановилась?
– Ты только что рассказала ей правду.
– Ах, да. Она сказала, что всегда хотела встретиться с девочками из колледжа в неформальной обстановке и узнать их такими, какие они есть на самом деле, и она очень рада представившейся возможности. И вот я сидела, похожая на калейдоскоп, и чувствовала себя дурой, а она ни капельки не сомневалась, что я в точности такая, какая есть. Лестно, не так ли? В этот момент объявили о начале ужина, и она пригласила меня остаться, по сути, настояла на том, чтобы я компенсировала визит, пропущенный во время моей болезни в лазарете. – Улыбаясь своим воспоминаниям, Пэтти оглядела сидевших за столом.
– Что ты ответила? Ты отказалась? – спросила Люсиль.
– Нет, я согласилась и по-прежнему сижу там и ем pâté de foie gras.[12]
– Нет, Пэтти, честно, что ты сказала?
– Видите ли, – отвечала Пэтти, – я сказала ей, что сегодня в колледже проводится вечеринка с мороженым и что я, якобы, ужасно не хочу ее пропускать; но завтра будет вечеринка с бараниной, которую я вовсе не прочь пропустить. Поэтому, если она позволит перенести приглашение на завтра, то я с удовольствием его приму.
– Пэтти, – с ужасом вскричала Люсиль, – ты этого не говорила!
– Это же легкий «местный колорит», Люсиль, – рассмеялась Присцилла.
– Но, – возразила Люсиль, – мы ведь обещали больше не играть в «местный колорит».
– Разве ты не усвоила, – заметила Присцилла, – что Пэтти скорее проживет без еды, чем без «местного колорита».
– Не переживайте, – добродушно сказала Пэтти, – сейчас вы можете мне не верить, но завтра вечером, когда я надену шикарный наряд и мы с Прекси будем обмениваться историями и поедать салат из омаров, а вы здесь будете есть баранину, тогда, быть может, вы пожалеете.
XIII. Гром запредельный
– Обожаю запах пудры, – сказала Пэтти.
– Какой именно: пороха или разрыхлителя?[13]
Поскольку в данный момент Пэтти зарылась носом в коробку с пудрой, она не сочла нужным ответить.
– Это напоминает мне юность, – продолжила она. – Лучшие моменты в моей жизни были связаны с пудрой и румянами: праздники в честь дня рождения Вашингтона, представления менестрелей, маскарады, пьесы, поставленные в средней школе, и даже живая картина в «Матушке Гусыне», где я была…
Воспоминания Пэтти были прерваны Джорджи, которая тревожно расхаживала вдоль кулис. – Странно, что не все актеры в сборе. Я велела им прийти пораньше, чтобы мы могли их загримировать и не спешить в последнюю минуту.
– О, у нас довольно времени, – проговорила Пэтти расслабленно. – Еще нет и семи, и если они собираются одеваться в своих комнатах, то здесь не займет много времени загримировать их и надеть парики. Видишь ли, актеров у нас сравнительно немного. Вот в вечер проведения Нарядной церемонии, когда нам пришлось гримировать три полноценных балета при наличии всего одной коробочки грима, нам пришлось побегать. Мне казалось, что я не дождусь момента, когда опустится занавес. Ты помнишь кольчугу, которую мы сделали для Бонни Коннот из проволочных тряпочек для мытья посуды? Для этой цели потребовалось шестьдесят три тряпочки, и в магазине полезных мелочей жутко сомневались, давать ли их нам в краткосрочную аренду; а потом, уделяя этой штуке в течение трех дней каждую свободную секунду, мы обнаружили в последний момент, что забыли оставить отверстие, достаточно большое, чтобы она могла пролезть вовнутрь, и…
– О, Пэтти, помолчи же, – нервно сказала Джорджи, – когда ты все время говоришь, я не помню, что я должна делать.
Можно простить некоторую несдержанность импресарио, чья репутация поставлена под удар накануне выхода новой пьесы. Пэтти только пожала плечами и через служебный вход спустилась в полуосвещенный зал, где обнаружила, что по центральному проходу с очевидной бесцельностью прогуливается Кэти Фэйр.
– Привет, Кэти, – позвала Пэтти, – что ты здесь делаешь?
– Я старший капельдинер и хотела проверить, не перепутали ли опять номера эти глупые второкурсницы.
– По-моему, стулья располагаются несколько тесно друг от друга, – сказала Пэтти, усаживаясь и протискивая колени.
– Да, я знаю, но по-другому восемьсот человек в этот зал не втиснешь. Как только они рассядутся, им придется сидеть смирно, вот и все. А сама-то ты что здесь делаешь? – продолжила она. – Я не знала, что ты член комитета. Или ты просто помогаешь Джорджи?
– Я играю в пьесе, – отвечала Пэтти.
– О, неужели? Я видела сегодняшнюю программку, но забыла, что в ней. Я часто удивляюсь, почему ты не участвуешь ни в одной студенческой пьесе.
– Этому противятся удача и преподаватели, – вздохнула Пэтти. – Понимаешь, мои актерские способности были раскрыты не ранее экзаменационной сессии на первом курсе, а после экзаменов, когда меня пригласили на роль в пьесе, преподаватели решили, что я потрачу время с большей пользой, изучая греческий. На втором курсе я была занята совсем другим и не могла играть на сцене, а в этом году меня попросту лишили привилегий за то, что я поздно вернулась с рождественских каникул.
– Но мне показалось, ты сказала, что ты участвуешь в пьесе?
– О, – промолвила Пэтти, – это маленькая роль, и мое имя не значится.
– Что это за роль?
– Я – гром.
– Гром?
– Да, «гром запредельный». Лорд Бромли говорит: «Синтия, ради тебя я брошу вызов всем. Я последую за тобой на край света». В это мгновение снаружи доносится гром. Я и есть тот самый гром, – гордо молвила Пэтти. – Я сижу за освещенным луной балконом, в пространстве размером около двух квадратных футов, и швыряю ламповое стекло в коробку. Может показаться, что это не слишком важная роль, однако это поворотный пункт, вокруг которого разворачивается весь сюжет.
– Надеюсь, ты не поддашься волнению перед сценой, – рассмеялась Кэти.
– Постараюсь, – сказала Пэтти. – Вот идут дворецкий, лорд Бромли и Синтия. Мне нужно идти и гримировать их.
– Почему ты гримируешь людей, если ты не член комитета?
– О, однажды, в период ослабления умственных способностей, я брала уроки по росписи фарфоровых изделий, поэтому предполагается, что я знаю, как это делать. Прощай.
– До свидания. Если ты получишь цветы, я пришлю тебе их с капельдинером.
– Обязательно, – сказала Пэтти. – Не сомневаюсь, что я получу кучу цветов.
За кулисами все пребывало в радостной суматохе. Джорджи, в короткой юбочке и в английской блузке с закатанными рукавами, сжимая в руке тетрадку, стояла посреди сцены и руководила рабочими и растерянными членами комитета. В артистической уборной Пэтти распоряжалась актерским составом. В одной руке она сжимала заячью лапку,[14] другая ее рука была вымазана красными и синими жировыми красками.
– Ох, Пэтти, – протестующее заметила Синтия, бросив испуганный взгляд в зеркало, – я выгляжу скорее как субретка, нежели как героиня.
– Именно так ты и должна выглядеть, – возразила Пэтти. – Ну же, сиди смирно, пока я слегка не подрумяню твой подбородок.
Синтия воззвала к верному лорду Бромли, сидевшему в тени, который вежливо предоставил дамам право первенства. – Бонни, взгляни, тебе не кажется, что я слишком румяная? Я уверена, что, как только ты меня поцелуешь, все это немедленно сотрется.
– Если это сотрется так легко, тебе повезет больше, чем большинству людей, которых я гримирую. – И Пэтти со знанием дела улыбнулась, вспомнив, как Присцилла полночи отмокала после предыдущей пьесы, а на следующее утро появилась к завтраку с нахмуренными бровями и лихорадочным румянцем на щеках. – Ты должна помнить, что огни рампы требуют много цвета, – объяснила она снисходительно. – Ты выглядела бы мертвенно-бледной, если бы я позволила тебе выйти так, как ты хотела вначале. Следующая!
– Нет, – заметила Пэтти появившемуся дворецкому, – тебе выходить только во втором акте. Сначала я приму Разгневанного Родителя. – Разгневанный Родитель был извлечен из своего угла, где он тревожно бормотал свою роль. – В чем дело? – спросила Пэтти, щедрой рукой нанося морщины, – тебе что, страшно?
– Н-нет, – сказал Родитель, – мне не страшно, просто я боюсь, что мне будет страшно.
– В таком случае, тебе лучше передумать, – сказала Пэтти безжалостно. – В этот вечер мы не допустим волнения перед выходом на сцену.
– Пэтти, ты можешь справиться с Джорджи Меррилс; заставь ее позволить мне выйти на сцену без всякого парика, – вскричала Синтия, поворачиваясь и выставляя напоказ шапку желтых кудрей такого оттенка, подобного которому в природе не существовало.
Пэтти критически осмотрела парик. – Возможно, он слегка золотист для этой роли.
– Золотист! – произнесла Синтия. – Он явно оранжевый. Погоди, увидишь, как он заиграет при свете огней. Он называет меня своей темноглазой красавицей, а я уверена, что ни у одной девушки с темными или какими-либо другими глазами не может быть таких волос. Мои собственные выглядят значительно лучше.
– Тогда отчего бы тебе не выйти со своими собственными волосами? Родитель, нахмурь свой лоб, я хочу увидеть, как располагаются твои настоящие морщинки.
– Джорджи заплатила два доллара за прокат парика, и она обязана возместить его стоимость, заставив меня носить его, даже если я буду выглядеть пугалом и это испортит пьесу.
– Чепуха, – сказала Пэтти, отодвинув Родителя и уделяя безраздельное внимание данному вопросу. – Твои собственные волосы и впрямь выглядят лучше. Просто затеряй парик и держись подальше от Джорджи, пока не поднимется занавес. Появляются зрители, – объявила она во всеуслышание, – и вам придется вести себя тихо. Вы так жутко суетитесь, что вас можно услышать во всем театре. Эй, ты зачем так шумишь? – поинтересовалась она у лорда Бромли, который подошел шаркающей походкой, эхом отдававшейся в колосниках.
– Я ничего не могу с этим поделать, – ответил он сердито. – Посмотри на эти ботинки. Они так велики, что я могу разуться, не развязав шнурки.
– При чем тут я. К костюмам я не имею никакого отношения.
– Я знаю, но что же мне делать?
– Не волнуйся, – успокоила его Пэтти, – они выглядят не настолько плохо. Попытайся идти, не отрывая ног от пола.
Она пошла на сцену, где Джорджи давала последние указания рабочим сцены. – Как только по окончании первого акта занавес опустится, замените этот лес декорацией гостиной комнаты и не шумите. Если же вам придется стучать молотком, делайте это во время исполнения оркестра. Как это смотрится? – спросила она тревожно, оборачиваясь к Пэтти.
– Чудесно, – сказала Пэтти. – Я бы едва узнала.
За последние четыре года «лесная декорация» всякий раз исполняла роль натурных сцен, и часть зрительного зала обычно встречала ее гулом недовольства.
– Я как раз шла проверить, готовы ли актеры, – сказала Джорджи.
– Они все загримированы и сидят в артистической уборной, охваченные страхом сцены. Чем мне заняться теперь?
– Одну минуточку, – произнесла Джорджи, сверяясь со своей тетрадью. – Один из членов комитета будет суфлировать, второй останется с рабочими и убедится, что они управятся с занавесом и софитами там, где нужно, еще один должен подавать реплики, а двое будут помогать переодевать костюмы. Синтии за четыре минуты потребуется сменить амазонку на бальное платье. Я думаю, что тебе тоже стоит ей помочь.
– Как тебе будет угодно, – любезно сказала Пэтти. – Я встану на табуретку и буду держать платье наготове, чтобы надеть его ей через голову, как только она появится, подобно тому, как надевают упряжь на раздраженную лошадь. Здесь все готово? Который час?
– Да, все готово, и сейчас без пяти восемь. Мы сможем начать, как только публика будет готова.
Сквозь складки тяжелых бархатных кулис они вглядывались в море лиц перед собой. Восемьсот девушек в светлых вечерних платьях болтали, смеялись и пели. Обрывки песен начинали звучать в одном конце зала, весело носились вокруг, и иногда две какие-нибудь песни сталкивались между собой в самом центре зала к ужасу тех, кто громкости звука предпочитал гармонию.
– Вот идут «старушки»! – объявила Пэтти, когда около пятидесяти человек прошествовали друг за дружкой к отведенным местам возле просцениума. – Пришло много прошлогодних выпускниц. А третьекурсницы что делают? Смотри, по-моему, они собираются спеть им серенаду.
Третьекурсницы встали как один и, обернувшись к ушедшему в мир иной братскому курсу, исполнили песню, примечательную скорее своим чувством, нежели размером.
– Я искренне надеюсь, что нас ждет успех, – вздохнула Джорджи. – Если это не будет соответствовать прошлогодней пьесе старшекурсниц, я умру.
– О, успех гарантирован, – заверила ее Пэтти. – Какой бы ни была наша пьеса, все лучше, чем в прошлом году.
– А теперь клуб хоровой музыки исполнит две песни, – сказала Джорджи. – Слава богу, что они новые! – прибавила она пылко. – Оркестр сыграет увертюру, затем поднимется занавес. Беги и вели им к первому акту стоять наготове.
Лорд Бромли, стоя во всеоружии, с отвращением рассматривал банкетный стол. – Погляди, Пэтти, – позвал он, когда она торопливо шла мимо. – Взгляни на дрянь, которую сбагрила нам Джорджи Меррилс в качестве вина. Уж не думаешь ли ты, что я стану пить дурман, подобный этому.
Пэтти на мгновение замерла. – А что с ним не так? – спросила она, наливая немного в стакан и поднося его к свету.
– Не так? Оно сделано из смородинового желе с водой и смеси холодного чая.
– Я сама его приготовила, – сказала Пэтти не без некоторой гордости. – Чудесный цвет.
– Но мне придется осушить бокал залпом, – возразил возмущенный лорд.
– Уверена, что ни смородиновое желе, ни чай не могут тебе повредить. Скажи спасибо, что здесь нет яда. – И Пэтти поспешила дальше.
Клуб хоровой музыки исполнил две новые песни, отмеченные благодарными аплодисментами исстрадавшейся публики, и оркестр заиграл увертюру.
– Всем очистить сцену, – негромко велела Джорджи, – а ты глаз не отрывай от книги, – сурово прибавила она, обращаясь к суфлеру. – Во время репетиции ты дважды потеряла нужную строчку.
Угасли последние звуки увертюры, прозвенел колокольчик, и занавес раздвинулся в стороны, обнаружив Синтию, сидящую на садовой скамье в замковом парке (первоначально бывшем Арденским лесом).
Когда в конце акта занавес упал и аплодисменты сменились взволнованным жужжанием публики, Пэтти радостно обняла Джорджи. – Это в пятьдесят раз лучше, чем в прошлом году!
– Черт, и Тео Грэнби здесь! – возразила Джорджи с трепетом. (Тео Грэнби была руководителем прошлогодней постановки пьесы старшекурсниц.)
В начале четвертого акта занавес поднялся, и Пэтти протиснулась в весьма тесное пространство за балконом. К счастью, или, скорее, к несчастью, в этом месте в глубине здания находилось окно; Пэтти открыла его, уселась с одной стороны подоконника, а с другой стороны поставила наготове ламповое стекло. «Гром» должен был последовать нескоро, и поскольку недавно Пэтти выбрала астрономию в качестве факультатива, то время ожидания она коротала за изучением звезд.
На сцене дело приближалось к кульминации. Лорд Бромли великолепно изображал возлюбленного: публика принимала его всерьез вместо того, чтобы, как обычно, смеяться во время любовных сцен.
– Синтия, – умолял он, – скажи, что ты будешь моей, и ради тебя я брошу вызов всем. Я последую за тобой на край света. – Он с любовью заглядывал ей в глаза и ждал грома. Но висела гробовая тишина. Он продолжал ласково смотреть, в то время как зрители вскоре стали ухмыляться.
– Чертова Пэтти! – пробормотал он яростно. – Можно было предугадать, что она учудит что-нибудь этакое. Что это было? Ты слышала шум? – спросил он громко.
– Нет, – честно созналась Синтия, – я ничего не слышала.
– Притворись, что слышала, – шепнул он и они продолжали импровизировать. Через пять минут безнадежного барахтанья суфлер вновь вернул им утерянную нить, и действие продолжилось, причем публика, к счастью, не заметила, что чего-то не достает.
Десять минут спустя лорд Бромли декламировал: – Синтия, давай сбежим отсюда. Эти темные комнаты не дают мне покоя, их тишина давит на меня… – И тут случился «гром».
Сначала зрители слишком испугались, чтобы заметить, что и актеры были захвачены врасплох. Потом лорд Бромли, начинавший уже привыкать к экстренным ситуациям, взял себя в руки и удивленно воскликнул: – Чу! Что это за звук?
– Полагаю, это гром, – сказала Синтия.
Схватив ее за руку, он побежал обратно к балкону. – Подскажи нам наши слова, – вымолвил он, проходя мимо суфлера.
Суфлер выронил книгу и теперь не мог найти нужного места.
– Придумайте их сами, – донесся пронзительный шепот из-за балкона.
Пока оба носились взад-вперед и возбужденно смеривали взглядом сцену, наступила тишина. Тогда отчаявшийся лорд Бромли с мольбою простер руки. – Синтия, – завопил он достоверно страстным тоном, – я не вынесу этой чудовищной неопределенности. Бежим. – И они сбежали, опередив события на целых три страницы и забыв оставить письмо, которое известило бы Разгневанного Родителя о сложившихся обстоятельствах.
Джорджи тяжелой поступью расхаживала вдоль кулис, заламывала руки и горько сетовала о том дне, когда Пэтти родилась на свет.
– Поторопи Родителя, пока они не перестали хлопать и не заметили разницы, – сказал лорд Бромли.
Бедного «старика» в съехавшем на ухо парике бесцеремонно вытолкнули на сцену, где он так правдоподобно бушевал и клялся не простить свою неблагодарную дочь, что публика забыла удивиться тому, как он об этом узнал. В свое время беглецы вернулись от нотариуса, преодолели суровость старика, получили родительское благословение, и занавес опустился на сцене семейного счастья, которое доставило большое удовольствие первокурсницам на галерке.
Пэтти ползком выбралась из-под балкона и упала на колени к ногам Джорджи.
Поднял ее лорд Бромли. – Не волнуйся, Пэтти. Публика не заметила разницы и, что ни говори, а все к лучшему. Мои усы больше и двух минут бы не продержались.
Они услышали, как кто-то в партере крикнул: – Что случилось с Джорджи Меррилс? – и сотня голосов подхватила: – Она в полном порядке!
– Кто в полном порядке?
– Джорд-жи Мер-рилс.
– Что случилось с актерами?
– Они в полном порядке!
Дверь служебного входа резко распахнулась, ворвалась толпа друзей с поздравлениями и окружила растрепанных актеров и членов комитета. – Это лучшая пьеса, поставленная старшекурсницами, за все то время, что мы учились в колледже. Первокурсницы просто голову от нее потеряли. Лорд Бромли, твоя комната целый месяц будет утопать в цветах. Пэтти, – позвала старший капельдинер поверх моря голов, – разреши тебя поздравить. Я находилась в самом конце зала и ничего не слышала, кроме твоего «грома». Это было то, что надо!
– Пэтти, – требовательно спросила Джорджи, – что, черт возьми, ты делала?
– Я считала звезды, – покаянно сказала Пэтти, – а потом я запоздало вспомнила, резко повернулась, и оно упало. Мне ужасно жаль.
– Да брось ты, – рассмеялась Джорджи, – раз уж все так чудесно закончилось, я тебя прощаю. Всем актерам и членам комитета, – проговорила она громче, – собраться в моей комнате на застолье. Извините, что я не могу пригласить вас всех, – прибавила она, обращаясь к столпившимся в дверях девушкам, – ведь я живу в «одиночке».
XIV. Тайна преследуемой второкурсницы
– Да послушайте же, Бонни… Бонни Коннот! Присцилла! Постойте, – кричала девушка, пересекая поле для игры в гольф, в то время как подруги не спеша брели домой, волоча за собой свои сумки с принадлежностями для гольфа. Обернувшись, они подождали, пока к ним домчится Милдред Коннот – кузина Бонни, студентка второго курса. Она возбужденно обняла их и одновременно бросила взгляд через плечо, словно преступник, за которым пущена погоня.
– Мне нужно вам кое-что сообщить, – произнесла она, едва переводя дыхание. – Идите сюда, где нас никто не увидит, – и она нырнула в сосновые заросли, росшие у тропинки.
Присцилла и Бонни неторопливо последовали за ней и опустились на мягкие иглы с таким видом, словно развлекались, проявляя терпимость.
– Ну, Милдред, в чем дело? – мягко спросила Бонни.
Второкурсница понизила голос до выразительного шепота, хотя на сто ярдов вокруг не было ни души. – За мной следят, – проговорила она торжественно.
– Следят! – удивленно воскликнула Бонни. – Малыш, ты не в себе? Ты ведешь себя, словно мальчишка, начитавшийся бульварных романов.
– Слушайте, девочки. Обещайте никому не говорить, потому что это большая тайна. Сегодня вечером мы собираемся посадить дерево группы, и я руковожу этим ритуалом. Все готово: сшиты костюмы и обговорен план действий, чтобы группа могла добраться до места незамеченной. Первокурсницам невдомек, что должно произойти вечером. Но они узнали, что я председатель комитета и, представьте себе, – глаза Милдред расширились от волнения, – уже неделю они пасут меня. Они назначили девчачью эстафету, чтобы наблюдать за мной, и я дернуться не могу без того, чтобы за мною не увязалась какая-нибудь первогодка. Когда я спустилась заказать мороженого, одна стояла прямо у моего локтя, и мне пришлось притвориться, будто я пришла за содовой. Я просто была вынуждена переложить всю работу на остальных членов комитета, так как опасалась, что первокурсницы могут выяснить время. Сначала было смешно, но теперь меня это начинает нервировать. Ужасно думать, что за тобой все время наблюдают. Такое ощущение, словно я совершила убийство и постоянно оглядываюсь через плечо, как… как Макбет.
– Это отвратительно, – передернула плечами Бонни. – Меня пробирает до костей при мысли о том, как мужественно смотрит в лицо опасности член моей семьи ради блага своей группы.
– Не надо смеяться, – сказала Милдред. – Дело серьезное. Если эти первокурсницы явятся на наш ритуал посадки дерева, мы никогда не узнаем, чем он закончится. Но они не придут, – добавила она со значительной улыбкой. – У них другое мероприятие. Мы выбрали нынешний вечер по той причине, что некая выпускница, занимающаяся раскопками руин в Риме, выступает с лекцией перед археологическим обществом. Первокурсницам было сказано пойти и послушать ее в связи с тем, что они изучают латынь. Вообразите себе, что они испытают, сидя взаперти в аудитории, пытаясь умничать насчет римского форума и слушая наши вопли снаружи!
Присцилла и Бонни с пониманием улыбнулись. В конце концов, они и сами не так давно были второкурсницами, поэтому припомнили собственный ритуал посадки дерева, когда первокурсницы не сидели взаперти.
– Но все дело в том, – продолжала Милдред, – что мне необходимо попасть туда больше, чем кому-либо другому, потому что я должна рыть яму, – вообще-то копать будет Питерс, я же выброшу первую лопату земли, – но я не смогу туда попасть из-за этой мерзкой девчонки-следопыта. Как только она увидит, что я веду себя подозрительно, она побежит и предупредит своих однокашниц.
– Ясно, – молвила Бонни, – а причем здесь мы с Присциллой?
– Ну, понимаете, – неуверенно сказала Милдред, – обе вы достаточно взрослые и вы – наша группа-побратим и должны помочь нам.
– Разумеется, – согласилась Бонни, – но как именно?
– Значит так, я думаю следующим образом. Если вы просто прогуляетесь после службы по берегу озера и вроде как незаметно замешкаетесь среди деревьев, чуть позже я пройду этой дорогой, а потом, когда за мной проследует сыщица, вы просто схватите ее и…
– Бросим в озеро? – спросила Бонни.
– Нет, конечно. Не применяйте силу. Просто вежливо задержите ее до тех пор, пока не услышите наш клич… возьмите ее с собой на прогулку. Она будет польщена.
Бонни засмеялась. План поразил ее своей курьезностью. – Я не вижу ничего аморального в том, чтобы задержать первогодку, которая идет туда, куда ей не положено. Что скажешь, Прис?
– Это не совсем экскурсия воскресной школы, – согласилась Присцилла, – но, на мой взгляд, мы имеем такое же право играть в детективов, как и они.
– Вне всякого сомнения, – сказала Бонни. – Смотрите внимательно, как Шерлок Холмс и его друг доктор Ватсон раскроют Тайну Преследуемой Второкурсницы.
– Вы спасли мне жизнь, – с чувством произнесла Милдред. – Не забудьте: сразу после службы, на берегу озера. – Она осторожно выглянула из-за веток. – Мне нужно достать ключи от гимнастического зала, чтобы, пока идет служба, туда можно было бы внести закуски. Вам не кажется, что тут кто-то притаился? Наверное, я смогу выбраться незамеченной. До встречи. – И она унеслась прочь, словно преследуемый зверь.
Бонни посмотрела ей вслед и рассмеялась. – «Молодость – пора чудесная, но немного беспокойная», – процитировала она и обе подруги отправились домой.
Там они наткнулись на Пэтти, которая переживала периодическую учебную лихорадку, погрузившись в словари и учебники грамматики. Она согласилась оторваться от своих занятий, чтобы так долго слушать рассказ о предполагаемом приключении, не иначе как против своей воли.
– Какие же вы дети! – воскликнула она. – Неужели вы еще не выросли? Вам не кажется, что со стороны студенток старшего курса – можно сказать, почти выпускниц – немного недостойно похищать первокурсниц?
– Мы не похищаем первокурсниц, – возразила Бонни, – мы учим их хорошим манерам. Мой долг оберегать мою маленькую кузину.
– Ты можешь пойти с нами и помочь в расследовании, – великодушно сказала Присцилла.
– Спасибо, – ответила Пэтти надменно. – У меня нет времени играть с вами, детьми. Сегодня вечером мы с Кэти Фэйр будем заниматься древнеанглийским.
В тот вечер, когда Пэтти, настроенная, кстати, взять на абордаж и одолеть чуть не целые страницы «Беовульфа», стояла у входа в капеллу и ожидала появления Кэти, вышла профессор латыни в сопровождении незнакомки.
– О, мисс Уайатт! – воскликнула она облегченно, направляясь к Пэтти. – Я хочу познакомить Вас с мисс Хендерсон, одной из наших выпускниц, которая вечером будет читать лекцию археологическому обществу. Она не бывала здесь несколько лет и хотела бы осмотреть новые строения. Вы найдете время поводить ее немного по кампусу до начала лекции?
Пэтти кивнула и пробормотала, что будет несказанно счастлива; уводя лектора прочь, она бросила отчаянный взгляд в сторону Кэти. Пока они неспешно прогуливались, Пэтти выдала все известные ей факты о различных зданиях, и мисс Хендерсон встретила их восклицаниями приятного удивления. Она слишком молода и преувеличенно экспансивна в расчете на степень доктора философии и археологии, решила Пэтти и в отчаянии стала думать, как ей от нее избавиться и вернуться к «Беовульфу» с Кэти.
Они обогнули вершину небольшого холма и мисс Хендерсон радостно воскликнула, – Здесь озеро, прямо, как раньше!
Пэтти подавила желание сделать замечание, что озера имеют обыкновение оставаться на своих местах, и вежливо спросила, не желает ли мисс Хендерсон покататься на лодке.
Мисс Хендерсон сочла предложение хорошим, однако она забыла свои часы и опасалась, что у них нет на это времени.
Пэтти безотчетно огляделась в поисках очередного предмета интереса и заметила, что к озеру медленно идет Милдред Коннот. Она напрочь забыла о приключении «Шерлока Холмса», но теперь ее внезапно осенило. Да будет сказано в ее оправдание, что какое-то мгновение она колебалась, но следующая ремарка лектора привела последнюю к собственной гибели. Она бормотала что-то насчет того, что ощущает себя посторонней, хочет узнать студентов в неформальной обстановке и повидать немного реальной студенческой жизни.
«Жаль будет не доставить ей удовольствие, если я легко могу это сделать», сказала себе Пэтти, а вслух добавила, – Я уверена, мисс Хендерсон, что у нас есть время для небольшой лодочной прогулки. Вы идите вперед, а я побегу назад и захвачу свои часы; это и минуты не займет.
– Я бы не стала на этом настаивать, – слишком много беспокойства, – протестующе сказала мисс Хендерсон.
– И вовсе никакого беспокойства, – любезно возразила Пэтти. – Я могу пойти наперерез и встретить Вас у маленького летнего домика, где швартуются лодки. К нему как раз приведет эта тропинка, Вы не можете это пропустить. Просто следуйте вон за той девушкой, – и она кинулась прочь.
Лектор неуверенно поглядела ей вслед и пустилась догонять девушку, которая бросила взгляд через плечо и ускорила шаг. Под деревьями становилось довольно сумрачно, и лектор пошла быстрее, стараясь не упустить девушку из виду. Но вдруг она завернула за угол и исчезла, и одновременно с этим неожиданно на тропинке, очевидно, спустившись с вершин деревьев, возникли две странные девушки.
– Добрый вечер, – сказали они любезно. – Вы гуляете?
Лектор отпрянула, вскрикнув от неожиданности, но, как только к ней вернулось самообладание, вежливо ответила, что просто прогуливается и осматривает кампус.
– А не хотите ли прогуляться с нами? – спросили они.
– Благодарю вас, вы очень любезны, но я договорилась с одной студенткой покататься на лодке.
Присцилла и Бонни обменялись довольными взглядами. Им явно попалась находчивая молодая особа.
– О нет, для лодочной прогулки слишком поздно. Вы можете подхватить малярию, – не согласилась с нею Присцилла. – Посидите с нами на заборе и полюбуйтесь звездами, – вечер великолепен.
Лектор встревоженно глянула на забор, верхняя кромка которого показалась ей необычайно узкой. – Вы очень любезны, – запнулась она, – но я правда не могу остаться. Девушка будет ждать.
– А кто эта девушка? – поинтересовались они.
– Не думаю, что я помню ее имя.
– Милдред Коннот? – предположила Бонни.
– Нет, кажется, не то, но я действительно не могу его назвать. Я только что с ней познакомилась.
Мисс Хендерсон становилась все более озадаченной. В ее время у студентов было не в моде подстерегать незнакомцев с предложениями пойти прогуляться и посидеть на заборе.
– Ах, ну останьтесь же с нами, – попросила Бонни, беря ее за руку. – Нам одиноко и мы хотим с кем-нибудь поговорить… Если Вы останетесь, мы поведаем Вам тайну.
– Извините, – смущенно пролепетала мисс Хендерсон, – но…
– Мы все равно раскроем Вам тайну, – великодушно сказала Бонни, – и, уверяю Вас, Вам это будет интересно. Сегодня вечером второкурсницы проводят ритуал посадки дерева!
– И знаете что, – встряла Присцилла, – первокурсницы тоже должны присутствовать, независимо от того, были ли они приглашены. А где, по-Вашему, первокурсницы в этот вечер? Они сидят на дурацкой несерьезной лекции по римскому форуму.
– И хотя мы не желаем казаться навязчивыми, – прибавила Бонни, – Вам действительно придется составить нам компанию до окончания лекции.
– До окончания лекции! Но ведь я лектор, – сдавленно вымолвила мисс Хендерсон.
Бонни восхищенно ухмыльнулась. – Рада с Вами познакомиться, – сказала она с поклоном. – Возможно, Вы нас не узнали. Я мистер Шерлок Холмс, а это мой друг доктор Ватсон.
«Доктор Ватсон» поклонился и выразил свое неожиданное удовольствие по поводу их встречи. Он много слышал о знаменитом лекторе, но не надеялся с ней познакомиться.
Мисс Хендерсон, не слишком знакомая с современной литературой, ни разу не выглядела столь потрясенной. Ей пришло в голову, что где-то по соседству находится приют для душевнобольных, и мысль эта не обнадеживала.
– Мы не наденем на Вас наручники, – сказала Бонни благородно, – если Вы не станете сопротивляться.
Лектор, несмотря на горячие протесты относительно того, что она лектор, опомнилась, уже сидя на заборе, а девушки, сжимая ее локти, расположились по бокам от нее. Постепенно на нее снизошло озарение и горькое понимание того, что она узнает настоящую студенческую жизнь в большей степени, чем ей хотелось.
– Который час? – спросила она тревожно.
– По моим часам десять минут девятого, но, по-моему, они слегка отстают, – сказала Бонни.
– Боюсь, Вы опоздаете на свою лекцию, – заметила Присцилла. – Наверное, жаль ее пропускать. А что если Вы расскажете ее нам.
– Да, пожалуйста, – умоляюще произнесла Бонни. – Я просто души не чаю в римском форуме.
Лектор хранила гордое молчание, нарушаемое лишь кваканьем лягушек да редкими замечаниями двух детективов. Она потеряла всякую надежду когда-нибудь увидеть археологическое общество и философски смирилась с перспективой провести всю ночь на заборе, как вдруг над кампусом разразилась победная песнь, перемежаемая аплодисментами и нечленораздельными криками.
При первых звуках Бонни и Присцилла соскочили с забора, увлекая за собой лектора, и, взяв ее за руки, побежали. – Пойдем, посмотрим представление, – смеялись они. – Твое присутствие приветствуется безоговорочно: это больше не тайна. – И, несмотря на безмолвные протесты о том, что ей бы хотелось идти спокойно, мисс Хендерсон осознала, что она сломя голову бежит через кампус туда, откуда доносятся звуки.
В окнах дортуара внезапно возникали головы, хлопали двери и со всех сторон бежали девочки, возбужденно восклицавшие: «Второкурсницы проводят ритуал посадки дерева! Где первокурсницы? Почему их там не было?»
Под сенью деревьев быстро образовалась толпа, которая с веселым интересом наблюдала за сценой. В воздухе покачивался широкий круг цветных фонариков, а внутри него шеренга фигур в белых одеяниях склонялась и выпрямлялась вокруг крошечного деревца под музыку торжественного напева.
– Как прекрасно, не правда ли? Ты не рада, что мы тебя привели? – спросила Бонни, когда они протиснулись в толпе.
Лектор не ответила, краем глаза заметив спешившую к ним профессора латыни.
– Мисс Хендерсон! Я боялась, что Вы заблудились. Уже почти половина девятого. Зрители ждут, и мы заполняем время докладами.
Лектор ответила не сразу, увлекшись веселым и внимательным разглядыванием лиц своих похитительниц, после чего она, как леди и как ученая, оказалась на высоте положения и произнесла образцовое извинение, ни разу не намекнув на свои недолгие посиделки на заборе.
Бонни и Присцилла безмолвно уставились друг на друга и в тот момент, когда мисс Хендерсон увели к остаткам ее аудитории, вдруг появилась Пэтти.
– Добрый вечер, мистер Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вы разгадали вашу тайну? – спросила она слащаво.
Присцилла повернула ее к свету и пристально посмотрела ей в лицо.
Пэтти улыбнулась в ответ с широко-открытыми, невинными глазами.
Присцилла знала это выражение и хорошенько встряхнула ее. – Ах ты, маленькая негодяйка! – воскликнула она.
Пэтти вывернулась из ее хватки. – Если помните, – пролепетала она, – однажды я сказала, что обсерватория Лика находится в Дублине, что в Ирландии. И, разумеется, это была очень смешная ошибка, однако мне известны и другие, более забавные.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Бонни.
– Я имею в виду, – отвечала Пэтти, – что я желаю, чтобы вы никогда больше не упоминали про обсерваторию Лика.
XV. Пэтти и епископ
Колокол призвал к воскресной утренней службе, Пэтти со вздохом отложила книгу, подошла к раскрытому окну и застыла. Внешний мир мерцал зеленым и желтым разноцветьем, деревья выставляли напоказ воздушную бахрому листвы на фоне неба, а легкий ветерок благоухал фиалками и свежей землей.
– Пэтти, – позвала Присцилла из своей спальни, – поторопись, если хочешь, чтобы я застегнула тебе платье. Мне нужно идти на репетицию хора.
Пэтти повернулась, издав очередной вздох, и медленно начала расстегивать крючки на своем воротничке. Потом она села на край кровати и безучастно уставилась в окно.
Послышалось энергичное хлопанье выдвижных ящиков стола в комнате Присциллы, и вскоре сама Присцилла появилась в дверях. Она с подозрением оглядела свою соседку. – Почему ты не одеваешься? – спросила она.
– Я сама застегну свое платье, тебе не нужно ждать, – сказала Пэтти, не отводя глаз от окна.
– Сегодня проповедь читает епископ Коупли, а он такой милый старичок, – ты не должна опаздывать.
Пэтти чуть приподняла подбородок и пожала плечами.
– Ты не пойдешь на службу?
Пэтти отвела взгляд от окна и умоляюще посмотрела на Присциллу. – Такой чудесный денек, – сказала она просительно, – и я с гораздо большим удовольствием провела бы время на воздухе. Не сомневаюсь, что для моего духовного благополучия это намного полезнее.
– Дело не в духовном благополучии, а в прогулах. Ты уже дважды использовала дополнительные пропуски. Какое оправдание ты намерена предоставить комитету самоуправления, когда он потребует у тебя объяснений?
– Довольно для каждого дня своей заботы,[15] – рассмеялась Пэтти. – Когда придет время, я придумаю очередную превосходную отговорку, которая очарует комитет.
– Тебе должно быть стыдно обходить правила таким образом.
– Что же веселого в жизни, если рабски исполнять всевозможные мелкие правила? – беззаботно спросила Пэтти.
– Я не понимаю, откуда у тебя больше, чем у всех остальных, есть право жить не по правилам.
Пэтти пожала плечами. – Я поступаю, как мне хочется, и все остальные могут делать то же самое.
– Все остальные не могут, – возразила Присцилла пылко, – ибо стоит им начать это делать, как в колледже больше не останется закона. Я и сама намного охотнее порезвилась бы на свежем воздухе, чем пошла на службу, но я израсходовала все свои пропуски и не могу этого сделать. Ты бы тоже не смогла, если бы у тебя осталась крупица должного понимания. Чтобы выбраться из этого, тебе остается только лгать.
– Милая Присцилла, – буркнула Пэтти, – в культурном обществе люди не выражаются столь открыто. Чтобы тебя уважали в высшем свете, следует практиковаться в искусстве увиливания от прямого ответа.
Присцилла нетерпеливо нахмурилась. – Ты идешь или нет? – спросила она.
– Не иду.
Присцилла закрыла дверь – не так мягко, как того требовалось – и Пэтти осталась одна. Несколько минут она задумчиво сидела с порозовевшими щечками, потом зазвонил церковный колокол, она встряхнулась и засмеялась. Если бы она даже хотела пойти, было уже слишком поздно и чувство ответственности улетучилось. Как только в коридоре стих благопристойный шелест воскресных шелковых одеяний, она схватила книгу и подушечку и, спустившись крадучись по боковой лестнице, весело припустила по газону, залитому солнцем, ощущая восхитительный трепет вины малолетнего прогульщика, сбежавшего с уроков.
Из открытых окон капеллы до нее доносились песнопения студенток: «Господи, помилуй нас и склони наши сердца к соблюдению этого закона». Она радостно засмеялась про себя: сегодня она не соблюдала законов. Если хотят, они могут стоять там в сумраке, со своими заповедями и литаниями. Она же поклонялась богу под голубым небом, под ликующие песни птиц.
В это утро она была единственной живой душой, вырвавшейся на свободу, в ее крови была весна, и у нее было такое ощущение, словно ей принадлежит весь мир. Кампус никогда еще не казался таким ослепительным. Она приостановилась на маленьком деревенском мостике, чтобы понаблюдать за взволнованным кружением ручья, и чуть не потеряла равновесие, пытаясь спустить на воду крошечную лодочку, смастеренную из кусочка древесной коры. Она кидала гальку в пруд, чтобы увидеть, как испуганные лягушки плюхаются в воду, и, запустив подушкой в белку, громко смеялась над ее рассерженной трескотней. Она взлетела по склону Пайн-Блафф и, тяжело дыша, опустилась на пахучие иглы в тени высокой сосны.
Внизу меж деревьев группами стояли увитые плющом здания колледжа; и в воскресном безмолвии, в котором солнечные блики играли на башнях, они напоминали спящую в долине средневековую деревню. Пэтти мечтательно смотрела вниз из-под полуприкрытых век и представляла себе, что сейчас появится оркестр трубадуров и дам верхом на молочно-белых мулах. Однако зрелище Питерса в парадном костюме, вальяжно направлявшегося к воротам, испортило видение, и она с улыбкой вернулась к своей книге. Вскоре, тем не менее, она закрыла ее. Не время читать. Можно читать зимой или когда идет дождь и даже в библиотеке колледжа, когда все шелестят страницами; но здесь, на свежем воздухе, когда вокруг кипит настоящая жизнь, это означало потерять благоприятную возможность.
Ее блуждающий взгляд вновь устремился на кампус, и внезапно она отрезвела, охваченная мыслью, что через несколько недель он перестанет быть ее кампусом. Эта счастливая, безответственная общественная жизнь, ставшая единственно естественным образом жизни, неожиданно подходила к концу. Она вспомнила свой первый день в качестве первокурсницы, когда всё, кроме нее самой, казалось таким большим, и она безнадежно думала: «Четыре года всего этого!» Это казалось вечностью, а теперь, когда все было позади, это кажется одной минутой. Ей захотелось схватить настоящее и крепко держать его. Взрослеть было страшно.
И были еще девочки. Ей придется попрощаться, чтобы уже не встретиться в первый учебный день осенью, а между тем Присцилла живет в Калифорнии, Джорджи – в Южной Дакоте, Бонни – в Кентукки, а она – в Новой Англии, и они – единственные люди на свете, с которыми ей особенно хочется разговаривать. Ей придется сблизиться с мамиными подругами – хронически взрослыми особами, которые говорят о мужьях, детях и прислуге. И там будут мужчины. Она так и не успела познакомиться с мужчинами, но однажды ей, возможно, придется за одного из них выйти замуж, и тогда всему придет конец. И не успеет она опомниться, как превратится в пожилую даму, которая станет рассказывать внукам истории о том, как она была когда-то девочкой.
Пэтти скорбно взирала на кампус сверху вниз, того и гляди, готовая заплакать о своей потерянной молодости, как вдруг на посыпанной гравием тропинке послышался звук шагов; она испуганно подняла голову и увидела, что холм огибает человек духовного сана. Невольно она приготовилась бежать, однако епископ высмотрел ее вместе с маленьким, грубо отесанным сиденьем под деревом, улыбнулся ей и со вздохом удовлетворения опустился на него.
– Чудесный вид, – промолвил он, едва переводя дыхание, – но холм больно крут.
– Да, холм крутой, – согласилась вежливо Пэтти и, поскольку шанса сбежать, по-видимому, не было, она вернулась на свое место и прибавила со смехом, – я только что убежала от Вас, епископ Коупли, и вот Вы появляетесь, преследуя меня, словно обвиняющая совесть.
Епископ тихо засмеялся. – Я и сам убежал, – ответил он, – я знал, что после службы меня должны представить около сотне девушек, поэтому я просто выскользнул через заднюю дверь, чтобы спокойно прогуляться.
Пэтти оглядела его оценивающе, испытывая новое чувство дружеского участия.
– Я бы тоже хотел сбежать из церкви, – сознался он с блеском в глазах. – В такой день, как этот, свежий воздух – самая лучшая церковь.
– И я так думаю, – сказала Пэтти от всего сердца, – но я и понятия не имела, что епископы так чувствительны.
Они продолжали дружески болтать на разные темы и обмениваться дилетантскими мнениями по поводу колледжа и духовенства.
– Знаете, что забавно, – заметила Пэтти раздумчиво, – несмотря на то, что в каждое воскресенье к нам приходят разные проповедники, проповедь у нас всегда одна и та же.
– Одна и та же проповедь? – спросил епископ, весьма ошеломленный.
– Практически одинаковая, – сказала Пэтти. – Я слушала ее четыре года и думаю, что я и сама могла бы в некотором роде проповедовать. Знаете, похоже, все они считают, что раз уж мы поступаем в колледж, мы должны быть интеллектуальными гигантами, и они убеждают нас помнить о том, что разум и наука – это не единственные важные вещи в мире, что чувства, в конечном счете, есть главная движущая сила; и, уж не знаю зачем, они цитируют маленькое стихотворение о прекрасном цветке. А Ваша была не об этом? – спросила она тревожно.
– На сей раз – нет, – вымолвил епископ. – Я читал старую проповедь.
– Это лучше всего, – сказала Пэтти. – Мы люди, раз уж мы действительно идем в колледж. Я помню, как однажды к нам прибыл человек из Йеля или Гарварда, или еще откуда и прочел нам старую проповедь: он убеждал нас быть более мужественными. Это было очень необычно.
Епископ улыбнулся. – Вы часто сбегаете из церкви? – мягко поинтересовался он.
– Нет, живя вместе с Присциллой, у меня нет на это ни одного шанса. Но обязательная служба вызывает желание сбежать, – добавила она. – Я выступаю не против службы, а против обязательности.
– Но у вас существует система… э-э… прогулов, – предположил он.
– Три прогула в месяц, – грустно проговорила Пэтти. – Вечерняя служба приравнивается к одному прогулу, а воскресная утренняя проповедь – сразу к двум.
– Так Вы израсходовали два прогула, чтобы сбежать от меня? – спросил он с улыбкой.
– О, не от Вас, – торопливо возразила Пэтти. – От… обязательности. И кроме всего прочего, – прибавила она откровенно, – я использовала свои законные прогулы много дней назад, а когда я начинаю пропускать сверх нормы, то я становлюсь беспечной.
– А можно спросить, что происходит, когда Вы пропускаете сверх нормы? – поинтересовался епископ.
– Ну, – сказала Пэтти, – понимаете, существуют прокторы,[16] которые отмечают отсутствующего; потом, если они узнают, что человек пропустил больше положенного, его вызывает комитет самоуправления и интересуется причиной. Если он не в состоянии предоставить толкового объяснения, его на месяц лишают привилегий, и он не может заседать в комитетах, играть в пьесах или брать отгулы, чтобы отлучиться из города.
– Понимаю, – сказал епископ, – и Вам придется понести все эти наказания?
– О нет, – спокойно сказала Пэтти, – я предоставлю хорошее объяснение.
– И что Вы скажете? – спросил он.
– Я точно не знаю, – придется положиться на вдохновение момента.
Епископ недоуменно разглядывал ее. – Вы хотите сказать, – спросил он, – что, нарушив правило, Вы намереваетесь избегнуть наказания с помощью… грубо говоря… обмана?
– О нет, епископ, – произнесла Пэтти шокировано. – Разумеется, я скажу правду, только, – она с неотразимой улыбкой посмотрела в лицо епископу, – комитет, наверное, ее не поймет.
На мгновение лицо епископа разгладилось, но затем он вновь посерьезнел. – С помощью уловки? – спросил он.
– Д-да, – призналась Пэтти, – полагаю, Вы могли бы назвать это уловкой. Смею заметить, я очень плохая, – добавила она, – но в таком месте, как это, приходится иметь репутацию замечательной личности, иначе тебя будут игнорировать. Я не могу соперничать в добродетели, или в атлетике, или еще в чем-то подобном, поэтому мне ничего другого не остается, как опережать в безнравственности – для этого у меня есть исключительные способности.
Уголки губ епископа конвульсивно дрогнули. – Вы не похожи на человека с уголовным прошлым.
– Я еще молода, – ответила Пэтти, – и у меня не было удобного случая проявить себя.
– Милая девочка, – промолвил епископ, – я уже прочел сегодня одну проповедь, которую Вы не пришли послушать, и не могу гарантировать, что прочту еще одну ради Вашей пользы. – У Пэтти явно свалился камень с души. – Однако я хотел бы задать Вам один вопрос. Пройдут годы, колледж останется позади, и кого-то из Ваших однокашниц спросят: «Вы знавали…» Вы не сказали мне своего имени.
– Пэтти Уайатт.
– «Вы знавали Пэтти Уайатт, какой она была?», так вот, будет ли ответ таким, каким бы Вам хотелось его услышать?
Пэтти подумала. – Д-да, мне кажется, в целом, они будут на моей стороне.
– Нынче утром, – безмятежно продолжал епископ, – я совершенно нечаянно спросил одного профессора о некоей молодой женщине – Вашей однокашнице – дочери моего старинного друга. Ответ последовал незамедлительно, без колебаний и Вы можете представить себе, как он меня обрадовал. «Во всем колледже нет девушки чудеснее ее, – сказал он, – она честна в работе и честна в игре, и во всем, что она делает, она абсолютно добросовестна».
– М-мм, – сказала Пэтти, – должно быть, это Присцилла.
– Нет, – улыбнулся епископ, – это не Присцилла. Молодая женщина, о которой я говорю, – председатель вашей студенческой ассоциации, Кэтрин Фэйр.
– Да, верно, – проговорила Пэтти серьезно. – Кэти Фэйр рубит прямо с плеча.
– А Вы разве не хотели бы выйти из стен колледжа с такой репутацией?
– Да не такая уж я плохая, – взмолилась Пэтти, – то есть, если говорить об испорченности как таковой. Но я не могла быть такой же хорошей, как Кэти: это значило бы пойти против природы.
– Боюсь, – предположил епископ, – что Вы не слишком стараетесь. Сейчас, когда Вы молоды, Вам, возможно, не кажется, что то, что думают люди, важно; но что будет, когда Вы станете старше? А до этого не так уж много времени, – добавил он. – Не успеете опомниться, как придет старость.
Пэтти приняла серьезный вид.
– Вскоре Вам исполнится тридцать, затем сорок, а потом пятьдесят.
Пэтти вздохнула.
– Полагаете, что в таком возрасте женщина привлекательна, если она пускается на уловки и ухищрения?
Испытывая некоторую неловкость, Пэтти рыла носком ботинка небольшую ямку в сосновых иголках.
– Следует помнить, моя дорогая, что нельзя вылепить характер в одно мгновение. Характер – растение медленнорастущее, и семена требуют заблаговременной посадки.
Епископ поднялся и Пэтти облегченно вскочила на ноги. Он прихватил подушку и книгу, и они стали спускаться с холма. – Все-таки я прочел Вам проповедь, – произнес он сконфуженно, – но проповедовать – моя профессия, и Вы должны простить старика за банальность.
Остановившись перед дверью Филлипс-холла, Пэтти с улыбкой протянула руку. – До свидания, епископ, – сказала она, – и спасибо за проповедь, думаю, я нуждалась в ней – я действительно становлюсь старше.
Она медленно поднялась по лестнице и, помешкав немного возле своей комнаты, в которой звук смеющихся голосов, доносившихся сквозь окно с фрамугой, означал, что клан в сборе, проследовала к двери одноместной комнаты в конце коридора.
– Войдите, – позвал голос в ответ на ее стук.
Пэтти повернула ручку и просунула голову в дверь. – Привет, Кэти! Ты не занята?
– Конечно, нет. Заходи и поговори со мной.
Пэтти закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. – Это не дружеский визит, – объявила она торжественно. – Я пришла к тебе официально.
– Официально?
– По-моему, ты председатель студенческой ассоциации?
– По-моему, да, – вздохнула Кэти, – и если у президента Соединенных Штатов хоть вполовину меньше хлопот с его подданными, чем у меня с моими, то я выражаю ему мое искреннее сочувствие.
– Наверное, мы доставляем тебе массу хлопот, – сокрушенно произнесла Пэтти.
– Хлопот! Дорогая моя, – сказала Кэти серьезно. – Всю неделю я провела, бегая от коттеджа к коттеджу и держа речи перед этими чертовыми первокурсницами. Они не станут подавать объяснительных записок по поводу прогулов церковной службы и будут сбегать с библиотечными книжками и, вообще, они аморальны.
– Они могут себе это позволить, ведь они молоды, – вздохнула Пэтти с завистью. – Я же старею, – прибавила она, – и пришло время измениться к лучшему. Я заскочила к тебе, чтобы сказать, что у меня набралось четыре прогула сверх нормы, в отношении которых у меня нет ни единого объяснения.
– О чем ты говоришь? – потрясенно спросила Кэти.
– Об объяснительных записках насчет прогулов церковных служб. Я пропустила дополнительно четыре службы, – кажется, четыре, хотя я, пожалуй, сбилась со счета, – и у меня совершенно нет объяснений.
– Но, Пэтти, не говори так. У тебя должно быть какое-нибудь объяснение, какая-нибудь отговорка для…
– Ни малейшего намека. Просто я не пошла, потому что мне не хотелось идти.
– Но ты должна предоставить мне какую-нибудь причину, – огорченно возразила Кэти, – иначе мне придется сообщить комитету и тебя лишат привилегий. Ты не можешь себе этого позволить, понимаешь, ты же распорядительница выпускного бала.
– Но у меня не было повода и я не могу его сейчас придумать, – сказала Пэтти. – Скоро мне исполнится тридцать, затем сорок, а потом пятьдесят. Полагаешь, что в таком возрасте женщина привлекательна, если она пускается на уловки и ухищрения? Характер, – прибавила она торжественно, – это медленнорастущее растение, и семена требуют заблаговременной посадки.
Кэти выглядела озадаченной. – Я не знаю, о чем ты говоришь, – произнесла она, – но, думаю, что ты знаешь. Как бы то ни было, – добавила она, – я сожалею насчет должности распорядителя, но я… ну, я вроде как тоже рада. – Она положила руку на плечо Пэтти. – Конечно, ты всегда нравилась мне, Пэтти, – и всем нравишься, – но мне кажется, я никогда не оценивала тебя по достоинству, и я рада, что поняла это раньше, чем мы закончили колледж.
Пэтти слегка вспыхнула и отступила в некоторой застенчивости. – Лучше отложи свои поздравления до завтра, – засмеялась она, – а то я еще придумаю ночью какое-нибудь хорошее объяснение. До встречи.
В кабинете ее встретили приветственным кличем.
– Что ж, Пэтти, – сказала Присцилла, – я слыхала, что ты прогуливаешься с епископом. Ты сказала ему о том, что прогуляла службу?
– Да, и он сказал, что тоже хотел бы ее прогулять.
– Она неисправима, – вздохнула Джорджи, – она развращает даже епископа.
– Будь осторожна, Пэтти Уайатт, – предупредила Бонни Коннот. – Если не будешь бдительной, комитет самоуправления тебя достанет и, когда тебя исключат из распорядителей выпускного бала, тогда ты пожалеешь.
Пэтти на миг посерьезнела, но поспешила напустить на себя беспечный вид. – Меня уже достали, – рассмеялась она, – и уже исключили или, во всяком случае, исключат, как только соберутся на заседание.
– Пэтти! – воскликнул испуганный хор голосов. – Что ты имеешь в виду?
Пэтти передернула плечами. – Только то, что я сказала: я лишена привилегий за то, что прогуливала службы.
– Какой позор! – возмущенно промолвила Джорджи. – Этот комитет самоуправления заходит слишком далеко, лишая старшекурсницу привилегий и даже не разобрав ее дела. – Схватив Пэтти за руку, она ринулась к двери. – Пойдем, расскажем об этом Кэти Фэйр. Она разберется со всем этим.
Пэтти попятилась и выдернула свою руку из хватки Джорджи. – Отпусти меня, – проговорила она сердито. – Тут нечего разбираться. Я сама ей сказала, что у меня нет объяснений.
– Ты ей сказала? – Джорджи с недоверием уставилась на нее, а Бонни Коннот засмеялась.
– Пэтти напоминает мне домушника, который вылез через заднее окно с серебром, а потом позвонил у входной двери и вернул его обратно.
– В чем дело, Пэтти? – заботливо спросила Присцилла. – Тебе нездоровится?
– Я старею, – вымолвила Пэтти со вздохом.
– Что?
– Старею. Скоро мне стукнет тридцать, затем сорок, потом пятьдесят. Думаете, меня кто-нибудь станет любить, если я буду пускаться на уловки и ухищрения? Характер, милые барышни, это медленнорастущее растение, и семена его требуют заблаговременной посадки.
– Ты пошла и доложила комитету добровольно, по собственному желанию, даже не ожидая, когда тебя вызовут? – настаивала Джорджи, твердо решившись добраться до сути дела.
– Я старею, – повторила Пэтти. – Пришло время измениться к лучшему. Как я уже говорила, характер – растение…
Джорджи посмотрела на остальных и в недоумении покачала головой, а Бонни Коннот рассмеялась и пробормотала, не обращаясь ни к кому в отдельности:
– Когда Пэтти попадет в рай, боюсь, у ангела-хранителя будут некоторые проблемы с подведением итогов.
Примечания
1
Это верно (фр.)
(обратно)2
Вот так, друзья мои! (фр.)
(обратно)3
Особые кварталы для проживания иностранцев, городской бедноты
(обратно)4
Аттракцион «Катание с горки» (плоскодонная лодка съезжала со скользкой деревянной горки в воду, с высоты 500 футов) был придуман в 1884 г. Джей. Пи. Ньюбергом, в Рок-Айленде, штат Иллинойс
(обратно)5
Горы Гарц – самые северные горы средней высоты в Германии
(обратно)6
«Элси Динсмор» – цикл детских книг, написанных с 1867 по 1905 г.г. Мартой Финли (1828–1909)
(обратно)7
Яично-алкогольный напиток: вино, коньяк или ром со взбитыми желтками, сахаром и сливками. Подается холодным или горячим. Традиционный рождественский напиток американцев немецкого происхождения
(обратно)8
Древний англосаксонский народно-героический эпос 7–8 в.в.
(обратно)9
По всей вероятности, Пэтти процитировала стишок из сборника «Английских детских стишков, собранных преимущественно по устным преданиям», изданного в 1846 г. Джеймсом Орчардом Холлиуэллом, эсквайром. В предисловии к этому стишку он сообщает, что обнаружил его в брошюре, озаглавленной «Пиггес Коранто или Новости с Севера» и датированной лондонским изданием 1642 года. Стишок назывался «Песня Старого Тарлтона» и, возможно, являлся пародией на популярную эпиграмму «Джек и Джилл».
(обратно)10
Принцип «колорит места и времени», или «местный колорит» («couleur locale»), был теоретически обоснован Виктором Гюго в 1827 г. Это понятие означает создание в тексте произведения словесного художественного творчества особенностей пейзажа и национального быта, которые присущи той или иной определенной местности, области или даже отдельному поселению и которые усиливают правдивость деталей, подчеркивают своеобразие речи персонажей. М.к. применяется в ораторской речи, главная задача которой – оказать возможно более сильное воздействие на психику слушателей. В соединении с гиперболой м.к. приобретает фантастический характер. Для м.к. характерно употребление экзотизмов, поддерживающих вкус к экзотике места и вкус к экзотике времени.
(обратно)11
Астрономическая обсерватория на горе Маунт-Гамильтон в Калифорнии.
(обратно)12
Паштет из гусиной печени (фр.)
(обратно)13
Вопрос звучит иронически благодаря игре слов в английском языке:
(обратно)14
Инструмент для накладывания сухих румян или снимания излишков пудры после запудривания грима
(обратно)15
Идиоматическое выражение, означающее «всему свое время»
(обратно)16
Проктор (надзиратель) – должностное лицо, следящее за проведением письменного экзамена студентов (учащихся); в обязанности проктора иногда входит также следить и за порядком в общежитии
(обратно)

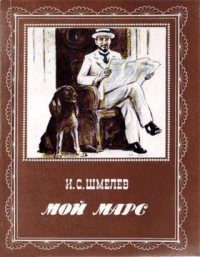
Комментарии к книге «Пэтти в колледже», Джин Вебстер
Всего 0 комментариев