Оноре де Бальзак Дело об опеке
Контр-адмиралу Базошу, губернатору острова Бурбон, посвящает благодарный автор
де БальзакОднажды в 1828 году, в первом часу ночи, два молодых человека вышли из особняка, расположенного на улице Фобур-Сент-Оноре, неподалеку от Елисейского дворца Бурбонов; это были известный врач Орас Бьяншон и один из самых блестящих парижан, барон де Растиньяк, — друзья с давних лет. Оба отправили домой свои экипажи, нанять же фиакр им не удалось, но ночь была прекрасна и мостовая суха.
— Пройдемся пешком до бульвара, — предложил Бьяншону Эжен де Растиньяк, — ты возьмешь извозчика у клуба, они стоят там всю ночь до утра. Проводи меня домой.
— С удовольствием.
— Ну, что скажешь, дорогой?
— Об этой женщине? — холодно спросил доктор.
— Узнаю Бьяншона! — воскликнул Растиньяк.
— А что такое?
— Но, мой милый, ты говоришь о маркизе д'Эспар, как о больной, которую собираешься положить к себе в лечебницу.
— Хочешь знать мое мнение? Если ты бросишь баронессу де Нусинген ради этой маркизы, ты променяешь кукушку на ястреба.
— Госпоже де Нусинген тридцать шесть лет, Бьяншон.
— А этой тридцать три, — живо возразил доктор.
— Даже злейшие ее ненавистницы не дают ей больше двадцати шести.
— Дорогой мой, если хочешь знать, сколько лет женщине, взгляни на ее виски и на кончик носа. К каким бы косметическим средствам ни прибегала женщина, она ничего не может сделать с этими неумолимыми свидетелями ее тревог. Каждый прожитый год оставляет свой след. Когда у женщины кожа на висках стала слегка рыхлой, немного увяла, покрылась сетью морщинок, когда на кончике носа появились точечки, вроде тех едва заметных черных пылинок, которые, вылетая из труб, грязным дождиком сеются на Лондон, где камины топят каменным углем, — слуга покорный! — женщине перевалило за тридцать. Пусть она прекрасна, остроумна, обаятельна, пусть она отвечает всем твоим требованиям, но ей минуло тридцать лет, для нее уже настала пора зрелости. Я не порицаю тех, кто сближается с такими женщинами, однако столь изысканный человек, как ты, не может принимать лежалый ранет за румяное яблочко, которое радует взор на ветке и само просится на зубок. Впрочем, любовь не заглядывает в метрические записи. Никто не любит женщину за юность или зрелость, за красоту или уродство, за глупость или ум; любят не за что-нибудь, а просто потому, что любят.
— Ну, меня увлекает в ней другое. Она маркиза д'Эспар, урожденная Бламон-Шоври, она блистает в свете, у нее возвышенная душа, у нее прелестная ножка, не хуже, чем у герцогини Беррийской; у нее, вероятно, сто тысяч ливров дохода, и я, вероятно, в один прекрасный день женюсь на ней! И тогда конец всем долгам.
— Я думал, ты богат, — заметил медик.
— Помилуй! Все мои доходы — двадцать тысяч ливров, только-только хватает на собственный выезд. Я запутался с Нусингеном, как-нибудь я тебе расскажу эту историю. Я выдал замуж сестер — вот единственная моя удача после разлуки с тобой. Признаюсь, для меня важнее было устроить их, чем стать обладателем доходов в сто тысяч экю. Что же, по-твоему, мне делать? Я честолюбив. Что мне может дать госпожа де Нусинген? Еще год, и меня сбросят со счетов, я буду конченный человек, все равно как если бы был женат. Я несу все тяготы и брачной и холостой жизни, не зная преимуществ ни той, ни другой, — ложное положение, неизбежное для всякого, кто долго привязан к одной и той же юбке.
— Так ты думаешь, что поймал ерша? — воскликнул Бьяншон. — Знаешь, мой дорогой, твоя маркиза мне совсем не по вкусу.
— Тебя ослепляет либерализм. Если бы это была не госпожа д'Эспар, а какая-нибудь госпожа Рабурден…
— Послушай, мой милый, аристократка она или буржуазка, все равно она всегда останется бездушной кокеткой, законченным типом эгоистки. Поверь мне, врачи привыкли разбираться в людях и в их поступках, наиболее искусные из нас, изучая тело, изучают душу. Будуар, где нас принимала маркиза, — прелестный, особняк — роскошный; и все же, думается, она запуталась в долгах.
— Почему ты это решил?
— Я не утверждаю, а предполагаю. Она говорила о своей душе, как покойный Людовик Восемнадцатый говорил о своем сердце. Поверь мне! Эта хрупкая, бледная женщина с каштановыми волосами жалуется на недуги, чтоб ее пожалели, а на самом деле у нее железное здоровье, волчий аппетит, звериная сила и хитрость. Никогда еще газ, шелк и муслин не прикрывали ложь столь искусно. Ессо![1]
— Ты пугаешь меня, Бьяншон! Видно, многого довелось тебе насмотреться после нашего пребывания в пансионе Воке!
— Да, дорогой, я перевидел за это время немало марионеток, кукол и паяцев! Я узнал нравы светских дам; они поручают нашему попечению свое тело и самое дорогое, что у них может быть, — своего ребенка, если только они его любят, поручают нам уход за своим лицом, ибо уж о нем-то они всегда нежно заботятся. Мы проводим ночи напролет у их изголовья, из кожи вон лезем, чтобы не допустить малейшего ущерба для их красоты. Мы преуспеваем в этом, не выдаем их тайн, молчим, как могила, — они присылают к нам за счетом и находят его чрезмерным! Кто их спас? Природа! Они не только не восхваляют, они порочат нас, боятся порекомендовать нас своим приятельницам. Друг мой, вы говорите о них: «Ангелы!» — а я наблюдал этих ангелов во всей наготе, без улыбочек, скрывающих их душу, и без тряпок, скрывающих недостатки их тела, без манерничания и без корсета, — они не блещут красотой. Когда в юности житейское море выкинуло нас на скалу «Дом Воке», немало подымалось вокруг нас со дна и мути и грязи, а все же то, что мы там увидели, — ничто. В высшем свете я встретил чудовищ в шелках, Мишоно в белых перчатках, Пуаре, украшенных орденскими лентами, вельмож, дающих деньги в рост не хуже самого Гобсека! К стыду человечества, должен признаться, что, когда я захотел пожать руку Добродетели, я нашел ее на чердаке, где она терпела голод и холод, перебиваясь на грошовые сбережения или на скудный заработок, дающий от силы полторы тысячи в год; на чердаке, где ее преследовала клевета, где ее всячески поносили, называя безумием, чудачеством или глупостью. Словом, мой дорогой, маркиза — светская львица, а я не терплю женщин этого сорта. Сказать тебе почему? Женщина возвышенной души, с неиспорченным вкусом, с мягким характером, отзывчивым сердцем и привычкой к простоте никогда не станет модной львицей. Суди сам! Модная львица и мужчина, пришедший к власти, похожи друг на друга — с той разницей, что свойства, благодаря которым возвеличивается мужчина, облагораживают его и служат к его славе, а качества, которые обеспечивают женщине ее призрачное владычество, — отвратительные пороки, она насилует свою природу, скрывая свой истинный характер, а беспокойная светская жизнь требует от нее железного здоровья при хрупком облике. Как врач я знаю, что хороший желудок и хорошая душа тут несовместимы. Твоя красавица бесчувственна, ее неистовая погоня за удовольствиями — это желание согреть свою холодную натуру, она жаждет возбуждающих впечатлений, подобно старику, который таскается за ними в балет. Рассудок властвует у нее над сердцем, и потому она приносит в жертву успеху истинную страсть и друзей, как генерал посылает в огонь самых преданных офицеров, желая выиграть сражение. Женщина, вознесенная модой, перестает быть женщиной; это ни мать, ни жена, ни любовница; говоря медицинским языком, пол у нее головного характера. У твоей маркизы налицо все признаки извращенности: нос — точно клюв хищной птицы, ясный холодный взор, вкрадчивая речь. Она блестяща, как сталь машины, она задевает в тебе все чувства, но только не сердце.
— В твоих словах есть доля правды, Бьяншон.
— Доля правды? — возмутился Бьяншон. — Все правда! Ты думаешь, не поразила меня в самое сердце эта оскорбительная вежливость, с какой она подчеркивала незримое расстояние между собой — аристократкой — и мною — плебеем? Ты думаешь, не вызвала во мне глубокого презрения ее кошачья ласковость? Ведь я же знал, что сейчас я нужен ей! Через год-другой она палец о палец не ударит для меня, а нынче вечером она расточала мне улыбки, полагая, что я могу повлиять на своего дядю Попино, от которого зависит успех затеянного ею процесса.
— Дорогой мой, а ты предпочел бы, чтобы она наговорила тебе дерзостей? Я согласен с твоей филиппикой против светских львиц, но не об этом речь. Я все же предпочту жениться на маркизе д'Эспар, чем на самой целомудренной, самой серьезной, самой любящей женщине на земле. Жена-ангел! Да тогда надо похоронить себя в глуши и наслаждаться сельскими радостями. Для политика жена — это ключ к власти, машина, умеющая любезно улыбаться, она — самое необходимое, самое надежное орудие для честолюбца; словом — это друг, который может совершить необдуманный поступок, ничем не рискуя, и от которого можно отречься, ничем не поступясь. Вообрази себе Магомета в Париже девятнадцатого века! Жена у него была бы, ни дать ни взять, Роган, хитрая и льстивая, как жена посланника, ловкая, как Фигаро. Любящая жена бесполезна для карьеры мужа, а с женою, светской женщиной, добьешься всего; она алмаз, которым мужчина вырезает все стекла, когда у него нет золотого ключа, открывающего все двери. Мещанам — добродетели мещан, а честолюбцам — пороки честолюбцев. Да разве, мой друг, сама любовь герцогини де Ланже, или де Мофриньез, или леди Дэдлей не огромное наслаждение? Если бы ты знал, какую прелесть придает холодная и строгая сдержанность этих женщин малейшему проявлению их чувства! Какая радость любоваться барвинком, пробивающимся из-под снега! Улыбка, полуприкрытая веером, опровергает холодность, предписываемую приличием, и разве с ней могут сравниться необузданные ласки твоих мещанок с их сомнительным самопожертвованием, — ибо в любви самопожертвование почти тот же расчет! А кроме того, у светской женщины, у Бламон-Шоври, свои достоинства! Ее достоинства — состояние, власть, блеск, известное презрение ко всем, кто ниже ее.
— Благодарю, — отпарировал Бьяншон.
— Неисправимый чудак! — со смехом сказал ему Растиньяк. — Откажись от плебейских замашек, последуй примеру твоего друга Деплена, стань бароном, кавалером ордена Святого Михаила, пэром Франции, а дочерей выдай замуж за герцогов.
— А ну вас с вашими герцогами!
— Вот так так! Да ты знаешь толк лишь в медицине, — право, ты огорчаешь меня.
— Я ненавижу этих людей. Хоть бы произошла революция и навсегда освободила нас от них!
— Итак, дражайший мой Робеспьер, вооруженный ланцетом, ты не пойдешь завтра к дяде?
— Пойду, — ответил Бьяншон. — Для тебя я готов в огонь и в воду…
— Дорогой мой, ты меня растрогал, я ведь обещал, что маркиза д'Эспара возьмут под опеку! Послушай, у меня навертываются слезы благодарности, как в былые дни.
— Но не ручаюсь, — продолжал Орас, — что Жан-Жюль Попино пойдет вам навстречу. Ты его еще не знаешь. Во всяком случае, я притащу его послезавтра к твоей маркизе — пускай обольстит, если может. Но сомневаюсь. Его не соблазнят ни трюфели, ни пулярки, ни птицы высокого полета; его не устрашит гильотина; пусть король пообещает ему пэрство, господь бог посулит место в раю и доходы с чистилища — никакие силы не заставят его переложить соломинку с одной чашки весов на другую. Это судья неподкупный, как сама смерть.
Друзья дошли до министерства иностранных дел, на углу бульвара Капуцинок.
— Вот ты и дома, — смеясь, сказал Бьяншон и указал на особняк министра. — А вот и моя карета, — прибавил он, указывая на наемный экипаж. — Таково наше будущее.
— Ты счастливо проживешь в тихих заводях, — сказал Растиньяк, — а я буду бороться с бурями в открытом море, пока, потерпев кораблекрушение, не попрошу у тебя приюта в твоем затоне, дорогой друг.
— До субботы, — сказал Бьяншон.
— До субботы! — ответил Растиньяк. — Так ты уговоришь Попино?
— Да, я сделаю все, что позволит мне совесть. Кто знает — не скрывается ли за этим требованием опеки какая-нибудь «драморама», как говаривали мы в наши счастливые тяжелые дни.
«Бедняга Бьяншон! Так он всю жизнь и останется просто порядочным человеком», — подумал Растиньяк, глядя вслед удалявшейся извозчичьей коляске.
«Ну и задал мне задачу Растиньяк, — подумал на другой день Бьяншон, просыпаясь и вспоминая возложенное на него щекотливое поручение. — Правда, я еще ни разу не просил дядюшку ни о малейшей услуге, а сам по его просьбе лечил бесплатно тысячи раз. Впрочем, мы не церемонимся друг с другом. Либо он согласится, либо он откажет — и дело с концом».
Наутро после этого небольшого монолога, в семь часов, знаменитый врач направился на улицу Фуар, где проживал г-н Жан-Жюль Попино, следователь суда первой инстанции департамента Сены. Улица Фуар, или, в старом смысле этого слова, Соломенная, в XIII веке была самой известной улицей в Париже. Там помещались аудитории университета, когда голоса Абеляра и Жерсона гремели на весь ученый мир. Теперь это одна из самых грязных улиц Двенадцатого округа, самого бедного парижского квартала, где двум третям населения нечем топить зимою, где особенно много подкидышей в приютах, больных в больницах, нищих на улице, тряпичников у свалок, изможденных стариков, греющихся на солнышке у порогов домов, безработных мастеровых на площадях, арестантов в исправительной полиции. На этой вечно сырой улице, по сточным канавам которой стекает к Сене черная вода из красилен, стоит старый кирпичный дом с прокладкой из тесаного камня, вероятно перестроенный еще во времена Франциска I. Всем своим видом он, подобно многим парижским домам, так и говорит о прочности. Второй этаж его, выдавшийся вперед под тяжестью третьего и четвертого этажей и подпертый массивными стенами нижнего, напоминает, если можно допустить подобное сравнение, вздутый живот. С первого взгляда кажется, что простенки между окон, несмотря на крепления из тесаного камня, вот-вот завалятся; однако человеку наблюдательному ясно, что этот дом подобен Болонской башне: источенные временем старые кирпичи и старые камни каким-то чудом сохраняют равновесие. Во всякое время года внизу, на прочных еще стенах, лежит особый белесый и влажный налет, свойственный отсырелому каменному зданию. От стен на прохожего веет холодом, а закругленные тумбы плохо охраняют дом от кабриолетов. Как во всех домах, выстроенных во времена, когда еще не ездили в колясках, сводчатые ворота очень низки и напоминают вход в тюрьму. Направо от ворот три окна забраны снаружи такой частой решеткой, что и самому любопытному зеваке не разглядеть внутреннее убранство сырых и мрачных комнат, к тому же стекла заросли грязью и пылью; налево — два таких же окна; одно из них часто стоит открытым, — тогда видно, как привратник, его жена и дети копошатся, работают, стряпают, ссорятся, едят в комнате с дощатым полом и деревянными панелями; в эту комнату, где все обветшало, спускаются по лестнице в несколько ступенек, что указывает на постепенное повышение парижской мостовой. Если в дождливый день прохожий укроется под сводом с выбеленными стропилами, который тянется до самой лестницы, его взору откроется двор этого дома. Налево разбит квадратный садик, не больше четырех шагов в длину и ширину, трава в нем не растет, решетка для винограда давно стоит голая, а под сенью двух деревьев растительность заменяют тряпье, старая бумага, всякий мусор, битая черепица, — не сад, а бесплодный пустырь; стены, стволы и ветви обоих деревьев покрылись пыльным налетом времени, словно остывшей сажей. Дом состоит из двух частей, расположенных под прямым углом, и выходит окнами в сад, сдавленный двумя соседними домами старинной стройки, облупившимися и грозящими обвалом. Каждый этаж являет взору причудливые образцы изделий жильцов. На длинных шестах сушатся огромные мотки окрашенной шерсти, на веревках ветер треплет выстиранное белье, чуть повыше на досках красуются свежепереплетенные книги с разделанными под мрамор обрезами; женщины поют, мужчины насвистывают, дети кричат, столяр распиливает доски, из мастерской медника доносится скрежет металла, — здесь собраны все ремесла, и от множества инструментов стоит нестерпимый шум. Внутри этого прохода, который нельзя назвать ни двором, ни садом, ни подворотней, хотя он напоминает и то, и другое, и третье, поднимаются деревянные арки на каменных цоколях, образующие стрельчатые своды. Две арки выходят в садик, две другие, что напротив ворот, открывают вид на лестницу с дрожащими от ветхости ступенями и затейливыми железными перилами, некогда представлявшими чудо слесарного мастерства. Двойные входные двери квартир, с засаленными, побуревшими от грязи и пыли наличниками, обиты трипом и усажены в косую клетку гвоздиками со стершейся позолотой. Это обветшалое великолепие говорит о том, что при Людовике XIV здесь жил либо советник парламента, либо духовные лица, либо какой-нибудь казначей. Но следы былой роскоши вызывают лишь улыбку, так наивно кажется это противоречие прошлого и настоящего. Г-н Жан-Жюль Попино жил на втором этаже, где из-за узкой улицы было еще темнее, чем это бывает в нижних этажах парижских домов. Это ветхое жилище знал весь Двенадцатый округ, которому провидение даровало в следователи Попино, как оно дарует целебные травы для врачевания или облегчения недугов.
Теперь постараемся набросать наружность человека, которого рассчитывала обольстить маркиза д'Эспар. Как судейский чиновник, Попино одевался во все черное, и такой костюм делал его смешным в глазах людей, склонных к поверхностным суждениям. Человеку, ревниво оберегающему собственное достоинство, к чему обязывает подобная одежда, приходится постоянно и тщательно о ней заботиться, но наш милейший Попино был неспособен соблюдать необходимую при черном костюме пуританскую аккуратность. Его неизменно поношенные панталоны как будто сшиты были из той жиденькой материи, которая идет на адвокатские мантии, и из-за присущей ему неряшливости вечно были измяты; вся ткань пестрела беловатыми, порыжелыми и залоснившимися полосами, что говорило или об отвратительной скаредности, или о самой беспечной нищете. Грубые шерстяные чулки спускались на стоптанные башмаки. Сорочка пожелтела, как обычно желтеет белье от долгого лежания в шкафу, что указывало на пристрастие покойной г-жи Попино к запасам белья: следуя фламандскому обычаю, она вряд ли обременяла себя стиркой чаще двух раз в год. Фрак и жилет вполне соответствовали панталонам, башмакам, чулкам, белью. Небрежность никогда не изменяла следователю Попино: стоило ему облачиться в новый фрак, как тот сейчас же уподоблялся всему остальному в его костюме, ибо Попино с поразительной быстротой пачкал одежду. Старик не покупал новой шляпы, пока кухарка не заявляла, что прежнюю пора выбросить. Галстук его всегда был небрежно повязан, и никогда Попино не расправлял воротника сорочки, примятого судейскими брыжами. Его седые волосы не знали щетки, брился он не чаще двух раз в неделю. Перчаток он не носил, а руки засовывал в свои вечно пустые жилетные карманы, засаленные по краям и почти всегда порванные, что еще более подчеркивало его неряшливый вид. Тот, кто бывал во Дворце правосудия, где можно узреть все виды черного одеяния, легко представит себе наружность г-на Попино. Необходимость день-деньской сидеть на месте уродует тело, а досада на докучливое красноречие адвокатов омрачает лицо судейского чиновника.
Сидя в четырех стенах тесных, убогих по своей архитектуре комнат, в спертом воздухе, парижский судья невольно хмурится, лицо его искажается от напряженного внимания, сереет от скуки, бледнеет, приобретает зеленоватый или землистый оттенок, в зависимости от природы каждого. Словом, через известный срок самый цветущий молодой человек превращается в равнодушную «машину для рассмотрения дел», в механизм, с безразличием часового маятника приспособляющий свод законов ко всем случаям судебной практики. Г-н Попино от природы был наделен не очень привлекательной внешностью, а судейское ремесло отнюдь его не приукрасило. Весь он был какой-то нескладный. Широкие колени, огромные ноги, большие руки совсем не вязались с обликом жреца правосудия; лицо чем-то напоминало кроткую до беспомощности телячью морду — прямой плоский нос, невыпуклый лоб, нелепо торчащие уши, тусклые глаза разного цвета — ничто не оживляло эту бескровную физиономию; жидкие мягкие волосы плохо прикрывали череп. Лишь одна черта привлекла бы внимание физиономиста: рот Попино говорил о неземной доброте. Благодушные толстые красные губы, все в морщинках, резко очерченные и подвижные, выражали одни только хорошие чувства; губы его сразу располагали к нему и возвещали ясный ум, прозорливость, ангельскую душу этого человека; итак, тот не понял бы Попино, кто стал бы судить о нем только по вдавленному лбу, тусклым глазам и жалкому виду. Жизнь его соответствовала лицу, она была заполнена трудом и скрывала добродетели подвижника. Серьезные исследования по вопросам права принесли ему такую известность, что после судебных реформ Наполеона в 1806–1811 годах он был, по совету Камбасереса, одним из первых назначен членом верховного имперского суда в Париже. Попино не был интриганом. Достаточно было чьей-нибудь просьбы, чьего-нибудь ходатайства о местечке, и министр обходил Попино, который никогда не являлся на поклон ни к великому канцлеру, ни к председателю верховного суда. Из верховного суда он был переведен в окружной суд, где его совершенно затерли люди ловкие и пронырливые. Он был назначен запасным судьей! Вопль негодования раздался в судебной палате: «Попино — запасный судья!» Такая несправедливость возмутила весь судейский мир: стряпчих, судебных приставов, — словом, всех, за исключением самого Попино, который и не думал жаловаться. Когда первое возбуждение прошло, каждый решил, что все идет к лучшему в том лучшем из миров, каким, безусловно, должен считаться судейский мир. Попино так и оставался запасным судьей, пока знаменитый хранитель печати эпохи Реставрации не обратил внимание на несправедливость, жертвой которой стал этот скромный и тихий человек по милости высших судебных властей империи. А не то, проработав двенадцать лет запасным судьей, Попино умер бы простым заштатным судьей.
Чтобы можно было понять печальную участь одного из лучших представителей судебного ведомства, необходимы кое-какие разъяснения, которые прольют свет на его жизнь и характер и покажут в действии некоторые колесики грандиозного механизма, именуемого юстицией. Три последовательно сменившихся председателя суда департамента Сены причислили г-на Попино к категории рядовых судей. Они не признали за ним репутации человека одаренного, которую он заслужил своими прежними трудами. Ценители искусства, знатоки или невежды, — кто из зависти, кто из самоуверенности, свойственной критикам, кто из предрассудка, — раз и навсегда относят художников к определенным категориям: к пейзажистам, портретистам, баталистам, маринистам или жанристам, сковывают их творчество, предписывая им коснеть в одной и той же области, подходя к ним с тем же предвзятым мнением, с каким подходит свет к писателям, к государственным деятелям, ко всем, кто начинает с какой-нибудь специальности, прежде чем прослывет широкоодаренной натурой. Так произошло и с Попино, которого ограничили узко определенными рамками.
Судьи, адвокаты, стряпчие — все, кто кормится при суде, различают две стороны в каждом юридическом вопросе: право и справедливость. Справедливость исходит из фактов, право — из применения определенных принципов к этим фактам. Человек может быть чист перед справедливостью, но виноват перед законом, и судья тут ничего не может поделать. Между совестью и поступком лежит бездна решающих обстоятельств, неизвестных судье, а именно в этих обстоятельствах — осуждение или оправдание поступка. Судья — не бог, долг предписывает ему подгонять факты к принципам, выносить решения по самым разнообразным поводам, применяя одну установленную мерку. Обладая властью читать в сердцах людей и разбираться в их побуждениях, чтобы выносить справедливые решения, каждый судья был бы великим человеком. Франции требуется около шести тысяч судей, никакое поколение не может предоставить к ее услугам шесть тысяч великих людей, тем паче к услугам одного лишь судебного ведомства. На фоне парижских нравов Попино был весьма искусным кади, который в силу склада своего ума и привычки считаться не только с буквой закона, но и с истинным смыслом фактов, порицал поспешные и жестокие приговоры. Отличаясь в своей области особой внутренней зоркостью, пронизывал он взором двойную оболочку лжи, под которой тяжущиеся скрывали действительную сущность тяжбы. Попино был настоящим судьей, как Деплен был настоящим хирургом; он проникал в тайны человеческой совести, как этот знаменитый ученый проникал в тайны человеческого тела. Жизнь и опыт научили его вскрывать при исследовании фактов сокровеннейшие помыслы. Он докапывался до самой сущности судебных тяжб, как Кювье — до древнейших пластов почвы. Подобно этому великому мыслителю, переходя от вывода к выводу, выносил он заключение и восстанавливал прошлое человеческой совести, как Кювье воссоздавал строение аноплотерия. Нередко под впечатлением какого-нибудь показания просыпался он среди ночи, пораженный верной догадкой, внезапно сверкнувшей перед его внутренним взором, как золотоносная жила. Возмущаясь жестокой несправедливостью, которой обычно завершались юридические столкновения, где все неблагоприятно для честного человека и идет на пользу подлецу, он во имя справедливости, особенно в тех случаях, когда дело было неясно, выносил зачастую решения, грешившие против правовых норм. И он слыл среди сослуживцев неделовым человеком, его всесторонне обоснованные доводы затягивали судопроизводство. Заметив, как неохотно его слушают, Попино стал весьма кратко формулировать свое мнение. Тогда сочли, что должность судьи ему не по плечу; но он поражал своим даром анализа, здравыми суждениями, глубокой проницательностью, и посему решили, что он наделен всеми данными, необходимыми для выполнения тяжелых обязанностей судебного следователя. Итак, большую часть своей жизни он проработал следователем. Хотя по своим данным Попино был как будто предназначен для этой трудной деятельности и хотя он слыл глубоким криминалистом, любящим свое дело, его доброе сердце всегда обрекало его на пытку: он разрывался между долгом и состраданием. Работа судебного следователя оплачивается лучше, чем работа судьи, и все же она мало кого прельщает, — слишком тяжки ее условия. Попино, человек честный и знающий, скромный труженик, не честолюбец, никогда не сетовал на судьбу: он принес в жертву общественному благу и свои умственные склонности и свое мягкосердечие, беззаветно ушел в дебри судебного следствия, оставаясь одновременно и строгим и добрым. Нередко по его поручению судейский протоколист передавал деньги на табак или на теплую зимнюю одежду арестованным, которых он препровождал из кабинета следователя в Сурисьер, тюрьму для подследственных. Попино был неподкупным следователем и милосердным человеком. И никто лучше его не умел добиться признания, не прибегая к обычным юридическим уловкам. К тому же ему свойственна была исключительная наблюдательность. Этот добрый и простоватый с виду человек, бесхитростный и рассеянный, разоблачал самых отъявленных пройдох, Криспинов каторги, выводил на чистую воду самых изворотливых воровок, смирял закоренелых злодеев. Некоторые особые обстоятельства обострили его проницательность, но, чтобы понять их, необходимо познакомиться с его личной жизнью, ибо для общества он был только следователем, меж тем в нем таился другой, прекрасный и мало кому известный человек.
В 1816 году, за двенадцать лет до начала этой истории, когда страшный голод совпал с пребыванием во Франции так называемых союзников, Попино был назначен председателем Чрезвычайной комиссии по оказанию помощи беднякам его квартала, — как раз в то время, когда он собрался съехать с квартиры на улице Фуар, потому что она не нравилась ни ему, ни его жене. Этот незаурядный законовед, опытный криминалист, превосходство которого казалось его собратьям досадным отклонением от нормы, уже пять лет имел дело с судебными случаями, не вникая в породившие их причины. Взбираясь на чердаки, сталкиваясь с нищетой, наблюдая жестокую нужду, постепенно толкающую бедняков на предосудительные поступки, короче говоря, постоянно видя их житейскую борьбу, он проникся к ним глубокой жалостью. И судья стал святым Винцентом для этих больших детей, для этих страдающих тружеников. Не сразу произошло это преображение. Благотворительность, как и порок, овладевает человеком постепенно. Добрые дела мало-помалу опустошают кошелек праведника так же, как рулетка поглощает состояние игрока. Попино переходил от горемыки к горемыке, подавал милостыню за милостыней, и когда через год он совлек всю ветошь, прикрывающую, словно повязки, гнойную, смердящую рану общественной несправедливости, он сделался провидением своего квартала. Он стал членом Благотворительного комитета и Человеколюбивого общества. Повсюду, где нуждались в бесплатной общественной работе, он брался за нее без громких фраз, как тот «добрый человек в коротком плаще», который кормит бедняков на рынках и площадях. У Попино, к счастью, было более широкое поле деятельности и возможность работать в более возвышенной сфере; он все видел, все знал; он предотвращал преступление; он давал работу безработному люду, устраивал убогих в богадельни, разумно распределял свою помощь между теми, кому грозила беда; он был советником вдов и покровителем сирот; он ссужал деньгами мелких торговцев. Никто ни в суде, ни в городе не знал этой тайной стороны жизни Попино. Столь блестящие добродетели не любят света, их обычно держат под спудом. А подопечные Попино работали день-деньской, ночью же валились с ног от усталости, им было не до прославления своего благодетеля, они отличались неблагодарностью детей, которым никогда не расплатиться с родителями, ибо они должны им слишком много. Иногда люди и не по своей вине бывают неблагодарными, но разве великодушное сердце сеет добро только ради того, чтобы пожинать благодарность и славу? На второй год своего тайного апостольского служения Попино обратил в приемную помещение в нижнем этаже своего дома, куда свет проникал через три забранных решеткой окна. Стены и потолок этой огромной комнаты побелили, поставили туда деревянные скамьи, как в школе, простой шкаф, письменный стол орехового дерева и кресла. В шкафу хранились реестры бедняков, хлебные боны, придуманные г-ном Попино, и поденные записи. Чтобы не стать жертвой собственного мягкосердечия, Попино завел настоящую бухгалтерию. Все нужды квартала были зарегистрированы, занесены в книгу, каждый горемыка имел свой счет, как должник у купца. Когда Попино сомневался, стоит ли помочь тому или иному человеку, той или иной семье, он обращался за сведениями к полиции. По хозяину был и слуга, — в Лавьене Попино нашел верного помощника. Лавьен выкупал из ломбарда или перезакладывал вещи, посещал самые страшные трущобы, когда хозяин его уходил на работу. Летом с четырех до семи утра, зимой с шести до девяти в приемной толпились женщины, дети, убогие, и Попино внимательно выслушивал каждого. Даже зимой не было нужды в печке: народу набивалось столько, что было жарко; Лавьен только устилал свежей соломой сырой пол. Со временем скамьи отполировались, как красное дерево, а стены до высоты человеческого роста потемнели и залоснились от рубищ и тряпья нищего люда. Бедняки очень любили Попино, и когда зимним утром им приходилось мерзнуть у закрытых еще дверей, женщины грели руки над чугунами с горячими углями, а мужчины хлопали себя по плечам, но никто ни единой жалобой не нарушал его сна. Тряпичники — люди, выходившие на промысел по ночам, — хорошо знали это жилище, нередко до позднего часа видели они свет в кабинете г-на Попино. Даже воры, проходя мимо, говорили: «Вот его дом» — и не посягали на него. Утром он занимался бедняками, днем — преступниками, вечером — юридическими изысканиями.
Поразительная наблюдательность, свойственная Попино, не могла не открыть ему противоречий: отыскивая в тайниках душ самые неприметные следы преступления, самые скрытые его нити, он обнаруживал добродетель среди нищеты, поруганные добрые чувства, благородные побуждения, неведомое миру самопожертвование. Унаследованное от отца имение давало Попино тысячу экю дохода. Его жена, сестра Бьяншона-отца, врача из Сансера, принесла ему в приданое вдвое больше. Она умерла пять лет назад, оставив все состояние мужу. Запасный судья получает более чем скромное жалованье, а следователем Попино работал только четыре года; нетрудно понять причину его мелочной бережливости во всем, что касалось его самого и его привычек, — доходы его были скромными, а благотворительность широкой. И, наконец, равнодушие к одежде, свойственное Попино, как занятому человеку, возможно, является отличительным признаком всех людей, отдающихся науке, самозабвенно преданных искусству, поглощенных вечно деятельной мыслью. Заканчивая портрет его, прибавим, что Попино был из числа тех немногих чиновников департамента Сены, которым забыли пожаловать орден Почетного легиона.
Таков был человек, которому председатель второго отделения суда, где служил Попино, уже два года занимавшийся гражданскими делами, поручил вести предварительное следствие по делу маркиза д'Эспара в связи с ходатайством его жены о назначении над мужем опеки.
Улица Фуар, которую чуть свет наводняли толпы бедняков, пустела к девяти часам утра и принимала свой обычный мрачный и жалкий вид. Бьяншон подгонял лошадь, чтобы застать дядюшку, пока не кончился прием. Он не мог без улыбки представить себе, как нелепо будет выглядеть следователь рядом с г-жой д'Эспар; во всяком случае, Бьяншон решил заставить его приодеться, чтобы он не стал общим посмешищем.
«Да есть ли еще у дядюшки новый фрак? — задал он себе вопрос, когда его кабриолет въехал в полосу слабого света, падавшую из окон приемной. — Пожалуй, лучше всего поговорить об этом с Лавьеном».
На шум кабриолета из-под ворот с удивлением выглянуло человек десять бедняков; узнав доктора, они ему поклонились: Бьяншон, лечивший бесплатно всех больных, о которых просил следователь, был не менее его популярен среди собравшейся тут голи. Бьяншон застал дядю еще в приемной, где на скамьях сидели просители в таких живописных рубищах, что на улице перед ними остановился бы самый равнодушный к искусству прохожий. Живи в наши дни истинный художник, новый Рембрандт, он создал бы великолепную картину, вдохновившись этой простодушно выставленной напоказ безропотной нищетой. Вот суровый старец с белой бородой, с изрытым морщинами челом апостола, — превосходная натура для образа святого Петра. Раскрытый ворот рубашки обнажал крепкую шею — признак железного здоровья, давшего ему силу выдержать целую эпопею бедствий. Поодаль молодая женщина кормила грудью раскричавшегося малыша; другой сынишка, лет пяти, прижался к ее коленям. Эта мать в лохмотьях, прикрывающих ее сверкающее белизной тело, младенец с прозрачным личиком, его брат — судя по повадкам, в недалеком будущем уличный мальчишка, — вся эта семья умиляла душу, выделялась какой-то особенной трогательностью среди длинного ряда сизых от холода лиц. А дальше старуха, бледная и застывшая, — грозная маска озлобленной нищеты, мстящей в день мятежа за все пережитые страдания. Тут же молодой мастеровой, изнуренный, опустившийся, чей взор, горящий умом, говорил, однако, о дарованиях, загубленных нуждой, которую он тщетно пытался преодолеть; в молчаливой муке ждал он близкой уже смерти, ибо ему не хватило ловкости, чтобы выскользнуть за решетку той чудовищной клетки, где бились эти несчастные, пожирая друг друга. Больше всего здесь было женщин: должно быть, мужья, уходя на работу, поручили им быть ходатаями за всю семью, полагаясь на ум, свойственный женщине из народа, которая почти всегда самовластно распоряжается в своей лачуге. Платки на всех просительницах были изодранные, юбки — с обтрепанными подолами, косынки на плечах — в лохмотьях, кофты — заношенные и дырявые, но глаза сверкали, как горящие уголья. Страшное сборище это сперва казалось отвратительным, а затем возбуждало ужас: стоило только заметить, что покорность судьбе у этих людей, прошедших через все жизненные испытания, — чистая случайность, лицемерие, питаемое благотворительностью. Две свечи, горевшие в комнате, мерцали, как в тумане, в смрадном воздухе плохо проветренного помещения.
Следователь был не менее живописной фигурой, чем его подчиненные. На голове у него торчал порыжелый колпак. Галстука на нем не было, из обтрепанного воротника старого халата выступала морщинистая и красная от холода шея. На усталом лице его застыло тупое выражение, свойственное озабоченным людям. Рот, как у всякого углубленного в работу человека, был сжат, словно туго стянутый кошелек; на лбу набухли вены, как бы под грузом всех сделанных ему тяжких признаний. Он вслушивался, обдумывал и делал выводы; внимательный, как корыстолюбивый заимодавец, он отрывался от книг и справок, проникая взором в самую душу людей, которых оглядывал с поспешностью обеспокоенного скупца. Позади хозяина стоял Лавьен, готовый выполнить его приказания; он воплощал собою надзор, принимал и ободрял застыдившихся новичков. Когда появился доктор, сидящие на скамьях оживились. Лавьен оглянулся и был крайне изумлен, увидев Бьяншона.
— А, это ты, дружок, — сказал Попино, потягиваясь. — Что привело тебя в такой ранний час?
— Я боялся, как бы сегодня до встречи со мной вы не посетили одно лицо, по делу, о котором я хочу с вами поговорить.
— Ну вот, голубушка, — продолжал следователь, обращаясь к толстой невысокой бабенке, стоявшей перед ним, — если вы не расскажете мне, что у вас на душе, я сам не догадаюсь.
— Говорите скорее, — поторопил ее Лавьен, — не задерживайте других.
— Сударь, — вымолвила наконец женщина, покраснев от стыда и так тихо, что ее могли слышать только Попино и Лавьен, — я торгую вразнос овощами, у меня ребенок, я задолжала кормилице. Вот я и отложила свои гроши…
— И что же? Их взял ваш муж? — подсказывал Попино, догадываясь, чем закончит она свое признание.
— Да, сударь!
— Как вас зовут?
— Лапомпон.
— А вашего мужа?
— Тупине.
— Улица Пти-Банкье? — продолжал Попино, перелистывая книгу. — Он в тюрьме, — сказал он, читая заметку на полях против графы, в которую было внесено это семейство.
— За долги, ваша милость.
Попино покачал головой.
— Мне, сударь, не на что купить овощей на продажу, а вчера пришел хозяин дома и грозился вышвырнуть меня на улицу, если я не уплачу за квартиру.
Лавьен наклонился к Попино и сказал ему что-то на ухо.
— Ладно. Сколько вам надо на покупку овощей?
— Ах, ваша милость, чтоб расторговаться, мне надо бы… мне надо бы десять франков.
Следователь кивнул Лавьену, тот достал из большого кошеля десять франков и передал их женщине. Попино же занес ссуду в книгу. Увидев, как зеленщица задрожала от радости, Бьяншон понял, с каким волнением шла она сюда.
— Ваша очередь, — обратился Лавьен к старику с белой бородой.
Бьяншон отвел слугу в сторону и спросил, скоро ли кончится прием.
— Прошло уже двести человек, остается доделать восемьдесят, — ответил Лавьен. — Вы успеете, господин доктор, съездить к нескольким больным.
— Дружок, — сказал следователь, оборачиваясь и беря Ораса за руку, — вот тебе два адреса, тут совсем рядом — Сенская улица и Арбалетная. Навести двоих! На Сенской улице угорела девушка, а на Арбалетной болен мужчина, его надо бы положить к тебе в больницу. Я жду тебя к завтраку.
Бьяншон вернулся через час. Улица Фуар была безлюдна; начинало светать; дядюшка уже поднимался наверх, последний бедняк, нищету которого уврачевал судья, пошел домой, кошель Лавьена был пуст.
— Ну, как они? — спросил следователь доктора, который догнал его на лестнице.
— Мужчина умер, — ответил Бьяншон, — девушка выкарабкается.
С тех пор как женская рука перестала наводить порядок в жилище Попино, оно уподобилось своему хозяину. Небрежность человека, поглощенного одной властной мыслью, наложила на все свой причудливый отпечаток. Все покрылось застарелой пылью, вещи употреблялись не по назначению, как это водится в хозяйстве холостяка. В вазах для цветов торчали бумаги, со столов не убирались пустые пузырьки из-под чернил, повсюду забытые тарелки, жестянки из-под зажигательной фосфорной смеси, которые, по-видимому, служили подсвечниками, когда надо было что-нибудь отыскать; сдвинутая с обычного места мебель, наваленные кучей вещи и расчищенные углы говорили о начатой и незаконченной уборке. Кабинет судьи, особенно пострадавший от этого вечного беспорядка, свидетельствовал о напряженной работе, о самозабвении поглощенного ею человека, запутавшегося во все нарастающих делах. Библиотека выглядела словно после какого-то разгрома, повсюду валялись книги, вложенные одна в другую или упавшие на пол корешком вверх; папки судебных дел стояли вдоль книжного шкафа, загромождая пол. Паркет не натирался уже два года. На столах и повсюду навалены были разные вещи, поднесенные бедняками в знак благодарности. На камине, в вазочках синего стекла, красовались два стеклянных, разноцветных внутри, шара, их пестрые краски придавали им вид любопытных чудес природы. Букеты искусственных цветов, вышивки с инициалами Попино, окруженными сердцами и бессмертниками, украшали стены. Тут были и никчемные претенциозные ящики резной работы, и пресс-папье, напоминавшие изделия острожников. Эти шедевры терпения и символы благодарности, эти высохшие букеты придавали кабинету и спальне судьи вид игрушечной лавки. Добряк Попино своеобразно приспособил подарки для своих канцелярских нужд: он совал туда заметки, старые перья и всякие бумажонки. Эти трогательные доказательства великого человеколюбия запылились, поблекли. В залежи ненужных вещиц выделялись прекрасно сделанные, но изъеденные молью чучела птиц и чучело великолепного ангорского кота, некогда любимца г-жи Попино, для которой и постарался какой-то бедняк-чучельник, придав своему произведению подобие жизни, чтобы этим бессмертным сокровищем отблагодарить следователя за небольшую милостыню. Местный живописец вывесок, которого благодарность завела на непривычный путь, написал портреты г-на и г-жи Попино. Повсюду, даже у самой кровати в спальне, виднелись пестрые подушечки для булавок, вышитые крестиком пейзажи и плетеные бумажные коврики, замысловатые узоры которых говорили о кропотливой и бессмысленной работе. Занавески на окнах пожелтели от дыма, драпировки совсем выцвели. Между камином и большим письменным столом, за которым работал судья, кухарка поставила на круглом столике две чашки кофе с молоком. Два кресла красного дерева с сиденьями из волосяной материи ожидали дядю и племянника. Тусклый свет из окон не доходил туда, и кухарка принесла нагоревшие грибом свечи, с фитилями чрезмерной длины, бросавшими красноватый свет, — признак медленного сгорания, как свидетельствуют наблюдения скупцов.
— Дорогой дядя, вам надо потеплее одеваться, спускаясь в приемную.
— Мне совестно заставлять ждать моих бедняков! Ну, так чего же ты от меня хочешь?
— Я пришел пригласить вас завтра отобедать у маркизы д'Эспар.
— А она нам родственница? — спросил следователь с таким наивно-озабоченным видом, что Бьяншон рассмеялся.
— Нет, дядя, маркиза д'Эспар — влиятельная, знатная дама, она подала в суд прошение о взятии под опеку ее мужа, и вы должны…
— И ты хочешь, чтобы я у нее отобедал? Да в своем ли ты уме? — воскликнул следователь и взял в руки устав о судопроизводстве.
— Вот, читай! Следователям запрещается пить и есть у лиц, чьи дела подлежат судебному рассмотрению. Если у твоей маркизы есть до меня надобность, пускай приедет сюда. А ведь верно! Завтра мне предстоит допросить ее мужа, с материалами дела я ознакомлюсь сегодня ночью.
Он встал, взял папку, лежавшую на столе под пресс-папье, и, прочитав заголовок, сказал:
— Вот бумаги! Что ж, посмотрим прошение, если тебя интересует твоя влиятельная знатная дама.
Попино запахнул халат, полы которого расходились, обнажая грудь, обмакнул ломтик хлеба в остывший уже кофе, отыскал прошение и принялся читать, вставляя свои замечания, а иногда и обсуждая его вместе с племянником:
«Господину председателю гражданского суда первой инстанции департамента Сены, во Дворец правосудия,
от Жанны-Клементины-Атенаис де Бламон-Шоври, супруги г-на Шарля-Мориса-Мари-Андоша, графа Негреплиса, маркиза д'Эспара, землевладельца. (Знатные господа!)
Вышеозначенная г-жа д'Эспар, проживающая по улице Фобур-Сент-Оноре, в доме № 104, супруга вышеозначенного г-на д'Эспара, проживающего по улице Монтань-Сент-Женевьев, в доме № 22 (Ну, да, председатель говорил мне, что это в моем квартале!), через своего поверенного в делах г-на Дероша…»
— Дерош — крючкотвор, он на плохом счету и в суде и у товарищей, он может только напортить своим клиентам.
— Что с него взять! — заметил Бьяншон. — У него ни гроша за душой, вот он и вертится, как бес перед заутреней.
«…имеет честь сообщить вам, господин председатель, что уже в течение года душевные и умственные способности г-на д'Эспара, мужа истицы, весьма ослабели, и в настоящее время он находится в состоянии безумия и невменяемости, предусмотренном статьей 486 «Гражданского кодекса», а посему требуется в интересах его самого, его имущества и его детей, находящихся при нем, применить к нему меры, предусмотренные данной статьей.
Не подлежит сомнению, что душевное состояние г-на д'Эспара, внушающее уже несколько лет серьезные опасения, основанные на принятом им способе распоряжения своим имуществом, достигло, особенно за последний год, крайнего предела подавленности; и последствия этой болезни прежде всего сказались на его воле, причем этот упадок сил подверг г-на маркиза д'Эспара всем опасностям слабоумия, подтверждаемого нижеприводимыми фактами.
В течение длительного времени все доходы, получаемые с земель маркизом д'Эспаром, переходят без уважительных причин и без какой-либо, пускай хоть самой легкомысленной, цели к известной всем своей безобразной наружностью старой женщине по имени Жанрено, проживающей то в Париже, на улице Врийер, в доме № 8, то в Вильпаризи, близ Клэ, в департаменте Сены-и-Марны, а также к сыну ее, в возрасте тридцати шести лет, офицеру бывшей императорской гвардии, для которого, пользуясь своим влиянием, г-н маркиз д'Эспар исхлопотал в королевской гвардии место эскадронного командира первого кирасирского полка. Вышепоименованные лица, впавшие в 1814 году в крайнюю нищету, за последнее время приобрели на значительную сумму недвижимое имущество и в числе прочего особняк на улице Гранд-Верт, на устройство которого г-н Жанрено тратит последнее время большие деньги, собираясь ввиду задуманной им женитьбы поселиться там со своей матерью г-жой Жанрено; означенные траты уже превысили сто тысяч франков. Маркиз д'Эспар немало содействовал браку молодого человека и склонил своего банкира, г-на Монжено, отдать последнему руку племянницы, обещая притом исхлопотать для жениха баронское достоинство. Титул этот был дарован его величеством 29 декабря прошлого года по ходатайству маркиза д'Эспара, что может подтвердить его высокопревосходительство хранитель печати, если суд сочтет нужным прибегнуть к его свидетельству. Никакие причины, даже из тех, кои в равной мере осуждаются и нравственностью и законом, не могут ни объяснить власть вдовы Жанрено над маркизом д'Эспаром, который к тому же видит ее очень редко, ни оправдать странную привязанность его к вышеназванному барону Жанрено, с которым он почти не встречается; однако их власть над ним так велика, что всякий раз, когда они нуждаются в деньгах, хотя бы для удовлетворения какой-либо прихоти, г-н д'Эспар беспрекословно предоставляет этой особе или ее сыну…»
— Так, так! Причины, которые осуждаются нравственностью и законом? На что здесь намекает стряпчий или его помощник?
Бьяншон рассмеялся.
«…этой особе или ее сыну все, что они пожелают, а в случае отсутствия наличных денег г-н д'Эспар подписывает им векселя, учитываемые г-ном Монжено, который по просьбе истицы готов дать показания.
Упомянем еще в подтверждение этого факта, что недавно при возобновлении аренды на земли г-на Д'Эспара фермеры уплатили в счет продленных договоров значительную сумму, каковой незамедлительно завладел г-н Жанрено.
Маркиз д'Эспар проявляет полное равнодушие, отдавая столь крупные суммы, а когда ему на то пеняют, утверждает, что запамятовал; его ответы на вопросы людей достойных о причинах его привязанности к этим двум особам обнаружили такое полное пренебрежение собственными взглядами и выгодами, что тут следует искать каких-то тайных причин, за коими, несомненно, скрываются преступные деяния, беззаконие и вымогательство, если не явления, подлежащие ведению судебной медицины, ибо такая подавленность личности объясняется насилием над волей, что и привело маркиза д'Эспара к состоянию, которое можно определить лишь необычным словом «одержимость», — а посему просительница и взывает к недремлющему оку правосудия».
— Ах, черт возьми! — воскликнул Попино. — Что ты, доктор, на это скажешь? Странные факты.
— Пожалуй, — ответил Бьяншон, — их можно объяснить магнетической силой.
— Как, ты веришь в бредни Месмера, в его бадью с водой, в способности видеть сквозь стены?
— Да, дядя, — серьезно ответил доктор. — Я думал о магнетизме, слушая это прошение. Уверяю вас, я сам неоднократно наблюдал в другой сфере человеческой деятельности подобные факты, доказывающие неограниченную власть человека над человеком. Вопреки мнению моих коллег, я глубоко убежден в могуществе человеческой воли, этой движущей жизненной силы. Я не отрицаю, много здесь досужих вымыслов и шарлатанства, но я сам был свидетелем подлинной одержимости. Магнетические внушения, полученные во время сна, с точностью выполнялись в состоянии бодрствования. Воля одного становилась волей другого.
— И вызывала любые поступки?
— Да.
— Даже преступные?
— Даже преступные.
— Заговори об этом кто другой, я и слушать бы не стал.
— Обещаю дать вам возможность самому удостовериться в этом, — заверил его Бьяншон.
— Гм! Гм! — промычал судья. — Ну, если «одержимость» маркиза относится к такому роду явлений, нелегко ее будет определить и заставить суд с нею считаться.
— Раз госпожа Жанрено безобразна и стара, — заметил Бьяншон, — как могла она покорить маркиза?
— Но в тысяча восемьсот четырнадцатом году, когда, как это явствует из прошения, он поддался соблазну, она была на четырнадцать лет моложе, — возразил следователь, — если же она сблизилась с маркизом д'Эспаром еще за десять лет до этого, то вычисления отодвигают нас на двадцать четыре года назад; как знать, возможно, тогда она была молодой и красивой и могла самым обыкновенным способом покорить маркиза д'Эспара и приобрести над ним, себе и сыну на пользу, ту власть, от которой иной раз не могут освободиться мужчины. Правосудие осуждает такую власть, но природа ее оправдывает. Госпожа Жанрено могла быть недовольна браком маркиза с мадемуазель де Бламон-Шоври, состоявшимся примерно в это время, и, возможно, всему причиной женское соперничество, раз маркиз уже давно не живет вместе с госпожой д'Эспар.
— Но, дядя, ведь госпожа Жанрено уродлива!
— Сила обольщения иногда усугубляется уродством, — возразил следователь, — это старая истина. Впрочем, возможны и последствия оспы, не так ли, доктор? Однако продолжаем:
«В 1815 году, чтобы располагать деньгами, необходимыми для удовлетворения этих двух лиц, г-н маркиз д'Эспар переехал с обоими сыновьями на улицу Монтань-Сент-Женевьев, в жалкий дом, недостойный ни его имени, ни его положения (Всякий живет, как хочет!), где и воспитывает своих сыновей — графа Клемана д'Эспара и виконта Камилла д'Эспара — в обстановке, не соответствующей ни их будущему положению, ни их происхождению, ни их состоянию, и нередко г-н д'Эспар испытывает такой недостаток в средствах, что недавно, например, домовладелец г-н Мариаст описал его обстановку, причем, когда эта мера воздействия приводилась в исполнение, то присутствовавший при этом маркиз д'Эспар сам помогал судебному приставу, обращался с ним как с дворянином, оказывая ему всяческие знаки уважения и внимания, кои подобает оказывать лишь вышестоящему лицу…»
Тут дядя и племянник взглянули друг на друга и рассмеялись.
«Кроме того, и прочие поступки г-на д'Эспара, помимо приводимых фактов в отношении вдовы Жанрено и г-на барона Жанрено, ее сына, носят печать безумия: вот уже скоро десять лег, как он так увлечен изучением Китая, его обычаев, нравов, его истории, что все воспринимает на китайский лад; когда с ним беседуют на эту тему, он путает дела наших дней, недавние факты с событиями китайской истории; он осуждает мероприятия правительства и поведение короля (хотя лично предан ему), сравнивая их с китайской политикой.
Эта мания толкнула маркиза д'Эспара на поступки, лишенные всякого смысла; так, вопреки привычкам, свойственным лицам его положения, и вопреки его собственным взглядам на обязанности дворянства, он открыл коммерческое предприятие, из-за чего ежедневно подписывает краткосрочные обязательства, кои ныне уже угрожают его чести и состоянию, поскольку они связаны со званием негоцианта, а в случае неуплаты он может быть объявлен несостоятельным должником; обязательства его перед торговцами бумагой, типографами, литографами и художниками, которые снабжают его материалами, необходимыми для издаваемой им «Живописной истории Китая», выходящей отдельными выпусками, так значительны, что сами поставщики, дабы спасти свои капиталы, умоляли просительницу ходатайствовать об учреждении опеки над маркизом д'Эспаром…»
— Да это сумасшедший! — воскликнул Бьяншон.
— Ты так полагаешь? — переспросил судья. — Надо поговорить с ним самим. Кто слышал только припев, тот еще не знает песни.
— Но мне сдается… — начал было Бьяншон.
— Но мне сдается, — перебил его Попино, — что, пожелай кто из моих родичей завладеть моим имуществом и не будь я судьей, нормальное состояние которого ежедневно могут засвидетельствовать его товарищи по работе, а будь я герцогом или пэром, то всякий крючкотвор-стряпчий вроде Дероша мог бы возбудить подобное же дело против меня.
«Воспитание детей пострадало от этой мании; так, вопреки всей системе образования, принятой у нас, он заставляет их изучать китайскую историю, заставляет их твердить китайскую грамоту, что противно догматам католической церкви…»
— Вот тут Дерош, по-моему, перехватил, — сказал Бьяншон.
— Прошение составлено его первым письмоводителем Годешалем, а для него, как тебе известно, всякая наука — китайская грамота.
«Часто дети страдают от отсутствия самого необходимого; просительнице, несмотря на настоятельные ее мольбы, разрешается видеться с ними только раз в год; зная, каким они подвергаются лишениям, она тщетно пыталась предоставить им самое необходимое для существования…»
— Ах, госпожа маркиза, что за комедия! Кто слишком много доказывает, тот не докажет ничего. Милый мой, — сказал следователь, положив папку на колени, — виданное ли это дело, чтобы сердце, ум, нутро не подсказали матери действий, которые ей должен внушить простой животный инстинкт любви к ребенку? Мать с такой же хитростью будет добиваться встречи с детьми, как девушка — свидания с возлюбленным. Пожелай твоя маркиза накормить или одеть своих сыновей, сам сатана не остановил бы ее. Разве не так? Все тут белыми нитками шито, меня не проведешь, я старый воробей! Читаем дальше!
«Возраст означенных детей требует немедленного принятия мер, дабы избавить их от пагубных следствий такого воспитания, обеспечить их всем, согласно их званию, и оберечь от дурного примера, подаваемого им отцом.
В подтверждение вышеизложенных фактов имеются доказательства, в истинности которых суд легко может убедиться. Неоднократно г-н д'Эспар называл мирового судью Двенадцатого округа мандарином третьего класса, а преподавателей коллежа Генриха IV — мудрецами. (Нашли на что обижаться!) Упоминая о самых обычных вещах, заявлял, что в Китае так не делается; если же разговор хотя бы вскользь касался г-жи Жанрено или событий времен царствования Людовика XIV, он впадал в черную меланхолию; нередко он воображает себя в Китае. Многие из его соседей, как-то: г-да Эдм Беккер, студент-медик, и Жан-Батист Фремио, преподаватель, проживающие в том же доме, — после знакомства с маркизом д'Эспаром стали полагать, что его маниакальное пристрастие к Китаю искусственно возбуждается бароном Жанрено и его матерью, вдовой Жанрено, ставящими себе целью добиться полного ослабления умственных способностей маркиза д'Эспара, принимая во внимание, что единственная услуга, оказываемая г-ну д'Эспару г-жой Жанрено, заключается в собирании для него вещей, относящихся к Китаю.
Наконец, просительница берется доказать суду, что на г-на и г-жу Жанрено с 1814 по 1828 год истрачено не менее миллиона франков.
В подтверждение вышеизложенного просительница предлагает господину председателю воспользоваться свидетельством лиц, кои постоянно встречаются с маркизом д'Эспаром и чьи имена и звания приведены ниже; многие из них настаивают на опеке над г-ном маркизом д'Эспаром, как на единственном способе уберечь его имущество от растраты, а детей — от пагубного влияния.
Принимая во внимание все вышеизложенное, а также прилагаемые при сем документы и считая, что вышеперечисленные факты с очевидностью доказывают состояние невменяемости и слабоумия вышеназванного г-на маркиза д'Эспара (звание, местожительство и обстоятельства жизни коего указаны), просительница ходатайствует, господин председатель, о том, чтобы в целях назначения опеки над г-ном д'Эспаром настоящее прошение с прилагаемыми к нему документами было по вашему распоряжению препровождено королевскому прокурору, а кому-либо из следователей было поручено представить в назначенный вами день материалы дознания, на основании коих суд вынесет соответствующее постановление».
— А вот и приказ председателя, поручающий это дело мне. Ну, что же надобно от меня маркизе д'Эспар? Я уже все знаю. Завтра я пойду со своим протоколистом к маркизу, потому что все это мне кажется маловразумительным.
— Послушайте, дорогой дядя, я никогда не обращался к вам как к следователю с просьбой об услугах. Так вот, я прошу вас о любезности, госпожа д'Эспар этого заслуживает. Если бы она пришла к вам, вы бы ее выслушали?
— Да.
— Ну так выслушайте ее у нее на дому: госпожа д'Эспар болезненная, нервная, изнеженная женщина, ей станет дурно в вашем логове. Подите к ней вечером и не принимайте ее приглашения на обед, раз закон запрещает вам пить и есть у подсудных вам лиц.
— А закон не запрещает врачам получать наследство после умерших пациентов? — съязвил Попино, которому показалось, будто племянник иронически улыбается.
— Послушайте, дядя, исполните мою просьбу, хотя бы для того, чтобы узнать правду. Вы придете к ней как следователь, желающий выяснить обстоятельства дела. Черт возьми! Допросить маркизу не менее важно, чем ее мужа.
— Ты прав, — согласился Попино, — чего доброго, она сама окажется не в своем уме. Пойду!
— Я заеду за вами; отметьте у себя в записной книжке: «Завтра вечером, в девять часов, зван к г-же д'Эспар». Вот и чудесно, — прибавил Бьяншон, видя, что Попино записал предстоящий визит.
На следующий день, в девять часов вечера, доктор Бьяншон поднялся по грязной лестнице, ведущей в квартиру дяди, и застал его за редактированием решения по какому-то запутанному делу. Портной еще не принес заказанного Лавьеном фрака, и Попино пришлось облачиться в свой старый, замусоленный фрак, так что он остался прежним «ужасным Попино», наружность которого вызывала усмешку на устах тех, кто не знал его добрых дел. Все же Бьяншон заставил его привести в порядок галстук и застегнуться справа налево, скрыв таким образом пятна и выставив на вид чистый еще борт. Но через несколько минут следователь вздернул все кверху, засунув, по своему обыкновению, руки в жилетные карманы. Поношенный фрак собрался складками спереди и сзади, на манер горба, а между жилетом и брюками вылезла рубашка. Как назло, Бьяншон заметил этот смешной беспорядок в костюме своего дяди только тогда, когда Попино уже предстал перед маркизой.
Теперь необходимо сообщить краткие сведения о жизни той особы, к которой отправились доктор со следователем, иначе не понять предстоящей беседы между Попино и ею.
Госпожа д'Эспар уже семь лет была в большой моде в Париже, где мода поочередно то возносит, то низвергает отдельных людей, и они предстают перед нами то великими, то ничтожными, — иначе говоря, то общими баловнями, то людьми всеми позабытыми, а под конец невыносимыми, как впавшие в немилость министры и свергнутые властелины. Эти люди, восхваляющие прошлое, несносны из-за своих устаревших претензий; они все знают, все порицают и, как промотавшиеся расточители, считают себя друзьями всего света. Маркиза д'Эспар, должно быть, вышла замуж в начале 1812 года, судя по тому, что к 1815 году она уже была брошена мужем. Следовательно, старшему ее сыну было пятнадцать, а младшему тринадцать лет. Каким чудом объяснить, что мать семейства, женщина тридцати трех лет, была все еще в моде? Хотя мода своенравна и никто не в состоянии предугадать ее избранников, хотя она нередко высоко возносит жену какого-нибудь банкира или особу сомнительного изящества и красоты, — все же может показаться сверхъестественным, что мода приобрела конституционные замашки и установила преимущества старшинства. Но маркиза д'Эспар ввела в заблуждение моду, как и весь свет, и та сочла ее молодой. Маркизе было тридцать три года по метрике и двадцать два — вечером в гостиной. Каких это стоило забот и ухищрений! Искусно завитые локоны скрывали морщинки на висках. Дома она обрекала себя на полумрак, жалуясь на недомогание, прибегая к спасительным муслиновым занавесям, смягчавшим дневной свет. Как Диана де Пуатье, она принимала холодные ванны и, как она, спала на жестком матраце, подкладывая под голову сафьяновые подушки, чтобы сохранить волосы; она мало ела, пила только воду, рассчитывала каждое свое движение, чтобы не утомляться, и всю свою жизнь подчинила чисто монастырскому уставу. Как говорят, такую строгую систему в наши дни довела до крайности знаменитая полька, которая вместо воды употребляет лед, ест только холодную пищу и, достигнув почти столетнего возраста, предается развлечениям кокетливой женщины. Судьба предопределила ей жить столько же, сколько жила Марион Делорм, умершая, по словам биографов, ста тридцати лет от роду; и вот старая жена наместника Царства Польского, дожив почти до ста лет, пленяет умом, юным сердцем, прелестным лицом, стройным станом; в сверкающем остроумием разговоре ей ничего не стоит сравнить людей и книги нашего времени с людьми и книгами XVIII века. Она живет в Варшаве, а шляпки заказывает в Париже, у мадам Эрбо. Эта великосветская дама отличается пылом молоденькой девушки: она плавает, бегает, как школьница, и умеет опуститься на кушетку с кокетливой грацией юности; она издевается над смертью, смеется над жизнью. Некогда поразив императора Александра, теперь она может восхищать великолепием своих празднеств императора Николая. Еще сейчас она заставит увлеченного ею юношу проливать слезы, ибо ей можно дать столько лет, сколько она сама пожелает; ей свойственна непостижимая влюбчивость гризетки. Словом, она настоящая волшебная сказка, или, если угодно, — сказочная волшебница. Знала ли г-жа д'Эспар г-жу Зайончек? Хотела ли ей подражать? Во всяком случае, маркиза доказала пользу такого образа жизни: цвет лица у нее был прекрасен, лоб — без единой морщинки; тело, как у возлюбленной Генриха II, сохраняло гибкость и свежесть — тайную прелесть, которая возбуждает любовь мужчин и пленяет их. Сам характер маркизы помогал ей соблюдать меры, предотвращающие старость, предписанные знанием, природой, а возможно, и собственным опытом. Маркиза относилась с полнейшим равнодушием ко всему, кроме своей особы; мужчины занимали ее, но не один из них не возбуждал в ней того сильного чувства, которое глубоко волнует женщину и мужчину и часто разбивает их жизнь. Она не знала ни ненависти, ни любви. Когда ее оскорбляли, она мстила холодно и расчетливо, спокойно выжидая случая выполнить свой злобный замысел по отношению к тому, кто оставил ей по себе недобрую память. Она не утруждала себя, не возмущалась; она действовала только словами, зная, что двумя словами женщина в силах убить троих мужчин. Уход г-на д'Эспара она встретила, как это ни странно, с удовлетворением: он взял с собою детей, которые к тому времени порядком ей наскучили, а позже могли повредить ее желанию нравиться. Самые близкие ее друзья, как и самые мимолетные ее поклонники, не видя этих живых сокровищ Корнелии, которые, сами того не зная, своим присутствием выдают возраст матери, считали ее молодой женщиной; и сыновья, о которых, судя по прошению, маркиза так сильно беспокоилась, и их отец были столь же неизвестны свету, как морякам неизвестен Северо-Восточный морской путь. Г-н д'Эспар прослыл оригиналом, покинувшим свою жену, не имея ни малейшего повода на нее жаловаться. Став в двадцать два года независимой женщиной и полновластной владелицей состояния, приносящего двадцать шесть тысяч ливров годового дохода, маркиза долго колебалась, перед тем как на что-нибудь решиться и окончательно определить свою жизнь. Хотя ей остался особняк, на устройство которого муж потратил много денег, вся обстановка, выезд, лошади, — словом, прекрасно поставленный дом, она жила уединенно в течение 1816, 1817 и 1818 годов, когда дворянство только еще оправлялось после потрясений, вызванных политическими событиями. Она принадлежала к одной из самых аристократических и влиятельных фамилий Сен-Жерменского предместья, и родственники посоветовали ей жить уединенно после вынужденной разлуки с мужем, на которую ее обрекла его необъяснимая прихоть. В 1820 году маркиза очнулась от летаргии, стала бывать при дворе, на празднествах, принимать у себя. С 1821 по 1827 год она вела открытый образ жизни и привлекла всеобщее внимание изысканностью своего вкуса и нарядов: она стала принимать у себя в установленные дни и вскоре взошла на трон, где до нее блистали виконтесса де Босеан, герцогиня де Ланже, г-жа Фирмиани, после брака своего с г-ном де Каном уступившая скипетр герцогине де Мофриньез, из рук которой его вырвала уже г-жа д'Эспар. Свет совсем не знал личной жизни маркизы д'Эспар. Казалось, все сулило, что она будет долго блистать на парижском горизонте, как солнце, которое начало клониться к закату, но закатится еще не скоро. Маркиза была связана дружбой с герцогиней, которая славилась как своей красотой, так и преданностью некоему князю, находившемуся тогда в опале, но привыкшему вступать победителем во все вновь образующиеся правительства. Г-жа д'Эспар была близка и с одной иностранкой, у которой в салоне прославленный русский дипломат, известный своей хитростью, толковал события общественной жизни. Наконец ее приголубила одна старая графиня, привыкшая тасовать карты в крупной политической игре. Каждому проницательному человеку было ясно, что г-жа д'Эспар подготовляла таким образом путь к новой, тайной, но подлинной власти, взамен того легковесного влияния, которым ее наделили светский успех и мода. Ее салон принимал политический характер. Уже находилось немало глупцов, у которых то и дело было на языке: «Что у госпожи д'Эспар?» — «У госпожи д'Эспар высказываются против того-то и того-то», — и это придавало толпе ее приверженцев значение политической партии. Несколько обиженных политиков, пригретых и обласканных ею, как, например, любимец Людовика XVIII, с которым уже не считались, министры в отставке, стремящиеся к власти, говорили, что она разбирается в дипломатии не хуже жены русского посла в Лондоне. Не раз маркиза внушала то депутатам, то пэрам слова и мысли, провозглашавшиеся затем с трибуны на всю Европу. Нередко она правильно судила о событиях, о которых ее гости не осмеливались выражать свое мнение. Виднейшие придворные сановники собирались у нее по вечерам за вистом. А кроме того, ее недостатки сходили за достоинства. Она была скрытной, а ее считали сдержанной. Ее дружба казалась надежной. Она покровительствовала своим любимцам с постоянством, которое доказывало, что она больше старалась упрочить свое влияние, нежели умножить число своих приверженцев. Такое поведение вызывалось тщеславием — ее преобладающей страстью. Победы и удовольствия, которые так любят женщины, для нее были только средствами; она хотела ощутить жизнь во всей ее полноте. Среди еще молодых мужчин с блестящим будущим, собиравшихся в ее салоне в дни больших приемов, можно было встретить де Марсе, де Ронкероля, де Монриво, де Ла-Рош-Югона, де Серизи, Ферро, Максима де Трай, де Листомэра, обоих Ванденесов, дю Шатле и других. Нередко она принимала мужа, но отказывалась видеть у себя его жену, и власть ее была уже так велика, что некоторые честолюбивые люди, как, например, оба знаменитых банкира-роялиста — Нусинген и Фердинанд дю Тийе, соглашались на эти тяжкие условия. Она хорошо изучила слабые и сильные стороны парижского светского общества и в соответствии с этим вела себя так, что никто из мужчин не мог приобрести над ней власть. Ни за какие деньги нельзя было достать компрометирующее ее письмо или записку. Если душевная черствость позволяла ей играть безо всяких усилий свою роль, то ее внешность также немало ей помогала. У нее была девичья талия, голос ее по желанию мог быть гибким и свежим, ясным и твердым. Она мастерски владела тайной светского обхождения, с помощью которого женщина заставляет забыть о прошлом. Маркиза знала, как вовремя отстранить человека, вообразившего после случайного успеха, что имеет право на близость с ней, — ее властный взор умел все отрицать. Слушая ее, можно было подумать, что она исполнена благородных чувств, великодушных решений, идущих из глубины души, от чистого сердца, но на самом деле все в ней было голым расчетом, и, чтоб устроить свои собственные дела, она способна была без зазрения совести погубить любого человека, по простоте душевной доверившегося ей. Растиньяк пытался сблизиться с этой женщиной, понимая, какое отменное оружие может в ней приобрести, но не успел он пустить его в ход, а уже сам был им ранен. Молодой политический кондотьер, обреченный, как Наполеон, неизменно добиваться побед, понимая, что первое же поражение станет могилой его карьеры, встретил в лице своей покровительницы опасного противника. Впервые за всю свою бурную жизнь он вел серьезную игру с достойной его партнершей. Завоевание маркизы сулило ему министерский портфель, но она подчинила Растиньяка раньше, чем он ее. Опасное начало!
У г-жи д'Эспар было множество слуг, дом был поставлен на широкую ногу. Большие приемы происходили в первом этаже, сама же маркиза жила во втором. Великолепная парадная лестница, благородное убранство комнат, напоминавших Версаль былых времен, — все указывало на огромное состояние. Перед кабриолетом доктора распахнулись ворота, и следователь быстро разглядел все: швейцарскую, швейцара, двор, конюшни, расположение дома, цветы, украшающие лестницу, блеск полированных перил, стены, ковры; он сосчитал ливрейных лакеев, сбежавшихся на площадку при звуке колокольчика. Взор его, еще накануне открывавший под грязными отрепьями людей, теснившихся в его приемной, величие нищеты, с такой же проницательностью постигал теперь нищету величия в роскошной обстановке комнат, анфиладой которых он шел.
— Господин Попино! Господин Бьяншон!
Фамилии были провозглашены у дверей будуара, очаровательной, заново обставленной комнаты, выходящей окнами в сад. Г-жа д'Эспар сидела в старинных креслах стиля рококо, которые ввела в моду герцогиня Беррийская. Растиньяк устроился по левую руку от нее на низеньком стуле, словно чичисбей итальянской синьоры. Поодаль, у камина, стоял неизвестный господин. Как и полагал опытный врач Бьяншон, маркиза была нервная женщина, сухого телосложения; не соблюдай она строгого режима, лицо ее приняло бы красноватый оттенок, характерный для возбужденного состояния; она подчеркивала свою искусственную бледность теплыми красками тканей в одежде и обстановке. Тона темно-кирпичный, каштановый, коричневый с искрой были ей удивительно к лицу. Будуар ее, копия будуара весьма известной леди, бывшей тогда в моде в Лондоне, был обит бархатом цвета дубовой коры, но она смягчила царственную торжественность этого цвета множеством изящных украшений. Причесана она была, как молоденькая девушка, — на прямой пробор, с локонами вдоль щек, что еще больше подчеркивало удлиненный овал ее лица; но насколько круглое лицо просто, настолько благородно продолговатое. Выпуклые и вогнутые зеркала, по желанию удлиняющие или округляющие лицо, дают неопровержимое доказательство этого правила применительно к любой наружности. Попино замер на пороге, будто испуганное животное, вытянув вперед шею, засунув левую руку в жилетный карман, а правой держа шляпу с засаленной подкладкой, и маркиза с затаенной усмешкой взглянула на Растиньяка. Простоватый и растерянный вид добряка был под стать его нелепому костюму, и Растиньяк, увидев огорченное лицо Бьяншона, который чувствовал себя оскорбленным за дядю, отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Маркиза кивнула ему головой, сделала мучительное усилие, чтобы приподняться с кресла, и снова грациозно опустилась на место, как бы стараясь оправдать свою невежливость хорошо разыгранной слабостью.
Тогда господин, стоявший между камином и дверью, слегка поклонился, пододвинул два стула, указал на них доктору и следователю, а когда те сели, снова прислонился к стене, скрестив на груди руки. Несколько слов об этом человеке. Один из современных нам художников, Декан, в совершенстве владеет искусством заинтересовать тем, что он изображает, — будь то камень или человек. В этом смысле карандаш его отличается бóльшим мастерством, чем его кисть. Он нарисует пустую комнату, поставит там метлу у стены, и вы содрогнетесь, если он того захочет: вам почудится, будто эта метла была орудием преступления, будто она измазана кровью, вы вообразите, что это та самая метла, которой вдова Банкаль подметала комнату, где был убит Фюальдес. Да, художник растреплет метлу, как будто это голова разъяренного человека, он взъерошит ее прутья, словно это вставшие дыбом волосы, сделает ее связующим звеном между тайной поэзией своего воображения и поэзией, пробужденной в вашем воображении. И вот, нагнав на вас ужас этой метлой, он назавтра нарисует другую, возле нее клубочком свернется кошка, но в спящей кошке будет какая-то таинственность, и вы поверите художнику, что это то самое помело, на котором жена немецкого сапожника летает на шабаш. Или, наконец, он изобразит самую безобидную метлу, на которую повесит сюртук чиновника казначейства. Кисть Декана, как и смычок Паганини, гипнотизирует. Да, надо было бы проникнуться стилем этого поразительно одаренного художника, тонким мастерством его рисунка, чтобы изобразить прямого, сухопарого, высокого господина, одетого во все черное, с длинными черными волосами, молча стоявшего у камина. Лицо его было словно лезвие ножа — холодное, острое; цветом своим оно напоминало взбаламученные воды Сены, загрязненные углем с затонувших барж. Он уставился в землю, слушал и взвешивал. Его неподвижность пугала. Он был подобен страшной, обличающей преступления метле Декана. Порой во время беседы маркиза пыталась добиться от него безмолвного совета, на мгновение задерживая на нем взгляд, но, несмотря на красноречие этих немых вопросов, он стоял величавый и окаменелый, словно статуя командора.
Добряк Попино, держа шляпу на коленях, примостился на краешке стула против камина и рассматривал золоченые канделябры, часы, редкие безделушки, расставленные на камине, замысловатый узор штофных обоев — словом, все те дорогие и красивые пустячки, которые окружают светскую женщину. Г-жа д'Эспар отвлекла его от этого обывательского любопытства и пропела нежным голосом:
— Сударь, тысяча благодарностей…
«Тысяча? Не слишком ли много? Хватит и одной, только искренней», — подумал старик.
— Я вам так обязана за то, что вы соблаговолили взять на себя труд…
«Соблаговолили! — подумал он. — Да она издевается надо мной!»
— ...соблаговолили взять на себя труд посетить меня, бедную просительницу; я больна и не выхожу из дома…
Тут следователь смутил маркизу, бросив на нее испытующий взгляд, который сразу определил состояние здоровья «бедной просительницы».
«Она крепка, как дуб», — решил он про себя.
— Сударыня, — ответил он почтительным тоном, — вы мне нисколько не обязаны. Хотя мой визит и не в обычаях суда, но мы не должны ничем пренебрегать для выяснения истины в подобных делах. Тогда наши решения не будут только мертвой буквой закона, нам продиктует их наша совесть. Найду я правду у себя в кабинете или здесь — безразлично, была бы она только найдена.
Пока Попино разговаривал, Растиньяк пожал руку Бьяншону, а маркиза мило кивнула ему с благосклонной улыбкой.
— Кто этот господин? — спросил Бьяншон шепотом у Растиньяка, указывая ему на человека в черном.
— Шевалье д'Эспар, брат маркиза.
— Ваш племянник господин Бьяншон говорил мне, как вы заняты, — сказала маркиза. — Я уже знаю, что вы скрываете свои благодеяния, чтобы избавить людей от обязанности вас благодарить. Кажется, работа в суде крайне вас утомляет. Почему не увеличат штат следователей?
— Эх, сударыня, где там! — возразил Попино. — Оно, конечно бы, неплохо. Да только увеличат штат следователей, когда рак свистнет!
Услышав эти слова, которые так соответствовали всему облику Попино, шевалье смерил его взглядом, как бы говоря: «Ну, с ним справиться нетрудно».
Маркиза посмотрела на Растиньяка, который наклонился к ней.
— Вот они, вершители наших судеб, — сказал молодой денди.
Как и большинство людей, состарившихся за работой в одной и той же области, Попино невольно поддавался профессиональным привычкам, что прежде всего проявлялось в его образе мыслей. В разговоре его чувствовался судебный следователь. Он любил выспросить собеседника, озадачить его неожиданными выводами, заставить сказать то, что тому хотелось бы утаить. Как рассказывают, Поццо ди Борго для забавы выпытывал тайны собеседников, расставляя им дипломатические ловушки; он поступал так, подчиняясь непреодолимой привычке, и обнаруживал при этом свой испытанный в хитростях ум. Как только Попино, так сказать, нащупал почву, он решил, что необходимо прибегнуть к самым искусно замаскированным и хитроумным судебным уловкам, чтобы выведать истину. Бьяншон молчал, холодный и суровый, как человек, решивший вытерпеть пытку до конца, но в душе он желал своему дяде раздавить эту женщину, как гадюку, — длинное платье, гибкое тело, вытянутая шея, маленькая головка и плавные движения маркизы внушали ему это сравнение.
— Итак, сударь, — продолжала г-жа д'Эспар, — хоть это и эгоистично по отношению к вам, но я слишком давно страдаю, а потому не могу не хотеть скорейшего окончания дела. Могу я рассчитывать на скорый и благоприятный исход?
— Сударыня, я сделаю все зависящее от меня, чтобы скорее закончить дело, — ответил Попино с благодушнейшим видом. — Подозреваете ли вы причины разрыва с вами господина д'Эспара? — спросил он, глядя на маркизу.
— Да, сударь, — ответила она, усаживаясь поудобнее и собираясь начать заранее подготовленный рассказ. — В начале тысяча восемьсот шестнадцатого года маркиз, совершенно изменившийся за предшествовавшие три месяца, предложил мне переселиться в его поместье, неподалеку от Бриансона, не считаясь ни с моим здоровьем, для которого губителен климат тех мест, ни с моими привычками; я отказалась. Мой отказ вызвал с его стороны такие несправедливые упреки, что с той минуты я усомнилась в его рассудке. На другой же день он покинул меня, предоставив в мое полное распоряжение свой особняк и доходы, сам же, взяв с собой обоих сыновей, поселился на улице Монтань-Сент-Женевьев.
— Позвольте узнать, сударыня, — прервал ее следователь, — как велики эти доходы?
— Двадцать шесть тысяч ливров, — бросила маркиза и продолжала рассказ. — Я сейчас же обратилась за советом к старику Бордену, желая выяснить, что следует предпринять, но оказалось, что отобрать у отца детей очень трудно, и я вынуждена была примириться с одиночеством в двадцать два года, в возрасте, когда женщины способны на всякие безрассудства. Вы, конечно, прочли мое прошение, вы знаете основные причины, побуждающие меня ходатайствовать о назначении опеки над господином д'Эспаром?
— Просили ли вы его, сударыня, вернуть вам детей? — поинтересовался следователь.
— Да, сударь, но все старания были безуспешны. Для матери мучительно лишиться детской ласки, а ведь женщина, у которой отняты всякие радости, особенно в ней нуждается.
— Старшему, кажется, уже шестнадцать лет? — спросил Попино.
— Пятнадцать, — быстро поправила маркиза.
Тут Бьяншон взглянул на Растиньяка. Г-жа д'Эспар закусила губу.
— Почему вас интересует возраст моих детей?
— Ах, сударыня, — возразил следователь, как будто не придавая значения своим словам, — пятнадцатилетний мальчик и его брат, которому, вероятно, не меньше тринадцати, достаточно умны и расторопны, они могли бы приходить к вам тайком от отца; если они не приходят, значит, подчиняются отцу, а подчиняются потому, что крепко его любят.
— Я не понимаю вас, — сказала маркиза.
— Вы, вероятно, не знаете, — объяснил Попино, — что ваш стряпчий утверждает в прошении, будто ваши дорогие детки очень несчастны, живя с отцом…
Г-жа д'Эспар заявила с очаровательной наивностью:
— Я не знаю, какие слова приписал мне стряпчий.
— Извините меня за эти выводы, но правосудие должно все взвесить, — продолжал Попино. — Я расспрашиваю вас лишь потому, что хочу как следует разобраться в деле. По вашим словам выходит, что господин д'Эспар бросил вас из самых легкомысленных побуждений. Вместо того, чтобы переехать в Бриансон, куда он звал вас, он остался в Париже. Тут что-то неясно. Знал он эту госпожу Жанрено до женитьбы?
— Нет, сударь, — ответила маркиза с некоторым неудовольствием, замеченным, однако, только Растиньяком и шевалье д'Эспаром.
Ее оскорбляло, что следователь выспрашивает ее, тогда как она сама рассчитывала воздействовать на него, но Попино, по-прежнему погруженный в размышления, казался человеком простоватым, и она приписала его расспросы «вопросительному зуду» вольтеровского судьи.
— Родители, — продолжала она, — выдали меня в шестнадцать лет замуж за маркиза д'Эспара, чье имя, состояние, привычки отвечали всем требованиям, какие моя семья предъявляла к моему будущему мужу. Тогда господину д'Эспару было двадцать шесть лет, он был джентльменом в настоящем смысле этого слова; мне нравились его манеры, он казался очень честолюбивым, а я ценю честолюбцев, — прибавила она, взглянув на Растиньяка. — Если бы господин д'Эспар не встретил эту самую Жанрено, то благодаря своим достоинствам, знаниям, уму, он мог бы стать влиятельным лицом, как полагали тогда его друзья; король Карл Десятый, в те дни еще только брат короля, очень его ценил, и его ждало пэрство, придворные должности, высокое положение… Эта женщина затуманила его разум и разрушила будущее всей семьи.
— Каковы были тогда религиозные убеждения господина д'Эспара?
— Он всегда был и по сие время остался глубоко верующим человеком, — сказала маркиза.
— А не могла ли госпожа Жанрено играть на его мистических настроениях?
— Нет, сударь.
— У вас прекрасный дом, сударыня, — вдруг сказал Попино. Он встал, вынул руки из жилетных карманов и раздвинул фалды фрака, чтобы погреться у камина. — Ваш будуар очарователен. Великолепные кресла, роскошная обстановка! В самом деле, как мучаетесь вы здесь, зная, что ваши дети плохо устроены, плохо одеты, что их плохо кормят. Для матери, по-моему, это хуже всего!
— Да, сударь. Я так хотела бы доставить какое-нибудь удовольствие бедным мальчикам, ведь отец заставляет их с утра до вечера сидеть над скучнейшей историей Китая.
— Вы даете блестящие балы, они повеселились бы у вас; а впрочем, они привыкли бы, пожалуй, к рассеянному образу жизни. Все же отец мог бы разрешить им погостить у вас раза два в течение зимы.
— Они бывают у меня на Новый год и в день моего рождения. В эти дни господин д'Эспар милостиво изволит обедать с ними у меня.
— Странное поведение! — сказал Попино тоном убежденного человека. — А случалось вам видеть эту госпожу Жанрено?
— Как-то мой деверь, желая помочь брату…
— А! — прервал Попино маркизу. — Значит, вы, сударь, брат маркиза д'Эспара?
Черный шевалье молча поклонился.
— Господин д'Эспар в курсе дела, он возил меня в Ораторию, где эта женщина слушает проповеди, — она протестантка. Я видела ее там, в ней нет ничего привлекательного, просто безобразная торговка, толстая, рябая, с огромными руками и ногами, косоглазая, — словом, настоящее чучело.
— Непостижимо! — пробормотал Попино, прикидываясь самым простодушным следователем в королевстве. — И эта особа живет здесь, совсем близко, в особняке на улице Верт! Нет больше лавочников, все одворянились!
— На этот особняк ее сын истратил бешеные деньги.
— Сударыня, — сказал следователь, — я живу в предместье Сен-Марсо, я не представляю себе расходов такого рода; что называете вы бешеными деньгами?
— Помилуйте, — воскликнула маркиза, — конюшня, пять лошадей, три экипажа: коляска, карета, кабриолет.
— И получается изрядная сумма? — с удивлением спросил Попино.
— Огромная, — вмешался в разговор Растиньяк. — При подобном образе жизни на конюшню, выезды и ливреи уходит от пятнадцати до шестнадцати тысяч.
— Возможно ли это, сударыня? — продолжал недоумевать следователь.
— Да, это самое меньшее, — ответила маркиза.
— А чтоб обставить особняк, понадобилась тоже изрядная сумма?
— Не меньше ста тысяч франков, — подсмеиваясь над простотою следователя, ответила маркиза.
— Следователь, сударыня, — продолжал Попино, — человек недоверчивый, за это самое ему и платят, я тоже таков. Что же, барон Жанрено с матерью попросту обобрали господина д'Эспара? Одна конюшня, как вы говорите, обходится в шестнадцать тысяч франков в год. На стол, жалованье слугам, большие расходы по дому нужно еще вдвое больше, так что всего потребуется пятьдесят — шестьдесят тысяч в год. Откуда у этих людей, еще недавно совсем нищих, могут быть такие средства? Миллион и то дает не больше сорока тысяч ливров годового дохода.
— Мать и сын вложили деньги, переданные им господином д'Эспаром, в государственную ренту, когда она стоила от шестидесяти до восьмидесяти франков. Я полагаю, что их доходы должны превышать шестьдесят тысяч франков. Сын получает к тому же прекрасное жалованье.
— Если он тратит шестьдесят тысяч франков, то сколько же тратите вы?
— Да примерно столько же, — ответила г-жа д'Эспар.
Черного господина передернуло, маркиза покраснела, Бьяншон взглянул на Растиньяка; но следователь хранил неизменное благодушие, что обмануло г-жу д'Эспар. Шевалье больше не пытался вступать в разговор, он понял, что все проиграно.
— Эти люди, сударыня, — сказал Попино, — могут быть привлечены к уголовному суду по особо важным делам.
— Вполне с вами согласна, — поддержала его восхищенная маркиза. — Надо пригрозить смирительным домом, и они пойдут на полюбовную сделку.
— Сударыня, — спросил Попино, — когда господин д'Эспар вас покинул, не оставил ли он вам доверенности на управление и распоряжение имуществом?
— Я не понимаю цели этих вопросов, — живо возразила маркиза. — Мне кажется, если принять во внимание, до чего довело меня безумие моего мужа, вы должны заниматься им, а не мною.
— Сударыня, — ответил Попино, — доберемся и до него. Прежде чем доверить вам или кому-либо другому управление имуществом господина д'Эспара в случае взятия маркиза под опеку, суд должен знать, как управляете вы своим собственным имуществом. Если господин д'Эспар дал вам соответствующие полномочия, он, следовательно, оказал вам доверие, и суд примет это во внимание. Была у вас доверенность? Могли вы покупать и продавать недвижимость, приобретать ценные бумаги?
— Нет, сударь, не в обычаях Бламон-Шоври заниматься торговлей, — забыв об успехе дела, возмутилась маркиза, оскорбленная в своей дворянской гордости. — Мои поместья остались нетронутыми, и господин д'Эспар не давал мне никакой доверенности.
Шевалье прикрыл глаза рукой, чтобы скрыть досаду, вызванную недальновидностью невестки, которая губила себя своими ответами. Попино шел упорно к своей цели, хотя и окольными путями допроса.
— Сударыня, — сказал следователь, указывая на шевалье, — этот господин, без сомнения, преданный вам родственник? Мы можем говорить вполне откровенно в присутствии этих лиц?
— Говорите, — ответила маркиза, удивленная такой предосторожностью.
— Допустим, сударыня, вы тратите не больше шестидесяти тысяч франков в год, — и эта сумма покажется еще скромной каждому, кто увидит ваши конюшни, ваш особняк, многочисленных слуг, весь уклад вашего дома, который своим блеском, как мне кажется, затмевает дом Жанрено.
Маркиза кивнула головой.
— Итак, — продолжал следователь, — если в вашем распоряжении всего двадцать шесть тысяч франков дохода, то, говоря между нами, у вас наберется долгов тысяч на сто. Суд будет вправе предположить, что ваше требование взять под опеку мужа продиктовано личной корыстью, необходимостью расплатиться с долгами, если только они у вас есть. О вас говорили со мною, и я заинтересовался вашим положением, обдумайте его сами, будьте откровенны. Если мои предположения правильны, все же можно еще избежать неприятностей, угрожающих вам в случае, если суд воспользуется своим правом вынести порицание за сокрытие истинных обстоятельств дела. Мы обязаны разбирать побуждения просителей так же, как и выслушивать доводы того, кто подлежит опеке, — выяснять, не возбуждено ли дело под влиянием какой-либо страсти или корыстолюбия — к несчастью, нередко имеющим место…
Маркиза сидела, как на раскаленных угольях.
— ...и мне надо получить кое-какие разъяснения по этому вопросу, — сказал следователь. — Сударыня, я не требую отчета, но не объясните ли вы мне, откуда была у вас возможность, да еще в течение нескольких лет, вести образ жизни, требующий шестидесяти тысяч ливров дохода? Немало найдется женщин, творящих подобные чудеса в своем хозяйстве, но вы к ним не принадлежите. Расскажите все; вы, возможно, располагаете вполне законными средствами: королевскими пожалованиями, какими-нибудь суммами, выданными вам согласно недавнему закону о возмещении, — но ведь для получения их необходима доверенность вашего мужа.
Маркиза молчала.
— Подумайте, — прибавил Попино, — господин д'Эспар, несомненно, воспротивится вашим домогательствам, и его поверенный будет вправе поинтересоваться, есть ли у вас долги. Ваш будуар заново обставлен, в доме уже не та мебель, которую в тысяча восемьсот шестнадцатом году оставил вам господин маркиз. Я имел честь слышать от вас, что обстановка стоила Жанрено немало, но ведь она еще дороже обошлась вам, великосветской даме. Хоть я и следователь, но я человек и могу ошибиться. Объясните же мне положение дел. Подумайте об обязанностях, которые возлагает на меня закон, о тщательных разысканиях, которые закон требует произвести, прежде чем взять под опеку отца семьи, находящегося в цвете лет. Итак, сударыня, простите мне сомнения, которые я имел честь изложить вам, и не откажите в любезности кое-что разъяснить. Когда человека берут под опеку как душевнобольного, то назначают над ним опекуна. Кто же будет этим опекуном?
— Его брат, — сказала маркиза.
Шевалье поклонился. На минуту воцарилось молчание, тягостное для всех присутствующих. Следователь как бы невзначай коснулся больного места этой женщины. Простоватый с виду Попино, над которым маркиза, шевалье д'Эспар и Растиньяк были склонны посмеяться, предстал перед ними в истинном свете. Исподтишка разглядывая его, все трое уловили изменчивую красноречивую выразительность его рта. Смешной человек на глазах преображался в прозорливого следователя. Внимание, с каким он рассматривал будуар, подсчитывая стоимость его обстановки, стало теперь понятным; он начал с золоченого слона, поддерживающего каминные часы, и кончил тем, что узнал настоящую цену самой маркизе.
— Допустим, маркиз д'Эспар и помешался на Китае, но как будто вам самой тоже нравятся китайские вещицы, — заметил Попино, указывая на драгоценные безделушки, украшавшие камин. — А может быть, их подарил вам господин маркиз?
Эта остроумная насмешка развеселила Бьяншона, а Растиньяка поразила; маркиза закусила тонкие губы.
— Сударь, — сказала г-жа д'Эспар, — вы должны бы защитить женщину, поставленную перед страшным выбором: либо потерять состояние и детей, либо стать врагом собственного мужа, а вы обвиняете меня! Вы сомневаетесь в чистоте моих намерений! Согласитесь, ваше поведение странно..
— Сударыня, — с живостью ответил Попино, — осмотрительность, с какой суд подходит к делам подобного рода, заставила бы всякого другого следователя быть еще более придирчивым. Неужели же вы думаете, что адвокат господина д'Эспара будет на все смотреть сквозь пальцы? Разве он не постарается очернить намерения, которые, быть может, чисты и бескорыстны? Он вторгнется в вашу жизнь, начнет беспощадно копаться в ней, я же отношусь к вам с почтительной деликатностью.
— Благодарю вас, сударь, — иронически заметила маркиза. — Предположим на минуту, что я должна тридцать, пятьдесят тысяч франков, это сущий пустяк для семьи д'Эспаров и Бламон-Шоври; разве это обстоятельство может помешать взять под опеку моего мужа, если он не в здравом уме?
— Нет, сударыня, — ответил Попино.
— Хотя вы и расспрашивали меня с коварством, в данном случае совершенно излишним для следователя, так как и без всяких особых ухищрений можно было узнать истину, — продолжала она, — и хотя я считаю себя вправе больше ничего не отвечать на ваши вопросы, я чистосердечно признаюсь вам, что мое положение в свете, усилия, к которым я прибегаю для поддержания связей, совершенно не соответствуют моим вкусам. Сначала я долго жила в одиночестве, но меня стала тревожить судьба детей, я поняла, что должна заменить им отца. Принимая друзей, поддерживая связи, делая долги, я старалась обеспечить им в будущем помощь и поддержку, готовила им блестящую карьеру; а на все это, достигнутое благодаря мне, многие расчетливые люди, чиновники или банкиры, не пожалели бы никаких денег.
— Я высоко ценю вашу самоотверженность, сударыня, — ответил следователь. — Она делает вам честь, и мне не в чем вас упрекнуть. Суду надлежит всем интересоваться; он должен все знать, должен все взвесить.
Чувство такта и привычка разбираться в людях подсказали маркизе, что на г-на Попино не могут повлиять никакие расчеты. Она думала встретить честолюбивого чиновника, а неожиданно столкнулась с совестливым человеком. Внезапно у нее мелькнула мысль, что своей цели она добьется другими путями. Лакеи подали чай.
— Сударыня, не желаете ли вы еще что-нибудь сообщить мне? — спросил Попино, увидев приготовления к чаю.
— Сударь, — высокомерно бросила маркиза, — исполняйте свой долг: допросите господина д'Эспара, и вы сами меня пожалеете, я не сомневаюсь…
Подняв голову, она гордо и дерзко взглянула на Попино; старик почтительно поклонился.
— Нечего сказать, хорош твой дядюшка, — сказал Растиньяк Бьяншону. — Что он, совсем ничего не понимает? Не знает, кто такая маркиза д'Эспар, представления не имеет, каким пользуется она влиянием, как велика ее тайная власть над светом? Завтра у нее будет хранитель печати.
— Я тут ни при чем, — возразил Бьяншон. — Ведь я же тебя предупреждал! Дядюшка человек неподатливый.
— Ну, так ему поддадут как следует, — сказал Растиньяк.
Доктор раскланялся с маркизой и бессловесным шевалье и поспешил за Попино, который не склонен был затягивать неудобное положение и уже семенил к выходу.
— У этой женщины долгов наберется на сто тысяч экю, — заметил следователь, садясь в кабриолет своего племянника.
— Что думаете вы об этом деле?
— Я ничего не могу сказать, пока всего не разузнаю, — сказал следователь. — Завтра с утра я вызову к себе к четырем часам госпожу Жанрено и попрошу объяснить известные компрометирующие ее обстоятельства.
— Мне бы хотелось узнать, чем закончится это дело.
— Ах, господи! Неужели ты не видишь? Ведь маркиза — орудие в руках этого длинного сухого господина, который не проронил ни слова. Он немного сродни Каину, но этот Каин ищет палицу в суде, где, на его беду, кой у кого сохранился еще меч Самсона.
— Ах, Растиньяк, Растиньяк! — воскликнул Бьяншон. — И понес же тебя черт в это болото!
— Мы уже привыкли к семейным заговорам; не проходит и года, чтобы суд, за отсутствием оснований, не прекращал дела об учреждении над кем-нибудь опеки. В нашем обществе не клеймят позором подобные попытки, и в то же время мы посылаем на каторгу оборванца, разбившего стекло, чтобы завладеть золотом. Нет, нашим законам далеко до совершенства!
— Ну, а факты, изложенные в прошении?
— Дорогой мой, ты до сих пор не подозреваешь, какие сказки плетут клиенты своим поверенным. Если бы стряпчий брался только за защиту справедливых интересов, ему не окупить бы даже стоимости своей конторы.
На другой день, в четыре часа дня, тучная женщина, несколько напоминавшая бочку, на которую напялили платье с поясом, пыхтя и обливаясь потом, поднималась по лестнице к Попино. С великими трудностями вылезла она из зеленого ландо, которое было ей под стать. Толстуху невозможно было себе представить без ее зеленого ландо, а ландо — без толстухи.
— Ну, вот и я, уважаемый! — доложила она, появляясь в дверях кабинета. — Я госпожа Жанрено. Вы потребовали меня к себе, словно какую-то воровку.
Эти обыденные слова, произнесенные обыденным голосом, прерывались астматической одышкой и закончились приступом кашля.
— Ах, сударь, вы не представляете себе, как вредна мне сырость. Не в обиду вам будь сказано, я долго не протяну. Ну, вот и я!
Следователь опешил при виде сей предполагаемой маршальши д'Анкр. У г-жи Жанрено было красное, изрытое оспой, круглое, как луна, лицо с низким лбом и вздернутым носом; да и вся она была кругла, как шар. У нее были живые глаза сельской жительницы, простодушный вид, бойкая речь, темно-русые волосы, прикрытые поверх чепчика зеленой шляпой с потрепанным букетиком желтых цветочков. На ее объемистую грудь нельзя было смотреть без смеха; когда она кашляла, казалось, что лиф вот-вот лопнет; а ноги у нее были толстые, как тумбы; парижские мальчишки называют таких женщин трамбовками. На вдове Жанрено было зеленое платье, отделанное шиншиллой и сидевшее на ней, как на корове седло. Словом, вся ее наружность была в духе ее заявления: «Ну, вот и я!»
— Сударыня, — обратился к ней Попино, — вас подозревают в обольщении маркиза д'Эспара, в вымогательстве у него значительных сумм…
— В чем, в чем подозревают? — завопила она. — В обольщении? Но, уважаемый, ведь вы человек почтенный, следователь, — значит, должны быть с понятием. Посмотрите на меня! Ну кто на меня такую позарится! Мне наклониться и завязать шнурки на башмаках — и то не под силу. Слава те господи, вот уже двадцать лет, как я не ношу корсета, — боюсь богу душу отдать. В семнадцать лет я была тоненькая, как тростинка, и прехорошенькая, — что уж теперь скромничать! И вышла я замуж за Жанрено, человека самостоятельного, хозяина соляной баржи. У меня родился сын, красавец, моя гордость, — не хвалясь, скажу, что сын удался у меня на славу! Мой мальчуган был солдатом у Наполеона, да не из последних, в императорской гвардии служил. Увы! Старик мой утонул — и все пошло прахом! Я заболела оспой, два года сиднем сидела у себя в комнате, а вылезла оттуда, видите, какой толстухой, изуродованная навсегда, несчастная… Ну чем тут обольстить?..
— Но, сударыня, почему же тогда господин д'Эспар давал вам такие…
— Огромные суммы, так? Пожалуйста, не стесняйтесь! Ну, а вот почему давал — говорить не велено.
— Напрасно. В настоящее время его семья, не без основания встревоженная этим, начала дело…
— Господи боже мой! — воскликнула она, вскочив как ужаленная. — Неужто он пострадает из-за меня? Он — праведник, другого такого на свете нет! Да мы все ему отдадим, господин судья, только бы он не знал никаких горестей, только бы ни один волос у него с головы не упал. Так и запишите в своих бумагах. Господи боже мой! Побегу я к Жанрено, расскажу, что случилось. Ай-ай! Дела-то какие!
И толстуха вскочила, бросилась к дверям, кубарем скатилась с лестницы и исчезла.
«Вот эта не лжет, — подумал следователь. — Ну что же, подождем до завтра; завтра отправлюсь к маркизу д'Эспару».
Люди, пережившие тот возраст, когда неосмотрительно расточают силы, знают, какое огромное влияние подчас оказывают на важные события ничем не примечательные с первого взгляда случайности, и не удивятся поэтому, что следующее пустяковое обстоятельство оказалось столь значительным. На другой день Попино нездоровилось, у него был самый обыкновенный насморк. Не подозревая, сколь опасна может быть затяжка дела, старик, которого слегка знобило, остался дома и отложил допрос маркиза д'Эспара. Пропущенный день сыграл в данном случае такую же роль, как и бульон, из-за которого Мария Медичи опоздала в день одураченных на свидание с Людовиком XIII, что дало возможность Ришелье приехать первым в Сен-Жермен и вновь покорить своего царственного пленника. Прежде чем отправиться за следователем и его протоколистом к маркизу д'Эспару, стояло бы, пожалуй, познакомиться с домом, обстановкой и образом жизни этого отца семейства, представленного в прошении его жены умалишенным.
В старых кварталах Парижа встречаются здания, вид которых говорит археологу об известном стремлении украсить город и о любви к своему дому, побуждающей строить на совесть. Дом, где в ту пору проживал г-н д'Эспар, на улице Монтань-Сент-Женевьев, являл собой один из таких старинных памятников; он был выстроен из тесаного камня с некоторым архитектурным великолепием, но камни почернели от времени, а внешняя и внутренняя отделка пострадала от коловращения городской жизни; высокопоставленные лица, некогда проживавшие в Университетском квартале, выехали оттуда вместе с высшими церковными учреждениями; в доме нашли себе пристанище такие промыслы и такие жильцы, для которых он не предназначался. В конце прошлого века там помещалась типография; паркет был испорчен, деревянные панели загрязнились, стены почернели, почти везде комнаты были наново перегорожены. В этом величественном здании, некогда принадлежавшем кардиналу, квартировали теперь безвестные жильцы. Архитектура его указывала на то, что оно построено во времена Генриха III, Генриха IV или Людовика XII — в ту же пору, когда возводились близ него дворцы Миньон, Серпант, дворец Анны Гонзаго и когда расширялась Сорбонна. Какой-то старик уверял, будто в прошлом веке он назывался особняком Дюперрона. Вполне возможно, что знаменитый кардинал построил его или, по крайней мере, жил там. В глубине двора до сих пор сохранился боковой каменный подъезд-перрон, в сад выходил другой перрон, расположенный посередине заднего фасада. Несмотря на упадок, в котором находилось здание, археологи могут обнаружить в скульптурном орнаменте обоих перронов наивный намек на витые шнуры, украшавшие кардинальскую шляпу Дюперрона. Маркиз д'Эспар занимал нижний этаж, — без сомнения, ради удовольствия пользоваться садом, имевшим два преимущества, очень важных для здоровья его сыновей: он выходил на юг и был довольно большим для этого квартала. Местоположение дома, — на улице, само название которой указывало на крутой подъем, — было достаточно высоким, что оберегало от сырости даже первый этаж. Г-н д'Эспар поселился здесь, чтоб жить поблизости от учебных заведений и наблюдать за образованием своих сыновей, и, надо полагать, снял это помещение за весьма скромную плату, ибо в то время квартиры здесь были недороги. Да и владелец, верно, был сговорчив, так как помещение пришло в полный упадок и требовало основательного ремонта. Таким образом, г-н д'Эспар мог разрешить себе произвести некоторые затраты, чтобы получше устроиться и все же не прослыть безумцем. Высокие комнаты, их расположение, прекрасные потолки, деревянная обшивка стен, от которой остались одни лишь рамы, — все здесь дышало тем величием, которое в старину церковь придавала всему, предпринятому и созданному ею, которое художники находят и поныне во всем, что уцелело от этой старины, — будь то книга, одежда, створка книжного шкафа или какое-нибудь кресло. Деревянная обшивка была по распоряжению маркиза окрашена в коричневые тона, любимые голландцами и старой парижской буржуазией, да и в наши дни придающие особенную прелесть полотнам художников-жанристов. Стены были оклеены гладкими обоями, прекрасно подобранными под цвет панелей. На окнах висели занавески из недорогой материи, гармонирующие со всей обстановкой. Мебели было немного, но расположена она была со вкусом. Каждого, кто входил в этот дом, охватывало безмятежное и отрадное чувство, навеянное глубокой тишиной и покоем, царившими там, скромностью и гармонией красок, если придавать этому выражению смысл, какой вкладывают в него живописцы. Благородство во всех мелочах, безукоризненная чистота, полное соответствие между вещами и людьми — все подсказывало одно определение: приятный дом. Мало кто допускался в покои маркиза и его сыновей, и соседям жизнь их могла казаться таинственной. В другой части здания, выходящей на улицу, на четвертом этаже находились три большие комнаты, где после пребывания там типографии царил разгром и невероятное запустение. Эти три комнаты, предназначенные для работ над изданием «Живописной истории Китая», были отведены для конторы, склада и кабинета, где г-н д'Эспар проводил часть дня: он приходил к себе в кабинет после завтрака и оставался там до четырех часов дня, наблюдая за предпринятым им изданием. Там обычно принимал он и посетителей. Часто его сыновья, возвратившись из школы, прямо поднимались к отцу наверх. Комнаты первого этажа были как бы святилищем, где с обеденного часа и до утра маркиз уединялся с сыновьями. Итак, семейная жизнь его была старательно ограждена от посторонних взглядов. Из прислуги он держал только старуху-кухарку, с давних пор работавшую в его семье, и лакея лет сорока, который служил у маркиза еще до женитьбы его на девице де Бламон. При мальчиках находилась гувернантка. Чистота и порядок в комнатах говорили о том, как была преданна г-ну д'Эспару эта женщина, ведавшая хозяйством и ходившая за детьми. Все трое домочадцев, серьезные и малообщительные, понимали, казалось, цель, которой подчинил маркиз свою домашнюю жизнь. Отличие их привычек от привычек, обычно свойственных барской челяди, бросалось всем в глаза, окутывало дом покровом какой-то тайны и давало обильную пищу клевете, чему немало содействовал и сам г-н д'Эспар. По вполне уважительным причинам маркиз не сближался с жильцами дома. Он занялся воспитанием детей и решил оградить их от соприкосновения с чуждыми им людьми. Возможно также, что он хотел отделаться от навязчивых соседей. Подобное поведение знатного дворянина в годы, когда либерализм, как никогда прежде, захватил Латинский квартал, разжигало мелкие страсти, ничтожные и низкие чувства, порождающие сплетни в швейцарских, язвительные пересуды на лестнице, неизвестные ни г-ну д'Эспару, ни его слугам. Лакей его прослыл иезуитом, кухарка — притворщицей, экономка же — сообщницей г-жи Жанрено, обиравшей помешанного. А помешанным называли самого маркиза. Мало-помалу жильцы стали объяснять безумием многие поступки г-на д'Эспара и судачили о них между собой, не находя в них ни капли смысла. Мало веря в успех издания, посвященного Китаю, они кончили тем, что убедили домовладельца, будто г-н д'Эспар сидит без денег, и сделали это как раз в то самое время, когда, по рассеянности, свойственной занятым людям, он просрочил уплату налога и получил из управления сборами повестку о принудительном взыскании. И вот 1 января домовладелец письменно потребовал от него взноса квартирной платы, а привратница потехи ради задержала эту бумагу. 15 января было уже вынесено постановление, которое привратница опять слишком поздно отдала г-ну д'Эспару, полагавшему, впрочем, что произошла какая-то путаница: он не допускал злостных намерений со стороны человека, в доме которого прожил двенадцать лет. На имущество маркиза был наложен судебным приставом арест в тот самый момент, когда лакей г-на д'Эспара собирался отнести домовладельцу деньги за помещение. Об этом случае с умыслом было рассказано лицам, с которыми маркиз был связан деловыми отношениями; кое-кто из них встревожился, тем более что они и так уже сомневались в его платежеспособности, обеспокоенные россказнями о громадных суммах, которые якобы вымогали у него барон Жанрено и его мать. Подозрения жильцов, кредиторов и домовладельца почти оправдывались чрезмерной экономией маркиза в его личных расходах. Он вел себя, как разорившийся человек. Покупая что-нибудь у соседних лавочников, люди его немедленно расплачивались за всякую мелочь, словно боялись долгов; если бы они попросили отпустить что-нибудь на слово, то им, наверное, отказали бы: так подорвали в квартале кредит маркиза гнусные сплетни. Некоторые лавочники благоволят к неаккуратным плательщикам, поддерживающим с ними добрые отношения, и недолюбливают исправных, если те держатся слишком независимо и не якшаются с ними, — слово грубое, но выразительное. Таковы уж люди. Почти во всех слоях общества они покровительствуют пролазам и низким душонкам, которые им льстят, и питают неприязнь к людям, которые оскорбляют их своим превосходством, в чем бы оно ни выражалось. Лавочник, хулящий королевский двор, окружен собственными придворными. Словом, образ жизни маркиза и его сыновей неизбежно должен был вызвать озлобление соседей, и оно достигло того предела, когда люди не останавливаются уже перед подлостью, чтобы погубить своего воображаемого врага. Г-н д'Эспар был дворянином до мозга костей, как жена его была великосветской дамой; такие люди теперь почти перевелись во Франции, и лиц, которые подходят под это определение, можно перечесть по пальцам. Эти люди выросли еще на старой почве, на верованиях, унаследованных от отцов, на привычках, укоренившихся с детства. Для того чтобы верить в чистоту крови, в привилегию породы, надо в душе считать себя выше других, с самого рождения чувствовать расстояние между патрицием и плебеем. Можно ли повелевать, признавая других равными себе? Наконец, и само воспитание укрепляло мысли, естественные для вельмож, увенчанных дворянской короной еще до того, как мать запечатлела на их челе первый поцелуй Такие мысли и такое воспитание более невозможны во Франции, где вот уже сорок лет, как случай присвоил себе право жаловать дворянство, омывая своих избранников кровью сражений, позлащая их славой, венчая ореолом гения; где из-за отмены законов о заповедном имуществе и майорате дробятся земельные владения и дворяне вынуждены заниматься своими собственными делами, вместо того, чтобы заниматься делами государственными; где величие личности стало величием, утверждаемым в постоянно напряженном труде. Наступила новая эра. Г-н д'Эспар, если рассматривать его как обломок великого здания феодализма, вызывал почтительное восхищение. Он признавал, что происхождение возвышает его над толпой; но он признавал также и все обязанности дворянства; он обладал добродетелями и твердостью, которые требуются от человека благородного происхождения В этих правилах воспитал он детей и с колыбели внушил им веру в свою касту. Глубокое чувство собственного достоинства, фамильная гордость, уверенность в собственном значении породили в них царственную надменность, рыцарскую отвагу и отеческую доброту феодального сеньора; манеры их соответствовали их образу мыслей и были бы прекрасны при дворе, но раздражали всех на улице Монтань-Сент-Женевьев, в этой стране равенства, если только таковая существует, где, впрочем, все считали г-на д'Эспара разоренным, где все от мала до велика отказывали в привилегиях дворянства дворянину без состояния, ибо каждый считал здесь, что они должны принадлежать разбогатевшим буржуа. Итак, отчужденность между этой семьей и соседями была не только внешней, но и внутренней.
У отца, как и у детей, наружность соответствовала всему их духовному облику. Г-н д'Эспар, — ему было тогда лет пятьдесят, — мог бы служить образцом родовитого дворянина XIX века. Худощавый, светловолосый, с благородным лицом, он обладал каким-то прирожденным изяществом, говорившим о возвышенных чувствах; однако он поражал своей подчеркнутой холодностью, как бы требуя к себе особого уважения. Орлиный, слегка искривленный вправо нос, — недостаток, не лишенный своеобразной прелести, — синие глаза, высокий лоб с резкими надбровными дугами, только сильнее оттенявшими глаза, сгущая их синеву, — все указывало на ум прямой и настойчивый, на безупречную честность, но в то же время придавало его лицу какое-то странное выражение. Крутой лоб действительно мог показаться отмеченным печатью безумия, а густые сросшиеся брови еще усиливали своеобразие лица. У него были белые, холеные руки аристократа, узкая, с высоким подъемом нога. Речь у него была невнятная, заикающаяся, манера излагать свои мысли — неясная, и у собеседника создавалось впечатление, будто он, как принято выражаться в просторечии, плетет языком, сбивается, не находит главного, сам себя прерывает, не заканчивает фразы. Этот чисто внешний недостаток совсем не вязался с твердой линией рта и резко очерченным профилем. Несколько порывистая походка соответствовала его манере говорить. Все эти особенности как бы подтверждали приписываемое ему помешательство. Всегда тщательно одетый, он тем не менее очень мало тратил на самого себя, по три, по четыре года носил один и тот же черный сюртук, старательно вычищенный старым слугой. Оба его сына отличались красотой и тем особым изяществом, которое уживается с аристократической надменностью. Прекрасный цвет лица, ясный взгляд, нежная, прозрачная кожа свидетельствовали о чистоте нравов, правильном образе жизни, равномерном чередовании работы и развлечений. У обоих были черные волосы и синие глаза, слегка искривленный, как у отца, нос, но, возможно, от матери они унаследовали спокойную уверенность речи, взгляда и осанки, свойственную всем Бламонам-Шоври. Их голоса, чистые, как хрусталь, волновали душу и очаровывали своей мягкостью; словом, женщина жаждала бы услышать такой голос, после того как заглянула бы в синее пламя таких глаз В их гордости была своеобразная скромность, целомудренная сдержанность, своего рода noli me tangere[2]; будь они старше, во всем этом можно было бы заподозрить расчет, настолько они возбуждали желание узнать их поближе. Старшему, графу Клеману де Негреплису, пошел шестнадцатый год. Уже два года, как он снял изящную английскую курточку, какую еще носил младший брат, виконт Камилл д'Эспар. Граф, полгода тому назад оставивший коллеж Генриха IV, был одет как молодой человек и, видимо, испытывал удовольствие от своего первого элегантного костюма. Отец не хотел, чтобы юноша загубил целый год на изучение философии, и решил завершить его образование изучением высшей математики. Кроме того, маркиз обучал его восточным языкам, международному праву, геральдике, истории по первоисточникам: по грамотам, летописям, сборникам узаконений. Камилл же только недавно перешел в класс риторики.
День, избранный Попино для допроса г-на д'Эспара, пришелся на четверг, когда в коллежах нет занятий. Оба брата играли в саду до девяти часов утра, пока не проснется отец. Младший брат впервые собирался отправиться в тир и просил старшего замолвить за него словечко перед отцом и получить разрешение. Клеман пытался сопротивляться его уговорам. Виконт всегда чуть-чуть злоупотреблял тем, что он был сильнее брата, и нередко вызывал его на драку. И вот оба мальчика под конец увлеклись, принялись бороться и драться, забавляясь, как школьники. Гоняясь друг за другом по саду, они расшалились и разбудили отца; не замеченный ими в пылу боя, он смотрел на них из окна. Маркиз с радостью глядел на сыновей; тела их сплетались, как змеи; лица, разгоряченные борьбой, раскраснелись, глаза метали искры, руки и ноги извивались, словно струна на огне; они падали, подымались, вновь сходились, как борцы на арене, и доставляли отцу то ощущение счастья, которое вознаграждает за самые жгучие страдания бурной жизни. Двое жильцов — один в третьем, другой во втором этаже — принялись злословить насчет помешанного старика, стравливающего себе на потеху собственных детей. Сейчас же отовсюду высунулись любопытные физиономии, маркиз их заметил и позвал сыновей. Они тут же взобрались на подоконник и спрыгнули к нему в спальню, и через минуту Клеман добился разрешения для Камилла. У соседей же только и было разговоров, что о новом признаке помешательства маркиза.
Когда около полудня Попино с протоколистом вошли в дом и спросили г-на д'Эспара, привратница взялась проводить их на четвертый этаж и по дороге рассказала, как г-н д'Эспар еще сегодня утром стравил своих сыновей и смеялся, словно изверг, каким он и был на самом деле, видя, что младший до крови искусал старшего, и как ему хотелось, чтобы дети разорвали друг друга у него на глазах.
— А спросите-ка почему? — прибавила она. — Ну, на это он и сам вам не ответит.
Привратница вынесла свой приговор уже на площадке четвертого этажа, у самой двери с объявлением о выходящих выпусках «Живописной истории Китая». Грязная площадка, испачканные перила, дверь со следами типографской краски, разбитое окно, потолок, на котором ученики, балуясь, написали коптящей свечой разные непристойности, кучи бумаг и мусора, нарочно или по небрежности наваленные в углах, — словом, все подробности представшей перед ними картины так наглядно подтверждали все, сообщенное маркизой, что, несмотря на все свое беспристрастие, следователь не мог не поверить ей.
— Вот вы и пришли, господа, — сказала привратница. — Заведенье всем на удивленье! Тут на китайские дела денег столько просадили, что хватило бы на целый квартал.
Протоколист с усмешкой взглянул на Попино, и тот с трудом удержался от улыбки. В первой комнате они застали старика, который, как видно, был одновременно рассыльным, кладовщиком и кассиром. Старик этот был мастер на все руки по «китайским делам». Вдоль стен тянулись длинные полки, заваленные отпечатанными уже выпусками. В дальнем конце комнаты за деревянной решетчатой перегородкой, изнутри задернутой зелеными занавесками, находилось нечто вроде кабинета. По полукруглому окошечку для выдачи денег видно было, где помещается касса.
— Могу я видеть господина д'Эспара? — обратился Попино к старику в серой блузе.
Кладовщик открыл дверь в соседнюю комнату; там следователь и протоколист увидели скромно одетого седовласого старика с орденом Святого Людовика на груди. Сидя за столом, он сравнивал цветные эстампы и при виде посетителей оторвался от работы. Эта скромная комната, служившая конторой, была завалена книгами и оттисками. За другим столом, выкрашенным в черную краску, должно быть, обычно еще кто-то работал.
— Сударь, я имею честь говорить с маркизом д'Эспаром? — спросил Попино.
— Нет, сударь, — ответил старик, вставая. — Какая у вас до него надобность? — прибавил он, подходя к вошедшим с учтивостью благовоспитанного аристократа.
— Мы хотели бы поговорить с ним по сугубо личным делам, — ответил Попино.
— Д'Эспар, тут тебя два господина спрашивают, — сказал старик, проходя в последнюю комнату, где маркиз у камина читал газеты.
В кабинете на полу лежал потертый ковер, на окнах висели занавеси сурового полотна; из мебели здесь стояло несколько стульев красного дерева, два кресла, секретер, высокая конторка, а на камине дрянные часы и два старых канделябра. Старик ввел в комнату Попино и протоколиста и предложил им стулья, словно он был хозяином дома; г-н д'Эспар спокойно ждал. После взаимных приветствий, во время которых следователь наблюдал предполагаемого умалишенного, маркиз, естественно, поинтересовался целью визита. Тогда Попино посмотрел на старика и на маркиза достаточно выразительным взглядом.
— Я полагаю, господин маркиз, — объяснил г-н Попино, — что характер моих обязанностей и порученное мне расследование требуют, чтобы мы остались с вами наедине, хотя закон допускает в подобных случаях присутствие домашних при допросе. Я следователь суда первой инстанции департамента Сены и направлен к вам председателем суда, чтобы допросить вас о фактах, изложенных в прошении маркизы д'Эспар о взятии вас под опеку.
Старик вышел из комнаты. Когда следователь приступил к беседе с маркизом, протоколист закрыл дверь, бесцеремонно уселся за конторкой, разложил на ней свои бумаги и приготовился вести протокол. Попино не спускал глаз с г-на д'Эспара, он наблюдал, как тот воспринял заявление, такое жестокое для всякого нормального человека. Маркиз д'Эспар, обычно бледный, как все блондины, так и вспыхнул от гнева, весь передернулся, сел, положил газету на камин и опустил глаза. Он тотчас же взял себя в руки и стал разглядывать следователя, как видно пытаясь понять по лицу, что это за человек.
— Почему же, сударь, меня не предупредили о подобном прошении? — спросил он.
— Маркиз, принято считать, что лица, подлежащие опеке, находятся не в здравом уме, а потому предупреждать их о такого рода заявлениях бесполезно. Обязанность суда проверить прежде всего доказательства просителя.
— Вполне правильно, — ответил маркиз. — Итак, сударь, не откажите в любезности сказать мне, что я должен вам сообщить?
— Вы должны только отвечать на мои вопросы, не упуская никаких подробностей. Как бы ни были деликатны причины вашего поведения, давшего повод госпоже д'Эспар подать это прошение, говорите смело. Нет надобности заверять вас, что суд знает свои обязанности и что в подобных случаях гарантируется строжайшая тайна…
— Сударь, — ответил маркиз, лицо которого выражало неподдельную муку, — а каковы будут последствия, если мои показания бросят тень на поведение госпожи д'Эспар?
— Суд может вынести ей порицание при мотивировке своего решения.
— Это порицание обязательно? Если я попрошу вас, прежде чем давать вам показания, чтобы суд в своем решении не допустил ничего оскорбительного для госпожи д'Эспар в случае благоприятного для меня исхода дела, — будет ли принята во внимание моя просьба?
Следователь взглянул на маркиза, и эти два благородных человека без слов поняли друг друга.
— Ноэль, — обратился Попино к протоколисту, — выйдите в соседнюю комнату. Я позову вас, когда вы понадобитесь. Если, как я сейчас предполагаю, — продолжал он, когда протоколист вышел, — в основе вашего дела лежит что-либо, не подлежащее оглашению, обещаю вам, что суд уважит вашу просьбу и будет действовать деликатно. Первое обвинение, выдвинутое против вас госпожой д'Эспар, — самое серьезное, и я прошу вас разъяснить его мне, — сказал следователь, помолчав. — Речь идет о растрате вами вашего состояния ради некоей госпожи Жанрено, вдовы владельца речной баржи, или, вернее, ради сына ее — полковника Жанрено, для которого вы исхлопотали у короля гвардейский полк и которому так покровительствуете, что устраиваете ему выгодный брак. Прошение заставляет думать, что ваша приязнь превосходит своей горячностью всякое чувство, как допустимое нравственностью, так и порицаемое ею.
Внезапно краска залила все лицо маркиза, даже слезы навернулись у него на глаза и смочили ресницы; но справедливое негодование преодолело чувствительность, которая считается слабостью у мужчины.
— Правду сказать, сударь, — ответил маркиз изменившимся голосом, — вы ставите меня в очень затруднительное положение. Мотивы моего поведения должны были умереть вместе со мной… Объясняя их, я принужден обнажить перед вами скрытые раны, доверить вам честь нашей семьи и говорить о самом себе, а вы понимаете, как это трудно. Я надеюсь, что все это останется между нами. Вы найдете, конечно, юридическую форму, чтобы выразить ваше решение и не упоминая о моих признаниях…
— Можете быть спокойны, маркиз.
— Спустя некоторое время после моей женитьбы, — начал г-н д'Эспар, — моя жена растратила столько денег, что мне пришлось прибегнуть к займу. Ведь вам известно, каково было положение дворянства во время революции? У меня не было средств ни на управляющего, ни на стряпчего. В наши дни почти все дворяне вынуждены сами вести свои дела. Большая часть бумаг на земельные владения в Лангедоке, Провансе или Конта были перевезены отцом в Париж: отец не без основания боялся розысков, предпринимавшихся в целях уничтожения фамильных бумаг землевладельцев, или, как тогда говорили, дворянских грамот. Мы происходим из рода Негреплис. Д'Эспар — имя, связанное с титулом, приобретенным при Генрихе Четвертом через брак, принесший нам земли и маркизат при условии, что мы соединим с нашим гербом герб старинного беарнского рода д'Эспаров, связанного по материнской линии с домом д'Альбре, — четверочастный щит, по золотому полю три черные перевязи, по лазоревому полю две скрещенные серебряные лапы грифонов с червленными когтями со знаменитым девизом: Des partem leonis[3]. В то время мы потеряли Негреплис, маленький городок, покрывший себя славой в годы религиозных войн, так же как и предок мой, носивший его имя. Вождь католиков Негреплис был разорен пожаром: протестанты не пощадили друга Монлюка. Королевская власть отнеслась несправедливо к Негреплису; он не получил ни маршальского жезла, ни управления какой-либо провинцией, ни награды; Карл Девятый, любивший его, умер, не успев воздать ему должное; Генрих Четвертый содействовал его браку с девицей д'Эспар и закрепил за ним земли этого дома; но все имущество Негреплисов уже перешло в руки заимодавцев. Мой прадед, маркиз д'Эспар, как и я, вынужден был совсем молодым взяться за дела, когда отец его умер, промотав состояние своей жены и оставив ему только земли, перешедшие от рода д'Эспар, но с выделом вдовьей части. Молодой маркиз д'Эспар находился в очень стесненных обстоятельствах, тем более что он нес службу при дворе. Он пользовался благосклонностью Людовика Четырнадцатого, и королевская милость стала источником его богатств. Вот тогда, сударь, и легло на наш герб никому не известное пятно, грязное и кровавое пятно; его я и смываю. Я узнал эту тайну из земельных документов Негреплиса и из старых писем.
В эту торжественную минуту маркиз говорил без заикания, не повторял, как обычно, одних и тех же слов; нетрудно убедиться, что лица, страдающие этими двумя недостатками в обычной обстановке, освобождаются от них, когда страсть вдохновляет их речь.
— Нантский эдикт был отменен, — продолжал он. — Возможно, вы знаете, сударь, что большинству королевских любимцев отмена эдикта принесла богатство. Людовик Четырнадцатый раздавал вельможам земли, отобранные у протестантов, не успевших продать свои владения. Несколько королевских любимцев отправились, как тогда говорили, на охоту за протестантами. Так я убедился, что земли, принадлежащие в настоящее время двум герцогским фамилиям, были отобраны у злополучных негоциантов. Я не стану объяснять вам, юристу, какие сети расставляли беглецам, старавшимся вывезти свои крупные капиталы; скажу только, что владения Негреплис, в которые входили двадцать два прихода и право на город, что земли Граванж, некогда также принадлежавшие нашему роду, были в те времена собственностью протестантской семьи. Мой дед получил их в дар от короля Людовика Четырнадцатого. Дар этот был актом величайшей несправедливости. Владелец этих земель, надеясь вернуться во Францию, оформил фиктивную продажу их и собрался выехать в Швейцарию, куда он уже отправил свою семью. Вероятно, он решил воспользоваться всеми предоставляемыми указом отсрочками, чтобы привести в порядок свои дела. Человек этот был арестован по приказу губернатора, подставной покупатель сознался, беднягу негоцианта повесили, и мой дед, который был замешан в этом темном деле, получил его земли; губернатор был его дядей с материнской стороны, и мне, к несчастью, попалось письмо, в котором дед просил похлопотать за него перед «Богоданным» — так называли короля его придворные. О жертве в письме говорилось в таком пренебрежительно-шутливом тоне, что я содрогнулся. Мало того, деньги, присланные во Францию эмигрировавшей семьей, чтобы спасти жизнь отцу, были приняты губернатором, что не помешало ему отправить беднягу на тот свет.
Маркиз д'Эспар остановился, — как видно, воспоминания все еще угнетали его.
— Несчастного звали Жанрено, — продолжал он. — Имя это должно объяснить вам мое поведение. Я не мог вспоминать без острого стыда о позорной тайне, запятнавшей прошлое нашего рода. Это богатство дало возможность деду жениться на девице Наваррен-Лансак, наследнице всех владений младшей ветви этого рода, в то время более богатой, чем старшая. Так отец стал одним из крупных землевладельцев королевства. Он женился на моей матери, представительнице младшей линии рода Гранлье. Состояние, нечестно нажитое, как это ни странно, пошло нам впрок. Решив немедленно исправить зло, я написал в Швейцарию и не успокоился, пока не напал на след потомков этого протестанта. В конце концов я узнал, что Жанрено, дошедшие до полной нищеты, покинули Фрейбург и вернулись во Францию. И вот мне стало известно, что наследник этой несчастной семьи — господин Жанрено, скромный лейтенант кавалерийских войск Бонапарта. С моей точки зрения, права семьи Жанрено бесспорны. Но, чтобы восстановить их права, надо было привлечь к ответственности фактических владельцев земель, не так ли, сударь? К каким же властям могли обратиться эти изгнанники? Суд ждет нас на небесах, или, вернее, он здесь, — сказал маркиз, ударяя себя в грудь. — Я не хотел, чтобы сыновья думали обо мне так, как я думаю о своем отце и предках: я хотел, чтобы они унаследовали незапятнанный герб и состояние, я не хотел, чтобы мое поведение дало повод считать благородство пустым звуком. К тому же, рассуждая исторически, какое право имеют на земли, добытые преступной конфискацией, эмигранты, восстающие против конфискаций революционных? В лице же господина Жанрено и его матери я встретил щепетильно честных людей: послушать их, так покажется, что они меня грабят. Несмотря на все мои уговоры, они согласились принять лишь то, что стоили эти земли в ту пору, когда наш род получил их от короля. Стоимость эту мы определили в миллион сто тысяч франков, причем они предоставили мне право выплаты по собственному моему усмотрению и без всяких процентов. Мне пришлось отказаться на длительный срок от всех доходов, чтобы выполнить это обязательство. И вот тогда, сударь, рассеялись мои иллюзии относительно госпожи д'Эспар. Когда я предложил ей покинуть Париж и поселиться в провинции, где на половину наших доходов мы могли бы прилично прожить и таким образом скорее выплатить долг, о котором я рассказал ей, не касаясь кое-каких тяжких обстоятельств этого дела, госпожа д'Эспар сочла меня сумасшедшим. Тогда я понял истинный характер жены; она с легким сердцем одобрила бы поведение моего деда, нисколько не думая о гугенотах; испугавшись ее бессердечности и равнодушия к детям, которых она отдала мне без всякого сожаления, я расстался с нею, оставив ей все ее состояние и уплатив наши общие долги. Она заявила, что не желает расплачиваться за мои глупости. Не имея достаточных средств на жизнь и образование сыновей, я решил воспитывать их сам и сделать их мужественными и подлинно благородными людьми. Я приобрел на свои доходы процентные бумаги, мне удалось расплатиться скорее, чем я надеялся, так как я выиграл на повышении процентов. Оставив себе с сыновьями четыре тысячи ливров, я мог бы выплачивать только двадцать тысяч экю в год и освободился бы от лежащих на мне обязательств только лет через восемнадцать; однако недавно я выплатил уже все — миллион сто тысяч франков. Итак, я счастлив, что исполнил свой долг, не причинив ни малейшего ущерба сыновьям. Таковы, сударь, причины, побуждавшие меня выплачивать деньги госпоже Жанрено и ее сыну.
— Итак, — спросил Попино, сдерживая волнение, вызванное этим рассказом, — маркиза знает причину вашего отшельничества?
— Да, сударь.
Попино достаточно красноречиво пожал плечами, порывисто встал и открыл дверь кабинета.
— Ноэль, вы можете идти, — сказал он протоколисту. — Сударь, — продолжал следователь, — хотя после того, что вы рассказали, мне все ясно, я, однако, хотел бы услышать от вас кое-что и о других фактах, упоминаемых в прошении. Так, вы взялись за коммерческое предприятие — занятие, неподходящее для человека благородного происхождения.
— Неудобно говорить здесь об этом, — сказал маркиз, знаком приглашая Попино последовать за собой. — Нувьон, — обратился он к старику, — я сойду к себе вниз, скоро вернутся дети, оставайся обедать с нами.
— Значит, ваша квартира не здесь, маркиз? — спросил Попино на лестнице.
— Нет, сударь. Я снимаю это помещение под контору типографии. Взгляните, — продолжал он, указывая на объявление, — официально «История Китая» издается не мною, а одним из самых почтенных парижских книгопродавцев.
Маркиз повел следователя на первый этаж.
— Вот моя квартира, — сказал он.
Попино умилила та скорее непринужденная, чем изысканная поэзия, которой дышал этот мирный приют. Погода была чудесная, в широко открытые окна из сада доносился аромат цветов; солнечные блики оживляли слегка потемневшую деревянную обшивку и радовали глаз. Осмотрев все вокруг, Попино подумал, что умалишенный вряд ли был бы способен создать пленительную гармонию, так поразившую его в эту минуту.
«Вот бы мне такую квартиру!» — подумал он.
— Вы скоро собираетесь выехать отсюда? — спросил он маркиза.
— Надеюсь, — ответил маркиз. — Но я подожду, пока младший сын окончит школу и характер у моих детей вполне сложится, только тогда введу я их в общество и допущу близость с матерью; кроме того, я хотел бы, чтобы полученное ими солидное образование они пополнили путешествиями: пусть посетят столицы Европы, понаблюдают людей и нравы, привыкнут разговаривать на языках, которые изучали. Сударь, — сказал он, усаживая следователя в гостиной, — мне неудобно было говорить с вами об издании «Истории Китая» при старом друге нашей семьи, графе де Нувьоне, вернувшемся из эмиграции без всякого состояния; с ним вместе я и затеял это дело, не столько ради себя, сколько ради него. Не посвящая его в причины моего уединения, я сказал ему, что я тоже разорен, но все же у меня еще хватит денег на то, чтобы начать дело, в котором он будет мне полезен. Учителем моим был аббат Грозье; Карл Десятый, в чье владение перешла библиотека Арсенала, когда он был еще только братом короля, по моей просьбе назначил его туда библиотекарем. Аббат Грозье прекрасно изучил Китай, его нравы, обычаи; он приобщил меня к своим знаниям в том возрасте, когда трудно не увлечься до самозабвения тем, что изучаешь. В двадцать пять лет я знал китайский язык и, должен сказать, всегда с невольным восхищением относился к этому народу, завоевавшему своих завоевателей; к народу, чьи летописи восходят ко временам значительно более древним, чем мифологические или библейские времена; к народу, который, опираясь на незыблемые традиции, сохранил в неприкосновенности свою страну, где памятники достигают гигантских размеров, управление превосходно, перевороты невозможны, где идеал прекрасного принимается как принцип бесполезного искусства, где изысканная роскошь достигла предела, а ремесла доведены до совершенства, которого нам не превзойти, меж тем как этот народ не уступает нам даже в тех областях, где мы верим в свое превосходство.
Но если иной раз я и готов подшутить над нашими порядками, сравнивая Европу с Китаем, я все же французский дворянин, а не китаец. Если вас смущает финансовая сторона моего предприятия, я могу вам засвидетельствовать, что мы насчитываем две с половиной тысячи подписчиков на это литературное, иконографическое, статистическое и религиозное монументальное издание, значение которого всеми признано; у нас есть подписчики во всех европейских странах, в одной только Франции мы насчитываем их тысячу двести. Подписная цена на наше издание составляет около трехсот франков, и граф де Нувьон получит на свою долю от шести до семи тысяч ливров дохода, — ведь забота о его благосостоянии и была тайной причиной, побудившей меня взяться за это предприятие. Сам же я рассчитываю доставить на эти доходы кое-какие удовольствия детям. Сто тысяч франков, попутно приобретенные мною, пойдут на оплату уроков фехтования, на лошадей, наряды, развлечения, на обучение изящным искусствам, на уроки рисования, на книги, которые им захочется купить, — на все те прихоти, которые так приятно удовлетворять отцу. Если бы пришлось отказывать в этих радостях моим милым сыновьям, вполне заслужившим их своим трудолюбием, жертва, которую я приношу, чтобы спасти честь нашего рода, была бы для меня еще тягостней. Сказать правду, за те двенадцать лет, что я живу вдали от света, воспитывая сыновей, меня совершенно забыли при дворе. Я отказался от политической карьеры, я утерял славу, освященную историей, не приобрел новой, которую мог бы передать детям, но наш род ничего не потерял, — я вырастил благородных людей. Если я не получил пэрства, то они добьются его честно, посвятив себя служению родине и оказав ей услуги, которые не забываются. Смыв пятно с нашего рода, я обеспечил ему блестящее будущее: разве не выполнил я высокий долг, хотя он и не принес мне ни признания, ни славы? Желаете ли вы получить от меня еще какие-нибудь разъяснения?
В эту минуту во дворе раздался стук копыт.
— Да вот и они, — сказал маркиз.
В гостиную, весело пощелкивая хлыстиками, вошли два подростка, просто и элегантно одетые, в ботфортах со шпорами, в перчатках. Их оживленные лица, разрумянившиеся на свежем воздухе, дышали здоровьем. Оба пожали руку отцу, обменялись с ним, как с другом, нежным взглядом и холодно поклонились следователю. Попино счел совершенно излишним расспрашивать маркиза о его отношениях с сыновьями.
— Хорошо провели время? — спросил их маркиз.
— Да, отец. Для первого раза я сбил шесть кукол двенадцатью выстрелами! — сказал Камилл.
— Где вы были?
— В Булонском лесу! Мы встретили там мать.
— Она говорила с вами?
— Мы в эту минуту так мчались, что она вряд ли видела нас! — ответил молодой граф.
— Но почему же вы не подъехали к ней поздороваться?
— Боюсь, отец, что она не любит, когда мы заговариваем с ней в обществе, — тихо сказал Клеман. — Мы уже слишком взрослые.
У следователя был достаточно тонкий слух, он уловил эти слова, несколько омрачившие маркиза. Попино с удовлетворением наблюдал встречу отца с детьми. Его глаза с какой-то особенной нежностью остановились на маркизе д'Эспаре, лицо и манеры которого говорили о самой высокой честности, осмысленной и рыцарской, о благородстве во всем его блеске.
— Вы… вы видите, сударь, — обратился к нему маркиз, вновь начиная заикаться. — Вы видите, представители правосудия могут… могут явиться сюда… сюда в любую минуту; да, в любую минуту. Если здесь кто и безумен, если кто и безумен, так это только дети, дети, которые немного без ума от своего отца, и отец, который совершенно без ума от своих сыновей; но это безвредное безумие.
В эту минуту в передней раздался голос г-жи Жанрено, и она ворвалась в гостиную, несмотря на протесты лакея.
— Некогда мне церемонии разводить! — кричала она. — Да, господин маркиз, — сказала она, раскланиваясь со всеми, — мне надо немедленно с вами поговорить. Ах ты, господи боже мой, опоздала, упредил-таки меня уголовный судья.
— Уголовный? — воскликнули мальчики.
— Ну понятно, где же мне было вас дома застать, когда вы уж тут как тут. Ах, эти судейские кляузники! Только и думают, как бы напакостить порядочным людям. Знайте, господин маркиз, мы с сыном все вам вернем, ведь тут затронута ваша честь. Мы с сыном все, все вернем, только бы не знали вы никаких огорчений. Ей-богу, надо круглым дураком быть, чтобы взять вас под опеку…
— Отца под опеку? — ужаснулись мальчики, бросаясь к маркизу. — Что случилось?
— Замолчите, сударыня! — прикрикнул на нее Попино.
— Дети, оставьте нас, — сказал маркиз.
Оба мальчика, хоть и очень взволнованные, беспрекословно вышли в сад.
— Сударыня, — сказал Попино, — те деньги, которые маркиз передал вам, принадлежат вам на законном основании, хотя господин д'Эспар излишне строго понимает честность. Если бы все люди, владеющие землями, захваченными при тех или иных обстоятельствах, подчас даже нечестным путем, принуждены были через полтораста лет возвратить их прежним собственникам, не много бы осталось во Франции законных владений. Двадцать дворянских семейств разбогатели, получив состояние Жака Кера, многие принцы королевской крови весьма приумножили свои владения за счет противозаконных конфискаций, произведенных англичанами в пользу своих приверженцев в те времена, когда англичане владели частью Франции. Наше законодательство позволяет маркизу д'Эспару распоряжаться своими доходами по собственному усмотрению, и никто не может обвинить его в расточительстве. Опеке подлежат люди, действия которых лишены всякого разумного основания, но тут передача вам состояния вызвана самыми достойными, самыми священными побуждениями. Итак, можете сохранить все вами полученное, не терзайтесь угрызениями совести и предоставьте свету злословить о прекрасном поступке графа. В Париже и самую чистую добродетель не пощадит самая грязная клевета. Прискорбно, что в современном обществе нас поражает своим благородством поведение маркиза. Ради блага Франции хотел бы я, чтобы подобные поступки казались у нас самыми обычными; но нравы наши таковы, что господин д'Эспар выделяется на их фоне как человек, которого следует венчать лаврами, а никак не угрожать ему опекой. За всю мою долгую судебную практику никогда я не видел и не слышал ничего, что тронуло бы меня так, как тронуло то, что я видел и слышал здесь. Но ведь вполне естественно встретить высшую добродетель в человеке, который помнит, к чему его обязывает благородное происхождение. Надеюсь, после моих слов вы, маркиз, можете положиться на мою скромность и спокойно отнесетесь к суду, если он состоится.
— Ну, славу богу! — сказала г-жа Жанрено. — Вот это судья так судья! Знаете, уважаемый, расцеловала бы я вас, не будь я такой уродиной. Говорит как по-писаному!
Маркиз протянул руку Попино, и тот сердечно пожал ее, бросив на г-на д'Эспара, великого в частной жизни, взгляд, полный проникновенного понимания, а маркиз ответил ему ласковой улыбкой. Эти два человека, такие одаренные, такие великодушные, один — буржуа чистой жизни, другой — аристократ, исполненный высоких чувств, сблизились друг с другом тихо, без потрясений, без взрыва страстей, словно слились два ясных, светлых луча. Отец всего квартала почувствовал себя достойным протянуть руку этому вдвойне благородному человеку, а маркизу подсказало сердце, что рука этого судьи никогда не устанет творить добрые дела.
— Маркиз, — сказал Попино, раскланиваясь, — к своему большому удовольствию, могу засвидетельствовать, что с первых же ваших слов я счел присутствие протоколиста излишним. — Затем, подойдя к маркизу, он отошел с ним к окну и прибавил: — Вам пора вернуться к прежней жизни: мне кажется, маркиза находится в этом деле под чьим-то влиянием, с которым вам незамедлительно надо начать борьбу.
Попино вышел из дома, и на дворе, даже на улице, он все еще оглядывался, умиленный воспоминаниями об этой сцене. Такие впечатления никогда не изглаживаются из памяти и воскресают, когда душа жаждет утешения.
«Эта квартира мне бы очень подошла, — раздумывал Попино, возвращаясь домой. — Если господин д'Эспар съедет, я ее сниму…»
На другой день, около десяти часов утра, Попино, который накануне письменно изложил свое заключение по делу, направился во Дворец правосудия, собираясь совершить суд скорый и правый. Когда он вошел в гардеробную, чтобы надеть мантию, служитель передал ему, что председатель суда ждет его у себя в кабинете. Попино тотчас к нему отправился.
— Добрый день, дорогой Попино, — сказал ему председатель суда, — я вас ожидал.
— Господин председатель, дело идет о чем-нибудь серьезном?
— Пустяки, — ответил председатель. — Хранитель печати, с которым я имел честь вчера обедать, поговорил со мной, с глазу на глаз. До него дошло, что вы пили чай у госпожи д'Эспар, дело которой вы должны были расследовать. Он дал мне понять, что лучше бы вам не принимать участия в этом процессе.
— Ах, господин председатель, уверяю вас, что я ушел от госпожи д'Эспар как раз в тот момент, когда подали чай, к тому же моя совесть…
— Да, да, — заторопился председатель, — весь суд, оба его отделения, весь Дворец правосудия — все знают вас. Я не буду повторять вам того, что я говорил о вас его светлости, но ведь вы знаете: жена цезаря должна быть вне подозрений. Так вот, мы и не подымаем из-за этих пустяков вопроса о судебной дисциплине, а хотим уладить все без шума. Между нами говоря, это касается больше суда, чем вас.
— Но, господин председатель, если бы вы знали, какого рода это дело, — сказал следователь, пытаясь вытащить свой доклад из кармана.
— Я наперед скажу, что вы подошли к делу с полной беспристрастностью. Случалось и мне самому, когда я был простым судьей в провинции, пить чай, и не только чай, у людей, которых мне предстояло судить, но что поделаешь, раз хранитель печати обратил на это внимание, — могут пойти разговоры, а суд обязан оградить себя от всяких сплетен. Всякое столкновение с общественным мнением опасно для судейского сословия даже тогда, когда право на нашей стороне, ведь оружие-то неравное! Чего только не выдумают газетчики, чего только они нам не припишут, а нам, по нашему положению, неудобно даже отвечать. Впрочем, я уже договорился с вашим председателем, и вместо вас, согласно вашему прошению, будет назначен Камюзо. Все устроили по-семейному. Так вот подайте прошение о собственном отводе. Я прошу вас об этом как о личной услуге; вы будете вознаграждены крестом Почетного легиона, который вы давно заслужили; это уж я беру на себя.
Тут, низко кланяясь, вошел г-н Камюзо, следователь, недавно переведенный из провинции. Увидя его, Попино не мог удержаться от иронической улыбки. Этот бледный белокурый молодой человек, снедаемый тайным честолюбием, казалось, в угоду сильным мира сего готов был вздернуть на виселицу или снять с нее и правого и виноватого, следуя скорее примеру Лобардемона, чем Моле. Поклонившись им обоим, Попино удалился; он счел ниже своего достоинства опровергать возведенное на него лживое обвинение.
Париж, февраль 1836 г.
Примечания
1
Вот! (итал.)
(обратно)2
Не тронь меня (лат.).
(обратно)3
Отдай львиную долю (лат.).
(обратно)

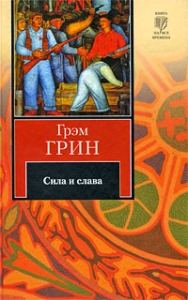
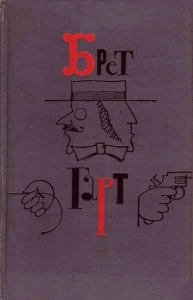
Комментарии к книге «Дело об опеке», Оноре де Бальзак
Всего 0 комментариев