Владимир Абрамов Хочу женщину в Ницце
«И всё это, и вся эта заграница,
и вся эта ваша Европа, всё это
одна фантазия, и все мы за границей,
одна фантазия… помяните мое слово,
сами увидите!»
Ф. Достоевский «Идиот»Часть 1
Кесарийская известковая плита с надписью «Августу Тиберию Понтий Пилат префект Иудеи посвятил…»
«Твой отец – язычник», говорила мне мама не потому, что была ортодоксальной христианкой, а потому, что отец больше увлекался римскими древностями, чем ею. Меня она в сердцах часто называла «поганцем», хотя, если честно, мне больше нравилось, когда в мой адрес бросалось просто «погань». Так было короче, и было на что обижаться. Но я все равно не обижался на маму, потому что она была права. Я никогда не понимал, что означает «вести себя правильно»: в школе говорили, что я веду себя, мягко говоря, «неподобающе», а в компании преуспевающих взрослых я всегда ощущал себя ничтожеством. Таким, как я, место только у заводского станка, искренне полагала моя классная руководительница. Тем не менее, отец настоял на том, чтобы устроить меня в МГУ на исторический факультет, хотя мама была против. Я был полностью согласен с нею, потому что хотел быть банкиром, и, как отец, сидеть в большом кабинете и подсчитывать доходы на калькуляторе. «Если не хочешь, чтобы он учился в финансовом, давай, я устрою его в нашу Плешку», – предлагала мама, но отец настоял на своем. «Сынок, – говорил папа, – если из тебя толку в жизни не будет, ты в отличие от мамы хотя бы будешь знать, что означает слово «погань». Мой отец слыл среди близких друзей утонченным эпикурейцем, наивно полагая, что удовольствие есть высшее благо.
– Негоже вкушать вам, взгальным, одни удовольствия! – возмущалась моя бабушка, когда подавала горячее в гостиную и принималась судачить с гостями о нашем благородном семействе.
Ах да, бабушка! Я еще совсем ничего не сказал про папину маму, мою бабушку Варю, которая когда-то гладила меня по головке, приговаривая: «Дися, не надо перечить старшим!» Я как мог, старался быть вежливым, но как же было не перечить, когда это было совсем не comme il faut. Нас тогда никто не подталкивал, мы сами спешили свалиться в пылкие объятия общества потребления, где можно было все и сразу, и попробовать, и купить, где мораль становилась свободнее, а, значит, каждый мог стать самим собой, не парясь о последствиях, оттого и для бабушки с ее устаревшими взглядами я вдруг стал выродком. Нет, я не превратился в отпетого наркомана и не приходил домой под кайфом, как мои друзья, в рваной одежде, демонстрируя на голом торсе броские тату, но все чаще вместо ласкового «Дися» или просто «Денис» я слышал у себя за спиной именно это грохочущее слово «выродок».
«Tempora mutartur», – говорили древние, и мы, студенты девяностых и нулевых годов менялись вместе со временем. Меня пытались воспитывать всем семейством, отчего мою мятущуюся душу несусветно колбасило. Вечерами выводили в театры и рестораны. При этом рядили в подобие русского интеллигента по лекалам лучших итальянских кутюрье, по ходу знакомя с девочками из порядочных семей. Наверное, поэтому бабушке поначалу могло показаться, что они были на правильном пути. А коли так, то последним мазком к незавершенному портрету молодого московского интеллигента, по ее мнению, должна была стать моя неподдельная любовь к творчеству Михаила Булгакова, точнее, к его последнему роману про Мастера. Несомненно, бабушкина тяга к прекрасному была однобока и навязчива, и перечить ей было себе дороже, но в этом-то и заключалась особенность моего вредного характера. Чем убедительнее я давал ей понять, что мне глубоко безразлична книга о любви Мастера к Маргарите, тем чаще это творение оказывалось у меня в комнате, лежащим на углу большого письменного стола, который приобрел отец у своего антиквара по случаю. Поначалу я наивно думал, что это намек на «квартирный вопрос», что так подпортил жизнь москвичам во времена творческих лет Булгакова. Потом оказалось, что это совсем не так, поскольку моими предками к радости бабушки был уже давно внесен крупный аванс для приобретения на мое имя комфортного жилья в строящемся доме на Удальцова у них под боком, и просто мне об этом до поры до времени никто не спешил говорить.
Однажды я застал бабушку Варю у себя в комнате с тем же увесистым предметом черного цвета в руках и с ходу дал ей понять, что худо-бедно прослушал университетский курс по истории Древнего Рима и пока читать весь этот гениальный опус не собираюсь. В ответ на немой вопрос «почему», который застыл в ее потухших от возраста глазах, я не выдержал и выхватил у нее из рук толстый том из собрания Михаила Афанасьевича под номером 5, который был для бабушки скорее Святой библией, чем просто книгой, и, демонстративно раскрыв перед нею вторую главу с кратким названием «Понтий Пилат», стал читать вслух те первые строки, которые уже много лет вызывают неистовый восторг на лицах московской творческой богемы. «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой…» – я на секунду прервал свою театральную декламацию и бросил взгляд на бабушку, но не увидев на ее лице ни следа настороженности, а только умиление, продолжил: «Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла…». Я не мог более сдержать улыбки, полной сарказма, и, закрыв книгу, бросил ее на стол.
– Ну что, тебе достаточно, – сказал я с раздражением в голосе, торжествуя оттого, что интриговал ничего пока не понимающую бабушку.
– Чего достаточно, – возмутилась моя благородная воспитательница.
– Как чего?! Я прочел тебе только два первых предложения и сразу обнаружил целых четыре исторические ошибки! Заметь, я учусь в университете только на третьем курсе, но сразу бросается в глаза столько неточностей! Они и в кино потом перекочевали автоматом. Во всяком случае, так говорил, потешаясь над дремучестью киношников, наш уважаемый профессор по истории греко-римской античности.
– Ты меня за дуру не считай, черт чудной, а объясни толком, – снова возмутилась она.
С некоторых пор я стал отмечать, что извлекать былое из-под спуда постепенно становилось не только сутью моей будущей профессии, но и страстью.
– Пожалуйста, – сказал я с благосклонностью мэтра, – лишь бы ты все поняла. То, что Понтий Пилат был совсем не прокуратором Иудеи, как полагал Корнелий Тацит в своих «Анналах», а префектом, сейчас ни у кого из здравомыслящих любителей истории не вызывает сомнения, особенно если принять во внимание ту археологическую находку, которую итальянцы извлекли в начале 60-х годов XX века из морских глубин у берегов древнего города Кесария в Израиле, где когда-то находилась резиденция римских правителей, в том числе и Пилата. Найденный артефакт в виде известняковой плиты с латинской надписью наконец подтвердил реальное существование Понтия Пилата и его правильной должности. Я видел плиту своими глазами и даже прикасался к ней руками.
– Что же с нами происходит, святой отец, – вздохнула бабушка, – каждый раздолбай мнит себя черт знает кем. Умник, это все, что ты хотел сказать? – бросалась она в меня словами, словно учительница грязной тряпкой.
– Да, это только то, что касается первой неточности, – смутился я.
– Господи, я-то думала, что он такого сыскал! Префект вместо прокуратора? Да и шут с ним, Дися! Разве в этом дело? – воскликнула бабушка, недовольная моими придирками.
– Может, это и не важно, – мягко, но настойчиво продолжал я, – но в древнем мире правильное название государственной должности определяло и обязанности правителя и то, кому он был подотчетен. Пилат был зависим от римского наместника провинции Сирия, куда Палестина входила составной частью. Имперский легат Сирии проконсул Виттелий жестоко пресекал любое превышение власти Пилатом в Иудее. Своей властью он мог отзывать префекта в метрополию для дачи объяснений на основании жалоб, которые поступали в Антиохию, где размещался наместник, особенно, если жалоба касалась вопроса веры, поскольку политика Рима на Востоке была подчеркнуто веротерпимой. Веротерпимой, бабушка. Я готов это повторить для тебя еще раз.
– Не надо, милок, не трудись. Говорю тебе, чужая душа – потемки. Терпимость – это добродетель, которой не хватает всем членам нашей семейки.
– Я толкую тебе о веротерпимости. Это важно для правильного понимания истории Рима.
– Я не глупая, Дися, только не могу взять в толк, зачем ты мне обо всем этом рассказываешь?
– Я тоже не мог понять тебя и маму, когда вы на пару насильно таскали меня чуть ли не за ручку на скучные пьесы Островского в Малый, и затем, прогуливаясь по скверу, шумно вспоминали слова художественного руководителя театра Юрия Соломина, который в передачах выступал страстным поборником исторической достоверности при постановке спектаклей молодыми режиссерами. Мама посмеивалась над его словами, что если персонаж XIX века намерен на сцене пить чай из самовара, то должен непременно подставлять блюдце, а не чашку, и если у него неожиданно спадают штаны, то он должен предстать перед зрителем именно в кальсонах, а не в трусах. Не было тогда трусов! Для Соломина это архи важно. Я затем, дорогая моя, распинаюсь пред тобой, чтобы тебе было проще понять неправоту Булгакова.
– Вот то-то и оно-то, но голову мне не дури и говори проще. Не умничай.
– Так вот, бабуля, обязанности префекта Иудеи заключались в обеспечении общественного порядка, надзоре за поступлением податей и отправлении правосудия. Ответь мне, дорогая, что собирался делать Пилат, выходя в крытую колоннаду дворца Ирода Великого?
– Чего? Суд вершить, чего еще.
– Тогда зачем он оделся так, словно Ершалаиму грозили беспорядки?
– А как же, Дися, он же командир! – убежденно воскликнула бабушка.
– Именно так рассуждал и Булгаков, – обрадовался я ее восклицанию. – Он даже первоначально назвал Пилата генералом. В Риме это называлось легатом. Потом Булгакову, правда, подсказали, что он хватил лишнего, поскольку Пилат не то, что до легата не дослужился, он даже до военного трибуна не дотянул. Тогда слово «генерал» было вычеркнуто из текста. Оно осталось только в ранней редакции.
– Ты, пожалуйста, Денис, Булгакова с собой не равняй, он гений, а ты просто ничто, а сейчас превращаешься в большое ничто. Он был осторожным писателем, и роман у него от того получился гениальным.
– Мастером, бабушка, а не писателем, – взмолился я, – именно мастером, если только мы говорим об этом романе. Он ненавидел это слово. И этот мастер по образованию был историком, и владел аж пятью языками и немного итальянским. А на самом деле он многого просто не знал, поэтому он своего прокуратора первоначально называл в черновиках то ли ротмистром, то ли взводным. Однако по мере работы над романом он эти слова исключил. Был даже момент, когда мастер искренне верил, что Пилат мог послать императору Тиберию телеграмму, допуская тем самым полное смешение эпох.
По правде говоря, я готов был рассмеяться, но увидев сердитое лицо бабушки и вспомнив о своем обещании не усложнять, смиренно продолжил:
– У Михаила Афанасьевича первоначально просто кружилась голова, и он сам писал, что все, что касалось Пилата – это трудный и путаный материал. Так вот, Понтий Пилат вышел вершить суд в воинском облачении, что означало нарушение строгих римских традиций и правил, поскольку даже императоры, войдя в Город после военного похода, спешили немедленно снять с себя палудаментум и облачались в тогу. Тем более, что воинский плащ, напоминающий мастеру мантию, это, бабушка, был не короткий сагум, а скорее палудаментум или даже входящая в ту пору у римлян в моду хламида. Но плащ у мастера был странного цвета: белый с кровавым подбоем, а не красный. Откуда, бабуля, этот плод воспаленного воображения писателя? Цвет римского плаща – это знак отличия. Выходит дело, Пилат вздумал быть похожим на императора? В то время это было опасно, поскольку главным и самым строгим законом Рима был закон «Об оскорблении величия», не величества, заметь, как пишет Булгаков, а величия, то есть величия Богов, римского народа и императора. Слово «Maiestas» что значит «величие», являлось атрибутом римских богов и преклонения перед ними всего народа. Это уже пятая неточность, но о ней я говорить не буду, потому что мы обсуждаем только вторую. Пилат должен был по регламенту выйти в белой тоге непременно с узкой красной полоской по краю шириной в три пальца. Такая тога называлась претекста. В ней ходили все римские магистраты не сенатского сословия. Кто-нибудь может возразить по поводу тоги и ношения ее в жаркий весенний месяц нисана. Плащ мол в жару лучше носить шелковый, но во времена именно Тиберия был принят закон, запрещающий мужчинам использовать шелк в одежде, который рассматривался как знак восточной распущенности, и Пилат это знал. Надеюсь, я доходчиво излагаю?
Мое лицо светилось от самодовольства.
– Дися, я для чего хотела тебя приобщить к прекрасному? Только для того, чтобы ты задумался о своей жизни. Пора, дорогой мой, учиться отделять истинные ценности от ложных, а ты меня какими-то дурацкими непонятными словами пытаешься в сторону увести!
– Я, бабуля, истинные ценности пытаюсь для тебя раскрыть. Извини, совсем просто не получается. Историческая наука – не простая штука и требует подготовки. Кстати, знаменитый русский художник Николай Ге в конце XIX века на своем полотне «”Что есть истина?” Христос и Пилат» изобразил Пилата именно в тоге, правда, ошибочно прописал на тоге широкую красную полосу размером шире ладони, а это уже тога латиклава, то есть тога, которую надевали только сенаторы. Пилат же был всего лишь из сословия римских всадников. И тем не менее эта картина, которая была в постоянной экспозиции в Третьяковке, и должна была бы многое подсказать осторожному, как ты выражаешься, Булгакову, но этой подсказкой он не воспользовался. Похоже, он не читал и новеллу «Прокуратор Иудеи» Анатоля Франса, изданную еще в конце XIX века. Иначе он бы знал, что Понтий Пилат, облаченный французским писателем в тогу, вынужден был вершить суд вовсе не в претории, как в то время назывался дворец Ирода Великого, сидючи в тени дворцовой колоннады на троне из слоновой кости, а под открытым небом на мраморных плитах мостовых, поскольку иудеи не решались войти в пределы претории из боязни оскверниться, так как во дворце были выставлены языческие статуи богов и императоров, чью божественную сущность они отказывались признавать, и Рим шел им навстречу, проявляя терпимость.
– Выходит, ты читал Франса? – бабушкины глаза, разбитые показным страданием, сразу оживились, и взгляд наполнился смыслом.
– Слушай, – с насмешкой в голосе произнес я, – кто сейчас в Москве, находясь в здравом уме, читает Анатоля Франса? Это mauvais ton! Сейчас на слуху Маркес и Мураками. Все желают быть оригинальными. Никто не хочет думать, как все. Советуют читать Камю и Кафку. Я не читал Франса, я изучал его новеллу из-под палки вместе с Эллой Андреевной, моим репетитором. Это она мучает меня его меткими афоризмами, заставляя зубрить по-французски заумные фразы. Отцу, похоже, ее издевательства надо мною очень нравятся.
– Будь она неладна! – выдавила из себя моя собеседница, притворно сопереживая со мной.
Наконец на лице бабушки я заметил некое подобие добродушной улыбки, однако, прищурив глаз и подчиняясь импульсу старческой злобливости, она спросила:
– А тебе не приходило в голову, что Булгаков облачил Пилата в белый плащ с красной подкладкой, чтобы просто особый случай подчеркнуть.
– Приходило, – ответил я спокойно, – но скорее всего все происходило с точностью до наоборот, поскольку подобный судебный случай был совсем не редким.
– Как же так? – от досады разведя руками, возмутилась бабушка.
– Все дело в характере самих иудеев, – успокоил я бабушку, усаживая на место. – Это был особый народ, и римляне небезосновательно называли их «врагами рода человеческого». Это был народ немногочисленный, но там где их было много, они были кичливы и упрямы. Они не навязывали свое монотеистическое вероучение другим народам, они просто всех презирали, считая существами нечистыми, коль скоро все другие, не только римляне и греки, но и азиаты, слепо верили в своих многочисленных богов и кумиров, образы которых сами же ваяли и выставляли на всеобщий показ. Иудеи же своего бога не облекали в зримый образ.
– Чудно, – сказала бабушка, – а как же святые образа?
– Говорю же тебе, любое прикосновение к зримым образам оскверняло их веру. Даже римские или греческие монеты, на которых изображались лики богов либо царей, не имели хождения на палестинской земле, поскольку иудеи отказывались к ним прикасаться, и они подлежали обмену на местные деньги. Ты лучше зайди к отцу в кабинет и загляни в антикварный столик в углу комнаты, который он вечно запирает. Отец в последнее время увлекся древней нумизматикой.
– Это что еще такое, – властно повысила голос бабушка, в запале еще надеясь влиять на скоропалительные поступки своего единственного сына. Даже если ей сказать, что мой отец богаче самого царя иудейского, она бы не образумилась и все равно желала бы экономить каждую копейку. А посему я не утруждал себя излишней осторожностью в подборе нужных слов.
– Это, знаешь ли, монеты разные: бронзовые сестерции, даже золотые римские ауреусы, серебряные тетрадрахмы, в том числе и древние иудейские есть.
– Небось, этот взрослый дурень денег за них отвалил несусветно, – продолжала возмущаться бабушка.
– Точно не знаю, но однажды я ребятам с нашего факультета кое-что из отцовских монет показал, так один знаток заявил, что на такой раритет можно целый самолет купить.
– Батюшки, зачем моему сыну самолет-то нужен?
– Я тоже задаюсь вопросом, зачем ему все это. Лучше бы «Хаммер» купил.
– Чего-о-о? – протянула бабушка в отчаянии.
– Елкин корень, бабка, ты с Урала что ли? Машина такая крутая. В переводе с английского – «молоток». В Москве их пока единицы Забойный аппарат.
– На кой ляд? У него же есть машина черная, и шофер всюду его возит. Зачем ему еще?
– Зажигать будет. Не он, так я могу. Это круто, бабуля!
– Ладно, крутой, ты давай по делу говори, а не болтай. «Хаммер» какой-то теперь ему понадобился. Опять беситься вздумал.
Я не стал ей прекословить и продолжил грузить бабулю по полной программе. Пусть терпит, в конце концов она сама об этом просила.
– Беда иудеев была в том, что они сами грызлись между собой из-за различного толкования своего учения. Десятки враждующих между собой сект ежедневно собирались на площадях Иерусалима, готовые яростно рвать друг другу бороды и бросаться свитками с писаниями, проявляя нетерпение к инакомыслию. Народ иудейский жил в ту пору ожиданиями прихода Мессии, поэтому каждый житель Палестины, наделенный природой талантом мага или чудотворца, пытался пророчествовать, нередко доводя себя до исступления. Любое инакомыслие, произнесенное принародно, тут же объявлялось заслуживающим смерти, но для законного исполнения приговора нужно было получить одобрение наместника римской провинции, каковым тогда был Виттелий. Прокураторы в провинциях империи занимались главным образом сбором податей, а в Иудее это было сделать ой как непросто, поскольку жители этой земли по религиозным соображениям уклонялись от всех повинностей, в том числе и воинской. Количество дел, требующих вмешательства наместника, с годами только множилось, поэтому наместники передавали своим прокураторам на местах полномочия вершить суды, и тем самым превращали их в префектов. Пилат не скрывал своего брезгливого отношения к этому народу, который нередко клеветал на него в жалобах и доносах на имя Виттелия и даже Тиберия, упрекая префекта в посягательствах на их обычаи и образ жизни. Десятки раз в месяц иудеи богатые и бедные, ортодоксальные и не очень, подчиняясь воле первосвященников, окружали преторию в Кесарии или Иерусалиме, и лежа в грязи или стоя, громко выкрикивали свои требования, чтобы Пилат утвердил вопреки здравому смыслу очередной кровавый приговор тому несчастному, который в своем безумии ничем не отличался от них самих. И префект Иудеи вынужден был покидать стены претория только в плотном окружении своей свирепой стражи и выходить к безумствующей толпе, принимать нужные решения, в страхе следя за тем, чтобы грязные руки бесноватых религиозных фанатиков не пачкали его белоснежную тогу и не рвали ремни на его сандалиях, и все это ради того, чтобы усидеть на своем доходном месте, а не отправиться раньше срока на скромную пенсию в метрополию. После моих слов о пенсии бабушка оживилась.
– А что, Дися, разве в то время пенсия уже была?
– У римлян, да, – сказал я с уверенностью школьного учителя и в том же назидательном тоне. – Что касается еще одной неточности великого мастера, мне кажется, что писатель нарочно обращает внимание на то, что его прокуратор, всадник Золотое Копье, прозвище, кстати, звучит, как у индейцев из романов Майн Рида и Фенимора Купера, почему-то подволакивал ноги. Он пишет: «шаркающей кавалерийской походкой».
– Прекрати, нахал, цепляться к каждой строчке, или я ухожу, – пригрозила мне бабушка.
– Хорошо, но тогда мы не решим, где же правда.
Бабушка осталась сидеть на уголке дивана, а я продолжил:
– Действительно, кавалеристы, помнишь «Белую гвардию», шаркали сапогами, и этому есть свое объяснение. Когда подолгу скачешь верхом, а ноги держишь в стременах в полусогнутом состоянии, чтобы пружинить, мышцы ног «забиваются». Оттого-то они и шаркали, волоча ноги по земле.
– Ну мне не надобно много об этом рассказывать, я-то сама в деревне с молодых лет с лошадьми имела дело. Мужиков-то в деревнях не хватало после войны. Бывало, еле ноги таскаешь, вспомнить тошно.
– И не вспоминай, бабуля, не надо, а то мы так весь вечер проболтаем за твою тяжелую жизнь.
– Ну и что ты мне хочешь теперь сказать?
– А то, что в Древнем Риме никто не знал, что такое стремена. Их просто тогда еще не изобрели, и всадники имели другую технику езды верхом. Они вытягивали ноги вперед, как индейцы, поэтому никто из наездников просто не мог иметь шаркающей кавалеристской походки.
– А может, он шаркал от старости, немолодой же Пилат уже был?
– Ему было тогда, как ты выражаешься, всего только округ сорока, не более.
– Во как! А в кино Пилата играл этот, как его, народный артист, который маршала Жукова играл, я запамятовала фамилию.
– Действительно, Пилата у нас играли Михаил Ульянов и Кирилл Лавров, и оба по возрасту вдвое старше, чем исторический прототип, который был на самом деле приблизительно ровесником кентуриона Марка по прозвищу Крысобой, с которым он вместе воевал против германцев. Только вот в отличие от Крысобоя Пилат удачно женился как будто бы на родственнице императора Тиберия. Ее звали Клавдия Прокула, и жила она тогда в Иудее вместе с супругом и с их несовершеннолетними детьми.
– Выходит, – недоверчиво глядя на меня, удивилась бабуля, – он был вдвое меня моложе? Все время страдал головною болью и малодушно помышлял о смерти, и только собака у него как будто была Банга, чернявая такая, а кроме нее у него никого не было. По Булгакову он, видать, сильно страдал от одиночества.
– Вот то-то и оно-то, – сказал я, передразнивая пожилого человека. – Но так захотел Булгаков. Вопрос: почему?
– Ну ладно, – бросила недовольно бабушка, – что там у нас осталось, не тяни.
– Изволь, – согласился я с радостью. – Утверждение Булгакова, что Пилат больше всего на свете ненавидел запах розового масла, вызывает у меня большое сомнение. Скорее всего оно появилось от простого незнания Булгаковым истории Рима.
– Да откуда же ему бедному знать-то, он же по образованию был медиком. Роман-то у него, поди, не об истории Древнего Рима, – все не унималась бабуля.
– Однако напомню тебе, что императором в Риме во времена Пилата и Христа был Тиберий, который жил в своем дворце на острове Капри. Стареющий римский цезарь лечил там, вдали от посторонних глаз, в горячих термах, свою проказу, называли ее тогда лепрой, при которой гниение тела источало отвратительный запах. Древние медики того времени, как, например, Цельс, считали, что рассадником этого заболевания были сирийцы, в частности, проститутки из тех мест. Палестина, где правил Пилат, была составной частью провинции Сирия. Многие иудеи хронически болели этим страшным недугом, и, разумеется, им был знаком и ненавистен этот запах разлагающейся плоти. Думаю, ты согласишься, что утверждение, будто найдется какой-то человек, проживающий в Иудее, который не любил бы аромата розового масла, звучит по меньшей мере странно. Кстати, Пилат стал известен в Иудее прежде всего из-за своего желания провести акведук с гор до Иерусалима и обеспечить водой город в целях гигиены, что вызвало недовольство у местного населения, и жалобы на него посыпались самому императору. В конце концов проконсул Сирии встал на сторону иудеев. Римский древний историк Аммиан Марцеллин позже писал, что однажды император Марк Аврелий, направляясь в Египет, проезжал по земле Палестины, и по поводу немытых иудеев, от которых пахло, мягко говоря, не розовым маслом, вдруг не выдержал и скорбно воскликнул: «О маркоманы, о квады, о сарматы… Наконец-то я нашел людей хуже вас!»
Бабушка брезгливо поморщилась, не прерывая однако моего повествования, и я продолжал:
– Что Понтий Пилат, что Марк Аврелий были людьми однобокими, поскольку, порицая суетное тщеславие, никогда не восхваляли прелестей иудейских куртизанок, а зря! Ведь в отличие от набожных иудеев, преломляющих хлеб и жующих сушеные финики в своих убогих жилищах при тусклом свете коптящих светильников, они умели внушать особое расположение и приводить в смятение чувства римских легионеров. Вечерами, когда солнце клонилось к закату и наступала долгожданная прохлада, молодые еврейки с набеленными, исполненными тонкой прелести телами, умащенные благовониями, начинали высыпать на перекрестки кривых улочек, благоухая миртой и нардом. Взгляды накрашенных и блестящих глаз красоток пронизывали темноту в поисках своих жертв. Они были готовы уступить любому, способному платить звонкой монетой. По желанию клиента они исполняли зажигательные сирийские танцы, изгибались, откидывали густые рыжие волосы, смотря на мужчину многообещающим затуманенным взором.
Бабушка кряхтя поднялась с дивана и, выпрямляя спину, удивленно произнесла:
– И впрямь говорить где-то научился! Все годы язык в заднице держал, а вот глянь! Отец вроде не говорун.
Она подошла ко мне почти вплотную и притихшим голосом произнесла:
– И зачем же, о Господи, вы в прошлом году поперлись в этот Израиль всем семейством, если там такая страсть, как ты рассказываешь?
– Во-первых, так отец решил. Ему захотелось побывать в местах Христовых, – ответил я убежденно.
Бабушка раздраженно махнула рукой.
– Твой отец безбожник, и зачем ему это нужно-то? И тебя попер туда, и мать твоя с вами увязалась.
– Может, поперся, чтобы возвыситься до восприятия божественных истин, – с намеком пожал я плечами. – Мы с отцом были в Кесарии, именно там, где жил Пилат, и на Тивериадском озере тоже. Даже на реке Иордан омовение совершали, где Иоанн Креститель Иисуса Христа крестил.
– И мать тоже?
– Представь себе, правда остальное время в основном по магазинам бегала, крема с Мертвого моря скупала для подруг своих, да золотом интересовалась. Мы там и были-то всего три дня, на выходные летали.
Бабушка глубоко вздохнула.
– Деньги только зря мотаете.
Она вечно причитала каждый раз, когда мы куда-то ездили.
– Так все что ли, больше у Булгакова ошибок не нашел? – проворчала бабушка с издевкой.
– Да ты что, как нету, я же тебе только два предложения прочел первых.
Она снова присела на диван, откинувшись на спинку, так что ее короткие ноги перестали касаться ковра.
– Давай, ври дальше, послушаю тебя. Когда еще с тобой так поговорить придется, ты язва известная!
Я не хотел прогонять ее из комнаты, тем более, что на следующий день начинались выходные, но и скрупулезно копаться в истории Пилата я желания не имел.
– Бабуль, мне еще к французскому надо готовиться, скоро ваш репетитор припрется.
– Не ври, – перебила меня она, – твоя мать, уходя, сказала, что сегодня ее не будет.
– Я имел в виду завтра, мне же готовиться надо, а то еще и она придираться станет на твой манер, – оправдывался я.
– До завтра времени много. Небось, умотать куда решил, а не заниматься. Непутевые вы все, как я погляжу. Как с тобой только твоя Светка жить собирается.
– Блин, ну ты порой как брякнешь, мне реально страшно становится. Скажешь тоже, «жить». Не пугай меня светлой перспективой сладкой жизни, – я недовольно покачал головой.
– Ишь, какой ранимый! Ты брови-то не хмурь, ты же с ней, со своей Светкой, нам устраивал такие концерты, что порой из этой самой комнаты по три дня не выходил. Родители твои и впрямь с ума сходили, и ее отец сюда приходил, жутко расстраивался. Я-то дура, на родителей шипела, думала, что у вас чего путное выйдет, а вот видишь, как повернулось, один срам вышел. А она тебя любит, – без сомнения в голосе произнесла бабушка.
– Откуда ты знаешь? Мамочка, что ли моя тебе нашептала? Она о любви поговорить мастак. Или Светка тебе сама что сказала?
– Какой там! – Бабуля замахала руками, оставаясь при этом сидеть на полосатом диване. – Да разве вас беспутных поймешь?
– Нас и понимать не надо. На нас посмотреть повнимательней, и все становится ясно. Разве мы светимся от счастья? Сегодня опять звонила эта коза, сказала, что отправилась с подругами на дискотеку, а мне, представь, по барабану, где она, я на этот счет не парюсь вовсе. Накосячили мы с ней немало, это правда, но это все в прошлом. И я не пускаю по ней слюней, пусть скачет там с кем хочет. Эгоистичная дрянь, такая же, как и я сам. Носится со своим бюстом повсюду, пытаясь засветиться в нужных местах. А любви у нас нет и не было. Одни капризы и животный секс. Она прислушивалась только к своим желаниям и охотно позволяла себя соблазнять.
– А если родит? – Бабушка круто, прямо по-булгаковски, буравила меня глазками и сиротливо держала руку у рта.
– Это вы с дедом боялись, когда были молоды. Она, если и захочет, не родит. Просто не сможет. Жопка крошечная, с кулачок, а сама только накуривать умеет, да деньги у своих родителей стрелять. Впрочем, я на нее похож. Я тоже думал, что если я хочу ее, значит и люблю, а если очень хочу, то и очень люблю.
– Жалко мне, она девка красивая, – сказала бабушка и покачала головой, – а вот тебя все неудачником считает.
– Если в смысле того, что не сумел полюбить ее, то да. А в остальном обычная женская месть. Я в отличие от нее ее никем не считаю. Просто никем. Не горит у меня душа, света от нее нет, хоть и имя у нее светлое. Странно получается, меня любят, а я никого. Даже не знаю, бабуля, что это – любить. Может, не дано? Боюсь, что чуда не случиться никогда. Стремно как-то на душе от этой мысли!
– А ты не дрейфь, ты у матери своей учись, она все знает, – произнесла бабушка с плохо скрываемым раздражением. – Вона как задницей крутит перед мужиками разными на каблучищах своих, теперь вот ума хватило собаку в дом привести, – она поморщилась.
– Бабуль, не тупи, это же йорк, он, как кошка, даже меньше.
– Подожди, этот йорк вам все ваши персидские ковры уделает.
– Да ладно, – прервал я бабушку. – Он в доме на газетку ходит. Хочешь, возьми его себе, радость вас с дедом будет.
– Вот еще, скажешь. Мы с дедом живность в городе сроду не держали, тем более сейчас, когда за нами самими уход требуется. Дед твой еле ноги таскает по комнате, во двор с трудом сходит без лифта, а тут собака. На кой черт она нам нужна? Это вашей полоумной семейке все неймется. Прислугу взяли в дом. Зачем, спрашивается. Чужие люди! Раньше никто и слыхом не слыхивал, чтобы так жить.
– Раньше, бабуля, и ты Булгакова не читала!
– Раньше да, а теперь прочитала и не один раз, и тебе под нос стараюсь сунуть, а ты все морду воротишь. Ты, милок, учись не ошибки искать, а истину.
– А я что делаю? Я учусь. Учусь собирать позабытые и разбросанные повсюду осколки полуправды, чтобы выложить паззл некой истины.
– Истины? Да ты хоть знаешь, о чем ты говоришь? Истина – это промысел Божий.
– Боюсь, что ты ошибаешься. Когда-то для Аристотеля разыскать истину, независящую от воли Божьей, было величайшим торжеством, и он доказал, что однажды бывшее не может стать не бывшим, и этот принцип ставит предел всемогуществу богов. Проще говоря, известковая плита, найденная в Кесарии, говорит, что Понтий Пилат существовал, и бывшее никогда не будет не бывшим. Все просто.
– Так это ты о прошлом, а я толкую о будущем. К Богу мы взываем о помощи, и только он способен заглянуть в грядущее.
– Послушай, – перебил я бабушку, – сейчас браться предсказывать означает утверждать, что события будущего уже существуют. Ты сама говорила и не раз, как слушала самого Вольфа Мессинга, когда тот выступал у вас на заводе в Доме культуры после войны с предсказаниями, которые непременно сбывались.
– Я и не отказываюсь, – сказала бабушка, – но это у него от лукавого.
– От лукавого оно всегда, потому что не лежит на поверхности, а кроется в деталях. Я тебе говорю о деталях, отделяя справедливые от лживых, а истина, бабушка, изреченная, есть ложь.
– Чего несет парень, – она хотела гнуть свое, готовая петь во славу того, чье творчество почитала истиной.
– Это не я, то Тютчев, бабуля. «Silentium» – так стихи называются, это на латыни «молчание».
– Как понять-то этого Тютчева, черт-те чего и почему?
– Потому что люди могут излагать истину лишь в пределах своей понятийной базы, поэтому нередко искажают ее, а посему истину не вещают, да она и не должна быть явной.
Похоже, бабушка ничего не поняла. Она долго молчала и наконец тихо произнесла:
– Ты со своими иностранными языками скоро голову совсем потеряешь.
Я был доволен, что она закончила мусолить эту мою личную тему и предпочла сама соскочить с нее.
– Ты права, сама видишь, как меня достали эти репетиторы, которых мать с отцом нанимают. Теперь у отца появилась новая навязчивая идея – обучить меня еще и греческому.
– Они совсем там, что ли с ума посходили? Зачем это нужно? – искренне возмутилась бабушка, и мне было приятно отметить тот редкий случай, что она на моей стороне.
– Бабуль, ты мне вот что скажи, Понтий Пилат, который родился где-то в германских Альпах, с юношеских лет познавший тяготы солдатской жизни, много лет провоевавший на севере римской империи, как он сумел выучить столько языков? В романе у Булгакова Пилат, беседуя с Иешуа Ганоцри, легко начал разговор по-арамейски, потом перешел на греческий, как будто он у него родной, а потом, узнав, что Иешуа говорит еще и на латыни, стал разговаривать с ним и на латыни. Тема их общения была не бытовая, они обсуждали религиозно-философские вопросы, которые требуют не только глубокого знания языков, но и умелого применения философских и теологических терминов. Ты считаешь, такое возможно? – я смотрел бабушке прямо в глаза, не надеясь получить от нее ответ.
– Откуда мне знать, я сама полуграмотная. Война помешала мне семилетку закончить, а потом приходилось все время работать физически, – и она подняла свои натруженные руки к моему лицу, пытаясь напомнить мне о своем тяжелом прошлом. – Кто такие маркоманы, а кто квады, я не знаю, – она произнесла эти два лишь однажды услышанных ею чудных слова так смешно, что я не смог не улыбнуться.
– Мне кажется, я уже говорил тебе, что это древнегерманские племена.
– Вот видишь, забыла! – ее слегка подрагивающие ладони, протянутые ко мне почти просительно, вызывали у меня почти забытое чувство жалости. А с какой легкостью она признавала собственное невежество, ставило меня в тупик.
– А ты знаешь, почему Булгаков буквально в следующем предложении после рассуждений о розовом масле пишет, что вместе с прокуратором в Ершалаим пришла и расположилась на постой во флигеле дворца первая когорта XII Молниеносного легиона? Именно первая, а не, скажем, вторая.
– Я и не в ум, – ответила бабушка, – но звучит грозно.
– Так вот скажу тебе, что когда говорят «первая когорта», обычно намекают на количественный и качественный состав легионеров, поскольку, начиная с правления императора Октавиана Августа, в ней, в этой первой когорте, были подобраны лучшие легионеры, и когорта насчитывала не 600 человек, а ровно в два раза больше. Может, Михаил Булгаков полагал, что во флигеле дворца Ирода могло уместиться столько народа? На самом же деле там могла разместиться максимум одна центурия, и то с большим трудом, а центурия – это десятая часть когорты. Думаю, Булгаков даже об этом и не задумывался. По всей видимости, для него эта деталь была почти не значима, а зря.
– Так зачем же он так написал? – сказала бабушка, при этом почти по-детски округлив от удивления глаза.
– Думаю, затем же, зачем когда-то поэт Ляпис-Трубецкой у Ильфа и Петрова использует лишенную всякого смысла фразу: «Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». Наверное, только для красоты и весомости фразы, которая чарует слух, озадачивает читателя и восхищает одновременно. Булгаков в исторических главах своего романа нуждался в устрашающих словах, смысла которых он порой не осознавал или просто не считал, что в их осмыслении есть необходимость. Папа возил меня в Иерусалим, чтобы я, как он выражался, «надышался историей». Он считает, что чтобы понять Пилата, я должен пропустить через сердце не только свои знания, но и то, что созерцаю, только тогда и познаю истину. «Не в силе Бог, – говорит отец, – а в правде». Булгаков не только не знал, но и не созерцал. Он силой мнимого воображения создал то, во что призывает верить других. У него получается, что все должно строиться на вере! Но ведь вера начинается там, где кончаются знания. Поэтому мне так тяжело читать его роман, – сказал я громче, чем требовалось для выражения тонкого чувства юношеского самодовольства.
– Только не надо кричать. От тебя в ушах звенит, – возмутилась моей горячностью бабуля. – Если в тебе веры нет, то… – она закряхтела, поднимаясь с дивана, пригрозила мне подагрическим пальцем, затем, подумав, произнесла: – не спеши кичиться своим безверием, это все до поры до времени. Станешь старым, ты меня поймешь!
– Теперь, бабушка, мне понятно становится, почему Булгаков представлял в своем воображении Пилата дряхлеющим стариком, страдающим головной болью, покинутым всеми, кроме собаки Банги. Иначе в его возрасте он бы и не задумался об истинных ценностях и спасении души.
Я бросил мимолетный взгляд на бабушку, которая выглядела встревоженной.
– И настанет царство истины, да, бабушка? – спросил я, смеясь.
Она отрешенно посмотрела на меня и с досадой покачала головой.
– Настанет, внучок, обязательно настанет, когда таких выродков, как ты, не будет, историк хренов. Научили на свою голову.
Она прошептала эту фразу еле слышно и, плюнув себе под ноги, направилась к двери.
– А куда же тогда мне деться? – почти прокричал я ей вслед.
– Сгинь! Да хоть туда, где жил булгаковский сатана Воланд со своей свитой.
– Ну-ка, ну-ка, напомни, где им Булгаков место нашел? Может, на Колыме? – я продолжал подтрунивать над бабушкой Варей, которая бросала на меня колючие взгляды, как будто метала молнии Юпитера.
– Не-е-т, не там! – она подошла к столу, медленно переставляя ноги, при этом раскачиваясь всем телом, как будто находилась в лодке, и, взяв в руки том Булгакова, потрясла им в воздухе, как черной меткой, словно желая воскресить самого дьявола.
– Смотри, опасно вызывать к жизни силы зла, дремлющие в преисподней со времен Пилата. Лично я не собираюсь торговать своей грешной душонкой, чтобы отправиться вслед за ними в ад, – пародируя бабушку, завопил я дребезжащим тенором, предупреждая о последствиях, но она меня уже не слушала. Теребя страницы книги корюзлыми пальцами, она все время поминала Бога.
– Да где же это место, Бог ты мой! Во-о-т! – торжествуя, прокричала она. – Вот гляди, написано: Ницца!
Она поднесла мне к носу книгу.
– Этот противный Коровьев сказывал Никанору Ивановичу Босому, что в этой Ницце, шут его знает, то ли город там, то ли какая-то деревня, будь она неладна – будто там у этого Воланда была небесной красоты вилла. Вот поедешь за границу с родителями или как, нарочно заезжай посмотреть, мне потом расскажешь.
Она вышла, унося с собой книгу, и тихо прикрыв дверь.
Через два года я все-таки закончил МГУ, правда, так и не поняв, зачем туда поступал, однако маме все же сумел объяснить, что слово «погань» из её бранного лексикона происходит от латинского «Paganus», или английского «Pagan», что означает «идолопоклонник» или «язычник».
– На самом же деле, – сказал я маме, взяв в руки толстенный латинско-русский словарь, – «paganus» означает «деревенщина» либо «деревня». Кстати, сам Пушкин во второй главе своего «Онегина» привел слова Горация в качестве эпиграфа: «O, rus!» и дал свой перевод: «О, Русь!». На самом деле «рус» в Древнем Риме означало «деревня».
– Ну и что, – сказала мама, пожимая плечами. – Сейчас всякое могут написать.
– При чем тут сейчас, – возразил я и приволок из отцовской библиотеки увесистый том Пушкина издания Брокгауза и Эфрона девятьсот девятого года в кожаном переплете. – Вот, смотри, – ткнул я пальцем в эпиграф.
– Ну и что, – еще раз повторила мама.
– Ну как же, это интересно. Выходит, «Русь» и «погань» в устах Пушкина – это одно и то же.
– Ах, оставь, – сказала мама, – весь в отца пошел, – и покрутила пальцем у виска, поглядывая на бабушку в поисках поддержки.
Так я стал историком, но по специальности не работал ни дня. Отец устроил меня в одну французскую фирмешку, где я неплохо, причем безо всякого энтузиазма, зарабатывал, используя деловые связи своих родителей, и одновременно совершенствовал французский.
Отец всегда возвращался домой поздно, мама – немногим раньше. В доме у нас было всё, о чем я только мог мечтать, поэтому я не торопился перебираться в свою милую квартирку. Отец был обычно немногословен и замкнут, он сидел у себя в кабинете и упивался чтением Брюсова и Пастернака. Мама его не понимала. Чего стоило одно только коротенькое стихотворение, любимое отцом «О закрой свои бледные ноги», звучавшее в его устах упреком. А когда подходил к концу февраль, отец в полночь открывал окно и впускал весну в дом, при этом декламируя пастернаковское «Февраль. Достать чернил и плакать…» Отец пил дорогой коньяк из большого фужера, вкушая его тонкий аромат, и в глазах его блестели слёзы. Мама пожимала плечами и уходила в столовую пить чай. Я шёл за ней. У отца была любовь к знаниям, у мамы – к шику. «Книжный червь», – бросала в адрес отца мама. «Торгашка!» – отвечал отец. «Сам вор!» – парировала мама. После таких шутливых перебранок предки расходились по комнатам. Мать удалялась в спальню и предавалась любимому занятию пересчета толстых пачек денег в крупных купюрах, а отец уединялся в библиотеке или, созвонившись с друзьями, спешил по ночным дорогам в стрип-бар «Мятный носорог», что в переулке Старого Арбата. «Streep, streep!» – орали его закадычные друзья, брызгая слюной при появлении очередной красотки. Или еще лучше, когда отправлялся в «Dolls», где под чувственные песни самого Александра Иншакова раздевались пышногрудые кубинки. Отец любил их бархатистую кожу и прайвит-дэнсы особенно, когда крепкие соски нежно касались широких бортов его дорогого костюма. Он не жадничал и частенько оставлял в кружевных трусиках зеленые купюры. Где был тогда я? Иногда где-то рядом, но в заведениях поскромнее. Да-да, почти, как у Пушкина: «там, там, за сению кулис младые дни мои неслись».
Отец любил проводить отпуска в походах по антикварным магазинам, мама предпочитала отели «Ритц» либо в Лондоне, либо в Париже. Родители были финансово независимы друг от друга. Сколько получал отец в своем банке, знал только он. Мама держала деньги не в банке, а просто во вместительных сумках, она руководила экономическим управлением в одной организации под крылом Моссовета и курировала строительство дорог. Когда после страшной аварии вдруг родителей не стало, мне отошли мамины автомобили и подмосковные дачи, а, когда папины друзья пригласили меня на встречу в его банк, я понял, что не просто богат, а… Впрочем, это уже моё личное дело и, как говорили древние, «Silentium est aureum», что означало: «Молчание – золото»!..
Часть 2
Коммод
Всю неделю на французской Ривьере моросил мелкий противный дождь. Было почти безветренно, и оттого казалось, что однородная тягучая масса серых облаков будет висеть над горами вечно, безлико отражаясь в зеркальной глади неприветливого моря. Когда к тому же заметно похолодало, хрупкая надежда на ранний приход весны совсем перестала питать изнеженные души французов, привыкших к теплу и житейскому комфорту. Но вчера вдруг зацвела мимоза. Значит, февраль в Вильфранше наступил.
Ночью я не мог уснуть – болела голова и слегка подташнивало. Несколько раз я поднимался с постели, босиком подходил к большому арочному окну и, стоя на прохладных плитках пола, ощущал, как ветер, наполненный запахами морских водорослей, задувает в щели оконных проемов. Снаружи, подвластная сырому ветру, раскачивалась развесистая финиковая пальма, образуя на блестящем асфальте подвижную тень, да шевелил мелкими веточками куст самшита. На небе, наконец, появились звёзды, и далекий маяк на мысе Ферра, еженощно бросавший мне в глаза свои яркие сигналы с интервалом в две секунды, теперь не казался мне таким одиноким в черных просторах Средиземного моря.
Мой очаровательный друг, серебристый йоркширский терьер по кличке Мартин, недовольный моим бодрствованием, в который раз спешил опередить меня и занять место на моей подушке и, как только я присаживался на кровать, грозно рычал и неохотно, но всё же уступал место. Я ложился, почти не накрываясь одеялом, заложив за голову руки, а Мартин, требуя покоя, сворачивался клубком у меня под мышкой и время от времени звучно сопел и ворочался. Уснули мы только к утру и проснулись оба поздно. Правда, осознал я это не сразу, а лишь когда вышел на балкон. Яркое солнце своими острыми, как бритва, лучами резануло меня по глазам, я инстинктивно зажмурился и стоял так довольно долго до тех пор, пока не принялся громко чихать. Мартин от испуга прервал свою традиционную процедуру ленивого потягивания и прижался к моим ногам. Мраморный пол был холодным, и стоять босиком неподвижно, пусть даже и недолго, было неприятно. Вдруг стало теплее, но одновременно и мокро, и я опустил глаза. Мартин писал короткими прерывистыми струями мне на ступни, нарочито высоко задрав заднюю лапу, и, подобно балерине, гордо развернув голову, бесстыже смотрел мне в глаза.
– Ты, парень, обнаглел, – сказал я псу по-русски так, чтобы он всё понял, и посмотрел на часы. Шел второй час пополудни, и я понял, что был к нему несправедлив. Именно в это время по понедельникам и четвергам ко мне приходила служанка, чтобы сделать влажную уборку и помочь по хозяйству, поэтому я поспешил в дом, чтобы успеть одеться и привести себя в порядок. Мартин бодро засеменил вслед за мной, уловив в моем поведении беспокойство, никак не связанное с его безобразной выходкой. Пес всегда радовался каждому, кто приходил к нам в дом, а коль скоро гости появлялись у нас редко, то звук шагов Лейлы у наших дверей привел его в такой восторг, что он стал захлебываться слюной, хрюкать и неистово вертеть хвостом.
Я читал свежий выпуск «Нис Матен», сидя на кушетке в просторном холле, пил горячий кофе и сквозь распахнутые во внутренний двор двери любовался изумрудной зеленью своего небольшого сада и коротко стриженого газона на фоне ярко-синего моря. Убираясь, Лейла, как всегда, ворчала и делала мне замечания за неаккуратность, недоумевая, как я вновь умудрился оставить столько крошек по всему холлу, съев один-единственный круассан.
– У вас, у русских, наверное, все такие, – высказывала она по-французски с легким арабским акцентом свои однообразные придирки в мой адрес. Мартин же, по всей видимости, думал, что Лейла обращается к нему, и продолжал ещё яростнее цепляться за её тапочки. Лейла почему-то всегда носила длинные, почти до пят юбки и блузки, которые были ей явно не по размеру. Они так обтягивали ее полнеющее тело, что когда она нагибалась с тряпкой, складки на её животе грозили превратить многочисленные пуговки в мелкокалиберные пули. Если верить ее рассказам, родилась она в Марселе, в семье бедных марокканских эмигрантов, а её здоровенный муженек, неизменно подвозивший супругу к нашему дому на крохотном «Рено», был в прошлом довольно известным волейболистом в Алжире. У них было трое уже взрослых детей, и они с мужем, как она полагала, были вполне счастливы. Счастье – понятие философское, и я, конечно, не пытался оспорить видение Лейлой ее счастья, особенно когда смотрел на её неухоженные пятки и ярко накрашенные длинные ногти на ногах, которые, как мне казалось, каждая уважающая себя женщина должна была скрывать от придирчивого взгляда француза-петушка. Ну, а необходимость брить ноги не подвергалась малейшему сомнению, поскольку настоящая женщина начинается с ног.
– Слушай, – обратился я к служанке, – прекрати трогать мои книги, мы же договорились!
– А как я, позволь спросить, могу убираться в доме, если они разбросаны повсюду?! Тогда собери их сам и отнеси к себе в кабинет. Образованный человек, двадцать восемь лет, уже не мальчик, – недовольно покачала она головой. – Хоть бы здесь женщину себе нашел постоянную, и мне полегче бы было, а то приводишь невесть кого!.. Или из своей России кого-нибудь привез, чтобы она тебя порядку научила! Уже почти два года здесь живешь, а всё один!
– Не бойся, скоро приедет!
– Посмотрим-посмотрим, – пробурчала себе под нос Лейла, а потом тихо добавила по-арабски, – иншалла.
Лейла кряхтя выпрямила спину и быстро взглянула на меня большими карими глазами, стараясь понять, не шучу ли я. Ловко орудуя влажной тряпкой, то ли действительно во власти негодования, то ли, желая по-матерински пожурить меня, она не унималась:
– Если бы я знала два года назад, что буду работать у такого грязнули, разве бы я согласилась?! Твой покойный отец был не чета тебе, степенный, уважительный – он мне сразу понравился. Помню, привезли его библиотеку, мебель стали в кабинете расставлять, и он, – а твой отец ко мне только на «Вы» обращался, – говорит: «Лейла, вы будьте, пожалуйста, осторожны со стеклом». Учил меня уважать книги. Я таких красивых раньше не видела, все в коже и золоте.
– Не понимаю, к чему ты это. Я, что, не уважаю книги? Я с ними работаю, как с живыми людьми!
– Вижу, как работаешь! Вчера, наверное, тоже работал? – Она поправила съехавший на глаза яркий шелковый платок с люрексом.
– А что вчера? – насторожился я.
– А то! Что за чернокожая девица курила у тебя днем на балконе? Даже не постеснялась стоять в одной мужской рубашке, – она смерила меня своим колючим взглядом. – Уж не в этой ли, что сейчас на тебе?
«Не слишком ли много она на себя берет», – подумал я и спросил:
– Я что, не имею права пригласить к себе в дом друзей?
– Конечно, имеешь, только в который раз тебя просят – охрану предупреждать надо, и соседей тоже. Да, ты живешь в отдельном доме, хорошем, но соседи тоже люди не бедные и не хотят иметь неприятностей. Приедет такая, обсмотрит все, а потом сам знаешь, что бывает! А нас, – она ткнула себя в грудь коротким пальцем, – случись что, первыми подозревать начинают.
– Да, знаю, но так получилось. Я сам не предполагал.
– Выходит, опять привел проститутку с Променада?
– При чем тут Променад, она же негритянка, а на Променаде такие не промышляют, там все больше славянской внешности, из Восточной Европы!
– Скажи ещё, что она из России! Дуру из меня делает!
– Представь себе, почти, – ответил я Лейле и расхохотался, видя её простодушное недоумение. – Да-да, можно сказать, что в какой-то степени она из России.
– Это откуда же в вашей снежной тайге такие черные девушки?
– Она, между прочим, у нас в городе Ростове училась целых шесть лет! По-русски говорит почти как я. Хорошая, веселая девчонка!
– Ничего не понимаю, ты что, тоже в Ростове учился?
– Ты же знаешь, я учился в Москве, – я отложил недочитанные газеты и нехотя поднялся с кушетки.
– И ты пригласил её оттуда приехать во Францию?
– Да, господи, не знал я её раньше, вот пристала, – со смехом выкрикнул я. – Мы познакомились два дня назад в Риме. Я же тебе говорил в четверг, помнишь, что хочу на один день слетать в Рим, и просил, чтобы твоя Марго в пятницу приглядела за Мартином. Я ещё звонил ей из Рима, предупредил, что на одну ночь задержусь – опоздал на рейс и был вынужден возвращаться поездом.
– Это что же, тебе пришлось всю ночь в поезде провести?
– Что ж поделаешь, так вышло. А эту девушку зовут Адель. Я пригласил её к себе на выходные. А вообще, она работает в Риме.
– И ей тоже пришлось всю ночь с тобой трястись? Как романтично, – съязвила Лейла.
– Какая там романтика! – я сделал вид, что не почувствовал иронии в ее словах. – В спальное купе набилось аж шесть человек! Оказывается, у макаронников в поездах даже нет спальных люксов! Адель же согласилась на два дня приехать ко мне в гости, но только поездом, потому что с самолетом у неё проблемы – паспорт на оформлении, а для поезда паспорт не требуют. В одиннадцать ночи сели в Риме, а в восемь утра уже были в Вентимильи. Вчера вечером я её отправил обратно из Ниццы в Вентимилью и посадил на поезд до Рима.
– А зачем именно она тебе понадобилась, разве здесь девушек не хватает?
– Я же тебе сказал, для меня она почти русская! Мы все два дня по-русски проговорили, вспоминали студенческую жизнь. Жаль, но тебе, видимо, не понять!
– Да, всё я понимаю, только не всегда имею право мнение свое высказать!
– Да ладно, по-моему, только и делаешь, что высказываешь свое мнение, но я на тебя не в обиде – ты хороший работник, это я засранец.
– И все-таки понять не могу, зачем тебе сдалась эта чернокожая африканка? – почти прокричала служанка.
– Ты знаешь, сам удивился, но по духу она настоящая русская девчонка, весёлая, простодушная. Я таких раньше не встречал! В пятницу в Риме я записал на видео материал на Древнем Бычьем рынке Пьяцца Сан-Джорджо, мне нужны были детали арки Агрентариев и Януса, и я пошел через Старый Город на Пьяцца Фарнезе, чтобы записать на камеру фонтан, частью которого является гранитная ванна из терм Каракаллы. Впрочем, Лейла, зачем я тебе все это рассказываю. Голову только забиваю! Короче, немного заплутал в узеньких улочках. Обратился к одной уверенной в себе, интеллигентного вида, чернокожей девушке за помощью, мешая итальянские слова с английскими. Видимо, моя тирада её здорово насмешила, и она расхохоталась. Между прочим, у неё прекрасная улыбка!
– Это ты к чему? – нетерпеливо спросила Лейла, с любопытством ожидая продолжения.
– Да просто так, – мечтательно ответил я, вспоминая, как её зубы поблескивали в темноте ночи, когда она, опершись на локоть и улыбаясь, смотрела на меня. – В итоге она спросила меня на идеальном английском, на каком языке мне легче говорить. Ну, я ради прикола ответил ей, что по-русски. Так что ты думаешь, она тут же стала объяснять на русском, причем без всякого позерства, как лучше пройти к площади. Она спешила в офис с обеденного перерыва, и я пригласил её вечером поужинать в одном хорошем ресторане на площади Республики, рядом с «Гранд-Отелем». Не думал, что она придет, но ошибся. Я рассказал, что живу недалеко от Ниццы. Она ответила, что мечтает увидеть Монако и приедет, как только у нее будут время и деньги. Ну, я и уговорил её поехать со мной на уик-энд, оплатил дорогу, показал Монако, купил мелкие подарки…
– Ничего себе мелкие! Вон какие коробки и пакеты по комнате разбросаны! Я хоть и небогатая, в фирмах разбираюсь – дочка просвещает. Интересно, что ты ей купил в «Эскаде»? Я бывает, любуюсь на эту витрину на Рю де Франс.
– Свитер, юбку и белую блузку для офиса. У них фирма солидная, строгий дресс-код.
– А туфли от «Sergio Rossi» зачем? – Николь поддела тапком черную коробку.
– Послушай, она ведь приехала в джинсах и куртке, а мы в субботу вечером в оперу ходили. Ну, не в кроссовках же ей идти?!
– Тогда хвалю, а то я думала, все два дня дома просидели. Или провалялись, уж и не знаю, как правильно сказать!
– Так дождь же всё время шел! Я прокатил её на машине от Монако до Канн, зашли в пару магазинов, и всё. А остальное время – да, сидели здесь и смотрели российские каналы.
– Телевизор они смотрели… Умора! Мне соседские охранники рассказали.
– Да хватит тебе слушать этих фантазеров!
– Они мне сказали, что эта «штучка» была стройная, как эбонитовая статуэтка, и ростом почти с тебя, прямо модель! Ноги всё свои длиннющие на балконе выставляла и смеялась во весь голос.
– А я что, сказал тебе, что она похожа на Эллу Фицджеральд? И ноги у Адель получше, чем у теннисисток сестер Уильямс, но я пригласил ее к себе прежде всего как русский человек русскоговорящего. Посидели, поговорили, посмеялись, выпили вина, она даже чуть-чуть водки, ну и всё такое. Мартин с нами тоже посидел, про Россию послушал, даже поскуливал.
– Ах ты, боже мой, какая идиллия!
– Увы, французам не понять русскую душу, вы же всё на деньги переводите! Раньше сантимы считали, теперь центы в уме складываете.
– А по-моему, это вы, русские, постоянно из-за денег разборки устраиваете!
– Она была не права, а коли женщина не права, проще попросить у неё прощения. Я выдавил из себя ожидаемое ею «пардон», и она, мило улыбнувшись, тут же сменила тему разговора.
При всех своих нестандартных габаритах Лейла была расторопной работницей и, когда через два часа её волейболист протяжно посигналил под окнами, она уже завершила уборку и была готова ехать домой. Стоя перед зеркалом в прихожей, она красила смуглые пухлые губы яркой помадой, и, по всей видимости, была вполне довольна собой.
Я надел легкую куртку, и мы с Мартином наконец отправились на прогулку. Мой серебристый кабриолет «Пежо-306 СС» стоял на площадке возле дома. Я толкнул скрипучую калитку и подошел к машине. Мартин запрыгнул в салон и без привычных капризов устроился на заднем сиденье. Теплая и солнечная весенняя погода создавала мне хорошее настроение, а собаку приводила в возбуждение. Морской воздух, приносящий с собой запахи ещё не просохшей после ночных дождей земли и уже повсюду зеленеющих кустарников, как всегда весной, наполнял моё сердце радостно-тревожным ожиданием.
Мы направились в Ниццу и на удивление легко нашли место для парковки на площади Массены, совсем рядом с садом Альберта I. Площадь в окружении элегантных красных фасадов старинных зданий, построенных в туринском стиле, напоминала горожанам, что Ницца когда-то входила в состав итальянских княжеств. Удивительно, кстати, почему Маяковский, сидя на этой площади, назвал Ялту Красной Ниццей?! У меня же площадь Массены всегда ассоциировалась с прекрасным французским актером Бельмондо в любимом фильме отца «Кто есть кто», а близость казино «Руль» вселяла в меня ощущение праздника.
Отсюда, с Променад-дез-Англе, мы с собакой обычно начинали свои многочасовые прогулки и, поднимаясь через парк вверх, в сторону Симьеза, любовались самым красивым в Европе бульваром, идущим через дворцовые парки Зимнего Дворца и Эрмитажа к отелю «Регина», построенному в конце XIX века для зимнего отдыха английской королевы Виктории. Великолепная архитектура периода «Belle Époque» перестала восхищать нас своим шиком, как только мы с Мартином повернули от отеля налево. В тенистых узких улочках с садами за высокими заборами было прохладно и сыро, что очень нравилось Мартину. Пёс жадно вбирал в себя волнующие запахи, временами чихал и фыркал от удовольствия. Мы шли по булыжной мостовой, и оттого, что дорога спускалась всё круче вниз, ноги не слушались и несли нас вперёд, отчего я помимо своей воли перешел на бег. Впереди замаячили готические верхушки помпезного белокаменного дворца «Вальроз», утопающего в зелени своего знаменитого сада.
Дворец Вальроз
Здесь, в саду Университета Ниццы, на площадке, отделяющей Шато Вальроз от бывшего дворцового театра, мы обыкновенно устраивались на отдых. Я брал с собой купленные по дороге газеты и садился на отдельно стоящую не крашенную деревянную скамейку, любуясь сверху видом на парк, укрывавший шапкой буйной зелени университетские строения. На сей раз нам не повезло – наше место было занято: на скамейке сидела ничем не примечательная девушка с книгой в руках. «Студентка», – раздосадовано подумал я. Надкусанный сэндвич лежал на коленях, затерявшихся в бесформенных широченных джинсах. Рядом со скамейкой стоял велосипед. Рюкзачок лежал почему-то отдельно, покоясь на ветхом металлическом стуле. По тому, как девушка отрешенно читала книгу, медленно перелистывая страницы, было ясно, что это надолго. Я не хотел никому мешать и тихонько потянул Мартина в сторону лестницы, но пёсик, видимо, учуяв запах аппетитной начинки хлебного треугольничка, уперся, недовольно зарычал и стремительно запрыгнул на свою любимую скамейку. Девушка вздрогнула от неожиданности, подняла голову и с улыбкой посмотрела на собаку. Она отложила книгу в сторону, перевернув её страницами вниз, чтобы не закрывать.
– Мой ангел, – наклонилась она к Мартину, не обращая на меня никакого внимания, и провела узкой ладонью по его спинке.
«Какие тонкие запястья», – невольно подумал я.
Пёс, услышав добрую интонацию, затеребил хвостом и стал лизать девичьи руки. Я бросил взгляд на книгу. Это был Теодюль Рибо, «Опыт исследований творческого воображения». «Понятно», – подумал я, вспомнив свою давнюю студенческую подружку с психфака МГУ.
– Как тебя зовут, – снова обратилась к Мартину девушка.
Рыжая копна вьющихся волос почти полностью закрывала лицо, глаз не было видно, проглядывался только маленький курносый носик и кусочек тонкой шейки под широким воротом серого свитера рыхлой вязки. Одним словом, прелестный «пуделёк»!
– Он не понимает по-французски, – пошутил я, – да и вряд ли ответит, – однако на мои слова она не отреагировала.
– Так как же тебя зовут, – повторила свой вопрос студентка, ловко подхватив собаку на руки и крепко удерживая турбулентное тельце.
– Осторожно, не испачкайтесь, у него лапы мокрые. – Немного помедлив, и так и не дождавшись внимания к себе, я добавил: – его зовут Мартин.
Мартин? – удивилась рыжеволосая студентка. – Почему Мартин, а не Мартен, он же мальчик?
– Потому что моя мама любила Джека Лондона, помните, «Мартин Иден», наверное, ей казалось, что это оригинально. Она тогда не предполагала, что её единственный сын будет постоянно жить в Ницце вместе с её собакой.
– У нас такая же порода, только чуть поменьше и окрас потемнее. Он любимец моего отца.
– А зовут его, конечно, Калупсун, как у Бельмондо?
– Ну, почему?… Разве мало красивых кличек? А где вы жили раньше, извините?
– В Москве.
– Как в Москве? Вы из России? – опять искренне удивилась незнакомка, ничуть не притворяясь.
– Вынужден признаться, что да, – с иронией в голосе ответил я.
– Вы действительно русский? – она наконец пристально оглядела меня с ног до головы, не скрывая однако некоторой настороженности. – Странно, очень странно, – выдавила она, – а говорите вы на идеальном французском! У нас много новых русских обосновалось, да и туристов ваших хватает, но все говорят, как правило по-английски, и то… – она небрежно повертела рукой, что, по-видимому, означало «ком си ком са».
– Русские разные бывают. Не только внезапно смертными, но и внезапно богатыми. Так вышло, что я тоже русский, но в отличие от упомянутых вами, немного говорю по-французски, – улыбнулся я, но на лице девушки я не увидел ни тени улыбки. Наоборот, она как-то напряглась, аккуратно опустила Мартина на землю и, как бы оправдываясь, сказала:
– Друзей у меня много, но русских среди знакомых никогда не было. Здесь часто пишут о разборках «новых русских», о том, что они скупают недвижимость, открывают бизнес!
– Вас, французов, не поймешь! Когда-то вы были недовольны, что к вам понаехали бедные русские эмигранты, теперь вы попрекаете нас богатством, не думая о налогах, которые мы платим в вашу казну. Для вашего сведения я тоже имею здесь недвижимость.
– Значит, Вы тоже «новый русский»?
– Если судить по-вашему, выходит так.
– Поразительно… – сказала златовласка, натянуто улыбнувшись, и почему-то прижала ладошки к щекам.
«Ну, точно пуделёк», – подумал я и не удержался от снисходительной улыбки.
– А здесь, в зеленом парке Вальроз вам одной находиться не страшно? – спросил я игриво-устрашающим тоном, растягивая слова, – от нас же один криминал!
Девушка рассмеялась.
– До этого было не страшно.
– Странно, сидеть у замка, принадлежавшего знаменитому когда-то «новому русскому» не страшно, а разговаривать со мной стремно!
– Не поняла. Вы кого имеете в виду?
Я был приятно удивлен, увидев, что мне наконец удалось ее заинтересовать.
– Кого? Вообще-то заложил и построил этот красивейший замок Павел Григорьевич фон Дервиз, или Павел Георгиевич, не знаю как правильно, в одной передаче его даже Павлом Петровичем назвали!
– А как на самом деле?
– Так, как звал его граф Витте, который хорошо знал всё семейство Дервизов и называл его именно Павлом Григорьевичем. Правда, граф Витте признавался, что писал свои «Воспоминания» уже далеко немолодым человеком, поэтому мог что-то перепутать. Поэтому утверждать не возьмусь.
– А почему вы называете Дервиза «новым русским»?
– Потому что таковым его посчитала вся великосветская русская Ницца, когда он приехал сюда в 1867 году лечить своих детей, страдавших туберкулезом.
– Вы знаете, – прервала мой исторический экскурс студентка, – мне иногда кажется, что своей красотой Ницца обязана исключительно трагической ошибке врачей, полагавших 150 лет назад, что мягкий климат Лазурного берега целебен для людей, страдающих заболеваниями легких.
– Согласен, весь Лазурный берег – это цветущее кладбище высшей родовой знати Европы XIX века, причем, как правило, молодой.
– Извините, что прервала вас. Так что Дервиз? – спросила она серьезно и без эмоций, словно сидела в университетской аудитории и слушала профессора.
Не скрою, мне было приятно, что наша беседа строилась не на показном интересе, формирующем, как бывает, первую беседу двух незнакомых людей, а на взаимном уважении к истории.
– Вы спрашивали о «новых русских». Так вот, Дервиз действительно считался одним из них. Он не принадлежал к высшему обществу в России, однако считался одним из первых русских капиталистов, при том безумно богатым. Здесь его сразу окрестили «русским Монте-Кристо», не ведая о природе происхождения столь огромных средств. Русские аристократы предпочитали держаться от Дервиза на расстоянии, особенно когда поняли, что и сам он не пытается сблизиться с представителями «голубых кровей» Европы. Даже наоборот, своими чудачествами и подчеркнутым стремлением к одиночеству он снискал себе славу «Железной маски». Его эпатаж проявлялся во всем. Дервиз хотел везде быть первым и считал, что его дом в Ницце должен быть «круче» чем Шато дез Олльер князя Ростовского или дворец княгини Кочубей. Поэтому начал он как истинный русский нувориш. В Ницце он выбрал лучшее место для будущего замка, купил одиннадцать гектаров земли и заложил парк, да такой, каких этот южный город в то время ещё не видывал. Фонтаны, ручьи, каскады, озеро – всё утопало в розах, его любимых цветах. Из России был выписан садовый архитектор Владимир Фабрикант, который с помощью местного молодого садовника господина Шарля посадил в парке все известные в то время сорта этих цветов и перевёз из Италии все виды наиболее живописных пальм. Дервиз назвал свой дворец, точнее, замок «Val Rose», по-русски «розовый дол». Его создали два русских архитектора, а в строительстве участвовали 800 жителей Ниццы. Вон там, – я отошел немного в сторону и показал внимательно слушавшей меня студентке пальцем на портик дворца, – барельеф с изображением детей Павла фон Дервиза, Варвары и Сергея, а наверху, видите – фамильный герб семьи: рыцарский щит со звездой и сердцем, что означает храбрость и сердечную доброту представителей рода. Знаете, когда я впервые оказался здесь и стал расспрашивать, где в Университете находится театр, поскольку указатели давали только направление, все, как один, указывали мне на «Замок». На самом деле театр расположен рядом, – я повернулся и, протянув руку, сказал: – вот он. Именно в этом театре, рассчитанном на четыреста мест, состоялась европейская премьера оперы «Жизнь за царя». В России после 1917 года она стала называться «Иван Сусанин». Дервиз содержал за свой счет семьдесят музыкантов и хор, жили они в малом замке. Здесь 130 лет назад Павел Григорьевич давал лучшие в Ницце светские и благотворительные концерты, причем выручка от билетов шла исключительно на нужды города. Сам Дервиз никогда не показывался на публике, для него были сделаны отдельный выход из Шато и личная ложа. Похоже, выход не сохранился, – добавил я с сожалением. – Одним из его чудачеств была выписка из своего имения в Киеве русской избы, где он частенько пил чай. Изба была украшена текстами русских поговорок, выполненными старославянской вязью. Надо отдать должное французам – они всё сохранили практически в первозданном виде, даже вон того бронзового коня работы хорошо известного у нас в России Трубецкого, – я показал девушке на стоявшую в глубине парка статую, выкрашенную в желтый цвет студентами, с нацарапанной на спине традиционной надписью «Я был здесь».
Девушка улыбнулась, как будто знала, чьих рук это дело, но раскрывать имя юного вандала не стала. Убедившись, что ей интересен мой рассказ, я продолжил:
– К всеобщему сожалению после скоропостижной смерти этого мецената и филантропа музыкальная деятельность в Вальрозе прекратилась. Пожалуй, что только Дервиз как русский Иван-дурак, мог позволить себе такую расточительность, несвойственную французам.
– Ну почему же, не такие уж французы и прижимистые, – вступилась за соотечественников моя собеседница, – просто поведение русских нам не всегда понятно. Только они, живя в пятизвездочных отелях, дают официанту на чай 300 евро, по утрам пьют дорогущее шампанское, но при этом торгуются, когда снимают дешевых уличных проституток.
– А я считаю, что прагматизм – главная черта именно западноевропейского мышления. Дервиз был другим, он был первым «новым русским» Лазурного берега. Жаль, что его пример не взяли на вооружение современные нувориши типа Бориса Березовского, купившего на Кап-д-Антиб» Chateau de lа Garoupe».
– У нас считают, что Березовский так богат, что, наверное, легко мог бы сейчас купить и замок Вальроз.
– Вполне возможно, что не он один. Таких в России сейчас немало, к примеру, Роман Абрамович. Однако дело в том, что этот замок сейчас просто не продается. Но если город и надумает когда-нибудь его продать, то будьте уверены, скорее всего, его купит именно русский. Знаменитые виллы европейских миллиардеров на Кап Ферра наших мало интересуют, они скрыты от посторонних глаз, а нам же нужен выпендрёж! Как однажды написал в своих «Философических письмах» признанный в Европе мыслитель Петр Чаадаев, «русские заимствовали одну лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь».
– А откуда вся эта информация? Вы что, читали или сами писали книгу о Дервизе?
– Книгу о Дервизе никто не написал и вряд ли когда-нибудь напишет. В России о нем вообще мало что известно, и это при том, что музыку к знаменитому романсу «Вечерний звон», который часто исполняется и так любим россиянами, написана именно Павлом фон Дервизом.
– Наверняка, как и все романсы, он печальный?
– Угадали. Один мой университетский преподаватель на лекции как-то сказал: «Почему печальна русская песня? Потому что печальна русская история»! Я по образованию историк и серьезно занимался когда-то историей жизни русских царей Николая I и Александра II, но отец мой полагал, что в перестроечный период зарабатывать знаниями в области истории России невозможно, и поэтому настоял на моем втором образовании, поскольку хотел, чтобы я стал, как и он, финансистом. Так вот, изучая в Финансовой Академии историю развития капитализма в России, я штудировал воспоминания первого русского премьер-министра России по фамилии Витте. Вот там и наткнулся на откровенные воспоминания о Дервизе и странностях его характера.
– Ничего себе в России фамилии: Витте, Дервиз! – на ее губах появилась легкая улыбка, и я, оценив ее способность шутить, улыбнулся в ответ.
– Но вы же догадываетесь, это не исконно русские фамилии. Важно то, что это истинно русские люди, хотя с прибалтийскими и голландскими корнями. Так вот, меня как «нового русского», каковым вы меня считаете, интересовала история расхищения казенных денег, а также подкупа и взяточничества в России в те времена. Я уже говорил вам, что в нынешней России всё возвращается на круги своя, только теперь уже в виде фарса. Вот вам пример. Здесь на улице Дюбушаж много лет жила и умерла княгиня Долгорукая (граф Витте по материнской линии тоже происходил от князей Долгоруких), или Юрьевская, называйте как угодно, бывшая морганатической женой русского царя Александра II. Так она не брезговала принимать от него крупные подношения. Однажды произошел такой случай: эта молодая княгиня, ещё будучи просто любовницей императора, настаивала в своих корыстных интересах, чтобы Александр II отдал концессию на строительство железной дороги Ростов-Владимир Полякову, в те годы крупнейшему российскому железнодорожному тузу, человеку и так безумно богатому. Между прочим, этот Поляков просто носил русскую фамилию, а на самом деле был родоначальником известной династии богатейших российских евреев, один из которых даже получил российское дворянство. Самое удивительное заключается в том, что пресловутую концессию Поляков так и не получил благодаря порядочности и своевременному вмешательству министра путей сообщения графа Алексея Бобринского, кстати, двоюродного правнука Алексея Орлова, бронзовый бюст которого стоит у нас в Вильфранш-сюр-Мер.
– Простите, я не ослышалась, у «вас» в Вильфранше?
Странно, но насмешливость в интонации студентки уже не выводила меня из себя.
– Да, я живу там уже почти два года, у меня свой дом.
Так вот откуда прекрасный французский! А то я поражалась, неужели возможно так хорошо выучить язык в Москве! Теперь ясно! Так что вы говорили об Орлове?
– Я говорил о его двоюродном правнуке Алексее Бобринском, который, будучи порядочнейшим человеком, отдал концессию не Полякову, а некоему инженеру Штенгелю, который построил дорогу Ростов-Владимир, и ничего, по мнению Витте, у России не украл. Штенгель нажил себе честное состояние. Не миллионы, конечно, а несколько сот тысяч рублей, что было по тем временам очень большими деньгами. Но в России бывало, что благие дела не проходили безнаказанно. Вот и был тогда Бобринский примерно наказан Александром II по науськиванию мстительной Долгорукой. Должностью своей поплатился, но чести не замарал. Так я к чему – всех их: Дервиза, Полякова, Юрьевскую, Александра II и Бобринских-Орловых объединяет одно – Южный берег Франции. Каждый из них мечтал сладко жить и даже закончить здесь свои дни. Хотя нужно сделать одно немаловажное уточнение: многие из них тогда считали Ниццу Италией. Даже Сергей Витте в своих «Воспоминаниях» пишет, что Дервиз построил себе замок в Италии, полагая, что здешний Лазурный берег является итальянским.
– Дервиз, конечно, был женат, а кто была его супруга?
Она заметила удивление на моем лице и продолжила:
– Просто я часто бываю в Музее изящных искусств в квартале Бомет, и там на одном из центральных мест размещена картина с изображением благородной дамы с этой редкой фамилией. Многие посетители останавливаются возле нее. Это, по всей видимости, и есть его жена?
– Приятно удивлен, спасибо за вопрос! В России сняли прекрасный многосерийный документальный фильм о русских, живших в Ницце: «Русские зимы в Ницце», а в крупных московских книжных можно встретить толковую книгу писателя Носика «Прогулки по французской Ривьере». Так вот, и в фильме, и в книге женщину, которую вы упомянули – прекрасную молодую даму, высокую, с узкой талией и роскошным бюстом называют женой Павла фон Дервиза, хотя на самом деле это не так!
– На чем же тогда основывается их предположение?
– Наверное, над ними, как и над вами довлеет стереотип поведения прежних «новых русских», которые, впрочем, как и нынешние, предпочитали связывать жизнь исключительно с молодыми красивыми женщинами, становясь их мужьями или любовниками.
– Да, я заметила, что многие ваши мужчины выгуливают на Променаде своих высоких модельного вида спутниц. Так, по вашему мнению, кем же приходится фон Дервизу эта женщина?
«Эта златовласка мозг выносит капитально», – не без приятного удивления подумал я.
– Вероятно, она жена Сергея, его сына. Естественно, я тоже бывал в этом музее, а он располагается, кстати, в бывшем дворце русской княгини Кочубей, и обратил внимание, что во время написания портрета художник, чьи годы жизни указаны под картиной, должен был быть совсем юным, если предположить, что эта дама в красном действительно являлась женой Павла фон Дервиза. А вот портрет его реальной жены тоже висит в том музее ровно напротив! Просто на него мало кто обращает внимание, поскольку на нем изображена немолодая женщина с простым русским лицом и в неброском платье. Звали жену Дервиза Вера Николаевна, девичья фамилия – Титц. В нашей литературе её называют женщиной доброй и светской, настоящей душой замка Вальроз.
– Так все-таки, какая черта преобладала в характере барона: чудаковатость или загадочность? – спросила студентка, чуть прищурившись, вглядываясь в крышу замка.
Эта чудная девчонка сидела на лавочке, поджав под себя ноги и, уперев локти в колени, подпирала кулачками подбородок.
– Лично мне более точными кажутся определения, которые дал барону граф Витте, хорошо знавший всех братьев. Витте полагал, что от богатства и роскоши Дервиз «совершенно сбрендил», о чем свидетельствовали его поступки во время жизни в Ницце. Впрочем, судите сами, в день серебряной свадьбы супругов, на которую были приглашены все родственники барона, он выступил с продолжительной речью, в которой поблагодарил свою давно уже не любимую жену за верность и доброту, и объявил о своем особом подарке – в зал вошли слуги и внесли на подносе один миллион рублей золотом. Когда Вера Николаевна приняла подношение, Дервиз снова выступил с речью, обратившись к жене с просьбой оставить его, так как он больше не желал быть с ней вместе. Барон в то время имел много увлечений в кругах знатных дам, на которые не жалел денег, они же буквально разоряли его. Женщинам, которые ему нравились, Павел Григорьевич готов был отдать все, и порой занимался благотворительными проектами лишь в угоду какой-нибудь знатной русской кокотке. Один из родных братьев Дервиза, Николай, был очень беден. Он был тенором в Мариинском театре, и выступал под псевдонимом «Энде». Павел Григорьевич пригласил брата на летний сезон для выступлений в театре «Вальроз». За несколько месяцев, что Николай выступал в театре, Павел Григорьевич ни разу не пригласил его к себе во дворец! Единственно, после завершения сезона он выдал брату перед расставанием кошелек золотых монет сверх оговоренной суммы контракта. Как всё это в духе «новых русских»! – вздохнул я с сожалением.
– Интересно, как вы, русские, сумели разбогатеть так быстро? Насколько мне известно, в Европе это мало кому удается.
– Да, в России это уже стало нормой. Уверен, что как только вы, европейцы, разгадаете алгоритм того, почему Дервиз так быстро разбогател в 70-е годы XIX-го века, то вам сразу станет ясно, что происходит с Россией сейчас, уже в XXI-м. Дело в том, что в экономической политике царизма в России фаворитизм и коррупция при отсутствии независимого суда имели давние и крепкие корни. В частности, капиталы железнодорожных обществ были гарантированы казной, поэтому получалось, что частные по форме предприятия действовали целиком за счет казны. В таких условиях правительственная гарантия обеспечивала прибыли и гарантировала от убытков. Оставалось только заручиться чьим-либо покровительством и получить, скажем, концессию на строительство, а дальше и ты, и твой покровитель становились богатыми, собственно, и воровать-то по-крупному не было нужды, надо было только быть честным по отношению к своему покровителю. Поначалу Дервиз был всего лишь сенатским чиновником. Позднее его школьный товарищ Рейтерн, став министром финансов, предоставил Дервизу концессию на постройку железных дорог.
За то короткое время, что мы увлеченно беседовали, поведение моей собеседницы коренным образом изменилось. Она стала раскрепощеннее и смелее.
– Скрывать не стану, я и все мои знакомые относимся к русским с опаской, – тихо сказала студентка и, как бы оправдываясь, добавила, – может быть, не было случая познакомиться с кем-то из них поближе, поэтому мы вас не знаем, поэтому, естественно, вы для нас чужие. Правда, когда училась в школе, я была поклонницей Марии Башкирцевой, запоем читала её дневник, посещала музеи, где выставлены её картины и скульптуры. Удивительно, но я сразу почувствовала, что она очень близка мне по духу. Я ею даже восхищалась.
– Вам так близки идеи феминизма? – не удержавшись, удивленно воскликнул я.
Девушка впервые посмотрела на меня очень приветливо, долго не отводя глаз.
– Скорее, были, или просто так казалось. Муся Башкирцева для меня и теперь остается великой женщиной. Какой сильный человек – с детства мечтала о карьере певицы, но к 15 годам пропал голос, стала успешно заниматься музицированием, и новое испытание – к 17 годам частично оглохла… Но она не сдалась, стала художницей, скульптором, писательницей. Какая целеустремленная волевая натура!
– На самом деле, старые «новые русские» были в большинстве своем очень на неё похожи, – я сделал паузу и, пребывая в некоторой нерешительности, спросил: – А вы уверены, что хорошо знаете биографию Башкирцевой?
– Да, уверена, хотя, – немного помявшись, она продолжила, – боюсь, что вы сейчас постараетесь убедить меня в обратном.
– Не волнуйтесь, я всего лишь историк, – сказал я и вежливо улыбнулся, – и пытаюсь смотреть на вещи объективно. Для начала – вы читали книгу Колетт Кознье «Un portrait sans retouches», которая вышла в 1985 году в Париже?
– Нет. Я сочла, что для понимания её личности достаточно того, что я трижды перечитала ее «Дневник», а именно полную его версию, опубликованную «Обществом друзей Башкирцевой».
– Это понятно, но была еще и Колетт Кознье, первая француженка, которая основательно подошла к раскрытию этой незаурядной личности. Она работала в Национальной библиотеке с оригинальными дневниками Марии Башкирцевой, обращалась, что называется, к первоисточнику, а не к сокращенным изданиям. В ее работе много любопытного…
– Опять хотите задушить интеллектом?
«Надо же, как осмелела, – подумалось мне тогда. – И чего я, действительно, распинаюсь!»
– Если помните, это вы завели разговор о Башкирцевой! Я-то пришел сюда погулять с собакой, а не держать экзамен по эрудиции перед студентами, – я поспешно встал и посмотрел на часы. Оказалось, что я проговорил с незнакомкой почти полчаса, и даже не заметил этого.
– Не спешите, прошу вас. Простите мне мою бестактность, я благодарна вам за рассказ. Так чем вас заинтересовала Башкирцева, что нового можно было найти у Кознье?
В действительности спешить мне было некуда, да и собаке нравилось лежать на влажном мелком гравии под скамейкой, полусонно вслушиваясь в нашу болтовню. К своему удивлению я снова послушно присел на краешек скамьи.
– Вы ошибаетесь, я отнюдь не интересуюсь ни жизнью, ни творчеством чуждого мне по духу человека.
– Чуждого?! Но ведь она была умницей, безумно талантливой во всем, да ещё и вашей соотечественницей!
– Да, какая она к черту русская?! То, что она родилась под Полтавой и первые десять лет жила в России, совсем не сделали её русской. К тому же, по крови она на четверть француженка. Свой знаменитый бестселлер она написала по-французски, и в этой книге клялась, что её родина – Ницца. В Россию же они никогда и не собирались возвращаться. Она мечтала жить в Париже, выйти замуж за богатого и знатного француза, быть светской дамой, и желала в жизни только одного – славы! Единственное, за что я уважаю Башкирцеву, так это за её полную искренность.
– И всё-таки не убедили, – воскликнула студентка, – Башкирцева была русской!
– А вы-то откуда знаете русских, чтобы судить? – я почувствовал раздражение и готов был уйти. Вы же только что признались, что о русских имеете смутное представление, боитесь нас.
– Если бы русские умели любить людей так, как Башкирцева, то я бы точно вас не боялась! – в ее глаза ударил луч солнца, и я поразился их фиолетово-голубому оттенку.
– А, может быть, все совсем наоборот? – спросил я.
– То есть?
– Да как вы не поймете, вам по нраву Башкирцева именно потому, что она совсем не похожа на русскую. Она настоящая француженка!
– Я не согласна!
– Отчего же? Она сама писала, что мечтает выйти замуж за наследного принца, стать великосветской дамой, на худой конец герцогиней, нежели просто считаться первой среди мировых знаменитостей. Мама Башкирцевой, пережившая свою дочь на несколько десятков лет, упорно пыталась убедить русского читателя, что Мария всегда мечтала вернуться в Россию, а во Франции она якобы просто училась. Мое мнение – это чистая ложь! Мать тщательно отредактировала дневник Марии, самостоятельно решая, что нужно знать русскому читателю, а что нет. Так что имейте в виду, ваш любимый «Дневник» был подвергнут капитальной тройной цензуре – родственной, французского и русского издателей. Вот ведь как бывает! Если честно, то я и сам до конца не решил, кто в России русский, а кто нет. У нас любят мусолить эту бесконечную тему, а первым столкнулся с ней ещё Иван Грозный, когда задумал отправить на учебу в Европу большую группу детей из богатых русских семей. Представьте, никто из них после окончания учебы в Россию не вернулся! То ли климат у вас лучше, то ли люди добрее… Вот тогда-то и родился в устах царя-батюшки термин «враг народа», и совсем не Сталин его придумал. Может, поэтому Владимир Даль – выдающийся русский иностранец, датчанин по происхождению, составитель русского толкового словаря, и сказал, что русский человек это тот, кто любит Россию, живет в ней, думает по-русски и изучает русскую историю. И Екатерина, великая русская императрица, немка по происхождению, объяснила нам в своих «Записках», что значит быть русским и любить свою родину. Вот она-то и была настоящей русской, даже своему брату запрещала приезжать к ней в гости, полагая, что здесь немчуры и без него полно. А вот ваших Вольтера и Руссо боготворила, хотя во времена её царствования Франция была злейшим врагом России.
– А о Башкирцевой, как я понимаю, – все? – спросила девушка со вздохом.
– Да вроде мне нечего больше добавить, – я пожал плечами.
– Но что-то вас всё же зацепило, если вы копали так глубоко, – девушка хитро сузила глаза.
Я задумался на пару секунд и, вытянув ноги, позволил Мартину забраться мне на колени.
– Кое-что мне действительно показалось любопытным, но только как для историка, ведь я, как вы поняли, отнюдь не являюсь почитателем этой самоуверенной кокотки.
– А что же вас заинтересовало в Башкирцевой как историка?
– Да есть кое-что… – медленно сказал я, сомневаясь, стоит ли продолжать эту неожиданно начавшуюся и надолго затянувшуюся лекцию. «Ну раз так интересуется», – подумал я и продолжил… – Дело в том, что Мария приехала в Ниццу со своей мамой где-то в 1870 году, то есть в год окончания строительства «Шато Вальроз».
– И что?
– Так вот. Её тетя, очень богатая вдова и, в отличие от мамы, довольно некрасивая внешне, купила прекрасный особняк на Променаде. Она, эта тётя Надин, любила в жизни только три вещи – табак, казино и свою племянницу Мусю. Напрашивается вопрос – откуда у младшей сестры мамы Марии Башкирцевой такие деньги? Оказывается, она удачно вышла замуж за старого холостяка, сказочно богатого Фаддея Романова. Через год после свадьбы он скоропостижно скончался, но успел составить завещание, по которому всё его огромное состояние отошло молодой жене. Поползли слухи, что старого алкоголика в момент приступа белой горячки отравили не без помощи одиозного Жоржа – любимого дяди Марии Башкирцевой, который, собственно, ранее и способствовал тому, чтобы дурнушка Надин заполучила богатого мужа. Родственники Романова, в частности, его родная сестра, оспорили завещание, утверждая, что подпись на нем поддельная. Начался процесс, растянувшиеся на долгие-долгие годы. А пока суд да дело, вся многочисленная семья Марии Башкирцевой по линии матери, по фамилии Бабанины, оказалась в Ницце. Дядя Жорж и не только он один, и в Ницце продолжал жить, как у нас говорят, «не по понятиям», так что жалобы русской диаспоры со всего побережья потекли в русское консульство. Дошло до того, что русские семьи во Франции отказывались принимать их в своё общество. Даже родная тетка Марии по линии отца, мадам Тютчева, так же жившая в Ницце, никогда не приглашала к себе никого из семейства Бабаниных. Более того, после переезда семьи в Париж, где Мария успешно училась в лучших артшколах прославленных мужей Франции, она мечтала через русского посланника войти в высшее общество, но и к нему вход для их семьи был закрыт. Мне кажется, до конца жизни Мария так и не поняла, насколько серьезен был процесс против её тети Надин.
Девушка слушала меня очень внимательно, чуть склонив курчавую голову, находясь, видимо, в полном замешательстве от полученных сведений.
– Я этого не знала, ведь в дневнике Марии этого нет, и в комментариях к книге тоже!
– Именно поэтому я вам и посоветовал обратиться к книге Колетт Кознье, вашей соотечественницы. Видимо, её публикация прошла у вас в Ницце относительно незамеченной. Всё, что касалось неприглядного поведения дяди Жоржа во Франции и даже какие-либо упоминания о нем стараниями матери Марии были изъяты из «Дневника». Также оттуда убрали все сведения об отце Марии, Константине Башкирцеве, а ведь ему не позволяли видеться с дочерью, с которой он встретился, когда она была уже почти взрослой. Поэтому можете пофантазировать на досуге, как бы сложилась судьба вашей Марии, если бы тетя Надин в свое время не вышла замуж за богача Фаддея Романова?
– Теперь становится понятно, почему тогда, в конце XIX века, мать Марии не позволила напечатать весь дневник, хотя дочь умерла молодой и очень хотела, чтобы её воспоминания стали достоянием всех и без сокращений, – сказала девушка с сожалением в голосе.
– Наверное, по совокупности этических причин и потому ещё, что мать понимала, какую судьбоносную роль сыграли в жизни ее дочери дядя Жорж и тётя Надин. Если бы не они, Мария вряд ли бы стала такой, какой её узнал и запомнил мир.
– Согласна.
– Так вот, что касается замка Вальроз, продолжил я, – вам как фанатке Башкирцевой, наверное, будет не лишне знать, что ни она сама, ни её многочисленные родственники ни разу не переступили порога этого знаменитого замка. Барон фон Дервиз, как я уже говорил, самый богатый представитель русской колонии, постоянно давал благотворительные балы на православное Рождество. В это время года почти весь русский свет перебирался на южный берег Франции. Можете себе представить, что в Вальрозе перебывали все, кроме Башкирцевых!
– Как же обидно все это слышать! – девушка грустно отвела взгляд.
– Я всего лишь пытаюсь быть объективным. Меня интересуют факты, а не сентиментальные рассуждения пусть и замечательной писательницы о самой себе. Порой самые, казалось бы, постные факты, умело сложенные историком воедино, становятся не менее захватывающими, чем, если бы они вышли из-под пера известного беллетриста, умеющего завораживать читателя своей фантазией.
– Есть конкретный пример или это так, общие рассуждения?
– Ну как же я, да без примера.
Мои слова вызвали у девушки сдержанную улыбку.
– Ну, вот, допустим, такие события, – продолжил я, немного подумав. – Башкирцева скончалась в Париже от чахотки в 1884 году, не дожив до двадцати четырех лет. Тремя годами раньше та же болезнь в Бонне уносит жизнь приехавшей туда на учебу шестнадцатилетней Варвары, единственной дочери фон Дервиза, обещавшей стать знаменитой пианисткой. Петр Григорьевич решает похоронить дочь в России, но, увидев на вокзале цинковый гроб с ее телом, умирает от разрыва сердца. После его смерти «Шато Вальроз» перестает интересовать кого-либо из родственников Дервиза. Его жена возвращается в Москву, где открывает свою частную школу и разрешает всем девочкам из неимущих московских семей по имени Варвара учиться в ней бесплатно. Между прочим, поэтесса Марина Цветаева училась именно в этой школе и посвятила свой первый поэтический сборник памяти Башкирцевой, которую она, как и вы, просто боготворила. Последний раз в «Шато Вальроз» громко играла музыка и запускались фейерверки в марте 1881 года во время посещения дворца великим князем Николаем Николаевичем. В марте того же года, кстати сказать, в Петербурге был убит русский царь-освободитель Александр II. Его единственным желанием на протяжении последних лет жизни было оставить царский трон своему наследнику, второму сыну Александру, а самому уехать на покой в Ниццу с любимой женщиной, морганатической женой княжной Долгоруковой-Юрьевской. Почему именно в Ниццу? Легко догадаться. Во-первых, Александру очень нравился здешний климат, но скорее всего, потому, что в этом месте умер его любимый старший сын Николай, необыкновенный мальчик, пожалуй, самый талантливый из всех Романовых. Кстати, Николай умер тоже молодым, в возрасте 22 лет и тоже от туберкулеза, правда, было это в 1865 году. Жена же Александра II, княгиня Юрьевская после смерти мужа все-таки перебралась сюда с тремя их детьми из Петербурга. Здесь она и прожила всю оставшуюся жизнь на одной и той же, довольно скромной вилле на бульваре Дюбушаж, 10. Вилла эта до сих пор называется «Жорж». Связи никакой, но все равно почему-то неизменно возникают ассоциации с любимым дядюшкой Марии Башкирцевой, порядком начудившего как в России, так и в Ницце, увлекавшегося авантюрными романами и не брезговавшего местными проститутками. А коль скоро часовня в память цесаревича Николая построена тем же русским архитектором, что сделал проект «Шато Вальроз», и из того же материала, у меня возникает предположение, что если бы не трагическая смерть Александра II, павшего от рук террориста, именно «Шато Вальроз» стал бы постоянным местом жительства отставного русского императора! И не пошел бы этот прекрасный дворец гулять по рукам безликих русских банкиров и боливийского богача, а, значит, и университета вашего могло бы здесь и не быть! Хотя при чем тут сослагательное наклонение? Совсем недавно я получил от друзей из Москвы газету со статьей Владлена Сироткина, профессора российской Дипломатической Академии, утверждающего, что и «Шато Вальроз», и дворец «Бельведер» в Ницце согласно купчим разных лет без сомнения могут быть отнесены к собственности российского государства.
– Что же, смелое заявление! Я обязательно поделюсь этим с папой ради прикола, вот он посмеется. Он любитель исторических парадоксов!
– Я считаю, вполне логичное и исторически обоснованное, согласны?
– Предположим, но зачем такой восторг?
– Наверное, вы сумели задеть самолюбие «нового русского», каковым вы меня считаете. Вот, я и попробовал вас немножко подразнить.
– Ну и как считаете, вам это удалось?
– Мы на минуту замолчали, не глядя друг на друга, после чего я тихо сказал:
– Извините, я не ищу здесь собеседников или оппонентов, чтобы скрасить свое одиночество, и поверьте, мне вполне комфортно в собственном обществе! Во всяком случае, спасибо за такой интерес и внимание.
Девушка опять попыталась мне что-то возразить или, возможно, задать очередной вопрос, но я решительно поднялся. Мартин, уловив моё настроение, тоже с готовностью вскочил и бодро засеменил к лестнице. Мы с собакой уже приближались к воротам главного входа по авеню «Вальроз», когда девушка, стуча колесами велосипеда по каменным ступеням, догнала нас и, немного волнуясь, спросила:
– Простите, а если мне вдруг понадобится обратиться за какой-нибудь исторической справкой, можно, я вам позвоню»?
«Долго решалась, если только сейчас догнала нас», – не без удовольствия отметил я про себя.
На сей раз Мартин не обратил на нашу вынужденную собеседницу никакого внимания. Набегавшись по влажной траве, он превратился из шелковистой смешной игрушки в крысёнка на тоненьких грязных ножках с мокрыми висячими усами. Он дрожал всем телом и был таким беспомощным, что, глядя на него, хотелось плакать от жалости. Я перевел взгляд с собаки на девушку и теперь уже более пристально оглядел ее. Роста она была невысокого, а бесформенный крупной вязки свитер, болтавшийся на худых плечах, лишал меня возможности хотя бы попытаться оценить её фигуру. Лицо её, казалось, никогда не знало косметики. «Да, – с грустью подумал я, – они стоят друг друга – мой пёс и французская студентка, вид жалкий, но всегда добьются, чего хотят»!
– Не вижу препятствий, позвоните, если будет необходимость, – ответил я, с трудом пытаясь говорить безразличным тоном. Я вынул из нагрудного кармана куртки свою яркую визитку и протянул ей.
Девушка, удерживая одной рукой велосипед, взяла карточку другой так неловко, что книга, которую она совсем недавно внимательно изучала, выскользнула и упала на мокрый асфальт обложкой вверх. Я нагнулся и поднял ее, страницы намокли, но почти не испачкались. Я открыл её наугад. Фраза в конце страницы была подчеркнута карандашом, и я прочел: «Человек с богатым воображением делает построение с помощью пластических форм. Жизнь охватывает, опьяняет его, поэтому он нигде не скучает».
– Интересная мысль, – сказал я девушке и, протянув книгу, указал на подчеркнутую строчку.
Девушка улыбнулась белозубой улыбкой. «Ну, хоть зубы хорошие», – подумал я про себя.
– Так вас зовут Денис? – произнесла она мое имя, нарочито растягивая «н» больше, чем нужно.
– Да, – бросил я вполоборота, поскольку Мартин уже убежал далеко вперед.
– А меня…
Девушку звали то ли Сара, то ли Клара, я толком не расслышал её последних слов, а переспрашивать не стал. Мне это было совсем не важно….
Обедали мы скромно в маленьком придорожном кафе в Нижнем Симьезе. Я сидел на высоком стуле у барной стойки и ел овощной суп «минестроне». Мартин суетился у моих ног, время от времени получая кусочки отварной куриной грудки, которую по моей просьбе принес гарсон. Стена, в которую упиралась барная стойка, была сплошь оклеена объявлениями. Я бросил беглый взгляд на это разноцветное конфетти желаний и невольно улыбнулся, когда прочел наугад одно из них: «Студентка из России ищет работу: уборка, глажка, готовка». Её телефон был мне ни к чему, поскольку я был вполне доволен работой выносящей мне мозг Лейлы. Солнце клонилось к закату, радужно освещая помещение кафе через изящные витражные окна. Становилось даже чуть жарко от тепла, исходящего от кухни. Меня стало клонить в сон, а Мартин, пресытившись куриной грудкой и согревшись в моих ногах, дремал уже давно, шевеля во сне ушами и подрагивая лапками. Пора было возвращаться к себе в Вильфранш.
Когда Мартин запрыгнул на кожаный диван в моём кабинете и стал скрести лапками мой плед, в комнате было совсем темно, и ветер, влетая легкими порывами в распахнутое окно, шевелил занавеску. На небе уже слабо светили звезды. Пёс энергично лизал мне пальцы на ногах, но дремотное состояние меня не покидало. С улицы веяло теплом и букетом запахов ласкового московского мая. Зазвонил телефон. Ежедневно, ровно в семь вечера, если до этого времени я сам этого не делал, из Москвы звонила бабушка, чтобы справиться о моих делах. Родители моего отца были ещё в полном здравии и не понимали, зачем мне нужно жить на чужбине, когда в России теперь и так всё есть. Мне же не удавалось убедить стариков, что осень и зиму им было бы полезнее проводить со мной на Лазурном берегу, в тепле и дыша морским воздухом. Но незнакомый мир их пугал, для них здесь была чужая земля. Я был не склонен осуждать дорогих мне стариков за их заблуждения. Что поделаешь, если они до сих пор живут прошлым, а по телеку смотрят только канал «Культура». Я с чувством вины снял трубку, но, к своему удивлению, бабушкиного голоса не услышал. Незнакомый женский голос произнёс моё имя, и я не сразу понял, что это был тот самый рыжий «пуделёк». Я надеялся, что вспомню имя девушки, но потуги были напрасны. Она же называла меня по имени так просто и так часто, словно мы были знакомы уже много лет. Я растерялся, причем настолько, что сразу признался, что вечер у меня свободен, и я не возражаю, если она сейчас заедет к нам ненадолго, хотя осознавал, что еще не нагулял аппетита к общению и не испытывал тяги к чему-то большему.
– Как ко мне лучше подъехать? Откуда? А, из центра? Со стороны вокзала? Тогда лучше не вдоль берега, а сразу на Mont Alban. Да, да, Rue Barla, затем Corniche Andre de Joly и Moyenne Corniche. Только не промахнись, как только на перевале закончится Ницца, нужно сразу вниз, на Villefranche-sur-Mer мимо теннисных кортов, потом налево на авеню du Soleil d’or. Моя стоянка напротив виллы «Yildiz».
Я положил трубку.
– Ну, вот, Мартин, твоя новая подружка уже едет к нам, – сказал я, почти осязая, как тягостное сознание малодушия снова овладело моим полусонным настроением.
В голову ударил разговор с Лейлой. Что теперь мне сказать соседям, охране? Я ведь даже не знал, кто она такая! Студентка? С рюкзаком через плечо и в джинсовых шароварах?! Лейла меня точно сожрёт!
Телефон зазвонил вновь, и я вздрогнул. На сей раз это действительно был звонок из Москвы.
– Это я, бабуль, извини, забыл. Да, у нас всё хорошо, я тебе обязательно завтра пораньше сам позвоню. Дед, надеюсь, здоров? Мучается давлением? Снег идет? Скользко? Ну, будьте осторожнее. Пока!
Я стоял в темной комнате у стола с телефонной трубкой в руках. Ветерок из распахнутого окна становился все свежее. Мыс Ферра зажег свои огни и стал похож на пароход, уходящий в ночное плавание. Я включил свет в кабинете и, надев джинсы с рубашкой, произнес вслух: «Черт бы её побрал»! Мартин, видимо, тоже был недоволен и, как будто поняв моё беспокойство, нервно подергивал головой. Я расположился в холле и минут через десять увидел, как возле дома припарковался новенький белый внедорожник «БМВ». Из машины появилась копна уже знакомых золотистых волос, потом худая фигурка в бесформенном свитере и просторных джинсах.
– Вот и наша гостья, – сказал я Мартину, – а ведь могла бы и принарядиться…
Она не скрывала своего любопытства и не чувствовала себя скованно, что, я полагал, должно быть свойственно всем молоденьким девушкам, впервые пришедшим в дом малознакомого молодого мужчины. Не спрашивая разрешения, она подошла к журнальному столику и взяла книгу со множеством моих карандашных пометок на полях, которая была раскрыта где-то на середине. Девушка быстро пролистала страницы, испещренные планами и диаграммами, и оторопело посмотрела на меня. Вся пышная копна её вьющихся волос рассыпалась по плечам. Она закрыла книгу, хотя об этом я ее не просил, и вслух прочла её название: «L’Armee Romaine sous le haut-Empire» («Римская армия эпохи ранней Империи»). Её брови многозначительно поднялись вверх, отчего серо-голубые глаза стали круглыми, как у совёнка. Молча, с книгой в руках и уверенной походкой она проследовала в мой кабинет, дверь в который была распахнута и где при зашторенных гардинах почти постоянно горел свет. Я не стал кричать ей вслед традиционное в таких случаях «Чувствуйте себя как дома», поскольку, похоже, в этом не было никакой необходимости. Внимательно оглядев все книжные завалы и висевшие на стенах гравюры Пиранези на тему Vedute di Roma, а также бросив недоуменный взгляд на разбросанные по комнате вещи, она вернулась в гостиную. Вместе с ней из кабинета выбежал и мой пес, волоча по полу непонятно по какой причине не замеченный Лейлой не первой свежести носок. Я уже держал в руке кофейник и жестом дал понять гостье, что приглашаю её попить кофе. Она положила книгу на место и сказала:
– Поразительно, как у мужчин все одинаково! У моего папы в кабинете такой же «творческий», как он выражается, беспорядок.
Она оглядела гостиную еще раз.
– Обалдеть, сколько фильмов, – искренне поразилась гостья, глядя на большой встроенный шкаф, заполненный дисками. – Любишь кино? – бросила она через плечо, не поворачиваясь и наклонив голову набок, рассматривая названия.
– Не фанат, просто много свободного времени.
– Завидую, у меня все наоборот, но кино – моя страсть.
Она взяла первый попавшийся под руку диск и, улыбнувшись, показала мне его обложку с крупным планом Рассела Кроу с мечом в руке.
– Я недавно тоже смотрела «Гладиатор». Вообще-то я не очень люблю историческую тематику, но эту картину посмотрела действительно с удовольствием. Потрясающие сцены! А тебе как?
Я втайне порадовался, что у нее в руках оказался именно этот диск, а не «Калигула» Тинто Брасса, который стоял рядом, и признался:
– Конечно, смотрел, и не один раз.
Она обрадовано спросила:
Значит, понравился?
– Фильм не может не нравится. Он зрелищный и музыка прекрасна, и актеры, особенно Конни Нильсен.
– А кто это? – спросила она, и, вспомнив, сама же ответила, – ах, да, там, по-моему, только одна женская роль.
– Да, она в роли Луциллы. С тех пор, как она появилась в «Адвокате дьявола», я стараюсь найти все фильмы с её участием. Именно так, покупаю DVD, не воспринимаю компьютер.
– Ну, конечно, независимо от жанра на экране мужчины в первую очередь обращают внимание на сексапильных женщин!
Мне показалось, что студентка хотела меня поддеть.
– Да причем тут это, – воскликнул я, – просто я убежден, что выбор Конни Нильсен на эту роль идеален, он более соответствует историческому образу красавицы Луциллы, дочери императора Марка Аврелия, и небезызвестной распутницы Фаустины-младшей, чем великая Софи Лорен, когда-то сыгравшая Луциллу в «Падении Римской империи».
Я замолчал и, разлив кофе по чашкам, открыл дверцу холодильника, чтобы найти что-нибудь подходящее к столу.
– Не надо, не ищи. Я ничего не хочу, недавно обедала, – сказала студентка, и я понял, что она окончательно перешла на «ты».
– Зато я хочу, да и вон тот, что крутится у меня в ногах, тоже не откажется, того и гляди сожрет мой носок.
Девушка улыбнулась, вновь блеснув ровными белыми зубами.
– А больше о фильме тебе нечего сказать? У тебя в кабинете я видела старинные гравюры и книги. Создается впечатление, что тема Древнего Рима – это часть твоей жизни.
– Что вы, я не знаю древнегреческого, и латынь хромает у меня на обе ноги. Скорее эта тема была интересна моему отцу. Это был его кабинет. А мне?.. Да, интересна, однако мне кажется, что как оригинальные гравюры Пиранези, так и их копии французских авторов начала прошлого столетия, да и вообще вся тема Древнего Рима вряд ли сегодня кого-то серьезно волнует, кроме специалистов. Историки люди занудные, зацикленные на прошлом. Не зря моя мама их терпеть не могла. А для женщин так вообще история скучна, за редким исключением, впрочем.
– Женщины разные бывают. Кстати, я ведь только наполовину француженка, мой папа итальянец, да ещё с примесью венгерской крови. Он, между прочим, тоже большой знаток древностей.
– Я в данном случае имею в виду людей нашего поколения, где-то до 30 лет.
– Представь, меня эта тема привлекает. Я готова терпеть людей занудных, лишь бы они были интересны мне.
– «Paroles, paroles, paroles», – пропел я со смехом. – Сама же только что сказала, что не очень любишь исторические фильмы.
– Я имела в виду, что часто не «схватываю» их сюжетную линию. Наверное, я слишком поверхностно знаю историю, чтобы сопереживать. Хотя сюжет «Гладиатора» особо не обременен историческими деталями, мне так и не стало ясно, почему герой фильма этот Максимус, который вроде был главным генералом в армии императора Марка Аврелия, возвращаясь к себе на родину в Испанию, где жила его семья, вдруг потом оказался в рабстве? Его, больного, перевезли из Испании в другую провинцию Римской империи и там продали в гладиаторы. Странно как-то, не находишь?
– Что ж, – я невольно широко улыбнулся в ответ на ее лукавый взгляд, – признаться, и меня не покидает ощущение, что нас, зрителей, немного ввели в заблуждение. То ли сценарист что-то напутал, то ли в фильме ланиста Прокуло преступил римский закон. Действительно, по существующему тогда закону никто, в том числе и император, не имел права обращать свободнорожденного гражданина в рабство. Казнить могли, выслать на поселение тоже, но насильно обратить в рабство не было позволено никому, за исключением случая, когда свободный гражданин, вступая в сговор с заинтересованным лицом, сам продавал себя в рабство. Вот только тогда по постановлению Адриана этот человек и должен был остаться в этом статусе. Разумеется, если римлянин решением суда получал пожизненный срок, тем самым он терял статус гражданина, превращаясь в так называемого «раба кары».
– Получается, Максимуса насильно обратили в рабство?
Совершенно верно, словно это вовсе и не древний Рим, а какое-то средневековье, когда пираты в Средиземном море воровали людей, например, в Испании и вывозили на продажу в рабство в Алжир. Но в Древнем Риме согласно закону, именно, закону Фабия о плагии, каждого, кто смел заключать в оковы, прятать, а также продавать свободнорожденного римского гражданина в рабство, преследовали. В наказание за содеянное тем же законом предусматривался штраф в размере ста тысяч сестерций, а это была более чем значительная сумма.
– Но могло же случиться так, что практика применения этого закона была недоработана.
– Не думаю. Этот закон очень древний, к тому же в Дигестах Юстиниана до нас дошел трактат известного юриста Ульпиана времен правления того же Коммода и Севера под названием «Об обязанностях проконсула». Это было не столько юридическое сочинение, сколько административная инструкция для магистратов всех провинций, входящих в состав Римской империи. Так вот, в девятой книге этого трактата он дал подробное разъяснение к применению закона Фабия о плагии.
– А что означает этот термин? – тихо поинтересовалась девушка.
– Плагий – это и есть похищение свободных людей с целью продажи их в рабство. Вот и получается, что по сюжету фильма ланиста Проксимо незаконно всего лишь за одну тысячу сестерций купил самого Максимуса, да в придачу к нему еще и темнокожего охотника, который был тоже, по-видимому, свободным человеком. Если бы только в тот момент кто-либо из свободных граждан подал иск о возвращении свободы такому рабу, то Проксимо вместе с лицом, продавшем их ему, сразу бы оказался в тюрьме, если бы, конечно, не выплатил огромный штраф. Как ни удивительно, авторы фильма этот момент обошли молчанием, и поэтому полное искажение римских реалий стало странным, необъяснимым с научной точки зрения, вводящим в заблуждение краеугольным камнем сюжета. Удивительно, но Максимуса даже к концу фильма, когда он сам признается, что он, кого зовут гладиатор по кличке «Испанец», и есть любимец Марка Аврелия, тот самый знаменитый генерал Максимус, жители Рима все равно продолжают называть рабом.
– Конечно, то, что ты говоришь, это бесспорно важно, но все равно фильм сделан классно, а вот «Падение Римской империи» для меня был просто скучен, – призналась девушка.
– Пожалуй, соглашусь с тобой. Правда, понимать-то в этих фильмах особенно нечего, поскольку Голливуд прежде всего ставит перед собой задачу не столько донесения исторической правды, сколько зрелищную, чтобы народ валил в кинотеатры. Этой цели американцам удалось достичь ещё пятьдесят лет назад, ну, а сейчас тем более. А тема, заметь, одна и та же. События точь-в-точь совпадают по времени, только сценарии обоих фильмов чуть отличаются и вполне соответствуют своим названиям. А, между тем, кроме известных имен Марка Аврелия, Луциллы и Коммода ничего исторического в фильмах просто нет, всё надумано.
– Как это? Разве Марка Аврелия не убили? Разве римляне не воевали с германцами, гладиаторы не так сражались в Колизее?
– Всё вроде бы так, да не так! Марка Аврелия, конечно, никто не убивал, Коммод правил Римом целых 12 лет, а не полгода! Вот, Луцилла, пожалуй, действительно унаследовала ум от отца, а красоту от матери, если верить древним историкам. Но судьба ее трагична, Коммод впоследствии её всё-таки казнил – умертвил на острове Капри, и было за что! Историки полагают, что, если бы не заговор Луциллы, то, наверное, Коммод не стал бы таким кровожадным. Слова наемного убийцы Квинтиана, занесшего над Коммодом кинжал: «Смотри, что тебе посылает Сенат!» воздействовали на его и без того неустойчивую психику. Они потрясли молодого императора до такой степени, что он стал мстить всем вокруг, не доверяя уже более никому из своего окружения. Поначалу и Коммод тоже был красивым и добрым молодым человеком. Он был хорошо сложен, у него были светлые вьющиеся волосы и милая улыбка, а вот не в меру выпученные глаза он унаследовал от своей матери Фаустины-младшей, которая страдала базедовой болезнью. Главное – Коммод был левшой, к тому же еще гордился тем, что ему разрешали держать большой щит в правой руке. Для всех остальных в армии это было строго наказуемо по уставу. В фильме Коммод наоборот черноволосый и меч держит только в правой руке. Выходит, создатели фильма либо не читали Диона Кассия, либо им было на это наплевать.
Как всегда, стоило мне оказаться в плену своих мыслей, либо увлечься фантазиями, я становился не в меру рассеянным. Вот и в этот раз я по неосторожности немного пролил горячий кофе на стол и чуть было не ошпарил руку, поэтому помчался на кухню за полотенцем.
– Я так понимаю, твой список опровержений ещё далеко не исчерпан, – насмешливо сказала девушка, когда я вернулся. Она потянула у меня из рук полотенце и ловко вытерла им журнальный столик.
– А как ты думала, в этих фильмах вообще нет римского духа! – сказал я, садясь в кресло, – Обидно. Римом нельзя забавляться на утеху зрителю, историю его нужно уважать, он этого заслуживает. На словах чтят все, а на деле… Императорский Рим – это прежде всего закон. Почему, когда смотришь любой фильм об этом государстве, тебя не покидает ощущение дикости и кровожадности, хотя на самом деле римское общество было царством закона! Ведь существовал Закон о Величии, то есть о всемогуществе государства, а, значит, и его императора. Любой виновный в нечестии по отношению к своим высоким магистратам, не говоря уже об императоре, как действием, так и словом, должен был быть наказан смертью. Даже самые выдающиеся в истории Рима императоры, такие как Антонин Пий, Марк Аврелий, Адриан, Траян всегда настаивали на этом праве, хотя и не думали им воспользоваться. А посему все эти зверские убийства от имени императора были вполне законными. Коль скоро практически все фильмы Голливуда либо о Нероне, либо о Калигуле или Коммоде, то и кровь льется с экрана постоянно. Другое дело, что режиссеры, по всей видимости, не знают об этом законе, так же как и о не менее строгом законе под названием «О святотатствах», запрещающем под страхом смерти в частности справлять нужду возле храма, бросаться в священные статуи камнями, и который довольно часто нарушали так называемые «первые христиане», за что и подвергались наказанию в строгом соответствии с законом. Режиссерам этим, наверное, кажется, что Рим – это царство бесправия и силы. Рим – это не феодальное государство, и войны он вел масштабные. Это тебе не гражданская война в Америке 200 лет назад, когда безграмотные физически слабые и голодные крестьяне с ружьями бегали по полям, стреляя друг в друга, либо коля штыками неприятеля, часто совсем не понимая за что. И когда американцы это показывают, тут все достоверно. А вот, когда Голливуд берется показывать римские события, произошедшие за 17 веков до их гражданской войны, вкладывают многие миллионы долларов в костюмированное шоу под названием «Древний Рим», – это, к сожалению, лишь сказка в стиле фэнтези, мало похожая на правду. Уж если сам Скотт признавался, что уже собрав съемочную группу и приступив к съемкам на Мальте второй части фильма, он только в этот момент узнал, к своему изумлению, что население Рима во 2 веке нашей эры превышало один миллион человек, то я могу себе представить, сколько важных фактов не было учтено в работе над картиной, хотя надо отдать ему должное, этот режиссер создал грандиозное по масштабу кинематографическое творение, разительно отличающееся от таких признанных американских шедевров, как «Quo Vadis», «Клеопатра» и «Бен-Гур».
Кофе почти остыл, и я с удовольствием сделал несколько глотков. Девушка терпеливо ждала, когда я поставлю чашку на место.
– Жаль, если тебе больше нечем меня удивить.
«Что это? – подумал я. – Реальный интерес или девичье кокетство?»
– Отчего же, говорить о недостатках можно до бесконечности, но, может, лучше ты своего отца-любителя истории, побеспокоишь?
– Себе дороже, – раздраженно ответила студентка и бросила на диван полотенце, которое все еще продолжала держать в руке, – он такой сложный, просто ужас, любит, когда я сама во все вникаю, вечно поучает.
– Он сложный, а я, выходит, простой.
– Дело не в этом – мне с тобой легко.
«Интересные дела», – подумал я и нехотя промямлил:
– Высказать свое мнение мне несложно, но наверняка, тебя будет раздражать мое профессиональное занудство.
– Отчего вдруг такая апатия, – искренне удивилась студентка, – и при чем тут занудство?
– Оттого, что занудство – это не столько черта характера, сколько скрупулезность. Сейчас в чести поверхностные суждения. И потом сомневаюсь, что тебе важно обилие деталей.
– Неужели ты думаешь, что если бы это было так, то я приставала бы к тебе с расспросами?
– Тогда признаюсь, ты единственная такая из всех, кого я встречал.
– Ну давай, давай, – с нетерпением в голосе обратилась ко мне гостья.
– Не думай, в нашем российском кино тоже не все так непогрешимо. К примеру, как-то мне попалась картина о писателе Иване Бунине, ее даже хотели послать от России на «Оскар». Бунин, лауреат Нобелевской премии, длительное время жил в Грассе с женой, любовницей-лесбиянкой и секретарем-гомиком. В общем, веселый треугольник. Короче, фильм начинается с того, что он, ещё не старый мужчина, со своей женой едет из Ниццы в Рим и по дороге умирает в вагоне поезда. Но ведь на самом деле Бунин умер почти девяностолетним стариком в своем доме в Париже! Представь, почти все российские зрители, даже те, кто интересуется этой темой, считают показанное в фильме вполне достоверным.
– Но это же естественно – все режиссеры и сценаристы хотят успеха своему фильму за счет создания исторической интриги, связанной с великим именем. Я тоже недавно ходила в кино с подругами специально на Джорджа Клуни. Девчонки от него тащатся. Он там играет комедийную роль римского легата и возвращается в Рим по приказу Тиберия. Все это происходит якобы при жизни Иисуса Христа. Он приближается к окраинам Вечного города и говорит сослуживцам, что мечтает смыть соленый пот в термах Каракаллы, хотя термы эти в Риме начнут строить только через 200 лет после распятия Христа. Я обратила внимание своих подруг на этот ляп, но они ответили: «А зачем нам этим заморачиваться, мы же пришли посмотреть на любимого актера». По дороге домой я все думала: «А что, собственно, в этот момент он мог назвать вместо громадных терм Каракаллы, которые вообще-то на слуху». Термы Траяна или Тита, огромные термы Константина или Диаклетиана, – все они тоже построены гораздо позже Рождества Христова. Пожалуй, остаются только очень скромные по размеру термы Агриппы, которые существовали в Риме в годы жизни Христа. Агриппа передал свои личные термы в общественное бесплатное пользование незадолго до своей смерти.
– Да ты, оказывается, просто умница, – похвалил я девушку за начитанность.
– А ты думал, я экзальтированная идиотка? Не забывай, во мне течет и итальянская кровь и, может быть, поэтому мне эта тема очень близка. Знаю, что термы Агриппы были довольно скромными как по размерам, так и по отделке. Единственная ценность – это оригинальная бронзовая статуя Апоксиомена, творение знаменитого Лисиппа. Плиний признавался, что она настолько нравилась Тиберию, что тот, как только пришел к власти, забрал ее в свое личное пользование и установил у себя в спальне. Римский плебс обратился в Сенат с просьбой о возвращении статуи на свое место, и принцепс, скрипя зубами, был вынужден подчиниться воле римского народа.
Пока она говорила, я мог без стеснения разглядывать ее, приходя к выводу, что личико у нее вполне миловидное. Видимо, заметив наконец интерес в моем взгляде, она со смехом спросила:
– Ну ладно, что там не так с «Гладиатором»?
– Неужели тебя это мое критиканство еще не достало?
– Представь себе, нет.
Я налил себе ещё кофе, дал собаке сушеное говяжье ухо и неохотно начал рассказ, успокаивая себя тем, что другая общая тема вряд ли найдется.
– Согласись, желательно, чтобы те, кто серьезно хочет вникнуть в детали, хотя бы поверхностно ознакомились с историей Рима. Иначе исчезает познавательный аспект этого дела, что принципиально. Например, всем историкам хорошо известно, что в Древнем Риме не знали, что такое стремена. Нет, уздечка и удила уже были. Кое-кто из всадников даже был экипирован вполне удобными кельтскими седлами, но вот стремян не было! На первый взгляд – ерунда. Если посмотреть известные фильмы, приходишь к выводу, что все военные действия у римлян происходят мобильно, с использованием лошадей и тяжеловооруженных всадников. Можно только восхищаться, как на экране римляне легко мчатся на резвых скакунах. Я понимаю, что кумиры американской нации – это отважные ковбои, но римляне никогда не лихачили верхом на лошадях! Обычный зритель, когда смотрит фильм «Бен-Гур», получивший, между прочим, 11 «Оскаров», и, в частности, плод тяжелейших съемок, но лучшую часть фильма – цирковые ристания на запряженных квадригах, должен задать себе вопрос: «Почему римляне подвергали себя такому риску, стоя на колеснице, а не гонялись по кругу ревущего цирка верхом на лошади, как сейчас»? Есть догадки? – спросил я свою собеседницу.
Немного помолчав, она покачала головой, словно думала о чем-то своем.
– Все те же стремена! Между прочим, Большой Римский Цирк, «Circus Maximus», вмещал не 50 тысяч, как Колизей, а 250 тысяч зрителей! Более того, колесничие ценились в Риме гораздо выше, чем гладиаторы, и после крупной победы могли стать очень богатыми людьми и иметь славу, сравнимую с императорской. Представь себе переполненную чашу Цирка…
Девушка, не шевелясь, сидела в кресле и, чуть приоткрыв рот, смотрела на меня широко открытыми глазами.
– Сейчас это нелегко вообразить, поскольку аналогов просто нет. Длина поля 550 метров, ширина 180! К тому же это ещё и разрешенное властями место для свиданий, ведь на ристаниях, в отличие от гладиаторских боев и театральных представлений, мужчины и женщины могли сидеть рядом. Римский цирк был основным и любимым местом развлечений всех римлян. Принимаются ставки, заключаются пари, денежный оборот колоссальный. Трибуны неистовствуют, по рядам ходят торговцы с лотками. Чтобы представить такое, нужно попасть на финал чемпионата Европы по футболу, услышать ревущую при голевых моментах стотысячную толпу и… умножить это в несколько раз. Почему в несколько, а не чисто арифметически в 2, 5?
Девушка только пожала плечами, хотя ответа от нее я и не ждал.
– Да потому, что гонки на лошадях – это зрелище от начала и до конца, это истерзанные трупы возниц, лошадей, толпы беснующихся в возбуждении зрителей, переживающих не только за любимых наездников, но и за свои кровные деньги, поставленные на кон. Вообрази, в дни праздников процедура начиналась с раннего утра и заканчивались с заходом солнца, проводилось до 24 заездов на бригах или квадригах! Но вопрос не только в том, что римляне так и не изобрели стремена, а еще и в том, что лошади были не такими как сейчас. Они были не так быстры и вдобавок не отличались выносливостью. Каждый римский мальчик обучался верховой езде, каждый римский легионер проходил специальный курс посадки на лошадь в своем полном тяжелом вооружении. Представь, всадник надевал на себя кольчугу весом до 15 килограммов, на голове – шлем, тяжеленный, как большая кастрюля фирмы «Цептер», плюс железный меч, кинжал, копьё… – а стремян-то нет! Как поддерживать равновесие, как вообще сесть на лошадь? Так вот, римские легионеры обучались этому в специальных лагерях. Наверное, поэтому в римском легионе численностью в 6 тысяч человек было не более 120 всадников, и использовались они исключительно для оперативной связи когорт и для разведки. Преследование убегающего противника осуществляли не они, а легкие и проворные легковооруженные воины, как правило, нумидийцы из вспомогательных частей. Они набирались в Африке и в восточных провинциях и состояли из воинов, которые могли управлять лошадью не только без стремян, но и без удил и уздечки, просто голыми пятками и носками, почти как американские индейцы. Можно понять, почему Траян, одолевший даков, вообще отказался от легионной конницы. Историки до сих пор гадают, отчего римлянам так и не удалось выковать сталь, хотя это изобретение было уже делом совсем малого времени. Римляне завоевали полмира, воюя короткими мечами из низкосортного железа, передвигаясь пешим порядком, а не верхом. Стремена пришли значительно позже из Китая, и с их появлением в VIII веке в Европе наступила эра рыцарства. Выходит, не было у римлян заметного преимущества над противниками даже в вооружении, если меч они скопировали у испанцев, шлем у галлов и т. д. Как знатоки баллистики, они смогли изобрести такие стрелковые орудия как баллиста и катапульта, но вот странность – приспособления, с которыми мог справиться один человек, например, арбалет или длинные луки, им было изобрести не под силу. Так за счет чего же римляне побеждали? На этот вопрос они ответили сами, обожествив понятие «Дисциплина» и отчеканили соответствующую монету. Ты спросишь: «Неужели это обычное житейское понятие стоило обожествлять»? Стоило. Под дисциплиной они понимали воинское ремесло, обучение которому осуществлялось через послушание. Другими словами: воинская наука и послушание – это двойное понятие и было обожествлено под единым словом. «Дисциплина» приобрела персонифицированный образ богини, которой молились солдаты. Поэтому невозможно было осуществить слияние римской армии с богом христианским, хотя все христианские источники, напротив, подчеркивают восприимчивость легионеров к новой христианской вере. Ну как можно было совместить несовместимые по сути понятия: воинская присяга «Sacramentum», приносимая государству в лице императора, и христианское таинство, тоже называвшееся «Sacramentum»? Христианская мораль запрещала кровопролитие, отсюда появляются отказники по убеждениям и дезертиры. Кстати, давай еще раз вспомним, за что Максимуса продают в рабство, но только немного с другого ракурса. Ланиста Проксимо, видно, не знавший юриспруденцию человек, прочитав на плече Максимуса известную аббревиатуру римской республики «S.P.Q.R.», делает неожиданный вывод, что он легионер и, скорее всего, дезертир, покинувший расположение легиона. Действительно, в «Кратком изложении воинского дела» Вегеция значилось, что каждому воину перед тем, как зачислить его в списки легиона, на коже выжигались некие точки, обозначающие его принадлежность к данному легиону, но никак не буквы, составляющие аббревиатуру знаменитой формулы римских постановлений. Приняв присягу, легионер должен был делать все, что прикажет император и никогда не покидать воинской службы и не отказываться от смерти, если нарушит ее. К легионеру, согласно римскому военно-уголовному праву, не применялся такой вид наказания, как лишение свободы с привлечением к принудительному труду, в том числе в рудниках, поскольку существовало понятие воинской чести. Смертная казнь избавляла легионера от позора. Все наместники императорских провинций имели право самостоятельно выносить легионерам смертные приговоры. Если у Проксимо возникло подозрение, что Максимус – легионер и находился в длительной самовольной отлучке, то он был обязан немедленно сообщить об этом городскому префекту, поскольку это квалифицировалось как тяжкое преступление. Ни сценарист, ни режиссер фильма не должны были забывать, что военно-уголовное законодательство римской империи в то время имело высокий уровень юридической культуры. В частности, во II веке нашей эры даже рабовладелец, пожелавший продать раба в гладиаторы или в бестиарии, обязан был обратиться в суд за официальным разрешением! Нельзя путать времена эпохи Спартака, т. е., I век до нашей эры, со временами Марка Аврелия! Укрепление армии осуществлялось по принципу качества, что вело к огромным расходам. Римская армия была профессиональной. Коль скоро так, то для соблюдения достоверности и историчности нужно показывать именно римскую дисциплину, а Голливуд и европейский кинематограф во всех фильмах насаждают христианские мотивы, которых просто не было в эпоху ранней империи или, как по-другому называют, в «Золотой век Римской империи». Даже Максимус, этот ярый приверженец лучших римских традиций, молится не римским богам или Митре, что было бы вполне логично, а своему богу, обращаясь к Святому Отцу и Святой Матери. Он называл себя командующим Северной Армией и как генерал легионов Феликс в начале фильма, садясь на лошадь, он с легкостью просовывает ноги в стремена и первым бросается в бой, как заправский декурион, мечом разрубая воздух, как саблей. Спрашивается – а кто же тогда вместо него будет командовать всей армией?! При первом же столкновении с хаотично бегающими варварами он падает с лошади, и шлем почему-то сразу слетает у него с головы, хотя императорско-галльский шлем, который носили все легионеры во II-м веке нашей эры, просто не мог соскользнуть, поскольку широкие нащечные пластины крепко-накрепко фиксировали его. Более того, в такой мясорубке отличить простого легионера от командующего, сразу растерявшего все знаки отличия, просто невозможно! И где здесь хваленая дисциплина?! По завершении битвы Максимус докладывает, что в его армии из 5 тысяч человек – три тысячи раненых и обмороженных. Тогда получается, он совсем не армией руководит, а всего лишь легионом, он – не командующий армией, а простой легат, ведь легион тогда насчитывал всего 6 тысяч тяжеловооруженных солдат, ну плюс кое-какие вспомогательные отряды.
– Ну что, – обратился я к девушке, – интересно тебе слушать эту историческую хрень?
– Если было бы не интересно, я бы здесь не сидела, а тусовалась с друзьями в клубе, – ответила она.
«Черт, она меня приятно удивляет, этого только не хватало», – подумал я, поражаясь самому себе.
– Тогда давай расскажу еще и о ристаниях колесниц. Во время Игр в день организовывалось до 24 заездов. Скачки проводились на колесницах, запряженных двумя, четырьмя, шестью и даже восемью лошадьми. Колесничие разбивались, как правило, на четыре команды, и, разумеется, весь бушующий Цирк тоже делился на соответствующее чило болельщиков. За правилами следили жестко. Например, в фильме «Бен-Гур» демонстрировался заезд девяти колесниц, запряженных четверками, до финиша было заявлено 9 кругов. Съемки, конечно, потрясающие, только вот тебе пожалуйста очередной ляп Голливуда, рассчитанный на зрителя-профана: именно римский колесничий, а не иудейский или сирийский, установил на колесах металлические ножи, способные разрушать спицы колес противников. Во-первых, кровавых сцен на скачках и так было предостаточно, думаю, такого судьи просто бы не допустили. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, – этого бы не позволили и зрители. Если бы подобное случилось, к примеру в самом Риме, то добрая половина болельщиков взбунтовалась бы прямо на стадионе, а это почти 200 тысяч римских граждан! Да они разнесли бы к чертовой матери не только всю преторианскую гвардию, но и весь Палатинский холм с императорскими дворцами, которые находились в 30 метрах от Большого цирка. Между прочим, эта чья-то глупая голливудская фантазия нашла свое отражение и в фильме «Гладиатор» в сцене гладиаторской битвы под командованием Спициона Африканского против ненавистного Риму Карфагена. Кстати, в фильме «Падение Римской империи» тоже есть великолепно снятый эпизод скачек на колесницах, запряженных двойкой лошадей. В смертельной гонке соревнуются два бывших друга – командующий Северной Армией Марка Аврелия по имени Ливий, голливудский предшественник Максимуса, и сын императора, пресловутый Коммод. Причина так глупа, что стыдно произнести: Коммод приезжает в Виндобон, точь-в-точь как в «Гладиаторе», только не с Луциллой, а с когортой римских гладиаторов, и перед боем легионеров с германскими племенами объявляет Ливию, что собирается научить его многоопытных солдат, много лет успешно воюющих на Рейне, как надо правильно сражаться. Уже абсурд! Более того, Коммод первым бросается в бой! Это ещё не всё, после боя Ливий объявляет когорту Коммода трусами и начинает процедуру децимации, то есть казнит каждого десятого солдата. За это Коммод бьет Ливия по лицу плетью во время построения легиона. Такой сценарий может родиться только в голове у людей, не знающих истории Рима и не понимающих сути жесточайшей римской дисциплины и субординации. Подозреваю, что не поинтересовался темой римской военной дисциплины и Ридли Скотт, потому и извратил центральный сюжет сценария, касающийся заговора Луциллы с участием сенатора Гракха и бывшего легата Максимуса против Коммода. Гракх должен был выкупить свободу Максимуса, тем самым подтверждая законность обращения генерала в рабы, а тот обещал добраться до Остии, где почему-то, в нарушение традиций и закона, находится на отдыхе его армия, вернуться в Рим, убить Коммода и передать власть Сенату. Так якобы хотел Марк Аврелий, правда, великий сенатор Гракх об этом понятия не имел, как и его дочь Луцилла… Получается, опытнейшего сенатора Максимус сознательно вводит в заблуждение. Только Луцилла демонстрирует проницательность и предупреждает Максимуса, что Коммод уже поменял в армии всех легатов на своих ставленников, да и в самой столице народ от него без ума. Кстати, было за что любить императора: он устроил для народа 160-дневные Игры, организовал бесплатные раздачи хлеба, а армия получила дополнительные деньги. Максимус обещает поднять пятитысячный легион верных ему солдат и войти в город. А в городе, между прочим, только преторианских гвардейцев почти 10 тысяч человек, прекрасно вооруженных и хорошо знающих местность. Оставим как несущественный вопрос, а почему, собственно, Северная Армия Максимуса в тот момент находилась в Остии, городе, расположенном в непосредственной близости от Рима, тогда как по закону легионам запрещалось находиться на территории Италии? Исключение составляли лишь отдельные легионеры, получившие императорский приказ о передислокации к другому месту службы. А тут ещё преданный помощник Максимуса, опытный солдат Цицерон, сообщает своему командиру, что его легионеры жиреют от безделья. Ерунда полная: в римской армии легионерам запрещалось находиться без дела даже несколько часов, не то, чтобы месяцев! Видимо, Ридли Скотт и это счел не важным и не учел, что легионеры были профессионалами и получали за службу хорошие деньги. Верностью присяге и доблестной службой они пытались заработать себе достойную пожизненную пенсию и налоговые льготы – совсем, как американские полицейские. Как только к власти приходил новый император, легионеры приносили присягу на верность уже ему и получали дополнительную сумму денег. Присяга для них тогда была всё равно, что Иисус для христиан. Если бы к моменту начала съемок Скотту было известно, что Рим был миллионным городом, и что в те времена он состоял из нескольких десятков районов, что там были открыты более двадцати общественных библиотек, почти дюжина театров, была расположена сотня крупных площадей, через Тибр вели 8 мостов, десятки огромных акведуков ежедневно поставляли в город более миллиарда литров воды для полутора тысяч общественных фонтанов, тысяч бань, в том числе и грандиозных общественных терм, он бы засомневался, могли ли в него беспрепятственно войти 5 тысяч легионеров? Они не только Рима никогда не видели, они и в Италии-то толком не были! Да и за что должны были бы воевать легионеры Максимуса? Если бы он сам захотел стать императором и пообещал легионерам повышение платы и новые раздачи… Так совсем нет!
Глотнув вконец остывшего кофе и убедившись, что моя вольнослушательница внимательно смотрит на меня, я продолжил:
– Режиссер приступил к съемкам фильма в Марокко, где нашел арабские развалины 14 века, лишь отдаленно напоминающие амфитеатр, а в качестве другой натуры выбрал примитивнейшие глинобитные сооружения. Скотту, видно, было невдомек, что уже к концу II века нашей эры почти во всех городах римских провинций были построены совершенно восхитительные по своей архитектуре амфитеатры, причем из мрамора, камня и бетона! Они до сих пор отлично сохранились, особенно в странах Северной Африки на всем протяжении Средиземноморского побережья от Алжира до Ливии. Рим был велик не только своей столицей – в одной Северной Африке тогда существовали десятки городов с потрясающей мраморной архитектурой, шикарными театрами, храмами и термами. Ридли Скотт же умудрился показать в своем фильме якобы одну из римских провинций на севере Африки, с невыразительными мрачными строениями. Для пущей убедительности сцены были приправлены арабскими костюмами и мелодиями. Черт возьми, да в то время в Северной Африке арабами и их культурой просто не пахло! Даже верблюд был большой редкостью! Вот львы водились и тигры встречались, и вообще природа средиземноморской Африки в то время даже отдаленно не напоминала выжженную пустыню. Только одна проконсульская Африка была способна обеспечить всю Римскую империю оливковым маслом и пшеницей! Иначе, с чего бы во времена Коммода затеяли строить на территории современного тунисского Эль-Джема колоссальный амфитеатр, по своей величине сравнимый лишь с Колизеем, а по архитектурной выразительности даже превосходивший римское чудо? Он к моей радости до сих пор находится в весьма приличном состоянии. Ты, конечно, в курсе, что эпические фильмы о древнем Риме снимали не только американцы. За эти сюжеты осмеливались браться и румыны с немцами, и итальянцы с французами, ну и куда без католической Польши. Вот только русские этой темы почти не касались. Это понятно, снимать исторические фильмы дорого, и надо, чтобы они окупались. И ещё мне кажется, что до сих пор от Рима пытаются больше взять, нежели отдать ему причитающееся. Мне все время думается, что всем, что в нас есть человеческого, мы обязаны языческому Риму. Впрочем, если вспомнить фильм «Калигула», снятый по сценарию Гора Видала, гомосексуалиста-извращенца, то все представляется совсем в ином свете. Неспроста отец долго запрещал мне смотреть эту картину, и, когда наконец мне все-таки разрешили и я увидел первую заставку на экране монитора со словами «Pagan Rome», за моей спиной я услышал голос оказавшийся в этот момент в моей комнате мамы, со смехом озвучившей заглавные титры в свойственной ей простецкой манере: «Поганый Рим». Признаться, ее ложная этимология, заставившая меня поежиться, была в данной ситуации совсем не лишена здравого смысла.
Моя гостья сказала, что была тоже не в восторге от этого мирового шедевра, переполненного сценами немотивированного насилия и извращенного секса с привлечением голливудских звезд первой величины, и добавила:
– Помню, на какой-то лекции нам цитировали одного английского исследователя древности, который считал, что своё отношение к Риму каждая творческая личность определяет в зависимости от своей сексуальной ориентации, национальности и вероисповедания. Поэтому во всех этих фильмах римляне находятся в положении защищающихся, над ними обязательно все берут верх если не с помощью силы, то уж духом обязательно. По-моему, объективно отразить историческую действительность пока не удалось ни одному режиссеру. У них такое видение, и все тут.
– Причина в том, что они никогда не были в том Риме, – улыбнулся я. – Я очень рассчитывал на Ридли Скотта. Помнишь, в начале фильма Марк Аврелий спрашивает Максимуса, что такое Рим, и тот отвечает: «Рим – это свет!» Но Марк Аврелий с ним не соглашается. «Нет, – говорит он, – ты просто давно не был в Риме». А ведь и сам Марк Аврелий на тот момент в Риме не был давно, он так и умер вдалеке от родины от чумы. В своих «Размышлениях» он лишь рождал мысли о демократическом государстве, управление которым осуществляется на основе равенства и свободы слова, и о монархии, в которой более всего ценилась бы свобода подданных. В его деятельности на посту императора это никак не реализовывалось – он никогда не стремился реформировать систему Римской империи. Между прочим, что касается христиан, то в годы правления Аврелия жестоким преследованиям подвергались христианские общины в Малой Азии и в Галлии, в частности, в Лугдуне, ты знаешь, это современный Лион. Свидетельств того, что Аврелий был хоть сколько-нибудь знаком со взглядами христиан, не существует, а как ни странно, он был самым выдающимся мыслителем своего времени. Кстати, единственная бронзовая конная статуя, дошедшая до нас, это статуя Марка Аврелия, но и то, только потому, что христиане думали, что это статуя Константина. Нетерпимость христиан к чужим верованиям отчасти объясняет антипатию Марка к христианству. Если быть максимально корректным, то и произошедшие в Лугдуне гонения на христиан были связаны не с политикой императора, а с ненавистью языческих народных масс, считавших христиан виновниками настигших тогда Галлию голода, наводнения и эпидемий. И совсем не религиозные языческие представления, а чисто философские соображения определяли отрицательное отношение Аврелия к христианству. Умер он в марте 180 года в Виндобоне, современная Вена, от чумы, хотя есть интересная работа, написанная, кстати, по-французски, двух авторов – историка и медика, в которой высказывается гипотеза о том, что симптомы его болезни говорят о язве желудка. Историю жизни императора люди узнавали из очень ограниченных исторических источников, среди которых самым ценным является бесспорно свидетельство современника Аврелия, историка Диона Кассия. Но даже его «Римская история» в части описания времени правления Марка сохранилась лишь в извлечениях Ксифилина, сделанных в XI-м веке. Наверное, именно это дает право американским режиссерам и сценаристам позволять себе осуществлять творческую переработку причин смерти императора как в картине «Падение римской империи», так и в «Гладиаторе».
– Ты что хочешь сказать – спросила моя гостья, внимательно прослушавшая весь мой монолог, – что Ксифилин мог извратить факты?
– Мы не можем исключить этого. Прецеденты есть. К примеру, в конце XIX-го века два известных историка Гошар и Росс опубликовали свои исследования, в которых доказали, что знаменитая «История» Корнелия Тацита принадлежит в действительности перу известного итальянского гуманиста Поджо Браччолини. Поэтому, если считать, что на протяжении долгих веков история государств оставалась по преимуществу церковной историей, то, естественно, её и писали в основном духовные лица. А посему нам «бережно» донесли наукообразные компиляции первых христианских теологов, старавшихся приспособить новую религию к политическим и культурным реалиям Римской империи. Дошло до нелепости. Стало бытовать мнение, что в армии Марка Аврелия были целые легионы, состоявшие исключительно из христиан, и они своими молитвами помогали императору побеждать германцев. Явный бред, но кто-то верит! Я помню ваш франко-итальянский фильм «Понтий Пилат», где заглавную роль исполнял Жан Маре. Там герой тоже считал, что Рим – это свет. Он стремился построить в Палестине великолепный акведук, чтобы обеспечить всех жителей, и богатых, и бедных, водой на долгие годы. Съемки эпизода строительства этого водного сооружения поражают масштабом и красотой. Только вот самим иудеям это всё было не нужно, им был необходим только свой храм, они жили в ортодоксальном мире своей религии и подняли восстание против римлян. В одной из сцен удивленный Пилат говорит своей возлюбленной Саре, что религия иудеев не дает им самим увидеть свет будущего человечества. Кстати, тебя ведь тоже зовут Сара?
Девушка тряхнула головой и звонко расхохоталась. Я тоже улыбнулся. Действительно комичная ситуация: она у меня в гостях, а я даже не запомнил ее имени.
– Нет, Клара.
– Извини, – я улыбнулся, – это замечательно.
– А что же замечательного ты нашел в моем имени?
– Просто история времен Коммода помнит имя Клары, Дидии Клары.
– А кем она была?
– Дочерью одного будущего незадачливого императора, которого лично воспитала мать Марка Аврелия, но это так, к слову. Если ты не против, я продолжу. Марк Аврелий, известный своей терпимостью, во время недолгого пребывания в Иудее в 175 году был удивлен, что у ее жителей осталась традиция обрезания крайней плоти. Тогда Марк подтвердил прежнее распоряжение Адриана о запрете калечить людей. Евреи едва не взбунтовались, и их местные старейшины пришли к Марку, умоляя того разрешить им совершать древний обычай. Под их натиском император согласился, но высказал свое негативное отношение к тем, кто вершит насилие над своим телом во вред здоровью, в глубине души считая, что в своем фанатизме иудеи превосходят даже маркоманнов, квадов и сарматов – германские племена, глупее которых, как он полагал, на земле нет.
– Слушаю тебя, и создается впечатление, что не существует ни одного знающего тему режиссера. Тебя бы им в консультанты. На самом деле важно ли это, главное – от этих фильмов получаешь удовольствие! Для меня-то, обычного зрителя, эти мелочи вообще не имеют никакого значения.
– Послушай, я же не говорю, что эти фильмы плохи. В них во всех добро побеждает зло. И, вообще, мне очень по душе идея Голливуда вернуться к теме Древнего Рима после долгого молчания. И то, что Ридли Скотт в своих комментариях после съемок признался, что стремился быть очень аккуратным, чтобы сцены выглядели правдоподобно, уже прекрасно. Опасения режиссера можно понять, ведь прославился он, снимая фильмы с фантастическими сюжетами, а для съемок «Гладиатора» пришлось спуститься на землю и окунуться в историю древнего государства. И все же в фильме много субъективного. Суди сама хотя бы по тому, как Скотт сначала был аккуратен в подборе экипировки легионеров, как скрупулезен в деталях одежды преторианской гвардии, везде доминирует настоящий императорский пурпур. Безукоризненно изготовлены у легионеров и шлемы, и сегментарные лорики, и оружие – причем всё именно в модификациях второго века. Лично я догадываюсь, почему в шлемах императорско-галльского типа в фильме чересчур заужены нащечные пластины и уменьшен задний козырек: если бы было как в реальности, то лиц практически не было бы видно. С точки зрения личной защиты это было разумно, а с точки зрения операторской – недопустимо. И ещё обрати внимание – во II веке кольчуги и лорики изготавливались из железа, отчасти из меди, бронзы и даже серебра. Поэтому тяжеловооруженный легионер перед боем весь буквально блестел, особенно когда расчехлял свой щит, в котором тоже было много металла. Этим, кстати, римляне умело пользовались, поскольку противника это деморализовывало. Например, знаменитый историк Иосиф Флавий, описывая подготовку штурма легионерами императора Тита города Иерусалима сообщает читателю, что тот затеял перед штурмом раздачу солдатам жалованья и продовольствия. А в таких случаях по принятым обычаям войско выступало с открытыми щитами и в полном вооружении. Окрестности города засверкали золотом и серебром. Церемония продолжалась целых четыре дня и произвела на осажденных устрашающее впечатление. А вот Скотт не одобрил яркий блеск металла на легионерах, поэтому для облегчения участи актеров он дал указание своим ассистентам изготовить все вооружение из алюминия, а чтобы металл не блестел, вообще протравить его кислотой. Поэтому-то, хоть режиссер и стремился к исторической достоверности, всё получилось вопреки общеизвестным фактам, и легионеры, особенно преторианцы, стали похожими на католических монахов во время крестного хода. Мечи же, на которых в фильме так выразительно сражались легионеры и гладиаторы, напротив своим блеском и звоном указывали, что сделаны из высококачественной дамасской стали. На самом же деле изготавливались из обычного железа и вообще не сверкали. К тому же по технологии изготовления мечи получались с естественными зазубринами, во II веке заостренная часть меча была короткой, как и сам меч «гладиус», длина которого не превышала 55 см. У командиров же ранга Максимуса и Коммода меч должен был быть ещё короче, и уж, конечно, высшие офицеры римской армии не бросались первыми в бой на лошадях с характерными плоскими длинными мечами под названием «Спафа», да без личной охраны.
– Но тогда фильм мог бы потерять свою зрелищность, – звонким голосом прервала меня моя вольнослушательница.
– Согласен, но приобрел бы очарование историчности! А любителям сражений на мечах можно посоветовать смотреть фильмы в жанре «фэнтези», их пекут сейчас, как блинчики. Скрежет мягкого металла и звон стали – разные звуки, а ведь сам Скотт по его словам стремился к максимально возможному сохранению исторических деталей.
– А ты что же считаешь, возможно создать зрелищный фильм с настоящими историческими персонажами без творческой фантазии режиссера и сценариста?
– Стоп, дорогая моя, тогда давай начнем всё с самого начала.
Ощутив сухость во рту, я подошел к холодильнику, достал из-под морозильника ледяную бутылку «Пепси» и, перед тем как продолжить, сделал большой глоток. Взглянув на меня, Клер поежилась и жестом показала, чтобы я ей не предлагал.
– Ридли Скотт, поистине выдающийся режиссер, никогда прежде не снимавший фильмов о Древнем Риме, не скрывает от почитателей своего творчества, как принял решение снимать свою картину. Однажды к нему зашел продюсер Уолтер Паркс со студии «DreamWorks» и перед тем, как дать Скотту прочесть сценарий, показал ему репродукцию известного полотна под названием «Идущие на смерть». Скотт посмотрел на неё и воскликнул: «It’s fantastic!», и в ту же секунду решение было принято – он с энтузиазмом взялся за изучение сценария. В свое время это же известное творение вдохновило и создателей первого голливудского фильма о Древнем Риме «Кво Вадис». Представляешь, о чем речь?
– Не вполне, – призналась моя собеседница.
– Жаль, тогда расскажу. На нем изображена арена ревущего Колизея. Гладиатор стоит одной ногой на побежденном противнике, молящем о пощаде, и ожидает решения императора. По арене разбросаны несколько окровавленных тел. Беснующаяся толпа зрителей, большинство из которых женщины, видимо, весталки, поскольку свободным женщинам разрешалось сидеть только на самом верхнем ярусе, а он не попал на холст художника, требуют одного – смерти побежденного гладиатора, и делают это, опуская большой палец вниз. Заметь, весталки-девственницы, жрицы-добродетель– ницы и хранительницы огня, к которым запрещалось просто прикоснуться и которых за нарушение обета целомудрия даже бескровно казнили, живьем закапывая в землю, именно они, все как одна, требуют смерти, опуская большой палец вниз. Ты не находишь, что это по меньшей мере смешно?
– А ты не находишь, что перегибаешь палку, повсюду ища проколы, хотя, впрочем, и я обратила внимание, что в фильме женщины в Колизее сидят на всех рядах вместе с мужчинами.
– Молодец, что заметила. Режиссер Скотт, изучив полотно, видимо, решил пойти дальше художника. В своем фильме он усаживает всех вместе: и мужчин, и женщин, и даже детей! Это хорошо видно в сцене раздачи бесплатного хлеба на Колизее. Желая наглядно продемонстрировать ответ на лозунг римской толпы: «Хлеба и зрелищ», он показывает сцену раздачи хлеба с повозок, выезжающих на песок арены. Если полагать, что на первом ярусе сидели только патриции и сенаторы, а на втором всадники, то чтобы добросить круглые буханки хлеба до третьего яруса Колизея, нужно было бы вызывать по меньшей мере олимпийских дискоболов. В фильме буханки долетают только до первого яруса, при более удачных попытках – до второго. Получается, что те, кому хлеб и предназначался, должны были бы остаться голодными. И ещё, эта знаменитая картина французского художника XIX-го века Жана-Леона Жерома на самом деле называется «Пальцы вниз», что на латыни звучит как «Pollice Verso». Многие годы ученые XIX-го века полагали, что художник практически идеально с исторической точки зрения изобразил всё действо. Сейчас же ясно, что в картине множество исторических ляпов. Главное – это отсутствие сетки безопасности в императорской ложе. Далее: в нижней части Колизея на самом деле было четыре яруса мест, а у художника их только два, и, конечно, отсутствие на арене арбитра, другими словами, судьи, который имел право в любой момент бой остановить. На арене проходили гладиаторские игры, и каждая игра имела свои правила. Режиссер был обязан их знать, это основа основ! Второе, следовало детально разобраться во всем, что относится к самому понятию «гладиатор». Слово происходит от термина «гладиус» – это испанский укороченный меч длиной чуть более 50-ти сантиметров. Поскольку для того, чтобы побеждать на арене, гладиатор должен был быть не только храбрым, но прежде всего физически сильным, мощным, в школах гладиаторов при Колизее, а их было целых четыре, их заставляли интенсивно тренироваться, хорошо кормили, постоянно наблюдали лучшие римские врачи. За одну только победу в бою на Колизее гладиатор получал деньги, равные годовому жалованию римского легионера. Подобным образом в Риме одновременно проходили подготовку около двух тысяч гладиаторов. Ланисты и профессиональные арбитры внимательно следили за ними и подбирали пары для боев таким образом, чтобы поединок был максимально интересен для зрителей. В противном случае организатор игр, то есть лицо, полностью оплачивавшее расходы, поскольку вход в Колизей был бесплатным, имел право строго наказать ланисту либо дрессировщика зверей за отсутствие зрелищности представления, вплоть до его казни прямо на Колизее. Вообще очень интересна сама история создания амфитеатра Флавиев. Она была связана с цепью важных исторических событий. Если интересно, расскажу.
«Pollice verso». Жан-Леон Жером
Внимательно слушая меня, девушка молча кивнула головой. Она так и не притронулась к чашке с кофе. Этот странный день, так выбившийся из вереницы привычных моих дней, подходил к концу. За окном совсем стемнело, и луна из-за облаков тускло освещала свинцовую гладь моря. Сидя в кресле поджав под себя ноги, моя гостья, кажется, и не помышляла о скором возвращении домой.
– К 84-му году нашей эры центр Рима был в основном плотно застроен маловыразительными низкими зданиями, поскольку строительство города велось из сырого кирпича, не способного выдерживать большие нагрузки. Именно тогда почти весь центр выгорел в результате разрушительного пожара. Император Нерон воспользовался этим обстоятельством и захватил в свою собственность 200 акров освободившейся земли, где и построил свой прекрасный Золотой дворец, а рядом выкопал красивейшее озеро. В эту эпоху произошел мощный технологический прорыв в строительстве: римляне стали использовать обожженный кирпич, позволявший строить не только многоэтажные инсулы для римских бедняков, но и монументальные домусы для имущих классов, где он использовался уже и как декоративный материал. Другими словами, Нерон кардинально перестраивает весь Рим, и в этом его заслуга. Если император Август в начале своего правления принял город глиняным, а оставил после себя мраморным, то Нерон сделал столицу ещё и небывало прекрасной. Однако в 69 году Сенат, недовольный неумелым управлением Нерона государством, вынес решение подвергнуть его наказанию. А таковым, согласно традиции, являлась смертная казнь. Чтобы избежать позора, Нерон принял решение покончить жизнь самоубийством и осуществил свой план. В этом же году после жестокой борьбы достойных претендентов императором стал Веспасиан, который в то время вел кровопролитную войну в Иудее. Евреи подняли восстание, оказав жесточайшее сопротивление, но в 70-м году три римских легиона под командованием сына Веспасиана, будущего императора Тита, жестоко подавили его, разграбили Иерусалимский Храм и привезли в Рим 100 тысяч рабов. Это оказалось как нельзя кстати, поскольку Веспасиан задумал разрушить Золотой Дом Нерона, и на его месте начать грандиозное строительство первого каменного амфитеатра – народного дворца. Веспасиану было шестьдесят лет, и он мечтал оставить в Риме вечную память о себе. Никому точно не известно имя создателя Колизея, ученые не исключают, что это даже мог быть был великий Рабирий. Дворец планировалось построить за 10 лет, к 79-му году. Здание было грандиозным не только по своим размерам, но и по гению инженерной мысли. До сих пор специалисты продолжают спорить, действительно ли 50 тысяч зрителей, заполнявших амфитеатр, могли менее чем за 5 минут полностью его покинуть, причем без какой-либо давки. Только недавно исследователи согласились с тем фактом, что сразу после открытия, ещё когда он был двухъярусным, в амфитеатре Флавиев было возможно проводить навмахию, иными словами морские гладиаторские бои. Как же всё это осуществлялось? Здание Колизея строилось из травертина – сверхтвердого камня, который добывался в каменоломнях в Тиволи, в 17 милях от Рима. Тит пригнал отцу в Рим 30 тысяч рабов-евреев для помощи в строительстве инженерам и мастерам, остальные трудились в том числе и на каменоломнях. Кроме травертина, жженого кирпича, железных скоб и свинца, с помощью которых закрепляли между собой тёсаные глыбы, в строительстве начали широко использовать новый вид бетона – суперводостойкий, способный застывать даже под водой. В бетон стали добавлять красную вулканическую пыль из Везувия под названием «подсолана». До сих пор такой вид бетона считается самым твердым искусственным строительным материалом! Извержение Везувия в год смерти Веспасиана заставило взошедшего на трон Тита поторопиться с открытием Амфитеатра, чтобы опровергнуть мнение горожан, что боги прогневались на династию Флавиев. Тем не менее, и Тит умер через полгода после открытия амфитеатра от неизвестной болезни. Его брат Домициан продолжил строительство, но отказался от проведения в нем навмахии. Он переделал все подвальные помещения, чтобы осуществлять в амфитеатре самые смелые режиссерские задумки. Например, стало возможным выпускать на арену более 70 львов одновременно. А чтобы ещё больше прославить династию Флавиев, Домициан начал грандиозное строительство Палатинского дворца. Архитектор Рабирий создал ещё один шедевр архитектуры. Друг Тита, известный поэт Марциалл назвал амфитеатр Флавиев Восьмым Чудом Света, затмившим своим величием все предыдущие. Действительно, это сооружение больше напоминало дворец, поскольку в здании пол был сделан из отшлифованного до зеркальности травертина, стены – из лучших сортов мрамора, а во всех нишах стояли позолоченные бронзовые статуи. Только вообрази, питьевая вода подавалась на все ярусы и протекала по желобам, охлаждая помещения, по зданию распылялись благовония, и, конечно же, венчал все это звездный велларий, в деталях описанный историком Плинием. Солнечные зайчики играли по арене, и создавалось впечатление, что это вовсе не амфитеатр, а чудо-планетарий. Клер, ты наверняка знаешь, что во времена Римской империи амфитеатр никогда не назывался Колизеем, это название появилось позднее из-за того, что рядом с амфитеатром Флавиев находилась сохранившаяся после разрушения Золотого Дома Нерона колоссальная статуя в 35 метров высотой, изображавшая Бога Солнца с ликом Нерона. Следуя примеру Флавиев, каждый из следующей династии Антонинов стремился тем или иным путем увековечить свое имя в римской архитектуре. Траян завоевал Дакию, и обозы с золотом тысячами потянулись в Рим. На эти деньги он перестроил Большой Цирк, который своей красотой и размерами смог затмить Колизей. Когда 250-тысячный цирк, стоявший рядом с Палатинским дворцом, поднимал крик, приветствуя одержавшего победу возничего, гул был способен сотрясти Колизей. А когда рядом с ним он построил свой Форум – шедевр архитектурного шика, по размерам равный всем остальным форумам вместе взятым, с многоэтажным рынком, похожим на современный мега-молл, то имя Траяна зазвучало наиболее громко. Адриан тоже не оставался в стороне от деятельности по укреплению величия Рима и построил рядом с Колизеем самый большой по размерам храм в империи, посвятив его Венере и Роме, и одновременно закончил строительство Пантеона, оба здания заблестели золочеными крышами, став очередными архитектурными жемчужинами. А вот император Марк Аврелий остался в памяти римлян не как строитель, а как великий воин и философ, написавший знаменитую книгу «Наедине с собой». После смерти отца в холодном Виндобоне Коммод поспешил заключить мир с германскими племенами и вернулся в сверкающий золочеными крышами Рим, мраморный город-дворец. Всё, что любил в своей жизни Коммод, можно уместить в одно слово – «гладиаторы». Он их просто боготворил, создавал для них лучшие условия. Себя же просил называть Геркулесом, а лучше Павлом, не в честь Святого Павла, конечно, а по имени знаменитого гладиатора.
– Я слышала еще в детстве из рассказов отца, что в Риме во все времена гораздо выше гладиаторов ценились цирковые возничие.
– Действительно, было время, когда в Риме высоко ценили цирковых возничих, которые, рискуя жизнью, часто погибали под колесами квадриг, победители же получали огромные денежные призы и были окружены любовью и славой. Возничие были храбрецами и ловкими спортсменами, но в отличие от гладиаторов они не обладали ни высоким ростом, ни статью, ни физической силой… Не случайно в то время слово «гладиус» среди простого народа отождествлялось со словом «фаллос». Гладиатор времен Коммода стал настоящим секс-символом Рима. А теперь представь, что к концу II века н. э. великолепные каменные амфитеатры были уже построены не только во всех крупных городах империи, но и в небольших канабах и мануципиях, и в каждой провинции их были десятки. Отличные каменные дороги оплели римскую империю с юга на север, их общая протяженность составляла 288 тысяч римских миль. Через каждую тысячу шагов на дорогах стояли мильные столбы, указывавшие расстояние до ближайших городов. Так было. А что же показано в фильме?!.. Именно в то время, когда Коммод ещё не успел разграбить государственную казну и упивался своей славой, из южной провинции к городу Риму, восхвалявшему имя нового императора грандиозными гладиаторскими играми, по пыльной грунтовой дороге едет жалкая повозка ланисты Проксимо с группой слабо подготовленных непрофессиональных гладиаторов во главе с прославленным легатом Максимусом. Город покрыт песчаной пылью, как будто располагается в Сахаре. Все здания не то что не блестят золоченой бронзой, а своей мрачностью напоминают средневековую арабскую архитектуру. Чуть не тысяча подготовленных к играм гладиаторов, разбитых по парам и командам, в ожидании своей очереди отступают перед приехавшими из африканской глуши двумя дюжинами любителей. И начинается великое представление, только вот участники его по своему облачению не соответствуют ни одному из существовавших шести основных типов гладиаторов. Вооружены они не только мечами, кинжалами и трезубцами, они ещё держат в руках длинные копья, а против них выступают соперники, одетые в легионеров армии Спициона Африканского, вооруженные непонятными длинными луками, арбалетами, и стоят они в колесницах. Коммод расположился в первом ряду ложи и восторженно наблюдает за кровопролитной схваткой. Летящие во все стороны стрелы и копья никого из зрителей не пугают. Никаких тебе правил и арбитров! Максимус тоже не вопрошает у толпы и императора разрешения, а просто убивает всех противников без разбора. Между прочим, «Игры без Пощады» были запрещены ещё Августом, и ровно за 100 лет до описываемых в фильме событий, короче, правила гладиаторских боев стали незыблемыми еще с 80-го года. Тогда сразу возникает вопрос: почему, если Ридли Скотта так вдохновила картина «Пальцы вниз», в своем фильме он не учел правила боя? Опять же, коль скоро всех на арене переубивали без какого-либо обращения к зрителям и императору, то с чего вдруг император думает, поднять ли ему палец вверх или опустить вниз? Подозреваю, что многим, кто смотрел фильм, было непонятно, почему Максимус, добив со своими солдатами даже раненых при помощи щитов, а затем сев на лошадь противника и поднимаясь в стременах, держа в руке копьё, направляется к ложе императора, смиренно сидящего на троне, но копьё это в императора не бросает? Вообще, Максимус в фильме постоянно нарушает правила гладиаторских игр: уже в первых своих боях в качестве гладиатора он убивает своих противников, потом бросает меч в ложу хозяев игр, да ещё произносит нравоучительную речь, которую восторженно слушает публика и награждает аплодисментами, хотя по существующим тогда правилам его должны были бы сразу казнить. Дальше – больше, в Колизее Максимус поворачивается спиной к императору, а опять же по закону стоящий рядом с ним преторианец обязан был сразу нарушителя заколоть. Правда, римская история знает массу чудес. Описан случай, что когда Нерон читал на публике свои стихи и один слушатель заснул. Преторианцы должны были бы сразу убить его за неуважение к императору, но оказалось, что этим слушателем был Веспасиан – в то время уже известный легат, герой войны, а на слушаниях его просто сморила усталость. Веспасиана пощадили. Но, слушай, здесь Максимус – раб намеренно поворачивается спиной к императору и несмотря на это остается в живых! Кстати, по римской статистике в большинстве схваток побежденному даровалась жизнь. Публика ценила гладиаторов и совсем не была кровожадной.
– Ерунда какая-то получается. А какие были кассовые сборы, – воскликнула Клер.
– Не ерунда. Фильм лучший из всех, что были сняты о Риме, но как я говорил, он получился наполовину «фэнтези», а поскольку большинство зрителей римской истории не знает, то все убеждены, что всё так и было на самом деле. Это опять к вопросу о познавательности кинематографа.
– Ужас! Выходит, искажение фактов помешало миллионам зрителей правильно понять исторические события? – Клер вскочила со стула, и подойдя ко мне, села на подлокотник кресла.
Теперь я не видел ее лица, но ощущал тепло худенького бедра, чувствовать которое не мешала даже плотная ткань просторных джинсов.
– Честно говоря, Клер, иногда мне и самому кажется, что это не так страшно, ведь почти вся История Рима для нас, живущих уже в XXI веке – и так настоящая фантастика. Мы до сих пор восторгаемся римской архитектурой, но даже в самом буйном воображении не можем представить того, что было на самом деле. Достаточно перелистать каталог графических работ Пиранези, художника 18-го века, чтобы понять, что всё увиденное нами в фильме: дворцы, храмы, стадионы, термы – это лишь примитивная реконструкция настоящих сооружений того времени.
– Тем более, для успеха фильма нужен был герой, подобный Максимусу! – поспешила добавить студентка. – И, если бы даже не было реального прототипа, сценаристам нужно было создать именно такого персонажа!
– А зачем было Максимуса выдумывать, не было необходимости, был такой, даже круче, и именно в годы славы Марка Аврелия. Это был действительно благородный отважный воин, к тому же очень умный и образованный. Его высоко ценил император, и он в реальности был командующим Северной Армии. Более того, им очень дорожил новый император Коммод, после смерти которого в 193 г. именно этот человек стал во главе империи.
– Прости, что перебиваю тебя, – Клер пошевелилась, чтобы поудобнее устроиться на подлокотнике кресла, – а что, разве о существовании этого человека сценаристам не было известно?
– Сложно сказать. Я лишь, как и ты, смотрел сам фильм, а после него «фильм о фильме» под названием «Кровь, песок и кинопленка». Там один из сценаристов допустил традиционное даже среди специалистов заблуждение, утверждая, что после смерти Марка Аврелия закончился «Золотой Век» Римской империи и наступил «Железный век». Поэтому я не исключаю, что американские сценаристы, если и изучают историю Рима после 180 года, то так сказать, погружаются в источники неглубоко.
– А ты, я вижу, изучал слишком серьезно? – сказала девушка, не скрывая иронии, и насмешливо посмотрела на меня.
– Тут мне нужно оговориться. Я, если и занимаюсь историей Рима, то исключительно с момента смерти Марка Аврелия и не понимаю, почему в академической традиции конец династии Антонинов считается концом благополучия Римской империи и «Золотого века». Впрочем, это долгий разговор, да и тебе уже, наверное, пора.
Я бросил взгляд на старинные часы, стоящие на бронзовом треножнике. Стрелки показывали восемь вечера. Клер настороженно проследила за моим взглядом и с нескрываемым волнением в голосе спросила:
– А ты что, уже собираешься спать?
– Да нет, дело не в этом, не собираюсь, я ложусь очень поздно, иногда в то время, когда ты только просыпаешься. Извини, но ты навязала мне эту тему, я завелся и теперь, получается, должен остаться без ужина.
– А куда ты обычно ходишь?
– По-разному. Как правило, я ненадолго оставляю пса дома, а сам спускаюсь к набережной в район отеля «Welcome», там всегда многолюдно, царит оживление.
– Дружка себе там подыскиваешь? А ты случаем сам не голубой? А то там ещё со времён Кокто преимущественно такие завсегдатаи!
– А что, есть признаки? – засмеялся я. – В отличие от Коммода, – я осекся и воскликнул, – черт, видишь, что ты со мной сделала, никак не могу переключиться, – которого Скотт подозревает во всех грехах, включая мужеложство и инцест, я адекватный и нормальный. Кстати, римский закон жестоко карал за развратные действия не только рабов, но и свободных граждан.
– Да бог с ним, с законом! Лучше скажи, а вообще что – то в фильме тебя тронуло так, чтобы до глубины…
– Ну конечно, Луцилла.
– Это я все помню – Конни Нильсен, музыка к фильму.
– Подожди, пожалуйста! Я рад, что помнишь, но в данном случае я говорю про Луциллу как про римлянку. Хочется верить, что режиссер сам восторгался созданным им изумительным и достоверным образом настоящей римлянки-патрицианки. Женщина в древнем мире была бесправна и глупа, даже для мудрых греков жена – это всего лишь хозяйка в доме, бесправная продолжательница рода, а вот для римлянина со времен первого императора Августа женщина – это уже подруга и спутница жизни.
– При этих словах Клер гордо вскинула голову и тряхнула курчавыми волосами.
– Здорово, – с улыбкой удовлетворения воскликнула она.
– Конечно, здорово. Своими законами Август утвердил понятие семьи как опоры римского общества. Он поощрял рождение детей. Женщина, родившая более трех детей, в случае смерти мужа по закону становилась наследницей его имущества. Август ввел специальный налог на холостяков, чтобы жизнь не состоявших в браке мужчин не казалась им легкой и беззаботной. «Что не позволено женщине, не позволено и мужчине», гласил закон. В римском языческом мире женщина стала воплощением всего земного величия. Красивым женщинам при Августе даже ставили памятники.
– Кстати о памятниках, а ты знаешь, что здесь установлен бюст вашей императрице Александре Федоровне? Представляешь, даже мой папа в свое время имел к этому отношение, когда помогал мэру города в оформлении юридических документов.
– Вот как? Естественно, знаю. Скажу больше, это первый и единственный в мире памятник русской императрице, жене Николая I. Один знаменитый русский поэт даже назвал её в своих стихах «гением чистой красоты» – этот оборот потом заимствовал Александр Пушкин, когда воспел в стихах свою возлюбленную. У нас в России женскую сексуальность долгое время не выставляли напоказ. Доказательство тому – картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Знаешь, почему он совершил это убийство?
– По реакции Клер я понял, что и об этой картине она представления не имеет.
– А потому, – продолжил я, видя растерянность на ее лице, – что застал в минуты отдыха беременную жену сына, одетую лишь в исподнее. В средние века на Руси идеалом женщины была крепкая и достаточно крупная женщина, вынужденная носить тяжеленную одежду, которая максимально скрывала талию и грудь. Только в исподнем женщины могли надеть пояс и несколько обнажить грудь. Видеть её в таком одеянии имел право только муж. Так вот, узрев свою невестку в исподнем, Иван Грозный, взбешенный таким, как он посчитал, бесстыдством, наотмашь ударил её. На шум прибежал сын царя, который встал на защиту жены, но получил от родного отца удар скипетром в висок С ужасом узнав о смерти мужа, жена его разродилась мертвым ребенком…
– Клер, потрясенная, не могла вымолвить ни слова и только с сожалением качала головой.
«Эта девочка способна сопереживать, это хорошо», – отметил я про себя.
– Что уж говорить о правах женщины на Руси, которым разрешалось выходить со двора только в церковь, и то по воскресеньям. Только Петр Первый в начале XVIII века своим особым указом заставил русских мужиков спать вместе с женами в своих домах – ведь до этого им запрещалось заниматься любовью с женами в доме, на этот случай годилась только баня, и только по субботам! Так вот, вернемся к нашей теме, если ты ещё раз внимательно посмотришь «Гладиатор», обрати внимание на изысканные наряды, в которых появляется Луцилла. Одежда, аксессуары и косметика еще более подчеркивают красоту лица и тела этой чудесной женщины. А как она умна, как правильна её речь?! В этом весь Рим, в этом его величие. Знаешь, сравнительно недавно, может быть, год или два назад, был снят документальный фильм о том, как в пригороде Рима строители нашли древнее захоронение, оказавшееся нетронутым более двух тысяч лет, со времен Августа. Приехали археологи, вскрыли могилы и обнаружили два саркофага с телами матери и ее взрослого сына. Тела были набальзамированы и оставались в хорошем состоянии, сохранилась даже прическа этой патрицианки. На голове у нее была тонкая золотая сеточка, которая поддерживала красивую укладку волос. Толщина золотых нитей составляла 3 микрона, что меньше толщины человеческого волоса почти в два раза. Технология изготовления таких украшений до сих пор не разгадана. Милая Клер, Рим полон загадок! – сказал я и похлопал ее по узкой коленке.
Девушка вздрогнула от неожиданности и смущенно улыбнулась.
– Остается гадать, что же произошло с человечеством, если, начиная с 5-го века нашей эры, целое тысячелетие мир пребывал в спячке!
Я поднял голову и посмотрел на Клер, которая продолжала меня слушать с тем же вниманием, не демонстрируя ни малейшего желания отправиться домой. Стараясь не обидеть непрошеную гостью, я вкрадчиво спросил:
– Слушай, я начинаю волноваться, а тебе не пора, а то я уж, наверное, тебя утомил?
– Ты же говорил, что вечер у тебя свободен, а теперь гонишь меня домой!
– Да не гоню я тебя. Если хочешь, сиди, только получается, я остаюсь голодным, уже девятый час.
– Ой, у меня же в машине продукты, мама просила купить, не волнуйся, все в сумке – холодильнике. Есть сыр, хлеб, ветчина и ещё чего-то. Для этого она и дала мне свою машину. Только одно условие – сейчас я сбегаю к машине и все принесу, а ты мне расскажешь о том прототипе Максимуса. Давай, не отказывайся, я много купила!
– Ну неси, если не жалко, может и собаке что перепадет! По правде говоря, я действительно голодный, как волк!
Клер выпорхнула к своей машине, а мы с Мартином безмолвно стояли в холле. Он сопел и вертел головой то вправо, то влево, не отрывая от меня пристального взгляда.
– Ну, что смотришь? – спросил я собаку. Пёс в ответ весело затеребил хвостом, радуясь, что я наконец обратил на него внимание.
Совершено обалдевший от этого общения, я отупело смотрел на открытую входную дверь. Мартин продолжал вопросительно глядеть на меня, как будто спрашивая: «Ну что ты распинаешься перед ней, я голодный и хочу гулять». «Чудная ситуация, – думал я, – приглашаешь подружку по собственной инициативе, ясно, как будут развиваться события, а тут…».
Услышав, как девушка пикнула сигнализацией и открыла багажник, пёс сделал резкое движение в мою сторону и подал голос, похожий на жалостный скулеж. Я плюхнулся в кресло и стал нервно листать первый попавшийся под руку журнал. Пёс снова подал голос, пытаясь вызвать во мне сочувствие и жалость.
– Я хорошо тебя понимаю, приятель. Тебе нужно общение. Мне тоже, но уж точно не с ней. Зачем она мне? Если она останется у нас допоздна, что опять подумают соседи? Смотри вон туда, а не на меня! – я обхватил руками шелковистую мордочку и развернул к окну. – Видишь, прислуга этого немца – зануды уже засуетилась – девица-то припарковалась на их месте! Посмотри на нашу гостью внимательно, как она одета?! Это же просто пацан какой-то! Зачем нам лишние неприятности? Немного поболтаем с ней, и пусть себе едет домой.
Пёс внимательно выслушал меня, потом послушно лёг и грустно вытянулся на коврике, ожидая гостью.
– Ну, так-то лучше, – я поднялся с кресла и в благодарность за понимание почесал Мартина за ухом. – А, вот и Клер, – сказал я нарочито приветливо и так, чтобы гостья нас услышала. – Жизнь удалась, сейчас мы наконец будем ужинать!
– Не мы, а вы! Я сыта, – по-хозяйски, словно близкая родственница, распоряжалась Клер, выкладывая на стол бумажные пакеты.
Часть 3
Пертинакс
Рим, год 945 от основания Города или 192 от Р.Х.
В самый канун январских календ черное небо Италии, усыпанное яркими мерцающими звездами, сулило Вечному городу очередную холодную ночь[1]. Перед вступлением в консульство сенаторов Фалькона и Клара толпы праздношатающихся граждан Рима спешили купить последние новогодние подарки для друзей и близких, восхваляя при этом двуликого Януса, подарившего своё божественное имя первому месяцу юлианского календаря. В этот поздний час при блеклом свете догорающих факелов и масляных лампад Форум Романум все еще напоминал муравейник. В центре площади, на отбеленную гипсовую доску, служившую прототипом так называемой газеты городских ведомостей, по приказу Коммода наспех размещалось объявление о необычном желании императора произвести свой завтрашний праздничный выход не из Палатинского дворца разодетым в императорский пурпур, а из гладиаторских казарм в одеянии секутора[2] с мечом и большим щитом в руках. Император продолжал удивлять сограждан своим поведением, к тому же сам жаждал новогодних сюрпризов и щедрых подношений.
Проститутки, уже наводнившие ночной город, надеялись тоже получить от похотливых почитателей и сутенеров всех мастей помимо обычной платы за свои услуги в затертых медных ассах или увесистых бронзовых сестерциях ещё и долгожданный подарок – серебряный денарий, а если повезет, то и золотой ауреус.
На улице Патрициев, протянувшейся почти по прямой от амфитеатра Флавиев до преторианского лагеря, что за Сервиевой стеной, было, как всегда, относительно тихо и малолюдно. Здесь жили знатные римляне, и по этой широкой мощеной улице, согласно строгому караульному расписанию, шагали на службу преторианские когорты. Здесь и проститутки были особые, одетые в наряды, дозволенные для ношения только благородным матронам. В богатом квартале на склоне холма Виминал жрицы любви совсем не боялись приставучих городских эдилов и смело надевали запрещенные для них пурпурные туники, а также вышивку и драгоценности, украшая свои высокие прически широкими белыми лентами. Волосы они красили или в желтый цвет шафраном или в красный свекольным соком. Местные жрицы любви не носили сандалий на босу ногу, как было предписано правилами, а обувались, как матроны, в изящные башмаки из мягчайшей кожи на шнуровке. Обнаженные белые ноги, указывающие на принадлежность к коллегии проституток, они прятали в эти холодные декабрьские дни под столой, а то и под длинной, до пят, паллой, что вообще-то настрого запрещалось законом. В таких условиях не только эдил, стоящий на страже закона, но и бывалый богатый обольститель давал маху, приставая к почтенной матроне, посчитав ее шикарной проституткой, или, наоборот, почтенно кланялся обычной проститутке, принимая её за свободную женщину из знатной семьи.
В самом конце улицы, возле лагеря, на ночную службу уже готовился заступить очередной отряд преторианцев. Построением руководил завсегдатай местного лупанара, центурион по имени Карвилий. Одетый в парадную сегментарную лорику[3] поверх пурпурной туники, в коротком плаще и кожаных сапогах, он аккуратно держал в левой руке тяжелый металлический шлем, украшенный гребнем и отделанный желтым металлом. На груди его блестели фалеры[4]. Все преторианцы были в церемониальном облачении, на расчехленных щитах сверкали золотые зубчатые молнии Юпитера.
– Эй, Карвилий! Неужели не узнаешь, – громко засмеялась высокая красавица, и, приподняв столу, обнажила красивое круглое колено. – Я всё ещё жду твоего подарка, красавчик!
В правой руке Карвилий, как и положено командиру, держал свой знак отличия – виноградную трость.
– Будешь так орать, Аэбуция, получишь в подарок вот этот фухтель, – центурион потряс своей палкой.
– Лучше подари ей завтра другой фухтель, он у тебя даже длинней, – заржал оптион[5].
– Разговоры в строю, – рявкнул Карвилий и подал знак трогаться. Отряд зазвенел оружием…
Темным вечером в богатом и хорошо освещенном доме Пертинакса Публия Гельвия – префекта города, накануне январских календ было многолюдно и шумно. Отец семейства, утомленный служебной суетой, давно вернулся из Курии и искал уединения в лабиринте комнат своего отдельного домуса. Однако многочисленные клиенты, слуги и рабы, жаждавшие услужить хозяину, а с ними вместе его жена и дети, а также родственники и друзья с их постоянными притязаниями и просьбами не оставляли Пертинакса в покое. Личная охрана городского префекта маялась от безделья в длинных проходах от атрия до перистиля[6], а то и попросту гоняла по триклинию кошек под звон расставляемого к утренним празднествам столового серебра. Любимый пёс префекта, когда-то свирепый и вонючий, как варвар, пытался проникнуть в таблиний[7] хозяина, чтобы успеть попасть ему вовремя на глаза и напомнить старику, чтобы тот, перед тем как удалиться в свои кубикулы[8], не забыл перед сном лично угостить кусочком сырого мяса своего преданного друга, когда-то привезенного из Британии, где Пертинакс усмирял легионы, поднявшие мятеж против императора Коммода. Сын Марка Аврелия смертельно ненавидел любое проявление добродетели, однако тогда высоко оценил деяния своего старого солдата и назначил Пертинакса управлять Римом за образцовую скромность и умеренность, проявляемую во всем, в отличие от прежнего префекта – Фусциана, запомнившегося горожанам лишь беспощадной суровостью.
Только поздно ночью, позволив спальнику удалиться из комнаты, Пертинакс остался совсем один и, кряхтя, лег в постель. Тициана, жена префекта, в свои неполные сорок лет ещё сохранившая стройность и привлекательность, уже была крайне редким гостем в покоях мужа, хотя и бережно носила на среднем пальце левой руки кольцо, подаренное мужем при обручении и составлении брачного договора. Гельвий Пертинакс, давно разменявший седьмой десяток, имел тучное телосложение и по настоянию личного доктора старался вести подвижный образ жизни для избавления от несколько выдававшегося живота. По утрам у себя в домашнем перистиле он делал интенсивную зарядку, а также два раза в день посещал частные термы, где старался много плавать в бассейне с прохладной водой, и подолгу засиживался в парилке.
С тех пор как Тициана, дочь Флавия Сульпициана, богатейшего и влиятельнейшего сенатора, родила ему сына, Пертинакс предоставил жене полную свободу действий, которой незаурядная и любвеобильная женщина поспешила воспользоваться сполна. Однажды она без памяти влюбилась в малоизвестного кифариста и пару лет испытывала к нему сильнейшую страсть. Тициана наперекор традициям беззастенчиво отстаивала свою независимость, не скрывая нежных чувств к этому посредственному музыканту и нисколько не заботясь о своей репутации в Риме. Хотя супруга префекта и утратила всякое уважение к себе со стороны добропорядочных людей сенаторского сословия, её поведение не было вопиющим фактом – в Риме редкая матрона стремилась следовать предписаниям и соблюдать древние традиции патрицианского рода, ограничиваясь лишь воспитанием детей и гордясь своим умением искусно прясть и ткать. Давно вошло в норму у знатных горожанок стремление родить своим мужьям по молодости сыновей, а затем не рожать вовсе, посвящая свое свободное время изощренному искусству любовных утех. Однако предохраняться от нежелательной беременности приходилось по совету врача Галена все теми же старыми способами, и в первую очередь простой морской губкой.
Пертинакс, доблестный служака, пока ещё чувствовал себя «в силе», тоже не утруждался сохранением супружеской верности и обзаводился любовницами, которые привлекали его куда больше, чем жена. Особенно долго его чувства тревожила безумно похотливая Корнифиция, которая много лет буквально околдовывала его своими женскими чарами. Впрочем, красивые женщины не мешали Пертинаксу честно выполнять свой служебный долг, и его карьера никогда от этого не страдала. Даже сейчас, когда его сын уже приступил к изучению ораторского искусства, а старшей дочери по возрасту уже давно пора было подарить отцу внука, Пертинакс всякий раз оборачивался и замедлял шаг, когда на Форуме мимо него проплывала какая-нибудь грациозная светловолосая жрица любви. Завидев его взгляд, она расталкивала ликторов[9], несущих положенные ему по должности фасции[10], с тем, чтобы холеной рукой зацепить городского префекта за полу тяжелой шерстяной тоги.
В последние дни Пертинакс мучился от бессонницы, которая ввергала его в необъяснимую старческую тоску, и он не знал, как её заглушить. Его здравый ум пытался найти решение проблемы: префект постоянно проводил в уме сложные математические расчеты успешных торговых операций, рассуждал вслух о своем завидном здоровье и т. д. Даже страх быть казненными по малейшей прихоти императора Коммода, парализовавший всех магистратов, никогда не довлел над городским главой. Пертинакс нежился в своей теплой постели, и ему было всё равно, убьют ли его преторианцы в ближайшие дни, или он всё же доживет до глубокой старости. Лишь бы поскорее уснуть, лишь бы тоска улетучилась! Пертинакс закрыл глаза и долго лежал на спине неподвижно, вспоминая забавные эпизоды своего детства, проведенного в Апеннинах. В такие минуты он неизменно думал о своем отце. Тот однажды рассказал сыну, что в самый день его рождения жеребенок неведомым образом забрался на крышу их незатейливого жилища. Пробыв там недолго, он, в конце концов, свалился на землю и издох. Тогда халдей[11] объяснил отцу Пертинакса, Гельвию Сукцессу, безродному вольноотпущеннику, ставшему торговцем шерстью, что сын его высоко поднимется, но кончина его будет столь же безвременной и внезапной, как и само возвышение. Отец выслушал предсказателя и, усомнившись в реальности исполнения его слов, даже пожалел о потраченных зря деньгах. Гельвий Сукцесс решил дать своему сыну имя Пертинакс, что означало «упорный», с верой в то, что только непрерывный и доблестный труд, а не случай, сделает сына богатым и почитаемым. Сын во всем оправдывал свое имя: он хорошо учился и был прекрасно развит физически. Когда же Пертинакса отдали на обучение греческому грамматику, на мальчика обратил внимание известный в Аппенине ученый муж по имени Сульпиций Апполонарий, который и сделал из него впоследствии преподавателя грамматики. Однако эта престижная профессия не сулила молодому учителю приличного заработка, и при содействии консуляра Лоллиана Авита, который был патроном его отца, Пертинакс стал добиваться должности центуриона, что могло обеспечить хорошее и гарантированное жалование, плюс завидную пенсию по окончании военной службы. С тех пор вся жизнь Пертинакса была связана с армией.
Префект Рима протяжно зевнул, и даже внезапный шум, сопровождаемый лаем собак, и незнакомые голоса, доносившиеся из вестибюля, не нарушили его безмятежного спокойствия. Пертинакс лишь медленно приоткрыл веки. На пороге уже стоял заспанный мальчик, сын привратника, а за ширмой тревожно маячил силуэт его спальника Таррутения, державшего правую ладонь на рукоятке гладиуса. Пертинакс легким кивком головы дал разрешение говорить. Взволнованный мальчик сообщил хозяину, что два старших офицера преторианской гвардии императора Коммода желают говорить с Гельвием Пертинаксом немедленно. Узнав эту новость, хозяин к удивлению мальчика продолжал спокойно лежать в постели.
– Что же, этих не прогонишь, – горестно вздохнул старик и, повысив голос, добавил: – Если так уж хотят, то зови их прямо сюда, в спальню. Я вновь одеваться не стану, – мальчик направился было к выходу, но хозяин окликнул его: – Постой, они пришли одни?
– Нет, в сопровождении охраны, и их много, – вымолвил с дрожью в голосе мальчик.
Пытаясь отогнать от себя дурные предчувствия, Пертинакс глубоко и обреченно вздохнул. В своих полутемных покоях старик не сразу разглядел грозного и хитрого префекта претория Квинта Эмилия Лета, а вместе с ним и спальника императора Коммода, бравого Эклекта. Старый опытный воин, Пертинакс хорошо разбирался в людях и уже давно опасался за свою жизнь, хотя и не замечал за собой никакой другой вины, кроме той, что был последним оставшимся в живых из числа близких друзей покойного императора Марка Аврелия. Все остальные уже давно отправились в мир иной или были казнены его сыном Коммодом. Лет, как и Эклект, уже несколько лет служили тому, как верные псы, хотя, по наблюдениям Пертинакса, до Лета ни один из префектов не продержался на службе у императора более трех лет. Кто был отравлен, кто заколот мечом. Про спальников и говорить нечего – их Коммод убивал, не задумываясь, хотя во всем следовал их советам и внушениям. От цепкого взгляда Пертинакса не ускользнули потухшие глаза двух незваных преторианцев, лица которых всегда излучали лишь надменную жесткость и безграничное всесилие. Хотя оружие у старших преторианцев было при себе, Пертинакс характерным кивком дал понять своему спальнику, чтобы тот оставил его наедине с гостями. Жестом предложил гвардейцам располагаться в комнате и, сославшись на свой возраст и легкое недомогание, извинился за то, что не смог принять высоких гостей у себя в таблинии. Как только спальник покинул покои хозяина, любезность вмиг слетела с лица Пертинакса:
– Не тяните, исполняйте приказ! И побыстрее, сопротивления не будет.
Лет поспешно убрал руку с меча и поднял её в знак уважения, приветствуя гордого старца:
– Не говори того, что недостойно тебя и твоей прошлой жизни! Этот наш визит служит спасению Римской империи. Мы явились, чтобы вручить тебе императорскую власть! Ненавистный всем жителям Города Коммод мертв, – закончил Лет и посмотрел на Пертинакса, который, изменившись в лице, наконец убрал с подбородка одеяло, обнажив длинную вьющуюся бороду.
Префект прикрыл веки и в задумчивости покачал головой.
– Ты что, не веришь нам?
– Если вы пришли издеваться над стариком, то я должен вам сказать…
Эклект стремительно подался вперед и не дал Пертинаксу закончить свою мысль:
– Пойми, просто ты первый, кому мы сообщаем об этом!
– Даже так? Тогда выходит, вам от меня что-то нужно! Я ведь всего-навсего префект Рима, и хотя сам Коммод выдвигал меня на второе консульство, я вряд ли смогу вам помочь, если в городе начнутся волнения и вас станут допрашивать.
– Но все, что мы сказали тебе, есть чистая правда! Коммода больше нет. Он всегда хотел быть похожим на Нерона, вот и прожил этот первоклассный секутор, как и Нерон, только 31 год!
Пертинакс продолжал недоверчиво смотреть на непрошенных гостей и наконец произнес:
– Мне нужны доказательства!
– Какие? Принести сюда его крашеную, с золотыми блестками в волосах, голову? Сейчас мы этого сделать никак не можем, – отчаянно взмолился Лет.
– И не надо, я имею в виду детали и обстоятельства смерти. Где сейчас находится тело императора? В Палатинском дворце?
– Нет, он в Вектилианских палатах, – ожидая такого вопроса, быстро ответил Эклект. – В последнее время он с трудом засыпал в Палатинском дворце, поэтому недавно принял решение переселиться на Целийский холм.
– Поверь, мы в этом деле ни при чем, – перебил сбивчивую речь Эклекта префект претория. – Во всем виноват этот мастер натираний, Нарцисс! Эта здоровенная скотина не рассчитала своих сил, когда массировала Коммода после бани, хотя сам император повелел массировать его предельно жестко, причиняя физическую боль, от которой он полагал получить удовольствие. Нарцисс не рассчитал, надавил локтем ему на горло и так, сам не желая того, задушил Коммода. Вот так всё и произошло, – закончил Лет.
– И вы думаете, что я вам поверю? – в сердцах выкрикнул Пертинакс, – Коммод не то, что массаж без личной охраны не делал, он даже от своего цирюльника отказался, всё боялся чего-то. Чтобы лишний раз не стричься, сам вечно подпаливал себе волосы на голове и на бороде. Да что я вам все это рассказываю, а то вы сами не знаете, – бросил Пертинакс, кряхтя приподнимаясь и опираясь на подушки.
Рука быстрого на расправу египтянина Эклекта потянулась к мечу, и от взгляда Пертинакса не ускользнуло, как у спальника императора блеснуло на пальце золотое кольцо, подтверждавшее принадлежность Эклекта уже к всадническому сословию. Лет бросил на товарища злой и недовольный взгляд и, пытаясь угадать в настроении Пертинакса его отношение к факту смерти императора, неуверенно продолжил, хитро прищурив глаз:
– К тому же, мы случайно обнаружили новый список лиц, которых Коммод намеревался казнить этой ночью.
– Точнее, – вмешался Эклект, – список обнаружил Филокоммод, тот самый маленький мальчишка, с которым император последнее время играл по ночам и без которого не мог заснуть. Мальчик передал его мне.
Как только Эклект замолчал, в комнате стало так тихо, что Пертинакс, прислушавшись к шумам, понял, что в доме, кроме него, все уже давно были на ногах. Лет решил прервать паузу и продолжил:
– Итак, значит, мы его прочли. Первой в списке ожидаемо была Марция, когда-то горячо любимая им наложница. Они с императором, как ты, наверное, знаешь, в последнее время стали откровенно ненавидеть друг друга, не то, чтобы спать вместе.
– Я догадываюсь, кто был вторым, – сказал Пертинакс без какого-либо драматизма в голосе.
– Ну, и кто, – ехидно спросил Лет.
– Либо ты, либо он, – кивком кудрявой головы медленно указал Пертинакс сначала на одного, а затем на другого преторианца.
– А может быть, ты, Пертинакс?!
– Если бы был я, то в списке не было бы вас, а меня сейчас уже не было б в живых. Коммод не смешивал политику со своими личными проблемами. Лучше расскажите, как вам удалось уговорить Нарцисса.
– Расскажи лучше ты, Эклект, – кивнул товарищу Лет, – ты же сам всё видел.
– Сначала Марция попробовала напоить Коммода отравленным вином, – начал запинаться Эклект. – Яд поначалу подействовал усыпляюще, и мы были уверены, что он умрет во сне. Но потом он проснулся, и у него началась сильная рвота.
После этих слов Эклект замолчал и сделал шаг в сторону.
– Ну, – скомандовал Лет, – не тяни!
– Ну, чего говорить, ты уже и сам всё рассказал про Нарцисса. Он получил за свою работу ту сумму, которую сам назвал, да ещё согласие Марции на сегодняшнюю ночь – он давно ею бредил.
– Про Марцию это ладно, а вот сам Коммод что-нибудь сказал перед смертью? – не унимался в расспросах Пертинакс.
– Сказал, – улыбнулся Лет и тряхнул головой. – Речь этого перворазрядного секутора всегда была бессвязна. Сам знаешь, что в последнее время Коммод стал так ленив, что всегда ограничивался одной любимой фразой: «Будь здоров»! Даже умирая, он не изменил своей привычке.
Получив ответы на свои вопросы и осмыслив услышанное, Пертинакс, помолчав минуту, спросил:
– И что же вы теперь хотите?
– Хотим исполнить волю императора и остаться здоровыми! – бодрым голосом цинично изрек Лет.
– И как вам это видится, объясните мне, – Пертинакс уже не лежал, а сидел, касаясь подагрическими ступнями мраморного пола. Эклект, ничего не говоря, подошел к нему и протянул записку Коммода:
– Прочти сам, ты же знаешь руку императора.
Старик приподнял бронзовый масляный светильник с треножника и с трудом при тусклом свете прочел написанное в свитке.
– Может быть, хватит играть в недоверие?! Мы хотим избежать никому не нужных смертей. Мы считаем, что для Рима будет благом, если императором станет Пертинакс! – городской префект хотел возразить, но Лет движением руки вежливо остановил его, желая продолжить свою мысль: – Верь нам, Пертинакс! Мы не жаждем твоей смерти. Ты заслужил всеобщее уважения римлян. И сенаторы, и плебс верят тебе. Ты опытен в государственных делах и пользуешься популярностью в войсках. Это ты славно прошел путь от центуриона до легата, воевал в Сирии, в Мезии, да и в Дакии тоже. Ты отстоял Норик, за что по настоянию Марка Аврелия тебя наметили в консулы. Ты управлял жаркой Африкой и туманной Британией, тебя знают всюду! Если только ты согласишься, то все командиры Римских армий в Британии, на Рейне и Дунае, а также в Сирии и Египте сразу присягнут тебе. Тебя уважает Писцений Нигер, Клодий Альбин тоже тебе многим обязан, а Септимий Север и вовсе твое доверенное лицо – они все будут рады служить под твоим началом.
Пертинакс сидел, опустив голову, и, казалось, совсем не слушал льстивую речь Лета. Он вдруг вспомнил холодный Норик и Марка Аврелия, то, как император прилюдно сожалел, что не может назначить его, Пертинакса, своим префектом претория, поскольку легат уже числился в списках сенаторов. «Хотя, – улыбнулся себе в бороду Пертинакс, – если бы тогда Марк сделал меня своим префектом претория, то, скорее всего, я бы давно был покойником!»
Старик поднял голову и глубоко вздохнул:
– Я соглашусь принять это звание только при одном условии: если сенат все утвердит согласно древним правилам и традициям.
– Я лично буду отвечать за это дело! – выпалил Лет, довольный собой.
– Но, послушайте, – обратился городской префект к преторианцам, – разве, кроме меня, в Риме не осталось достойных граждан? А сенаторы? Ну, хорошо, а почему бы не предложить это звание Писцению Нигеру? Вспомни, Лет, как он доблестно показал себя в войне с дезертирами шесть лет назад. Или что было бы еще лучше, Клодию Альбину? Это достойные командиры, с большим опытом в государственных делах. Они уважаемы в Сенате, оба из знатных родов, и, главное, достаточно молоды, не то, что я!
– Вот именно, молоды, у всех свои амбиции! – сразу возразил Лет, – это значит, что опять начнется борьба за власть, опять война, опять кровь, а подвалы Храма Сатурна на Форуме давно пусты, этот распутный левша всё растратил. Как держать преторианцев в повиновении, если в Риме нет денег? Выходит, только личным авторитетом всеми уважаемого человека и можно удержать армию и народ от волнений!
– Положим, я принимаю ваше предложение. Что вы намерены делать дальше?
– Я, – сказал Лет, сейчас же направляюсь в преторианский лагерь, чтобы объявить о смерти Коммода от апоплексического удара. Всем известно, что наш император пренебрегал советами врачей не жрать так много на ночь – вот и погиб, задушенный чрезмерной едой. А Эклект позаботится о том, чтобы весть о смерти первого секутора империи быстро разнеслась по городу.
– Хорошо, – сказал Пертинакс, – действуйте, но помните о нашем договоре – я приму высокое звание только после его утверждения сенатом.
– Моя охрана останется здесь и проводит тебя, Пертинакс, в лагерь, как только ты приведешь себя в порядок. Мы будем ожидать тебя там. Затем мы проводим тебя в Сенат, сенаторам сейчас будет не до сна! Я позабочусь, чтобы всем им срочно доставили извещения явиться в Курию.
Эклект и Эмилий Лет стремительно покинули покои, прихватив с собой всего двух своих охранников. Остальные остались в доме городского префекта, ожидая хозяина. Гельвий Пертинакс, не вставая с постели, хриплым голосом окликнул своего спальника:
– Срочно пошли человека к Виктилианским палатам. Там преторианцы ждут команды, куда нести тело Коммода. Пусть сбегает и лично удостоверится, что император мертв. Я жду его скорейшего возвращения.
Спальник удалился. За своих людей Пертинакс был спокоен, их хорошо знал лично префект когорты ночной стражи, поэтому можно было не опасаться поборов стражников, патрулировавших с фонарями улицы города. Пока слуги хлопотали вокруг него, приводя его одежду в порядок, Пертинакс пребывал в замешательстве. Его терзали сомнения, не совершает ли он ошибку, соглашаясь на такое судьбоносное предложение. Ведь всю свою жизнь он чувствовал отвращение к императорской власти и открыто демонстрировал словом и делом свое негативное отношение ко всему, что связано с ней. Всего того, чего Пертинакс хотел достичь в жизни, он давно достиг, и гордился этим, особенно своим красивым домом с перистилем, богато облицованным мрамором, с большим числом колонн. Он не мог себе представить, как он, человек низкого происхождения, сможет продержаться на троне, который до него занимал император столь высокого и благородного происхождения? А сенаторы? Разве они безропотно согласятся исполнять приказания гражданина, который по всем статьям ниже их? И вообще, разве этого Пертинакс добивался всю свою жизнь?! Он ведь хотел только одного – быть просто богатым и уважаемым римским гражданином, потому что с детства был окружен бедностью.
Городскому префекту вдруг вспомнилось, как у него, молодого командующего флотом в Германии, перехватило дыхание от радости, когда его за военные заслуги решили перевести в Дакию и, главное, назначили жалованье в 200 тысяч сестерциев в год! А каким он был сенатором? Да никаким! Это всё Клавдий Помпеян, зять Марка Аврелия, это он ходатайствовал за Пертинакса, чтобы тому присвоили это ожидаемое всеми римлянами звание, хотя тогда Пертинакс и Курию-то в глаза не видел. А всё потому, что он, молодой командир, хотел услужить Марку Аврелию, которого глубоко уважал и безропотно выполнял все его приказы. Император не забывал отмечать его старания. Сначала он назначил его легатом первого легиона, потом началась жестокая резня за Ретийские области, потом Норик. И тогда вновь сам Марк Аврелий назначил его консулом за выдающееся рвение по службе, хотя за долгие годы военной карьеры он так ни разу и не побывал в Риме! Как же ему тогда, по молодости лет, хотелось снять военные доспехи и облачиться в белоснежную тогу сенатора, а то и в тунику консула с широкой каймой пурпурного цвета, и со всеми знаками отличия пройтись по Риму, да так, чтобы все 12 ликторов шли впереди! Или сесть на почетное место на каком-нибудь общественном празднике, чтобы все римские красавицы пялили на него глаза!.. Но планам Марка Аврелия не было суждено сбыться: Кассий поднял против него восстание, и Пертинаксу пришлось в срочном порядке отправляться воевать в Сирию. Потом последовали назначения управлять обеими Мезиями, а вскоре и Дакией. Он успешно справился с заданием императора в этих римских провинциях, и наконец был направлен наместником в Сирию. Смерть Марка Аврелия в Виндобоне от чумы избавила Пертинакса от необходимости бескорыстного служения отечеству, и он вошел во вкус больших денег. Он в деталях помнил, как, будучи консуляром и, управляя поочередно четырьмя консульскими провинциями, торговал освобождениями от работы и военными командировками. Родители Пертинакса к тому времени уже умерли и не оставили сыну никакого наследства. Прибыв в Рим уже очень богатым человеком, он впервые вступил в римскую Курию, хотя и был сенатором много лет. Но не успел он купить себе дом в Риме, как приказом императора Коммода был удален из столицы в родную Лигурию, в имение своего отца. Прибыв в родные Пенаты, Пертинакс скупил много земель и окружил отцовскую сукновальную мастерскую бесчисленным количеством зданий, оставив, впрочем, внешний вид самой постройки неизменным. Три года он успешно занимался торговлей и был счастлив, пока не получил письма от Коммода, в котором император сожалел, что отлучил друга отца от государственных дел, и просил Пертинакса срочно отправится в Британию для усмирения легионеров, поднявших против него восстание. Тогда легионеры были готовы провозгласить императором кого угодно, даже его самого, но он остался верен воинской присяге и, подавив восстание, сумел усмирить легионы.
Был случай, когда самого Пертинакса после одного ожесточенного боя зачислили в списки погибших и даже поспешили направить соответствующее письмо в Рим. Произошло это потому, что после боя долгое время никто не видел его живым, и только после разборки трупов погребальная коллегия обнаружила его, оглушенного, под окровавленной грудой римских воинов. Едва окрепнув, Пертинакс поспешил восстановить в своей армии режим жесткой дисциплины. В ответ легионеры демонстрировали своему командующему нескрываемую вражду. Тогда Пертинакс сам был вынужден написать прошение Коммоду отозвать его в Рим, рекомендовав на свое место Клодия Альбина – искусного командира и жесткого служаку, к которому легионы испытывали некоторую симпатию. Только после того, как Пертинакс успешно справился с делами в проконсульской Африке, он наконец вернулся в Рим и был назначен Коммодом на должность городского префекта. На этом посту Пертинакс проявлял к гражданам величайшую мягкость и терпимость. Его человеческие качества высоко ценились римлянами, особенно на фоне свежих воспоминаний о предыдущем префекте – Фусциане, человеке крайне суровом и грубом. Своей честной службой новый городской префект опять угодил императору Коммоду, да так, что был назначен консулом вторично…
…Как только человек Пертинакса вернулся с подтверждением того, что лично видел, как тело Коммода выносили из палат, городской префект в сопровождении преторианцев спешно покинул свой дом и направился в лагерь, где его уже заждались Лет и Эклект. Весть о скоропостижной кончине императора быстро облетела сонный город, и народ поспешил к храмам и алтарям воздать благодарность богам. Те, кто посмелее, потянулись к Эсквилинскому холму.
Преторианские когорты, охранявшие императора в Риме, пронумерованные от I до IX и помеченные эмблемой скорпиона, совместно с тремя городскими были расквартированы на склоне Эсквилина за пределами Сервиевой стены, что находилась уже в предместьях Рима. Все двенадцать воинских частей численностью по 500 стражников каждая, размещались в одном лагере. К западу от лагеря находилась тренировочная площадка, которая постепенно заполнялась ликующими горожанами. Пертинаксу, окруженному преторианцами, пришлось буквально протискиваться к воротам лагеря. Охранник, услышав пароль, приоткрыл ворота, пропуская вооруженных преторианцев и бородатого старца, облаченного в белую тогу с широкой пурпурной полосой. Едва закрылись ворота, как толпа, прежде выкрикивавшая разные непристойности в адрес покойного императора, перешла на скандирование «Пертинакс! Пертинакс»! Освещенный факелами лагерь был в полном сборе, и Лет наконец торжественно взял слово:
– Император наш Коммод умер от апоплексии, а виноват в такой смерти он сам перед собой! Не соглашался он с нами, дававшими ему всегда наилучшие и спасительные советы, и прожил так, как вы хорошо знаете. Он погиб, задушенный чрезмерной едой. Но вместо него мы и римский народ ведем вам мужа возрастом почтенного, по образу жизни воздержанного, человека испытанной в делах доблести. Старшие из вас испытали его воинские деяния, а остальные много лет уважают его и восхищаются как городским префектом. Его власть будет радовать не только вас, являющихся его телохранителями, но и тех, кто размещен по берегам рек и границе Римской империи, они тоже хранят в памяти его испытанные деяния. Хватит подкупать варваров деньгами, они покорятся нам из страха, как когда-то они покорялись ему, когда он командовал войсками!
Ответная речь Пертинакса была также краткой, поскольку всё, что преторианцы желали услышать, должно было уместиться в ответе на один вопрос: «Сколько?» – сколько получит каждый преторианец от нового императора в качестве подарка, если они провозгласят его Августом. Публий Гельвий Пертинакс, поблагодарив Лета и Эклекта за доверие, назвал долгожданную сумму подарка: каждому преторианцу будет выдано по двенадцать тысяч сестерциев. Простому народу пожаловали по 100 денариев на каждого. Преторианцы ожидали большего но, скорее под давлением всеобщего народного воодушевления, чем по здравому смыслу, признали императором Пертинакса тут же, в лагере, присягнув ему на верность.
Из лагеря в Сенат Пертинакса провожала охрана Эклекта, но двери Курии оказались закрытыми, поскольку никто не мог найти сторожа в столь поздний час холодной зимней ночи. Пертинакс временно отсиживался в соседнем храме Конкордии, когда к нему подошел Клавдий Помпеян, и был искренне рад появлению своего друга, ему даже показалось, что усталость и головная боль немного отступили. Зять Марка Аврелия, укутанный в сенаторскую тогу, крепко обнял Пертинакса и принялся оплакивать участь Коммода. Оглядевшись по сторонам, Пертинакс шепотом, припав к уху друга, стал уговаривать его принять императорскую власть вместо себя, упирая на государственный опыт Клавдия и уважение, с которым к нему относилось большинство сенаторов, но тот, даже не дослушав, отверг его просьбу, объясняя это решительными намерениями Эмилия Лета видеть принцепсом в Сенате только Пертинакса и готовностью войск преторианской гвардии при любых обстоятельствах и во всем быть солидарными с мнением своего командира. Вскоре к зданию Курии подтянулись все главные должностные лица, появились и консулы. Нашелся и сторож с ключами. Пришли все, кому срочно были направлены личные извещения. Заседание Сената проходило при открытых дверях. Сенаторы заняли свои скамьи, курульные магистраты уселись на особых креслах, трибуны сели на свои места, председатель разместился, как всегда, на возвышении. По заведенному порядку до заседания были произведены ауспиции[12].
Председатель открыл заседание Сената нетрадиционным образом, начав с доклада о чрезвычайных ночных событиях. Обычных докладов на религиозные темы по понятным причинам в этот день не было. Доклад председателя, осуждавшего деяния почившего Коммода, вскоре плавно перешел в хвалебную речь Публию Гельвию Пертинаксу, и все надежды городского префекта на то, что власть будет передана в руки кого-нибудь из достойных сенаторов, как когда-то она была передана Нерве после убийства Домициана, стали рушиться на глазах. Как только Пертинакс окончательно убедился, что председательствующий не собирается представлять свой доклад на обсуждение, поскольку никто из сенаторов не выдвигал никаких требований, он попросил слово, прервав докладчика:
– Не спешите принимать поспешные решения, – почти прокричал он с места, едва привстав, – я стар! Способен ли я действовать с бодростью, энергией и осмотрительностью, необходимой императору? В Сенате так много достойных лиц, ну вот хотя бы Глабрион… – Пертинакс схватил своего соседа по сенаторской скамье за рукав шерстяной тоги. – Глабрион – один из знатнейших патрициев, свой род он возводит по прямой линии к Энею, сыну Афродиты и Анхиса и уже два раза был консулом!
Теперь все сенаторы обратили свои взоры на Глабриона. После долгой паузы тот встал:
– Благодарю за высокое доверие, но сам я, кого ты считаешь достойнейшим из всех, уступаю тебе власть. Я и все прочие своим единодушным голосованием отдаем тебе всю её полноту!
Сенаторы, поднявшись со своих скамей, стали призывать Пертинакса принять императорский титул и заставили вконец растерявшегося старика занять место принцепса. В своей ответной речи Пертинакс, дрожа от волнения, дал согласие принять власть и призвал Сенат разделить с ним все заботы о процветании государства. Но, как только он принялся выражать признательность не только Сенату, но и префекту претория Квинту Эмилию Лету, консул Фалькон перебил оратора едкой репликой:
– Позади тебя мы видим сидящих Лета и приглашенную на слушания Марцию, соучастников Коммода в его преступлениях, и после твоих хвалебных им речей можем предположить, каким ты будешь императором, – консул подтянул тогу и тяжело опустился на своё складное курульное кресло, украшенное слоновой костью.
– Ты молод, консул, – не дрогнув, спокойно ответил Пертинакс, – и не понимаешь необходимости склоняться перед обстоятельствами. Упомянутые тобой Лет и Марция повиновались Коммоду против воли, а как только представилась возможность, они показали, каковы были их истинные желания.
Пертинакс сел на свое место, и председатель сразу обратился к членам Сената с предложением прямо утвердить притязания Пертинакса на императорскую власть, не обсуждая более никаких других кандидатур. Единогласным решением Сената тот был объявлен императором. Председатель провел ладонью по потному лбу и произнес традиционную в такой момент и столь долгожданную фразу: «Дольше мы не задерживаем вас, господа сенаторы». Все встали с мест и впервые за много лет, направляясь к выходу, вслух заговорили о том, что давно хотели сказать, но страх доносов и проистекавших из них последствий заставлял их молчать.
После совершения обычных жертвоприношений в Храме Юпитера Пертинакс в сопровождении охраны удалился в императорский дворец. Священная дорога на Форуме была в этот час совершенно безлюдной. Поднимаясь по высоким ступенькам на Палатинский холм, он чувствовал, как усталость от бессонной ночи и волнений сковывала мышцы его ног. Эклект предложил императору передохнуть. Пертинакс поднял голову вверх, любуясь яркими звездами на черном небе. Старческие слезы потекли по его щекам: «Нет, Эклект, надо спешить! У нас ещё есть дела, которые мы должны решить до рассвета».
Палатинский дворец, с тех пор, как его покинул Коммод со своей шумной свитой, казалось, звенел от пустоты и тишины. Пертинакс, вступив во Дворец Флавиев, был ошарашен беспорядком, царившем в Триклинии, бывшем гордостью архитектора Рабирия. На лице нового императора слуги читали раздражение и упрек. Пертинакс нагнулся и, подняв с мраморного пола небольшой серебряный кубок, повертел его в руке. Прекрасная работа неизвестного мастера по серебру изображала юношей, занимавшихся друг с другом любовью в самых изощренных позах. Кубок был липким от вина, и он, поставив сосуд на бронзовый треножник, брезгливо обтер руку о свою тогу, предварительно поплевав на ладонь. Задумался, но услышав голос трибуна, вздрогнул.
– Что? – спросил император. – Какой пароль?
– Пароль на первый день службы охраны дворца, – отчеканил трибун.
– Будем воинами! – тихо себе в бороду произнес Пертинакс.
– Не понял, принцепс, – испуганно переспросил его трибун.
– Пароль на сегодня: «Будем воинами!», – произнес уже громко император.
Этот пароль Пертинакс придумал сам очень давно, и когда командовал легионами, любил давать его своим центурионам. Охрана Эклекта переглянулась. В устах императора пароль прозвучал как упрек и выражал порицание за бездеятельность их предшественников. Пертинакс отошел от трибуна и подозвал к себе Ливия Лавренца.
– Слушаю, император, – почтительно наклонил голову прокуратор наследственного имущества Коммода.
– Сейчас же организуй и проследи лично, чтобы тело Коммода выдали Фабию Хилону.
– Это кто, – удивленно поднял брови прокуратор.
– Его, кажется, наметили в консулы. Я уже говорил с ним, он ждет. Фабий займется погребением усопшего Коммода сегодня же ночью, в усыпальнице Адриана.
– Ночью? Но Сенат по этому поводу… – задрожал прокуратор, приложив ладонь ко рту.
– Делай, как я велю, – Пертинакс оборвал прокуратора, – помню тебе, всаднику, назначили жалованье в 200 тысяч сестерциев в год. Так, кажется? – прокуратор кивнул и, заморгав от страха, промычал: «Угу». – Если так, тогда чти память его. Я не допущу кощунства над его телом.
– Будет исполнено, как велит император, – уже уверенным голосом произнес Ливий Лавренц и скрылся за спинами личной охраны Пертинакса.
– Эклект, – настала очередь спальника, – ты, вот что… Сегодня взысканий по службе не будет! Дисциплина в отряде должна быть восстановлена, – Пертинакс обвел взглядом пиршественный зал и покачал головой. – Сколько нужно времени, чтобы навести здесь надлежащий порядок?
– Я сейчас же подниму все службы и выясню.
– Выясняй, только побыстрее. Завтра, точнее, уже сегодня к вечеру дворец должен блестеть, ко мне придут гости, – Пертинакс замолчал и ещё раз обвел зал своим цепким взглядом.
– Какие ещё будут приказания, – обратился Эклект к императору.
– Всем, кто свободен от караула, прикажи отдыхать. Я буду спать здесь у огня, на полу. Как только рассветет, все должны быть в сборе. Меня разбудишь первым, если я, конечно, усну, – сказал Пертинакс с сомнением в голосе.
С рассветом Пертинакс отправился в Курию на очередное заседание Сената. Он ещё не успел облачиться в императорский пурпур и, шествуя по людному Форуму в окружении охраны, был одет в ту же белоснежную тогу сенатора. Перед выходом из дворца император обратился к Эклекту с просьбой избавить его хотя бы на этот первый день от факелов и других пышных символов своей власти. Народ шумно приветствовал появление Пертинакса на Форуме, на этот раз без страха быть избитым дубинками преторианцев: молва о распоряжении нового императора своей гвардии прекратить своеволие в отношении простого народа и не носить на улицах Рима дубинок, быстро распространилась по городу.
Хотя безупречный образ императора Пертинакса и довлел ещё над зыбким авторитетом Сената, но, пусть поначалу и нерешительно, сенаторы с самого начала заседания стали высказываться по поводу поспешного захоронения Коммода. Даже скромный Цингий Север, понтифик, чье мнение традиционно считалось мнением всей коллегии понтификов, изрек: «Незаконно похоронили его. Я предлагаю уничтожить всё то, что принудил нас поставить в свою честь человек, живший только на погибель гражданам и на позор себе. Статуи, стоящие повсюду, следует убрать, имя его соскоблить со всех памятников, как частных, так и государственных, а календарные месяцы пусть носят те названия, какие они имели раньше…» Нашлись сенаторы, которые требовали, чтобы труп врага отечества, этого злодея и горе-гладиатора был растерзан в сполиарии Колизея, там, где добивали тяжелораненых гладиаторов и раздевали убитых. Пертинакс не разделял их мнения, поэтому сидел тихо и старался не принимать участия в этом жестком разговоре.
Он хорошо знал и помнил Коммода ещё совсем юным мальчиком. Помнил то время, когда почти пятнадцать лет назад народ Рима и сенат с ликованием встречали будущего императора, сына великого Марка Аврелия, вернувшегося вместе с отцом из Египта. Пертинакс всё время пребывания Марка в восточных провинциях был рядом с Коммодом. Юноша был великолепно сложен, взор имел ласковый, волосы от природы у него были белокурыми и вьющимися. «Ну, чем не ангел», – думал Пертинакс, глядя на него. Неспроста ему, Пертинаксу – в то время уже наместнику Сирии, рассказывали, что все женщины Рима, не исключая величавых матрон, мечтали оказаться во дворце на званых пирушках красавца Коммода, а ещё лучше, в спальных покоях этого совсем юного императора. Мальчик, как и было положено в 14 лет, надел мужскую тогу. Произошло это в день июльских нон, то есть в день, когда Кассий поднял восстание против Марка. Пертинакс рассуждал: «Разве не Сенат виноват был в том, что мальчик в 15 лет вследствие изъятия Закона о возрасте, а, значит, практически незаконно, получил первое консульство? Затем, за четыре дня до декабрьских календ, в консульство Поллиона и Апра (27 ноября 176 г. от Р.Х. – прим. авт.) был вместе с отцом провозглашен императором и вместе с ним отпраздновал триумф! Ведь сенаторы вынесли это постановление не под нажимом Марка Аврелия, а вопреки ему, а тогда их жизни никто не угрожал»! От гнева кровь закипала в жилах Пертинакса. «Даже когда Марк Аврелий ещё был жив и воевал в Норике, Коммод, будучи в Риме, по наущению старших товарищей-сенаторов занимался у себя во дворце не только игрой в кости… Он собирал по всему Риму самых красивых проституток, не брезгуя и пышнотелыми матронами не первой свежести, и превратил Палатин в самый обыкновенный лупанар! А ведь тогда ещё можно было всё изменить и сделать так, чтобы Коммод не стал подобием Калигулы. Но, когда у Коммода, панически боявшегося подхватить венерическую заразу и мывшегося по семь раз в день, появилась большая опухоль в паху, выпиравшая сквозь шелковые императорские одежды и ставшая заметной всему народу, что-то делать по мнению Галена было уже поздно. Оставалось только верить в скорую его кончину. И вот теперь труп молодого тридцатилетнего мужчины эти сенаторы хотят крюками тащить по всему Риму, а то и бросить в Тибр, как собаку! Они, сидя в Курии, уверовав в свою полную безнаказанность, забыли, что Коммод – член великой династии! Нерва, которого Сенат избрал императором после убийства Домициана, стал первым в ряду Властелинов Мира, которых римский народ назвал хорошими. Дальше шли Траян, Адриан, Антонин Пий, Марк Аврелий – все гордость Рима. Народ Рима должен знать свою историю и хранить её в письменах своего Табулярия, чтобы учиться на ошибках других». Пертинакс не в силах был остановить лихорадочный поток своих размышлений: «Впрочем, а кто в Сенате сейчас знает свою историю? Ведь в Курии больше не заседают представители древней римской аристократии – большинство из них погибло по спискам проскрипций Суллы и в гражданских войнах во времена Августа, а тех, кто уцелел, последовательно истребили Калигула, Нерон и Домициан. А сейчас половина мест в Сенате была куплена у Коммода богатым торговым людом за деньги! Вместо того чтобы болтать о Коммоде, лучше следили бы за ходом работ по строительству колонны Марку Аврелию, а то уже 12 лет прошло, как Сенат постановил увековечить память императора, а строительство никак не завершат».
Шум в зале привлек внимание императора, и он прекратил плавание по волнам своей памяти. Текст постановления сената был передан для оглашения незнакомому Пертинаксу молодому сенатору. Тот, надрывая голосовые связки, начал изрекать здравицы в адрес тех, от действий кого сейчас зависело многое, если не всё:
– О, Юпитер, всеблагой величайший! Сохрани нам Пертинакса, чтобы мы были невредимы! Честь и слава верности преторианцев! Честь и слава преторианским когортам!
В тот же день было принято и сенатское постановление о присвоении титула Августы жене Пертинакса. Юный сын императора Гельвий был удостоен звания Цезаря. Пертинакс же первым из всех императоров получил наименование Отца Отечества – в тот же день, когда он был назван Августом. Императору была вручена и проконсульская власть, и право четырех докладов. Пертинакс воспринял всё это как знамение и покидал Курию в мрачном настроении, поскольку был очень недоволен желанием Сената видеть свою жену Августой, а сына Цезарем. Приветливого и любезного, сенаторы считали его еще и на деле щедрым, однако же на самом деле Пертинакс был человеком скупым, если не сказать скрягой, и сейчас его беспокоило состояние государственного казначейства. Когда, покинув Курию, Пертинакс сразу очутился на Форуме, мощеная площадь, символ имперского величия, предстала его помутненному взору лишь только Храмом Сатурна – хранилищем государственных ценностей. У Пертинакса защемило сердце, когда он вспомнил ночную встречу с патроном императорского казначейства и свое возмущение после уточнения размера остатков – только двести пятьдесят тысяч денариев и все!
Такой бедности Рим давно не знал. Пертинакс испытывал стыд за своих предшественников. Когда-то адвокаты императорского казначейства, защищавшие интересы фиска, при отчете в Сенате с гордостью называли размер остатков хранения государственных сокровищ в Храме Сатурна. Звучали огромные цифры. Даже Марк Аврелий, вступая на престол, получил в наследство от усопшего Антонина Пия целых шестьсот семьдесят пять миллионов. То, что казна сейчас опустела, было на совести не только Коммода, но и почти всей его великой родни. В свое время Адриан имел привычку по каждому удобному случаю отправляться в долгие путешествия по просторам своей империи и получать в казначействе при согласии Сената огромные средства на путевые расходы, и этим практически опустошил казну. Если великий Адриан так расточительно вел хозяйство империи, то что мешало Коммоду следовать примеру своего сородича и не запускать руку в государственную казну, скажем, на те же путевые расходы по отдаленным провинциям? Деньги ему на эти цели казначейство действительно выдавало большие, только Коммод ни в какую Африку не ездил, а организовывал у себя во дворце безумные оргии и бесконечные игры в кости – в общем, бережливым хозяином Коммод в народе никогда не слыл. Отец же его, незабвенный Марк Аврелий, больше заботился о чистоте своей души, нежели о чистоте финансовой отчетности, поэтому казна и при нем никогда не была полной.
В глубине души Пертинакс осуждал себя за то, что смел даже в мыслях критиковать великих за их деловую беспечность, но ничего с собой поделать не мог – мешала натура расчетливого торговца. Император озабоченно прикоснулся к своей бороде и, как всегда в такие моменты, вспомнил Адриана – ведь именно он, вопреки традициям, переняв моду у варваров, стал первым носить бороду.
Пертинакс сожалел о собственном заявлении в Сенате о необходимости прекратить излишние поборы с населения, введенные Коммодом. Он сознавал, что сейчас это было преждевременным, так как затруднит выполнение государством своих функций. Для сохранения деловой активности и в целях сокращения расходов Пертинакс не сменил ни одного должностного лица, которым Коммод поручил управление делами. Новый император дал себе слово, что начнет смещение неугодных магистратов только после окончания праздника Дня рождения Рима. Этот день должен был, по мнению Пертинакса, стать началом новой жизни. Парилии, праздник, отмечавшийся горожанами 21 апреля, был для него самым любимым – римляне традиционно жгли костры и танцевали вокруг них, и завершались торжества также под открытым небом…
Первый январский день был с утра холодным, хотя и солнечным, и только мысли об апрельских праздниках грели душу Пертинакса. Особенно отрадна для престарелого императора была пора Флоралии, наступавшая через неделю после Парилии. Всегда это было море цветов и тепла! Вот именно тогда он станет настоящим императором и назначит на все ключевые посты своих верных друзей.
Пока вооруженные преторианцы перекрывали площадь, обеспечивая для императора проход через Форум, многолюдная толпа случайных прохожих, завидя почтенного старца с длинной бородой, кричала: «Пертинакс, мы с тобой!». Страх, поселившийся в душах римлян за долгие двенадцать лет правления Коммода, сменился светлой надеждой. Пертинакс невольно с радостью поймал себя на мысли, что гибель Коммода никак не повлияла на жизненный уклад столицы империи. Так же, как и днем ранее в установленный час включились все 1150 римских фонтанов, бесперебойно подавалась вода по одиннадцати имеющимся акведукам, три десятка общественных библиотек готовились к приему читателей, в театрах начались утренние репетиции.
Пертинакс медленно поднимался на Палатин.
– Слушай, Лет, – обратился он к префекту своей гвардии, – сегодня я хочу пригласить к себе во дворец на праздничный обед всех должностных лиц и видных сенаторов. Прошу тебя разослать им приглашения, вот список, – и Пертинакс протянул Лету узкий свиток.
– Будет исполнено, принцепс, только осмелюсь заметить, что Коммод этого обычая не соблюдал!
– Это была его ошибка, и вообще, человеку свойственно ошибаться, – улыбнулся Пертинакс.
– Человеку – да, но не Августу!
– Будь снисходительнее, префект!
– Я вижу в этом списке около сотни гостей. А если они с женами придут? И не было распоряжения, где готовить прием.
– Всех буду принимать в триклинии!
– А почему именно в триклинии, а не в царском зале?
– Когда-то Марк Валерий Марциал, восхваляя Домициана, пусть и чересчур льстиво, за то, что Рабирий завершил строительство дворца, как и обещал, за 10 лет, восхищался именно триклинием. Он писал: «Сами боги могли бы здесь вкушать нектар и принимать из рук Ганимеда священную чашу». Я ещё ночью дал поручение Эклекту привести там всё в порядок. Ты же обеспечь должную охрану и дисциплину. Хочу, чтобы все пришли в триклиний, пока не стемнело. Так что поспеши.
– Да, ваше величество, важный вопрос – кушанья должны быть скромными, как при Августе, достойными, как при Тиберии или необычайно дорогими, как при Коммоде?
– Дерзишь, Лет! – император улыбнулся. – Сам знаешь, что денег в казне нет. И так голова идет кругом, ума не приложу, где для начала взять обещанную для твоих преторианцев сумму, я должен держать слово!
– Да, принцепс, преторианцы ропщут, требуют денег – по 12 тысяч сестерциев, как было обещано. Что им ответить, не знаю.
– Заверь, что скоро получат. Только распродадим имущество Коммода, постараюсь, чтобы каждый получил по 6 тысяч. Остальное придется выдать месяца через три, не раньше. Так что пусть столы накрывают без излишеств, обойдемся без фазанов.
– Император, а какую одежду приготовить для торжества?
– Какую? А что, моя старая тога не подойдет? Не помню, в чем Коммод принимал гостей?
– Он предпочитал белую шелковую тунику, вытканную золотом, с рукавами, – Лет продемонстрировал на себе, как это должно было выглядеть, сделав плавный жест свободной рукой.
– В таком случае я буду, как Нерон, в тунике с цветами и с кисейным платком вокруг шеи. Сегодня же вызову цирюльника, попрошу побрить себе ноги и удалить с груди седые волосы!
– Неужели это свершится, император? – раскрыл рот от удивления префект претория.
– Эх ты, был бы я помоложе, дал бы тебе пинка под зад, чтобы ты старика не подначивал!
Лет сдержал слово – солнце только начало клониться к закату, а почетные гости императора уже потянулись к дворцу. По приказу префекта претория караульный пост преторианцев никого из приглашенных не обыскивал. Пертинакс, стоя у дверей приемного зала, лично приветствовал каждого, целуя наиболее высокопоставленных из своих друзей. Самых почтенных всадников без чьей-либо подсказки называл по именам, всегда предупреждая их приветствия. Все гости отметили эти знаки доброжелательной демократичности. Они проходили через просторный перистиль, окруженный портиком. Высокие колонны из каррарского мрамора, поддерживавшие крышу перистиля, и мраморные плиты из Нумидии, покрывавшие высокие стены, сверкали чистотой и поражали шиком. В глубине перистиля, напротив зала приемов, широкая дверь вела в триклиний. Согласно римскому обычаю, тут стояли три длинных довольно низких стола: два вдоль боковых стен, а третий как раз напротив входа, как бы в отдельном, очень роскошном помещении, напоминающем апсиду. Пол из порфира и змеевика блестел чистотой. За третьим столом и разместился Пертинакс вместе с самыми важными государственными магистратами. Ночь ещё не наступила, и поэтому с каждой стороны из пяти больших окон, разделенных красными гранитными колоннами, открывался вид на нимфеи с мраморными бассейнами, окруженными статуями в нишах. Со своих лож все гости могли видеть воду, бившую из фонтанов и струившуюся по ступенькам из мрамора среди зелени и благоухающих цветов. Столы сверкали начищенной серебряной посудой и хрусталем. Согласно традициям, которые чтил Пертинакс, только император имел привилегию пользоваться за столом золотой посудой, поскольку ещё Тиберий особым указом запретил её использование частными лицами. Гости пришли в тогах, и лишь магистраты позволили себе надеть знаки отличия. Военные по обычаю появились при полном параде, а придворные слуги были одеты в белые ливреи, отделанные золотом.
Сенаторы ожидали от Пертинакса, что он и во дворце продолжит делать громкие заявления, и не ошиблись. Как только слуги наполнили кубки гостей вином, разбавленным морской водой или по выбору медом со специями, Пертинакс поднял золотой сосуд и сделал многозначительную паузу. В триклинии наступила тишина, и шум фонтанов заставил его прислушаться к музыке падающих струй. На его лице появилась улыбка:
– Наши предки уверяли нас, что правда в вине. Пусть будет так, но сейчас всё, что я хочу слышать на старости лет, это не скрежет мечей, а журчание ручьев. Я принял от Сената императорскую власть и спешу объявить, что полностью отменяю сыск по делам об оскорблении величия и клянусь, что возвращу всех, кто был незаконно отправлен в ссылку. Я также обязан реабилитировать память тех, кто был казнен, но что касается моей семьи… – принцепс посмотрел на свою жену. – Я благодарю сенаторов за оказанную честь, но сейчас мы пьем вино и будем говорить только правду. Поэтому я не могу согласиться с решением Сената и принять для моей жены титул Августы, а для сына – Цезаря. Во всяком случае, пока не могу.
– Но, когда же? – воскликнул близкий друг Августа, Клавдий Помпеян, приподнявшись с кресла.
– Когда? – переспросил Пертинакс. – Когда заслужат! Мой тесть, – и Пертинакс рукой указал на Флавия Сульпициана, сидящего напротив него, – сегодня стал префектом города. Я решил так, потому что он лучший, и вы, сидящие здесь, это знаете. Он заслужил это своей доблестью и знаниями. А сейчас давайте же веселиться! Gaudeamus igitur! – закончил он свою короткую речь.
Столы не ломились от изысканных заморских яств, и гурманы были разочарованы. Зато вина было много. Лучшее фалернское, каленское и, в особенности, формианское не успевали размешивать и подавали в больших золоченых кувшинах. Были греческие вина из Хиоса и с Лесбоса. По взволнованным лицам разодетых матрон, близких подруг Тицианы, и растерянным взглядам знакомых сенаторов Пертинакс понимал, что почти никто не разделяет его благородных помыслов. Особенно громко недоумевали два народных трибуна, что стояли подле центральной колонны. Одного из них звали Публиций Флорин, а имя другого Пертинакс никак не мог вспомнить, пока не услышал, как того окликнул его тесть Флавий Сульпициан:
– Не слишком ли много выпил вина благородный Векций Апра?
– Представь, необходимость заставила, – язвительно ответил тот. – Не всегда, сенатор, по трезвости ума можно понять намерения нашего императора, – Векций поклонился назначенному Пертинаксом и утвержденному на утреннем заседании сената новому префекту Рима и продолжил: – Мне и моему другу Публицию Флорину очень жаль, что принцепс упорствует вопреки постановлению Сената о присвоении Тициане титула Августы. Лишить императрицу чести, которой её удостоили и которой так гордились её предшественницы, может только наш император.
– Да уж, он упрям и сполна оправдывает своё имя.
Сульпициан увидел свою дочь, стоявшую в одиночестве, и поспешил к ней, находя в глазах знатных трибунов полное понимание. Пир был в разгаре, и возлежавшие на триклиниях отцы-сенаторы шутили и одобрительно посмеивались, наблюдая за фривольным поведением броско разодетых матрон, хотя согласно римской традиции те и не пили вина. Для всех присутствовавших гостей было очевидно, что манеры и привычки Пертинакса, ставшего императором, совсем не изменились, поэтому все его друзья позволяли себе общаться с ним, уже Августом, с прежней фамильярностью. Многочасовая вечерняя трапеза угрожала затянуться далеко за полночь. Сотня рабов без устали продолжала подавать вино, резать мясо и убирать объедки, которые согласно обычаю знатные римляне бросали под стол. В конце пиршества была разыграна новогодняя лотерея, по результатам которой счастливчики тут же получили большие призовые суммы в кожаных мешочках под одобрительный гул разодетой толпы.
Когда торжество наконец завершилось, всюду засуетились слуги, а спальник приступил к исполнению своих обязанностей, едва император пожелал перейти из Царского зала дома Флавиев, откуда провожал гостей, в Дом императоров, где располагались теперь его покои. Ближайшие родственники Пертинакса поспешили за Отцом Отечества и нагнали его, когда он уже шел по огромному прямоугольному перистилю, окруженному галереей с колоннами. Восьмиугольный фонтан с низкими бортиками, построенный в виде лабиринта, своим журчанием заглушал гулкие шаги слуг и родственников, поэтому Пертинакс вздрогнул, когда услышал совсем рядом со своим ухом высокий голос Тицианы. Она шла, обняв сына и дочь, будто боялась, что отец хочет их наказать. Тесть следовал чуть поодаль.
– Почему ты к нам так суров, Гельвий, – начала Тициана.
Пертинакс устало махнул рукой, словно хотел избавиться от назойливой мухи:
– Довольно и того, что я дал согласие принять верховную власть, которой, чувствую сердцем, недостоин. Ты, Тициана, вознамерилась ощутить себя богиней, чтоб перед тобой всюду таскали священный огонь. Скажи, зачем?
– Но они сами так решили! – высокий голос женщины эхом разносился по дворцовым комнатам.
– Знаешь, когда Коммод наметил в консулы любовника своей матери, сенат в насмешку присвоил ему почетное имя Почтительный. А когда Коммод казнил Перрения, сенат присвоил ему титул Счастливый. Коммод был по-юношески горд, а народ-то смеялся над ним! Я же не хочу быть посмешищем, не хочу, чтобы и над тобой смеялись. Ты не Святая Тициана, и ты это знаешь. Послушай, ты же все понимаешь, ты всегда хотела быть свободной женщиной, и за эти свои права боролась. Так будь ею! Разве быть богатой, красивой и свободной тебе недостаточно? Ещё сутки назад, ночью, ты опасалась, что за мной, городским префектом и старым сенатором, явилась смерть, и затаилась в нашем саду. Сегодня ты хочешь славы и народного поклонения. А что ты сделала для этого?! Что сделал для этого я? Ничего! Короткого пути к счастью не бывает – так считал божественный Аврелий.
– Что с тобой, Гельвий, вижу, тебя что-то гложет? – теперь к императору обратился отец Тицианы. – Может быть, тебя смущает твое низкое происхождение? Так бери пример с Веспасиана, происхождение его было даже ниже, а кем стал?! Основал свою династию Флавиев, на Форуме стоит храм в его божественную честь! Стоит только намекнуть, и сенат завтра же включит тебя в список патрицианских фамилий.
– Дело в том, что важна традиция, существовавшая до Веспасиана, когда императорами становились уже будучи патрициями. Путь, который предлагаешь ты, Флавий, мне, безусловно, знаком. Подобным образом патрициат получали многие, и не только императоры.
– Так будь и ты таким!
– Не смею! К тому же в этом случае каждый легионер скоро почувствует тягу к императорской власти.
– Отец, ты что не видишь, ему гордость не позволяет, – язвительно пояснила Тициана.
– При чем тут гордость? Совеститься нужно! Или вы считаете, что римлянину это чувство не знакомо?
– Ну, хорошо, продолжай всем доказывать, что ты не жаждешь славы в своем положении. Но почему ты отказался воспитывать своих детей во дворце, – громко возмущалась Тициана.
– Потому что не хочу, чтобы у меня в семье вырос второй Коммод!
– Ты, Гельвий, открой глаза и посмотри на своего сына – он же унаследовал твой характер, причем тут Коммод? – тихо спросил Сульпициан.
– Знаешь, тесть, я хорошо знал Марка, мы с ним часто сиживали в холодную погоду у огня и вели задушевные беседы. Он тоже поначалу восторгался своим сыном, иначе, почему ты думаешь, он согласился, чтобы Коммода провозгласили Цезарем? Здесь на Палатине, в этих стенах ещё не успел выветриться дух разврата. Я уже сказал, и повторять не стану – придет время, заслужит, станет Цезарем.
Пертинакс пристально посмотрел на свою взрослую дочь и сына:
– А вы, дети мои, знайте – то, что было обычным для императорских детей, сейчас не для вас. Я запрещаю вам появляться на людях в нарядах, убранствах и украшениях, подчеркивающих ваш высокий ранг. Я и сам хотел бы вернуться к частной жизни, потому и вас не хочу держать во дворце, чтобы здесь занимались вашим воспитанием. Читайте больше Юлия Цезаря, он осуждал любой вид показной роскоши. Он даже запрещал незамужним, – тут Пертинакс потряс пальцем в сторону дочери и жены, и замужним, но бездетным женщинам пользоваться паланкином. Только матроны старше 41 года имели право носить жемчуга! Сейчас же не поймешь – то ли она матрона, то ли проститутка, так разоденется и накрасит волосы, что стыдно. Золото блестит, где только можно, тьфу, да не прогневаются на меня боги!
– Будет тебе, зять, – вновь вступил в разговор Сульпициан, – ты-то ведь не Гай Юлий Цезарь! К твоему сведению, Цезарь также запрещал хранить дома более 15 тысяч денариев!
– Ну, и что? Намекаешь на то, что я храню свои деньги дома?
– Да нет! Я о том, что ты, будучи честным человеком, не смог бы так быстро стать таким богатым, живи ты во времена Цезаря!
– Ты ещё назови меня полевым нырком, как те завистливые сенаторы, что глупы и ленивы. Не уподобляйся тем, кто полагает, что я разбогател, разоряя землевладельцев в Сабатских Бродах. Я так тебе скажу, Сульпициан, что с тех пор, как Законы двенадцати таблиц появились на Форуме, обычай перестал служить главным руководством для граждан, но со временем знание Закона стало не столько необходимостью, сколько доходной профессией. Уметь правильно работать с Законом не значит нарушать его, и если верхний предел выплаты по кредитам был установлен им в размере 8,3 процента, значит, этому нужно было неукоснительно следовать! Закон суров, но это…
– Ладно, Гельвий, успокойся, – взмолился Сульпициан.
– Так вот, – продолжил Пертинакс, будто не слышал тестя, – я следую букве закона и богатым стал тоже законно, согласуя свою коммерческую деятельность и с легальными ростовщиками, и с помощниками квестора.
– Да не упрекаем мы тебя в нарушении законов, не беспокойся! И прекрати называть себя богатым! Да, ты занимал высокие должности, ты зажиточен, но обладаешь ничтожным, по сравнению с другими, имуществом. Может, это и спасло тебя от кары Коммода.
– Думайте, что хотите, но заверяю вас в том, что я буду стремиться оставаться в глазах граждан таким же, каким был и раньше. Сейчас же я устал и хочу спать, давайте перенесем семейные выяснения отношений на потом.
Эклект получил от императора подтверждение, что пароль на следующий день останется прежним – «Будем воинами»! «Он что, совсем спятил, давать нам такой пароль, – думал трибун, покидая ларарий, служивший штабом во Дворце, – сегодня же доложу Лету, что если так пойдет и дальше, нас совсем перестанут уважать рядовые преторианцы»!
На следующий день после календ по городу стали низвергать статуи Коммода. Преторианцы недовольно ворчали: «Вчера нам запретили чувствовать себя хозяевами на ночных улицах, отобрали дубинки, а обещанных денег так и не дали. Сегодня проявляют неуважение к памяти Коммода, а завтра дешевые проститутки на Аппиевой дороге будут требовать с нас плату за удовольствия»! Префект претория Эмилий Лет предвидел заранее такие настроения, но не пресекал высказывания своих подчиненных.
Государственные дела занимали у Пертинакса всё время, свободное ото сна. Его мудрое поведение день ото дня укрепляло всех сенаторов во мнении, что именно он и есть тот император, который достоин управления Вечным городом. Пертинакс принимал важные для Рима законы, изгонял из города доносчиков и стукачей, считая их врагами мира и общественного спокойствия, отменял обременительные налоги, мешавшие, по его мнению, развитию торговли и процветанию коммерции, а также лично следил в порту за поставками хлеба. Перед тем, как выплатить задолженность по денежному довольствию легионеров, он решительным образом потребовал от легатов и наместников провинций укрепить пошатнувшуюся воинскую дисциплину. Пертинаксу быстро удалось уменьшить расходы на содержание императорского двора вдвое против прежнего. Никто из патрициев не посмел осмеять его бережливость, наоборот, все старались следовать примеру императора. Первое время, особенно по вечерам, у Пертинакса от забот кружилась голова, зато восстановился крепкий сон.
Для того чтобы государственное казначейство было в состоянии справляться со своими проблемами, Пертинакс приступил к аукционным распродажам богатства Коммода. С молотка ушли все мальчики и наложницы, шуты и доносчики, а также статуи и лошади. Продажа личных вещей прежнего императора тоже принесла значительный доход. Особенно хорошо продавалась одежда на шелковой основе, тканая золотой ниткой, плащи без рукавов, пурпурные хламиды и накидки с капюшоном. Что касается воинских доспехов, шейных цепей и коллекционного гладиаторского оружия, украшенного золотом и драгоценными камнями, тут ценителям пришлось основательно раскошелиться. Многочисленные сосуды из золота, слоновой кости, серебра, янтаря и стекла выставлялись из Палатинского дворца на аукцион не один день. За немалые деньги были проданы и драгоценные самнитские сосуды для кипячения смолы и вара, употребляемые для уничтожения волос на теле и придания ему гладкости. Пертинакс не оставил себе даже императорских повозок работ знаменитых мастеров. Огромную сумму, полученную от всей этой распродажи, он отдал на погашение задолженности легионным воинам, а также выплатил долги по пенсиям ветеранов. Преторианцы тоже получили в качестве обещанного подарка, в дополнение к ежемесячным выплатам, по шесть тысяч сестерциев. Это был аванс, остальные шесть тысяч Пертинакс поклялся заплатить весной. На рынках империи было замечено общее падение цен, что было следствием общего удешевления жизни в Риме.
Перед тем, как римский монетный двор приступил к чеканке золотых монет с изображением Пертинакса, к нему на одобрение принесли свежеотчеканенные денарии. Он вынул из кожаного мешочка крошечную монетку и, повертев кусочек сияющего серебра в руке, не удержался от скупой улыбки.
– Не вижу, – сказал император.
Слуга быстро сбегал в соседнюю комнату и принес сестерций, тоже только что отчеканенный.
– Вот, – сказал слуга, – на аверсе и реверсе то же самое, что и по серебру.
– Но это другое дело, – расплылся в широкой улыбке Пертинакс.
Увидев, как выглядела его кучерявая борода и лавровый венок на голове, он добавил:
– Смешно.
Монета с изображением Пертинакса
В ответ слуги и охрана тоже заулыбались. Пертинакс перевернул монету. На реверсе император был изображен стоящим с головой, повернутой влево. В правой руке он держал патеру[13] над треножником, совершая жертвоприношение, в левой – свиток. Пертинакс вернул слуге большую бронзовую монету и обратился к Эклекту:
– Передавай на Эсквилин, пусть чеканят и в золоте.
– Но позволь, император!
– Слушаю тебя, египтянин! У тебя вопрос? – спросил Пертинакс.
– Да, император. Коммод чеканил монеты с двойным изображением – своим и Александра, – смущаясь, произнес Эклект.
– Я знаю, Коммод верил, что, если рядом с его образом будет изображение Македонского царя, это явится залогом процветания нашей земли. Но я не Коммод!
В Родительские дни – Паренталии, в середине февраля, когда по традиции должностные лица ходили всюду без знаков отличия в память об умерших, Пертинакс облачился в свою старую тогу и почувствовал себя обычным гражданином. Душа его отдыхала. Вечером во Дворце на Палатине он принимал пищу без гостей. Впрочем, как всегда присутствовал Валериан, его старый приятель, да Тициана, не смевшая садиться за стол с императором, когда он обедал в большом кругу друзей. Двое стариков, бывшие школьные преподаватели и друзья юности, вели просвещенные беседы. Разговор шел доверительный, поскольку Пертинакс, даже будучи первым человеком в империи, всё ещё продолжал ощущать себя частным лицом. Да и коммерцией продолжал заниматься через своих людей в родных Сабатских Бродах. Валериан вечно подсмеивался над другом и на этот раз задал ему привычный вопрос:
– Зачем тебе, императору, первому человеку Мира, эти сложные и рискованные торговые операции, которые ты скрываешь от своих слуг, и вместе с тем дорожишь мнением народа о себе как о праведнике?
– Ой, Валериан, как ты прав, – фыркнула Тициана, – ему ничего не стоит, обладая императорской властью, как-то выделить хотя бы свою собственную дочь, обеспечив её достойным состоянием, вместо того, чтобы вкладывать средства в мелкие, но такие рискованные операции. Он боится мнения простого народа, а народная мудрость гласит: «Рука руку моет»!
– Поймите, друзья мои, – Пертинакс виновато улыбнулся, желая не обидеть сидевших за столом близких ему людей, – императорская собственность – это не частное владение императора. Она не принадлежит лично мне, а является достоянием всего народа. Поэтому-то я и отменил пошлины, взимание которых Коммодом служило лишь для обогащения его личной казны.
– Так ты поборник гражданского равенства? – засмеялся Валериан, лукаво подмигнув Тициане.
– По крайней мере всю жизнь призываю к его соблюдению, – смиренно ответил Пертинакс. – Поэтому мой сын не живет во дворце и посещает обычную школу и гимнасий. Я пытаюсь воспитать его чуждым роскоши. Ну сами посудите, вы же умные люди, в империи полно свободных земель, даже на территории Италии. Почему не раздать её людям, желающим трудиться на ней? Пусть каждый возьмет себе земли столько, сколько сможет обработать. И тот, кто будет трудиться на ней, не жалея сил, пусть считает её своей. Я обратился в Сенат и хочу освободить этих людей на 10 лет от налогов и навечно утвердить их в правах на собственность. Это укрепит наше государство.
– Все, даже варвары, довольны его правлением, – сказала Тициана, то ли с насмешкой, то ли желая выразить уважение к мужу.
– Одна только преторианская гвардия недовольна всем! – вновь засмеялся Валериан.
– Ну почему только преторианцы? – спокойно отреагировал Пертинакс на усмешку друга, – мои земляки приезжают ко мне в гости толпами. Только получается, ничего хорошего добиться от меня они не могут, и похоже, таят обиду. Мой префект претория постоянно дает мне глупые советы и обращается с корыстными просьбами. Я ему отказываю и хочу, чтобы все поняли, что казна пуста! Нужно время, хотя бы год, но никто не хочет ждать. Наверное, я не оправдал ожиданий Лета, – с грустью произнес Пертинакс.
– Хорошо, пусть это будет на его совести. Я хочу прочесть тебе, мой друг Пертинакс, мои новые стихи, – сказал Валериан.
– Стихи – это хорошо, поэзию я люблю. Только давай не сегодня, поскольку сегодня Паренталии, и я хочу поделиться с тобой своими мыслями.
– Ну, слушаю тебя.
– Наш мир аристократичен по своему духу, поэтому римский поэт с презрением отворачивается от повседневной прозы жизни. Наша литература равнодушна к простому человеку и совсем не делает попыток заглянуть в его душу. Разве справедливо, что простой люд наши поэты и писатели называют чернью? Ленивой и праздной чернью, которая всю свою жизнь проводит за вином, игрой в кости, да в вертепах. А кто тогда сидит в библиотеках и ходит в театры – только ли патриции и всадники? Кто в конце концов всё это построил? – император развел руками.
– С чего это ты, Пертинакс, заговорил на эту тему?
А с того, Валериан, что сегодня я бродил по Аврелиевой дороге – там похоронены мои боевые товарищи, простые люди. Я читал их эпитафии и так увлекся, что не заметил, как стало темнеть. Особенно тронули мою душу могилы государственных рабов. Я читал надписи на них, как страницы некой фабулы. Например, одна рабыня пишет о своем муже: «..имуществом беден, душой – богат в высшей степени» Или: «Пока жил, жил честно». Или, вот, сейчас вспомню: «Добрый исход. Да будет злой умысел далек от этого памятника». Выходит дело, и у раба есть душа, и им присуща вся гамма человеческих чувств.
– А ты что хотел бы видеть на своей могиле? – внезапно спросила Пертинакса его жена.
Вопрос, по сути своей уместный для их разговора, заставил сердце Пертинакса болезненно сжаться. Старик призадумался.
– Наверное, что-то вроде – «Раб отечества, хотел быть добрым».
– А я сегодня был на Аппиевой дороге и видел такую эпитафию на раба: «Был мил своим товарищам по рабству», – заметил Валериан.
– Тогда давай выпьем за них, хоть они и не граждане Рима. – Друзья выпили и помолчали. – Ну, что же, наша беседа затянулась. Пора нам на покой, – сказал Пертинакс, сдерживая зевоту, и сладко потянулся.
Император не допускал, чтобы сенаторы сами являлись к нему в дни своих пленарных заседаний, и взял за правило лично посещать сенат. Даже по прошествии трех месяцев Пертинакс продолжал себя чувствовать в Курии по-прежнему больше префектом города, старался не отказывать никому в общении и держался почтительно не только с малознакомыми сенаторами, но даже с Фальконом и Летом, которые, как ему стало известно, плели против него интриги, стараясь очернить заметные успехи императора на государственном поприще. Пертинаксу по душевной доброте и в голову не приходило воспользоваться своим законным правом и обвинить их в оскорблении величия. Он на всё смотрел снисходительно, хотя недовольство преторианцев, вызванное утерей прав на грабежи и насилие в городе, стало приобретать угрожающий характер.
За четыре дня до апрельских календ наконец установилась прекрасная весенняя погода, теплая и безветренная. Дополнительная преторианская когорта, вызванная во дворец для несения службы, получила приказ возвращаться в лагерь. Причиной тому было неблагоприятное знамение при жертвоприношении и отмена Пертинаксом своего выхода в Атеней, где он намеревался послушать выступление поэта. Император вызвал к себе Эклекта и сообщил ему, что хотел бы побыть наедине с собой в перистиле Дворца. Произнеся слова «Наедине с собой», Пертинакс невольно вспомнил Марка Аврелия, порой в минуты отдыха учившего его, как находить согласие со своей душой. Однажды Марк спросил Пертинакса, долго смотревшего на огонь костра:
– Послушай, Гельвий! Что ищешь ты, делая добро людям?
– Не знаю.
– И всё же?
– Марк, я воин, а не философ!
– И всё-таки скажи!
– Я преклоняюсь перед стоиками, но, как и все, предпочитаю быть эпикурейцем.
– Почему?
– Я ищу человеческое счастье, пытаюсь освободиться от страха смерти и суеверий. Для меня не безразлична внешняя женская красота. Женщина – это великое удовольствие. А еще я хочу быть богатым. Творя добро людям, я делаю это ради тебя, Марк. Я хочу, чтобы ты это знал, и, если тебя не станет, я вряд ли буду бескорыстен.
– Благодарю тебя, что сказал правду, – после паузы произнес Марк Аврелий и обнял его….
Пертинакс не присел ни на минуту, он долгое время ходил вокруг фонтана и слушал пение птиц. Его разум тревожило необъяснимое чувство беспокойства. «Ну как такое может быть, – удивлялся встревоженный император, – в жертвенном животном не нашли сердца! Какую я мог совершить ошибку? Разве своими поступками я не попытался искупить это неблагоприятное знамение? Но и в следующем животном не обнаружили главной части внутренностей! Что бы всё это значило?» Пертинакс пребывал в растерянности. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он принялся заниматься распределением обязанностей между дворцовой челядью. Пройдя с толпой беззаботных, разомлевших от яркого солнца слуг, по портику дворца, он дошел до места, которое называлось Сицилией. Возмущенный всеобщей бездеятельностью, император остановился у входа в столовую Юпитера и, сверкнув глазами, велел всем наконец заниматься делами. Обычная ненависть всех придворных слуг к Пертинаксу, этому старику, вечно недовольному их разгильдяйством и ленью, в тот прекрасный солнечный день была особо велика.
Стоя на ступенях перистиля, император напряг старческие глаза и приставил ладонь ко лбу, чтобы лучше разглядеть, кто поднимался по дороге по дворец: ведь он наказал его не беспокоить. «А, – он раздраженно махнул рукой, когда узнал в торопливо приближавшейся фигуре собственную жену, – опять начнется суета!». Подбежав к нему, Тициана, бледнея на глазах, сообщила, что неуправляемая толпа разъяренных преторианцев, вооруженных мечами и копьями, подходит к дворцу со стороны портика главного входа.
– Лет! – кликнул Пертинакс префекта преторианцев и, стараясь не терять самообладания, спокойно обратился к жене:
– Кто тебе это сказал?
– Я сама видела, и твои кабикулярии тоже. Они, между прочим, разбежались!
– Лет, пойди разберись! Что-то у твоих людей дисциплина совсем расшаталась!
– Пытаясь скрыть тревогу, Лет поспешил к ларарию и, увидев отряд вооруженных преторианцев, приближающихся к Дворцу, прикинул: «Пожалуй, их порядка трехсот наберется. Поздно разбираться, надо уходить!».
– Он стремительно вышел через портик и, укрыв голову плащом, поспешил к себе. Он видел, как в панике разбегалась дворцовая челядь, подстрекая гвардейцев к действиям. Тициана умоляла Пертинакса уходить немедленно. Эклект, обнажив меч, подтолкнул до смерти испуганную женщину в сторону императорских покоев:
– Пройдете оба через дальний выход, там пока безопасно. Ищите защиту у народа, лучше всего в квартале Субуры, только не пытайтесь скрыться в своем доме! Я попробую задержать их, хоть ненадолго!
Тициана, кивнув головой, последовала совету главного спальника императора, а Пертинакс, не теряя достоинства, спокойно направился в триклиний, откуда уже доносилась брань разгневанных преторианцев.
– Куда? – крикнул Эклект.
– Я ещё император и не имею права на малодушие, и ты, египтянин, не теряй самообладания и возьми себя в руки! Попробую их образумить, когда-то в войсках у меня это неплохо получалось.
Преторианцы не ожидали увидеть старика-императора, облаченного в тогу, таким невозмутимым.
– Меня, – император поднял руку, и гвардейцы притихли, – достойно дожившего до глубокой старости, не страшит участь принять смерть от ваших рук, ведь конец сужден каждому человеку. Если вы, мои стражники, защитники императора во всех опасностях, превратитесь в его убийц, смотрите, как бы это нечестивое дело не обернулось для вас злой бедой. Я не нанес вам никакой обиды. Может быть, вы пришли сюда из-за смерти Коммода? Может, вы считаете меня причастным к его гибели и думаете, что он пал жертвой злого заговора? Мой вам совет – ищите других виновников. Коммода больше нет. Обещаю, как и обещал – вы получите всё, что вам причитается, без насилия над моей волей и без грабежей.
По настроению преторианцев Пертинакс почувствовал, что волна возмущения начинает спадать. Глядя на его седины, многие устыдились своего корыстного безрассудства и уже стали расходиться, но в этот момент Таузий, рядовой преторианец из тунгров, бросил возбужденный варварский крик:
– Не верю! Он в очередной раз пытается нас обмануть! И в ярости метнул копье в сторону Пертинакса. Копье, пробив тогу, прошло по касательной, задело грудь императора и, застряв в складках, уперлось древком в мозаичный пол. Император побледнел, Качнулся всем телом, но даже получив ранение, не сделал попытки к бегству. Только Эклект, не раздумывая, бросился на защиту Августа и, загородив его своим мощным телом, вступил в неравный бой. Убив первых двух нападавших, он в ту же секунду был зверски заколот копьями остальных. Молясь Юпитеру-Мстителю, Гельвий Пертинакс ослабевшей рукой накрыл седую голову тогой. Круглолицый Таузий опять первым подскочил к согнувшемуся императору и от плеча мощно ударил мечом по его спине, отчего тот мгновенно рухнул на колени. Увидев кровавую сцену, к Таузию подбежал его товарищ, такой же небритый и потный от возбуждения, и оба склонились над скрюченным телом.
– Что он там ещё бормочет? – бросил Таузий и сдернул тогу с головы Пертинакса.
– Старик то ли мычит от боли, то ли молится своим богам. Ещё живой, но, кажется, ты перебил ему ребра! – заключил бородатый преторианец.
– Так добей его! – выкрикнул кто-то из толпы.
Преторианец, как будто ожидая этой команды, выхватил кинжал и вонзил его в шею императора под самое основание черепа. Мозолистая рука гвардейца поддерживала голову Пертинакса за волосы. Темная густая кровь из-под острого клинка быстро заливала яркий мозаичный пол. Таузий крепко выругался, когда отрезанная голова императора выскользнула из рук и упала в липкую лужу. Черная с проседью борода Пертинакса стала красной и как будто удлинилась, когда преторианец, насадив голову на копье, поднял её вверх… Раздался ликующий рев дикой неуправляемой толпы.
Преторианцы спешно покинули беломраморный дворец, построились клином и походным маршем вернулись в лагерь, пронеся голову императора, наколотую на пику, через весь город. Заперев все ворота лагеря и выставив на башнях стражу, преторианцы находились в напряженном ожидании, предчувствуя гнев народа. Сенат и римляне были в смятении, но мстить не отважился никто. Страх возможного возврата к тирании обуял и богатых граждан – побросав свои дома, они удалились в свои поместья, – и бедных, попрятавшихся по своим инсулам. На следующий день преторианцы предположили, что народ успокоился, и глашатаи на стенах лагеря объявили, что императорская власть выставлена на продажу, и силой своего оружия преторианские гвардейцы готовы посадить в императорский дворец того, кто даст им больше денег. Первым к их лагерю подошел Сульпициан, отец Тицианы. Он был готов предложить огромные деньги, но гвардейцы, опасаясь возможной мести, предпочли спустить со стены лестницу лишь для Дидия Юлиана, подвыпившего сенатора, пообещавшего выдать каждому преторианцу по 25 тысяч сестерциев. Сколько денег было у Юлиана на самом деле, никто не знал, но в этой критической ситуации ему поверили и провозгласили императором. В полном вооружении, построившись фалангой, преторианцы препроводили императора, получившего трон за деньги, сначала в Сенат, а затем и во дворец на Палатине. Впервые в истории Рима так низко пали нравы преторианцев, давно потерявших всякое уважение к власть предержащим.
Всю ночь во Дворце звучала музыка кифаристов. Знаменитый танцор Пилад истерично бился в пляске. Дидий Юлиан и его гости предавались игре в кости и пьянству, даже не удосужившись вынести из дворца обезглавленное тело несчастного Пертинакса, но помня однако о забытой практике прежних проскрипций. В спешке отдавались приказы на устранение неугодных лиц, объявленных вне закона. В списке одним из первых значился Лет. Дидий, принимая решение, что-то долго бурчал себе под нос и пожимал плечами. Перед тем, как подать одобрительный кивок головой, он глубоко вздохнул. Он всё ещё помнил, как Лет помог ему ускользнуть из рук Коммода и спас его. «А Марцию?!», – прозвучал чей-то пьяный требовательный голос. Император ещё раз одобрительно кивнул.
Только к рассвету слуги Дидия Юлиана наконец принесли обещанные деньги, но не всё и не для всех. В первую очередь подарки выделялись преторианцам, находящимся во дворце по долгу службы. Еле державшийся на ногах Юлиан лично вручил новоиспеченным префектам претория Флавию Гениалу и Туллию Криспине, тоже плохо соображавшим от выпитого, обещанные суммы. Причем не по двадцать пять тысяч сестерциев, а по целых тридцать! Пухлые кожаные мешочки были набиты не бронзовыми сестерциями, а денариями, и даже ауреусами. Слегка пошатываясь, Криспина поставил свой кубок на треножник и довольно произнес: «Прав был Веспасиан – деньги не пахнут»! Флавий Гениал открыл свой кожаный кошелек и высыпал монеты в мощную ладонь. Серебро и золото, не побывавшее ещё в торговом обороте, сверкало, и свет факелов делал различимыми очертания отчеканенной на монетах бородатой головы императора Пертинакса.
– Глядите, а голова-то его все-таки пригодилась! – съязвил кто-то.
Шутка понравилась, и оба префекта претория громко расхохотались.
– Самые преданные люди – те, чью верность приобретают за наличный расчет, – добавил Криспина, давясь от смеха.
Юлиан, кряхтя, с трудом нагнулся и, подобрав с пола маленький ауреус, выпавший из ладони трясущегося от смеха Гениала, поднес монету к глазам. Новый император даже не почувствовал, как по его стареющему лицу потекли слезы.
– Ты что, император, – возмутился Криспина. – Ты же обещал восстановить память Коммода. Не вздумай оказать почести Пертинаксу, а то преторианцы заподозрят тебя в обмане. Это мой тебе совет!
– Да, это я так, – тихо прошептал Юлиан. – Просто мы с Пертинаксом были товарищами, вместе были консулами, а я был даже его преемником по проконсульству в Африке, – виновато бормотал он, вытирая со щёк слезы. – И ещё он, ещё он, Пертинакс…
– Что ты там шепчешь себе под нос, император? Давай лучше выпьем, чтобы у тебя всегда были деньги, – выкрикнул Туллий Криспина.
– Да! Чтобы у нашего императора всегда находились деньги для преторианской гвардии, – уточнил Флавий Гениал, и молодые командиры опять расхохотались. Юлиан горько усмехнулся и, подняв кубок с вином дрожащей рукой, изрек:
– Пока живу, надеюсь!
– Надейся, надейся! – тихо сказал Корнелий Репентин, зять Юлиана, только что назначенный префектом Рима вместо Сульпициана, и, тронув за локоть свою жену, красавицу Дидию Клару, увел её в сторону.
Два месяца и двадцать пять дней правления Пертинакса безвозвратно канули в Лету. Тело несчастного с возвращенной назад головой днем позже обрело свой покой в гробнице деда Тицианы без должных почестей. В час, когда Тициана хоронила мужа, в Риме, как всегда, вовремя включились все городские фонтаны, для неимущих производили бесплатную раздачу хлеба, библиотеки встречали своих читателей широко распахнутыми дверями, а в театрах шли репетиции…
Часть 4
Бюсты Федора и Алексея Орловых в Вильфранш-сюр-Мер
Глава 1
На бульваре Мориса Метерлинка в Ницце я оказался сразу, едва переступив административную границу скучающего Вильфранша. Шагать в полдень по этому безлюдному бульвару, уходящему резко в гору, оказалось занятием не из приятных. Узкая пешеходная полоска, лишенная какой-либо растительности, шла вдоль автострады, соединявшей береговую линию Ниццы с Вильфраншем, и при этом почему-то многозначительно называлась бульваром. Мартин бежал впереди на длинном поводке, время от времени останавливаясь и поворачивая голову в мою сторону. Я перехватывал его вопросительно-молящий взгляд и из жалости время от времени брал его на руки, прижимая к груди горячее дрожащее тельце. Солнышко становилось ласковым, когда изредка пробивалось сквозь тяжелые облака, а вот ветер, дующий с моря, был ещё холодным. Гора Монт Барон, что замаячила впереди, почти сплошь покрытая роскошными соснами и эвкалиптами, была местом очаровательным, но не сейчас, когда вокруг не было ни души, кроме куда-то спешивших и фыркавших автомобилей. Впрочем, сколько раз я и сам проносился с ветерком по этой горной дороге на своем «Пежо», даже не обращая внимания на его название! Был ли это Метерлинк, Маерлинк или Браунинг – мне было всё едино, лишь режущий уши шум, да и только.
Тихий фешенебельный отель под названием «Дворец Метерлинка», расположенный на карнизе горного обрыва, зависшего над морем, и казавшийся забытым всем миром, был рад разделить с нами своё одиночество. Мы с Мартином свернули с дороги, обошли отель со всех сторон, но так и не встретили на своем пути ни одной живой души. Портик, исполненный в греческом стиле, бурлящий кипяток джакузи и голубой бассейн на пленэре не привлекли нашего внимания, а вот уютный парк на краю скалы, плотно засаженный высокими кипарисами, восхищал мой взор и волновал Мартина запахами влажной черной земли. Я присел на скамью, любуясь каменным фасадом старинного дворца с крышей сказочной формы. Гармонию чудной природы нарушил звонок мобильного телефона в моем кармане. Мартин резко прекратил копаться под кустарником и, как будто желая принять участие в разговоре, живо запрыгнул на лавку, вертя хвостом. Звонила Клэр. Я тяжело вздохнул.
– Привет, вы где? – спросила Клер тоном закадычной подруги.
– А что собственно случилось?! – не скрывая недоумения, ответил я вопросом на вопрос.
– У меня новость! Мой папа приглашает тебя к нам в гости! Он даже разрешает тебе взять Мартина.
– Спасибо, но это лишнее, – я не мог скрыть раздражения, но ей, по всей видимости, было на это наплевать.
– А почему нет? К твоему сведению, мой папа никого из моих друзей не приглашал, называя их всех без разбора «татуированным дерьмом». Для меня самой это было удивительно! Я рассказала ему про тебя, и он вдруг решил позвать!
– Зачем? Но ей богу, не стоит! – простонал я в отчаянии и посмотрел на Мартина, который находился в напряженном состоянии, как будто всё понимал и разделял мою озабоченность.
– А вообще-то вы где? – повторила она свой вопрос.
– Гуляем!
– Ну все-таки? Как всегда, в Ницце? В старом городе?
– Не совсем. Мы… мы во дворце Метерлинка, если тебе это что-то говорит.
– Мне? Ну разумеется! А вообще-то этот дворец называется «Орламонд». А что вдруг вас туда потянуло?
– Поначалу особой цели не было, если честно. Я только вчера узнал, причем случайно, копаясь в отцовской библиотеке, кто такой Метерлинк.
– Вот как? Вот позор-то! Я думала, ты у нас Mr Know-All! – сказала она, намекая наверное на одноименный рассказ писателя Моэма, жившего когда-то здесь, совсем неподалёку.
– Видишь, зря ты спешишь о моих знаниях трезвонить!
– Ты знаешь, я, пожалуй, сейчас к вам присоединюсь, – она была настроена решительно.
– Пока ты на своем велике дорулишь … Мы не собираемся здесь сидеть целый час, а то и больше. Давай как-нибудь в другой раз вместе съездим!
– Нет-нет, дождитесь меня, – заныла она в трубку! – Я на автобусе – буду у вас уже через полчаса. Очень хочется и мне рассказать вам о Метерлинке и о дворце.
– Давай, ждем полчаса, потом уходим! – пригрозил я в ответ.
Я снова посмотрел на Мартина.
– Слушай, мужик, – обратился я к собаке, – эта девочка начинает нас доставать!
Мартин спрыгнул с лавочки и подал голос. Мы не спеша продолжили прогулку по сказочной территории отеля, так и не встретив ни одного живого существа. Только серый «Порше», да красный «Феррари» на крытой стоянке подсказывали нам, что всё это время мы были здесь не одиноки. Мы поднялись к автобусной остановке, где к счастью, не пришлось долго ждать. Мартин сразу узнал в единственной покидавшей автобус пассажирке нашу вчерашнюю спутницу и звонко затявкал. Немудрено было узнать её и мне – те же широкие брюки, тяжеленные башмаки и тот же свитер, который и при моей комплекции мог легко натянуть и я.
– Вы уже все? – радуясь встрече, улыбнулась нам неугомонная француженка.
– Почти.
– А где машина?
– Припарковали в Вильфранше, рядом с отелем «Welcome».
– А сюда на автобусе добрались?
– Нет, сюда пешком. Обратно тоже намереваемся пройтись. Мы всегда гуляем перед ланчем.
– Тогда я вам составлю компанию, не возражаете?
– Не возражаем, тем более, ты, кажется, хотела что-то рассказать об «Орламонде».
– Конечно, с радостью, но сначала ты скажи, что узнал о Метерлинке, а то, может, и добавить мне будет нечего.
– Я прочел, что он драматург и автор пьесы «Синяя птица». Хорошо помню, когда как-то в детстве родители усадили меня смотреть мультфильм «Синяя птица», я тут же уснул, такая была скукота. И еще когда-то давно смотрел с тем же успехом одноименный фильм – первый в истории совместный проект советских и американских кинематографистов, но, естественно, не обратил внимания, кто автор пьесы. Помню, что там играли звезды Голливуда – Ава Гарднер, кажется, ещё Фонда и Элизабет Тэйлор. Теперь знаю, что за своё творчество Метерлинк был удостоен Нобелевской премии.
– Так ты сюда пришел, чтобы почувствовать дух этого места?
– Может быть, даже и так, – сказал я в задумчивости. – Я тебе говорил, что по вечерам продолжаю копаться в пыли отцовской библиотеки. Видно, и вправду, черт меня вчера дернул наткнуться на этого Метерлинка, точнее, на дешевое издание времен первой мировой войны с настолько дряхлым бумажным переплетом, что перевязанное бечевкой полное собрание его сочинений, служившее приложением к журналу «Нева», оказалось до сих пор с неразрезанными страницами. Правда, наконец-то пригодился тупой золоченый нож для резки бумаги, необходимость приобретения которого моим отцом для меня до вчерашней ночи было загадкой. Видно, за целое столетие так никто у нас в России и не удосужился перерезать веревку и, разрезав страницы, попробовать вникнуть в суть философии Метерлинка. Кое-что я, конечно, прочитал и пришел в некое отчаяние, что так долго живу и нахожусь все время в добросовестном заблуждении, полагая, что «Синяя птица» – это птица удачи, о которой до сих пор громко поет моя любимая группа «Машина времени». Выходит, по Метерлинку это вовсе не так, а синяя птица – это образ счастья всего человечества, и счастье это не эфемерное, а вполне конкретное, и заключается оно в познании тайн природы. Истина в его системе взглядов бесконечна и, разумеется, ею нельзя овладеть раз и навсегда. Если кто-то из людей на свое несчастье все-таки случайно поймает эту птицу, другими словами, познает все тайны природы, то человечество просто сгинет в тартарары. Ты понимаешь, для меня оказалось откровением, что, уже будучи Нобелевским лауреатом, Метерлинк написал продолжение своей «Синей птицы» и назвал его не «Синяя птица-2», а «Обручение». Этой ночью я прочел ее, откровенно говоря, ничего толком не понял, но разволновался не на шутку. Только это отнюдь не продолжение. Конечно, «Обручение» – это тоже пьеса о поисках счастья, только это скорее новый вариант той феерии. В «Синей птице» речь шла о счастье, которое заключается в познании. В «Обручении» же счастье состоит в любви и семье. Это же совсем другое дело. Разумеется, второй раз Нобелевскую премию ему за это не дали.
– Хватит подсмеиваться над величием гения, лучше скажи, тебе понравилось или нет?
– Ощущения неоднозначные! А разволновался я из-за наивности, а скорее и глупости автора.
– Ну, ты даешь! Смелое заявление. Не слишком ли вы критичны? Больно прямолинейно для историка!
– Не исключаю, что мне просто не удалось его понять, хотя сюжет довольно прост.
– А вот я не считаю, что сюжеты пьес Метерлинка так уж просты для восприятия. Сказочны, но отнюдь не просты, особенно эти две пьесы.
Ничего не ответив, я только снял солнечные очки, чтобы следить за мимикой моей приятельницы. Она расценила это как мою готовность слушать и радостно и торопливо защебетала, по-особенному грассируя, что я уже отметил при наших предыдущих встречах.
– Я тоже так понимаю, что синяя птица – это Человечество, которое ищет счастья. По Метерлинку действительно счастье – это познание Природы. По – моему, «Синяя птица» – это не совсем пьеса-сказка, это скорее философская система взглядов Метерлинка на природу и общество. Мне импонирует его идея о том, что синяя птица, как только её ловят и сажают в клетку, пусть даже золотую, меняет цвет, а иногда и вовсе перестает существовать!
– Надо же, какое четко сформированное мнение! Респект!
– Терпеть не могу твою улыбочку. Я, между прочим, писала свою первую курсовую в колледже именно о Метерлинке.
– Ах вот даже как! Тогда скажи, ты согласна, что у этого мистика и пессимиста в феерии «Обручение» очень узкое определение счастья. Оно для него в любви и семье. Но главное, он считает, что человек не волен сам выбирать себе спутницу жизни, это делают за него другие – многочисленные предки и даже ещё не родившиеся внуки и правнуки!
– Ну, это он утверждает в символической форме, поскольку считает, что поступки человека подчиняются законам природы, важнейшим из которых является закон наследственности. Люди ещё не познали до конца эти законы. Им только кажется, что они действуют в соответствии со своими собственными желаниями. На самом же деле они подчиняются множеству законов, которых просто не знают. Советую – прочти «Жизнь пчел», и ты, думаю, согласишься с его мнением, что человек обретает свое счастье только, если он следует по пути бессмертия своего рода, стоит лишь прислушаться к его голосу, который живет в каждом человеке, как душа.
– Ну хорошо, допустим, понимаю, но вот объясни, почему то, что человек видит перед глазами, ровно ничего не значит? Метерлинк утверждает, что миром правит невидимое. В мире видимого все невесты Тильтиля – вульгарные девицы, которые готовы выцарапать глаза друг другу. И это странное изречение – «Что безобразно – то не настоящее»? Так что же такое «Невидимое» – Бог или душа?
– И не Бог, и не Душа! – прошептала Клер, будто разговаривала сама с собой. Рычащие звуки проносящихся машин и вовсе заглушали ее голос, заставляя меня буквально наступать ей на пятки. Она повысила голос: – Невидимое – это непознанные человеком законы природы, и невидимыми они остаются до того времени, пока эти тайны не будут развеяны разумом человека. Часто то, что нам кажется тайной, всего-навсего лишь повторение уже пройденного, и мы открываем это заново.
– Все равно, это спорное суждение. Пожалуй, нужно ещё раз прочитать пьесу, – сказал я с сомнением, примечая по ходу, как смелела в своих суждениях эта юная француженка. Казалось, она перестала замечать меня и продолжала увлеченно рассуждать на тему своей курсовой.
– Пьесы Метерлинка до сих пор толкуются режиссерами в театральных постановках в трагическом ключе, оттого и спать хочется!
– А этот дворец, что у него за история? – уводя разговор в сторону, я развернулся спиной к своей собеседнице.
– Ты имеешь в виду «Орламонд»? – застыла на месте Клер.
– Ну, конечно.
– Тогда он назывался «Кастельмаре», то есть «Дворец на море». Метерлинк купил его у одного миллионера, который хотел сделать здесь казино покруче, чем в Монте-Карло, но у него не хватило денег. Писатель жил здесь до 1949 года.
– Представляю, как он был счастлив, гуляя по своему прекрасному парку.
– Не сомневаюсь. Известно, что он любил актрису, которая играла в местном театре. Её звали Жоржетта Леблан. Она даже приезжала в Москву в 1910 году, где во МХАТе ваш Станиславский ставил «Синюю птицу» – именно ему Метерлинк предоставил право первой постановки. Русский режиссер говорил, что эта сказка должна будить серьезные мысли у взрослых. Жоржетта смотрела пьесу в Москве с восхищением и плакала. А в 1911 году Метерлинк получил Нобелевскую премию, но деньги не сделали его счастливым. Вскоре по возвращении из России Жоржетта стала жить с одним актером из её театра по имени Роже, но в то же время не хотела уходить от ставшего всемирно известным Метерлинка и предложила стареющему драматургу… попробовать жить втроем! Метерлинка ее предложение возмутило, и он ушел. Вскоре, в 60-ти летнем возрасте он обвенчался с актрисой по имени Рене, которая была моложе его более чем на тридцать лет. Они жили на холме Бомет, на Пчелиной вилле. Это уже потом, когда он с молодой женой триумфально вернулся из Америки с мешком денег, он купил этот дворец за три с половиной миллиона франков, хотя в строительство прежний хозяин вложил тринадцать миллионов. Метерлинк и переименовал дворец в «Орламонд», отразив в названии необычность этого здания.
– Теперь понятно, откуда он черпал свое вдохновение для «Обручения»…
– И откуда же?
– Из своего «счастливого» жизненного опыта, – рассмеялся я.
– Не будь циником, – она хотела казаться строгой, но это ей явно не удавалось.
– Жаль, что ты меня не сразу раскусила, да?!
– Ты не крепкий орешек, чтобы задаваться целью раскусить. Важно понять.
– Понять что?
– Ну, например, почему ты иногда что-то скрываешь. Непонятны мотивы.
– Я? Скрываю? Что же?
– Ну, ты же пришел в «Орламонд» не потому, что там жил драматург!
– Тогда почему?
– Могу предположить, что пьеса «Обручение» тебя озадачила. В ней содержится ключ к пониманию подлинного человеческого счастья. Или это миф? Ты наверняка хотел почувствовать автора, ведь он именно здесь творил!
– Наверное, правильнее было бы сказать, что я не склонен откровенничать, я интроверт в чистом виде, нравится тебе это или нет.
– А девушка у тебя в России была?
– Причем тут девушка? Я говорю совершенно о другом.
– И всё же?!
– Была, конечно, я даже чуть не женился. Думал, что наконец нашел в женщине товарища. Но зачем тебе это?
– Не хочешь говорить, или боишься аналогий с Метерлинком?
– Слушай, честно, не хочется вспоминать! – я посмотрел на свою собеседницу, которая была в этот момент необыкновенно мила и приветлива. Мне почему-то стало её жалко, и я против своей воли произнес: – Впрочем, если хочешь, я расскажу.
Клер кивнула головой и улыбнулась.
– Мои родители очень хотели, чтобы я женился, как выражалась моя мама, на воспитанной девушке из хорошей семьи. Жаль, что Метерлинк не дает определения, что такое хорошая семья! Эта девушка должна была быть непременно достойной меня, и такая не без их содействия нашлась. Мне было всего двадцать четыре года, звезд с неба я не хватал, не подавал особых надежд в науках. Она же была красавицей и большой умницей. Её родители были вполне обеспеченные люди, ровня моим, что было немаловажно. У нас были прекрасные отношения, была близость, – я сделал паузу, – но… у нас не было душевной близости! Я совсем не знал, зачем я ей, если я сам себе не нужен?! Выходит, по Метерлинку – для продолжения рода! Может, действительно, он прав, и надо меньше задумываться?! Европа вымирает, Россия тоже. Почему мы не прислушались к Метерлинку? Его творчество признала Европа и Америка, ему присудили Нобелевскую премию. До сих пор все бегают за его Синей птицей счастья, а он пишет потом пьесу «Обручение» и говорит нам всем, чтобы мы прекратили эту бесконечную беготню, потому что счастье рядом, просто протяни руку и возьми. Но никто не следует его учению, никто в мире его пьесу уже не ставит, она пылится на полках, а в его доме, во Дворце «Орламонд» отдыхают люди, которые наверняка ничего не знают ни о самом писателе, ни о его пьесах, ни о философских суждениях.
– Ты не ответил – ты так и не женился?
– Я хотел. Точнее, хотел доставить удовольствие своим родителям, и не только им, поскольку бабушка тоже была обеими руками за это. Теперь я понимаю, что все у меня шло, как будто по задумкам самого Метерлинка. Выходит, я поступал, прислушиваясь к еще не до конца мною понятым законам Природы. А мое болезненное стремление к свободе – это всего-навсего химера, – так считал Метерлинк. Наверное, все бы так и получилось, но моих родителей в один момент не стало. Никто этого тогда, естественно, не мог предположить.
– А что произошло? Извини, если… – она поднесла ладонь к губам, и я заметил ужас на ее лице.
Я отвел глаза:
– Банальный несчастный случай. Мои родители в кои-то веки решили провести короткий отпуск вместе и не за границей. Коллега моей матери уговорил их поехать на охоту в Крым. Ехали на двух джипах. Друг мамы впереди, она за ним, сама была за рулем, старалась не отставать: любила скорость. Отец сидел в машине вместе с ней. Он не был любителем поездок на дальние расстояния, да и охоты тоже, он просто хотел сделать приятное маме. Под Курском с проселочной дороги им наперерез выехала ассенизаторская машина. Мать ударила свой джип правым боком о грузовик. Джип развернуло и выкинуло в овраг. Отец погиб сразу, мама тоже недолго мучилась. О родителях я сейчас говорить не хочу. Говорить же о моей девушке тоже нет смысла, свадьбу мы вынуждены были отменить. Ну, а потом, через год, уже ни я, ни она об этом так и не заговорили. Хватило ума. А голос рода, о котором печется Метерлинк, видно, меня не позвал.
– Часто вспоминаешь?
– Кого? Девушку?
– Родителей!
– Раньше до боли часто, а сейчас реже, прошло уже больше трех лет. Было даже страшно находиться дома. Там ко всему прикасались их руки, чудился запах и голос мамы…Может, я и уехал из Москвы поэтому.
– А возвращаться собираешься?
– Еще не решил, Все никак не удается получить ответы на вопросы, которые я так и не задал отцу, а заодно и разобраться в себе.
– По Метерлинку это значит научиться понимать самого себя, где «Я» – это мое прошлое, настоящее и будущее, – сказала Клер, наивно полагая, что я еще оставался в теме философских исканий бельгийского писателя.
Она все равно заметила слезу на моем лице, хотя я пытался ее скрыть, и почему-то заплакала сама.
– Ты-то чего?
– Не знаю, просто не хочу, чтобы люди умирали.
– Но мир так устроен.
– Все равно не хочу.
Я непроизвольно положил ей руку на плечо и ощутил, как она вздрогнула от неожиданности.
– А, может, он и прав, этот Метерлинк, когда говорил, что чтобы не ошибиться в выборе жены и стать действительно счастливым, нужно научиться прислушиваться к голосу рода.
Клер мило улыбнулась, не проронив ни слова и, приподняв плечо, прижалась щекой к моей ладони.
Дорога от Дворца «Орламонд» к Вильфраншу теперь шла всё время вниз, открывая редким пешеходам сказочно красивый вид на залив. Огромный шестипалубный белый круизный корабль, который только что встал на якорь, придавал пейзажу парадный вид. Мартин, дремавший от усталости всю дорогу у меня на руках, проснулся и нарочито яростно лизал пальцы моих рук, призывая, видимо, поскорее покинуть эту оживленную автостраду.
– Наверное, когда любуешься такой красотой каждый день, хочешь – не хочешь, а твоё сознание погружается в сказку. Иначе зачем бельгийцу было переезжать во Францию, – сказал я, желая прервать затянувшуюся паузу.
– Да, ведь Метерлинк был родом из Бельгии, и, безусловно, ему здесь нравилось. Между прочим, вон там, – она показала пальцем на север, в направлении Монт-Борона, – жил ваш русский композитор Стравинский. И он зачем-то перебрался сюда, тоже, наверное, искал вдохновения. Впрочем, бельгийцев тогда, в самом начале 20-го века, здесь было немало. Достаточно только вспомнить короля этого маленького государства Леопольда II, владевшего обширной территорией бельгийского Конго. На хлынувшие в его карман деньги из Африки он скупил здесь много земель и вилл для себя и своих верных офицеров. Здесь же завел шестнадцатилетнюю любовницу по имени Бланш Делакруа. Он сделал её баронессой, купил для неё по соседству шикарную виллу «Радиана» на Кап-Ферра, она же родила ему двух сыновей. Жил Леопольд вон там, вилла называлась «Кедры» и была окружена ботаническим садом. По вечерам Леопольд ходил с фонариком на соседнюю дачу играть с молоденькой Бланш в карты, по крайней мере, так считали его придворные. Поскольку у себя на родине Леопольд слыл высоким моралистом, своих дочек от нелюбимой жены он держал «в черном теле», не разрешая им общаться с молодыми мужчинами.
– А со старыми, такими же, как он, разрешал? – съязвил я.
– Кто же знает, но точно не был против общения с Метерлинком, который, как я уже говорила, был в своем творчестве строгим моралистом, да и по возрасту почти ровесником короля Леопольда.
– У нас в России говорят: «Седина в голову, бес в ребро»! Нет ничего удивительного, что на седьмом десятке эти два великих бельгийца завели себе здесь молоденьких француженок.
– Особенно если смотреть на твои слова через творческую призму моралиста Леопольда и Метерлинка! – довольная своей шуткой, она тихо хихикнула.
Наверное, я был не совсем прав, когда смотрел на эту молодую француженку уж слишком критически. Она оказалась действительно забавной и остроумной и, во всяком случае, сегодня меня не утомляли её наивные «почему», и я начал думать, что может, зря так воинственно воспринял приглашение её «папá». В конце концов, если я не питаю к ней нежных чувств, совсем не обязательно отказывать себе в удовольствии общаться с интересующимися историей людьми. Мой отец настойчиво советовал учить афоризмы Оскара Уайльда, особенно те, что касались людей противоположного мне пола. Не накрашенные женщины тоже, как считал популярный писатель, бывают полезны, особенно, если хочешь приобрести репутацию респектабельного человека, «достаточно только подцепить такую на ужин». Чушь, конечно, но в его цинизме присутствует знание жизни.
Мы были уже совсем рядом с отелем «Welcome», где я припарковал свой автомобиль. Оставалось только преодолеть коротенький бульвар русской императрицы Александры Федоровны, который располагался рядом с цитаделью. Слева на бульварном развороте уже сверкали на солнце бронзовые бюсты братьев Орловых и Ушакова.
– Вот они, – воскликнула Клер, перехватив мой взгляд.
– Да, справа и по центру братья Орловы, а слева бюст Ушакова.
– Я забыла, кто из них был фаворитом вашей императрицы Екатерины Великой?
– Первым был Григорий Орлов, брат этих двух красавцев, что справа.
– Странно, почему если тот Григорий Орлов, как я понимаю, был виновником воцарения Екатерины, памятник поставили его братьям!
– Всё-то ты знаешь! На самом деле, кто был главным виновником воцарения Екатерины II, ни тогда, в XVIII веке, ни сейчас так никто и не разобрался, все только переругались. Граф Никита Панин утверждал, что лишь благодаря ему. Ее секретарь Иван Бецкой на коленях умолял императрицу объявить принародно, что инициатором был именно он. Княгиня Дашкова считала, что она, поскольку, в частности, получила больше всех денег от Екатерины – около четверти миллиона рублей. Братья Орловы не без оснований полагали, что исключительно благодаря им, и, похоже, сама Екатерина была с ними согласна.
– А сколько получил Григорий?
– Кажется, три тысячи.
– И всё? – она подняла свои выразительные глаза, полные искреннего удивления.
– Поверхностно ты нашу историю знаешь, скажу я тебе.
– Ну, почему же? Хоть мой профиль психология, мировая история всегда была моим коньком. Отец приучил меня любить первоисточники. У нас в доме богатая библиотека, уж не хуже вашей. Ну ладно, так почему же именно здесь появились эти памятники?
– Если бы я сам знал! Но … предположения есть.
– Я-то думала, что этот Григорий, подаривший Екатерине огромный бриллиант чистейшей воды, который позднее был вставлен в её скипетр, и был главным, кто и царя вашего Петра убил, и Екатерину на престол возвел. Выходит, я ошибалась?
– Не всё так просто. Петр III был тогда абсолютно уверен, что его никто не может убить, он свободно расхаживал по Петербургу и окрестностям практически без охраны. И хотя отец его был немцем, мать-то была дочерью Петра Первого, и этим тогда всё было сказано. Но, как оказалось, он сам себя приговорил к гибели!
– То есть?!
– Помнишь, я тебе рассказывал про римских императоров?
– Ну…
– Так вот, в Древнем Риме все перевороты и планы, связанные с ними, начинались с недовольства преторианской гвардии. Император Петр III тоже очень неосмотрительно поступил со своей гвардией, которая, подобно преторианской, квартировалась в русской столице. Чем он обидел гвардейцев? Да тем, что захотел отправить их на войну! В России, как и Древнем Риме, гвардия, за редчайшим исключением, не воевала. Как и в Риме, гвардейцы были довольны почетной и совсем неопасной службой в столице, имели превосходство в чинах над простыми военными, занимались муштрой, парадами и маршами. В свободное время свои деньги проматывали в кабаках, пили вино, любили женщин. Естественно, месить сапогами грязь и подставлять грудь под пули гвардейцы не желали. Братья Орловы, которых было пятеро, как и большинство гвардейцев, были бедны как церковные мыши, поскольку все средства проматывали в злачных местах. Все пятеро братьев были огромного роста и обладали богатырской силой, постоянно принимали участие в кулачных боях. То есть, ты представляешь, что гвардию составляли преимущественно дюжие молодцы, но Орловы были здоровее всех. Григорий, которому повезло больше всех, дослужился до адъютанта генерала Петра Шувалова. Ему даже доверяли носить записки пятидесятилетнего генерала к его молодой любовнице, княгине Елене Куракиной. Красавица имела легкомысленный нрав, вот и стала легкой добычей богатыря и храбреца Григория Орлова, героя Семилетней войны. Шувалов узнал об измене и выгнал Григория, пообещав сослать его в Сибирь, и сослал бы, если бы не умер от огорчения. Дело приобрело огласку, что привлекло к Орлову внимание молодой, тогда ещё Великой княгини Екатерины. Она быстренько от него забеременела и разродилась сыном. Вот таким храбрецом был Григорий Орлов. Короче, когда Петр III выразил намерение отправить гвардейцев на войну, участь его была решена. Братья Орловы, храбрые до безрассудства, сразу смекнули, что пора убирать императора и воцарять императрицу. На их сторону, разумеется, встала вся гвардия, где они имели огромный авторитет. К заговору потом присоединились и более именитые российские дворяне, такие, как Разумовский, братья Панины, Воронцов, Дашкова и другие. И как и в Древнем Риме, гвардейцы могли решить всё, лишь бы у императрицы были большие деньги. А с этим-то у нее как раз была проблема! Сначала она обратилась к французскому послу барону Бретейлю, но тот в сути вопроса не разобрался, намеков Екатерины не понял и …отказал. Потом, правда, кусал себе локти, когда получал из Парижа письма с «благодарностью» за редкостный идиотизм. Денег дал английский негоциант Фельтон. Его сто тысяч рублей были переданы Екатериной Орловым, которые произвели авансовый платеж гвардейцам в качестве безвозвратных ссуд. Центром заговора стал дом датского банкира Кнутсена, у которого квартировал Григорий. Разумеется, датчанин был здесь не при чем, он просто понимал, что тоже получит назад свои деньги только в случае возвышения Орлова. Вот, собственно, и всё.
– Разве всё? А убийство императора Петра III? Я, между прочим, читала Рюльера в подлиннике, так он уверяет, что императора задушил «Орлов со шрамом».
– То, что тебе знакома работа этого французского историка, похвально. Действительно, Рюльер братьев Орловых по именам не знал и называл Алексея «Орловым со знаком на лице». Он упоминает четырех человек, которые присутствовали на обеде и пили водку. Причем трое убийц, чтобы заглушить крики Петра, стянули салфеткой шею императора, а Орлов якобы давил на грудь коленями и тем самым перекрыл дыхание. Те трое, которых Рюльер упоминает, были некто Теплов, младший князь Барятинский и никому не известный 17-летний Потемкин. Но насколько мы можем верить Рюльеру? Ты помнишь, как называется его книга?
– Конечно. «Histoire ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1762».
– Совершенно верно. Сам Рюльер в 1762 году был секретарем того самого г-на Бретейля, посла Франции в России, и названием книги намекает, что исторические факты порой бывают анекдотичными. Если доверять «Энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона», эта книга не имела никакого успеха, поскольку представляла собой памфлет, переполненный анекдотами и ошибками. Однако у Брикнера в его «Истории Екатерины II» мы узнаем, что в 1768 году Дидро сообщил своему другу Фальконе (тому самому, что поставил знаменитый памятник Петру Первому и строил Исаакиевский Собор) в письме, посланном из Парижа в Петербург, что некто Рюльер написал историю государственного переворота в России. Видимо, Дидро ознакомился с содержанием книги в рукописи и предупредил друга, что в ней содержатся некоторые нелицеприятные факты, касающиеся императрицы, которые могут ей не понравиться. Разумеется, Фальконе сообщил ей об этом послании. Через русское посольство в Париже были предприняты срочные меры, чтобы предотвратить издание книги, и рукопись была просто-напросто выкуплена. И вот тут возникает большой вопрос: какая цель стояла перед автором – установить историческую истину или просто продать скандальную рукопись через Дидро, который хорошо знал императрицу и поимел от неё много денег для себя и своих друзей. Не только Рюльер, но и энциклопедист барон Гримм тоже вертелся возле Екатерины. Он, кстати, возможно вместе с Дидро посещал Россию. Гримм был в переписке с императрицей, и по поводу книги Рюльера писал, что она не только не вредна, но и полезна. Ответ Екатерины потрясает цинизмом: «Если бы он, Пётр, вел себя благоразумнее, с ним бы ничего не случилось».
– Вот! – неожиданно громко сказала Клер, прервав мои рассуждения. – Вот именно поведение! Знаешь ли, это краеугольный камень ее рассуждений о счастье. Ее дедуктивное умозаключение, или, как она сама выразилась, ее «силлогизм», на этом и строится.
– Какой силлогизм? О чем ты говоришь? – возмутился я. – Говори яснее, пожалуйста.
– Куда уж яснее. Ты что, не читал «Записки» Екатерины?
– Читал, и что из этого?
– А помнишь, с каких слов она начинает свои «Записки»?
– Я не могу все помнить, иначе просто когда-нибудь превращусь в идиота.
– Верно говоришь, тогда я тебе напомню.
– Ты-то откуда все знаешь?
– Я же уже говорила, что писала курсовую в колледже о Метерлинке и его философской теории. Мне нужны были примеры женской логики в том, что касается представления о счастье. Отец посоветовал почитать «Записки», написанные, кстати, по-французски. Удивительно, что она написала их не на своем немецком или русском, что было бы логично.
– Ну-ну, и что же? – торопил я Клер, чтобы она не растекалась мыслью по древу.
– Так вот, первыми ее словами были: «Счастье не так слепо, как его себе представляют». Она считала, что счастье является следствием качества характера и личного поведения. Чтобы это было, как выражается Екатерина, «осязательным», она сама выстроила свой силлогизм, где характер – это главный посыл, а поведение – меньший. Заключением же является ее счастье и несчастье ее мужа – Петра III. Два примера, отличных друг от друга только поведением.
– Я призадумался, озадаченный этим дедуктивным умозаключением Екатерины, памятуя слова Шерлока Холмса о то, что «дедукция и женщина не совместимы».
– Так что ты говорил о книге Рюльера? Она была опубликована?
– Книга Рюльера все-таки вышла в 1797 году, – сказал я, – но к тому времени не было в живых ни самого автора, ни Екатерины. Важно и то, что Александр Иванович Тургенев – серьезный русский исследователь и любитель истории, более всех верил Рюльеру…
– Да, интересно, – задумчиво произнесла Клер, смотря на бюсты и как будто обращаясь к ним. – Так, возвращаясь к памятнику – Рюльер пишет об «Орлове со шрамом», а здесь ни у кого из братьев шрама не видно!
– Правильно заметила. И всё же, Алексей Орлов имел большой шрам на левой щеке, но, разумеется, ни на одной картине, медальоне или миниатюре шрам никто не изображал. Даже наш прославленный скульптор Федот Шубин, и тот тоже изобразил красавца Алексея Орлова без шрама, хотя и хорошо знал его лично. А, собственно, кто сказал, что Петра III убили? Ваш господин Рюльер? Хотя он не одинок, – ответил я себе. – Есть ещё два десятка французских, английских и немецких дипломатов и писателей которые утверждали, что Петра III убили. Они, что, присутствовали при убийстве или имели некие свидетельские показания очевидцев?
– Но все эти авторы почему-то с уверенностью утверждают, что император умер именно насильственной смертью, различия у них только в деталях. Большинство, как мне, кажется, считают, что Петра III задушил именно Орлов со шрамом, – она улыбнулась и провела указательным пальцем левой руки по щеке.
– Не надо показывать на себе, – почему-то сказал я и засмеялся, вспомнив свою бабушку, привыкшую жить в шорах языческих суеверий.
– Почему? – спросила Клер, удивленно подняв левую бровь.
– Примета у нас есть такая. Ладно, забыли. Я согласен с тобой: не исключено и вполне вероятно, что Петр III умер насильственной смертью. Но! Существует официальный манифест, согласно которому 6 июля 1762 года император умер от «припадка геморроидальных колик и апоплексического удара». Другими словами, от воспаления кишечника, на который наложился апоплексический удар. Екатерина в письме к одному из своих первых любовников, поляку Понятовскому сообщала, что у Петра, после отречения от власти от страха три дня был понос, а на четвертый он запил. Более того, Екатерина распорядилась о вскрытии – она опасалась, что он был отравлен, однако признаков этого не обнаружилось. Чтобы не было инсинуаций, тело покойного выставили на три дня для всеобщего обозрения. Причем всех граждан, изъявивших желание лично лицезреть покойного императора, конечно, переписали, дипломатический же корпус просто не пустили – решили, что будет достаточно и официальных писем с уведомлением о причинах смерти. Итак, русский народ увидел тело Петра и убедился, что император действительно мертв – а то ведь сразу могли выискаться самозванцы типа Лжедмитрия. Простой люд поверил своей матушке-царице и лишний раз убедился, что неисповедимы пути Господни. По большому счету, смерть Петра III Россию избавила от неминуемой беды. Разумеется, были в народе наблюдательные и недоверчивые люди, отметившие, что лицо Петра было черным, как у человека, умершего от апоплексического удара. Руки покойного, одетые в большие перчатки с отворотами, были сложены крестом на груди, а шея укутана широкой повязкой. Это реальные факты. Дальше же начинаются слухи заинтересованных противников процветания России. Почему противников? Потому что все первые лица России, начиная с Екатерины II, а затем Павел, Александр, Николай и т. д., полагали, что всё, что бросало малейшую тень на династию Романовых или отдельных её представителей, подлежало безусловному забвению. Поэтому-то наша русская история полна слухов, и даже великие русские историки – Карамзин, Соловьев, Ключевский, Брикнер, Костомаров и другие, каждый по разным причинам, обошли эту тему. Одним из первых русских, кто хотел докопаться до истины, был Александр Иванович Тургенев.
Тут Клер недоуменно посмотрела на меня, услышав уже произнесенную мной фамилию.
– Нет-нет, это, конечно не тот Тургенев. Того, о котором ты подумала, звали Иван Сергеевич, а этот долго жил в Европе, всюду выискивая и скупая на свои деньги первоисточники из архивов дипломатов Франции и Англии. Тургенев написал любопытную книгу под названием «Российский двор в XVIII веке», но книга была издана в Париже только на французском языке – император российский Александр II в 1858 году полагал, что предложенные материалы мало того, что оскорбительны для России, но и не имеют исторической важности. Интересно, что книгу Тургенева в России издали только сейчас, в XXI веке. Ты спросишь, почему я о ней вспомнил? Тургенев, ссылаясь на французские и английские источники, пишет, что каждый, кто пришел в церковь лицезреть покойного Петра, видел почерневшее лицо и вывернутую шею императора – несомненно, признаки преступления, которое так тщательно пытались скрыть. Куда подевалась широкая повязка? История умалчивает, но ни для кого не было секретом, что черное лицо бывает у задушенных. В доказательство Тургенев приобрел письмо французского поверенного в делах в Вене, который весной 1771 года, то есть через девять лет после смерти Петра, писал, как Алексей Орлов сам не раз вспоминал об ужасной кончине императора, не скрывая при этом, что именно ему поручили удавить государя, и даже признаваясь, что его преследовали муки совести.
– Так кто же всё-таки убил Петра III? – Клер начинала терять терпение.
– Слухов и догадок масса, как ты можешь понять, и все, наверное, имеют право на существование, да и одних романов столько понаписано!
– Наверное, есть и свидетельства очевидцев?
– Есть, конечно! Вот например, 6 июля 1762 года во дворце Ропши под Петербургом, где временно жил император, в день смерти Петра были замечены командир эскорта Алексей Орлов и младший офицер по фамилии Теплов. Когда же они покинули дворец, Петр III был уже мертв. Француз Беранже, основываясь на свидетельстве камердинера, который всё время находился при императоре, утверждает, что сначала Петра пытались отравить ядом, который сразу не подействовал, и только потом удавили.
От своих слов я невольно рассмеялся.
– Ты чего, – удивилась Клер. – Смешного-то ничего нет.
– Просто вспомнил обстоятельства гибели Коммода. Сколько же в мировой истории совпадений! Так вот, впоследствии стало известно, что в Ропше присутствовала не только эта троица. Вообще, там собралась прелюбопытная компания. В момент тех трагических событий были гвардейцы, габаритами не уступающие Алексею Орлову – Александр Шванвич и семнадцатилетний Потемкин. Теплов не был гвардейцем – в историю он вошел как глава Академии наук. За столом, когда пили и играли в карты, присутствовали ещё известный в России актер, создатель первого русского театра Федор Волков и князь Барятинский. Получается, очевидцами насильственной смерти могли быть по крайней мере семь человек, и никто ни разу не рассказал в деталях, что же всё-таки произошло там на самом деле!
– Не удивительно! Безусловно, боялись! Немцы говорят: «Что знает двое, знает и свинья».
– Не все так однозначно, хотя… Опять же, это всего лишь полунамеки и слухи.
– Что именно?
– Вот смотри, граф Воронцов как-то спросил князя Федора Барятинского напрямую: «Как ты мог совершить такое дело?» На что Барятинский пожал плечами и невозмутимо ответил: «Что поделаешь, милый, у меня накопилось много долгов»!
– Ужасный цинизм, – сказала Клер и, помолчав, добавила, – да, темная история.
– И это не все, существует ещё идея случайной гибели императора.
Произнеся это, я засомневался, стоит ли грузить мою собеседницу этим валом фактов, но, встретив ее заинтересованный взгляд, продолжил:
– Она основывается на письме Алексея Орлова императрице, которое было написано в Ропше сразу после смерти Петра. Текст письма известен и опубликован во многих современных изданиях. Смысл же его весьма прост – никто и не думал убивать государя, так… роковое стечение обстоятельств – играли в карты, пили… Петр III заспорил с князем Барятинским. Не успели разнять, как императора не стало. Хотя существует мнение современного российского исследователя Льва Полушкина, наверное, не без оснований полагающего, что письма Алексея к Екатерине в природе не существовало, а было «копировано» графом Федором Ростопчиным с целью обелить Екатерину, и при благодарном покровительстве Павла этим сделавшим себе блестящую карьеру.
– Да, много версий! Хотелось бы знать, какая подлинная!
– Существует книга Гина Кауса, где утверждается, что к 6 часам вечера 6 июля Екатерина II получила письмо. Гонец вручил его в присутствии Разумовского и Панина. Письмо было написано неуклюжей рукой подвыпившего солдата на грязном листке серой бумаги. Автор книги в подлинности письма не сомневается, хотя сам его не видел. Якобы, утверждает он, императрица, прочитав послание, тут же спрятала это свидетельство убийства в свою особо секретную шкатулку. После смерти Екатерины её сын, император Павел, вскрыл шкатулку и среди прочих бумаг нашел этот документ. Прочитав его, он воскликнул: «Слава богу, наконец-то развеяны все мои сомнения: мать не была убийцей моего отца»! Павел прочел письмо своим сыновьям и приближенному графу Ростопчину, после чего уничтожил оригинал. Ростопчин же успел сделать копию, о чем написала в своей книге княгиня Дашкова. После смерти Ростопчина в 1828 году среди бумаг графа как будто нашли записку, где он подтверждает воспоминания Дашковой. Но где эта записка сейчас, никому не известно. Современные историки в своих работах ссылаются на архив князя Воронцова, где она якобы хранится. Так что это: факт или легенда?
– Выходит, что Петра III все-таки не Орлов, а Барятинский убил!..
– Ну ты видишь, сколько мнений, кто знает, какое верное? Все-таки большинство писателей и исследователей полагают, что Петра удушил именно Орлов обычным офицерским шарфом. Якобы во время драки Петр так громко орал, что ему пришлось заткнуть рот. По другой версии Петра удушил ружейным ремнем Шванвич по приказу Теплова. Мне кажется, всё это довольно неубедительно, если принять во внимание, что Петр был хилого телосложения, играл в солдатиков и всё, что прочил оставить себе в собственность после подписания формального отречения, так это собаку мопса, слугу-негра по имени Нарцисс, скрипку и любовницу. Как писала сама Екатерина, три желания она разрешила, а четвертое нет. Когда душили Петра, в комнате было по крайней мере три гренадера – Орлов, Шванвич и Потемкин, молодцы двухметрового роста, весом более восьми пудов каждый. Если предположить, что такая масса наваливается на Петра, то и душить не надо, они просто раздавят. Прости, Клер, у тебя, кстати, какой вес? – спросил я мимоходом, при этом придирчиво окинув ее взглядом портного.
– Шестьдесят четыре, а может и меньше. А что? – смиренно произнесла Клер, опустив глаза.
Я присвистнул.
– А что? – еще раз спросила Клер.
– Вот именно – шестьдесят четыре. Столько и весил Петр III тогда. Теперь представь, что на тебя легла эта троица общим весом в триста пятьдесят килограммов.
– И что?
– Представила? – я настойчиво требовал внятного ответа, глядя на бледнеющее лицо девушки.
Она кивнула головой.
– Это я так спросил, для непорочной чистоты ментального эксперимента, – успокоил я француженку.
– Ты дурак!
– Может быть, – сразу согласился я. – «Дурака не вылечишь», – часто говорила мне моя мама. Только вот история, как наука, требует от нас не только знания, но и осмысленных навыков. Собственно на чем мы остановились? – обратился я к Клер. – Да-да, вспомнил я, не дожидаясь ее подсказки. – Известный и авторитетный русский писатель Валентин Пикуль в одном из своих рассказов прямо утверждал, что Алексей Орлов просто заколол Петра вилкой, а Екатерина ему за это выдала в награду 800 душ крепостных, присвоила титул графа и чин генерала. Если версию Пикуля принять за правду, тогда становится понятно, почему первый русский любовник Екатерины, князь Григорий Орлов, умирая в возрасте 49-ти лет от умопомешательства, со слов врачей и лакеев видел окровавленный призрак Петра III и повторял: «Это мне в наказание!», имея в виду смерть своей молодой жены. В припадке безумия он мазал лицо собственными фекалиями и кричал, что по его личному поручению брат Алексей убил Петра.
– Кажется, ты еще упоминал, что Екатерина II родила сына от Григория Орлова.
– Да, это установленный факт, который сейчас никто не оспаривает. Сына звали Алексей Бобринский. Между прочим, император Павел, после смерти матери, в сенате во всеуслышание провозгласил Бобринского своим братом и пожаловал ему графский титул.
– С ума сойти! И чем этот Бобринский занимался?
– Да ничем, просто жил, жил красиво, в том числе и в Париже. Умудрился за короткий период жизни во Франции, ещё при здравствующей Екатерине, наделать долгов чуть ли не на миллион рублей, а по тому времени это были колоссальные деньги, но потом его быстренько вернули в Россию по приказу матушки. В общем, для славы России Бобринский не сделал ничего.
– Честно говоря, в голове не укладывается, как можно родить от другого мужчины ребенка, да так, чтобы об этом не узнал твой законный муж, с которым ты ежедневно общаешься?!
– Сейчас действительно трудно это представить, а раньше было возможно благодаря фижмам – таким огромным колоколообразным юбкам на каркасе из китового уса. К тому же Екатерина тогда носила траур по Елизавете. Таким образом, беременность можно было скрывать до самого позднего срока. Проблема, однако, усугублялась тем, что к моменту родов Петр III уже был императором, а Екатерина, соответственно, императрицей, и главной задачей тогда было выманить Петра из дворца на время родов и не допустить, чтобы он случайно зашел, поскольку имел право заходить, куда заблагорассудится. Камердинер Екатерины Василий Шкурин, зная патологическую страсть императора к пожарам, к моменту родов поджег свой дом и тем отвлек внимание царя. За такую верную службу Шкурину было пожаловано более тысячи крепостных.
– Меня как француженку, не удивляет факт фаворитизма, поскольку в XVIII веке в Европе это было повсеместно. Однако же, фавориты Екатерины, как я слышала, были особым явлением. Она ведь даже с конем пробовала заняться сексом?
– Фильм был такой снят, – улыбнулся я. – Мне кажется, ты понимаешь, что это был плод чьей-то больной фантазии, основанный на слухах, которые распространяли польские солдаты. Впрочем, нелюбовь у Екатерины с поляками была обоюдной, и она не делала из этого секрета – царица даже стульчак себе велела изготовить из польского трона, да вот только на нем и преставилась. Нимфоманкой Екатерина не была, хотя за адюльтеры её в России осуждали многие и, я считаю, напрасно. Её привезли в Россию в возрасте пятнадцати лет и отдали нелюбимой, за нелюбимого Петра Федоровича, который кроме умственной неразвитости страдал и физической. В частности, Петр страдал фимозом, то есть сужением крайней плоти. Ему сделали операцию обрезания, но более пяти лет совместной жизни Екатерина оставалась девственницей. Да и как она могла расстаться с девственностью, если Петр в спальне Ораниенбаумского дворца учил жену не любви, а навыкам оружейного дела?! Вот и родила Екатерина сына от Петра только на девятом году совместной жизни. Правда, почувствовав себя в полной мере мужчиной, он полюбил женщину по имени Елизавета Воронцова и стал с ней жить. Екатерина звала Воронцову не фавориткой, а любовницей, и всячески унижала её, даже угрожала её смертью. Однако поразительно, что после смерти Петра III Екатерина ни словом не упрекнула Воронцову, даже выдала ее замуж и стала крестной матерью её первенца.
– А как ты считаешь, Григория Орлова Екатерина любила?
– Да и даже очень. Это подтверждали все – и дипломаты, и друзья, и недруги. Любил ли он её? Бесспорно. Однако это совсем не значило, что он хранил ей верность все десять лет их общения. Наоборот, он старался иметь всех придворных женщин, которые ему нравились. Он ведь, как был гвардейским поручиком, так им и оставался до конца жизни, какие бы посты ни занимал. При Екатерине он стал безумно богат, ему были пожалованы десятки тысяч крепостных, дворцы, в том числе и в Ропше, где убили Петра, десять тысяч рублей карманных в месяц, а вокруг – столько корыстных и похотливо смотрящих на него женщин. Он ведь был здоровым и красивым, любил вино, балы и бриллианты. Жениться он на Екатерине мечтал, но ей было не велено. Ну, какая она Орлова, – успокаивала сама себя Екатерина и смотрела на многие его поступки снисходительно. В 1765 году один французский дипломат Беранже, этот вездесущий настырный разведчик, шифрованным письмом сообщал в Париж, что русский Орлов «нарушает законы любви» по отношению к императрице. Его поражало, что Екатерина, зная о любовных похождениях Григория, тем не менее, покровительствовала тем дамам, которых он ублажал. Беранже также сообщал, что сенатор Муравьев застал свою жену с Орловым и потребовал развода, но Екатерина успокоила разгневанного мужа и даровала ему земли в Лифляндии. Вот так тогда было! Но вот правда когда Гришка в 1772 году изнасиловал свою тринадцатилетнюю двоюродную сестру Катерину Зиновьеву, а потом со спокойной душой уехал на переговоры, тут уже императрица не выдержала и назло Гришке завела себе нового фаворита, хотя этот новый прежнему в подметки не годился. Короче, Григорий был отлучен, но его честно отблагодарили за достойную службу, сделали дорогие подарки и даровали княжеское звание. Через пять лет Григорий женился на той самой Кате Зиновьевой, но она вскоре умерла, и он, как говорили, тронулся рассудком.
– Интересно, а от Петра у Екатерины был ребенок?
– Ты что, забыла? Я же говорил про их сына Павла. Он был довольно похож на Петра III – такой же на редкость некрасивый. Хотя, когда после смерти матери Павел вскрыл довольно толстый конверт, где хранились мемуары Екатерины, названные «Записками», написанные действительно на французском, он сразу усомнился, что его отцом был именно Петр III. Он спрятал находку, но допустил ошибку – доверил прочесть их своему другу детства, князю Александру Куракину, который сделал несколько копий. Впоследствии они стали гулять в узком кругу. Внуки Екатерины считали, что она этой книгой опозорила род. Например, Николай Первый даже попытался конфисковать все списки мемуаров. И всё же, один, принадлежавший Тургеневу, попал за границу, и Герцен, издававший в Лондоне запрещенный в России журнал «Колокол», опубликовал в нем пресловутые «Записки». Напечатаны они были на четырех языках, сначала отрывки, а потом и полностью. Российским дипломатам было приказано скупать и уничтожать «Записки» по всей Европе, но Герцен допечатывал новые. Любопытно, что Александр II «Записки» прочел с увлечением, но своим подданным читать запретил, и его сын Александр III был того же мнения. Только после революционного 1905 года документ был издан в России, и в это же время цензоры сняли запрет на упоминание в печати, что Петр III погиб не своей смертью.
– Постой, – перебила меня Клер. – Как интересно получается, и Герцен, и Александр II, и Александр III не только бывали в Ницце, но и жили здесь подолгу. Сам Герцен тут похоронен. Оба царя Александра пережили здесь и счастливые, и горестные моменты. В общем, Ницца оставила в русской истории глубокий след.
– Кто же спорит, – сказал я.
– Скажи, а что, император Павел сам не хотел знать, кто же все-таки убил его отца? Хотя бы получив всю полноту власти после того, как умерла его мать?
– Хотел, но вопрос этот был достаточно щекотлив, ведь записка Орлова говорила за то, что все, кто присутствовал, были виновны. Обвинить одного – это куда ни шло, но наказать всех было бы слишком. Павел был неглуп, и он придумал, как без широкой огласки попробовать отомстить виновным, заставив их воздать должное памяти отца. На следующий же день после смерти матери Павел велел выкопать останки Петра III. Труп, вырытый через тридцать четыре года после смерти в Александро-Невской лавре, с трудом опознали только по сапогам, затем провезли по столице в торжественной процессии в царскую усыпальницу. Распоряжением Павла всех участников переворота и заговора 1762 года заставили идти в процессии, а Алексея Орлова, уже престарелого, принудили её возглавлять и нести императорскую корону, похищенную, как считал Павел, у убитого императора. Скелет Петра даже посадили на мгновение на трон как символ законной преемственности императорской власти. Алексей Орлов тогда маялся больными ногами, но Павел настоял на его непременном участии. Орлов и здесь справился, был невозмутим, прошел весь путь и продежурил у тела Петра III. Потом, правда, был вынужден уехать на лечение в Германию, разумеется, с разрешения Павла.
– А чем Орлов болел? Ты сказал, что он был уже в преклонном возрасте, и, наверное, у него был какой-нибудь ревматизм?
– Нет, никакого старческого ревматизма. Ты, сама того не ведая, уподобилась нашему известному писателю Эдварду Радзинскому, который, похоже, не конца разобрался в его образе. Орлов прожил до 73 лет, и до самых последних дней сумел сохранить недюжинную физическую силу. Однако когда он был ещё довольно молодым, болел постоянно. Во время приступов желчекаменной болезни он порой не мог и шагу сделать: ноги отказывались его слушаться. Сразу после похорон императрицы и перезахоронения Петра III Павел выдал Орлову разрешение на выезд за границу для лечения. Орлов, ясное дело, не мог вернуться в Россию и так и прожил в Германии более четырех лет, пока самого Павла не убили во время переворота 1801 года. Но на этот раз к этому громкому убийству Орловы не имели никакого отношения.
Время было обеденное. В маленьком уютном ресторанчике у портовой набережной я заказал себе рыбное ассорти и кружку холодного пива. Моя же спутница неохотно дала согласие лишь на «Салад Нисуаз». Мартин наслаждался отварными креветками. После долгой прогулки и затянувшегося разговора хотелось просто помолчать. Клер больше не провоцировала меня на разговоры и молча сражалась с крупными маслянистыми листьями салата. Время от времени её губы трогала еле заметная улыбка, но она не проронила ни слова. Видимо, ей нравилось, как мы красноречиво молчали, или, скорее, даже пробовали молча общаться. Мартин, глядя на нас, впервые, тихо поскуливая, проявлял откровенное понимание. В ресторане было малолюдно, и малоприятный внешне официант откровенно скучал. Погода разгулялась, и солнечные лучи, подпрыгивая на легких волнах в заливе, расписывали радужный потолок ресторана в сюрреалистической манере совсем без помощи бывшего здешнего завсегдатая Кокто. Время, отведенное на ланч, подходило к концу, и старинные портовые переулки окончательно обезлюдели. Холодное пиво было как никогда кстати и располагало к безмолвному философскому созерцанию. Я попросил официанта принести ещё одну кружку. В пивном бокале тонкого прозрачного стекла заиграло солнце, отраженное от прикрепленной к стене латунной таблички с мемориальной надписью на английском. Дама средних лет в эффектной плиссированной юбке, что сидела за соседним столиком, прекратила рыться в сумочке и сменила позу. Положив ногу на ногу, она оголила загорелое колено, покачивая остроносым сапогом. Мадам пригубила бокал с красным вином и, оставив на стекле жирный след от коралловой помады, широко улыбнулась в никуда. Я остановил свой взгляд на тонких холёных пальцах незнакомки, на её блестящих длинных ногтях. Моя притихшая спутница проследила за моим взглядом и увидела, как седовласый джентльмен с рыжими волосатыми руками подошел к даме и нежно поцеловал её в щёку. Они заговорили по-английски.
– Англичане, – заключила Клер.
– А может, американцы, – предположил я.
– Нет, точно англичане, у американцев другой стиль одежды.
Я кивнул головой в знак согласия, а Клер, отодвинув тарелку в сторону, подала едва уловимый знак о готовности продолжать разговор. Последовал её очередной вопрос.
– Ну, вот, оказывается, Орлов со шрамом постоянно болел, будучи еще совсем молодым, да? – она сделала паузу и посмотрела на мою сонную физиономию. – Ладно, мы с Мартином, пожалуй, пойдем, прогуляемся.
– Ну а я, в таком случае, – сказал я, прикрывая рот ладонью и давясь зевотой, – просто посижу и погреюсь на солнышке.
Разморенный едой и выпитым пивом, я с облегчением посмотрел вслед удаляющейся девушке. Меня нестерпимо клонило в сон. Прикрыв веки, я подумал: «Поди, и вправду, люто маялся тогда Орлов воспалением своего нутра, да чем конкретно, не ведал. Впрочем, чем бы ни хворал на Руси мужик в ХVIII веке, а поставить больному верный диагноз для нашего лекаря всегда было делом мудреным…»
Глава 2
Алексей Орлов. Работа Ф. Шубина
Ранняя весна 1768 года, г. Санкт-Петербург.
…Как только ни изгалялись за глаза при дворе Екатерины недруги графа Алексея Григорьевича Орлова – кто называл его «Меченый», кто «Рубленый», кто «Орлов со шрамом», а чаще всего – «Баляфрэ», на французский манер. В гвардии же его звали не иначе как Алеханом.
Алехан проснулся у себя в ещё недостроенном особняке, что стоял в сером камне на набережной Невы, проснулся рано и с большим трудом. Не дожидаясь своих вечно шебутных слуг, поднялся с постели. Босиком, медленно и кряхтя, он почти в потемках подошел вплотную к большому зеркалу в бронзовой раме. Его горячее дыхание, прерывистое и тревожное, оставляло на холодном стекле причудливые разводы. Алексей Григорьевич потянулся, выпрямив спину до хруста, но острая боль вновь пронзила его богатырское тело. Пожелтевшее лицо исказилось гримасой отчаяния, недостойной доблестного офицера Преображенского полка. Грубый шрам на левой щеке, полученный много лет назад в пьяной драке, давно не смущал молодого генерала, могло быть и хуже. Алехан поднес к лицу потные ладони и заметил, как пальцы обеих рук дрожат в лихорадке. «Да, – горько вздохнув, подумал он, – неужто и впрямь время пришло мне в сыру землю ложиться? Ещё совсем недавно я этими пальцами серебряные тарелки как листочки бумажные в трубочки складывал на утеху дамам, подковы зараз по паре гнул… А не я ли, чтоб потешить императрицу, останавливал за колесо карету, запряженную шестеркой лошадей, не я ли в кулачных боях первым был? Эх, ты!» – граф поднял здоровенный кулак и погрозил им своему отражению в зеркале.
Уже совсем рассвело, когда Алехан бросил перо и, отложив лист бумаги в сторону, почувствовал, что начал зябнуть, сидя за столом в исподнем. Он приподнял голову и недовольно нахмурился. Было слышно, как испуганные лакеи забегали по анфиладе.
– Ну, чего там? – подал голос Алехан, не поворачивая головы.
Слуга, долго топтавшийся в дверях, простонал дрожащим голосом:
– Алексей Григорьевич, ты не дозволял себя утомлять, однако ж действительный тайный советник Иван Иванович Бецкой просят принять! – слуга прижался к косяку двери в ожидании недоброго, но Алехан вздохнул и спокойно сказал:
– Пущай заходит, негоже заставлять светлого князя или как там его, томиться в сенях.
– Куды?
– Сюда веди, коли он сам изволил прийти незваным!
– В гостиной, Алексей Григорьевич, тепло, а здеся негоже, – опасливо напомнил слуга.
– Наряжаться, Федька, мне не любо, хворый я, или он запамятовал?! – Алехан зыркнул на слугу недобро.
Федька поспешно удалился.
Давно уже никого, кроме своих братьев, Орлов не принимал, но отказать в желании видеть себя этому уже немолодому человеку не мог. Не мог, потому что уважал ум и знания Бецкого – человека не честолюбивого, но с твердым характером. Орлов знал, что этот сравнительно небогатый дворянин, внебрачный сын князя Трубецкого, в трудах своих более всего радел о благе Отечества, а, значит, пришел неспроста. С виду холодный и суровый Бецкой был в это утро приветлив и добр. Его ярко-красный камзол, затканный холодным золотом, подчеркивал сухощавую фигуру, а напудренный парик придавал лицу моложавости. Увидев Алехана, Бецкой отметил, что от прежних 140 килограммов живого веса осталось значительно меньше, но виду не подал.
– Сказывали, что худой ты, Алексей Григорьевич, да не оттого, что исхарчился, а всему виной недуг проклятый. Дух святой один остался. Слыхал, что никого не жалуешь своим вниманием. По разумению моему уж скоро год поди, как тебя, милок, не видывал.
Орлов вышел из-за стола, вытирая о суконную рубаху потные руки:
– Неужто токмо год один минул? Помилуй, Иван Иванович, Бог с тобой, давно, как второй идет! Запамятовал ты, видать.
– На память свою пенять не стану. Как же, в январе минувшего года тебя, наконец, признали, выбрали депутатом от Петербурга в Комиссию по составлению Нового Уложения. Признаюсь, ожидал я, что вместе послужим Отечеству нашему, да вот не вышло. Видно, Богу было так угодно. Пришлось без тебя хлопотать над проектом нового российского законодательства.
Бецкой присел на край шелкового кресла, так и не дождавшись приглашения.
– Сказывай, сынок, какой такой недуг с тобою приключился, а то болтают всяко! Теперича и сам желаю все знать.
– Да что говорить, не в резвости я время провожу. Неможится мне.
Орлов бросил живой взгляд на Бецкого и задумался. «А, ведь и впрямь отец, ему давно за шестьдесят, а мне всего-то тридцать третий идет. Вот как выходит! Мне хоть помирай, а ему ещё лет тридцать спокойно можно отмерять! Видно, неспроста народец наш болтает, будто он отец родной Катеньки нашей. Воистину ведь похожи! Может, это всё слухи досужие, что Иван Иванович в прошлом, будучи в Париже, не единожды тискал её мамашу, да так, что она вскоре понесла…» Орлов поймал на себе пристальный взгляд Бецкого и понял, что тот прочел его мысли.
– Так что там твои доктора плетут? – не унимался гость.
Орлов согнул богатырскую спину и, кряхтя, присел:
– Твердят одно: чтобы молился. Находят судороги, удушье, про другие немощи лихие сказывали. Да разве их поймешь, докторов-то этих заморских, каждый своё гнет! Засорение, говорят, в кишках моих и животе. Матушка наша императрица тревожится, в прошлом сентябре в Вену историю моей болезни отсылала какому-то Ван Свитену. Доктор к выводу пришел, что камни там у меня внутри. Загораживают, сказал, проток для желчи. Этим он и желтизну моего тела объясняет.
– Так что делать-то велит?
– Напутствует, чтобы жизненный порядок был в яствии и питии. А без того, значит, заключает, что всё напрасно будет.
– А ещё к кому обращались?
– Императрице нашей доктор из Лейдена отписывал, как его звать, боюсь, запамятовал, вроде бы Гаубинус али еще как. Гришка, брат мой, передал Матушки слова, что излечение невозможно, но облегчение принести можно. Всё зло лежит в печени и желчном пузыре. На воды, говорят, ехать надобно.
– Так, чего не поехал? Поезжай!
– Поезжай?! – жалкое подобие улыбки отразилось на лице графа. – Страшусь, не доеду я, да и Гриша тоже так смекает. Сказывал, что его люди в феврале вроде как письмо видели английского посланника Ширлея на родину. Сообщает посланник, что братья мои скоро меня потеряют, коль я слишком слаб, чтобы отправиться на лечение на воды. Словом, решился я прошение государыне подать, уже его и составил. Прочти, Иван Иванович, может, что присоветуешь?
Орлов указал на мраморный столик, где лежали перо и бумага. Бецкой поднялся с кресла и перед тем, как взять в руки бумагу, ещё раз бросил подозрительный взгляд на Орлова:
– Ходят худые слухи, будто ты советы врачей своих в грош не ставишь, по кабакам разъезжаешь на потеху гордыне своей, чревоугодничаешь и распыляешься в драках! Вон и штоф с водкой подле тебя стоит!
– Рад бы, Иван Иванович, тряхнуть удалью своей – поди, не старик ещё, да что-то последние дёны совсем занеможил. Ну, так ты читай скорее, Иван Иванович, не томи!
Сидя на высоком табурете, Алехан нетерпеливо тер ладонями о колени.
Бецкой вперил тревожный взгляд в лист бумаги. «Всемилостивая государыня! С крайним огорчением и сокрушением сердца принужденным себя нахожу утруждать Ваше Императорское Величество об увольнении меня из военной и штатной службы вечно. Причиною же сего, как Вашему Императорскому Величеству самой известно, жестокость долговременно моей болезни, которая довела меня до неспособности продолжать Вашему Императорскому Величеству всеподданическую мою службу. С умилением же усугубляя мою просьбу, дабы я не лишен был материнской Вашего Императорского Величества милости во время моего увольнения, что за первой предмет моего благополучия во всю жизнь имел и иметь буду. Всемилостивейшая Государыня, Вашего Императорского Величества всеподданнейший раб граф Алексей Орлов», *** марта 1768 года. Число на прошении не было проставлено.
Бецкой не сразу оторвал взгляд от документа. Выдержав паузу и с трудом уняв охватившую его почти отеческую тревогу, он произнес:
– Да, складно изложил! Однако пришел я к тебе по делу, покудова твою отставку государыня наша не приняла.
– Слыхал, Иван Иванович, что без дела ты никуда не хожий, оттого и смел принять тебя босым. По всему видать, оно у тебя спешное.
– Не тушуйся, граф. Я друг тебе, Алешка, хоть годами мы с тобой не ровня. Признаться, сам я не терплю докторов этих, но есть у меня один человечек, числится лекарем при Академии художеств. Подлого происхождения, но я в него верю. Грамоты не ведает, жена его за ним записи делает, сам же, подлец, не признает никаких церемоний. Однако же мужик честный. Лечит всякие болезни, но с разбором, с помощью китайских средств, полагая их по малой доле в здешние, из трав составленные.
– Стало быть, есть такие, кого он таким чудесным образом исцелил? – насторожился Алексей.
– Он врачевал всяких и моих друзей в том числе, и лечил их местными средствами, иной раз и без своей знаменитой книги рецептов. Многие сумели великое облегчение получить от него. Граф Сиверс, к слову, приказывал рекомендовать его тебе.
– Неужто он в медицине знает больше, чем наш медицинский факультет? Чай, не глупее его наставники были прежние.
– Ручаюсь, что готов он посрамить разом весь медицинский факультет и вылечить тебя! Эскулап от Бога, скажу я.
– Почту за благо принять сию подмогу. Токмо мне с братьями надобно советоваться, прежде чем решиться на лечение всякое.
– Советуйся, но всё едино, поначалу он тебя посмотреть желает, потому как после своего осмотра может взяться за твое лечение, затем, что принимается не за всякого, а лишь за того, кого вылечить может.
– И когда же он желает своё обследование провести?
– Немедля. Он в людской мается без дела.
– Эк ведь как хватил, немедля, – Алексей Григорьевич посмотрел на свои исхудавшие голые ноги.
– Чего ж время-то терять!
– И верно, Иван Иванович, вам отказать не решаюсь! – устало ответил Алексей скорее, чтобы не обидеть старика, чем в надежде на исцеление.
– Ну, и добро! – с чувством облегчения выдохнул Бецкой и велел звать лекаря.
Слуга проводил лекаря в спальню графа. Алехан широко улыбнулся, когда увидел тщедушного мужичонку, совсем плешивого. «Волосков с десяток, и те не напудрил», – подумал про себя он. Фельдшер был одет в офицерский зеленый мундир.
– Как звать? – напустил на себя строгости генерал Орлов.
– Зови меня, мой государь, Ерофеичем.
– Откуда ты такой, Ерофеич?
– Сибиряк я, из Иркутска, из посадских.
– Где учился медицине и кто тебя надоумил на это?
– Никто. Знать, судьба ворожит. Охотником сначала хотел стать. Ходил в Китай с караваном. Там, по охоте своей остался учиться лекарственному искусству. Стал фельдшером. По возвращении был отдан в рекруты. В Петербурге, через Иван Ивановича, он меня приметил, определился к Академии художеств.
– Сказывал Иван Иванович, что ты в Сибири нашел толстенный лечебник, который и пользуешь для лечения.
– Точно так, мой государь. Но не только, опыт у меня и чутьё на больных есть. Всё, что в Китае выведал, помню, все здешние травы знаю. Вот и всё.
Ерофеич, не мешкая, задрал у графа длинную рубаху и тщательно осмотрел больного, беззастенчиво тыкая сильными жилистыми пальцами в самые болезненные участки тела. Расспросил о симптомах болезни и вышел из спальни, не прося разрешения. Орлов удивился поведению лекаря и укоризненно посмотрел на Ивана Ивановича. Тот сразу парировал:
– Я говорил тебе, Алексей Григорьевич, что человек мой низкого происхождения. Грамоты не знает, пошел, видно, к своему мальчику в людскую, тот ему лечебник вслух читает. Малость подумает и обратно прибежит.
Вскоре Ерофеич и вправду вернулся.
– Все твои лихие болезни, мой государь, – пустые! – огласил своё умозаключение лекарь. – Я нахожу только застарелую лихорадку.
– Можешь вылечить? – в глазах Орлова забрезжила надежда.
– Сумею, только как лечить прикажешь, мой государь?
– Как это? – удивился Орлов.
– Как лечить, говорю, по-китайски или по-русски?
– Что сие значит?
– По-китайски значит – взялся лечить, так вылечи, а не сумеешь, повесят! А ежели по-русски, то сие означает: деньги из тебя, мой государь, выманить. Ты богат, можно поживиться нашему брату, лекарю. Тогда долго и часто ездить к тебе буду!
Граф громко рассмеялся.
– И сколько же ты с меня за лечение хочешь взять? – вытирая выступившие от смеха слезы рукавом рубахи, спросил он.
– Я наперво, мой государь, ничего не беру за свои хлопоты, и буду доволен вспоможением разным, что посулят хозяева, окромя святых молитв.
– Выходит, уверен, что вылечишь? – Алексей хитро прищурился.
– Нет такого лекаря, который бы всех вылечивать мог. По всему видать, лекарства мои никому не вредят. Обнаружил я у себя в записях сбор из трав, на него и уповать буду. Ещё видел я на твоем теле зажившую рану – не беспокоит?
– Да, Ерофеич, смотрю, дотошный ты! Сознаюсь тебе, в Семилетнюю войну с пруссаками я тяжело был ранен. Осенью 1761 года вышел по болезни в отставку. Тогда я был капитаном, поселился у братьев в Петербурге, и рана потихоньку затянулась.
– Это потому, что ты ещё молод. Хорошо бы спину водяным массажем поддерживать. Так что скажешь, мой государь, будешь лечение моё принимать, не побрезгуешь?
– Не побрезгую, Ерофеич, сам люблю испытывать всякую невидаль. Ты ступай пока, я тут с Иваном Ивановичем своё желаю молвить.
Ерофеич вышел, не попрощавшись, да и поклон его был неуклюж.
– Ну, что, Иван Иванович, пусть все гнилое наружу вылезет? – оживившись от визита лекаря, спросил Орлов. – Однако вот что, дам себя лечить Ерофеичу тайком от докторов своих.
На том и расстались. Орлов тотчас послал за братьями, и согласие их получил без оговорок.
Прошло несколько дней, прежде чем братья вновь собрались в доме Алексея. Федор, взглянув на него, прослезился, а старший из пятерых, Иван, только широко улыбался:
– Теперича, Алешка, давай, рассказывай, что он с тобой проделывал, этот лекаришка. Как там его кличут?
– Ерофеичем, – выдавил из себя Федор.
Алексей же обратился к Григорию.
– Я, Гриша, – сам себя не узнал, когда в зеркало-то глянул. Жуть пробирает. Словно переродился! Чую, болезнь отступила.
– Сплюнь! – взмолился Владимир, а то, глядь, всё возвернётся!
– Не-е! Я чую, что-то во мне пробило.
– Ты всё по порядку сказывай, Алёша, а не вертись, как береста на огне, – попросил Григорий.
– Сперва меня Ерофеич теми же каплями и травами начал лечить, что и бывало, но, видно, я не пронялся. Чтоб болезнь переломить, Ерофеич дал рвотное. Так меня, скажу вам, братья, прямо повычистило! Опять Ерофеич дал каплей, но теперича своих, и тут меня прямо пронесло! Опосля, положив меня в постелю, Ерофеич дал мне потового, приказав моим мужикам две печи жарить, и запер меня в комнате заснувшего. Проснулся я – не ведаю, сколько проспал, сутки или двое, лежу как в морсу, пот всю постелю смочил. Вскочил я, как встрёпанный, и тотчас к зеркалу. Дивлюсь, и впрямь переродился! Вот, и всё, братцы мои.
– Всё, да не всё! Теперича тебе надобно держаться. Снег сойдет, и в чужие края к минеральным водам подаваться. Вот так! – сказал Фёдор.
– Дунайка, – обратился Алексей к Фёдору по его детскому прозвищу, принятому в семье в честь былинного богатыря, – братка ты мой дорогой, со мной летом в Карлсбад поедешь?
– Да хоть на край света, Алешка! – Фёдор обнял брата и опять заплакал.
– Довольно слёзы-то лить! – возмутился Иван.
– Ты, Федька, впрямь как девица, – засмеялся Григорий.
– Бери его с собой, Алехан, Федя тебе ни в чем не уступит, разве что в упрямстве, – Владимир был серьёзен.
Не только братья, но и слуги Алексея Григорьевича перекрестились, поверив в скорое выздоровление графа, и посему к ночи пьяными были, несмотря на строгий запрет… Весть об излечении графа Алексея Григорьевича Орлова быстро облетела сырой Петербург. Лекарь Академии художеств Василий Ерофеевич Воронов, принятый на службу в 1765 году, наконец получил заслуженную известность. Екатерина II была очень рада выздоровлению Алексея Григорьевича. Стараясь поддерживать своего вернейшего сподвижника, она в апреле 1768 года наградила его Орденом Андрея Первозванного и пожаловала Алехану 200 тысяч рублей на покрытие расходов по лечению. Не был забыт царицей и Ерофеич. Её приказом лично Олсуфьев выдал лекарю три тысячи рублей за излечение графа, обещан был и чин титулярного советника, но позже. Иван Иванович Бецкой в этом же году тоже получил высший орден Российской империи, но совсем за другие заслуги… На прошение Алексея Григорьевича об отставке Императрица ответила следующим образом: «По усиленной прозбы вашей сим увольняю Вас до излечения болезни вашей от всякой службы, дозволяя притом вам жить внутри и вне государства, где сами заблагорассудите, в чем никто не должен вам препятствий делать по оказанию сего… При сем следует пашпорт для выезда из России, дабы не было нужды сего письма всегда показывать».
Жарким летом 1768 года дом Алексея Орлова, стоявший в Адмиралтейской части на набережной Невы, больше напоминал муравейник, чем благородный постой знатного вельможи. Суетились все, от дворецкого с камердинером до лакея с сенными девками, поварами и конюхами.
– Алешка, – обратился к брату Фёдор, – чего это Шереметев к тебе зачастил, и сегодня, гляжу, приезжал? Видать, вы коротко сошлись?
– Приятель он мой, Дунайка, выразил респектование своё. Печется всё о моем здоровье, напутствует меня всяческими советами. Сам мается похожими нехорошими недугами. Не советует мне пить даже хорошо сваренное пиво, лучше говорит, пей вино испанское или итальянское. Вот передал мне рецепт настойки Ерофеича, чтоб я не забывал лекаря доморощенного даже в Италии далекой.
Фёдор взял протянутый братом лист бумаги. Разборчивым почерком были выделены по пунктам те болезни, от которых хороша была настойка. Беглый взгляд Фёдора остановился только на нужных пунктах: Почечуй (геморрой) растворяет; камень раздробляет, в песок производит и вон выгоняет; похмелье облегчает; кручину искореняет, сон наводит… Рецепт состоял из 15 пунктов:
Златотысячнику 3 пучка
Дойной
Зверобою
Буковиц
Почечуйного
Полыни
Мяты (травы с 2 по 7 по две горсти)
Шалфею
Пончишиннику
Чернобыльнику
Укроповой
Анисы
Зорного огородника
Полевой зори коренья
Можжевеловой
– Хороша выдумка, – сказал Фёдор и, сложив вчетверо листок, сунул его себе в карман, – так будет сохранней, – сказал он и снова обратился к старшему брату: – А почто ты всё про Италию разговоры заводишь? Никак, мы и туда заглянем?
– Почём знать, Дунайка?
– Небось не всё ты мне рассказываешь, али план у тебя какой созрел?
– Замысел свой имею, братка. Расскажу тебе опосля, дорога наша долгой будет.
– Сумлеваюсь я, Алешка, что лечиться ты намерен, и все наши предуготовления всего лишь сень. Неспроста ты наведываешься каждый раз к императрице.
– А два дела разом мне мудрено? Ты лучше, как на духу, сам сказывай, о чем всё с Матушкой шептался прошлым месяцем.
– Тут никакого секрета от тебя нет. Императрице деньги на турецкую войну надобны уже немедля. В казне пусто. Говорит мне: «Федор Григорьевич, похлопочи!» Поручила у Прокофия Демидова достать миллиона четыре рублёв.
– Ого, хватила! Да разве ж он даст?
– Мне дал.
– Иди ты! – Алехан схватил брата за плечо. – А сама, значит, не хочет обратиться к Прокофию Акинфеевичу?
– Спроси об этом у Демидова сама императрица, поди, отказал бы и нашел бы причины, клянусь. Он норовистый, у него правило: «Ни гроша тому, кто может посечь меня». Меня ссудил беспроцентно. Сам недостающие полтора миллиона взял в долг у знакомого купца, но мне не отказал!
– Не верю! Сам в добрых отношениях с Демидовым, но не верю.
– Правда, с меня он слово взял, что ежели не верну ему всю сумму в день, час и минуту, как условились, то денег моих он не примет. «Созову тогда, – говорит, – всех приятелей и твоих, и моих, и отвешу тебе три оплеухи за то, что слова не сдержал. Не хочешь, так Бог с тобой», – говорит.
– Нынче всяк под себя гребет. Опасайся маху дать, Федька. Так ты дал ему слово? – Алехан бросил недоверчивый взгляд на брата.
– Сам-то я не сразу согласился, это Императрица меня молила взять!
– Вот и меня Императрица просила пока никому о моем плане не балабонить, понял?!
– Да я уже давнёхонько вразумил, Алехан, ты меня не проманишь! Верно, наступает наш черёд. Вспомни, как пять лет назад мы посылали в турецкие владения к спартанскому народу двух греков. Следом, через два года, один из них вернулся и заверил нас в правоте нашей. С нами еще и Гришка был, али запамятовал?
– Ну, дальше давай, – Алексей кивнул, и на его лице заиграла снисходительная улыбка.
– Вот, и заверил нас, что ежели Россия поможет, то спартанцы готовы подняться против турок. Он тогда ещё сказывал, что всех христианских подданных Порты готовы поднять под совместный бунт. А этот, как его, ну, болгарин, агитатор-лазутчик.
– Каразин? Подполковник Назар Каразин!
– Кажись. Он тоже дунайским княжеством прошелся, и он того же разумения.
– Да ты подумай, Дунайка, чтобы поднять людей в Морее, Албании, на островах Архипелага, сколько нужно агитаторов, оружия, денег? Сила!
– Ну, ты же сам императрицу убеждал, что ежели русский флот появится у берегов османских, поможет оружием, то мы такой пожар раздуем!
– Ну, и что мне императрица на то сказывала?
– Сказывала, что не в меру дерзкий проект, хотя и призналась тогда, что давно имеет желание свое видеть Константинополь христианским, когда время настанет.
– Так, может, время уже пришло? Как думаешь?
– Эх, Алехан, неужто ты, черт со шрамом, сумел сманить матушку нашу на эту авантюру? Ну, сказывай теперича, нет мочи ждать!
– Припоминаешь, Дунайка, – Алехан улыбнулся и взял брата за широченные плечи, – английского посла у матушки во дворце по имени Бэкингемшир? Он поди, тогда отродясь не видывал таких богатырей, как ты, сулил тебе большое будущее и высокие чины. Из всех нас пятерых он тебя больше всех матушке выделял. Говорил, что ты гордость и украшение нашей семьи. Как мне припоминается, он аж к себе в Англию отписал, что любая странствующая дама, если бы взялась описывать тебя, то непременно отметила бы в тебе черты Аполлона Бельведерского с мускулами Геркулеса Фарнезского.
– Было такое, признаю. И к чему ты всё это болтаешь, Алёшка?
– А к тому, что пора тебе на эти твои богатырские плечи брать большие государевы дела. Хватит за бабскими юбками волочиться по городским трактирам, пришло время в Италии напомнить, кто настоящий Аполлон и Геркулес. Венчаться, как я понимаю, ты не помышляешь.
– Зачем? Меня и так бабы любят. Мезальянс допустить – только матушку нашу лишний раз гневить. Детям моим денег хватит и без того. Ты лучше сказывай о планах наших. Как тебе удалось матушку на свою сторону завлечь?
– Я напомнил ей о Петре Алексеевиче, как он грезил завладеть Константинополем, изгнать неверных турок и татар из Европы и восстановить греческую монархию. Напомнил также, как мы втроем: я, Гришка и ты, приводили к ней грека Папазули. К тому же кавалер Сен-Марк показал кое-какие документы, он бывший французский офицер и когда-то служил в Венецианской Республике. Одним словом, всё, что сказывал Папазули, он подтвердил. А тот украинец по имени Тамара, который разрабатывал с нами план, помнишь? Он воистину провидцем оказался. Императрица призналась мне, что с тех пор, как мы пять лет назад заговорили о моем плане в Архипелаге, она заболела своим греческим проектом. Поэтому мы с тобой как будто едем лечиться. Матушка так желает. В Карлсбад.
– Куда?
– Куда-куда – в Карлсбад, затем в Дрезден, а осенью в Лейпциг. Из Лейпцига дён через десять направимся прямиком в Вену.
– Ну, а опосля? – дрожал от нетерпения Федор.
– Немного опосля в Италию двинемся, Дунайка, – мечтательно улыбнулся Алехан. – Конечной стоянкой нашей, я так разумею, станет Тоскана со своим портом Ливорно. Там, верно, нас ни французские, ни испанские ищейки не ждут. До наступления зимы мы должны приступить к исполнению плана.
– Планов громадье, спору нет, токмо почему именно Тоскана, в толк я не возьму, неужто более некуда податься?
– Потому, что наш проект пока большой секрет, а появлению русского флота в Италии будут рады, кроме Сардинского королевства и Генуэзской республики, токмо в Тоскане. Мы даже фамилии свои изменим, будем господами Острововыми. Во как, братка!
– А Панин-то что? Он ведь знатный противник войны с турками, а тут такое? Он, поди, сразу голос подаст, возопит, что это чистейшая авантюра.
– Потому-то и узнает последним, – хлопнул себя по колену Алехан. – Матушка Никите Ивановичу опосля всех скажет, когда будет поздно прекословить. Мне дела нужны. Токмо скука меня в гроб уложить может.
– Для такого дела флот нужен, а у нас со времен Петра Великого сделано совсем немного для сохранения его в надлежащем порядке. Помнишь, несколько лет назад в Кронштадте государыня на маневрах удивлялась, что ни один корабль не умел держаться в линию. Она ещё посмеивалась, что флот наш не военный, а только для ловли сельдей и годится. Опосля она Панину отписала: «У нас в излишестве кораблей и людей, но мы не имеем ни флота, ни моряков».
– Мы с тобой, Дунайка, в делах флота мало что разумеем, пущай каждый своим делом занимается. Матушка слово дала, что приглядом за флотом займётся сама. Меня же она заверила, что слать будет ордера да рескрипты исправно. Она сама составит списки тех лиц, которые будут действовать агитаторами в турецких владениях. Я же получу тех денег, которыми буду распоряжаться по своей воле и усмотрению. Большими полномочиями владеть буду по верховному руководству агитацией среди христианских подданных Оттоманской порты.
– Спору нет, греки, сербины и черногорцы, если всё это привести в движение с нашей помощью, сильно подорвут планы Порты. Причем везде: и на севере, и в Крыму, и на Кубани, и на Дунае, да и на границе с Польшей тоже, – Федор возбужденно потёр руки.
– Но хочешь не хочешь, а диверсия на юге Порты возможна лишь путем посылки сильного русского флота в Архипелаг.
– И что, Екатерина отважится на то, чтобы снарядить экспедицию? Да ты хоть знаешь, сколько денег на это потребуется?
– Знаю. Пока нам хватит того, что матушка мне на лечение подкинула. Или ты, дурной, думал, что 200 тысяч я только на лечение получил?
– Но этого мало! – возмутился Фёдор.
– Едва прибудем на место, определим потребности! Императрица просит нас не очень полагаться на Неаполь, хотя это было бы для нас удобно. Чает, коли король неаполитанский Бурбонского дома будет, то по французской дудке пляшет. Она советует мне войти в сношения с Венецианской республикой. Если они нам помочь согласные будут, то в награду посулить можно возвращение Мореи, которая раньше им принадлежала. Токмо чуется мне, напрасно она на Венецию надеется, больно они турок страшатся. Ливорно на море, а там и Пиза недалече – вот место нашего будущего постоя. Чую я, это место нам в помощь будет.
– Людей доверенных нам не один десяток понадобится, языкам обученных и смелых, – представляя себе масштабы грядущих событий, медленно произнес Федор.
– Оттого и беспокоится матушка, кабы я у неё людей, нужных государству нашему, с собой не увёл. Тебя, слава Богу, отдать согласилась, но молила, чтобы Гришку не трогать, а то он с кровушкой своей горячей за нами увяжется.
– Эх, итальянскому, Алехан, мы с тобой не обучены. Он нам нужный будет!
– Обучимся на месте. Учителей хороших наймем. А пока нам немецкого хватит, чтобы переписку вести и разговоры.
– А французским ты овладеешь? – с надеждой в голосе спросил Федор.
– Займусь непременно, тебя попрошу, коли надобно будет. Не милы они мне, да и матушка наша их ужас как не жалует.
– Наша матушка и впрямь французов на дух не переносит и клялась прилюдно, что ни в жизнь не полюбит. Видал я сам, даже пред французскими послами она этого не пожелала скрыть. Вот к литературе ихней, искусству, хоть моде у государыни нашей искренняя любовь!
– Прибавь ещё и к французскому языку! Припоминай лучше, как нарвский магистрат подал ей прошение на французском! Она тотчас приказала, чтобы этого более не повторялось, и молвила сурово: «Если кто не знает, как по-русски писать, то пусть пишет по-немецки»! Однако ж затем затеяла переписку с этим Вольтером, книжонки всякие…
– А что Вольтер? Государыня наша, кажись, единственный человек в России, верующий в русское военное могущество. В Европе же, видать, один он разделяет её иллюзии. Вольтер мудрый человек, и про книги ты зря!
– Ты не про свою библиотеку намек делаешь? – Алехан откровенно насмехался над братом.
– Ты к чему это мою библиотеку приплел? – сразу насторожился Фёдор.
– Болтали приятели мои, что деньги тратишь без меры, заказы в Европу отсылаешь. Книжки у тебя всё больше на французском. Сказывали, что собрание сочинений Вольтера у тебя аж 67 нумеров насчитывает. И ещё там всякие Руссо, Дидро… – Алехан смачно сплюнул на паркет и опять снисходительно улыбнулся.
– Ты, Алёшка, запамятовал Монтескье «О духе законов», любимый труд императрицы нашей. У меня вся библиотека описана.
– Тебе теперича к картам любопытство свое проявлять потребно Дунайка. То, что ты латынью горишь, это похвально, это пригодится, но вот карты для нас нынче все же важнее. Библиотека должна быть перво-наперво благой. Пойдём-ка, я тебе кое-что покажу.
В кабинете Алехана на большущем дубовом столе французской работы лежала развернутая морская карта Средиземного моря и Архипелага, с его собственными пометками. Федор присвистнул от удивления и помотал головой.
– У матушки, поди, такой нет, она сокрушалась, что не ведает, как заказ без огласки сделать, а граф Чернышов ей в этом деле не помощник, – Федор широко улыбнулся.
– Ты улыбки-то не строй, нам этот Архипелаг знать потребно во как, – и Алексей показал брату свою ладонь. – То, что война с Портой на носу, тебе, Дунайка, объяснять не треба, но план матушки таков: то, что турки нас побуждать на войну будут, она ведает, но желает так повернуть, чтобы они вдобавок первыми объявили ее нам. Мы ожидаем, что уже осенью турки попрут на нас! Герцог Шуазель уже ныне бахвалится, что ловко натравливает Порту на нас. Если Шуазель делает это открыто, то прусаки и австрияки скрытно турок обнадеживают. Паче того, польские конфедераты шлют им взятки. Матушка думает, что всё начнется с Польского вопроса. Под нажимом французов турки потребуют вывести наше войско из Польши и освободить свои границы от разграбления казаками пограничного турецкого города Дубоссар. Её главная мысля – заставить турок воевать не только по суше, но и на море, а вот диверсия на юге поможет Румянцеву воевать на севере. Уразумел?
– Чего уж, понять не мудрено! Я так разумею, что едва наш флот тронется из Кронштадта, то англичане нам в помощь будут, датчане тоже. Вот что французы будут делать, пока мы пойдём по Бискайскому заливу, гадать не будем, они нам, я думаю, до Гибралтара доплыть не дадут, а потопят под любым предлогом или не будут нам предоставлять помощь у себя в портах, и мы сами потонем с нашими доморощенными навыками. Как я понимаю, опыта таких экспедиций у нас просто нет, и что нас ждет – никто не знает. Даже если наш флот пройдет Гибралтар, то до Ливорно ещё надо доплыть. Всё плавание будет зимой, а это бесконечные шторма! – Федор снова обошел вокруг стола, вглядываясь в пометки брата, и пытаясь разобраться в его замысловатых закорючках.
– В корень зришь, не напрасно матушка всегда была о тебе высокого мнения. Англичане обещают помощь. Они даже свой остров Минорку на Средиземном море готовы подарить России, только бы мы решились на этот поход.
– Вернее, авантюру! – смело посмотрел брату в глаза Федор.
– Называй, как хочешь, коли тебе французский милее.
– Не возьму в толк, Алеша, почему так усердствуют англичане в своей помощи нам?
– Матушка наша смотрит шире, нежели ты и я! Она уже успела получить самые надежные бумаги от английского кабинета, что их держава не потерпит франко-испанского нападения на российский флот, а посему во всех своих портах они нам помощь готовы оказать. Французы же за свою помощь в войне против нас просят у Порты уступить им Египет, а, значит, и свободное плавание по Красному морю. Убытки от потери своей Канады французы намерены покрыть прибылью от торговли между Марселем и Бомбеем, который будет открыт прямым путем в 48 дён. В случае нашей победы Англия будет контролировать торговлю с Индией. Воевать французам с англичанами ныне никак нельзя, у французов и с деньгами проблема. Пусть французский флот в Тулоне мощный и легко нас потопит, большую войну Франция теперича не потянет. Посему императрица наша подтверждает мой расчет, что нынче выгодно для России использовать вражду Франции и Англии.
– Алешка, сказывай, отчего в тебе поселилась такая вера, будто флот наш способен потопить турецкий, который по своим кораблям в сто крат больше нашего?
– Есть у меня конфиденции, что у них скверная корабельная артиллерия, неповоротливость, малая устойчивость кораблей из-за высоких бортов. Но главное, Дунайка, французы не сумеют изменить худые порядки в турецком флоте, где капитаном становится не тот, кто более достоин своими навыками и опытом, а кто больше заплатит капитан-паше.
– Откуда такие конфиденции?
– Матушка нашла людей, которые служат в окружении барона Тотта – главного французского агента в Турции. Французские инженеры и офицеры, которые понаехали в Порту, трудятся там по мере сил, но не всё у них ладится.
– Будто у нас на лад дело пошло! У нас даже порох содержит столько примесей, что не горит!
– Матушка грозится всё поправить. А там, глядишь, и англичане слово свое сдержат, да подсобят нам, как обещано было. Много людей от них к нам на работу на корабли наши готовы приехать.
Февральским утром 1769 года в Ливорно было сыро и ветрено. Море штормило, и в порту было малолюдно. Всегда прозрачный воздух Тосканы был в тот день почти белым, будто в предгорьях Апеннин жгли костры. Оттого, должно быть, в роскошном палаццо Орловых горели свечи. Федор поднялся в покои старшего брата и прислушался к его тяжелому сбивчивому дыханию. Из просторного коридора было видно, как здоровенный детина, держась за притолоку двери, то и дело поднимался на руках и долго качался, как маятник.
– Гляжу, нынче ты, Алешка, пробудился ранёхонько, – Фёдор обнял брата, приветствуя его после недельной разлуки.
– Я, Дунайка, пробудился аж затемно. Спина снова донимала судорогами и ныла всю ночь напролет. Так я на море ходил, думал, авось полегчает. Немецкие доктора советовали холодной водой обливаться. Так я вот что выдумал: вошел в море, стал лицом к берегу и, опершись на шест, дал волю морю обкатывать поясницу волнами. Вроде стало легче.
– Вода-то ледяная, кабы хуже не стало, не застудился бы.
Алехан слушал его и живо растирался полотенцем. Повернувшись к брату красной от прилива крови спиной, он взял со стола бумагу и, посмотрев на того вполоборота, улыбнулся.
– Читай внимательно, Дунайка, его вчера ночью доставили. Рескрипт. Не напрасно мы Гришке с тобой так много бумаг слали. Всё, что просили, братка наш выполнил и матушке нашей растолковать сумел.
Фёдор быстро прочел документ и, довольный, ухмыльнулся брату:
– Выходит, государыня наша самолично подписала рескрипт сей в Петербурге. Ты на дату то смотри – 29 января 1769 года. По нему ты верховное руководство на себя принять должен. Видать и впрямь верит она нам всецело.
– Послушай, братка, каково она пишет: «… охотно соизволяем мы по собственному вашему желанию поручить и вверить вам приготовление, распоряжение и руководство сего подвига». Только вот, как я тебе раньше и говорил, восстание каждого народа порознь не может быть для нас полезным.
– Стало быть, всё, что сделал Каразин в октябре – и взятие Бухареста, и три тысячи восставших, всё напрасно? Зачинать сызнова, что ли придётся?
– Матушка не могла ведать наперед такого скорого успеха от своего эмиссара. Третий месяц минул, как война с Портой объявлена, а мы уже столько наворотили. Все матушкины эмиссары дельными людьми оказались, но потребно не токмо поспешно, сколь совместно едино зачать баталию, и то, как только наш флот подойдет. А что получается? Греки в Морее спустились из своих ущелий, разграбили всё на равнине и опять в своих ущельях поскрывались.
– Алешка, а где государственные грамоты, которые царица сулила спешно передать тебе за печатью и собственноручной подписью?
– Ты про что это забеспокоился, Федор?
– Я про её заверения учесть интересы всех поднявшихся против Порты народов на случай замирения с Портой.
– Бумаги получили, я их отдал в канцелярию. Деньги на первоочередные расходы матушка извещает, что в скором времени переведет.
– Сколько?
– Пока двести тысяч. Думаю, нужды не будет. Остальное на кораблях доставят.
– Важно, Алешка, нам прежде расчет правильный составить по приходу русских эскадр.
– Не время, Дунайка, голову ломать. Ныне предаваться надобно иному – как учинить неприятелю нашему чувствительную диверсию.
– Да мы и так без дела не сидим: агентов разослали, с греческими повстанцами связи наладили, оружие заготавливаем. Так что торговые дела графов Острововых идут складно.
– Полно тебе, Дунайка. Отрадно мне, что матушка наша под видом купцов присылает нам опытных армейских офицеров. Мы их здесь подолгу не задерживаем, купцы наши разъехались по всему Медитеррану. Скажи, как думаешь, скоро ль нас французские шпионы окончательно уличат?
– Боюсь, недолго осталось. Не всё случилось сделать тихостью, как доверяла нам императрица. Но мы дело своё делаем как должно. Переговоры с купцами из Турина насчет оружия, я уверен, пойдут на лад. Туринское купечество с нашими тульскими купцами торговыми связями дорожат и имеют большие доходы. Документы у всех наших агентов справные. Слышь, Алехан, выходит, князь Юрий Владимирович Долгорукий под именем купца первой гильдии Барышникова к нам направлен, видел я по бумагам от Екатерины.
– Знаю, это я матушку просил прислать его ко мне. Нужда в нем невелика, и хоть он мне не по сердцу, он сам просил себя вызвать. Офицер храбрый и строптивый, размер его ума мне неведом, но он желает проявить усердие, живота не жалея. Чего уж там, вакансия на него есть.
– А мне казалось, что он человек легкомысленный.
– Ты ещё про нас заведи разговор! В баталиях проверим его, он вровень с нами встать хочет. Я его в Черногорию наметил, в языках он силен. У нас другая проблема – Сергей Домашнев у себя в канцелярии в бумагах, как червь, закопался, а ночью на бюро спит.
– Ты за него, Алешка, будь спокоен. Он в свободное время по ночам книги свои пишет. Думаю, быть ему академиком. Домашнев нам подмога великая, но одному ему не совладать.
– Что делать? Только ему я доверяю свою секретную переписку с Гришкой и матушкой нашей, а давеча он сам без приказу перлюстрировал перехваченные шпионские письма. Я вдобавок велел ему печатать мятежные листки для восставших греков.
– А теперича он изволит формированием легионов из албанских добровольцев заниматься!
– Полно о нем. Лучше сказывай, Дунайка, как ты в Геную съездил. Тревожусь, кабы фортуна нам не изменила.
– Досадую, но с тем подержанным линейным кораблем, что купцы обещали мне уступить, ничего не получилось.
– Отчего же так приключилось? Надежда у нас на него большая была!
– Разумею так, что мешают нам не только французские шпионы, но и англичане. Брались помогать, да совсем иначе поворачивается.
– Англичане, братка, давно ведут двойную игру. Скажу тебе больше, по всему пути от Петербурга до Ливорно их «Форин офис» перлюстрирует наши послания. Дрезден и Вена полны их шпионами. Мне без тебя, Дунайка, здесь в Ливорно нелегко приходилось. Я всей этой шайке, что меня весь месяц обхаживает по городу, допрос недавно учинил.
Федор покачал головой и не произнес ни слова. Алехан взглянул на брата и продолжил:
– Ты почто догадался, у меня спину сызнова ломить начало?
– Видать, пил вдоволь и ел небось бесчурно! Вес нагулял лишний, – Федор посмотрел на брата с укором.
– Правду молвишь! Я эту шайку скопом третьего дня к себе зазвал, обещал поведать о наших торговых связях. Перво-наперво стол накрыл знатный, подобно тому, что готовили в Петербурге. Денег отвалил не жалеючи, а ночью всех во хмелю поднял на ноги и учинил допрос. Кто язык развязывал, я в своей карете домой отправлял. Ну, а кто продолжал упорствовать, стоя в непотребном виде – я тех просто из окна выкидывал. Я тебе вот что скажу, едва деньги из России придут, попробуем перекупить агентов, что под англичанами и на графа де Бойля работают. Людей надежных ещё подберем, шифры изменим. Дела наши на лад пойдут быстрее, сам увидишь! Не тушуйся!
– Когда эскадры выйдут из Кронштадта, пока не ведомо?
Федор жаждал новостей, оттого и не присел ни разу.
– Матушка сказывала, что в начале лета, чтобы дойти с минимальными потерями. Осенью должны быть в Порт-Магоне на Минорке, там англичане помогут с ремонтом, провиантом и лекарствами.
– А кто поведет эскадры?
До сей поры не слыхать, по всему разумению, если сложится, как наперво царица планы строила, то заглавную эскадру возглавит Спиридов.
– Справный хоть флотоводец? Для великой цели здоровьем своим надобно крепким быть.
– Да почем я знаю, матушка им довольна, сказывала, что исполнительный хозяин и старый морской служака. Был вице-адмиралом и командует кронштадтской эскадрой. Лучшего кандидата, пожалуй, и не сыскать.
– Старый, небось?
Да, уже не молод. Полных пятьдесят шесть ему. Видал я его сто крат, здоровьем он очень хрупкий, а к старости болезни злее становятся, как говаривал лекарь Ерофеич. Матушка отписывала мне раньше, что намерена вперед выдать ему орден и произвести в полные адмиралы. Если сдюжит, то быть ему первым адмиралом в походе.
– А ежели нет?
– А ежели не сдюжит, – вздохнул Алехан, – значит, опять одни иностранцы будут флот наш в Архипелаг гнать.
Только осенью 1769 года братья Орловы приступили к полноценной подготовке встречи русской эскадры. Скрытно заготовлялись припасы в Тоскане и на Сардинии. Однако, как эскадру ни торопили, Спиридов на своем флагмане «Евстафий» первым зашел в английскую крепость Порт-Магон только 18 ноября. Туда и спешил Алехан отправить брата первым же попутным кораблем.
Английская бригантина снималась с якоря в Ливорно ночью и уходила на Гибралтар. Море было спокойным.
– По всему видать, Бог нам в помощь, Дунайка! – сказал Алехан, прощаясь с младшим братом, – через пару дней ты уже будешь на Минорке. Капитан талдычит, что они вставать на якорь в Порт-Магоне не намерены. Тебя шлюпка подберет, они знак дадут.
– Не тушуйся ты так, я сразу к Спиридову с пакетом, – Фёдор похлопал по толстому, засургученному со всех сторон пакету.
– Говори с ним круто, пусть сразу вникнет – кто перед ним. Высочайший рескрипт императрицы нашей требует, чтобы генерал-поручик граф Алексей Орлов был здесь верховным главнокомандующим всем войском и флотом не только на суше, но и на море.
Алехан ещё раз указал брату на пакет и продолжил:
– Ты же моё первое доверенное лицо. Матушка негодует, опять рескрипт с очередным выговором Спиридову отписала, за медлительность плавания и множество больных. Если только османы смекнут, что Спиридов стольких своих кораблей недосчитался, то быть нам битыми в баталиях. Я поспешу тебе вслед бумагу Спиридову отослать, чтобы он в переписке с Петербургом корабли наши именовал теперича иначе.
– Это как? – не понял брата Фёдор.
– А так! Взять хотя бы фрегат «Надежа Благополучия» – пускай будет впредь именоваться линейным кораблем, а все пинки и пакетботы в момент станут фрегатами. Так мы не токмо султана устрашим, но и силы эскадры увеличим в раз. Пущай спешно вымарывают то, что не успели еще отослать.
– Как бы офицеры наши тебя на смех не подняли, – с беспокойством в голосе тихо сказал Фёдор и тут же пожалел о своих словах, заметив, как у брата задергался шрам на щеке, а в глазах появился стальной блеск.
– А ежели кто будет потешаться, то ты мне доложишь! Спиридову, смекаю, нынче не до ухмылок. Ещё в баталиях не участвовали, а уже столько народу загублено! Офицеры наши храбрые, спору нет, токмо ответ держать за содеянное никто не пожелает. Матушка наша с меня ответ требовать будет, за кажный рубль заставит отчет держать. Из эскадры Свиридова лишь четыре линейных корабля да четыре фрегата осталось. Треть всех судов аж до Англии не дошли. Стыд, да какой! Императрица наша ногами топчет – как можно из Кронштадта до Медитерана полгода добираться?! Помнишь, Дунайка, как мы с тобой от Спиридова первое письмо прочли? Слава Богу, сам адмирал переболел, но остался живым. А то токмо два месяца он в море проплавал, ещё до английского Гулля не дошел, а в морском походе умерло более сотни человек, да ещё больных полтысячи! Покуда до Архипелага доберемся и турка бить станем, окажется, что воевать совсем некому, а кто жив остался, тот еле ноги волочит! Ну да ладно, прощевай, братка, а я писать тебе буду исправно.
По прибытии в Порт-Магон Федор к прискорбию своему узнал, что Спиридов только что схоронил своего старшего сына Андрея, давно страдавшего тяжелым недугом, и пребывал в подавленном состоянии. Однако Фёдор выполнил обещание, брату данное, что первым делом известит адмирала о том, что командовать всем флотом Григорию Андреевичу не придется, и что переходит он в распоряжение Алексея. Следующим письмом Алексей Орлов посылал ордер делить эскадру на отряды. Первому из них, под началом адмирала Спиридова, велено было идти в греческий порт Виттуло, другому отряду под брейд-вымпелом бригадира Грейга – в Ливорно, чтобы принять на борт самого Орлова в качестве главнокомандующего. Фёдору братом было велено остаться при Спиридове для надлежащего догляду, а также, по необходимости, брать на себя командование в случае высадки с кораблей эскадры сухопутного десанта в Греции. Из Порт-Магона Спиридов вышел 24 января, миновал Сицилию и согласно ордеру зашел на Мальту. Грейгу в походе везло больше, чем Спиридову, его линейный корабль «Три Иерарха» даже Бискай, который вечно штормит, проскочил удачно, однако на сей раз из Магона в Ливорно Грейг прорывался сквозь шторм. «Ростислав», которого так долго ждали в Магоне, так и не сумел зайти на Минорку. Штормом его отбросило к Сардинии, были сломаны обе задние мачты, а после ремонта ураганный ветер и вовсе загнал его в Геную.
Весь январь Алексей Орлов в полном отчаянии прождал прибытия отряда Грейга в порт Ливорно, но туда добрались только один корабль, один фрегат и один пакетбот. И, хотя пакетбот «Почтальон» сел на мель, с которой его не могли снять две недели, Алехан был безмерно рад, что бригадир Грейг наконец-то оказался в его объятиях. Граф так долго ждал, когда же на рейде тосканского порта появится первый русский корабль, что как только, блистая золотом римского воина, вооруженного мечом и щитом, на горизонте завиделся нос неизвестного никому из местных командиров шестидесяти шести пушечного линкора, Орлов подбросил над головой черную шляпу с бриллиантовой кокардой и заорал во все горло: «Виват!». А когда тощий тосканец с крючковатым носом и обветренным лицом бросил красивой даме фразу, непонятную графу, возможно, посмеиваясь над реакцией Алексея, и дама украдкой улыбнулась, прикрывая рот веером, Орлов грубо оттолкнул мужичонку и, подойдя к незнакомой даме неприлично близко, почти прокричал ей в лицо:
– Да! Это наш «Три Иерарха», я сразу узнал его по фигуре римского воина на носу!
Корабль тем временем неторопливо принимал разворот, и вся его кормовая композиция, выкрашенная в золотой цвет, засияла на солнце. Наконец российский флагман «Три Иерарха» под командованием капитана, известного в России как Самуил Карлович Грейг, бросил якорь в порту Ливорно. Вскоре на набережной началось построение первых корабельных офицеров линкора. Согласно правилам ношения морской одежды российским офицерам предписывалось носить белый кафтан с зелеными лацканами, зеленый камзол и штаны. Однако одежда выстроившихся в порту моряков была далека от Морского Устава. Пожалуй, только Грейг выделялся опрятностью и желанием соответствовать торжеству момента представления первому лицу Архипелагской экспедиции. Команда была представлена графу, который сердечно обнял и расцеловал бригадира, как своего старого приятеля, не обращая внимания на неприятный запах, источаемый его влажным кафтаном. Золоченая карета первой покинула порт, увозя Грейга в роскошный дворец графа Орлова. В окно проникал тонкий аромат лепестков первых весенних роз, устилавших мостовую. Капитан, впервые оказавшийся в Италии, ощущал легкое головокружение. Улыбчивые смуглолицые женщины почти повсюду жевали черные маслины, лавки магазинов были забиты всякой всячиной, и только от ослов пахло мочой, как в корабельном клозете. Поднимаясь по широкой каменной лестнице особняка, Орлов старался бережно поддерживать под руку исхудавшего моряка, как утомленную даму после затянувшегося бала, опасаясь ненароком споткнуться.
– Теперича, капитан, выпьем с тобой прекрасного итальянского вина, или тебе сподручнее чего-нибудь покрепче? – спросил граф, находившийся в прекрасном расположении духа.
– Как прикажете, ваше сиятельство.
– Нынче никаких ордеров не будет, будем просто пить.
– Я, ваше сиятельство, не большой охотник до энтого. Впрочем, как скажете.
– Орлов внимательно наблюдал, как Грейг медленно смаковал красное вино из большого бокала, и ждал, когда же бригадир захмелеет, но его гость оставался бодр и скуп на слова. Моряк и ел, не торопясь, и, казалось, не был склонен пользоваться моментом и набивать себе брюхо. «Политический агент» Англии кавалер Дик, сидевший на противоположной стороне стола, в отличие от капитана себе ни в чем не отказывал, но вскоре прикрыл затуманившиеся глаза и захрапел, склонив голову.
– Никак, Ваше сиятельство, вы спросить меня желаете о чем-то важном? Так не тяните, спрашивайте, я к вашим услугам!
– Хочу, чтоб ты помог мне разобраться в делах наших, капитан!
– В чем именно? – Грейг внимательно и с готовностью посмотрел на Орлова.
– А вот в чем, капитан. Я тебе буду докладать, как я понимаю про положение на флоте, а ты должен внимать и поправлять меня, ежели неправду скажу.
– Пожалуйте! – Грейг с готовностью улыбнулся.
– Перед тем, как начать, граф убедился, что их никто не слушает, и, повернувшись спиной к храпящему англичанину, произнес:
– Эскадра Спиридова должна была состоять из семи линейных кораблей, одного фрегата, плюс один бомбардирский, четыре пинка и два пакетбота. Так?
– Так! Еще добавляйте Готланд, где мы пополнились четырьмя кораблями эскадры вице-адмирала Андерсона. Прибавьте к тому же два линейных, пришедших в Копенгаген из Архангельска.
Орлов одобрительно кивнул головой.
– Теперича вот что: на каждом корабле должны были отправиться по 10 рот солдат по 25 человек в каждой. Выходит, токмо на одних линейных кораблях должно значиться 967 сухопутных солдат. Ружей положено было отправить от трех до четырех тысяч, ещё тысячу карабинов и 500 драгунских ружей, пушек порядка 30.
– Однако, в толк не могу взять, зачем… Кому в голову пришла такая идея – столько необученного народу загубить!
– Не твоего это ума! Пехота мне нужна, союзников будем искать! Итак, положим, 18 июля 1769 года эскадра отплыла от Кронштадта, так?
Грейг в знак согласия кивнул головой и сказал:
– Да, на Красной горке мы взяли 818 солдат и офицеров Кексгольмского полка и две роты артиллерии.
Алехан выпил полный бокал красного вина и, утерев рукавом губы, перекрестился:
– Теперича так. По нашему разумению, в портах Дании и Голландии нас должна была ожидать помощь и радушие друзей, но уже в августе «Святослав» – корабль новейшей постройки возвернулся в Ревель из Готланда по неспособности к дальнейшему плаванию. Дальше хуже. Спиридов долго плывет до Копенгагена, долго стоит на рейде! Отчего так? Вопрос…
Грейг попытался объяснить, но Алехан остановил его жестом руки:
– Молчи, Самойла. Спиридов оправдывается собственными болезненными припадками, – раздраженно прокричал Алехан.
– Возражаю!
– Капитан, твои возражения я приму потом, а покамест больше слушай. Генерал Философов, русский посланник в Копенгагене, доносил в Петербург императрице, что наши мореплаватели в сильном невежестве и в слабом порядке. У большей части наших офицеров стремление больше было к возврату, а не к продолжению экспедиции, экипажи теряют бодрственную надежду. Ладно, это я ещё мог терпеть! Но, когда эскадра пришла к берегам Англии, граф Чернышёв написал то же самое, что нет у моряков бодрственной надежды. Обо всём этом он пишет самому Панину, понимаешь?! А графу это только и нужно, поскольку он был большим неохотником до нашей экспедиции. О Спиридове докладывает, что он в унылом состоянии духа, отчего и подчиненные невеселы. Я не олух, понимаю, что, если три года назад у нас не было ни флота, ни моряков, то за это время немногое успело поменяться. Прискорбно одно, что Россия с начала столетия и до сей поры на флот свой истратила более 100 миллионов рублёв, и что же мы имеем?
– Дозволь мне теперь. – В знак согласия Алехан кивнул, не поднимая глаз. – В нашей эскадре сперва насчитывалось пять с половиной тысяч матросов. Однако, добрая половина экипажа состояла из рекрутов, а не матросов. Рекрут за матроса сочтен быть не может, ему нужно время, он должен сходить в походы, сделать несколько кампаний на море, привыкнуть к нашей пище. Чернышёва я знаю, и с ним согласен. К примеру, на пакетботе «Летучий» я заметил много старых матросов, а если и рекруты попадались, то все сплошь из города Архангельска и окрест. Однако, большинство рекрутов на других кораблях все, как один, из крестьян, которые жительство близ Москвы имели. Они моря отродясь не видывали и качки не знали, а токмо соху покинули. Вот архангельский мужик – хороший моряк, он и к еде морской приучен. Жаль, что умерло много народу! Большей частью поносы и флюсфиберы. От излишнего экипажа теснота великая на кораблях. Ошибку мы сделали, что больных из госпиталей мешали с рекрутами, отчего последние все почти по очереди перехворали. Тут Спиридов передышку на якоре верно дал, иначе все больные передохли бы, как мухи. А так, от свежего мяса и зелени очень многие поправляться стали. В Дании мы пополнили запасы свежей провизии. Запасы были обширны, но во время тяжелого перехода по Северному морю до берегов Англии из-за жестокой качки горячую пищу принимать было невозможно. Мы вынуждены были перейти на сухомятку. Питались в основном солониной и сухарями, сразу вспыхнули болезни. Жестоко страдали не только пехотинцы, но и моряки. Каждый день после краткого отпевания вахтенные матросы зашивали трупы умерших в парусиновые мешки и выбрасывали за борт. В Гулле выгрузили полтысячи больных, за три недели из них умерло 83 человека. Обсудили мы со Спиридовым сложившееся положение, совместно приняли решение идти дальше небольшими отрядами, поскольку опасались, что ремонт ряда кораблей мог затянуться. Первым покинул Гулль «Святой Евстафий». Там держал свой флаг наш адмирал, он первым и пришел в Порт-Магон. С ним вместе ушел «Северный Орел» и фрегат «Надежда». В Атлантике их разбросала буря. «Северный Орел» получил течь и с трудом отошел в Портсмут, где до сих пор стоит в ремонте. «Ростислав» заходил в Лиссабон, чтобы выгрузить 200 больных, более месяца там простоял. Нынче встал на Сардинии на ремонт, а до Магона так и не смог дойти, всё время штормило.
– Знаю! Ещё знаю, что на Минорке 332 умерших и 313 больных, брат отписал мне. Почтовый пакетбот добрался до нас неделю назад. Смекаю, что «Ростислав» уже в Генуе, если верить англичанам. Шторм его туда отбросил после ремонта.
– А зачем тут англичане? – Грейг недоуменно посмотрел на разгоряченного графа.
– А! – махнул рукой Алехан, – они здесь повсюду держат свою агентуру. Они, небось, и тебя просили сообщать им о наших планах и перемещениях. Ты ведь тоже англичанин! – Алехан испытующе по смотрел на Грейга.
– Я шотландец, шотландский еврей, и шпионить против страны, в которой собираюсь жить и службу нести, я ни за что не стану! Я моряк, а не шпион, и почему меня некоторые англичане предателем считают, я не знаю. Я Англию не предавал, но и против России шпионить не буду. Лучше скажите мне, граф, кто такой этот Эльфинстон?
Алехан слегка раздраженно ответил:
– Эльфинстон – хороший капитан, смелый до безрассудства. Меня загодя уведомили, что императрица наша приняла его на службу в мае и произвела в чин контр-адмирала.
– Какие у него слабости имеются?
– Сообщали, что он очень грубый человек, матроса не любит. Ищет славы, уж не знаю – слабость это или достоинство. России служить будет честно, но страны нашей не знает, и любви особой к ней не испытывает.
– Это пусть, – сказал Грейг, осклабившись, – служил бы честно и довольно!
– Он сейчас спешит со второй эскадрой нам на подмогу, я получил от него известие, что Портсмут они покинули. «Святослав» теперь в составе его эскадры, а не вашей. Думаю, что к маю он подойдет к берегам Мореи. На борту его кораблей среди пехотинцев есть и кирасиры.
– Сколько у него теперича кораблей? Как прошли Северное море? – в голосе Грейга появилось беспокойство.
– Скажу, как есть, чего уж там. Три линейных и два фрегата. Больных меньше чем у Спиридова… пока!
Грейг, смущенно поджимая губы, чтобы не были видны почерневшие зубы, улыбнулся и покачал головой:
– Ваше сиятельство, ваши слова отчасти соответствуют записям, сделанным в шканечном журнале моего флагманского корабля. Более подробные записи я веду самолично в собственном журнале в форме личного дневника. Могу представить вам их все.
– Добро, но ты лучше, Самойла Карлович, поведай мне простым словом о переходе эскадры в Медитеран. Для моего собственного разумения мне надобно понимание, а не сухой язык рескриптов, да цифирь. Брехни стало много, понимаешь?
– Понимаю, но с чего начать, не ведаю.
– Начни с того, капитан, как эскадру вы готовили!
– Тогда так, – тяжело вздохнул бригадир, – прошлой весной, когда корабли, предназначенные к походу на Архипелаг, ещё стояли во льду, началась ежедневная работа по вооружению мачт. Тогда же мы обнаружили, что все без исключения линейные корабли имели течь. Такелаж был обновлен только наполовину и, понятное дело, был ветхим. Из губерний спешно присылались рекруты, коих командиры гоняли по кораблям и днем, и ночью, их было легко узнать по новеньким рабочим платьям. Они боялись смотреть вверх на сорокаметровые мачты и, как зайцы жались к надстройкам, лишь бы не оказаться у борта. За два месяца до отплытия ни одна команда не была полной, едва хватало матросов на каждую мачту, канонирам приходилось обслуживать до трех пушек.
– А какова была помощь императрицы?
– Высочайший рескрипт Спиридов получил только в день весеннего равноденствия. Адмиралтейской коллегии предписывалось оказывать Григорию Андреевичу всевозможные вспоможения. Стало много легче, каждый норовил угодить.
– Выходит, Спиридову развязали руки только к началу апреля?! Я ведь писал брату и императрице, чтобы торопились! – Орлов ударил кулаком по столу.
– Государыня каждый день присылала гонцов, торопила. А куда было спешить? В Кронштадте тогда не было ни одной карты и лоции Средиземного моря. Среди служителей кораблей половина рекрутов ни разу в море не бывала. К лету треть штата вакантной пребывала. Видать, их и брать-то было неоткуда. Тогда же Императрица пожаловала Спиридова в полные адмиралы. Тем же указом граф Чернышёв был определен вице-президентом Адмиралтейств Коллегии. Граф был в Лондоне и обещал раздобыть нужные пособия для изучения Медитерана. По моему разумению, старослужащих матросов приходилось по одному али по двое на дюжину первогодков. Всюду недобросовестность, и хоть такелаж поставлялся скоро, был негодным, гниль одна. Спиридов с ведома Мордвинова взял с собой в плавание двух своих сыновей. Старший, Андрей, часто хворал – так адмирал надеялся, авось на него благотворно тропический климат подействует. Однако, не дотянул – в походе он все время тяжело болел и в Магоне умер. Задержка с отходом эскадры, конечно, была – трудно было в гавани грузить на борт тяжелые осадные орудия. Полагаю, через Панина Чернышёв спешно подыскивал в Англии опытных моряков и командиров на вакансии кораблей, которые должны были пойти вслед за нами. К Петрову дню эскадра пополнила почти все припасы. Осталось только заряды к пушкам получить, да принять сухопутный десант. Перед отходом матушка-императрица самолично пожаловала на «Евстафий». Судя всему, инкогнито, покуда была в форме полковника лейб-гвардии Измайловского полка. Уже тогда множество съестных припасов заготовлялось на батарейных и жилых палубах. Стеснено было всё до предела, стояла жара, и запах гнили на кораблях уже тогда ощущался. Ваш братец Григорий Григорьевич сопровождал императрицу и присутствовал при вручении Ордена Святого Александра Невского нашему адмиралу. Всем офицерам и служителям, назначенным в вояж, было не в зачет выдано жалованье за четыре месяца! Кронштадтский рейд Спиридов покинул, как было обещано, но на следующий день экспедиция отдала якоря у Красной горки. Девять дней мы окончательно приводили себя в порядок, приняли десант. 26 июля днем все снялись с якоря и взяли курс вест. Согласно морского регламента всей эскадре надлежало держать скорость по самому тихоходному судну. Но при такой разнотипности кораблей и парусного вооружения держать порядок было невозможно. По выходу из Финского залива нас встретил жестокий балтийский шторм. Прошло несколько дней, и Спиридов получил из Ревеля первый высочайший рескрипт. Императрица торопила адмирала, сообщала, что получила от вас курьера с уведомлением, что вся Греция почти в готовности находится. Беспокойство ваше было, чтоб огонь не разгорелся прежде времени, и чтобы мы поспешили к вам приездом. Тем временем на двух кораблях из семи открылась течь, и они пошли в Ревель на ремонт.
– Выходит, прав был Панин, когда угрожал брату Григорию и предостерегал матушку нашу, что судов у нас порядочных нет до Ревеля доплыть, а тут до турок… Сказывал, будто авантюра сплошная! Ой ли? А как ты сам, Самойла, смекал тогда? – Орлов встал из-за стола, чтобы размять ноги.
– Печалиться не стал, ваше сиятельство, я моряк, а что, ежели Россия не будет иметь оказий дерзать великими походами, откуда тогда у матроса опыт появится тягаться с великими морскими державами, такими, как Англия и Франция?!
– И я того же разумения держусь! – Алехан присел на край табурета и подал знак Грейгу продолжать доклад.
– На пятые сутки балтийского шторма мы отпели первого служителя. Многомесячный запас провизии, который мы разместили на жилых палубах при задраенных люках во время шторма скоро оказался почти весь непригоден. Скученность людей, испарения от мокрой одежды матросов после вахты – вот ещё одна причина болезней, особенно среди малоопытных матросов. Тогда Спиридов велел жечь на кораблях жаровни и при всякой возможности сушить одежду, драить жилые палубы ежедневно. Но больных становилось только больше. В гавани Копенгагена российский посланник Философов, держа в руке надушенный платок, потребовал от Спиридова дать распоряжение удалить зловоние с кораблей. Он передал адмиралу очередной высочайший рескрипт. Императрица молила Спиридова собрать силы душевные и не допустить посрамления перед целым светом. Она опасалась, что мы съедим всю провизию в долгом пути, и допускала, что добрая половина людей помрет, тогда экспедиция наша превратится в стыд и бесславие её. Она была права, в Северном море шторм только усилился, болезни и смерти стали совсем жестокими, и мы перешли только на сухой паёк. На рейд в Гулль к Спиридову приезжал посол Чернышёв и передал обещанные карты. Императрица своим рескриптом продолжала нас торопить. Мы потеряли много людей, но эскадру сохранили в боевом состоянии, как могли.
– Радение твоё для меня отрадно, – лицо Алехана просветлело и на нем появилось подобие улыбки. Чего больше страшились – штормов Северного моря или ветров Биская?
– Больше тревожились угроз герцога Шуазеля, не хотели нарваться на французские эскадры, особенно когда проходили Гибралтар.
– Говоришь, что французы сильнее наших? – привстал Алехан, расстегивая сдвинувшийся накрахмаленный жесткий воротник.
– Говорю, потому что знаю. Французские матросы мастеровиты, и когда на тебя попрет Тулонская эскадра, у которых только линейных кораблей аж 18 штук, да все стопушечные… А у нас самый сильный – «Святослав», у него вооружение 80 пушек, да и по мореходности он слаб. Я на своих «Трех Иерархах» лично разработал парусность и уверен, что не уступлю французу.
– Случись оказия какая, я немедля отпишу императрице все, как есть – и о деяниях твоих достославных, и про дурные события не забуду.
Грейг не удержал суровость на своем лице и расплылся в улыбке. Орлов же продолжал:
– Ты, Самойла, держись меня во всём, мы с тобой ровесниками приходимся. Нам от роду 34 года всего, нам и надлежит стать наипервейшими героями. А то, что вы герцога Шуазеля опасались, то это верно, он враг наш лютый. Здесь на юге его резидент барон Тотт турок с польскими конфедератами на нас натравливает, чтобы отбросить Россию от Черного моря. Король французский и впрямь, после долгих уговоров Шуазеля отдал приказ о снаряжении Тулонской эскадры. Однако королевский совет по вопросу истребления русских единодушно проголосовал против идеи Шуазеля по причине неготовности Франции к войне против «Северного аккорда». Плавание нескольких русских кораблей в Средиземном море, да ещё к тому же постоянно находящихся в ремонте, расценил как несерьёзный повод для большой войны. Во многом и решительная позиция англичан была нам в помощь.
– Однако смекаю, что худая молва о русском флоте, что ходит как среди французов, так отчасти и среди англичан, нашему флоту на пользу, – поразмыслив, произнес Грейг.
– Откроюсь я тебе, Самойла, коль нам с тобой сражаться против Османской Порты вместе предстоит, я тоже в своих планах, как и матушка, на флот наш рассчитывал прежде, как на подсобный. Главной же задачей для флота видел доставку к берегам Архипелага войска нашего и боевого снаряжения, а флот должен был служить прежде всего средством транспортным. Перво-наперво, по моему разумению, здесь в Медитеране должны были стать мои сухопутные операции.
– Я знаю об этом, ваше сиятельство, в высочайшем рескрипте Спиридову об этом нам было указано.
– Теперича же я стал много думать о возможном применении флота для сокрушения турецкой эскадры в Архипелаге, ежели планам нашим на суше не суждено будет сбыться.
– Не сумлевайтесь, граф, я буду всегда на вашей стороне. Убежден, что Порта тоже не страшится нашего флота и думает легко потопить нас в Архипелаге, а, значит, поспешит уйти из Мраморного моря и пройти Дарданеллы. Вот тогда нам и представится случай показать миру силу русского флота.
Глаза Алехана засветились юношеским восторгом.
– Завтра же осмотрю с тобой корабли. Нашим морякам свежие овощи и мясо нужно, хлеб и прочее. В Ливорно ныне сахар по полтине за фунт торгуют, хлеб по гривеннику. Деньги, видишь, немалые. К руке сказать, согласно уведомления Государственного Казначейства на чрезвычайные расходы Спиридову передано 480 тысяч рублёв.
– Верно, граф, основная сумма на сохранении у Спиридова на «Святом Евстафии», часть денег по его распоряжению доставили на сохранение ко мне на корабль в золотых червонцах.
Грейг в очередной раз подавил зевоту и чуть привстал из-за стола:
– Однако, ваше сиятельство, уже поздно, пора мне возвращаться на корабль.
– Капитан, ты же не Спиридов, чтобы по ночам за картами у свечи сидеть. Здесь в Италии столько развлечений! Театр, знаешь ли, отменный, а какие ахтёрки! Завел я здеся знакомства знатные, многие желают уважить. Давай, оставайся, капитан, ты у меня ныне – первый из гостей. Для тебя и времени своего не пожалею.
– Благодарю граф, но служба обязывает, да и офицеры заждались не спят…
Несколько недель ушло у Алехана, чтобы разобраться в делах прибывшего отряда кораблей и познакомиться на деле с работой морских офицеров и служителей. Снять с мели пакетбот пока никак не удавалось, и он нервничал. Граф провел во дворце весь день и никого из незваных гостей не принимал. Наконец, к вечеру он вызвал к себе своего секретаря, майора Сергея Домашнева, и помощника секретаря, волонтера, князя Фёдора Козловского. На столе у графа стояла откупоренная бутылка дешевого вина, сыр и хлеб. Фёдор сидел тихо, когда Алехан наговаривал секретарю послание в Санкт-Петербург лично императрице:
««Почтальон» сел на мель, и тому уже недели две, и по сековое время стащить не можем, употребляя всевозможные средства. Признаюсь чистосердечно, увидя столь много дурных обстоятельств в оной службе, так: великое упущение, незнание и нерадение офицерское и лень, неопрятность всех людей морских, волосы дыбом поднялись, а сердце кровью облилось… Дошли до того, что ни провианту, ни денег у себя, ничего не имеют. Признаться должно, что, если бы все службы были в таком порядке и незнании, как эта морская, то беднейшее было бы наше отечество; но скажу и то, надеемся теперь уже крепко, что дурноты все уже миновались, и всё теперь пойдет. Таковы-то наши суда, есть ли б мы не с турками имели дело, всех бы легко передавили, не нужно б было много с ними драться, а только за ними гнаться, они бы из гавани не выходили по незнанию офицеров… Недостаток есть велик в лекарях и их помощниках, я стараюсь их приискивать. Я намерен всеми способами домогаться, чтоб все морские убытки возвратить»…
Получив сие послание, Екатерина поспешила отправить ответ: «Что же делать, впредь умнее будут. Ничто на свете нашему флоту столько добра не сделает, как сей поход. Всё закоснелось, и гнилое наружу выходит, и он будет со временем круглехонько обточен!…»
Глава 3
Всегда лучистый Вильфранш-Сюр-Мер, окончательно обезлюдев в часы сиесты, изрядно надоел нам редким звоном колокольчиков пустующих бутиков и мертвой тишиной злачных мест.
Мне не терпелось вернуться к своим рутинным делам, и я направился к машине, удачно припаркованной неподалеку от средневековой крепости. Клер молчала и, опустив голову, вела Мартина на поводке, а я крутил на пальце ключи, призывая спутников прибавить шагу. Однако, снова проходя мимо памятников Орловым и Ушакову, Клер вдруг замедлила шаг и остановилась. Февральское солнце клонилось к закату, отражаясь в желтых латунных табличках, укрепленных на постаментах под бронзовыми бюстами героев российской истории. Клер щурила глаза, всматриваясь в темно-коричневый лик Алексея Орлова, и, казалось, не обращала никакого внимания на мои намеки поспешать. Мартин дважды дернул поводок, но, в конце концов, повинуясь воле нашей знакомой, сел на задние лапы, заставляя меня тоже остановиться. Мне совсем не хотелось снова заводить разговор об Орловых, поскольку о русских героях нашего прошлого уже было сказано предостаточно. Однако пауза затянулась, и я, внимательно перечитав еще раз написанное на табличках, первым обратился к своей безмолвной спутнице:
– Только посмотри, Клер, и тут ошибка, пожалуй, даже двойная.
– Где? – спросила она, оторвав взгляд от бронзовых братьев.
– А в табличке под бюстом Алехана. Здесь написано, что он князь, однако князем среди пяти братьев Орловых был только Григорий, остальные носили титул графа. Во-вторых, написано, что Алехан – адмирал, что тоже неверно. Вот на табличке, что под бюстом его брата Фёдора, всё верно – он граф и генерал-аншеф. И вообще, если бы мне пришлось заниматься установкой памятников, то наверняка вместо Ушакова, который к здешним краям особого отношения не имеет, установил бы сразу еще два бюста сыновей Фёдора Орлова.
– А что, они тоже имеют какое-то отношение к Франции? – произнесла Клер.
Я присвистнул и покачал головой, глядя на Клер.
– Знаешь, Фёдор никогда не состоял с кем-либо из своих многочисленных женщин в законном браке, однако же создал две гражданские семьи с дочерьми купца и полковника. Его жены родили ему шестерых сыновей и двух дочерей. Незадолго до своей смерти, а умер он в пятьдесят шесть лет, Фёдор уговорил императрицу Екатерину даровать своим «воспитанникам» права потомственных дворян и фамилию Орловых, но, разумеется, без графского титула. Так вот, два старших сына Фёдора, драчуны и забияки, как и все Орловы, стали генералами, оставив большой след в истории отношений России с Францией. Один, что помладше, Михаил, вместе с царем Александром I, подписывал капитуляцию Парижа в 1814 году, причем текст капитуляции по просьбе царя составил собственноручно. Известен он в России также тем, что написал книгу по истории капитуляции Парижа. И еще, изучая историю Франции, он первым из всех русских издал труд по теории государственного кредита, и тем самым занял выдающееся место в истории финансово-экономической науки, жаль только, что об этом мало кто у нас в России знает. Но Франция глубоко тронула душу Михаила своим свободомыслием, и он, оставив государственную службу, стал одним из главных руководителей по подготовке восстания против самодержавия, что произошло в Санкт-Петербурге на Сенатской площади в 1825 году. Царь Николай I и его брат Константин полагали, что первым следует повесить именно Михаила Орлова. Они заточили Михаила в Петропавловской крепости и включили в список на казнь, но вмешался его брат – Алексей Федорович Орлов, большой друг и верный соратник Николая I, он-то и спас брата от виселицы. Даже Герцен считал, что, если бы не брат, то Михаилу была бы как минимум гарантирована пожизненная ссылка в Сибирь. А так его просто оставили в покое – продержали месяц в тюрьме, и отправили в деревню под тайный надзор. Брат же его, Алексей, стал выдающимся сановником. Он тоже воевал против французов при Аустерлице, а в Бородинском сражении получил аж семь ранений. Сам дослужился не только до графского титула, но, как и дядя его Григорий, стал князем. Был награжден всеми высочайшими орденами России. Но главное – он имеет непосредственное отношение к Вильфраншу: именно Алексей возглавлял российскую делегацию на Парижском конгрессе по итогам Крымской войны в 1856 году и подписал от России «Парижский трактат». По итогам войны в Крыму мы потеряли право иметь свой флот на Черном море, и поэтому были вынуждены арендовать для нужд российского флота бухту Вильфранша по соглашению с Королевством Сардинии, которому тогда она принадлежала. Интересно, что Николай I перед самой своей, во многом загадочной, смертью в 1855 году очень долго беседовал тет-а-тет с Алексеем Федоровичем. О чем они говорили – история умалчивает до сих пор. Жена же царя Николая I, Александра Фёдоровна – дочь прусского короля и самая красивая российская царица по мнению некоторых историков, памятник которой ещё каких-то пару лет назад стоял на этом самом месте лицом к Орловым, способствовала, всё в том же 1856 году, своим знаменитым приездом на лечение в Ниццу развитию и процветанию здешнего края. Имя «Алексей» Фёдор дал сыну в честь своего брата Алехана. Клер, обрати внимание, что Алехан на памятнике обращен к морю своей левой щекой, которая, по описаниям писателя-историка Валишевского, имела шрам от уха до уголка губ. А если принять во внимание, что Алексей был похож на Григория и оба часто изображались одетыми в шлем и мундир Кавалергардского полка, как и в данном случае, плюс то, что шрам Алехана в изображениях нигде не присутствует, к тому же здесь еще и написано, что он князь, то нет ничего удивительного, что ты принимала его за Григория – фаворита Екатерины II.
Клер, внимательно слушавшая меня, наконец спросила:
– А почему эти три бюста разные – и по размерам, и по форме?
– Ты знаешь, сам задавался этим вопросом. Скорее всего, потому что нашли их где-то в запасниках Петербургских музеев, и кто-то из «новых русских» отлил копии и привез их сюда. В России по необъяснимым для меня причинам памятников братьям Орловым до сих пор никто не устанавливал, так что это у вас они впервые появились на пьедесталах. Может быть, придёт время, и в Москве об этом тоже вспомнят – они ведь были все москвичами и жили в районе Калужской площади, впрочем, тебе это вряд ли о чем-то говорит.
Клер решительно замотала головой, не желая со мной соглашаться.
– Пока ты, Денис, дремал в кресле после двух кружек пива, а мы с Мартином целый час гуляли по набережной, мне позвонил папа. Я ему рассказала, что ты согласен прийти к нам в гости в субботу, и что ты рассказал мне много интересного про Орловых, особенно про Алексея, да и про этот памятник тоже. Но папа добавил к твоему рассказу такое, что я окончательно запуталась.
– И что он тебе такое поведал? – я снисходительно посмотрел на свою собеседницу.
– Оказывается, Алексей был авантюрист и бабник похлеще Казановы, который, кстати, был его хорошим приятелем – они даже встречались в Ливорно. Папа мне сказал, что Алексей Орлов запятнал своё доброе имя в мировой истории участием в похищении из Италии княжны Таракановой. Она любила Алексея, а он обманул её и вывез в Петербург, где она погибла. А что касается знаменитой победы русского флота над турками в Чесме, папа читал, что роль Орлова в ней сомнительна и второстепенна, поскольку он не был моряком – он и простой лодкой-то не умел управлять! – Клер весело рассмеялась, увидев, как я недовольно воспринял ее слова.
– Мне знакома эта точка зрения, она общеизвестна и укоренилась ещё тогда, в XVIII веке. Распространяли её французы, и большинство специалистов в старой Европе до сих пор придерживаются данного взгляда. Мне это вполне понятно, поскольку даже у нас в России история жизни Алексея Орлова до сих пор толком не изучена. Однако же меня трогает, что до сих пор и в России бытует во многом ошибочная точка зрения насчет сомнительных заслуг Орлова при Чесме. А уж насчет княжны Таракановой, тут наши отечественные писатели и историки преуспели похлеще всей Европы – оболгали и обтрепали имя великого русского патриота!
– Отчего же такая несправедливость, да ещё на родине героя Чесмы? – недоверчиво задала вопрос Клер.
– Может быть, у нас в России всё было бы несколько по-другому, не появись в 1864 году на академической выставке в Санкт-Петербурге картина мало тогда известного молодого художника Флавицкого. Картина называлась «Смерть княжны Таракановой во время наводнения в Санкт-Петербурге в 1778 году». На ней была изображена красивая молодая женщина с непричесанными волосами. Женщина стоит, прижавшись спиной к стене, в разодранном, когда-то шикарном платье, обнажающем округлые плечи и аппетитную грудь. Вода хлещет через зарешеченное окно, крысы ползут по кровати, некоторые уже плавают брюхом вверх.
Клер, представляя описываемое мною зрелище, испуганно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Впечатлил», – подумал я, – «вот наивная душа», – и продолжил:
– На вопрос «Who is Tarakanova?» подразумевался подготовленный демократической средой столицы ответ: несчастная красавица, загубленная самодержавным режимом только за то, что назвала себя незаконной дочерью царицы Елизаветы от тайного брака с фаворитом, бывшим певчим при её дворе, гетманом Разумовским. Бедняжка якобы утонула в своей камере в Шлиссельбургской крепости по время наводнения. Совет Академии художеств присвоил 34-х летнему художнику звание профессора – уж очень реалистична была картина. У каждого гражданина, способного сопереживать, разрывалось сердце. Это была уже вторая крупная работа художника, первая, под названием «Христианские мученики в Колизее» была написана за два года до этого. Тоже очень реалистичная, но реализм Флавицкого был надуманным во многом под влиянием жизни художника в Италии, где он, начиная с 1856 года, в течение шести лет находился в качестве академического «пенсионера». «Мученики в Колизее»? Скорее, это коммерческий ход самого художника.
– Я поняла. Действительно, чушь, поскольку нет исторических доказательств того, что в Колизее мучили христиан. Ты лучше про Тараканову давай, – сказала Клер.
– Ну, так вот, про Тараканову. Александр II во время посещения выставки отдал распоряжение сделать отметку против произведения Флавицкого в академическом каталоге выставки, посчитав, что сюжет этой картины заимствован из романа, не имеющего исторической основы. Приобрести картину для Академического музея Петербурга тогда не решились, опасаясь возможного недовольства императора. По указу сверху было произведено тщательное расследование, которое установило, что наводнение такого масштаба, как на картине, было в Петербурге годом раньше, т. е., в 1777 году. К этому времени так называемой «Княжны Таракановой» не было в живых уже два года. Более того, в казематах Шлиссельбургской крепости она никогда не содержалась, а умерла в Петропавловской крепости!
– Естественной смертью? – дрожащим голосом спросила Клер.
– Естественной – это значит от старости, а Тараканова была ещё молодой женщиной, хотя ее подлинные биографические данные остались тайной для всех. Пожалуй, единственное правдивое признание во время допроса Тараканова все-таки сделала, сообщив год своего рождения. Она сказала, что родилась в 1752 году. Получается, на день смерти ей было 23–24 года. Поэтому точно утверждать, что смерть её была естественной, нельзя.
– Тогда от чего она умерла? Её, что, пытали и физически истязали?
– Послушай, если ты будешь мне задавать столько вопросов, я сам помру во цвете лет!
– Но у тебя же есть предположения, почему не хочешь ими поделиться?
– Сказать могу, но сам понимаю, что чем глубже погружаюсь в дебри истории, тем больше возникает вопросов.
– Вот и скажи, что за вопросы, – Клер нетерпеливо дернула собачий поводок, отчего Мартин взвизгнул и прижался к моей ноге.
– Прости, милый, я не хотела, – воскликнула Клер и схватила пса на руки.
– Вопросы непростые! Совсем недавно по первому каналу российского телевидения в популярной ночной передаче люди, называющие себя историками, заявили, что Тараканову в Питере жестоко пытали. Договорились до того, что город Рагуза, где жила Тараканова, так раньше назывался современный хорватский Дубровник, оказывается, находится вблизи от Ливорно в Италии. И народ наш всё это слушает! А мне стыдно!.. Содержание самозванки в Петропавловской крепости хранилось в полной секретности. До нас дошли протоколы допросов, которые вел в крепости лично главнокомандующий, генерал-губернатор князь Голицын. Велись они на французском языке, поскольку Тараканова владела им как родным. Впрочем, она знала и немецкий, на котором общалась с Орловым. Итальянский, как и польский, был у самозванки пассивным. Голицын сам говорил на многих языках, в том числе и на польском. Русского же Тараканова совсем не знала. Впрочем, как выяснилось во время допросов, она не понимала ни арабского, ни персидского, хотя утверждала, что и восточные языки ей знакомы. На практике оказалось, что те восточные каракули, которые она представила как письменное доказательство, были оценены местными экспертами как простые закорючки. К девушке не применялись никакие меры насильственного физического воздействия, такое тогда было время! Однако к ней был приставлен так называемый «крепкий караул», что тогда означало, что офицер и подчиненные ему солдаты должны были, не смыкая глаз, обеспечивать круглосуточный догляд, сидя в комнате вместе с ней, чтобы «побродяжка» не наложила на себя руки или не ускорила течение своей болезни. Солдатам было запрещено покидать самозванку даже во время справления ею своих естественных надобностей! За несколько месяцев до её смерти, из-за нежелания добровольно и правдиво сообщить Голицыну её настоящее имя, место рождения, раскрыть её цели и того, кто, собственно, стоит за её спиной, к ней были применены «крайние меры воздействия», а именно: её лишили всех излишков теплой одежды, одеял, и посадили на грубую тюремную пищу. За два дня до смерти к ней был допущен священник для исповеди. У нас в России со времен царя Петра I тайны исповеди для заключенных не существовало, священник был обязан сообщить кому нужно, что поведал ему перед смертью заключенный. Секретарь, который вел запись исповеди, так ничего нового из откровений коварной женщины не указал. Поэтому священник так и не отпустил затворнице грехи. Польско-французский историк Казимир Валишевский имел возможность изучать кое-какие несекретные материалы расследования, и отмечал, что через три года, в 1867 году, когда неожиданно умер Флавицкий, его картина «Княжна Тараканова» привлекла большое внимание посетителей выставки в Париже. К тому времени российско-французские отношения заметно потеплели, наступала эра отношений так называемого «сердечного согласия». Именно тогда Третьяков приметил это творение и просто купил его, не торгуясь, у брата художника для своей галереи в Москве. И теперь эта картина под незамысловатым названием «Княжна Тараканова» занимает почетное место в экспозиции Третьяковской галереи, а сама Тараканова до сих пор остается трагическим символом самодержавного деспотизма. Я долго задавал себе вопрос – почему образ этой, на первый взгляд, беззащитной женщины, так тревожит наши сердца, пока не удосужился обойти все залы Третьяковки. Оказалось, что образ этой дамы остается самым соблазнительным из всех, представленных в галерее.
– Денис, пожалуйста, не отступай от исторической темы. Мне интересно, – настаивала Клер.
– Если бы я знал, что предстоит допрос с пристрастием, я бы предпочел остаться в баре.
– Ну, Денис, пожалуйста, – простонала Клер под жалобные крики чаек.
– Хорошо, – сказал я, – давай вернемся к замечанию Александра II о том, что сюжет картины Флавицкий заимствовал из романа, который не несет исторической правды. Что это за роман, о котором недоговаривал тогда император? Да и сам Валишевский, рассуждая о «Таракановой», нигде не упоминает об источнике. И здесь, как выяснилось, без французов не обошлось. Оказывается, был такой французский дипломат Жан-Анри Кастерá, работал в «Северных странах». Он написал лишь одно оригинальное произведение под названием «Vie de Catherine II» и издал эту книгу в 1797 году. Обрати внимание, Клер, в том же году, когда вышла и пресловутая книга Рюльера! Мало того, что Кастера был недобросовестным писакой, но он был ещё и русофоб! Именно он выдумал, что самозванка утонула при наводнении, а Орлов с ней обвенчался, нарядив моряка попом. Кастера заврался до того, что утверждал, что у Елизаветы с Разумовским было аж трое детей, а принцесса получила фамилию «Княжна Тараканова» от названия слободы Таракановки, где родился Разумовский. И это при том, что в украинском языке нет слова «Таракан», а есть «Каралюх»! Видимо, художник Флавицкий прочел его книгу, которая имела хождение в Италии, и проникся любовью к этой несчастной женщине. Есть и иная точка зрения на появление фамилии «Тараканова». У Алексея Разумовского была старшая сестра, которая была замужем за казаком Дараганом. У неё были дети, жили они при дворе Елизаветы. Племянников отправили для образования в частный пансион в Швейцарии. Германские газеты распространили слух, что под фамилией, измененной с «Дараган» на «Таракановы», скрываются дети Разумовского. Впрочем, помимо Кастера было ещё несколько французов, которые уверяли, что отцом Таракановой был Шувалов, и она не утонула, а её захлестали до смерти бородатые русские палачи. Но об этих бумагомарателях я даже говорить не хочу, поскольку это несерьезно, а появление в 1882 году романа нашего писателя Данилевского под тем же простым названием «Княжна Тараканова» было большим литературным событием. Критика того времени радушно встретила роман, отметив «превосходный» исторический материал и талантливо рассказанную трогательную историю несчастной, загадочной «авантюрьеры», а также добротно прописанный художественный образ Алексея Орлова. Однако из романа следует – умерла Тараканова от чахотки, а новость о том, что княжна утонула во время наводнения, распространил по Петербургу сам Голицын. Орлов же так и не ощутил угрызений совести, а посему умер в невыносимых предсмертных муках. Этот роман до сих пор популярен у нас в стране. Наравне с «Тремя мушкетерами» в советское время его публиковали огромным тиражом и продавали за сданную макулатуру. Тема романтической любви «княжны Таракановой» к Алексею Орлову, человеку богатому и властному, но нравственно низкому, интересует и поныне наших «продвинутых» литераторов. Известный московский драматург Леонид Зорин написал пьесу «Царская охота», по которой потом сняли фильм под тем же названием, а на роль княжны Таракановой пригласили одну из самых привлекательных актрис того времени. Роль Орлова сыграл наш секс-символ 90-х годов, и фильм «засверкал». А то, что Орлов и Екатерина II предстают перед зрителями как люди низких нравственных принципов, в отличие от побродяжки, никого не смущает. В конце фильма Екатерина, уже успевшая наградить Орлова всеми высшими орденами России, решает отблагодарить его по-царски за исполнение «Дела Таракановой», которую в действительности по документам она называла только «побродяжкой» и «продувной негодяйкой». Екатерина предлагает ему, не смевшему отказать, для разовой утехи своё стареющее рыхлое тело. Привлекательность темы настолько велика, что даже популярнейший российский писатель Радзинский не прошел мимо. Он тоже совсем недавно представил свою версию. Тоже, видимо, под воздействием картины Флавицкого, и под тем же названием «Княжна Тараканова». В основе его произведения – история злодейства братьев Орловых и он считает, что за их «шутки» Кара Господня на смертном одре была им уготована судьбой. Наверное, он имел в виду, что законный род братьев Орловых завершился в 1832 году. Алехан у Радзинского признается Екатерине, что, оказывается, всю свою жизнь любил только Тараканову! Я являюсь поклонником таланта Радзинского, но не знал, что он так фривольно и даже примитивно может относиться к историческим фактам. Впрочем, он о них мог и не знать. Радзинский чувствует себя неуязвимым перед историей, поскольку сам себе склонен прощать многое.
– Что же здесь удивительного? – пожала плечами Клер. – Наоборот, всё объяснимо. Каждый писатель желает интриговать читателя своим сюжетом, в то время как историческая правда часто бывает банальной.
– Ты так говоришь, словно, правда – враг интриги! Дело в том, что каждый упомянутый мной писатель не только хотел лишний раз продемонстрировать свой литературный талант, но и остаться в народной памяти как серьезный исследователь-историк. В частности, Казимир Валишевский, французско-польский историк с российским гражданством, в своем произведении «Вокруг трона» утверждает, что у Алексея Орлова был сын, рожденный от Екатерины, который носил фамилию Чесменский, а для пущей «историчности» факта дает сноску на сборник Русского Исторического Общества со всеми выходными данными. Другой писатель, Данилевский, перед тем, как поставить точку в конце своего романа, опять же, «ради исторической правды» делает ремарку для читателя о том, что у бессовестного графа Орлова был побочный сын от таинственной княжны Таракановой – Александр Чесменский, который умер в чине бригадира в конце восемнадцатого века. О Радзинском же даже говорить сейчас не хочется, любой россиянин давно заметил в образе этого писателя, в его манере говорить явственный мэтровский тон глубокого ученого-историка, часто выступающего со своими историческими миниатюрами на ведущих российских телеканалах. Даже в пресловутом фильме «Царская охота», перед тем как появляется титр «Конец фильма», на экране возникает «историческая справка»: «Особа, именовавшая себя Елизаветой II, она же «Тараканова» и прочее, скончалась в родильной горячке… – из рапорта коменданта Петропавловской крепости в 1775 году».
– В родильной горячке? – как-то устало повторила за мной Клер.
– Да ерунда! Комендант крепости писал по начальству, что эта женщина от болезни умерла, и 5 декабря похоронена в Алексеевском равелине.
В моей домашней библиотеке хранился полный текст комендантской записки, который мне было затруднительно перевести на французский по памяти: «Декабря 4-го числа означенная женщина, показанная болезнью волею Божею умре, а 5-го числа в том же равелине, где содержана была, той же командой, которой при карауле определена, глубоко в землю похоронена. Тем же караульным, сержанту, капралу, 30-ти рядовым о сохранении сей тайны от меня с увещеванием наикрепчайше подтверждено». Однако я все же в общих чертах изложил содержание записки Клер.
– Но, пардон, ты же сам говорил, что она была беременна! – не в силах более переваривать мою противоречивую фактологическую кашу вскричала она.
– Я говорил? Ты что-то перепутала. Это злые слухи, распространявшиеся по Европе, свидетельствовали, что она была в положении. В конце концов, а почему бы и нет? Документально это не установлено, в отчетах Голицына и в письме «побродяжки» к императрице намека на беременность не содержится. На картине художника Флавицкого, наоборот, перед смертью она очень даже стройна, четко очерчены талия и грудь. Однако если посмотреть на картину через призму романа писателя Данилевского, где Тараканова незадолго до смерти родила, священник сначала совершил обряд крещения, а уже потом состоялась исповедь с причастием. Получается, когда она умирала, живота уже не было, и округлую грудь кормящей матери в этом случае можно объяснить.
– А что представляет собой обряд крещения у русских?
– Ну, как, омовение водой и запись в церковной книге. По роману священник спросил, какое имя дать ребенку. Решено было записать Александр, сын Алексея, а фамилию ему дали Чесменский. Писатель, судя по всему, не ведал, что на такую фамилию разрешение нужно было получить у самой государыни. То, что Тараканова умерла насильственной смертью, сейчас, пожалуй, никто не возьмется утверждать. Ясно только, что она не утонула во время наводнения. То, что её замучили русские бородачи – тоже полный бред. Существует два мнения – первое состоит в том, что Тараканова страдала застарелой чахоткой, которая обострилась с изменением климата и с жизнью в тюрьме. Пожалуй, это самое достоверное. Второе мнение – что она умерла в родильной горячке. Впрочем, это не противоречит первому, она могла вконец ослабеть от чахотки и, угасая, умереть при родах.
– А не может быть такого, что её пытали, били, и это тоже усугубило её состояние и ускорило её смерть?
– Это можно было бы предположить, но исторические факты говорят об обратном. Всё дело в том, что вся операция по захвату, вывозу Таракановой в Россию, допросу самозванки и сам факт смерти были указом императрицы жесточайше засекречены. Все люди, как гражданские, так и военные, имевшие к делу касательство, не взирая на их чины и звания, были обязаны хранить тайну под страхом смерти. В русской истории это, пожалуй, единственный случай такой степени секретности. Историков до сих пор интересует вопрос – почему? Надеюсь, мы с тобой его касаться не будем, поскольку это настоящие дебри.
– Тогда подожди! А что же говорят исторические факты?
– Послушай, Клер, сколько можно? – я едва скрывал свое раздражение, но, перехватив устремленный на меня взгляд, сказал: – Ну хорошо. Орлов отвечал не только за захват, но и доставку «побродяжки» до Петербурга в добром здравии. Сам он плыть не мог по причине своей старой болезни. При ней сохранили прислугу и приставили не только охрану, но и опытного врача – лучшего на эскадре. Алехан предупреждал своими письмами императрицу о коварности, смелости и отчаянном характере самозванки. Она могла спокойно свести счеты с жизнью в любой момент, будь то на корабле, или же в тюремных казематах. Контр-адмирал Грейг, доставивший на своем флагмане «Три Иерарха» Тараканову в Кронштадт, имел от Орлова жесткое предписание о передаче означенной женщины с корабля только в руки людей, имевших личное письменное распоряжение императрицы.
– Но ведь писатели имеют право искажать описание исторических событий в угоду сюжету!
– Согласен, но это позволено только писателям. Но как ты понимаешь, в России с документами работают еще и историки, некоторые из которых утверждают, что самозванка была действительно беременной, но умерла она, так и не доносив ребенка. Они допускают, что отцом ребенка мог быть Алехан.
– А на чем, интересно, строятся их предположения?
– Представления не имею. Я пытался рассуждать, сделав допущение, что отцом ребенка был Алехан. Вот, ты послушай, и как женщина выскажи свою точку зрения.
– Хорошо, слушаю тебя внимательно, – деловым тоном произнесла Клер.
– 22 февраля 1775 года Тараканова приезжает со своей свитой из Пизы в Ливорно, где на якоре стоял флот Орлова. Орлов приглашает «Елизавету» на свой корабль, где её арестовывают с немногочисленной группой её приспешников, преимущественно поляков. Контр-адмирал Грейг приказывает своей эскадре поднять паруса, и в тот же день пять русских кораблей и один фрегат берут курс на Кронштадт. 24 мая 1775 года Грейг благополучно достигает берегов Петербурга. Грейг выполняет приказ и доставляет самозванку живой и, главное, здоровой, причем очень быстро – всего за 3 месяца и 2 дня. Капитан гвардии Толстой снимает «побродяжку» с «Трех иерархов» по приказу генерал-губернатора Голицына. Грейг имел личное письмо от Екатерины слушаться приказа Голицына. Толстой доставляет женщину с её свитой в Петропавловскую крепость без малейшего отступления от указа, за нарушение которого его могла ждать смертная казнь. Отсидев в одиночке, умерла так называемая Тараканова 4 декабря 1775 года. Выходит, что с 22 февраля по 4 декабря она находилась в изоляции, а, значит, могла забеременеть только до вступления на борт корабля. Значит, с самого позднего возможного дня зачатия до смерти прошло 9 месяцев и 11 дней. Это означает, что, умирая беременной, Тараканова уже переходила свой срок.
– Да, как-то мало вяжется все это с правдой жизни, – сказала Клер. – Но все же бывает.
– И еще, – сказал я, – злые языки утверждали на всю Европу, что Алехан на корабле учинил «шутку» – обвенчался с Таракановой как с Елизаветой по православному обряду. Венчал их якобы простой матрос, переодевшийся в рясу священника. Это ложь. Доподлинно известно из писем Орлова к императрице, что во имя интересов России, он был готов жениться на самозванке, но проблема была в том, что сама «побродяжка» была против, разумно заявляя графу, что не время было венчаться. Во время проживания в Пизе Тараканова окружила себя для безопасности свитой до 60 человек, где большинство составляли эмигранты-конфедераты польской шляхты. По крайней мере, двое из них, Доманский и Черноцкий, следовали за ней неотступно, спали рядом, преданно любили её и беззаветно служили ей. Если верить писателю Зорину, то Алехан, влюбленный в Тараканову, и сама она, потерявшая голову от любви к нему, несколько дней предавались плотским утехам вдали от шумного города, в садах февральской Тосканы. Натешившись всласть этой красоткой, Орлов через пару дней приглашает Тараканову к себе на корабль. Спрашивается – зачем всё так усложнять, если он мог увезти её без шляхетской охраны и любить вдоволь, затем оглушить и увезти куда угодно, да хотя бы к себе на корабль? А проблема состояла в том, что не было у него возможности её захватить, оглушить и вывезти инкогнито, как тогда традиционно делали. Поэтому понадобился такой сложнейший политический план, в котором была задействована и многочисленная английская «Сикрет Сервис». Выходит, Орлов мог овладеть Таракановой ненадолго, второпях и, разумеется, не за сутки до отплытия корабля. Значит, её беременность должна была бы продолжаться чуть ли не 10 месяцев!
– Это уже маловероятно! А, может, отцом был не Алехан? – задала разумный вопрос Клер.
– Может. Тогда выходит, что она жила с Доманским и забеременела до того, как приехала в Пизу. Иначе, когда у неё созрел план, получивший одобрение Орлова, и возможность стать русской царицей стала реальной, – заниматься с поляками любовью было бы не в духе и логике этой авантюристки.
– Тогда получается, что если Орлов имел возможность тешить свою плоть с Таракановой, значит, он жил в её особняке как будущий законный муж? Но в этом случае Орлов подвергал свою жизнь верной смертельной опасности, поскольку, если бы до Таракановой дошла малейшая утечка информации о двойной игре Орлова, Алехана бы просто убили. В интересах самого Орлова было играть в любовную страсть с Таракановой, держась от неё на безопасном расстоянии. Это было бы вернее и естественнее. Я так понимаю, что красивых женщин у Орлова было тогда предостаточно?
– Более того, желающих было в избытке. Все красавицы Европы мечтали, чтобы он уделил им внимание, поскольку имел славу, деньги, власть и колоссальные связи. К тому же он был холостым и крепким мужчиной.
– Да, – вздохнула Клер, – что-то действительно не стыкуется. А интересно было бы знать, что случилось с теми людьми, которые были захвачены на корабле вместе с Таракановой?
– Да ничего особенного. Им повезло – они избежали страшной участи. Кстати, их тоже не пытали. После смерти «побродяжки» личным повелением императрицы, так не любившей Польшу, двух шляхтичей освободили и даже дали на дорогу по 100 рублей и предупредили, чтобы хранили молчание – иначе найдут и отрежут языки. А если вернутся в Россию, то повесят. Слуг Таракановой прогнали, всучив по 50 рублей. Горничная же Таракановой оказалась вдруг дворянкой, так ее осчастливили аж 150 рублями. Да, вот ещё что, спасибо тебе, что спросила насчет свиты. Один из шляхтичей признался на допросе, что увязался за самозванкой из любви к путешествиям. А вот второй, Доманский, заявил, что его связывали с Таракановой любовные отношения, а политика его вовсе не интересовала.
– Выходит, документально установлено, что Тараканова долго жила с мужчиной, который её любил?
– Получается так. Допускаю, что это шляхтичи, унося спешно ноги из России, и распустили слух о беременности Таракановой.
– Так, подожди, я уже запуталась! Кто же все-таки родил сына Алехану – императрица или княжна Тараканова?
После ее слов я рассмеялся, глядя на лицо озадаченной француженки.
– Что касается сына героя Чесмы – всех, по-видимому, ввела в заблуждение фамилия его незаконнорожденного сына. Согласно последним работам российских историков, у Алехана действительно был сын Александр, носивший не фамилию отца, а фамилию Чесменский. Алехан и не делал из этого секрета. Он даже, уезжая под нажимом Павла I в Европу, сумел выхлопотать для сына разрешение покинуть Россию вместе с ним. Александр был действительно тогда в звании бригадира, но, когда Павла I не стало, царь Александр I произвел Чесменского в генерал-майоры. Следовательно, умер сын Орлова именно в этом звании.
– Так почему же столько спекуляций на эту тему? – округлила в очередной раз свои, и без того большие, глаза Клер.
– Для этого, к сожалению, есть причина. Дело в том, что до сих пор доподлинно неизвестно ни кто был матерью Чесменского, ни дата, ни место его рождения. Тем не менее, для любого серьёзного историка нет сомнений, что он не сын Екатерины II, и уж тем более не сын «княжны Таракановой»! Согласно Русскому Биографическому словарю, Александр Алексеевич появился на свет в 1763 году. По сведениям же из челобитной самого Чесменского, он родился в 1762 году. Неизвестно и то, какую фамилию носил сам Александр до 1775 года, когда граф Орлов получил почетный титул-приставку к своей фамилии. Разумеется, получить такую фамилию Александр, без особого на то разрешения императрицы, не мог. Свою же родовую фамилию Алехан передать своему сыну не сумел в отличие от брата Федора. Почему? Ученые-историки полагают, что всё это произошло оттого, что настоящей матерью ребенка была, скорее всего, простая женщина не дворянского происхождения. Тем не менее, Александр Чесменский стал дворянином, но каким образом, историкам неизвестно. Екатерина II точно знала, от кого у графа сын, но это осталось тайной. Кстати, это тоже пример того, как Алексей Орлов умел хранить секреты. Нашим историкам до сих пор не удалось обнаружить какие-либо факты о других незаконнорожденных детях Алехана или, как их тогда называли, «воспитанниках».
– А кроме этого сына у Алехана были дети?
– Конечно, у него была дочь, рожденная в законном браке, заключенном в 1872 году с Лопухиной. Она родила Алехану дочь, а затем и сына Ивана. Сразу после родов сына Лопухина умерла, а спустя два года умер и Иван. Алехан очень любил своих детей, всегда о них заботился. Впрочем, все братья Орловы были очень внимательны к воспитанию своих детей, неважно, законных или нет. Алехан после смерти оставил всё свое многомиллионное состояние дочери Анне. Анна, кстати, никогда не была замужем и слыла очень набожной. Её сводный брат Александр тоже был не беден и был всегда рядом с сестрой, занимаясь делами её большого хозяйства.
– И куда же подевались её миллионы, по-сегодняшнему, наверное, миллиарды?
– Правильнее сказать, сотни миллиардов евро. Слушай, ну хватит! Я устал, да и ты, надеюсь, тоже.
– Ну, пожалуйста, в двух словах! – умоляла Клер, поглаживая бронзовый бюст Алехана.
– Хорошо, – простонал я, вынужденный продолжать свою лекцию. – Богаче её в России никого не было. Состояние Анны оценивалось в сорок миллионов рублей, которое приносило ей миллион рублей ежегодной ренты, плюс двадцать миллионов рублей в золоте и бриллиантах. Для примера скажу, что знаменитый тогда Мраморный дворец в Санкт-Петербурге оценивался в 250 тысяч рублей.
– С ума сойти! Бюджет целого государства! А личная жизнь-то у Анны была? – спросила Клер, как женщина, пытаясь примерить на себя ее судьбу.
– Личная жизнь ее не сложилась, хотя желающих её руки было хоть отбавляй, к примеру, князь Куракин, которому было пятьдесят три года. Потом к ней посватался молодой блестящий генерал и граф по фамилии Каменский. Двадцатилетняя Анна была влюблена в Каменского, но, поскольку считала себя «необыкновенно дурной собой», посчитала, что этот тридцатипятилетний красавец-генерал, математик и поэт хочет жениться на ней исключительно из корыстных побуждений, и отказала Каменскому. Необыкновенно порядочный и честный генерал был оскорблен до глубины души и вскоре отбыл в Молдавию командовать российской армией, а на вечере у французского консула в Бухаресте был отравлен.
Клер присела на лавочку и смотрела на меня совершенно обалдевшими глазами. Я подошел к ней поближе и продолжил:
– Анна была неглупой и далеко не транжирой. Наоборот, она сразу проявила большую самостоятельность и благоразумие. Подарками не бросалась, пожалуй, только генералу Милорадовичу за его смелые действия по задержке французского авангарда генерала Мюрата при битве за Москву в 1812 году она подарила отцовскую шпагу, осыпанную бриллиантами – подарок Екатерины II. Анна стала очень влиятельной персоной при дворе Александра I. Когда в 1816 году он впервые после выдворения французов приехал в Москву, Анна устроила у себя в особняке на Большой Калужской такой фейерверк, что привела императора в полный восторг. Сама она блистала весь праздник. Вскоре после этого Анна была пожалована в камер-фрейлины, но вместе с тем она стала и фанатичной поклонницей и «духовной дочерью» архимандрита Фотия. Под влиянием Фотия она жертвовала огромные деньги на монастыри и церкви, всячески способствовала выдвижению самого Фотия и росту его влияния при дворе. В общем, к концу своей жизни Анна почти полностью растратила на него своё состояние. Правда, осталось после смерти Анны Алексеевны всё равно очень много. По её завещанию крупные пожертвования были принесены 340 православным монастырям. Это произвело на русское общество сильное впечатление. Только московского Донского монастыря в реестре пожертвований не было, сейчас не помню, почему.
– Что за личность была этот Фотий?
– В миру его фамилия была Спасский, он был церковным мракобесом. Считал себя орудием Провидения при дворе, обличал Силы Зла, полагал, что он Спаситель Церкви и Отечества. Постоянно подавал царю «хартии», описывая свои бредовые предчувствия и видения. Будучи пожизненным настоятелем Юрьева монастыря в Новгороде, он внушил Анне Алексеевне, что она должна быть захоронена в этом монастыре вместе со своим отцом, который тогда покоился в Отраде под Москвой. Анна сумела совершить невозможное – она добилась от Святейшего Синода согласия на перезахоронение отца и двух его ближайших братьев, Григория и Федора, получив при этом согласие государя-императора в 1832 году. Однако новый царь Николай I проявил благоразумие и сразу же отлучил Фотия от двора. Наш поэт Пушкин в своих бесцензурных стихах «Разговор Фотия с Орловой» воспел их особые отношения, я со школьной скамьи выучил его запретное четверостишие, жаль, что Пушкин не перевел его на французский:
Внимай, что я тебе вещаю: Я телом евнух, муж душой. Но что ж ты делаешь со мной? Я тело в душу превращаю.Клер, разумеется, ничего не поняла, но в её глазах появилась хитринка:
– А ещё что-нибудь ваш великий Пушкин написал об Орловых?
– Про Анну вроде ничего, он про сына Фёдора Орлова писал, но это к делу не относится.
– Ну-у-у-у! – затянула Клер, – пожалуйста!
– У сына Федора Орлова, Михаила, я тебе уже о нем рассказывал, помнишь – генерал, подписывал капитуляцию Парижа, была любовница – знаменитая петербургская балерина Истомина. Её длительное время домогался и сам Пушкин, но так и не сумел добиться ее расположения. В общем, «наше всё» отомстил и конкуренту, и танцовщице своим знаменитым искрометным стихом, где намекает на то, что у Михаила был очень маленький… ну ты понимаешь.
Клер зарделась, отвела глаза и расхохоталась.
– Прочти, – смущенно сказала она.
– А смысл? Ты же ничего по-русски не понимаешь!
– А мне нравится, как ты это весело декламируешь!
– Тогда слушай.
Орлов с Истоминой в постели В убогой наготе лежал. Не отличался в жарком деле Непостоянный генерал. Не думав милого обидеть, Взяла Лариса микроскоп, И говорит: «Позволь увидеть, Мой милый, чем меня ты …б»!Клер деликатно хихикнула, уловив в движениях моих рук намек на фривольность:
– А откуда Пушкин знал, что у Орлова такая физиологическая особенность?
– Наверное, ему об этом рассказала жена Орлова Екатерина, в девичестве Раевская. Красивая, умная, она была любовницей Пушкина, который вёл список женщин, с которыми имел близость, называя его «Донжуанский список». Раевская, кстати, числилась в этом списке под именем «Екатерина III-я»!
– И где ты всего этого начитался, опять у французов с поляками? – засмеялась Клер.
Я лишь пожал плечами, не оценив ее едкой насмешки.
– Поляки, а тем более французы здесь ни при чем. Это точно! Пушкин не в пример остальным их любил. Другое дело Екатерина. Как писал Пушкин, она и умерла, «садясь на судно», которое было изготовлено из польского трона.
– Зачем этой Анне понадобилось перезахоронение своих родственников и отца?
– Во-первых, благодаря этому Фотий вытянул из Анны огромные деньги и подарки. Во-вторых, ходили упорные слухи, что Анна замаливала грехи отца и братьев его. Факты говорят за то, что у неё всё-таки был доступ к секретным документам. Не исключено также, что её ознакомили с перепиской отца и Екатерины по поводу захвата самозванки, а также с письмами отца из Ропши. Послушай, Клер, Анна жертвовала на церковь огромные деньги, но и про своих родственников тоже не забывала. К примеру, есть один странный факт в жизни Анны Орловой. После смерти отца в некоторых документах мелькает фамилия никому не известного Казакова, который был для Анны близким человеком и даже считался её «воспитанником». Она купила ему 3500 душ крестьян, подарила половину знаменитого конезавода отца, за миллион рублей построила помещение для лошадей, и ещё дала 450 тысяч рублей наличными. Казаков был полковником, а каково было его происхождение – история опять умалчивает.
– Давай вернемся всё же к Алехану, коль скоро мы смотрим на его памятник. Ты говоришь, что француз Кастера написал «роман», и слово «Тараканова» пошло гулять по Европе.
– Я бы сказал, пошло гулять по Европе впервые! До него её называли как угодно, но только не Тараканова, а уж в самой России эта фамилия закрепилась за ней только с 1859 года!
– Но я понимаю, что в 1797 году Алехан был жив, ты ещё сказал, что он именно в это время жил в изгнании. Так? Даже не один, а со своим сыном Александром!
– Совершенно верно!
– Тогда он наверняка читал этот «роман». Хотя как, если он не знал французского? – с сомнением в голосе сказала Клер.
– Уверен, что читал, потому что роман был сразу издан и на немецком языке, а Алехан в то время жил в Вене.
– Так отчего же Алехан не опроверг высказывания Кастера? При его-то возможностях!
– Если бы Алехан попробовал оправдаться, то, пожалуй, всю оставшуюся жизнь только бы и занимался тем, что затыкал злые рты, особенно французских «романистов». Конечно, оставь он после себя «Записки», как это сделала императрица Екатерина, белых пятен в российской истории XVIII века поубавилось бы, но мемуары Алехана не заботили. В России в середине XIX века стали печатать свои «Записки» многие знатные вельможи того времени. Например, графиня Блудова, знакомая с Орловой-Чесменской, в своих «Записках» отмечала, что Анна, занимаясь благотворительностью, просто замаливала грех отца. В 1859 году неожиданно в журнале «Русская беседа» появилось сочинение «Судьба принцессы Таракановой». Издатель, касательно авторства, заметил, что это была рукопись, оставленная в России одним трудолюбивым изыскателем в 20-х годах XIX века. Потом уже историкам стало известно, что «трудолюбивым изыскателем» был сам граф Блудов, который был лично приглашен императором Николаем I специально для разбора секретных документов. Блудов, приступив в ноябре 1826 года к исследованию писем Алехана по делу лже-дочери Елизаветы, мог по-своему трактовать прошедшие события. Если предположить, что Блудов намеренно не упомянул и много иных документов, то такое жизнеописание могло сильно ударить по самолюбию дочери Алехана и представить её отца в неприглядном свете. Хотя, к примеру, Шереметев писал, что именно Фотий вселил в сердце Анны убеждение в греховности самых близких для неё людей – отца и дяди. Алехан всегда был честен и прям, за что Екатерина ему даже делала порой замечания, к тому же тайну он умел хранить, как никто другой. Что же касается его как «адмирала» и «присвоенной» им победы, то я думаю, что эта надпись на табличке памятника имеет какую-то историческую подоплеку. Сам Алехан никогда не претендовал на роль морехода и флотоводца – даже на его могиле под Москвой бронзовая доска содержит полный список его званий и заслуг, но звания адмирала там нет. И даже Екатерина, понимая, сколько после Чесменской победы на него обрушилось разных проклятий со стороны иноземных завистников и особенно русских офицеров, в качестве оправдания объяснила в письме адмиралу Сенявину, почему Орлов был вынужден поднять на «Трех Иерархах» свой кайзерфлаг и принять главнокомандование над объединенной русской эскадрой. Наш российский академик Тарле по этому поводу написал прекрасную научную работу, но и его авторитет не подействовал на русское морское офицерство. Все, кто умел держать перо в руке, написали о величии своих адмиралов: русские о Спиридове, англичане об Эльфинстоне и Грейге, французы – о глупости и неумелости турок, и, к сожалению, все они едины в намеренной недооценке роли Алехана в экспедиции, поскольку уж очень колоритен был этот русский, наводивший страх на всю Европу во всех делах своих.
– Да, папа тоже говорил, что Орлов боялся оставаться в Италии, поскольку негодование против отправки самозванки было сильным!
– Правильно сказал: Орлов беспокоился за свою жизнь и писал императрице о том, что негодующий люд требовал мести инициатору дела самозванки. Отомстить Екатерине было невозможно, а вот устранить её любимца, который никого не боялся и свободно раскатывал по Пизе и Ливорно, было делом не таким уж сложным. Орлов опасался, что его могут просто отравить, в чем беглые поляки и французы, шнырявшие по городам Италии, были большие мастера. Упрекнуть Алехана в трусости тогда были готовы многие, поскольку слава о его храбрости, независимости нрава, богатырской стати, его огромном богатстве и успехе у самых красивых женщин Европы не давала покоя в первую очередь французам. Я понимаю французов, не зря их называют «петухами», их литературный герой граф Монте-Кристо является лишь блеклым подобием реального исторического лица – графа Алексея Орлова. Французский дипломат Дюран пытался выразить общее мнение французов о нем: «У графа Алексея Орлова есть только сила, но нет мужества», но его предшественник, французский посол в Москве, писал в Париж другое, отмечая «мужество, честность и прямоту Алексея Орлова». Австрийский император, полагавший, что только он умеет определять людей с первого взгляда, после встречи с Орловым писал своему брату Леопольду: «Я нашел его таким, каким вы его описали – крутым, откровенным, но ограниченным». Русская княгиня Дашкова, которая всю жизнь недолюбливала Орлова, в разговоре с Дидро подчеркивала, что из всех братьев Орловых «balafré» («помеченный шрамом») – один из величайших разбойников на свете. А княгиня Загряжская считала его цареубийцей в душе. Она хорошо его знала и считала, что это у него вроде дурной привычки. «C’etait chez lui comme une mauvaise habitude», – неоднократно повторяла она, но почему-то всегда по-французски. Один из умнейших и хитрейших правителей тогдашней Европы, прусский король Фридрих II познакомившись с Алеханом, отписал секретную инструкцию своему послу в Петербург: «Если все братья похожи на командующего флотом, с которым я познакомился, это семейство весьма предприимчивое и способное на самые решительные поступки». Сам же Орлов в своих письмах императрице всегда сетовал на повышенный интерес к своей персоне не только со стороны влиятельнейших особ Европы, но и всех авантюристов, поскольку хоть и был богатейшим человеком Европы, сам любил авантюры и боялся, пожалуй, только одного – заболеть от скуки.
– А ты боишься заболеть от скуки? – вдруг спросила Клер, вперив в меня насмешливый взгляд.
– А ты? – сам не зная, почему, вопросом на вопрос ответил я.
Солнце клонилось к закату и почти касалось верхушки Монт Барон, когда Клер прекратила терзать меня своими вопросами. Я быстро отвёз её в Ниццу и высадил у центрального автовокзала, где она оставила свой велосипед. Я с улыбкой наблюдал, как она ловко оседлала своего железного коня и, подъехав к машине вплотную, жестом попросила приоткрыть окно.
– Ну, что? – со смехом спросила она, видя меня измочаленным, как после изнурительной тренировки, – расскажешь потом ещё что-нибудь такое об Орлове, – и, копируя, видимо, мою манеру изъясняться, несколько раз энергично согнула свое тонкое запястье.
Я отвел взгляд в сторону и ничего не ответил.
– Ты наверняка знаешь о нем такое, о чем интересно было бы…
Мой негодующий взгляд, брошенный в её сторону, совершенно её не задел. Наоборот, она продолжала чувствовать в себе превосходство неутомимой собеседницы.
– Детский сад! – тихо сказал я и, недовольно качнув головой, повернул ключ зажигания. Машина проснулась с легким рыком.
– Ну, и ладно! – Клер отправилась в сторону старой Ниццы, и, задрав узкий зад, быстро набирала скорость, виляя рулем.
Я же выключил мотор и через лобовое стекло стал любоваться багровым закатом. На заднем сиденье уже давно беззаботно похрапывал Мартин, задрав от удовольствия подрыгивавшие лапы вверх – точь-в-точь, как малый ребенок.
– Знаю ли я об этом Орлове что-нибудь такое? – я поправил зеркало заднего вида, заглянув себе в усталые глаза, полные безразличия и, улыбнувшись, снова завел машину.
Глава 4
Тоскана. г. Пиза. Июнь 1775 года.
Мария Морелли (Корилла), поэтесса, возлюбленная Алексея Орлова
Холодные шторма Лигурийского моря, слишком свирепые для тосканской весны, в 1775 году окончательно стихли только к началу лета, но сменивший их продолжительный штиль стал причиной небывалой жары на побережье. Если в Ливорно поутру было ещё прохладно, даже зябко, когда лёгкий ветерок задувал с моря, то здесь, в Пизе, было жарко. К полудню же воздух раскалялся настолько, что обширные покои прекрасного палаццо графа Орлова, обычно подолгу хранившие живительную прохладу свежего утра, превращались чуть ли не в парную. После ночных забав и обильных возлияний в резиденции герцога Флорентийского, что на набережной реки Арно, Алехан проснулся у себя поздно и ощутил, как на лбу проступил липкий пот. Поднимаясь с постели, граф протянул руку туда, где обычно лежали батистовые платочки, но, ничего не обнаружив, с силой потянул на себя край полотняной простыни и вытер пот с лица. По каменному полу возле кровати были небрежно разбросаны тонкие шелковые чулки черного и белого цвета с подвязками в бриллиантах, холодные лайковые перчатки, вышитый золотом кошелек, пара легких шелковых надеванных башмаков и батистовые красные платочки, что давеча искал граф. Лишь круглая белая дамская шляпа с черными перьями висела на прежнем месте. Опершись на дарованную императрицей трость, Алехан не без труда поднялся и, чуть кряхтя, прошел в соседнюю комнату, где на ажурном столике старинной работы стоял хрустальный сосуд со свежей водой. Он поднес кубок к губам и невольно улыбнулся, увидев своё отражение в зеркале, что висело на стене в красивой позолоченной раме: укороченные на французский манер ночные панталоны разошлись в промежной части по шву, и срамная плоть графа почти вся вывалилась наружу. Алехан переминался с ноги на ногу, ощущая нагими ступнями прохладу мраморного пола, и приглушенно посмеивался над собой, когда в проеме приоткрытой двери, что вела в его покои, появилась немолодая, но удивительно красивая и стройная итальянка с широкими крутыми бедрами и пышной, крепкой грудью. Она стояла, совершенно не стесняясь своей наготы, властно держа ухоженные руки на бедрах. Густые длинные волосы спадали на округлые белые плечи, а выразительные, немного косившие глаза были расширены от удивления. Она улыбнулась графу и, явно желая высказаться, несколько театрально протянула вперед правую руку ладонью вверх:
– Пробудился наконец. Боже, и об этом геркулесе британские газеты по сию пору продолжают писать восторженно! Воистину слава впереди тебя бежит, они же образ твой, граф, близким к совершенству принять готовы. Видели бы они теперь этого медведя!
Алехан подмигнул ей в ответ и, жадно опустошив сосуд, поставил пустой кубок на столик. Снова налил воды из серебряного ведерка, но пить не стал, а лишь смочил лоб и плечи влажной ладонью, да так обильно и неловко, что капли стали стекать на пол с отвислых складок живота, не попадая на панталоны.
– Молчишь, голубь Чесменский, или как там тебя еще называют? – бросила обнаженная итальянка игривым тоном и, прислонясь к дверному косяку, скрестила босые ноги.
– Ну, держись, Маша моя милая, – и Алехан сделал несколько быстрых шагов в сторону дамы своего сердца. Он почти успел обхватить её за талию, но поскользнулся и всем весом грузного тела рухнул на каменный пол, едва не свалив итальянку с ног.
– Сколько раз я тебя предупреждала, что твоё шутовское поведение до добра не доведет, – со смехом сказала женщина, употребив крепкое тосканское выражение.
– Успокойся, дорогая, и не тараторь, всё равно я тебя ни хрена не пойму. Ты так галдишь, что слуги того и гляди завалятся сюда гурьбой. Слава богу, что я не велел себя будить до особого повеления, и что твоего тарабарского итальянского они не разумеют. Поднимай меня скорее, иначе не избежать нам конфузу!
– А теперь всё, что ты мне сейчас сказал по-немецки, изволь повторить по-итальянски. Только потом будем подниматься! – произнесла нагая красавица, но теперь уже нравоучительным тоном, стоя над телом графа, широко расставив ноги, как гладиатор над поверженным врагом.
– Хороших учителей имел я в Италии, да видно, худо понял, – произнес растерянно Алехан по-итальянски и замолк, по-детски часто моргая глазами.
Усилием воли он постарался подняться, но тщетно, лишь вспотел не в меру. Наконец, ослабел вовсе.
– Вели, дорогая моя, ко мне сержанта Изотова звать, он поможет мне подняться. Тебе со мной не совладать, только напрасно промучаемся. Боюсь, припадок опять взялся мое тело разрушать, всю силу отнял.
– Может, зря ты, Алексей, чуть ли не каждый день в баню ездишь? Жара и без того гляди, как смаривает тебя.
Итальянка, встревожившись не на шутку, взяла с полу платок и, опустившись подле графа на колени, подняла его голову и стерла пот со лба. Он недовольно дернул головой.
– Я же тебе сказывал, и не единожды, что баню принимаю через день. Иначе, ежели нарушу свой порядок, неделю цельную могу быть здоровым, а потом меня две, а то и три недели припадки бьют. Особливо же во внутренностях моих множество абструкциев чувствую, хоть и все средства лекарственные аккуратно применяю. Так что зови Изотова, да поживее.
Женщина поднялась с колен.
– Почему у тебя до сих пор комнатных слуг нет, только и слышу: Иван да Иван!
– Знаешь же, что не люблю я ливрейных слуг, слышать не желаю их раболепные и угодливые слова, так что давай Ивана поскорее кличь!
– Иван! – итальянка послушно позвала сержанта своим звонким певучим голосом, шире открыв дверь. – Иван! – повторила она уже чуть громче, и только потом, словно спохватившись, позвонила в колокольчик.
Едва заслышав шаркающие шаги Изотова, итальянка поспешно скользнула в постель, быстро накрывшись шелковой простыней. Стареющий сержант с широченными плечами и непропорционально короткими, но кряжистыми ногами с осторожностью и ловко, будто не впервой, обхватил графа и бережно перенес его на кровать.
– Ты бы, ваше сиятельство, рубаху надел, что ли, а то и фуфайку аглицкую с рукавами. Гляди, не ровен час, спину застудишь. Ишь, на полу каменном лежать-то вздумал! Он у тебя быстро из тела все тепло отберет. Не гляди, что жара, и пенять потом не на что будет, – Изотов взял со стула сорочку из тонкого голландского полотна и подал лежащему в кровати Орлову, а также принес новые ночные панталоны.
– Халат лучше подай, – ослабевшим голосом попросил тот, – да не стеганый, потеть в нем что ли прикажешь, а короткий подай, шелковый! Ладно, ступай теперь, да вели, чтобы воды принесли умыться.
Сержант спешно удалился, выполняя команду, но боковым зрением уловил, как за темно-зеленым штофным занавесом, утопая в теплой мягкости пухового матраса, шурша атласом, шевельнулось женское тело.
– Как он тебя такого огромного только дотащил? – подала голос итальянка, едва затворилась дверь. – Ему по виду, наверное, уже давно за пятьдесят! – Мария сдернула с себя простыню и облегченно вздохнула.
– Изотов мужик крепкий, не оплошает! Будь у меня таких, как он, душ пять-шесть, я б себя счастливым почитал. Вот вернусь домой в Россию, поселю его у себя и пенсию ему назначу достойную!
– За что же ты, голубь, ему так покровительствуешь?
– Есть за что, уж ты поверь. Вот ты, Маша, женщина красивая, да и имя тебе дано какое – Мария Морелли, ежели даже точнее сказать, Мария Магдалена Морелли – во как! Ты прославилась своим поэтическим талантом, и тебя стали именовать Кориллой Олимпийской. Однако, все зовут тебя просто Кориллой, а во всей Европе никто, наверное, и не вспомнит твое мирское имя. Спрашивается, почему? А потому, что твои произведения удостоились в Капитолии венца, которым был увенчан и великий Петрарка. Каждому из нас Господь воздает за дела наши праведные, вот и Изотову тоже воздаться должно.
Алехан присел на кровати и надел рубашку, что подавал ему слуга. Корилла тоже встала, набросив на плечи шелковый халат с чужого плеча, и без графской подсказки принесла ему трость с золотым набалдашником, украшенную драгоценными каменьями. Та была так высока, что почти доставала поэтессе до плеча.
– Посмотри, Алексей, твоя трость мне в костыль инвалидный годится, интересно, какой она длины?
– Коли трость эта русскими мастерами изготовлена, могу сказать тебе точно – в ней, как есть, один аршин и одиннадцать вершков, а, по-вашему, один метр сорок сантиметров будет.
Корилла так и стояла перед графом нагая, грациозно расставив стройные ноги подобно греческой богине, опершись одной рукой о трость, словно о копьё, а другую держа на бедре. Просторный халат прикрывал лишь ее округлые смуглые плечи. Граф Орлов восторженно улыбался, искренне любуясь прекрасным телом беззастенчивой итальянки:
– Не зря, видать, тебя Кориллой Олимпийской нарекли! Эх, жаль, я не поэт, да и картины писать не сподобил меня Создатель, посему просить позировать тебя не смею, так что халат все же застегни! Не искушай покамест.
– Зато в других делах преуспел! Мужское дело знаешь хорошо, тут Европа в слухах своих права, – Корилла и впрямь была в хорошем расположении духа и совету графа последовала, затянув пояс на талии. – Ты бы лучше, голубь мой, не сорочку спешил надевать, или впрямь боишься простудиться? – она громко засмеялась.
Орлов на шутки не поддавался и оставался спокойным, кряхтя, переодевая панталоны:
– Ладно, отдавай трость и говори, что хочешь спросить, а то вижу, что глаза твои хитрость бабью таят, – Орлов готов был терпеть ее стервозный характер и прощал ей этот грех за то, что её стервозность была не злобной, а временами даже милой. Во всяком случае, за время недолгого знакомства с ней ему никогда не было скучно, что для него было, пожалуй, самым главным.
– Что-то я не заметила, чтобы ты в глаза мне сейчас смотрел. Всё как-то в другие места норовишь заглянуть.
Поэтесса снова засмеялась, заложив ладони за пояс и выставляя круглое колено. Орлов фыркнул себе под нос и нетерпеливо изрек:
– Ну, не тяни! Во мне ты отказа знать не будешь.
Корилла протянула Алехану трость и испытующе посмотрела ему в глаза.
– Так за что же ты, граф голубчик, к простому сержанту Изотову такую любовь испытываешь? Ответь, будь любезен! Или секрет какой государственный выдать боишься?
Алехан хлопнул себя по бедрам ладонями и в сердцах сплюнул на пол.
– Приревновала ты что ли? Откуда там секрету взяться, это наше личное дело! Но тебе могу поведать, коли так уж хочешь – вижу, любишь ты, когда я душу тебе открываю. Хорошо, будь по-твоему. Только вот что тогда сделаем. Коль этот день весь целехонький я тебе обещал посвятить, то давай одеваться, да поедем-ка в Ливорно, а то хоть куда глаза глядят! Ну, сказывай, куда хочешь?
– Никуда! – дерзко бросила итальянка в лицо графу. – Опять терпеть эту тряску в карете и твои жалобы на боль в спине? Никуда ехать не хочу! Я другого желаю – весь день с тобой дома провести, в тишине. Чтобы ты и я, и больше никого!
– Выходит, весь день в духоте просидеть прикажешь.
– Да не хуже, чем в Ливорно. К тому же пока до него доберешься, сто потов сойдет. Я слушать тебя хочу, а не только видеть. А вообще я знаю, ты не любишь откровенничать ни с кем, даже со мной, хотя все время клянешься, что любишь меня и веришь мне.
– Я и сейчас готов в этом признаться!
Алехан продолжал сидеть на кровати и, взяв Кориллу за руку, властно потянул к себе, но итальянка не поддалась, а лишь недобро прошептала:
– Если так, тогда сейчас ты как на духу расскажешь мне про старика сержанта своего!
Минуту спустя поэтесса подсела к графу вплотную и, легко прикоснувшись к его щекам ладонями, нежно поцеловала в губы. Алехан издал довольный звук и, утерев губы рукавом, протяжно изрек:
– Гляжу, ты и лица моего не страшишься вовсе.
– Чего это ты вдруг заговорил об этом? Неужто кто-то дразнить тебя отважился? – насторожилась Корилла.
– Да просто, – засмеялся граф, – командор Дик мне давеча сказывал, как одна его знакомая милая англичанка уж очень желала поцеловать меня, а когда приблизилась, вся затряслась, чуть в обморок не повалилась. Хорошо, что я её тогда подхватил, но так и не прознал бы о причинах её коллапса, не скажи мне Дик, что не ведала красавица, что я уродец со шрамом.
Корилла знала привычку графа превращать всё в анекдот.
– Ладно бы ты только уродлив лицом был, да ты ещё с повадками простолюдина, у которого кафтан на груди завсегда распахнут, – Корилла опять смеялась. – Губы-то чего обтер наспех? Заразу какую заполучить боишься? Видать, несладко тебе по жизни приходится!
– Удержу в тебе нету, когда в атаку спровадишься, осади маленько. Спину, боюсь, сызнова трясти станет.
Алехан взял было в руку подушку, собираясь запустить ею в Кориллу, да передумал. Лицо поэтессы, освещенное дневным светом, было чистым и прекрасным, а от чувственных губ он не мог оторвать глаз. Однако вдруг его взгляд помрачнел. Корилла, казалось, угадала ход его мыслей:
– Я не удивлюсь тому, что императрица российская, матушка твоя сердобольная, всё о нас с тобой в деталях знает, даром что в постелю к нам сама не заглядывала, поскольку далече будет.
– Не балуй, – сказал граф и, немного подумав, добавил, – а хоть бы и заглянула! Ничего, я тебе скажу, дорогая моя, она бы для себя не приметила. Это точно, клянусь!
Погруженный в мысли о Екатерине, Орлов не видел, как Корилла от внезапно нахлынувшего на неё волнения теребила своими холеными длинными пальцами локон на лбу, упираясь локтем в подушку. После долгой паузы Орлов задумчиво произнес:
– Мне всегда казалось, что ты про меня всё знаешь, даже если я тебе о чем-то и не говорю – в глаза смотришь и мысли читаешь. Что скажешь, прав я?
Граф поднял голову и посмотрел на женщину.
– Нет не так, дорогой мой. Ты о своем личном мне не рассказывал. О чем-то я догадываюсь, но наверняка не знаю. Разве это делает нас ближе? Порой я чувствую себя обыкновенной женщиной, которых было много на твоем пути. Чего уж там таить, подле тебя место всегда было занято. В Европе сдобных баб немало.
– Женщин у меня всегда было – только помани, скрывать не стану, но вот такой, как ты, не было у меня никогда. А потому, когда уехала ты прошлым годом из Италии со своим отцом на лечение на много месяцев, грезил я тобой всё это время. А рассказывать о своих делах и похождениях не в моих правилах. Я даже братьям своим дорогим о тебе в своих письмах умалчиваю, поскольку не их это дело, – и Алехан погрозил пальцем в воздух, будто Григорий и Дунайка тоже были в комнате.
– Но обо мне и Федор, и Гришка твой знают, – развела руками Корилла, – а императрица, если не от тебя, так от своих верных подданных доклады имеет.
– Знает, от неё я секретов не имею. Она меня понимает, а порой даже побаивается. Я ей не враг, да и она мне советчица во всем верная. О наших с тобой отношениях она сразу вразумилась, как только две твои оды изволила издавать три года назад в Петербурге, что важно, по-русски. Её не проманишь. Она мне сразу сказала, что, похоже, не ты меня тогда четыре года назад окрутила, а оба мы сразу привязались друг к другу, да так, что верно любишь ты меня. Матушка знает о твоих похождениях по Европе, наслышана, сколько за тобой волочилось по уши влюбленных, только вот, получается, ты из всех меня одного хотела привечать. Ты же умница великая. Императрица наша, тогда ещё прочтя оду, приметила ум твой цепкий.
Орлов снова замолчал и продолжал пребывать в глубокой задумчивости. Корилла не спешила тревожить графа вопросами, поскольку знала его привычку уходить в себя. Алехан вспоминал свою последнюю встречу с императрицей, произошедшую прошлой весной. Было это перед самым возвращением в Италию. Был он без брата, когда спешил присоединиться к своему флоту в Ливорно. Они с Екатериной почти закончили долгий разговор, и графу надлежало только откланяться, но вдруг, словно вспомнив что-то, императрица обратилась к нему:
– А что, Алексей Григорьевич, неужто так романтична эта известная всем Корилла?
Он помнил, как, растерявшись от неожиданности, тем не менее не замедлил с ответом:
– Умна она, матушка, это правда, и хороша собой, впрямь необыкновенно романтическое создание.
В тот момент он заметил, как помрачнело лицо Екатерины, но, быстро совладав с нахлынувшими на неё чувствами, мягко, но назидательно, так, как умела в разговоре с ним только она, молвила:
– Ты свои сердечные отношения не выставляй так уж напоказ, не надо. Мне ведомо, что она во всех уголках Европы смущает сердца и кружит головы достойным мужам, и это в свои-то 47 годов! Будь осторожен, чувствую я, что она рождена быть прорицательницей. Такой в Древнем Риме, наверное, возвели бы храм, поскольку тогда уважали всякого рода таланты. Ну да ладно, сам разберешься! Никак, эта поэтесса сама попалась в сети Амура. Я знаю, Алексей Григорьевич, человек ты решительный и перечить тебе не в моих правилах, только вот вступать с ней в законный брак тебе не советую. Я сказала, ей полных 47 лет уже исполнилось, а тебе законные наследники нужны. Сын у тебя по неосторожности твоей уже есть, моим повелением с недавних времен его Чесменским называют, только всё же не Орлов он! А так, думай сам! – Екатерина погрозила Орлову пальцем на прощание и медленно пошла прочь.
«Ой ли, матушка! Ой ли, голубушка! Худого не кличу, да права ли ты будешь нонче? – подумал Орлов, сидя на самом краю огромной кровати, потея от непрошено навалившихся на него дурных воспоминаний. – Я здеся сижу, радея об Отчизне, а они там у нас в Черной Грязи под Москвой, прямо сейчас с этим Гришкой Потемкиным медовый месяц празднуют. Того и гляди сама снова на сносях окажется! А ежели сущую правду отписали братцы мои, что венчаны они с Гришкой одноглазым, пусть и тайно? Значит, по-твоему, матушка, выходит, что Корилла не по мне приходится? А самой-то тебе, чай не 47-ой ли пошел? Поди, на годок, не боле, Корилла постарше тебя будет. А Потемкину сейчас лишь 36, значит, он меня на целых два года моложе. И чего тогда выходит? Ты всё правды от меня жаждешь, матушка, вот тебе и правда! Вот тебе как за глаза меня, да Машеньку мою поучать!»
Алехан всё ещё шевелил губами и слегка покачивался, вызывая тихий скрип кровати. Пауза показалась Корилле слишком затянувшейся. Поэтесса игриво подняла точеную ножку и слегка толкнула ею в широкую спину любовника. Орлов вздрогнул и, очнувшись от своих мыслей, повернул голову и взглянул в лучистые глаза Марии.
– Ты права, знает она про нас. Знает… – вымолвил Алехан, горько усмехнувшись. На его грустном лице появилось выражение беспомощности.
– А… помнишь, как мы впервые встретились? – вдруг спросила Корилла графа, как будто знала, о чем он думал.
– Помню, милая. Четыре года как минуло, не, три, – протянул Алехан. – В самом начале 72-го. Тогда в моем палаццо здесь в Пизе Якуб Хаккерт выставил две первые картины, которые заказала ему наша императрица по рекомендации Ивана Шувалова. Первая – гибель корабля «Святой Евстафий» и вторая – сожжение турецкого флота при Чесме. Я тогда много народа пригласил, в том числе и тебя. Все были восхищены и наперебой пели Хаккерту дифирамбы. Он действительно слыл лучшим среди немцев, а, может, даже и всех европейцев.
– Помню я все прекрасно – только ты один потрясен не был, – возразила Корилла с улыбкой.
– Нет, не совсем так! Картины мне понравились, я только указал Хаккерту на неточности, ведь взорванный корабль был им изображен неверно.
– Но Хаккерт, пусть и вежливо, но тогда тебе при всех выпалил: «Ваше сиятельство, я сожалею, но я никогда не видел, как взрываются корабли. Расскажите!»
– Ничего я ему тогда рассказывать не собирался, да и как описать такое – это видеть надобно, я тогда хотел смотреть на тебя, ты была самой красивой, твой гибкий стан, глаза… Весь вечер я только и делал, что ловил твой взгляд!
– Может, поэтому ты объявил при всем народе, что устроишь в Ливорно показательный взрыв русского корабля, на утеху всем и Хаккерту в назидание?!
– Нет. Дело было прежде, но и тебя я хотел видеть подле меня, знал, что приедешь, и не ошибся! Той весной ты была неотразима. Не зря я потратил на фейерверк больше денег, чем Екатерина заплатила Хаккерту за шесть картин!
Кориллу охватил прилив приятных воспоминаний, и щеки ее вспыхнули.
– Помнишь, как Хаккерт волновался?! Он ведь хотел на своей лодке чуть ли не вплотную подплыть к фрегату, отданному на преждевременную гибель?
Орлов улыбнулся:
– От взрыва ему берет сорвало с головы – зрелище его потрясло. Изменения, которые он внес в картину, были значительные. Екатерина оценила его работу по достоинству. Даже отписала мне, что Дидро побывал у нее в гостях в Петербурге и был тронут реалистичностью картин.
– Значит, снова ты матушку порадовал?
– Не одну её! Выходит, я одним взрывом тогда сразу двух женщин удовлетворил. Именно в тот день ты моею стала!
– Как же отказать тебе было тогда? Одних бриллиантов сколько мне надарил, ювелиры местные обогатились, стали слухи распускать дурные. Неужто тогда никто тебя не попрекнул, пусть даже шутейно, за то, что денег государевых тыщи на ветер пустил, сжег добра столько?
– Среди наших – никто, а ваши всякое до сих пор бормочут. У меня собственноручная записка Екатерины имеется, она мне служит квитанцией на все суммы, истраченные в течение кампании «на какие-то бы ни было надобности».
– А презенты, которые ты тогда мне даривал, тоже относил на затраты флота своего, или личные деньги тратил?
– У меня что личные потраты, что государственные, едины будут. Всё, что мне в удовольствие приходилось, всё в интересах Государства Российского происходило. Мы всегда едины! – громогласно выпалил Алехан и весело рассмеялся.
– То-то, голубок мой, я всегда при близости нашей ночной ощущала, что уж очень много тебя было. Невдомек мне было тогда, что вместе с тобою вся Россия меня имела!
– Довольно тебе потешаться надо мной! Ты меня сегодня одного во дворце на потеху себе держать намерена, или будешь слушать меня внимательно?
– Тебя, милый мой, желаю слушать всегда, – её губы едва шевелились – она торжествовала, испытывая величайшее удовлетворение.
– Ну, да ладно, тогда слушай.
Алехан сел поудобнее, опершись на подушку.
– Ты хотела про сержанта моего Изотова знать? Коротко сказать, по-простому, так он жизнь спас мне тогда летом 1770 года при Чесме. И это главное. Но история эта долгая, и для твоей ранимой души, боюсь, испытанием станет. Не оплошать бы.
– А мы никуда не спешим, здесь во дворце хоть и душно, но в садах на пленэре ещё жарче. Только я хочу все подробно: твои похождения в Морее для многих загадка по сей день, и я не исключение.
– Только, чур, слушать меня до конца! Может, для начала откушать чего желаешь?
Алехан пристально посмотрел на даму своего сердца. Корилла, не меняя позы, тихим грудным голосом с любовью произнесла:
– Вчера, признаться, когда ты меня ангажировал на менуэт, я с трудом двигалась по паркету – этот затянувшийся пир с обилием яств и вина во славу дня покровителя города Святого Раньери испортил мой устоявшийся порядок умеренного питания. Думаю, сегодня мне лишь водой ограничиться следует. И тебе, друг мой, не помешает сейчас воздержаться от излишеств ради твоего же здоровья.
– Жаль, дорогая моя, что не встретились мы с тобой раньше во дни моего великого триумфа в семидесятом году, – граф возлежал на подушках, уставившись в потолок и почти не слушал, что говорила Корилла.
– Знаешь, Алексей, я тебя видела раньше, ещё до нашего знакомства, но мельком. Помню, была я в Вене проездом, и прослышала, что Чесменский герой из России, граф Орлов, возвращаясь по делам на родину, проследует как раз через Вену. Я не чаяла, когда случай выпадет к тебе приблизиться. За тобой шла тогда огромная толпа австрийцев, все желали поглазеть на победителя османов. Это так, за великим подвигом всегда следует великая известность.
Орлов глубоко вздохнул, сожалея о днях ушедших:
– Было дело… Но величие моего подвига тогда начали оспаривать англичане во главе с адмиралом Эльфинстоном. Да и наши русские адмиралы тоже не отставали… Даже сам Спиридов злобу затаил, а по возвращении в Россию через три года всё же подал в отставку. Он посчитал себя обиженным: полагал, наверное, что это он был достоин титула Чесменского, а не я.
– Его, что же, забыли достойно наградить? – Корилла, к удовольствию Алехана, не спускала с него восхищенных глаз.
– Да что ты, душа моя, – махнул рукой Орлов, глядя в потолок, – награжден был за заслуги высшим орденом святого апостола Андрея Первозванного. От матушки получил поболее тысячи крестьян, а также несколько деревень. Но он жаждал славы сродни моей, Орловской.
– А ты тоже получил этот высший орден от матушки своей?
– Нет, я получил другой. Орден Андрея Первозванного я получил раньше, а за Чесму был награжден высшим воинским орденом Святого Георгия Победоносца. Я им горжусь – за всю историю России его получили единицы. Я стал его третьим кавалером, а вот кавалеров Андрея Первозванного скоро почти сотня наберется! Я мечтал о славе, и я её получил. Я купался в её лучах. Но прошло несколько лет, и на Чесму я стал смотреть по-другому. По-человечески, что ли. Да и на славу тоже. Наверное, тогда я и понял, что, может, именно Изотов и есть высший орден мой. Чудно? Если бы он не спас меня тогда в Хиосском проливе, за сутки до Чесмы, то, я себя спрашиваю: «А была бы Чесма?» Да точно не было бы, не было бы и славы русской. И не потому, что я такой великий флотоводец. Совсем нет! Моряк я никудышный. Тогда в Ливорно я, может, и на военном корабле-то стоял впервые. А по-другому выходит, что, если бы не я, то и всей этой Архипелагской экспедиции не было бы. Смешно сказать, но просто никто не рискнул бы взяться за эту чистой воды авантюру, потому что за неё и за деньги потраченные в случае поражения нужно было отвечать. Ни Спиридов, ни Эльфинстон за это никакой ответственности не пожелали бы нести. Случись мне погибнуть тогда, эти два адмирала, не желая делить власть, враз бы смертельно переругались, ведь ненавидели они друг друга лютой ненавистью. Когда встал вопрос – начинать битву или нет, нужен был человек, который взял бы на себя всю ответственность. Это хорошо, что виктория наша стала, а если бы наоборот? У турок ведь было больше и кораблей, и пушек, и земля ихняя была. Я знал, что никто на это просто не отважится, догадывалась об этом, похоже, и матушка. В отличие от них, английских и русских моряков-офицеров, храбрых командиров кораблей русских, у меня к тому времени и так было всё – и слава в благородном обществе, и богатство, и молодость. Оставалось мне только вкушать удовольствия. Я задаю себе вопрос – что же меня подвигло на это? Да ещё брата своего любимого Фёдора подбил на это рисковое дело. Гришка тоже бы с радостью поехал с нами, да матушка не на шутку осерчала.
– Коли так, ответь – какая цель вела тебя?
Корилла сгорала от нетерпения услышать из уст любимого побольше батальных историй. Она по-прежнему возлежала на кушетке возле окна. Из него тянуло легкой прохладой, отчего не покрытые халатом бедра поэтессы покрылись мурашками, что всегда вызывало у графа чувство щемящего сердце умиления.
– Если честно, как на духу, то знай – всю эту экспедицию я придумал, находясь в Петербурге, там же заручился поддержкой матушки и братьев моих. Всему причиной мой неуемный нрав – не могу я сидеть дома и вкушать одни только удовольствия. Я от такой жизни просто помер бы, и всё. А тут такой прожект, название которому матушка определила – «Греческий». Суть его вот в чем состояла: ещё до подписания 18 ноября 1768 года манифеста «О начатии войны с Оттоманской Портою» я просил брата моего, отписав ему отсюда, попробовать убедить Екатерину, что уж ежели снаряжать в тыл турок морскую экспедицию и поднять на Медитеране восстание православных славян и еже с ними греков, то тогда ехать надобно до самого Константинополя и освободить в конец всех православных и благочестивых от ига тяжкого. И, как в грамоте государя нашего Петра Первого было сказано: «… а их, неверных магометан, согнать в степи песчаные на прежние их жилища». Петр Великий планы вынашивал сделать Константинополь столицей Русской Империи. Екатерина сразу стала на мою сторону, но смотрела на нашу экспедицию скорее как на военную диверсию в тылу врага. Это уже чуточку позже матушка стала получать письма от Вольтера, в которых её любимец уверял её в необходимости разгрома варваров в лице османов уже за тот только недостаток почтения, которое они проявляют к дамам. Вольтер, зная, что Екатерины с его взглядами солидарна, настаивал на том, чтобы османов за их презрение к изящному искусству и за то, что они женщин взаперти держат, уничтожать. Брат мой Григорий, находившийся тогда неотступно при матушке, сообщил мне, что Вольтеру все-таки удалось убедить её в том, что именно русским суждено изгнать турок из Европы. Вольтер верил, что я, Алексей Орлов, должен воздвигнуть себе триумфальную арку не во льдах наших, а на Стамбульском гипподроме. Однако правительница наша все же не склонна была основывать наши отношения с Турцией только на мыслях Вольтера. Она тогда грезила идеей конфедерации всех христианских народов Европы, которую некогда изложил герцог де Сюлли французскому королю Генриху IV. Она высоко ценила и Генриха, и Сюлли, и даже нам в пример их нередко ставила.
Поэтесса пожелала продемонстрировать свою сопричастность этой идее и вымолвила:
– И меня тоже мои учителя долго мучили его заумными сентенциями за годы моего обучения во Франции. Я хорошо помню это десятитомное собрание «Записок» Сюлли. Действительно, в его последнем томе содержалась идея конфедерации христианских народов. Но, насколько я помню труд герцога, он не был уверен – являются ли вообще русские христианами, и очень сомневался в возможном участии тогдашней России в этой конфедерации. Как уверял Сюлли, Христианская Республика должна была гарантировать вечный мир в Европе, а России предлагалось всего лишь выбрать своё место – либо в Христианской Республике, либо в Азии наряду с османами. Скажу больше, Сюлли даже предлагал прогнать московского царя в Азию.
Внимательно выслушав Кориллу, Алехан заметил:
– Наверное, ты права, я не силен во французском, но матушка изучила сей труд внимательно, и лет пять тому назад у нас в России даже как будто начали печатать перевод всех десяти томов «Записок» Сюлли по заказу императрицы у издателя Верёвкина. Французам матушка сделала заказ на изготовление бюстов обоих, и Генриха, и Сюлли. Причиной тому был не столько аббат Сент-Пьер, который в 1713 году опубликовал на основе работ Сюлли свой проект «Установления вечного мира в Европе», по которому Россия положительно входила в состав конфедерации, сколько Руссо, который доходчиво написал сокращенный вариант этого проекта, позднее разосланного по всем монархиям. Политическое завещание французского короля Генриха, которого матушка отмечала как величайшего из всех французских монархов, выставляет в негативном свете всю политику современной Франции по оказанию поддержки Порте. Для матушки идея Христианской Республики – это крупный козырь в ее политике.
– Пардон, граф, но зачем мне все эти подробности? Меня волнует прежде всего история твоего слуги, те события, которые заставили тебя так привязаться к нему! – Корилла поднялась с кушетки и присела подле Алехана. Он посмотрел на нее и тихо сказал:
– Но ты же желала познать мои душевные тревоги, мои мысли, чтобы я окунулся в прошлое, – граф не обиделся на даму своего сердца, но некая грусть скользнула в его глазах.
– Хорошо, прости, что перебила, – сказала Корилла и снова улеглась на свою кушетку.
Возможно, Кориллу тронул надменно-холодный тон Алехана, лишенный всякого внимания к ее трепетной персоне. Но умом она понимала, что сама заставила учтивого графа превратиться в холодного рассказчика. Орлов помолчал, потом тяжело вздохнул, и, кряхтя, попытался устроиться на подушках поудобнее.
– В таком случае я попробую изложить все покороче, хотя как это сделать ловчее, не знаю. Ну так вот… Место, где должно было начаться восстание против Порты, мы с матушкой определили совместно. В Морее греков гораздо больше, чем турок, которые давно отвыкли от войны и жили в удовольствие. Однако признаюсь, был мною допущен просчет, поскольку агитация на полуострове началась задолго до появления эскадры Спиридова, и захватить турок врасплох не удалось. Они почувствовали неладное и стали стягивать туда войска. Скажу откровенно, тот элемент внезапности, о котором в переписке со мной так настаивала императрица, был утрачен. Вся моя игра практически потеряла смысл, – граф приподнялся, и выражение его лица сменилось на трагичное, – столько труда было впустую! – развел он руками. – К тому же, я не смог точно определить сроки прихода наших кораблей к берегам Эллады.
– Но согласись, милый, что предугадать сроки завершения такого рискового похода в круг всей Европы было практически невозможно. Даже опытный Спиридов не предполагал, что столкнется с таким тяжелым вояжем и столькими потерями и бедами. Получается, в этом нет твоей вины!
– Ты обещала меня не перебивать! Верю, что терпения у тебя достаточно, – огрызнулся Орлов и с горечью воскликнул: – Я в ответе за людей, деньги, корабли и сроки – за всё только я единственно отвечаю.
Он помолчал и, успокоившись, продолжил, но на этот раз уже тоном бесстрастного рассказчика, что не ускользнуло от внимания Кориллы и заставило ее сердце болезненно сжаться.
– Итак, я сказал, что турки почувствовали опасность. Про Черногорию и рассказывать не стоит – там у нас ровным счетом ничего не вышло. Я на авось отправил туда Долгорукова: князь был мне тогда совсем бесполезен. По характеру он был общительным, мог и приврать изрядно. Не помню, знакомил я его с тобой? Кажется мне, он чем-то похож на тебя. Фантазией, что ли? – спросил Алехан с теплом в голосе, чувствуя себя виноватым оттого, что так резко одернул Кориллу.
Женщина промолчала, следуя своему обещанию, лишь едва заметно повела бровью. Орлов так и не понял, что таилось за этим едва уловимым движением, и продолжил свой рассказ, полулежа на кровати.
– Больше всего я верил в майнотов. Это такое греческое племя, населяющее Южною Морею. Они воинственны и храбры. Туркам за время их трехсотлетнего владычества в Греции так и не удалось покорить этот народ, который скрывался в недоступных горных ущельях. По моему приказу флот Спиридова прибыл в Морею, в порт Витуло, в середине января 70-го года. Мы высадили, наконец, наш десант, к которому присоединились храбрые майноты. Капитан Барков, командуя отрядом из полтысячи, даже чуть более, русских и майнотов, сумел обратить в бегство трехтысячный гарнизон турок. Город Миситрия стал нашим. Между прочим, его древнее название – Спарта. Через десять дней в марте сдалась и крепость на условиях свободного выхода гарнизона. Тут-то и случилось самое страшное, хотя по закону войны, принятому среди цивилизованных народов, мы-то с пленными вели себя гуманно. Но вот майнотам эти законы были не ведомы. Учинили они страшную бойню, бесчеловечно расправившись с женщинами и детьми турецких воинов – жестоко вырезали более тысячи человек. Русский десант не смог сдержать майнотов даже ценой собственных жизней. Тех, кого Барков всё же смог спасти от гибели, пришлось потом охранять от обстрелов жестокого племени… Позже, когда к отряду Баркова с гор спустились остальные майноты, желавшие сражаться с турками, наш отряд насчитывал уже 8 тысяч человек. С такой вот силищей Барков двинул к городу Триполице. Но тут уже турки вели себя по-другому. Они поняли, что в случае поражения весь их гарнизон будет вырезан, и встали насмерть. В результате майноты, натолкнувшись на ожесточенное сопротивление, проявили трусость и предали нашу русскую пехоту, бросившись наутек в горы. Наш отряд остался без всякой помощи и понес огромные потери. Только небольшая группа из четырех человек сумела вернуться в Миситрию. Барков был тяжело ранен, но флаг сохранил, обвязав его вокруг тела. Второй отряд майора Петра Долгорукова овладел всею Аркадиею и пришел к Наварину, где неподалеку, в Короне, встал на якорь наш флот. Крепость Наварин удалось захватить только к 10 апреля. Через четыре дня уже я со своей эскадрой прибыл в Корон сам. Я отдал распоряжение всему флоту и пехоте снять осаду крепости Корон и передислоцироваться в Наварин, который стал центром наших сил. Однако для безопасности необходимо было овладеть крепостью Модон, что была поблизости, но туда стали спешно прибывать турецкие войска, поэтому эта крепость не была нами взята, а к тому же 9 мая один случайный грек сообщил нам, что в порт Наполи-ди-Романия прибыл турецкий флот в составе 12 линейных кораблей с намерением атаковать наши корабли в Наваринском заливе. Сухопутные силы турок в Модоне значительно пополнились и были готовы напасть на город Наварин. Они повредили водопровод, и медлить было нельзя. Мы со Спиридовым и Грейгом приняли решение взорвать крепость, вывести всю эскадру в море и дать туркам бой. Вот тогда наконец пришла к нам хорошая весть: один грек-лазутчик сообщил о подходе к восточной стороне Морейского мыса долгожданной эскадры контр-адмирала Эльфинстона в составе трех кораблей и двух фрегатов. Эльфинстон – храбрец, но редкий дурак. Он был готов один сражаться против 10 турецких кораблей и 6 фрегатов. Из Стамбула для соединения с мощной турецкой эскадрой была направлена ещё одна в составе шести кораблей. Спиридов пошел на соединение с Эльфинстоном, и оба адмирала решили открыть погоню за первой эскадрой, которая избегала сражения до прибытия второй. Погоня длилась почти месяц, но окончилась безрезультатно. Спиридова раздражала медлительность Эльфинстона, который в свою очередь высказывал неприязнь ко всему русскому и желал командовать самолично. Надо отдать должное турецким судам, они ни в чем не уступали нашим. Что касается их матросов, то они были храбры и выносливы, но слава богу, в искусстве морского дела разбирались плохо. На турецких кораблях служило много греков, албанцев и далматинцев, и умирать во славу Аллаха и пророка его Магомета никто их них не желал. Я на своем корабле «Три Иерарха» покинул Наварин только 26 мая, взорвав крепость, и после двухнедельных поисков лишь 11 июня встретился с эскадрами Спиридова и Эльфинстона. Обнаружил я печальную картину: командиры в ужасной ссоре, подкомандные в унынии и неудовольствии. Больных на кораблях насчитывалось более полутысячи. Эльфинстон отказался подчиняться Спиридову вконец.
Корилла, борясь с сонливостью, вызванной духотой, и желая выказать свой интерес к повествованию графа, снова вмешалась в рассказ:
– Так почему у них такой разлад произошел, чья в этом была в вина?
Корилла сладко зевнула, но Орлов был настолько поглощен своим рассказом, что, казалось, просто не обращал внимания на свою утомленную собеседницу.
– Тут бесспорно есть вина императрицы нашей, но лишь отчасти. Она, отправляя Эльфинстона и Спиридова из Кронштадта, наделила их уж слишком широкими полномочиями, лестными напутствиями и инструкциями. Это кружило им головы и сбивало с толку. Для пресечения их споров я был вынужден принять начальство над флотом как уполномоченный императрицы и повел корабли к острову Парос с намерением разбить турок, ибо только это могло смягчить впечатление от моей морейской неудачи. Я рассуждал так: ежели Богу будет угодно и разобьем мы флот турецкий, то союзно с греками сможем затем действовать и на суше. В случае несчастного сражения или сохранения турецкого флота в благополучном состоянии надежды нашей зимовать на островах Архипелага не будет никакой, и принуждены мы будем возвращаться в Средиземное море. Могу только благодарить матушку, она меня своими письмами поддерживала, и ни разу я не мог обнаружить в них ни малейшего выражения неудовольствия вследствие провала Морейского похода.
Алехан видел, что Корилла встала с кушетки и стояла теперь у окна, выходившего в черешневый сад.
– Может, пойдем, откушаем чего-нибудь? – выдавил он с трудом, стараясь быть учтивым.
– Нет, голубь мой, мы сделаем это позже, а сейчас продолжай, я слушаю тебя внимательно, – решительно возразила поэтесса, и граф, ни на минуту не расслабляясь, продолжил:
– Помешать соединению турецкого флота в единую мощную эскадру так и не удалось, но её ещё нам предстояло найти. Я принял решение идти на поиски неприятельского флота. Фрегат «Надежда Благополучия» снял со всех бортов больных и раненых и повез их в Порт-Магон. К счастью, линейный корабль «Ростислав» после ремонта в Генуе вовремя нас нашел и усилил группировку. 19 июня наш флот в полном составе двинулся к острову Хиос в поисках неприятеля. Больше всего я боялся, что турецкая громада уйдет от нашего преследования, достигнув пролива Дарданеллы. Если бы это случилось, вся моя экспедиция оказалась бы под большой угрозой. Но нам повезло – 23 июня с одного греческого судна поступило известие, что турецкий флот был замечен недалеко от Хиоса. Я немедленно поднял кайзер-флаг на своем корабле. В полдень я отправил на «Ростислав» командора Грейга для обнаружения турок. Через четыре часа Грейг сигналом сообщил, что видит неприятельский флот под командованием Ибрагима Хосамеддина. Это был, скажу я тебе, трус и ничтожный человек. Фактически же флотом командовал алжирец Гассан, храбрый и знающий моряк, а лучшими моряками турецкого флота были далматинцы и берберийцы.
Алехан поднялся и присел на краешек кровати, опустив голову, и обеими руками схватился за трость. Собственный рассказ так увлек его, что Корилла боролась с желанием окликнуть графа, увлекаемого волнами своей памяти и, казалось, совсем не замечавшего прекрасной донны. Повинуясь подсознательному желанию, она встала и тихо ступая по мраморному полу, принесла хрустальный графин, сверкающий алмазными гранями на солнце. Она налила воды в стакан и подала его графу, но Алехан даже не поблагодарив Кориллу, поставил воду на треножник возле кровати. Не поднимая головы, он продолжил:
– Увидев этот ихний флот, я ужаснулся и пребывал в замешательстве, не зная, что предпринять. Мы попытались сосчитать турецкие суда. В подзорную трубу было видно 16 линейных кораблей, 6 фрегатов, бригантины, галеры, в общем, до 70 вымпелов. Все находились в тесном и беспорядочном стоянии. По всем статьям османский флот был значительно сильнее нашего. У меня на тот момент было 9 линейных кораблей, 3 фрегата, бомбардирский корабль, пакетбот, 3 пинка и тринадцать мелких судов: всего 30 вымпелов. Не исключаю, что моя растерянность могла иметь дурные последствия, и наверное, нужно было нам с ходу атаковать застигнутого врасплох противника, но всё же решил я посоветоваться с адмиралами. Совет состоялся утром на «Евстафии» при перестроении эскадры в боевой порядок. Турки, разумеется, успели уже подготовиться к отражению нашей атаки. На совете флагманов мы решили атаковать, выделяя на каждый вражеский один наш корабль, и только после того, как разобьем основную часть турок, предполагали приняться за остальных. В шесть утра я подал сигнал «Гнать неприятеля». Авангард возглавлял адмирал Спиридов, имевший свой флаг на «Евстафии», командиром корабля был капитан Круз, с ним же находился и мой брат Фёдор. Самым крупным из турецких кораблей, пожалуй, был «Реал-Мустафа». Первой в атаку пошла наша «Европа», отрепетовав сигнал «Гнать неприятеля», за нею, держась в кильватере, двинулся «Евстафий». При подходе «Европы» к передовому турецкому кораблю греческий лоцман предупредил о наличии в этом месте подводных камней, и капитан Клокачев тут же дал команду на поворот. Спиридов, не распознав причину маневра, посчитал Клокачева трусом и даже вознамерился разжаловать его в матросы. «Евстафий» же в результате вышел в голову авангарда и на него сразу обрушился огонь трех турецких кораблей. Спиридов смотрелся храбрецом: я видел в зрительную трубу, как он ходил под обстрелом по верхней палубе, нахлобучив треуголку по самые брови, с обнаженной шпагой и образом Святого Иоанна Воина, который ему даровала императрица. Очень скоро упорная дуэль наших флотов превратилась в свалку без четкой тактической линии. Слава Богу, нам удалось поджечь огнем «Реал-Мустафу». К тому времени «Евстафий», совершая поворот, имел уже много повреждений в снастях и, окончательно потеряв управление, медленно дрейфовал к борту турецкого флагмана. Носом наш корабль протаранил «Реал Мустафу», а на корме «Евстафия» музыканты, выполняя приказ Спиридова «играть громко, играть до победы», до последнего громко играли марш. За «Евстафием» следовал наш «Три святителя», который также получил повреждение и, потеряв управление, попал под перекрестный огонь врага. Признаться, и мы на «Трех Иерархах» в пороховом дыму не заметили его, и тоже дали полный залп по нашему кораблю, приняв его за вражеский. Хорошо, что быстро спохватились. Зато «Три Иерарха», единственный из всех наших кораблей, смог выполнить маневр и встать на шпринг согласно диспозиции, как раз против кормы мощного корабля турок, 100-пушечной громады «Капитан-паша». Мы открыли по нему огонь и нанесли серьезные повреждения. Турки не отвечали. Всё было в дыму. «Реал Мустафа» полыхал, а наш «Евстафий», протаранив турка между грот и бизань-мачтами, начал отчаянный абордаж. Бой разгорелся на верхней палубе, наши матросы и армейский батальон одолели янычар. Вообрази, один наш смельчак, потеряв левую руку и серьезно повредив правую, зубами сорвал зеленый с полумесяцем турецкий флаг, но был насмерть заколот вражеской саблей. Сей флаг чуть позже был доставлен Спиридову. Была возможность взять в плен раненого Гассан-Бея, но он успел прыгнуть за борт и был подобран своей шлюпкой. Турецкий корабль был объят пламенем, матросы бросались за борт, а по такелажу и сцепившимся реям огонь с турецкого корабля стал распространяться и на «Евстафий». Я дал команду всем русским гребным судам идти на спасение нашей команды. Никогда не забуду, как подгоревшая грот-мачта турецкого корабля с грохотом рухнула на наш «Евстафий», подняв в воздух фейерверк искр. Мачта задела крюйт-камеру, где хранился порох, и через минуту весь «Евстафий» взлетел на воздух. Когда я увидел страшный взрыв корабля, на котором был брат мой любимый Федор, голова моя помутнела, ноги перестали слушаться. Качка от стрельбы корабельной артиллерии была настолько сильна, что меня просто отбросило к борту. Потеряв на время сознание, я потом, как в тумане, почувствовал, что стал заваливаться за борт, и ослабевшими руками постарался схватиться за поручни. Как Изотов, спаситель мой любезный, поймал меня за морской кафтан, и, буйвола такого, заволок обратно на борт, не знаю. Откуда у него только силушки хватило на это? Вот, любовь моя, за сей поступок я его и отблагодарил потом званием сержанта, и к себе приблизил. Но тогда, пребывая в смятении духа, страдая от качки, слабый телом и не в силах сдерживать рыдания, я зажал в кулаке почерневший от пороха парик и принялся истово молиться.
Корилла прикрыла глаза, и Алехан увидел, как слезы побежали по ее смуглым щекам. Её голос от волнения стал немного хриплым, и она тихо вымолвила:
– Послушай, как же все-таки брат твой спасся в этом кровавом месиве? – тут поэтесса перекрестилась.
Орлов бросил утомленный взгляд на Кориллу и тоже перекрестился. Она увидела, как по мгновенно осунувшемуся от тяжких воспоминаний лицу графа тоже текли слезы, но сам он их просто не замечал.
– Воистину повезло тогда моему Дунайке, просто повезло! Знать божьей милостью, никак не меньше, – Алехан потряс головой и снова перекрестился. – Всё это случилось в момент моего душевного торжества. Я хорошо видел, что турки прекратили сопротивление и стали сдаваться. Виктория была так близка!… Как выяснилось после боя, снять с горящего «Евстафия» перед взрывом удалось немногих: Спиридова с сыном, брата моего, капитана Круза, одного кирасира и, кажется, ещё артиллерийского офицера. Может, ещё кого успели спасти, но мне тогда не доложили. Сперва Спиридовы с Федором перешли на пакетбот «Почтальон», а Круз даже попытался отбуксировать шлюпками наш корабль от «Реал-Мустафы» и залить водой крюйт-камеру, но всё оказалось напрасной работой. Как сам Круз остался в живых после адского взрыва, для нас всех осталось загадкой. Был он весь изранен и обожжен. Его подобрали после боя на нашем гребном судне – капитан держался на обломке мачты. Вскоре после взрыва «Евстафия» та же участь постигла и «Реал-Мустафу». Я сперва хотел идти на помощь, но, увидев с палубы, что произошло, приказал остановиться.
– Много людей погибло? – потрясенная, Корилла закрыла лицо руками.
– Мария, ну, как ты думаешь? – Алехан отвёл взгляд от побледневшего лица поэтессы и посмотрел в потолок. – Вся верхняя часть «Евстафия» просто взлетела на воздух вместе с музыкантами и, кстати сказать, с огромной суммой денег, что были у Спиридова на сохранении для чрезвычайных нужд, почти пятьсот тысяч золотом!
Не обратив внимания на последние слова графа, Корилла дрожащим голосом повторила свой вопрос.
– А людей сколько погибло?
Орлов посмотрел на Кориллу, сомневаясь, стоит ли пугать впечатлительную женщину подробностями, но все же ответил:
– Да, почитай, вся команда «Евстафия». Это значит, 22 офицера и 598 нижних чинов. У турок никто не считал, но команда у них была под целую тысячу.
– Теперь, граф, я понимаю, каково тебе было смотреть на картины Хаккерта и делать ему замечания. В момент твоего триумфа, когда сердце поет, вдруг раздается страшный взрыв… Нет никакого триумфа, и брата тоже нет!
– Рад я, Мария – чуешь, что на сердце моем было. Значит, не зря я терзал тебя своим долгим и невеселым рассказом. Ну, уж теперь представь себе картину после боя, когда турки, завидев взрыв своего флагмана, стали спешно рубить якорные канаты и отступили в местечко под названием Чесма, а мы на веслах принялись среди мертвых разыскивать своих. Заметь погода стояла прекрасная, ветра почти не было, а тут такое: на кораблях болтаются клочьями рваные паруса, ванты свисают за борт, реи перекошены. Наконец оружейный дым рассеялся. Два часа пополудни, синее безоблачное небо, солнце пылает, а на воде пепел и обгорелые трупы…Страшная фантасмагория.
– А кроме погибших на «Евстафии» у вас, наверняка, были другие потери?
– Да были, но только 16 человек убитыми на всех наших кораблях.
– Странно, что так мало, такой горячий был бой!
– Мы тоже были этому немало удивлены, но, разобравшись, поняли, в чем главная ошибка турок. Они неумело расставили свои орудия на кораблях, установив наводку слишком высоко, и били в основном по рангоутам, повреждая мачты, реи и снасти. У меня на «Трех Иерархах», например, когда мы стояли на расстоянии менее одного кабельтова от турок, был только один раненый, а в каждую из нижних мачт попало аккурат по два ядра, но были перебиты почти все ванты, как у грот-, так и у фок-мачты. У других наших кораблей – почти тоже самое. Такое редко, но случается. Не иначе, фортуна ворожила и нам благоволила. Видно, Бог был с нами.
Корилла улыбнулась, пораженная.
– Дивен Бог в чудесах своих! А когда же тогда была Чесма?
– Через один день только всё и приключилось. Корабли наши имели большие повреждения, сразу начались ремонтные работы. Вечером, часов в шесть, я послал Грейга на корабле «Гром» с целью разведки турецкого флота. Грейг установил, что устье Чесменской бухты настолько узко, что через него могут пройти только три корабля, да и то с трудом. Выходит, турки сами себя заточили в Чесменский мешок, и, чтобы они оттуда не выбрались, со следующего утра два наших корабля и пакетбот открыли заградительный огонь, блокируя выход из бухты. В результате обсуждения совет флагманов принял решение атаковать турка ночью, используя брандеры.
– А в ваш совет входил Федор?
– Нет, Дунайки не было, он отрапортовался больным. К нам кроме адмиралов присоединились только Долгоруков и Ганнибал. Сам я по прихоти своей не смел поставить себя в ряд со Спиридовым и Грейгом. Я генерал-поручик, а не адмирал. Я лишь старался не мешать принимать решения и был готов взять на себя любую ответственность за возможное поражение нашей эскадры. Я даже не знал, где в случае беды будем чиниться и отдыхать. Прочной базы в Архипелаге у нас не было. Порт Ауза, что на Паросе, – Алехан махнул рукой в сторону поэтессы, как будто она пыталась возражать, – разве там было, где разместить такой флот как наш?
– А что такое брандеры, это такие корабли? – Корилла смущенно улыбнулась. Граф же изумился догадливости поэтессы.
– Точно так, дорогая, греки нам передали свои крупные торговые суда, и мы начинили их порохом и зажигательной смесью для уничтожения турецких кораблей. Бригадир Ганнибал отобрал охочих людей, согласных на отважный поступок по их собственному желанию, и назначил командиров, коими стали: английский капитан-лейтенант Дугдель – выдвиженец Эльфинстона, лейтенант Ильин, мичман князь Гагарин и лейтенант Маккензи – любитель застолий, балагур и любимец русских офицеров. Все четверо находились под общим командованием Грейга.
Чесма была под прикрытием береговой артиллерии турок, и называли мы её тогда вовсе не Чесма, а по-древнему «Эфес». Ночью мы хорошо видели, как тесно турки стоят на якорях. Поэтому основной нашей задачей стало сожжение турецкого флота посредством направления на них тех самых брандеров, и, как только те загорятся, мы должны были начать обстрел их с наших кораблей. Диспозиция не была замысловатой. Мой корабль «Три Иерарха» был во втором эшелоне. Ударной же силой был отряд кораблей во главе с «Ростиславом» под командой пересевшего на него Грейга. В час ночи «Европа», а затем ещё два наших корабля и два фрегата заперли выход из бухты и начали огонь по турку. «Гром» очень быстро и удачно поджег турецкий корабль. В этот момент Грейг дал приказ брандерам выступать. Поначалу нам явно не везло. Дугдель первым на всех парусах устремился к турецкому кораблю, но его опередили турецкие галеры и напали на горящий брандер. Дугдель сжег свой корабль, а сам с командой вплавь добрался до шлюпки. В общем, первый брандер затонул. Вторым был Маккензи. Ему повезло больше – он почти добрался до корабля неприятеля, запалил своё судно, однако сел на мель. Но нет худа без добра: зарево его брандера осветило нам не только корабли турок, но и их артиллерию на берегу. Третий брандер был у Ильина. Он спокойно подошел к турецкому кораблю, зацепился за него и, приткнувшись бортом, зажег его. Четвертому брандеру князя Гагарина работы уже не было, его подожгли и пустили по ветру: турецкий флот пылал почти весь.
– Это как же вашему Ильину так спокойно удалось подойти к турку? Или опять Бог помог? Верю, что всё так и было, но не в обиду тебе, граф, скажу, что тут какой-то курьез!
– Согласен с тобой, дело тут не обошлось без курьеза. Как потом Гассан-паша рассказывал барону Тотту, турки по ошибке приняли брандер Ильина за судно перебежчиков, идущих сдаваться вполне добровольно. Они радовались как дети, предвкушая счастье вести их с триумфом в Константинополь. Эта промашка турок и помогла Ильину выполнить свою задачу.
– И что? Все сгорели?
– Да, все до одного полыхнули и по очереди стали взрываться. Взорвались за какие-то пять-шесть часов. Правда, Грейгу удалось один турецкий корабль захватить в плен целехоньким. Я его потом капитану Крузу отдал под командование, «Родос» назвали.
– А турецкие моряки спастись пытались?
– Страх сковал всех турок. Побросав корабли, даже те, что ещё не загорелись, турки вплавь или на шлюпках устремились к берегу. От огромного числа спасающихся шлюпки переворачивались. Люди тонули, так и не достигнув земли. Группа кораблей под командованием Грейга даже прекратила обстрел, чтобы дать возможность тем несчастным, которые имели силы, доплыть до берега. Турки спасались не только с кораблей, но бежали даже из замка и самого города Чесма. Грейг на «Ростиславе» один геройски оставался поблизости от пылающих вражеских кораблей, дав остальным команду отойти на безопасное расстояние, чтобы те сами не загорелись – жар был таким сильным, что трескалась кожа на лице. Только когда Грейг убедился, что не осталось ни одной целой шлюпки, он отдал приказ поднять на «Ростиславе» якорь и пошел на соединение со мной. Приблизившись, он салютовал мне 21 артиллерийским залпом, я с «Трех Иерархов» ответил тем же. Грейг опустил бренд-вымпел и прибыл ко мне на корабль с отчетом. Представь, с какой радостью я его встретил.
– Сколько же погибло народу! – воскликнула Корилла, и в её выразительных глазах Орлов вновь заметил искреннее сострадание.
– Да, турок погибло много, полагаю, тысяч одиннадцать, да считай, весь турецкий флот сгорел. Наши потери в живой силе были и впрямь невелики, всего-то 8 убитых и получили мы 14 пробоин. Даже на «Ростиславе», который был ближе всех к противнику, чудесным образом никто не погиб, были лишь повреждены паруса и имелась пробоина в обшивке. Так что к счастью раны зализывали недолго. Моряки с опаленными солнцем и огнем лицами кричали «салют», затягивали морские песни. В мареве вечернего зноя, перед тем, как отойти ко сну, я, конечно, подпил с моряками и, признаюсь, крепко. От солнца злющего весь багровый лицом, страдая от едкого трубочного дыма, я вышел из жаркой, как баня, кают-компании, чтобы помочиться с борта. Справляя нужду, я был впервой так поражен ночной синевой, на фоне которой высыпали огромные аттические звезды, каких не видывал я в дорогой моему сердцу Москве. Впечатляли и черно-зеленые кипарисы вдоль берега, и даже развешанное на вантах матросское белье не могло заглушить запах маслин и роз. Никто из матросов не хотел спать. Изотов, что стоял подле меня, сказал: «Жить здеся, кажись, легко! Край богат!». Утром 26 июня сигналом со своего корабля я вызвал к себе всех флагманов и капитанов. После полудня я на своем катере с братом Фёдором, князем Долгоруковым и Грейгом отправился на осмотр места гибели турецкого флота. Среди плавающих трупов мы даже обнаружили нескольких живых турок. Я распорядился отправить их на корабль и оказать помощь. Победа была великой, и люди русские, что со мной были рядом, были достойны своих наград, но особенно выделялся неутомимый Самуил Грейг. Я об этом сразу отписал императрице донесение.
– Зачем тебе этих англичан было так возвеличивать?
– Знай, я отмечаю только достойнейших из достойных. Лавры достались всем, в первую голову Спиридову и русским командирам: Клокачеву, Хметевскому и другим. Но главным героем Чесменского сражения матушка, по согласию со мной, назвала Грейга. Он был награжден орденом Святого Георгия 2-ой степени.
– Он же англичанин по происхождению?
– Да, англичанин, но именно по происхождению, сам же он считал себя евреем. Матушка пожаловала ему русское дворянство и родовой герб, а ещё до Чесмы её указом он был произведен из бригадиров в контр-адмиралы. Было это в апреле 70-го, но мы узнали об этом только в августе, уже после своей виктории.
– А тот русский, что поджег брандер?
– Ильин, что ли? Не только он, все четыре командира брандеров получили ордена Георгия 4-й степени и повышение по званию, а матросы – годовое жалование. Знаешь, у русского матроса одна беда – пьянство беспробудное. Деньги для них – зло! Быть бы и Ильину большим капитаном, да боюсь, прежде сопьется.
– На этом, я надеюсь, дорогой граф, ваши мытарства на Медитерране и Архипелаге завершились? Я была свидетелем, как вся Европа ликовала при упоминании фамилии человека, который так смело и искусно истребил турецкий линейный флот.
Алехан расплылся в довольной улыбке:
– Да, вызвали мы и ропот и великую молву!
Корилла подала Алехану его шелковые башмаки, украшенные камнями, и уже склонилась перед ним, желая помочь, но тот жестом остановил поэтессу и продолжил:
– Пожалуй, можно и закончить сие повествование о Чесме. Однако счел бы важным я поделиться с тобой ещё некоторыми размышлениями о минувших событиях.
– Извольте, граф, – ответила поэтесса, выпрямившись, надеюсь только, вы не станете меня больше пугать подробностями истребления турок? – Она вновь вернулась на своё место и уселась на кушетку, по-детски поджав под себя обнаженные ноги.
Своей мягкой и вкрадчивой манерой говорить Корилла умела располагать собеседника к доверительности. Сдержанные и плавные движения её рук вселили в Орлова умиротворенность и спокойствие.
– Именно о дипломатии и намеревался речь свою вести я. Чесменский бой прежде всего поразил ужасом город Смирну, известную и богатую своей торговлей. Вскоре получил я письма от европейских консулов, из которых узнал о европейских интересах, с которыми Россия должна будет считаться на Востоке. Русский флот тогда вдруг стал вызывать беспокойство у всех европейцев, поскольку препятствовал их торговле, сложившейся веками, а в Петербурге начали распространяться слухи о новых успехах нашего флота. Болтали, будто бы я уже и Дарданеллы взял. Но, как тебе известно, это была неправда. Для матушки, конечно, сей пролив имел огромное значение, ибо приближал мирный договор с Портою. Положение дел было таково, что находились мы в одном шаге от грандиозной виктории. Мы отрезали своим флотом Смирну, главного поставщика сирийского провианта для Константинополя. Архипелаг в значительной части был наш, уже более 20 островов были под нашим контролем. Надежда Константинополя на доставку продуктов через сухой путь из Малой Азии была зыбкой. Голод грозил столице османов, но блокаду, надо признать, мы начали неудачно. Совершенно неожиданно без моего приказа, не призвав Спиридова на помощь, адмирал Эльфинстон на корабле «Святослав» вдруг покинул нашу эскадру, блокировавшую Дарданеллы, и отошел к острову Лемнос. Положение усугубилось тем, что при подходе к Лемносу «Святослав» наткнулся на риф и сел на мель. Пришлось срочно отзывать от Дарданелл несколько судов для его снятия. Ничего из этого не вышло, и восьмидесяти пушечный гигант погиб. Я был страшно возмущен, тем более, что турки не дремали и, прознав о случившемся, бросили свои транспорты на прорыв блокады. Проскользнув Дарданеллы, они подошли к Лемносу и высадили там свои войска. Пришлось снять осаду крепости Пелари и покинуть остров. Оставить сие самоуправство безнаказанным я не мог. Я отправил Эльфинстона в Кронштадт и послал вдогонку донесение, требующее уволить его и отдать под суд. Императрица согласилась со мной в том, что таких людей, которые увлекаются и не соблюдают никакой последовательности, надобно относить к разряду сумасшедших. Кроме того, я заподозрил его в злоупотреблениях в отчете о суммах, выданных ему на чрезвычайные расходы. И несмотря на то, что его оправдали, службу в России Эльфинстону пришлось оставить. Вот так ожидания матушки нашей на Дарданеллы были обмануты. Только в октябре в Порт-Магон пришла к нам на подмогу эскадра адмирала-датчанина Арфа, которую императрица обещала нам прислать ещё летом. Так вообрази, дорогая, это чучело с порога известило меня, что подчиняться он намерен только императрице. Надменности был необычайной, даже осмелился мне дерзить! Так я велел не выдавать ему столовых денег и начал расследование о причинах его опоздания. Арф рассчитывал на защиту со стороны Никиты Панина, но просчитался и вскорости попросил меня отпустить его в Петербург. Я без сожаления выполнил его просьбу, а матушку в своем донесении упросил, чтобы более иностранцев мне не присылала. Пришедшая с Арфом эскадра влилась в наш флот. Для зимовки нами был выбран остров Парос. В ноябре я передал командование флотом адмиралу Спиридову и с Федором отплыл в Ливорно. Признаюсь тебе, тогда меня сильно лихорадка била. Страдал я невыносимо и намерен был брата моего Дунайку, при котором вся канцелярия наша находилась, отправить на доклад к императрице, но болезнь и карантин его задержали в Мессине, и я взял намерение и сам поехал в Петербург, чтобы дать хотя бы словесное объяснение, коли никаких письменных дел при себе не имел. Приближалась весна, и медлить было нельзя, по распутице до Петербурга было бы не добраться.
– Тогда-то, видимо, я впервые тебя и приметила в Вене, когда ты был на пути в Петербург.
– Точно так! В конце зимы только я добрался до родины своей, и 8 марта вместе с императрицей уже присутствовал на Совете. Совет, отслушав мой доклад, постановил общий план действий экспедиции нашей на Средиземном море. Наперед ознакомился я с письмом Спиридова, которое он направил мне из Мореи, докладуя о выгодах и невыгодах овладения Архипелагом. Адмирал знал, что я считаю приобретение нами двадцати островов непрочным. Мнение адмирала было таково, что, если и подписывать вскорости мирный договор с Портою, то хотя бы один остров оставить себе для последующей выгодной продажи англичанам или французам. Уверял даже, что не один миллион червонных сможем получить. В условиях мира, принятых Советом, России предполагалась уступка от Порты одного из архипелагских островов. Я вооружился против этого требования, а, значит, и мнения Спиридова. Для меня было ясно, что из-за этого острова война с турками может продлиться, вновь прольется лишняя кровь, кроме того, Россия может быть вовлечена в распри с христианскими государствами. Я-то знал, что ни один остров Архипелага не имеет сколько-нибудь добротного порта и укрепления для его удержания, а, значит, стоить вся кампания будет очень больших денег, которые мы никогда не восполним торговлей нашей. После долгих споров Панин составил последние условия мира, правда, не все мои требования учел. Тогда не только он сам, но и Спиридов, и матушка имели желание приобрести остров. Я ещё раз повторил на Совете своё возражение уже в присутствии императрицы. Только в конце июня 1771 года мы с Фёдором снова прибыли на флот в Медитеран. Обстановка на фронтах войны с Портою была непростой в целом. Для того чтобы помочь Румянцеву и отвлечь силы турок от Дуная, я собрал у себя Совет и предложил пройти флотом вдоль берегов турецких, разоряя и тревожа мирных жителей. План мой был одобрен. Особую эскадру под начальством брата Фёдора я направил к острову Родос. Предприятие было проведено, причем блокада нашим флотом Дарданелл была продолжена. В конце ноября, по окончании похода, я снова вернулся в Ливорно. Как я и предвидел, в отличие от Англии и Дании, ни Австрия, ни Пруссия условием нашего предложения по договору с турками не были довольны. Наконец, матушка приняла все мои возражения на Совете, особливо ознакомившись с письмом Фридриха II. Условия об архипелагском острове Фридрих отверг прежде всего! Как я и предвидел, мои предложения Англии через консула Дика в Ливорно о покупке или уступке острова остались без ответа.
Театральный веер в руке Кориллы был огромен и трепетал, как хвост павлина.
– И это ты называешь размышлениями? Это, скорее, хронология, мой дорогой граф.
Орлов облизал пересохшие губы и, словно спохватившись, взял стакан с водой, стоявший на треножнике, и выпил его махом.
– Не спеши, я только начал. Я хочу вернуться к началу нашего разговора. Мария, соблаговоли вспомнить о чём то бишь я говорил, – граф вопросительно взглянул на поэтессу.
– Ты, верно, имеешь в виду идею конфедерации христианских народов Европы?
– Да. Еще прибавь к этому мечты нашего Петра Великого и Вольтера тоже освободить Константинополь от неверных. Скажи, разве условия для воплощения в жизнь этой идеи не сложились идеально? Тогда в 70-м мне казалось, что бог всё видит, и нам он в помощь был. А когда герцог Шуазель, много лет подряд заправлявший внешней политикой Франции, известный своей враждебностью к России, был внезапно отправлен в отставку Людовиком XV в декабре того же года, я понял, что это знак свыше.
– Помилуй граф, – взмолилась Корилла, – причем здесь Людовик? Герцог Шуазель был не глуп, но держался у власти благодаря милостям любовницы короля Людовика, маркизы де Помпадур. А прогнали его со двора действительно совершенно случайно, поскольку он впал в немилость у новой любовницы короля, госпожи Дюбарри.
– Да, но разве этот случай не в нашу пользу? – лукавый взгляд и вскинутые вверх руки Алехана взывали к ответу.
– Тогда почему же так и не представился случай захватить Константинополь? Или курьез, похоже, никакой больше не приключился, и бог не подсобил вам? – улыбнулась поэтесса, не боясь разочаровать графа.
– Мы с матушкой давно пришли к единому мнению, что та конфедерация оказалась мифом, поскольку европейское единство и интерес её отдельных стран с их колониальными распрями – вещи несоюзные. Оттого и мы возложили опору свою на наших единоверцев, славянских православных братьев и особенно греков. Но на поверку оказалось, что закон единый они исповедуют только устами, а в сердцах своих не имеют и слабого представления о добродетелях христианских. Оказалось, что здешние православные народы льстивы, лживы, дерзки и трусливы, лакомы к деньгам и легкой добыче. Трепет перед турками также суть не из последних качеств наших единоверцев. Глубокое невежество и рабские узы заставляют их пребывать в смятении духа. В своем докладе всю вину за содеянное на суше как в Морее, так и на островах, я возложил на греков. Хоть мы сумели разбудить христианское население к восстанию против европейской Турции и были на полшага от славы освобождения христиан и потомства греческих героев, но греки, привыкшие жить в распутстве, хотели только помогать русским, сами же воевать против турка долго не намеревались. Помнишь, я рассказывал тебе про раненого Баркова и его геройский отряд, всего-то семьсот человек русских, вставших против семи тысяч турок, а шесть тысяч восставших греков тогда малодушно разбежалось. Позорно то, что они ни разу не выстрелили ни из одного мушкета и всё побросали. А ведь мы это оружие везли из России и собирали здесь по крохам, покупая за большие деньги. Они же всё разграбили, продали и укрылись в горах. Я, когда в Россию вернулся, стал на Совете об этом рассказывать и делиться своими соображениями с друзьями, а мне тут стали докладывать, что происходило на других фронтах, особливо на Кавказе, про тамошних христианских грузин. Поход Тотлебена с царем Ираклием к Ахалциху также не достиг цели, и они возвратились в Тифлис. Грузины по донесению Тотлебена нисколько не помогали, словно это и не их родина была вовсе, топтались на месте во время битвы с турками и только оживились, когда грабить начали. Тотлебен просил матушку-государыню отозвать из его армии всех офицеров грузинского происхождения. Это они должны были воевать, а мы им – только помогать, а получилось все ровно наоборот, да и помощь ихняя вышла нам боком.
Корилла утомленно сжимала кончиками пальцев виски, как будто безмолвно жаловалась кому-то на мигрень.
– Русские так много воюют! Неужто вам не хватает земель?
– Куда уж. Как раз предостаточно. Даже сам Панин утверждал, что у России и без того столько земли, что с нею трудно справиться, надобно лишь поразмыслить о крайних заставах и союзникам своим вспоможение оказать. Я же иначе, нежели он, ставил задачу: непременно отвоевать для России земли, захваченные османами на Архипелаге, или заполучить острова в полную вольность греков, подобно тому, как приключилось в Крыму, но я не сумел укрепиться ни в Морее, ни в Сирии. Слишком мало было русских сухопутных сил, и если мы и одерживали успехи на суше, то затем скорее спешили взять свой десант обратно на корабли. Всё это время вплоть до Кучук-Кайнарджийского договора середины лета 74-го года мой флот был хозяином на северо-востоке Средиземного моря. Наша блокада турок была нешуточной. Турецкий флот, что уцелел, всё время так и стоял себе либо в Мраморном море, либо в Босфоре. За три года блокады мы много торговых судов османских причислили к себе и товар ихний отобрали. Брали и фрегаты, ежели те осмеливались показываться. Но блокада наша со временем превратилась в достаточно мирное предприятие. Ещё в Смирне, после Чесмы, я приказал всех турецких пленных отпускать с миром. Но со временем турки перестали противиться пребыванию нашей эскадры у османских берегов. Турки не так боялись нас, русских, как озлобленных греков, особенно албанцев, которые действовали нам в помощь. Однажды турецкий паша в возблагодарение прислал мне лошадь в нарядной упряжке, готов был жить поблизости нас, боялся только албанцев. Мне даже казаться стало, что турки народ благожелательный, не в пример греческому. У них порядок был, они слово держали и закон исполняли. А когда они узнали, что я лошадок люблю, так подарками стали одолевать. Скакунов арабских дарили, да каких, что глаз не отвести! Здесь, в Европе, я научился многому. Конезаводы посещал, лекции ученых-зоотехников слушал, лучших коней скупил, и лучшими для меня арабские скакуны стали. Я наблюдал, как турки с лошадьми ласковы. Это они у арабов-иноверцев наших переняли. Выходит, они ласковее нас, русских. Урок мне, дураку, на всю жизнь. Вот что тебе хочу сказать: религии людей объединять должны, а не разобщать! Да, Богу молиться мы по-разному обучены. И что же теперь, вовеки будем воевать, что ли, пока не вырежем друг дружку? Здесь есть, о чем крепко призадуматься. Вот в чем моих размышлений суть.
– Видать, с приключениями своими ты решил покончить. Крови повидал предостаточно и более не желаешь. Теперь душа твоя трепетная ласки требует. Вот уж кому алмазы в радость, кому красавицы, а тебе, выходит, конь заморский стал по-настоящему душу греть.
Глаза Алехана стали влажными и полные губы задрожали.
– Точно так, разгадала ты меня, не зря тебя ведьмой кривоглазой ребятишки здешние кличут, всё ты примечаешь! Лошадь, дорогая моя, которая человека полюбит, сама становится как человек наполовину. Её бить не надобно совсем, только лаской. Она, как собака, хочет понять, чего желает от неё человек. Я уже много лошадок погрузил на корабли и отправил в Петербург, а оттудова их ко мне под Москву в Остров отправят. Хочу я конезаводчиком быть, а не генералом. Кровушку людскую не хочу более видеть я! Уйду в отставку, только матушка бумаги подпишет, мною уже составленные, я такое дело хочу сделать, что даже себе боюсь признаться!
– Что же за дела у тебя будут такие секретные! Неужто в России лошади имеют значение большее, чем у нас? – удивилась Корилла.
– Никому не сказывал, а тебе откроюсь! Племенного жеребца я себе прикупил, 60 тысяч серебром не пожалел положить!
– Да ты, граф, в своем ли уме, 60 тысяч? – Корилла невольно присвистнула. – За такие деньги всех лошадей в Тоскане немудрено купить!
– Э, нет, голубушка, у вас здесь таких красавцев нет! Своего же я не кораблем повезу в Россию, а пёхом – мне его таким же манером из Аравии через Турцию доставят. В России, как и у вас, норовят всё больше коней венецианской породы запрягать. Ты думаешь, почему у нас больше предпочитают шестерочные упряжки? Не от барства нашего! Не роскошью хотим удивить, а всё от того, что лошадки ваши слабые. Разбег берут очень быстро, но быстро и выдыхаются. Задумал я путем отбора и селекции проводить скрещивание и получить постараюсь лошадь для русских дорог. Дороги у нас негодные не в пример вашим, а забот с пахотой у нас поболее вашего. Лошадь нам выносливая нужна для дальних дорог, красивая по статям, хочу, чтоб быстрой была, как ветер!
– Такую все хотят, да ни у кого не выходит.
– Верю я, у меня выйдет, студ-буки заведу, всё чин по чину организую. Рысак будет мой, Орловский, я чую. Что ты фыркаешь, моя дорогая, как я говорю, так и будет!
Корилла обняла графа и прижала его лицо к своей груди.
– Алексис, не держи обиду на меня. Просто завидую я тебе, что за какое дело ни возьмешься, всё у тебя ладится. А может, и стервозность моя бабская дает о себе знать. Но, замечу тебе, что доброта русских людей к пленным туркам пробудила интерес у нас, итальянцев, к вашей стране. Помню, в ливорнской газете «Новости света» вышла статья с таким признанием. Да, граф, соглашусь, наше представление о русских как о невежественных варварах заметно изменилось, и, может быть, в первую очередь, благодаря тебе.
– Перестань меня похвалять, прошу тебя, милая!
Алехан с минуту помолчал и, опустив глаза, тихо и как-то виновато промолвил:
– Корысть вот у меня была и есть, скрывать не стану, корысть в лошадках арабских.
– Я сейчас не о лошадях, я говорю прежде о мягкости твоей души. Да что я, мне твои английские приятели доверительно сознавались, что ты вместе с Фёдором и Григорием, будучи известными в России кулачными бойцами, изобрели метод, чтобы бои заканчивались без травм.
– Они тебе и не то поведают, дай им волю. У нас в России издавна после массовых стычек стенка на стенку было много покалеченных, изуродованных, а, порой, и убитых. Я старался всегда применять свою хитрость – перво-наперво соперника с ног сбить, что называется, «с чистоты снять». Сознаюсь, грешен, и я калечил и уродовал, но видит бог, всегда без злого на то умысла. Бой на кулаках, как и бой на рапирах это своего рода наука, а всякая наука мудрости требует. Не знаю, поверишь ли, но у нас на Руси бой на кулаках отнюдь не на злобе замешан, а на духе соперничества. Бой начало имеет с поцелуя соперников. Предаемся мы этой кулачной забаве только зимой для сугреву. Летом, в жару – никогда, а в такое пекло, как у вас, и вовсе мука телесная, – Алехан хитро улыбнулся и, сжав кулачищи, добавил, – так что, если дразнить меня вздумаешь, даже если захочешь, не ударю тебя.
– Тогда чем же ответить на мою безрассудную дерзость сможешь? – Корилла засмеялась.
– Ласкою, ласкою берусь осадить любого.
– Послушай меня, дорогой граф, я всему верю, о чем ты так доверительно и подробно мне вещаешь, и, тем не менее, меня не оставляет какое-то чувство недосказанности, когда ты так тепло отозвался об османах и их подарках. Чтобы просто так?!
Поэтесса сощурила глаза и прицокнула языком, отчего Орлов поежился в предчувствии лишних расспросов:
– Просто так ничего не бывает, Маша! Я же тебе сказывал, что отпускал пленных на свободу!
– Не надо волноваться, дорогой! Я, конечно, не упустила этого из виду, но у меня такое чувство, что здесь что-то нечисто. Не иначе, здесь замешана женщина? – Корилла видела, что граф задет ее подозрительностью, и получала несказанное удовольствие, ожидая объяснений.
Орлов заерзал на кровати, пытаясь встать, но не смог. Он всё ещё был слаб.
– Что касается того паши, что лошадь мне прислал, то интуиция женская тебя опять не подвела – там действительно была замешана дама, но прошу, не будем этого трогать, тем более, что это давняя история.
Корилла нервно зевнула, поднеся ладонь ко рту, но глаза её смеялись.
– Конечно, конечно, граф, что может быть интереснее, чем часами слушать про кровавую резню и взрывы?
– Не хотелось бы мне вдаваться в подробности, их и так уже было предостаточно.
Поэтесса не уступала, проявляя настойчивость.
– Не потому ли, что это связано с дамой, которую ты желаешь оставить неизвестной для меня?
– Да ты же не поверишь, если отрицать буду, хотя я и сам-то её не знал. По правде сказать, хотел я увидеть её личико, но удержал себя от соблазна и подчиненным моим наказ сделал суровый.
– Ты что, меня нарочно интригуешь, чтобы я из тебя каждое слово вытягивала? – потеряв терпение, Корилла по-хозяйски держала руки в боки.
– Ну, хорошо, – перестал противиться Орлов, – ладно, так и быть, целуй меня скорее, и я расскажу тебе всё, что помню.
Поцелуй оказался слишком влажным, и графу опять захотелось утереть губы, но на сей раз он не посмел.
– Помню я эту историю смутно. Сей инцидент произошел случайно, вскоре после славных дней Чесмы. Судёнышко знатное попалось нам тогда по пути к Царьграду. Оно торговым было, но товар там оказался особым. Одним словом – бабы. Греки добычу требовали, да не дал я им своего дозволения потешаться.
– Вы что же, захватили гарем султанский? – нетерпеливо бросила поэтесса.
– Не спеши перебивать, сам размышляю, как проще рассказать о происшедшем. Судно, доставшееся нам тогда в плен, имело на борту дочь того Гассан-Бея, который вместо Капитан-паши командовал турецким флотом в Чесменскую баталию. С ней плыли и её служанки. Оказалось, что пленнице семнадцати годов, и тех не было. Отец её уехал в Константинополь посуху, а дочь свою водою отправил. Мы случайно оказались на их пути. Никому из военных людей я не позволил даже взглянуть на неё, да и сам уклонился от соблазна. Говорили, что она была очень хороша собой, но как ты поняла, сам судить не могу. Я отпустил её из плена нашего без каких-либо условий, да не просто отпустил, а без задней мысли передал красавице бриллиантовый перстень с изображением матушки. Я желал сохранить сей случай в тайне, да не вышло. Отец её виной тому был, он, кстати, стал позднее главным советником визиря, командующего турками, воевавшими против армии Румянцева. Гассан-бей пробовал через свои связи сыскать в его армии братьев моих, желая мне чем-нибудь отслужить за поступок такой. А когда узнал, что все братья уже в Петербурге, затих. Когда же войне настал конец, то, прознав о пристрастии моем к лошадкам, послал мне в возблагодарение арабских скакунов, да каких! Не пожалел даже денег на богатую упряжь. Спиридову же Гассан-бей подарил кинжал.
– Не просчитался ли ты, граф! Может, напрасно радуешься – может, перстень, что ты его дочери подарил, в разы дороже лошадей будет?!
Граф уклончиво ответил:
– Не все, милая, деньгами измеряется. Что перстня того касаемо, так матушка поспешила мне ещё осенью того года, что Чесмой отмечен был, при письме своем в дар такой же точь-в-точь прислать, да вон энту трость с компасом вделанным, – Алехан невольно погладил ее рукоять.
– Так матушка твоя знала о твоем подарке, выходит?
– Верю, что нет. Ей сообщили единственно, что перстень пропал, так она поспешила изготовить новый, точно такой же, и просила меня носить на здоровье.
– Прямо арабская сказка, в которую так хотелось бы поверить, – вздохнула Корилла.
– Пожалуй, я соглашусь с тобой, дорогая, в том, что во всём со мною происшедшем на Медитеране, и на Архипелаге, присутствовал этот самый подмеченный тобою дух сказки, в которой всегда много чудес. Что до меня, то я считаю, что наичудеснейшее из чудес – это ты и никто более.
Алехан сделал очередную попытку подняться с кровати, опершись на трость, и вдруг произнес:
– Может, все же что-нибудь откушаем или … – он замялся и, приподняв здоровенную руку, небрежно очертил в воздухе подобие женской фигуры, при этом присвистнул, сопровождая содеянное глупой усмешкой. Казалось, его душа жаждала развлечений, но поскольку найти их в душных комнатах своего палаццо было делом мудреным, ему оставалось только смириться и, лежа на кровати, отпускать свои сальные казарменные шутки по поводу пышных женских форм. Это было его излюбленной темой со времен армейской службы.
Восторги графа Корилла, казалось, пропускала мимо ушей. Она снова внимательно и с интересом оглядела спальню. В каждом предмете мебельного убранства покоев Орлова присутствовала роскошь, отвечавшая образу его жизни последних двух лет. Огромный угловой шкаф в стиле рококо, резные кресла раннего барокко, и, конечно же, элегантная кровать с высоким изголовьем, изящно декорированным мозаикой из пластинок черного дерева и слоновой кости, ставшая будто частью архитектуры стены. Фигурный балдахин довольно витиеватой формы придавал кровати законченный вид.
Корилла перевела взгляд на Алехана. По влажному блеску его глаз она, как всегда, безошибочно догадалась, что «шутки» с Орловым могут вернуть её с удобной кушетки, в точности повторявшей формы короткой полусофы работы известного архитектора-декоратора Блонделя, снова в постель, что никак не входило в её ближайшие планы.
– А почему бы и нет, граф?! – неожиданно произнесла Корилла, перебив очередную шутку Алехана насчет итальянских донн.
– Что ты имеешь в виду, Мария? – прошептал заинтригованный Алехан.
– Почему бы нам вдвоем не откушать чего-нибудь легкого?
– Легкого? – с наигранным возмущением переспросил граф. – Да я так голоден, что подняться с постели уже невмоготу. Если так пойдет и дальше – одни беседы, и всё, то моему спасителю Изотову так весь божий день и придется таскать меня на своем горбу.
– Ну, граф, соберись. Надеюсь, не все силы на меня ушли, – ободряя Алехана, со смехом произнесла Корилла. – Хочешь, я сама помогу тебе одеться?
– Есть кому подсобить, ты сама не забудь принять достойный вид!
Фраза, произнесенная на итальянском, была построена не совсем правильно, но вполне ясно. Корилла уловила иронию в словах Орлова, и улыбка снова появилась на её прекрасном лице.
– Ты как хочешь, граф: чтобы меня одели и сделали твою любимую прическу, или мне послать за париком?
– Я думаю, что все это займет уйму времени и я окончательно потеряю силы и терпение. Сделаем всё проще. Я прикажу накрыть стол на два куверта у себя в рабочем кабинете, а в обеденный зал не пойдем вовсе. Ты надень что-нибудь воздушное, легкое, а волосы оставь, как есть.
– Тогда я думаю, и музыкантов приглашать сегодня нет нужды, – с облегчением вымолвила поэтесса.
– Отчего же? У меня прекрасные музыканты. Я хотел, чтобы ты послушала моего Березовского. В вашей солнечной стране он насочинял такого, что, я уверен, не оставит тебя равнодушной.
– Давай в другой раз, граф, не хочу, чтобы кто-то мешал нашему уединению. Если ноги тебя не слушаются, то надеюсь, беседы ты меня не лишишь?
– Хорошо, – согласился граф, – Стало быть, пусть сегодня будет всё так, как хочешь ты! Только слуг потешных, которых я зазвал вчера, гнать сразу не буду, пускай пока останутся.
Корилла легким кивком головы подала знак согласия.
Слуга без доклада открыл массивную дверь, и Корилла зашла в кабинет Орлова почти бесшумно Она была обута в мягкие летние туфли на низком каблучке. Вышколенные слуги в праздничных венецианских костюмах стояли в нервозных позах полевых сусликов, улавливая в неторопливых движениях своего господина малейшие желания.
Граф не слышал, как дама появилась в кабинете, и продолжал сидеть в фривольной позе беззаботного офицера, задрав ноги, обутые в укороченные сапоги лайковой кожи с серебряными пряжками, на резной стул старинной работы. Он пил вино из большого стакана с медальоном, исполненного в технике межстеклянного золочения. Белое столовое вино было настолько холодным, что толстые прозрачные стенки стакана покрылись испариной.
Поэтесса никогда прежде не была в просторном рабочем кабинете графа и в первый момент была изумлена беломраморным портретным изваянием хозяина первоклассной работы неизвестного мастера, стоявшим на подставке. Благородный лик Алехана, не обезображенный грубым сабельным шрамом на левой щеке, был обращен к поэтессе, и губы как будто улыбались ей. Правильные черты, открытый лоб, четко очерченный рот и гордый независимый взгляд поражали Кориллу схожестью с сидящим пред нею русским богатырем.
В противоположном углу, на стене, рядом с открытой настежь дверью, ведущей в библиотеку, был установлен барельеф не менее тонкой работы, в котором угадывались уже почти забытые поэтессой черты лица Фёдора, сиявшие молодостью и удивительной мужской красотой.
– Граф! – голос поэтессы неожиданно звонко прозвучал в гулкой тишине зала. Не дожидаясь, когда Орлов, сидевший к ней спиной, ответит ей, она продолжила: – Какая прекрасная тонкая работа! Может, это творение французского автора? Ты никогда не показывал прежде мне эти два превосходных портрета.
Орлов поспешил к Корилле и, поцеловав ей руку, ответил без излишних пояснений, будто упоминал имя всемирно известного мастера:
– Да это наш Федот.
– Что за Федот? – рассмеялась Корилла: имя показалось ей чудным.
– Русский резчик по камню и кости, черносошный крестьянин Федот Шубин! Теперь, когда он в Петербург возвратился после учебы, кстати, в Болонье, пошел нарасхват, даже в чести особой при дворе государыни. Я сам лично давал ему рекомендации. Готов побожиться, что говорил я ранее тебе про него, забыла ты, видно! Если не я, так Иван Шувалов тебе о нем, наверное, сказывал.
– Нет, я бы помнила, – без обиды в голосе, но с сомнением ответила Корилла. – Ты знаешь, у меня хорошая память на такие вещи. Почему же раньше не показал тогда?
– Наверное, побаивался, что презент художественный сделать попросишь! – рассмеялся граф, видя, что поэтесса уже готова возмутиться.
– Не отмечала за тобой раньше, Алексис, намерения отказать мне в чем-либо, тем более в таком пустяке!
– Шучу я! Вот когда на родину собираться вздумаю, тогда другое дело. Готов уступить! А так – я как будто с братом разговариваю, когда одиночество здесь в думах своих коротаю.
Граф, кряхтя, поднялся со стула и, слегка подхрамывая, подошел к барельефу и ласково провел ладонью по изваянию.
– Да, но почему ты утаил от меня этого чудо-камнереза, не представил мне его лично?
– Оказия, значит, не представилась. Вот уж два года с лишним, как он домой возвратился.
– Так он частый был гость в твоем дворце?
– Не сказал бы. К тому же, не только талантом своим он отечеству и матушке служил, но и исполнял еще необходимую нам секретную миссию.
Орлов поспешил к столу и грузно сел на свое место, растирая колени.
– Ах вот как? – сказала Корилла. – Пока ты мне только Бортнянского секрет раскрыл, что он делами особой твоей миссии занимался, а ведь был прекрасный музыкант и сочинения его так талантливы!
– Это так, и музыкант он великий, и переводчик от Бога, я уже и не припомню, сколькими языками он владел. Миссию свою исполнил без нареканий с моей стороны.
– А тот музыкант, о котором ты мне помянул, кажется, синьор Максим Березовский?
– Точно так, но и он служил мне не только как певец и музыкант… Ах, как он поет! Не хуже ваших европейских разбогатевших кастратов.
– Смотри-ка! А я-то думала, ты только в молодых итальянских примадоннах толк знаешь!
Намек Кориллы не смутил Орлова:
– Березовский – первый русский певец, покоривший Европу! С Моцартом в Болонской Академии в одно время обучался, диплом имеет. Прозвание там у него было «Русский». Мои поручения выполнял… Эх, если бы ещё в языках был силен! – посетовал граф. – Я его содержание оплачивал и учебу. Помог я подняться здесь и Шубину, не жалел денег для русских талантов.
– Если бы только талантам, граф, – покачала головой Корилла, – но, похоже, у русских сорить деньгами – национальная черта.
– А ваши синьоры и маркизы, кичащиеся богатством, всё желают русских дам любить, а деньгами сорить, как ты изволила выразиться, не желают по причине скаредности своей, и посему часто вожделенной цели добиться не могут.
– Кого-то ты, граф, интересно мне, в виду имеешь?
Она наконец отошла от бюста Алексея Орлова, продолжая рассматривать дорогие вещицы, расставленные на полках вдоль стены.
– Вспомнил я про одного из ваших, коль разговор зашел о талантах молодых русских, которых я, бывало, нарочными с секретными бумагами посылал в Венецию к маркизу Маруцци. Так вот, этот маркиз по поручению государыни нашей вел финансовые дела по содержанию эскадр моих в Архипелаге и по мере надобности выдавал наличные под мою расписку. Вспомнил я приезд его к нам в Петербург по делу. Всегда при больших делах купеческих пребывал, а тут увлекся красавицей нашей известной Прасковьей Брюс, да как жить без неё, не знал. Но вот воздыхателем так и остался, коль щедростью не отличался. Не выдержал соперничества из-за скаредности своей, а ведь богат ваш маркиз, и любовь свою искал долго. Впрочем, довольно о нём!
Орлов ангажировал поэтессу к столу. Корилла, вняв его пожеланиям, была в том же простом полотняном белом платье, что и прежде, когда в жаркую погоду граф возил её к морю и умилялся белыми нежнейшими кружевами вокруг шеи. Тогда она была ещё во флорентийской соломенной шляпке, шелковые ленточки на которой трепетали при всяком, даже легком, порыве ветра. Сейчас, как всегда, поэтесса чувствовала свою колдовскую власть над русским исполином, тяжело дышавшим за ее спиной. Алехан не спешил снова сесть в своё любимое резное кресло раннего барокко, привезенное из Германии, а просто стоял за спиной сидящей поэтессы и, положив свои тяжелые ладони на её округлые плечи, о чем-то думал.
Корилла обернулась, подняла глаза и, бросив взгляд на Орлова, довольно громко, чтобы как-то оживить его, сказала:
– Граф, я знала, что ты безмерный поклонник лаковой мебели, но ты, оказывается, к тому же ценитель античного наследия нашего.
– Ты про этот бюст на подставке цветного мрамора?
– Да будет тебе известно, это римский император …
– …Каракалла. Его мне рекомендовал купить Шувалов, он знает толк в римских древностях. Из Остии, с раскопок доставили. Да, вот, собственно что я хотел… – сказал граф, вспомнив о чем-то, и, прихрамывая, направился к распахнутой двери, ведущей к библиотеке. Стол-бюро в рабочем кабинете хозяина являл собой образец тяжелой мебели из палисандрового дерева. Он взял с него шкатулку и, снова подойдя к спинке кресла Кориллы, надел на шею поэтессы медальон – портрет на цепи, украшенной жемчугом. На фарфоре медальона также в оправе из жемчуга был изображен портрет российской императрицы.
– Ах, как это кстати, – улыбнулась поэтесса.
– Да, синьора, а то я мог и позабыть. Этот портрет тебе может оказать услугу в случае надобности.
– Ах, граф, вы снова заставляете меня трепетать, – Корилла порхнула к зеркалу, в который раз явив взору Орлова загадочное зрелище общения женщины со своим отражением.
Спустя несколько мгновений Корилла обратила на графа свой восторженный взор, но, не выслушав ее слов благодарности, он с улыбкой сказал:
– Ну, да ладно, и впрямь пора кушать!
Орлов хлопнул в ладоши. Слуги задвигались, повинуясь желаниям гостьи. Корилла ограничилась овощными блюдами, приготовленными по старинным тосканским рецептам и обильно сдобренными пряными травами. Алехан ел рыбу и оливки, жадно запивая всё холодным белым вином. Граф любил, когда разные сорта свежевыловленной рыбы ему отваривали с пряностями на манер известного в тех краях буйабеса. Чтобы поэтессе не было скучно, он беспрестанно шутил, как всегда звучно чавкая и икая. Корилла не единожды настойчиво советовала другу сердца, вкушая яства, не спешить, под вечер есть меньше тяжелой пищи, а вместо вина пить простую воду. Граф порой к рекомендациям прислушивался, но в отсутствие поэтессы всё же делал то, к чему был привычен в России. Наконец, слуги были отпущены. На столе осталось недопитое вино, вода и соки в высоких стеклянных бокалах с крышками, декорированных матовой резьбой. Два красивых фужера с резными парусниками по стеклу были оставлены пустыми на случай.
Граф распорядился его не беспокоить, отменив все встречи, сославшись на недомогание, гнать всю толпу просителей со двора, поскольку выслушивать кого-то и подавать на бедность в этот жаркий день, а тем более вечером, он был не намерен.
Он вновь остался наедине с Кориллой и почувствовал, что боль в спине немного успокоилась. Он не раз замечал за собой, что в такие минуты невольно начинал почти по-старчески брюзжать и сетовать на отсутствие настоящего дела.
Алехан налил в стакан вина и промолвил с тоской:
– Настоящего дела хочу, чтобы сводило с ума, и позабыть о своих хворях.
– Верно, прошлой осенью в мое отсутствие ты о своих хворях и не думал?
– Ты о чем толкуешь, – насторожился Алехан.
– Слышала, что ты приятно проводил время с некоей Елизаветой – как мне известно, этой особой было озабочено всё общество?
– Приятно?
Стакан выпал у графа из рук, но не разбился, лишь вино пролилось на стол. Хотя Орлов предполагал, что Корилла непременно напомнит ему об этом дьяволе в юбке и ждет только удобного момента.
– Это было не только неприятное, но крайне трудное дело, скажу тебе. Для всех: меня, Грейга, Христенека, даже кавалера Дика.
Граф раздумал присаживаться, даже сделал несколько решительных шагов назад.
– Неприятное, говоришь? Странно, а мне напели, что она хороша собой, умна. В общем, в твоем вкусе.
– Как же ты любишь насмехаться, Мария! Я не шут и не похотливый соблазнитель, готовый волочиться за каждой юбкой. Ты у меня была не одна, и я у тебя, прости, не первый, но мы жили и живем поныне нашими чувствами. Здесь же другое дело – именно дело, а не чувства. В сношения с ней мне пришлось вступить не по своей воле.
– Слухами земля полнится. Только на сей раз слухи эти кажутся уж очень правдоподобными, – Слова Кориллы прозвучали слишком сухо, оттого графу показалось, что дама его сердца начала сердиться.
– Если даже ты в них веришь – значит, мы сделали своё дело хорошо, – улыбнулся Алехан.
– Кто это мы? Ты и эта Елизавета?
– Нет! Мы – это мы. Не я один желаю Отечеству служить исправно.
– Может, расскажешь, чтобы я тебя не подозревала черт знает в чем и не допускала посрамления?!
Корилла разразилась тирадой бранных слов. «Porca Madonna! Madonna puttana», – несколько раз прозвучало из ее уст.
– Брань твою терпеть не могу! Устал, право слово! Смилуйся, голубушка! Ладно, готов опять всё, как на духу! Только пусть мой рассказ никогда не станет сюжетом для твоих поэтических фантазий.
– Будь покоен, это тебе обещает Корилла Олимпийская! – поэтесса горделиво положила правую ладонь на грудь, прикрыв медальон, подаренный графом.
Алехан так и не присел, хоть стоять ему было непривычно, он лишь вплотную подошел к Корилле, глядя на нее в упор, отчего она поежилась, ощутив силу его загадочной натуры. Он помолчал, опустив глаза, подошел к столу, но на сей раз выпил лишь стакан воды.
– Я не знаю до сих пор, кто она. Чего-чего, а имен у Елизаветы воистину было предостаточно. Первые сведения о самозванке мы получили ещё в декабре 73-го года, но большого значения им не придали. Тогда, да будет тебе известно, были дела поважнее.
– Напомни граф, может, чего и запамятовала.
– Помнится, я тебе говорил, что брат мой Григорий был в отношениях особых с нашей императрицей. Хотя…на это время уже выпало их мучительное расставание. Место моего брата к весне 74-го окончательно занял Гришка Потемкин. Видимо, тогда кто-то умный во Франции смекнул, что, коль брат мой не у дел в России, да ещё бунтовщик Пугачев гуляет по стране, хорошо было бы попробовать меня на любимый французами манер купить.
– Тебя? Как глупо!
Ревнивая донна протянула руку, настойчиво приглашая графа сесть подле неё, но Алехан не поддался искушению. Он лишь коснулся ее плеча и сказал:
– А вот ты послушай меня. Французы в своих планах были не так глупы. Их расчеты имели основания. Особенно, если принять во внимание наш с турками Кучук-Кайнарджийский мирный договор, что был подписан 10 июля 1774 года. Турки тогда окончательно рассорились с французами, и Франция мечтала о реванше. А тут я со своей эскадрой, да они ещё полагали, что вот-вот меня позовут обратно в Россию, где положение нашей семьи стало шатким…Злые языки, завись придворных и откровенные недруги, наверное, как везде, – пожал плечами граф.
Корилла ехидно рассмеялась:
– Ты это называешь шатким? А если ещё к этому прибавить твою очередную каверзу?
– Которую? – нахмурился Алехан.
– А ту, что ты выкинул год тому назад в Ливорно с текстом договора. Как ты сказал: К-у-ч-у-к Кай-нар-джийс-кий? Тьфу, язык можно сломать! Ты сам говорил, что там у вас в Петербурге все иностранные послы с ног сбились, пытаясь пустить в ход подкуп для получения текста этого вашего мирного трактата с Турцией. Панин отказался сообщить его даже вашим союзным дворам под предлогом ещё не устраненных затруднений. Ты же, даже не знаю – в шутку или как, велел собственной властью взять и напечатать его у нас в Ливорно.
Еще не пригубив вина, Корилла казалась опьяненной тем духом секретности, на который она была чрезвычайно падкой по натуре.
– Я скажу тебе больше: то, чего ранее не смел говорить никому. Приключилось это ровно за два года до подписания того договора. Возвращался я из отпуска к эскадре своей, да и завернул в Вену к приятелю своему Дмитрию Голицыну. Там, сидючи за столом сплошь с иностранными харями, я будто бы в шутку заговорил о событиях 62-го года, что приключились у нас в Ропше. Вижу по полным ужаса глазам гостей, что хотят знать – кто учинил революцию и лишил трона Петра III. Никто не смелится задать мне вопрос в открытую, а рты разинули. А я возьми и скажи, что для человека гуманного как я есть, было очень печально оказаться принужденным сделать то, что мне приказали, да против моего убеждения!
Корилла, прикрыв рот салфеткой, заморгала до слезинок в уголках глаз.
– Да ты что! – её голос от ужаса стал хриплым. – Ты, знатный вельможа, прилюдно осмелился обвинять свою императрицу?!
– Хватит причитать, Орловы себе цену знают!
– А что же императрица? Неужто прознала?
– На дерзость мою она письмо вскорости прислала, что мол, слышала от братца моего Федора, что вернулся я из Вены в Ливорно в добром здравии. Понял я тогда, что довольна она моим благоразумным прибытием в Италию и что мстить ей я не намерен за её проказы супротив брата моего Гришки.
– Выходит, у французов были основания использовать тебя в своих каверзах.
– Точно! Вот на это и была, наверное, сделана главная ставка. Они были уверены, что меня можно использовать в политических интригах Европы. А вдруг мы, братья Орловы, ещё не забыли о своей роли и можем императрицу нашу обратно на место поставить?!
– Называй её лучше своей матушкой, так и мне ясней, и тебе теплей!
Злые колкости поэтессы Алехан как будто пропускал мимо ушей.
– Прошлым летом я и сам ещё не всё понимал – кто какую игру затеял, и какую роль мне отвели. В Ливорно получил письмо от некоей дамы. В нем она заверяла меня, что является законной наследницей русского трона. Ещё писала, что какой-то князь Разумовский под именем Пугачева одерживает победу за победой на российской земле, и что она даже заключила договор с турецким султаном о совместных действиях против нашей Екатерины. К письму она приложила документы – копии сразу трех завещаний: «Завещание Петра Великого», «Завещание Екатерины I» и, собственно, «Завещание Елизаветы», по которому она якобы является законной дочерью от брака Елизаветы и графа Разумовского. Кроме того, она сама составила некий документ, который предлагала мне зачитать перед моими моряками.
– И что в нем было?
– Уже и запамятовал. Похоже, так: «божией милостью, мы, Елизавета II, княжна всея России, и так далее…» Естественно, заканчивала она угрозой: кто не желает ей принимать присягу, будет казнен. Мне предлагалось присоединиться к ней всем моим флотом прямо здесь, дабы, не дай Бог, опоздать к раздаче милостей и орденов! Ну, что скажешь? Лихо?
Корилла, тронутая таким доверительным откровением, вся светилась от счастья.
– Это уже не шутка, дорогой. Получается, эта Елизавета таким поступком сама себе могилу рыла!
– Вижу, смекаешь!
Орлов, довольный, расплылся в улыбке.
– Слушай дальше. Я, разумеется, княжне этой ничего не ответил, но в Петербург тотчас отписал. Дальше я уже не сидел сложа руки, в тот раз навел моей службой справки насчет этой «законной наследницы». Проживала она в то время под фамилией графини Пинеберг в городе-порте Рагузе, который принадлежал Венеции. Титул графини был реальным, только к этому титулу самозванка не имела никакого права. Польский князь Радзивилл…
Корилла вновь весьма громко прервала графа:
– Пардон, граф, это не тот ли знаменитый князь, о котором в Европе ходили слухи, будто он возит с собой двенадцать золотых статуй, которые ему удалось спасти из разграбленного русскими замка?
– Да, слухи гуляли, только это были лишь слухи. Однако человеком он был богатым и неоднократно оказывал помощь нашей «Елизавете». Например, Радзивилл, оказывается, обратился с просьбой к французскому консулу Декриво, и тот уступил «графине» на время свою виллу, окруженную садами и виноградниками. Найти это место моим людям труда особого не составило, поскольку вилла эта была центром притяжения лучшего общества города. Поскольку ожидаемого ответа от меня «графине» так и не последовало, то, как сообщили мне мои люди, польские конфедераты, окружавшие Елизавету, стали ждать удобного случая, чтобы отплыть в Константинополь. Однако известие о подписании Кучук-Кайнарджийского мира положило конец надеждам Радзивилла и его друзей-товарищей на помощь турецкого султана в борьбе с Екатериной за попранную свободу и права их родины.
Корилла всплеснула руками, заставляя графа остановиться. Орлов недовольно фыркнул и посмотрел на поэтессу.
– Для меня загадка, Алексис, откуда в Европе развелось столько этих светлых рыцарей, борцов за свободу, которых всюду конфедератами называют?!
– Вы, мадам, как впечатлительная романтическая натура, можете называть эту публику как угодно, но мы тогда разнесли эту польскую шляхту в пух и прах в Баре, поскольку участники Барской конфедерации вздумали поднять мятеж главным образом из-за того, что матушка ультимативно потребовала от польской короны прекратить относиться к православным жителям Польши как к людям второго сорта и уравнять в правах с католиками. Если мои объяснения вам показались убедительными, то я продолжу.
– Вполне, граф!
– Так вот, наступила осень и, к своему немалому удивлению, письмом императрицы от 12 ноября мне предписывалось предпринять попытку и постараться силой или хитростью захватить в плен самозваную внучку Петра I. Скажу больше, мне позволялось в случае необходимости даже бомбардировать город Рагузу для принуждения местных властей выдать мне авантюристку.
Корилла вилкой постучала по бокалу, чтобы привлечь внимание графа:
– Вот видишь, дорогой, какое значение ваша императрица придала этому делу! Сразу бомбардировать? И впрямь, ваша императрица эту «княжну» приняла за Елизавету. А раньше, что же, она никак себя не проявляла? Чтобы так переполошиться у себя на севере и не исключать бомбардировку города, что на юге Европы, да после мирного договора, значит, дело и впрямь интерес имело государственный!
Граф махнул в сторону поэтессы рукой.
– Напрасно ты Рагузу жалеть вздумала, за ними давно должок тянется. Не забывай, они супротив нас в Чесме своим флотом на стороне османов воевать осмелились. Так пусть либо ответ держат, либо поведение своё меняют. Я в своё время матушке лично докладать изволил о желании своем при случае наказать Рагузу!
– Дорогой мой, стоит ли злобу на них так долго на сердце держать? В конце концов, вы их флот наравне с турецким сожгли при Чесме, а свой целехоньким сохранили. Потери ваши были невелики, а злоба в тебе чрезмерна!
– И что же из этого следует? Мы должны прощать обиды? Да, за всю кампанию в Архипелаге мы действительно потеряли только четыре линейных корабля, к тому же один из них, что носил имя «Азия», без вести пропал в 73-м году.
– Позволь, и что же получилось, все матросы на нем погибли?
На лице и в глазах Кориллы отразился ужас.
– Я же говорю, корабль пропал в Архипелаге, нет у нас вестей до сих пор ни о нем, ни об экипаже.
– Где это произошло?
– Корабль шел от острова Миконос к острову Имбрис, и море сильно штормило. Было это у берегов Анатолии, и сгинул он со всей командой в четыре с половиной сотни душ.
– Может, просто капитан ваш должного опыта не имел?
– Совсем наоборот, капитан Толбукин был мастером морского дела и настоящим смельчаком, один из лучших в отряде Грейга, я его хорошо знал лично. Позже, когда по указу императрицы мне за победы Архипелагские было пожаловано вознаграждение в двадцать две тысячи рублей, я велел эти деньги раздать всем матросам, отличившимся в походе храбростью, но шесть тысяч из этой сумы моим повелением было передано семейству капитана первого ранга Толбукина на приданое дочерям и на воспитание сыновей.
– Простых людей ты, граф, не забываешь, это отрадно слышать, да все равно трудно богатому попасть в царство небесное!
Укор возлюбленной Алехан понял, но воспринял не вполне одобрительно.
– Знаю, куда уж мне, когда такие ордера из Петербурга исполнять изволю… Я до сих пор не ведаю, как величать мне эту авантюрьеру правильно. Одно верно – личность она неординарная. Люди, с которыми знался наш граф Панин в Европе, давно слали ему сигналы о ней, первый поступил еще в 72-м году из Парижа. Тогда её все приняли за загадочную комедиантку, поскольку она выдавала себя за некую княжну Али Эметтэ Волдомира – странная смесь персидского и славянского, не правда ли? – обратился Алехан к поэтессе, но Корилла не пожелала разделить его сомнения, и он продолжил: – Панину сообщали, что она молода, красива, грациозна, с пепельными волосами, как у Елизаветы, и глазами, способными менять цвет от голубого до черного. Она называла себя черкешенкой и представлялась племянницей богатейшего персидского сановника. По Европе её сопровождала немалая свита: были в ней и немецкие бароны, и бойкие французы, и польские шляхтичи. Даже князь Михаил Огинский – этот сочинитель полонезов – числился среди её поклонников. Матушка же наша, находясь в Петербурге, по тому докладу Панина не делала спешных поручений, поскольку слухи распускала не сама княжна. В немецких землях тогда оживленно болтали о том, что дочь русской императрицы странствует по Европе.
– А ты сам её раньше никогда не видал? – в вопросе поэтессы содержался плохо скрываемый подвох.
– Никогда! Слышал, что хороша собой, но в Италии столько прекрасных женщин. Русские барышни здесь тоже живут, и смею заметить тебе, прехорошенькие. Знаешь, была у меня в здешних краях одна знатного рода княжна Катенька Демидова, не могу забыть её до сих пор, очень уж она ваш театр любила.
При этих словах Корилла готова была взвиться, но, не обращая на нее внимания, граф поднялся со своего кресла и направился к дальней стене у окон, слегка прикрытых ставнями. Шкаф-архив эпохи Ренессанса с резными украшениями блестел яркой позолотой. Алехан отодвинул в сторону фигурку всадницы из белого фарфора и, звякнув ключами, открыл шторки шкафа. Корилла предположила, что граф, беспорядочно выдвигая шкатулки, ищет очередную безделушку с портретом какой-нибудь дамы, и упредила желание Алехана похвастать былыми амурными победами.
– Ты так мне пока про ту княжну почти ничего и не рассказал. Прошу тебя, дорогой граф, продолжай! Не отвлекайся без надобности.
Граф оставил архив незапертым и, повинуясь просьбе Кориллы, вернулся на место. Он сел в кресло, откинул голову на спинку и, глядя в потолок, надолго задумался. Очнувшись от своих мыслей, он с сомнением спросил:
– Уверена ли ты, что хочешь знать все подробности?
– Да, – ответила она решительно. – Пожалуйста, не упусти ни одной детали. Знаю, что для тебя это будет непросто.
– Тогда слушай, – смиренно сказал граф. – При мне «принцесса Али» уже перестала отзываться на прежнее имя, а именовала себя Елизаветой II. Она хорошо вжилась в свою роль и без заминки рассказывала, что матушка её Елизавета I передала ей все права на российский престол, а Петру III поручила всего лишь воспитать девочку должным образом. Но, желая царствовать сам, он сослал её в Сибирь. Как она оказалась в Персии, а затем и по Европе проехалась, говорить не буду, у меня от этой замысловатой россказни голова просто помутилась. Тогда, видно, вообразила она, что настала пора вернуть свой престол, захваченный нашей приблудной немкой. Верили ли во все это её друзья-шляхтичи – не знаю, но то, что это был подходящий повод для очередной смуты, которую можно было устроить в России, они сразу смекнули. Знаю, что ей, молодой и красивой даме, находящейся в Рагузе, требовалось сохранить за собой незапятнанную репутацию. На виду она и впрямь не допускала банальных ухаживаний. Вдруг – скандал: один дворянин из свиты Радзивилла был застигнут ночью, когда вознамерился перелезть через стену виллы Декриво. Шляхтич даже был ранен охранником. Думаю, это был поляк по фамилии Доманский. Скандал поумерил пыл «княжны», а из Парижа потекли тревожные слухи, что французы охладели к ней в качестве претендентки. С этого момента у «княжны» сразу возникли проблемы с деньгами, даже Радзивилл стал откровенно избегать её. Французский консул открыто говорил польским конфедератам, чтобы они гнали эту аферистку к черту. Тогда даже негр-слуга сбежал от неё со скандалом, потому что не платила. Агенты нашей разведки с риском для жизни шныряли по Рагузе, пытаясь выведать через конфедератов любую полезную информацию. Одного толкового человека, который работал на меня, так и потеряли мы там, до сих пор не знаем, куда он сгинул, – сожаление отразилось на грустном лице Орлова, словно он вспомнил того кудрявого рослого молодца, что всегда улыбался при встрече с ним.
Корилла слушала генерала, стоя у широко распахнутого окна, откуда открывался прекрасный вид на центральную городскую площадь. Хриплый крик одинокой птицы заставил ее вздрогнуть и обернуться.
– А она-то куда подевалась? Ей же тоже надо было ноги уносить!
Орлов впал в пространную задумчивость и как собака, потерявшая нюх, не сразу понял вопрос и завертел головой:
– Кто? А, она?! Поначалу объявилась в Неаполе, пыталась соблазнить моего друга Гамильтона, английского посла. Хотела денег.
– Дал? – выразительные глаза итальянки вновь смеялись.
– Нет. Тогда ей в голову пришла мысль перейти из православия в католичество. Новоявленная Елизавета сняла дом в Риме, где поселилась со всей своей поредевшей оравой. Остались только преданные ей Доманский, Ханецкий, Вансович и Чарноцкий, да слуги. Этот Чарноцкий расхаживал по Риму в польском национальном костюме, с растопыренными в разные стороны ужасными усищами и с саблей на боку. Римские зеваки бродили за ним толпой, но денег за это никто ему не платил, а они были нужны. В Риме тоже много было простаков, у которых княжна ссужала денег, при этом меняла фамилии: то она снова становилась черкесской княжной Волдомир, то называла себя Елизаветой Радзивилл, родной сестрой князя. Ходила к английскому послу, выложила ему то же, что и мне, и попросила семь тысяч золотом, а также паспорт на имя добропорядочной немки. У неё нашлись рекомендательные письма к английским послам в Вене и Стамбуле. Англичанин ей ничего не дал, а отписал мне в Ливорно подробное письмо. Единственное, что ей тогда действительно удалось, так это заручиться для себя рекомендациями в адрес влиятельного в Папской курии кардинала Альбини, которому она переслала письмо со своими выдумками.
– Я догадываюсь, почему: я знаю кардинала Альбини, он всегда покровительствовал польской короне, – сказала Корилла и пригубила стакан с соком.
Орлов тоже с удовольствием составил ей компанию, присел в кресло, налил себе вина и, захватив в кулак горсть черных маслин, продолжил:
– Сам кардинал на контакт с ней не пошел, а послал своего секретаря аббата Роккатини выяснить – может, им всё это для большой политики полезно будет. Аббат её выслушал и даже почти поверил. Она ему и про меня напела, будто я уже на её стороне, а в Киеве её ждут шесть тысяч гусар. Что подкупило аббата, так это её заверения, что, если Римская Церковь поможет, то она непременно введет в России вместо православия католицизм. В конце концов, об этих переговорах прослышала вся римская аристократия. Денег ей на жизнь подкинули, а тем временем изучили все представленные ею три завещания в копиях. Вывод сделали не сразу, но однозначный: документы подделка, сама она авантюристка. Доверенный человек кардинала, дипломат маркиз Античи мягко дал понять княжне, чтобы она прекратила заниматься своим опасным делом, и из сочувствия посоветовал срочно уехать в тихое место, куда-нибудь в провинцию. Обобщив всю информацию, я понял, что пришло, наконец, моё время. Я послал к ней своего майора Христенека, который «доверительно» сообщил, что я долго сомневался в её искренности, но теперь окончательно убежден, что она действительно принцесса. Разумеется, поначалу Елизавета была весьма недоверчива, но я уже обложил её со всех сторон. Английский посол Гамильтон по моей просьбе советовал ей вернуться в Рагузу. Не скрою, мой друг, сэр Джон Дик – английский консул в Ливорно – также помогал мне. Его люди в Риме, ссужавшие Елизавету деньгами, стали по его указанию давить на неё, чтобы она покинула Рим.
Корилла вскочила и недовольно повысила голос.
– Да этот Джон Дик – негодяй первого сорта, как можно его называть хорошим человеком и тем более величать другом, пусть он и кавалер высших российских орденов и к тому же являлся поверенным в делах Петербурга.
– Вот видишь, ты разбираешься, но Елизавета-то этого не знала. Её загнали в угол, требовали вернуть деньги и грозились обратиться в полицию. Мой майор заплатил за неё все долги, а суммы были значительными. Шестнадцать тысяч золотых, и всё это из кармана России! Елизавета, избавившись от кредиторов, тотчас выехала с майором из Рима в Пизу. Её сопровождали только возлюбленный Доманский, бравый усач Черноцкий и ещё несколько слуг. Остальные княжну покинули. Здесь у нас в Пизе я создал для неё поистине сказочные условия: снял богато обставленный дом, оплачивал все её расходы, и, конечно, ежедневно совершал к ней визиты. Возил по городу, показывал знаменитую кривую башню. Сопровождавшим меня офицерам я наказал обращаться с ней как с царицей, и они старались – только что на колени не падали.
Корилла слушала, затаив дыхание, но недоверчивый взгляд говорил Орлову о том, что ожидать сопереживания ему не стоит.
– В одной постели ты с ней тоже оказался по заданию матушки? Или это был уже тобой придуманный маневр?
Стрелы, которые поэтесса осторожно начинала пускать в Алехана, к ее сожалению, не достигали цели, видно было, что его они вовсе не пугали, и Корилла почти перестала сомневаться в правдивости слов своего возлюбленного.
– Да, грех на душу взял, – клялся ей в страстной любви, в верности, предлагал сочетаться законным браком.
– Выходит, нету такого греха, которого ты бы не испробовал. Вот какой ты! И, конечно, слово своё сдержал! – Корилла старалась быть веселой и даже доброжелательной, но одному Богу было известно, чего ей это стоило. Алехан сделал вид, что не расслышал последних слов поэтессы.
– Вся сложность состояла в том, что княжна эта была дамой ушлой. Она внимательно приглядывалась ко мне всё то время, что жила в Пизе, и когда доверилась мне, то сама внушила себе окончательно, что она действительно Елизавета II. Вот тогда она стала вести себя подобающе выбранному образу.
– То есть? – в лице Кориллы отразилось непонимание.
– Это был тонкий ход, изощренная хитрость, на которую можете быть способны только вы, женщины. Видишь ли, она ничем не выдавала желания побыстрее сочетаться со мной браком. Если бы она пожелала, то ради дела я бы пошел и на это. Но нет, она тем временем обдумывала ход и была рисковым игроком. Когда я её пригласил покататься на корабле, я не верил, что она согласится.
Орлов неожиданно прервал рассказ, и, помрачнев, умолк надолго. Пальцы, сжатые теперь в массивные кулачищи, едва заметно подрагивающая от нервного тика изуродованная щека говорили о том, как болезненны ещё были для графа эти воспоминания.
– Что же было дальше, любимый?
– Моя шлюпка тогда подвезла к адмиральскому кораблю всю их компанию – её, двух шляхтичей и прислугу. Играла музыка, матросы кричали «Ура!», пушки палили, маневрировали фрегаты. В этой суматохе я незаметно исчез, а капитан Литвинов со своими вооруженными матросами объявил ей, что все арестованы, и выставил караул. Ночью корабли взяли курс на Кронштадт.
– А где был ты?
– Я был в её особняке. Нам повезло, мы захватили весь её архив и задержали на берегу остатки свиты – представляешь, эта расчетливая авантюристка завела свою канцелярию, и нам пришлось потрудиться, чтобы хотя бы пронумеровать все документы!
Орлов был уверен, что это сообщение удивит Кориллу. Но вместо этого поэтесса только брезгливо поморщилась. Алехан молчал, любуясь женской мимикой, и улыбка не сходила с его лица. Корилла прикрыла глаза и покачала головой, как будто была с кем-то не согласна.
– Как-то всё это прозвучало неубедительно. Не знаю почему, но мне кажется, что ты мне многое не договариваешь.
– С кем же мне тогда делиться, как не с тобой? Ты да братья мои, ближе никого нет.
– С императрицей своей. Ей ты как перед богом!
– Одно разве другому мешает? А ты все в сомнениях.
– Хочу верить, да пока не получается.
– Тогда что же мне сделать, чтобы ты мне поверила?
– Не знаю даже. Покажи мне письма-донесения императрице своей.
Алехан покачал головой и присвистнул.
– Зачем тебе знать тайны нашей дипломатии?
Он бросил сердитый взгляд на любимую женщину. Корилла в ответ натянуто улыбнулась.
– Важно мне всё, что с тобою связано: риск, переживания твои, а дипломатия для меня – пустое… – она нервно подернула плечами и грустно усмехнулась.
– Хорошо, все письма не покажу, а вот одно из последних, пожалуй, принесу – оно, несомненно, интерес твой вызовет.
Алехан встал и скрылся в библиотеке. Ждать пришлось довольно долго, и Корилла начала жалеть, что так бесцеремонно вторглась в его воспоминания. Она опасалась, что Алехан, оставив её в кабинете, вовсе покинул дом. Он проделывал подобное и раньше, когда они, бывало, ссорились даже по пустякам. Но граф вернулся. Веселья на его лице не было, но и раздражения на нем она не прочла.
– Вот, держи. Читай спокойно, я тебя не буду торопить. Донесение моё подробное, а потому длинное.
Письмо и впрямь было на многих листах. На последней странице, как было заведено в русском делопроизводстве, стояла двойная дата: «1775 год, Февраля 14 (25) дня. Из Ливорно».
– Давай, – в нетерпении протянула руку поэтесса, и жадно принялась читать на немецком то, что было переписано от руки, видно, второпях.
«Всемилостивейшая Государыня!
Угодно было Вашему Императорскому Величеству повелеть доставить называемую Принцессу Елизавету, которая находилась в Рагузах. Я со всеподданическою моею рабскою должностью, чтоб повеленьи Вашего Величества исполнить, употребил всевозможные мои силы и старанья, и счастливым теперь сделался, что мог я оную злодейку захватить со всею её свитую на корабли, которая теперь со всеми с ними содержится под арестом на кораблях, и рассажены по разным кораблям. При ней сперва была свита до шестидесяти человек…»
Погруженная в чтение, Корилла не сразу услышала посторонний шум у дверей. Она подняла голову и оглянулась. Алехана в кабинете не было. Итальянка прошла в библиотеку, но и там его не увидела.
– Ты где, любовь моя? – звонко прокричала не терпящая одиночества поэтесса.
– Ну, что ты, беспокойная душа, здесь я. Читай, ведь ты получила то, чего так желала! – раздался за спиной Кориллы спокойный голос графа. – Я дал распоряжение подать закуску под вино.
– Я совсем не голодна!
– А я вот беспрестанно жрать готов, вся силушка моя на тебя этой ночью ушла. Теперь желаю я и свою утробу яствами порадовать, – сказал Алехан с улыбкой.
Щеки поэтессы порозовели, и она немного смущенно улыбнулась в ответ.
– Вот что хотела я спросить: пишешь ты, что свита у Елизаветы твоей большая была, а мне рассказывал, что всего два шляхтича-то и было на корабле.
– Ты что, уже всё прочла?
– Нет, что ты, начала только.
– Так читай, и не спрашивай наперед, там всё расписано мною доходчиво. И прекрати уподобляться тем, кто напраслины всякие на меня наводит. Елизавета эта моей не была никогда. Злодейка она!
Корилла вернулась в кабинет и продолжила чтение, но не удержалась и окликнула графа снова.
– Послушай, Алексис, что-то не помню я, кто это твой генерал-адъютант Иван Христенек? Не тот ли горячий испанец, что во все дыры лез и по городам нашим и в Ливорно вечно шнырял?
– Нет, этот, что тебе не по нраву пришелся – Иосиф Рибас, сын кузнеца из Барселоны. Тоже взят мною на русскую службу. Интереснейший человек, умница, хитер как лис, порученцем моим состоял для самых секретных дел. Средь нас я его Осипом Михайловским кликал. Верю, что еще послужит он России нашей. А Христенек – это серб, я его нашел среди единоверцев наших и определил на русскую службу, он у меня на посылках главным адъютантом. Рекомендовал его императрице как верного нам человека. Так ты читать будешь, или как? – Графа начинала раздражать нарочитая дотошность Кориллы.
– Да читаю я, только не всё мне ясно!
Алехан ненадолго удалился в библиотеку, но вскоре снова вернулся и встал у нее за спиной. Она, как прошлой ночью, манила его тонким запахом духов и свежестью здорового тела.
– Ну что, дело к концу? – он торопил Кориллу, чтобы поскорее убрать бумаги на прежнее место.
– Подожди, не торопи меня. Смотри, вот, ты пишешь, – Корилла взяла лист бумаги тонкими пальцами и показала Орлову – «…Оная ж женщина росту небольшого, тела очень сухова, лицом ни бела ни черна, а глаза имеет большие и открытые, цветом темно-карие и косые, брови темно-русые, а на лице есть и веснушки». Это ещё не всё, – Корилла взяла ещё один лист, – вот – «…свойство ж оная имеет довольно отважное, и своею смелостью много хвалится…»
– Ну, так что? – спросил Алехан, почесывая спину о бронзовую рукоять дверцы шкафа.
– Хочу понять я в чем тайна её чар, почему все ее желали? Ответь мне как мужчина!
Она повернула голову, чтобы увидеть глаза графа.
– В том-то и загадка, что чары ее каким-то необъяснимым магнетизмом обладали. Принцессою Елизаветою Второй себя называть изволила в открытую. Глазищи свои черные выставит, иной раз аж не по себе становилось, истинный крест говорю тебе – для пущей убедительности Алехан осенил себя крестным знамением. – Не захочешь, да поверишь, кто пред тобой стоит. Женщина сумасбродная. Одно только сожаление моё вызывает, что не было у меня времени в достатке, чтобы понять и узнать в точности – кто оная в действительности. Она отсюда писала во многие места о моей к ней преданности. Пуще чтоб поверила, я сказал, что с охотою женился бы на ней хоть тотчас. Я принужден был обстоятельством подарить ей мой портрет, который она всегда потом при себе хранила.
– Может, она и здесь, в этом кабинете, у тебя бывала? – глаза Кориллы вспыхнули огнем.
– Нет, – ответил он, – ноги ее в моем паласе никогда не было! За сей портрет недруги мои могли легко придраться ко мне, поскольку тот же Панин, да и матушка сама наперед давали указания не входить в сношения близкие с сей женщиной, а вот Рагузу бомбардировать согласие давали, чтоб её захватить и посадить на корабль. Ещё раз скажу, что женился бы на ней, лишь бы исполнить волю императрицы. Но оная особа сама сказала мне, что не время этим заниматься, что несчастлива она, поскольку цели своей ещё не достигла. Сказывала мне, что только когда сама станет императрицей, сможет меня собою осчастливить.
Корилла протянула бумаги Орлову.
– Из всего того, что я прочла, я поняла, что она была пленена на корабле Грейга, но не верила, что арест сей осуществлен был по твоему приказу, считая, что кто-то её и тебя предал. Якобы ты тоже был арестован, и уже после этого передал ей письмо. Твою руку она признала и стиль твоего изложения на немецком тоже. В письме ты заверил её, что вскоре сам уйдешь из-под караула, а после и её спасешь.
– Да, мой генерал-адъютант Христенек с ней был для вида арестован, и целые сутки провел вместе с ней под караулом на корабле. Иван Христенек стал ей доверенным человеком. Это письмо, что ты сейчас прочла, я вчерне тогда составил и послал императрице, поскольку спешил отправить курьером в Россию Ивана, а вместе с ним и весь Елизаветин архив, пронумерованный мною до последней бумажки. Опасался я тогда, чтобы не проведали недруги о моих планах и не захватили Христенка по дороге в Петербург.
Корилла, прижав пальцы к губам, долго качала головой.
– Одного я не пойму – как такая осторожная женщина допустила явную оплошность, сев к тебе в шлюпку? Если не любовь, то откуда тогда к тебе такое доверие испытала?
– Ты права, женщина, всклепавшая на себя имя высокое, была умная и осторожная, и перед тем, как согласиться на предложение присутствовать на показательном морском сражении моей эскадры на Ливорнском рейде, не единожды приезжала в Ливорно, где встречала любезный прием – в частности, у Джона Дика. Она напустила на себя высокомерную сдержанность, вела себя, как подобает претендентке на престол. Наконец, она действительно поверила, что и я, и Джон Дик, и мои офицеры – все у её ног. Мне пришлось играть рискованную роль и делать вид, что лелею честолюбивые надежды на российский престол. Она желала меня слушать, и я подолгу рассказывал ей о мраморных дворцах Петербурга, о редкой красоте драгоценных камней и о величайших предметах искусства, которыми тешила себя матушка. Помнится, я осмелел настолько, что делал за столом громкие высказывания против Екатерины, поминал имена вельможных российских князей, уставших от ее самовольного правления, и клялся, что толпы дворян готовы следовать за молодой принцессой всюду, если только она соизволит ими править. Я замечал, как она поддавалась искушению обладать абсолютной властью, фантазии кружили ей голову и, желая унять дрожь в коленях, она медленно опускалась в кресло. Прижимая платок к губам, она просила шляхту оставить ее ненадолго, чтобы никто не видел, как у неё от переизбытка чувств горлом начинала идти кровь. Бедный капитан Грейг, он даже после ареста Елизаветы держался с ней почтительно. Она содержалась в капитанской каюте, мы оставили ей в услужение её прислугу и доктора. С целью доставки её в целости и сохранности мы должны были заставить её верить, что она действительно важная вельможа, иначе она смогла бы найти способ наложить на себя руки. Духу у неё на это бы хватило, это точно. Вот чего я действительно не замечал – так это романтических чувств ко мне.
– Интересно, справился ли Грейг с твоим приказом доставить авантюрьеру в Кронштадт.
– Да, приказ исполнил, но других писем тебе показывать не стану, придется верить мне на слово, – Орлов взял документы из рук Кориллы и направился в библиотеку, чтобы убрать их на прежнее место.
– Хорошо, постараюсь, – иронично бросила вдогонку графу Корилла.
Граф вскорости вернулся и продолжил.
– Женщина эта была спокойна до самой Англии в чаянии, что и я туда за ней следом приеду, но как меня не увидела, пришла в отчаяние и великое бешенство. Писал мне Грейг с оказией, что даже в обморок упала на четверть часа. Были у неё тогда в Англии попытки и броситься со шлюпки в воду, и зарезаться. Жаль мне Грейга – нашему храбрецу пришлось заняться и этой миссией, которую никогда сроду не исполнял.
– А саму Елизавету тебе что, совсем не жаль?
Корилла смотрела на Алехана, пытаясь уловить хоть малейший признак волнения в его поведении. Однако, Орлов оставался веселым и невозмутимым.
– До судорог душу мою она не доводила, как порой тебе удавалось. Сластолюбец я закоренелый, но страстью к ней захвачен не был. И пусть положение моё в этом деле кому-то неказистым покажется особенно, если все эти наветы смаковать, однако же замечу я, к своему сожалению, что почему-то все замечать не хотели, что чахотка у неё была и была, похоже, застарелая, но она и сама тщательно скрывала это ото всех. Худо ей пришлось в Петербурге, это точно. Дорогу же она сама себе выбрала такую, а не моему велению следовала. Хлопотливое дело было, не скрою, но не всё забавы нам вкушать, иногда и дела государевы исполнять надобно. Мне лгать ей исправно – это как тебе стих сочинять, собьешься – всё наружу лезет.
Корилла согласно кивнула головой, стараясь не гневить графа.
– И впрямь, собеседницей я для тебя уж очень придирчивой оказалась. Впрочем, ты меня знаешь!
– Я и итальянцев знаю! Вот и Казанова ваш тоже…Я поначалу думал – он на бедность просить изволит, когда приехал ко мне в Ливорно. Нет, авантюры его манили тогда более всего.
– Вот как? Ты и с Казановой знакомство водил?
– Да, – ответил Алехан, – разве я тебе о нем никогда не рассказывал?
– Впервые слышу от тебя его имя.
Граф заерзал и провел ладонью по лбу, поняв, что лишнего брякнул себе во вред.
– Откушай прежде хоть что-нибудь, разговорами-то сыта не будешь!
– А когда про Казанову?
– А причем тут он?
– Все же хотят про него знать. Его похождения по Италии в последние годы обросли такими слухами, что хоть романы пиши! Хорошо бы их с твоей помощью попробовать развеять. Ради этого я готова слушать тебя сколь угодно долго, и никаких кушаний мне не надо.
Граф был немного озадачен намерением Кориллы продолжать разговор. Алехан считал себя знатоком дамских сердец и был уверен в намерениях итальянки перейти от пустых разговоров к делам, имеющим касательство только их двоих. Он почувствовал это по недвусмысленным взглядам, которые она бросала на него украдкой, боясь в то же время встретиться с ним глазами, по которым можно было прочитать ее желания. Всякий раз Корилла злилась и ощущала себя беспомощной, находясь рядом с этим северным медведем, взгляд которого сводил её с ума.
Однако на сей раз граф явно торопился: Корилла ещё не всё выведала, ещё не все слухи, зачастую ложные, были развеяны. Орлову пришлось смириться.
– Казанове нужно было видеть меня по одному делу. И случай выдался ему прямо перед самым уходом эскадры моей в Морею в 70-м году. Он был с дороги – прибыл из Турина, проехав из Марселя через Антиб и Ниццу. Прознав, что я, граф Орлов, не пользуюсь средь его друзей репутацией искусного моряка, он отчего-то убедил себя, что без его помощи русским адмиралам Константинополем не овладеть. Если бы воевали англичане, тогда да, конечно, а вот русские – ну, никак не смогут без него обойтиться.
– А, может, он просто скрывался от кого-то, как обычно, или обстоятельства его были неказистыми? Или по причине невезения в карточной игре? Может быть, и от дел безотлагательных имел разочарование какое? Впрочем, всякое могло случиться! – махнула рукой Корилла.
– Можно всяко предположить. Настаивая на полном ко мне уважении, он высказал готовность предложить мне свои услуги. Мы стояли тогда в Ливорно, ветра были препротивные, и мы ждали погоды, готовые в любой момент сняться с якоря и начать поход. Казанова имел рекомендательные письма от моих европейских знакомых, а посему отказать ему сразу я просто не смел. Его мне представил хорошо тебе знакомый английский консул в Ливорно, у которого я перед самым отплытием имел удовольствие остановиться. Я подозревал, что встречал его в Петербурге и не сомневался тогда в Ливорно, что его присутствие у меня на корабле будет весьма приятно нам обоим. Но я был занят необыкновенно и не мог поначалу уделить ему должного внимания. Слава Богу, польский посланник в Венеции, г-н де Лолье, что был у меня на докладе, оказался его знакомым и занял моего гостя разговорами. Получив разрешение на аудиенцию, Казанова прождал однако в приемной почти весь день. Он, видимо, принял это за неучтивость, но я ответствовал ему тогда приглашением к обеду. Помню, его крайне удручал мой застольный политес. Ты же знаешь, я вечно требую от гостей кушать больше. Вот и тогда я покрикивал своё любимое «Ешьте же!». Казанова, как мне казалось, весело повторял за мной эту фразу по-русски, но по лицу его я чувствовал, что он ожидал от обеда другого. То ли пища наша ему казалась дурной, то ли вино отдавало морской водой, а, может, ещё чего. Оригинал он был ужасный, требовал себе отдельный куверт – из одной тарелки с соседями ему кушать было несподручно. А, возможно, ему было не совсем приятно, что гости мои сидели без разбора чинов и званий. Разговор наш, обычно напоминавший более всего кошачий концерт, как-то прервал сам Казанова, и монолог его затянулся надолго.
У Орлова снова пересохло горло, и он выпил ещё вина, заранее предвидя очередной неодобрительный взгляд своей возлюбленной.
– Так чем же он сумел так привлечь ваше внимание?
– Осмелюсь признаться, – Алехан сделал паузу, – разговор зашел о женщинах, да простит меня, простолюдина, сиятельнейшая Корилла Олимпийская.
Алехан попытался сохранить игривый тон, но собеседница остановила его властным жестом.
– Снова о женщинах – ему же тогда все сорок пять было, а то и больше! Лгал, небось, сеньор по своему обыкновению!
– Не знаю точно, но постарел он сильно. Будучи в Петербурге, он выглядел весьма моложаво.
– Так чем он вас так потешил?
– Разговор касаем был только уха мужского, и обидеть тебя таким манером не решусь. Сей повеса позволял себе игривый тон, поведав о своем всяческом беспутстве.
– Граф, это очень хорошо, что вы так деликатны, но уверяю Вас, что я не отвечу презрением, если вы будете искренни.
– Если уж вы так настаиваете и время терпит, то извольте, любезный друг, я изложу историю, как было. Дело в том, что Джакомо Казанова приехал к нам в Петербург именно зимой, после двух месяцев пребывания в Риге и оставался в России целых девять месяцев, никак не меньше. Жил он на улице Миллионной. Погода наша, как назло, не баловала его совсем – за весь 65-й год не выпало ни одного погожего дня. Посетил он и Москву, родину мою. Сравнивая Петербург с Москвой, он отмечал, что люди у нас в Москве покладистее, а женщины красивее, нежели в Петербурге. Удивительно мне было слышать от него, что жители Петербурга, якобы, все поголовно были лишены душевной чувствительности. В Москве, считал он, все иначе. Дело, конечно, спорное. Благодаря множеству рекомендаций он находил в России отменный прием. Пожалуй, единственное, что он отмечал положительного у петербуржцев, так это то, что кроме французского все образованные люди ещё и по-немецки объясняться могли. Возможно, говорил он это от великодушия.
– Так что же он о женщинах своих рассказывал?
Алехан не торопясь доел куропатку и глотнул сладкой воды, заставляя Кориллу томиться ожиданием.
– Ну, ты охочая до пикантных подробностей, я скажу! Всегда направишь рассказ мой в нужное русло!
Корилла звонко засмеялась, демонстрируя графу свое расположение, и расположилась в ожидании подробного рассказа.
– Ах, да, о женщинах, конечно, хотя, как я понял, галантные похождения поначалу не особо занимали Казанову. Конечно, он посещал места массовых увеселений и играл в карты, ходил на охоту, в оперу. Мы в Петербурге с ним и свели знакомство, но помню, лишь однажды он посетил наши пригородные резиденции и императрицу. Рассуждения Казановы сводились к тому, что Петербург наш – это колония дикарей, переселенных в европейский город по прихоти царя нашего Петра Великого, чьи архитекторы создали подражание европейскому городу. Даже в нашей императрице женской красоты он не усмотрел.
– Граф, прошу тебя, не тяни, ты же обещал историю про женщину! – торопила Алехана поэтесса.
– Да, да, непременно о женщине. Впрочем, не припомню, о ком, – он пожал плечами, и удивление с его лица долго не сходило, пока он наконец не вспомнил, о ком конкретно хотел поведать. – Ах, да-да, – улыбнулся он наконец. – Казанова водил знакомство с моим родственником, молодым гвардейцем по имени Степан Зиновьев. Степан рассказывал, что Казанова искал новых впечатлений и, хотя не был любителем мужских однополых отношений, имел галантные похождения с молодыми братьями Луниными. Младший из них – блондинчик, тоненький, словно девица, считался по слухам интимным другом господина Теплова, секретаря кабинета. Похоже было на то, что зрелище сапфической любви доставляло Казанове большое удовольствие. Я ещё раз повторяю, что Джакомо тогда не ставил свои интимные отношения превыше всего, а посему и рассказ мой будет касаться лишь случая, который нам поведал сам известный соблазнитель. Так вот, Зиновьев, о котором я тебе только что говорил, был вместе с нашим героем в Екатеринингофе и там-то, по его собственным словам он увидал удивительной красоты юную крестьянку, лет не более тринадцати. Наш венецианский соблазнитель попытался было к ней приблизиться, но та умчалась к себе в избу, или, как он сам их называл, в «хижину». Казанову поразил облик этой девушки, чью красоту он позже сравнивал с совершенным образом Психеи, которую когда-то увидал среди статуй виллы Боргезе здесь в Италии. Мой Зиновьев, переговорив с её отцом, сообщил своему приятелю, что родители готовы продать их дочь иностранцу за 100 рублей.
– Как это? – от неожиданности Корилла поперхнулась соком и чуть было не залила себе платье. – Что значит продать?!
– Нашим законом это не возбранялось, – совершенно спокойно ответил Алехан. – Составив купчую с её родителями и заверив документ двумя свидетелями: его кучером и слугой, Казанова приобрел право на полное владение девицей, и она перешла в его собственность.
– Да что же это за варварство такое?! – выкрикнула в сердцах поэтесса. – Как такое может быть? И что же, она и спать с ним была должна, и прислуживать ему?
Граф несколько смущенно ответил:
– Именно так.
– Да, но если девушка не хочет его ублажать, тогда как?
– Он имеет право её посечь или побить – он хозяин её! Он деньги за неё заплатил, целых 100 рублей!
– Может быть, ей жалованье какое за услуги полагалось? – поэтесса безуспешно пыталась ухватиться за что-то, чтобы оправдать российское варварство.
– Жалования никакого, но он обязан кормить её, поить. Из всех послаблений – только баня по субботам, а по воскресеньям – церковь.
– В России – понятно. А если бы он её к нам в Италию пожелал привезти, тогда что?
– Дело это было бы непростое. Если бы он сумел получить специальное разрешение и оставить залог, тогда можно, поскольку она всё равно остается государевой крепостной!
– А если она сбежит от него, тогда как?
– Казанова волен приказать её арестовать и доставить к нему в дом. До тех пор, пока ему не вернут 100 рублей, девушка будет принадлежать ему.
– А, если… – поэтесса снова хотела перебить графа, но он жестом остановил её.
– Давай не будем копаться в законах, зачем? Наш венецианец не был намерен обращаться с ней как с рабыней. На следующий день купчая была оформлена как надо, Зиновьев отсчитал деньги. Родители же, порядка ради, потребовали от соблазнителя, чтобы он проверил качество приобретаемого товара – другими словами, Казанове было предложено удостовериться в девственности купленной красавицы-крестьянки. В таких делах Казанова был знаток: усевшись на стул, он привлек к себе не сопротивлявшееся дитя и убедился, что отец её не солгал – Казанова обнаружил в ней наисовершеннейшую девственность. Но, как сам рассказчик нам поведал, он не ставил это условие обязательным, он и в противном случае не изменил бы своего решения. Так, без чулок и рубашки, а только в грубом холщовом платье, девушка Заира, чье имя мне показалось чудным, отправилась в карете со своим соблазнителем. Как признался нам сам венецианец, он привёз её к себе и целых четыре дня не выходил из дома, вкушая удовольствия, но на этот раз все было иначе, для него странно и непривычно, поскольку «приобретение» его было безмолвным и скованным и ни в чем не демонстрировало радостных эмоций. Русским языком он не владел, но Заира, к его удивлению, оказалась способной ученицей, и через пару месяцев совместной жизни научилась объяснять Казанове, что ей было надобно.
– Неужто все четыре дня он молча делился с ней своим богатым опытом любовных утех? – смеясь и прикрывая рот ладонью, спросила Корилла.
Алехан молча с улыбкой кивнул:
– Говорил так. Натешившись вволю русской наложницей, он одел ее во всё французское и повез в баню. Баня была общественной – в ней вперемежку мылось много мужчин и женщин, и никто не обращал внимания на чужую наготу. Своим умом европейца Казанова так и не смог уразуметь, что это было – бесстыдство или первобытная невинность. Крестьянка так ему пришлась по сердцу, что вскоре он рассчитал за ненадобностью своего вечно пьяного слугу, привезенного с собой, поскольку Заира стала для него и любовницей, и служанкой. Не исключаю, что и девушка его искренне полюбила. По словам Казановы, у неё был единственный недостаток – она была любительница гадания на картах, и ей они всё время говорили, что Казанова ей изменяет, а картам она верила больше, чем ему. Заира стала такой ревнивой, что однажды чуть не покалечила Казанову, швырнув бутылку ему в голову. Всё ей мерещилось, что он в трактирах проводит время с непотребными девками. Дело кончилось тем, что он сжег карты в печке, чтобы отвадить Заиру от гаданий. Когда Казанова отправился в путешествие в Москву, Заира отправилась с ним. Ему нравилось, что, в отличие от Европы, где каждый норовил залезть к нему в душу и заглянуть в постель, в России у него никто ни разу не поинтересовался, кто ему эта Заира – дочь, любовница или служанка?
– А сама Заира как себя чувствовала, живя с ним как наложница?
– Прекрасно! Она прежде всего была в восторге от того, что везде, где его принимали, она на равных сидела за столом с гостями. А как мужик… Казанова, наверное, был крепок.
– Она давала ему повод, чтобы он её поколачивал? – Корилла воспринимала все так эмоционально, что графу казалось, что она примеряет на себя ее шкуру.
– Бил он её, и не раз, но, знаешь, русские бабы привычны к такому обращению. Бьет – значит, любит! Эту поговорку сам Казанова частенько повторял по-русски, хотя этот наш обычай он не приветствовал. Он рассказывал, что обучил девушку хорошим манерам и итальянскому, возил к её родителям. Заира была готова следовать за ним куда угодно, но, как поведал нам Казанова, в обратный путь с ним следовала уже другая попутчица, к которой он воспылал страстью, пусть и ненадолго.
– Неужели он вернул Заиру родителям, в хижину? – глаза Кориллы были полны ужаса.
– Да сдалась тебе эта хижина! Совсем нет. Он повел себя благородно и подыскал себе достойную замену. У нас в Петербурге к тому времени уже много лет жил итальянский архитектор по имени Ринальди. Уверен, эта фамилия тебе знакома. Он был любим и уважаем нашей императрицей. К удивлению Казановы, полагавшему, что архитектору хорошо за семьдесят, Ринальди положил на девицу глаз. На самом же деле Ринальди не стукнуло и шестидесяти! Казанова продал ему Заиру, архитектор взял её к себе и никогда не обижал. Мой брат был близко знаком с архитектором, да и я тоже. Ринальди строил для матушки Мраморный дворец, который она вскорости подарила Григорию. Он же возвел брату и дворец в Гатчине. Сейчас архитектору лет шестьдесят пять. Надеюсь, Заира до сих пор живет с ним счастливо.
– Тебя послушать, так оказывается, что этот авантюрист – вполне порядочный и даже благородный человек.
– Я только передал тебе его рассказ! Не требуй от меня большего.
– И как вы воевали вместе на твоем корабле?
– Не судьба была нам вместе воевать. Он тогда после обеда отвел меня в сторону и попросил определить, в каком качестве он может меня сопровождать. Он рассчитывал получить право носить наш мундир. Не скрою, он мог быть мне полезен: он знал языки тех мест, куда мы направлялись, но сразу предложить ему достойное занятие на корабле было невозможно, и я готов был взять его с собой только как доброго приятеля. Мои условия он отверг, пожелал мне удачи, однако предостерег меня от возможных сожалений. Он был уверен, что без его помощи Дарданеллы нам не пройти. Его предсказания меня удивили. Я спросил его, не тая раздражения, уж не оракул ли он или пророк. Казанова со свойственной ему самоуверенностью ответил, что и то, и другое. На том мы и распрощались. На следующий день мы покинули порт, оставив этого почтенного Калхаса на берегу.
Алехан взглянул на сидящую подле него Кориллу и заметил, что огонёк в её глазах потух.
– А знаешь, друг мой, – сказал граф, – не только ты обратила внимание на две даты, которые я поставил на письме, что ты давеча прочла. Сей авантюрист, потративший столько усилий, чтобы быть на службе Российской империи, разумеется, не без выгоды для себя, имел оказию изложить своё отношение к календарю лично императрице нашей, находясь ещё в Петербурге. Он заметил, что российский год моложе вашего на одиннадцать дней, и даже изложил свой проект реформы календаря.
– И что же матушка твоя сказала? – поэтесса вновь оживилась.
– Я же говорил тебе, что Казанове отчаянно не везло с его многочисленными прожектами, которые он лелеял воплотить в жизнь у нас на родине. Императрица во время совместной прогулки по Летнему саду охотно объяснила этому неутомимому искателю приключений, отчего в России не надо отказываться от юлианского календаря и переходить на грегорианский. Причина была одна: народ наш перемен не любит.
Алехан встал и, обойдя вокруг стола, вдруг спросил Кориллу, глядя ей в глаза:
– Как случилось, дорогая, что ты, великая поэтесса, до сих пор не знакома с Казановой, обладающим чудесным даром возбуждать к себе любовь всех красивых женщин Европы?
– Отчего же, я была с ним знакома лет пятнадцать тому назад. Он был здесь проездом. Тогда мы с ним были довольно молоды, да и ты, граф, в ту пору ещё не был так сиятелен. Хотя… я была уже известна как поэтесса, и каждый, кто претендовал на значительность, бывая в Пизе, считал долгом нанести мне визит. Удовольствие не чрезвычайное было, однако в данном случае и оно пользу свою имело. Один англичанин, хорошо меня знавший, привез Казанову ко мне домой. Как и в твоем случае, он прибыл в Италию из Франции, проехав через Ниццу и Вильфранш – прескучные, надо отметить, поселения.
Граф согласно кивнул головой. Она продолжила:
– Помню, как он восторгался моим умением красиво выражать мысли и поначалу пожирал меня глазами. Моё косоглазие уловил быстро, и боюсь, я ему все же не приглянулась. Во всяком случае, он-то точно мне был неприятен. В сравнении с тобой он проигрывал во всем. Мой холодный взгляд тогда быстро развеял его надежды. С тех пор мы никогда не виделись.
Орлов довольно хмыкнул и снова присел рядом с поэтессой.
– Слухи и до меня доходили о нем и не всегда лестные для моего уха. Не единожды меня с Казановой сравнивали, упрекая в том, что я такой же, как он, шулер в карточной игре, аферист и сластолюбец, авантюрист и искатель приключений. Не отрицаю, кому-то может показаться, что мы в чем-то схожи. Однако же, различия меж нами весьма серьезные. Посуди сама: всю свою жизнь я служу отечеству своему, а он путешествует вдали от родины в роли знатного вельможи в поисках личной выгоды. Хотя у Казановы в достатке здравого смысла, чтобы к нему относиться с уважением. Он любознателен и физически крепок, однако как кулачный боец, считаю, слабоват. Я мог бы его убить одним ударом в голову, и голова его уже распрощалась бы с жизнью до того, как его длинные ноги коснулись бы земли. Я никогда не тягался с ним в искусстве быстро завоевывать женщин. Он их уговорами берет, а я раньше завоевывал их кулаками, а сейчас знатностью и деньгами. А вот его оригинальное мышление порой меня привлекало.
– Может, лучше расскажешь мне что-либо в доказательство, а пока ты для меня ничего нового в Казанове не открыл.
Корилла явно дразнила графа, морща свой очаровательный носик. Орлов, стараясь быть спокойным, продолжил:
– Пример? Изволь! Однажды в Петербурге он взялся смело утверждать, что мы, русские, более прочих подвержены чревоугодию и суевериям. Его доводы были спорны, однако в одном он был прав: святой Николай для нас более почитаем, нежели все другие, вместе взятые. Он потешался над нашей истовостью в религии и утверждал, что наши обычаи – это по сути пережитки язычества. Для тебя объясню: у нас каждый входящий в дом сперва иконе кланяется, а уж потом приветствует хозяина. Он считает, что мы не молимся богу, а поклоняемся святому Николаю, обращаясь к нему со своими нуждами. Казанова также утверждал, что наш язык ругателен, поскольку берет своё начало от языка татар. От его внимания не ускользнуло, что богослужение отправляется у нас на каком-то непонятном языке, и он недоумевал, что наши прихожане слушают проповеди и бормочут молитвы, не понимая ни единого слова. Казанова не боялся утверждать, что наше русское духовенство проделывает это специально, почитая перевод на русский богословских текстов кощунством, и что делается это ими для своей выгоды, для сохранения их власти.
– Да, я давно поняла, почему в Европе вашу церковь называют ортодоксальной. Однако же, вернемся к Казанове. В дальнейшем вам не приходилось встречаться?
– К счастью, нет.
– Довольно странно, что он не искал с тобой дальнейших встреч…
– После виктории в Чесме флот наш так ни разу и не попытался пройти Дарданеллы, о чем мы тогда мечтали, а посему и услуги Казановы мне бы не пригодились. Помнишь, я говорил, что он заверял, что без его помощи нам Дарданеллы не пройти? Я же смею утверждать, что неудача наша произошла вовсе не из-за его отсутствия на моем корабле. Уверен, что и он со мной согласился бы – Чесменская виктория повергла в шок Европу и без Дарданелл.
– Каких же ещё тебе викторий нужно, чтобы ты успокоился наконец?
Алехан встал из-за стола, подошел к Корилле и нежно поцеловал её обнаженное плечо.
– Никаких, дорогая. Домой хочу. К себе на родину в Москву хочу. Все эти безумно жаркие ночи в Пизе думаю только о нашей российской прохладе. Какие запахи земли после дождя, а летний воздух какой! Казанова уверял, что самая бедная деревня Европы кажется чудом роскоши в сравнении с русскими селениями. Наверное, он прав. Но знаешь, какой летом вид у нас с Федором в имениях в Хатуни, а?! – граф причмокнул. – Это тебе не Гатчина, что в Петербурге. Это много лучше Гатчины, что у Гришки имеется! Места сухие, поля скатистые, рощ много. А леса какие: и дровяные, и строевые тебе пожалуйста, воды ключевые хорошие! Дунайка совсем недавно с братом нашим Владимиром получили отставку у матушки по слабости здоровья и перебрались к Москве поближе: строиться намерены. Пишут мне, что ждут – не дождутся.
Граф стоял подле нее с опущенными руками, поджав кулаки, и походил на послушного ребенка.
– А ты когда был в Москве в последний раз? – Корилла тепло смотрела на Алехана и, казалось, представляла себя, босоногой, ступающей по влажной от росы траве.
– В прошлом году зимой приезжал в Москву осматривать свои владения. За Чесменское сражение матушкой мне было пожаловано четыре тысячи душ дворовых крестьян в тех уездах, где сам изберу. Мне тогда приглянулись земли дворцовой Хатуньской волости. Одному-то мне куда это всё? Так я братьям своим Федору да Владимиру часть своих владений подарил. Места красивые, и от Москвы не далече. Да и в самой Москве у меня много участков прикуплено за годы после Чесмы. Последний раз в 73-м году летом я в Москве в коллегии экономии приобрел большой надел на берегу Москвы-реки неподалеку от Новодевичьего монастыря. Нет слов передать тебе, какой оттуда вид на город открывается! Жаль, что ты этого благолепия не видела, но ничего – вот отстроюсь, увидишь наши красоты.
– Уж не зовешь ли ты меня туда жить? Разговор ты завел, боюсь, неспроста!
– Прости уж, скажу честно: разговор я завел не за тебя, а за свою тоску по дому. Богат я с избытком и мир посмотрел, а дома своего у меня до сих пор нету. Всё как-то по высочайшему повелению мне жаловались дома то в Петербурге, то в Москве, а так, чтобы гнездо родовое – не посчастливилось. Мы, Орловы, детей любим, мечтаем, чтобы их много было. Ежели жену выбирать буду, то не красивая, а добрая мне нужна, чтобы свет от её улыбки шел. Ах, кабы добрая встретилась на моем пути! – граф мечтательно поднял глаза к потолку, взывая к Богу о помощи.
– А меня в жены ты брать всё не решаешься, или уже передумал?
Граф пожал могучими плечами и нервно потер ладонями краснеющие щеки. Помолчав, он тихим голосом ответил:
– Порой мне казалось, что нам с тобой для соединения наших судеб воедино остался всего один шаг. Тосковал без тебя, всегда мне тебя мало было. А потом смирился, рассудок стал говорить, а не сердце. Ладно всё у нас с тобой было, и есть до сих пор.
Корилла от нахлынувшей грусти опустила глаза и смотрела себе под ноги. Слегка вздохнула и покачала головой, как будто в душе не соглашалась с графом.
– Я сама всё понимаю. Это я просто так капризничаю, по-женски. В мои лета, когда уже 48, детей я тебе не смогу нарожать… Когда мы впервые встретились, конечно, я была не прочь выйти замуж за воспетого мной героя. При всей моей романтичности и известности в Европе только тебя я примечала из всех достойных, только за тобой и мечтала быть.
– И я вольность свою терять не хотел до тех пор, пока тебя не встретил. Матушка знает про мою к тебе любовь. Союз наш был бы шумным. Люди мы известные, хотя и разной веры. Твой скромный быт меня не смущает совсем, но мне надобно жить в России, а тебе там будет тяжко и по климату, и по возрасту твоему. Затоскуешь вконец. Отец твой Нардини – совсем старик, ему твой уход нужен и внимание. Да и здоровье моё совсем худое стало, на покой хочу, письма пишу не только матушке, но и Потемкину, в отставку мне пора, хлопочу о возвращении. Ещё прошу тебя, не забывай, что все мои высоты и значимость, власть и деньги – во многом это дело случая. А случись что с матушкой нашей, враз все враги из щелей своих повылазят, как тараканы. Интерес каждый будет искать свой личный. Может, еще к тебе приеду, на житье попрошусь.
У Кориллы отлегло от сердца, когда граф сменил тему.
– Я голубок мой, даже изображения вашего императора Петра III никогда не видела. Говорят, уж очень дурен собой был.
– Уродец сущий. А как его наш художник Рокотов изобразил! Просто красавец на холсте получился, а вот блевать хочется, глядючи! А наяву ты бы его увидела – боюсь, со страху бы померла. Но это полбеды! Был Петр III и раз! – тут Орлов сделал красноречивый жест рукой, показав поэтессе, как отскакивает голова. – Сейчас сынок его Павел повзрослел, за Петра месть в душе таит, метит себя на место матушки нашей. Боже! – Орлов перекрестился. – Как у такой женщины такой наследник! Упырь, ну сущий упырь, точь-в-точь, как наш народный эпос живописует таких уродцев. Сам маленький, мне до пояса не достанет, лоб и нос, что вот мой кулак с фигой. Взял бы за шею на одну секунду, и всё – мне бы, я думаю, хватило духу… Ради такого дела сию минуту готов отправиться в Россию, даже пёхом. Не нужны России такие цари. Можно, конечно, было бы отдать Павла на воспитание к Даламберу, но проку не будет. Эх, ежели бы матушка нас с Гришкой послушала, да вышла бы тогда замуж за брата, всё было бы иначе. А так – не знаю, что ждет нас впереди. Чую, мы все в России ещё поплачем от этого выродка. Откроюсь тебе ещё раз, памятуя о заверениях твоих, данных мне давеча, и скажу: не далее, как в прошлом году доверенный секретарь графа Панина, некий Бакунин, выдал братцу моему Гришке всех участников заговора против матушки с целью свержения её с престола и возведения на трон достигшего совершеннолетия сыночка.
– И что же императрица с ними сделала?
– А ничего! Пожалела сынка. Тем более что Павел испугался, пришел к матери с повинной, передав список заговорщиков. Матушка пожалела их всех, правда, графа Панина от своего дитяти отдалила. Брат Панина и Дашкова оставили двор и переселились в Москву. Похоже, что жертвой сего заговора окажется одна жена Павла, а подробности я оставлю при себе, поскольку свою тайну государственную обстоятельства сего дела до сих пор не утратили. Тут ещё раз крепко призадумаешься, прежде чем вывод делать – зачем матушке понадобилось всё это с «Елизаветою» через меня здесь проделывать. Может, желала связь обнаружить между женой Павла, принцессой Дармштадтской, и этой несчастной самозванкой? Одно слово – немчура проклятая.
Алехан снова потянулся к сосуду с вином и глубоко вздохнул. Из уст Кориллы прозвучало уместное восклицание:
– Так матушка же тоже германка чистая!
– Ты только матушку не трогай, она головой своей и помыслами русская, может, больше, чем я. Повезло нам с ней. Умна она, хороша собой, а волей духа – истый мужик. А то, что в русском слове «ещё» умудрилась сделать сразу четыре ошибки, написав «исчо», так это поправимо. Я тоже великосветским манерам не скоро обучен был.
Корилла смерила Алехана пристальным взглядом и, словно что-то вспомнив, азартно сверкнула глазами.
– Ты про родителей своих, Алексис, мне никогда не рассказывал.
– Просто оказий не представлялось, а так… умерли они давно. Отец мой полковник, даже статским советником стал. Мужик был крепкий, но женился поздно, давно ему за пятьдесят было. Однако взял девицу шестнадцати лет от роду и прижил с ней аж девять сыновей. Правда, четверо умерло в раннем возрасте, а мы пятеро до сих пор землю топчем, спаси нас Господи, – и Алехан перекрестился.
– Смотри, тебе с отца пример брать надобно и детей кучу заиметь.
– Не против буду совсем. Я тебе раньше говорил, что сын у меня есть, уже совсем взрослый. Год прошел, как сержант лейб-гвардии конного полка. Я по молодости много грешил, нагуляла от меня одна простая женщина, да померла. Сына Александром нарекли, и я его не забываю. Буду жить в Москве, к себе позову. И ты ко мне обязательно приедешь в скором времени погостить. Приму тебя, как богиню, презентами царскими одарю, жизнь покажу нашу русскую. Сам охоту не люблю, но тебя развлеку по-настоящему. А когда «чавеллы» молдавские встанут у меня в поместье на постой, выйдут из своих шатров да запоют, ты заплачешь в моих объятиях. Знаю, сможешь ты оценить красоту цыганской песни. Пир задам в Нескучном, всю Москву напою водкой. К матушке в ноги упаду, чтобы не чинила препятствий твоему скорому приезду, и просить буду покровительства для тебя такого, которого сам заслуживаю.
– По-твоему выходит, резон есть! Чтобы дрожать там от холода вместе с тобой и матушкой твоей?
– Зачем же дрожать? Да, хоть и дрожать, я, поди, рядом буду, согрею тебя, жарко будет! Зябнуть перестанешь враз.
– Согреет он! По субботам будешь согревать, а в воскресенье в церковь отпускать, так что ли? Ты сейчас, хоть и силен как бог, да здоров ли? Всю ночь кряхтел, как старый хрыч да ворочался с боку на бок. Что ж не спалось тебе сладко после того, что у нас с тобой было, или маялся спиной да ногами своими хворыми?
– А вот совсем и нет! Я тебя давеча караулить вздумал, а вдруг проснёшься. А коль пробудиться изволишь самолично, так может, на меня вскарабкаться не побрезгуешь разок?
– Какой же ты ненасытный, неужто и сейчас хочешь того же?
– Хочу, сладкая моя голубушка! Только так хочу, чтобы не обрушить на тебя все мои девять пудов веса. Я зайду к тебе сзади и на ногах своих всё снесу.
– В тебе, дорогой мой граф, давно уже все десять пудов сидят! Живот вон какой наел, глянь еще раз в зеркала кабинетные!
– Значит, согласна ты! – не вопросительно, а скорее утвердительно сказал Орлов и начал развязывать штаны.
– Для отказа причину прежде сыскать надобно! Нынче слово своё ты крепко держишь, всё мне честно, без утайки рассказываешь. И мне выходит, отказываться от своего не пристало. Жарко только, кабы худо тебе не стало снова.
– Не помру, небось.
– Дурной ты, – сказала Корилла, тревожно бросив взгляд на распахнутую дверь в библиотеку.
Орлов перехватил её взгляд.
– Не тушуйся, дорогая, никто нас беспокоить не отважится. Иначе не избежать им грозы!
Тишину кабинета нарушали, перебивая друг друга божественным нежным боем, полдюжины часов, которые мерили каждую четверть и полный час. Они тикали всюду, поскольку были врезаны искусными мастерами в мебельные гарнитуры рабочего кабинета и библиотеки и служили в качестве интересного оживляющего дополнения к кабинетной стойке, секретеру и даже угловому шкафу, а также сияли на стене бронзовым орлом в позолоте. Итальянская поэтесса поднялась со своего стула и, подойдя почти вплотную к столу, попробовала чуть отодвинуть массивное кресло черного дерева с высокой спинкой, но ей это не удалось.
Оно идеально подошло Корилле, поскольку боковые стенки были полыми и позволяли изогнутым подлокотникам, поддерживаемым балясинами и консолями быть отменно устойчивыми и удобными, чтобы за них крепко держаться без страха оторвать их в неподходящий момент. Поэтесса загадочно улыбнулась графу, перед тем как нагнуться. Ей не было нужды надевать корсет под новое, и без того узкое в талии платье, а посему ничто не сковывало её движений. Медальон на жемчужной цепи, что подарил её давеча граф, по-прежнему украшал шею донны, раскачиваясь, точно маятник.
Граф не смог быстро справиться с завязками кружевных панталон на бедрах пылкой итальянки и, опасаясь довести дело до конфуза, пробовал ослабить тесёмки своими неловкими пальцами. Тело графа ломило от приятной истомы и он, прикладывая всё большее усилие и обильно потея, почувствовал, как порвал завязки, и панталоны сами сползли с точеного торса к шелковым ботинкам.
Легкое летнее платье широким веером раскинулось по спине Кориллы, и Алехан тихо произнес себе под нос:
– Дивное диво, а не женщина…
За толстыми тяжелыми дверями, что вели в кабинет графа, уже несколько часов почти неподвижно стояли Изотов и второй слуга в сажень ростом по имени Терентий. Тот с ухмылкой почти шепотом произнес:
– Стало быть, того…
От долгого безделья его в очередной раз потянуло в зёв. Широко разинув рот, и не прикрывая его ладонью, он продемонстрировал Изотову ряд гнилых зубов. Лениво перекрестившись подобием православного знамения, Терентий продолжил шептать Изотову на ухо:
– Куды он лезет. Ему только третьего дня делали кровопускание.
– Она под ним млеет! – сказал Изотов, застегивая накрахмаленный воротничок. – Тебя только, черт шелудивый, не спрашивали, – он посмотрел на Терентия с осуждением. – Чай и тебе граф наш не солон тоже.
– Да я чего, – испугался Терентий, – браниться, боюсь, будет, что не уберегли! Кабы худого не вышло чего?
Изотов почесал бороду и, прищурив глаз, показал Терентию свой здоровенный кулак.
– Худое, значит, чуешь? Сейчас вот это враз почуять можешь.
Матросы затихли. Из кабинета снова стал доноситься едва различимый женский голос. Два бывших матроса, вытянувшись в струну, замерли в ожидании скорых ордеров графа под непременный звон колокольчика, но из-за высоких дверей их звать никто не торопился.
Теперь Корилла громко выкрикивала, бросая в воздух тяжело переводимые на родной язык графа крепкие тосканские выражения. Орлов всё время пробовал понять, что она говорит и отчего так бранится. Лишь однажды он уловил в бабской скороговорке несколько знакомых слов:
– Лошадок… лошадок… лошадок он любит арабских! Сам ты – жеребец деревенский!
Часть 5
Септимий Север
Утром звонила бабушка. Звонила просто так, от скуки. «Merde!» – первое, что непроизвольно сорвалось с моих губ. Снова пришлось, сдерживая зевоту, мягко напоминать ей, что когда зимой в Москве куранты на Спасской башне пробивают полдень, здесь, на Лазурном берегу, только занимается рассвет. Что поделаешь, не помнит она ни хрена. У них там всю неделю стояли крепкие морозы. Снегу намело столько, что даже во двор не выйти, чтобы хлеба купить. Конечно, я всегда прощаю деду и ей эти их ранние звонки. Люди они славные, но неисправимо старомодные, из тех русских, кто за границей никогда не был и не рвется. И живут они до сих пор в своей двухкомнатной «хрущевке» на Молодежной. В тех апартаментах, что остались от моих родителей на Юго-Западной, они жить отказываются, предпочитая коротать свои однообразные дни по старинке на крошечной кухне, слушая радио по утрам и наблюдая застывшим взглядом, как падает снег за окном. Они все ждут прихода весны. Я хотел им сказать, что живу теми же чувствами, но вдруг осознал, что это не так. То ли я совсем забыл наш московский вьюжный февраль, то ли просто чувство приближения весны меня покинуло. Виной тому, наверное, моя скучная жизнь в Ницце, лишенная каких-либо ожиданий. Здесь на Лазурном все так живут. Я тоже стал совсем, как они. В Москву я приезжаю только в мае, и то ненадолго, чтобы помочь моим старикам перебраться на дачу и пожить там вместе с ними пару недель, налаживая их нехитрый быт. Они обижаются, что видят меня редко, а я безуспешно продолжаю уговаривать их хоть разок приехать ко мне. Однако они боятся летать самолетом, и у них нет загранпаспортов. Иной раз мне кажется, что это лишь отговорки. Они все время просят привозить им фотографии Вильфранша, и с интересом рассматривают глянцевые картинки, прижавшись друг к другу седыми головами и напрягая подслеповатые глаза. Наверное, этого для них вполне достаточно. Я все время боюсь за них, но к счастью этот ранний звонок бабушки говорит о том, что все у них в порядке, только иногда мучает давление.
– У меня здесь все пока тоже тип-топ, – доложил я, – разве что пасмурно и дождливо.
Хотя неожиданно для многих утро наступило теплое и сухое, такое, какое накануне предсказывала мне Клер. Я не поверил ей даже тогда, когда ее с оптимизмом поддержали пухлые коралловые губы темнокожей француженки, вещавшие вчера вечером на экране «TF 1» о прогнозе погоды на предстоящий уикенд. Однако сегодня после продолжительных ливневых дождей с грозами ветер с моря совсем стих. Теплый воздух, насыщенный запахом весенних цветов и хвои, пробуждал у меня приятные воспоминания. Солнце на безоблачном небе к полудню стало светить совсем по-летнему.
Я сдержал обещание и ехал на ланч в машине с откидным верхом в сторону старой Ниццы, туда, где жила Клер со своими родителями. Пальмы вдоль дорог отбрасывали ласковые тени, а солнце припекало затылок. Я никогда не испытывал радости от хождений в гости к малознакомым людям, особенно к французам, при каждом удобном случае не забывающим помянуть о своей богатой родословной. Может, это у меня ещё и потому, что самому хвалиться особо нечем. Тогда о чем, спрашивается, мне было с ними говорить? О несчастной России и загадочной русской душе? Дружеские посиделки, где каждый считал своим долгом подробно изложить свою точку зрения на текущие события, лично для меня обычно являли собой довольно обременительное времяпрепровождение.
Глупая натянутая улыбка не сходила с моего лица всю дорогу то ли от смущения, то ли от пошлых мыслей, что помимо воли роились в моей пустой голове. Я следил за указательными знаками и резко повернул вправо в сторону старинного кладбища Кокад, в район некогда шикарных русских вилл, утопающих в зелени. Мой юркий Пежо легко проскользнул в сутолоке машин в узких переулках тихой Ниццы и оказался у решетчатых ворот, помеченных табличкой с номером 12. Черная краска на старых воротах давно облупилась, и на кованых ручках кое-где проступала застарелая ржавчина. Клер, радостно улыбнувшись и помахав в приветствии тонкой ручкой, сама открыла мне, и я заехал на стоянку возле роскошного особняка.
Это было частное владение с участком земли в несколько соток. Две высокие пальмы, если не считать ту, что неказисто торчала у ворот точь-в-точь, как у меня, росли перед входом в дом. Зеленая лужайка со скамейкой придавала желтому особняку с балконами, отделанными белыми мраморными балясинами, забытый шарм старосветского изыска. К дому шла дорожка, покрытая мелким гравием, который хрустел под увесистыми башмаками Клер, как снег в морозную погоду. У мраморных ступенек, что вели в дом, нас встречал отец девушки, молодящийся, среднего роста, черноволосый с проседью итальянец, на вид давно разменявший пятый десяток. Я поздоровался и представился. Впрочем, свою фамилию я не стал называть. Какой из этого прок, если местные особо не заморачивались изучением русского языка, а сложные для произношения русские фамилии казались им и вовсе какой-то абракадаброй, подобной мертвому языку этрусков, особенно, если в слове было больше семи букв. Неровно стриженный хозяйский серый йорк с расстегнутой шлейкой на шее не обращал внимания ни на кого, нервно перепрыгивая с одной ступеньки на другую. Мой Мартин, сидя у меня на руках, отвечал незнакомой собаке тем же безразличием, повернув голову в другую сторону.
Первое, что сделал хозяин, сдержанно поздоровавшись со мной, не подавая руки, это подвел меня к покосившемуся от времени мраморному мемориальному постаменту почти метровой высоты, на котором было выбито по-французски, что здесь, в этом особняке в свой первый приезд в Ниццу в апреле 1857 года русская императрица Александра Федоровна, жена Николая I, была в гостях. Кого она посещала, итальянец не выяснял, хотя и уточнил, что до 50-х годов 20 века его особняк принадлежал некоей русской даме, чей безымянный портрет до сих пор пылился у него на чердаке. Парфюмерный магнат, как в шутку звала своего отца Клер, был родом из Милана, но на французском говорил без акцента, лишь время от времени выпаливал итальянскую скороговорку и выразительно жестикулируя. Одним словом, никакой изысканности. Одет он был просто, скорее на французский манер, без присущего итальянцам шика и небрежного эпатажа. Впрочем, большая блестящая пряжка на ремне и ухоженная аккуратная бородка все же выдавали его итальянские корни. Его жена, мачеха Клер, нас на пороге дома не встречала, да и сама дочка сразу вошла в дом, оставив нас с папашей наедине. Я не мог тогда с уверенностью утверждать, что отец Клер страдал краснобайством, но мой добровольный гид по истории величия Франции беспрерывно осыпал меня славными именами и памятными датами, что со временем мое невежество перестало меня забавлять. Чтобы не оставаться в долгу у этого уверенного в себе владельца особняка, на его очередную хвалебную фразу «Ах уж эта Ницца, аристократический салон Европы», я добавил, может быть не без ехидства, свойственного моей натуре, что своей славой Ницца обязана ей, этой русской императрице Александре Федоровне, поскольку именно она открыла моду на Ниццу как на шикарный курорт, и за ней потянулся великосветский русский двор, а уж потом их родственники из всей Европы. Ну а уж затем и остальные… Я развел руками точь-в-точь, как это делал отец Клер, и по моему взгляду он видимо понял, кого я имею в виду. Он наконец представился, назвав свое имя: «Дино». Хорошо, что не Джакомо. Так зовут моего глуховатого ближайшего соседа на Вилльфранше. Да бог бы с ним, с этим беднягой. Я уважаю его преклонный возраст и не желаю бросать тень на этого набожного сеньора. Но когда этот воспитанного вида итальянец небрежно запарковывает свой серебристый Бентли, всякий раз немного перекрывая мне выезд, мне приходится многократно давить на кнопку его домофона в ожидании ответа. При этом я, конечно, скрываю свое раздражение и приветливо произношу: «Пардон, Джакомо, это Дэнис», и прошу переставить его широкобедрую моторизованную лошадь немного в сторону. Как все не обремененные проблемами обитатели жарких стран, он совсем не торопится и при этом все время смачно сморкается, заставляя меня снова повторять его чарующее имя. Кстати, последние два месяца он находился в госпитале, где-то на Кап Мартен, что по дороге в Ментону, но его жена при каждой нашей встрече вежливо передавала от него привет и заверяла, что он выпишется, как только поправит пошатнувшееся здоровье.
Хозяин дома снова повторил мне свое имя и добавил: «Росси». Ага, наконец он назвал мне и свою фамилию. Благородная фамилия и имя под стать: Дино. Было бы удивительно, назовись он, к примеру, «Тони Фаричетти» или «Розарио Агро». «Правда, Антонио Черутти было бы более к месту, но, впрочем, чего я, собственно, так придираюсь, – подумалось мне. – Росси, так Росси».
– А вы действительно довольно хорошо говорите по-французски, – произнес хозяин дома. Он сложил руки на груди и, немного прищурив глаза, вытянул губы трубочкой.
«Дуче, – подумал я, глядя на Дино, – ей Богу, Дуче». Я невольно улыбнулся. Мне показалось странным, что поначалу он не стал называть меня по имени. Возможно, в этом проявлялась его итальянская сущность. Его угрюмое волнение непостижимым образом передалось и мне. Сеньор Росси прекратил позерствовать и под натянутой улыбкой постарался скрыть напряжение, а может быть, и озабоченность.
– Клара мне говорила о вас много хорошего, но я, признаться, ей до конца не верил, – бросил в мою сторону отчего-то недовольный хозяин. – Полагал всегда, что русские хорошо говорили по-французски когда-то в далеком прошлом. Но сейчас совсем нет, – для большей убедительности он покачал головой. – Русские говорят здесь нарочито по-русски либо не очень хорошо по-английски, особенно когда крепко выпьют в ресторане. Отвратительное зрелище, должен вам признаться.
Итальянец с французским паспортом, способный говорить больше жестами, не скрывал своего негативного отношения к моей стране и скорее напоминал петуха, готового нанести удар, чем корректного джентльмена. Но если не придираться к мелочам, то в целом я был с ним согласен. А что скажешь, когда статистика утверждает, что 64 % французов не любят русских. Собственно, за что нас им было любить? Поэтому в знак согласия я слегка кивнул головой и, состроив подобие улыбки, выдавил из себя примирительным тоном:
– Что ж, давайте считать меня исключением, но подтверждающим ваше правило.
– Замечательно! – и отец Клер потер крепкие ладони точь-в-точь, как это делает штангист перед поднятием тяжести. Он не спешил приглашать меня в дом, и мы медленно несколько раз обошли вокруг действительно красивого особняка, в довольно непринужденной беседе восторгаясь атмосферой и красотой Ниццы.
– Моя дочь рассказывала мне, что вы интересуетесь историей древнего Рима, – неожиданно перешел на другую тему хозяин особняка.
– Не только Рима, вообще, историей, – уточнил я.
– Прекрасно, – изрек он, предвкушая продолжение беседы.
Меня не переставало изумлять, насколько жители средиземноморья любят эти слащавые словечки: «замечательно», «прекрасно» и т. д.
– Но и что же в этом прекрасного, сеньор Росси, – иронично спросил я.
– Просто я итальянец и люблю свою историю. Могу назвать на память имена всех римских императоров.
Не скрою, меня уязвил его высокомерный холодный взгляд, хотя мне не следовало расстраиваться из-за надменности этого толстосума. Как учила меня бабушка, это для бедняков гордость – непозволительная роскошь. А его определенно переполняло чувство собственного превосходства.
Я с улыбкой ответил:
– В моих жилах, не знаю, к сожалению или к счастью, не течет итальянская кровь, но я тоже знаю почти всех императоров Рима особенно эпохи принципата. Доминат меня почти не интересует, точнее, эпоха христианского Рима от Константина Великого до падения империи.
– А моя дочь? – неожиданно спросил господин Росси и замялся в нерешительности. – Простите, вы, кажется, живете один?
Поначалу его настороженность забавляла меня, но я сдержал улыбку и серьезно ответил:
– Да, это к сожалению так, родителей я потерял, я рассказывал вашей дочери. Они погибли несколько лет назад не по своей вине в автоаварии.
– Сожалею, – произнес Дино.
– Но я не одинок, – продолжил я, – у меня есть бабушка и дедушка, – я улыбнулся.
– Я не про это, – Дино был предельно серьезен, даже забыл надеть на лицо улыбку. – Я, собственно, о своей дочери пекусь. Так все-таки, вы здесь живете один?
– Ну не совсем, – я указал на Мартина, продолжая улыбаться. – Часто приезжают друзья моего отца. Иногда бывает, что они живут у меня подолгу.
Дино не унимался, желая определенности.
– Я имею в виду – сейчас вы один. Скажу прямо – не верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Для меня мужчина всегда охотник. Охотник за плотью. В этом суть мужчины. Моя дочь бывает у вас в доме. Кроме древней истории, я полагаю, что вас интересует и моя дочь?
На его лице отпечаталось нескрываемое волнение. Я мог бы его понять, но по другой причине.
– Не совсем так, – я мог предположить, что этот сумасшедший папаша кроме дочери беспокоится и о своих деньгах. Признаться, у меня промелькнула и такая мысль. Я смотрел в глаза итальянцу и понимал, что его необходимо успокоить более убедительными суждениями.
– Если говорить точнее, совсем не так! Она не в моем вкусе. Мне любо блюдо попроще, – я опустил Мартина на землю, и тот стремительно умчался в пахучие заросли самшита. – Хотя должен вам признаться, господин Росси, что не страдаю эректильной дисфункцией и женский пол в массе своей меня привлекает. Но я разборчив в выборе женской плоти.
Парфюмерный магнат несколько мгновений пристально смотрел на меня, затем заметно успокоился и даже попытался выказать одобрение, осторожно прикоснувшись ладонью к моему плечу.
– Хочу вам верить, хотя она у меня своенравная, всегда хочет делать все по-своему. Впрочем, возможно, молодой человек, что вы ее еще плохо знаете, и, наверное, как следует к ней не присмотрелись.
Слова магната заставили меня снова призадуматься. Он производил впечатление проницательного человека, но откуда тогда у этого итальянца такой испорченный вкус? Я почувствовал себя в некотором замешательстве. Собственно, чего было рассматривать в этой Клер? Свитер, брюки, сползающие с бедер, ужасные ботинки, коротко постриженные ногти, лицо, которое почти не знакомо с косметикой. Впрочем, зубы и улыбка хорошие. «Пожалуй, это все», – заключил я про себя и посмотрел на господина Росси, поймав на себе его колючий взгляд. Видит Бог, я хотел быть с хозяином дома предельно прямым, но вовремя вспомнил высказывание хитрого француза Талейрана, который когда-то изрек, что мужчине язык дан, чтобы скрывать свои мысли. И тогда я произнес:
– Вы правы, я ее не знаю и, признаться, никогда не задавался целью узнать. Надеюсь, я вас не обижаю своей прямотой, коль скоро и вы прямо излагаете свою обеспокоенность.
– Узнать, значит, познать ее желание, – сказал он, цедя слова.
Итальянец остановился и теперь стоял молча, поглаживая аккуратную бородку, а я уже был готов направиться на стоянку к своей машине, полагая, что аудиенция закончена. Мартин кружил вокруг меня и просился на руки. Отец Клер, как и мой пес, кажется, тоже догадался о моих намерениях и, обеспокоено заглянув мне в глаза, сказал:
– Молодой человек, не обижайте меня, – он улыбался и жестикулировал. Моя жена и дочь ждут нас, они приготовили обед. Кроме того, мне бы хотелось многое вам показать. Думаю, вам как любителю истории будет любопытно. Уверяю вас, вы первый из друзей дочери, кого я приглашаю к себе в дом, – кажется, он искренне пытался меня удержать. – А, выходит, скверный из меня хозяин, если гости, едва приехав, спешат восвояси. Что скажет мне дочь? Вы хотите меня окончательно рассорить с моей красавицей Кларой?
Я присел на корточки, чтобы надеть на собаку шлейку и, глядя на господина Росси снизу вверх, произнес, стараясь его не обидеть:
– Вы невероятно любезны, но поверьте, я вашей дочери совсем не друг, мы едва знакомы. Говорили, правда, на некоторые темы долго, да, пожалуй, и все.
Для убедительности я равнодушно пожал плечами и состроил гримасу непонимания.
– И только? Но моя дочь считает вас одним из самых близких своих друзей!
От слова «близкий» я чуть было не поперхнулся. Захотелось протянуть руки к небу и прокричать что есть мочи: «Благословите, святой Отец, ибо я грешен!». Лишенный комплексов и достаточно избалованный родителями в детстве, я все равно не осмелюсь утверждать, что был наделен от природы мужским магнетизмом, но то, что ее почему-то притягивало ко мне, я, безусловно, осознавал и интуитивно чувствовал. Пожалуй, только в этом и была моя вина. «Ей богу, клянусь», – так говорила моя бабушка, когда хотела, чтобы ей поверили.
– Не представляю, тогда чем же вы ее так очаровали? – Хозяин дома заметно успокоился и повеселел.
– Но я… но я, – я с трудом подбирал французские слова, чтобы быть более убедительным, – я не задавался целью ее очаровывать, – кажется, в тот момент я действительно оправдывался, сам не зная, зачем это делаю, может быть, даже от беспричинного страха. Я почти был готов разделить мнение отца о внешности его дочери и не отрицать красоту его Клары. В конце концов, где они, каноны красоты в XXI веке и по каким критериям ее оценивать?
– Ну ладно, ладно, – хозяин протянул мне руку и помог подняться с корточек. Может, – продолжал он, – в вас действительно, есть эта чудинка, о которой говорил Метерлинк.
– Метерлинк? – с интересом переспросил я.
– Идемте в дом, – не ответил Дино на мой вопрос и решительно направился со стоянки, увлекая меня за собой. Мы пошли к дому, но теперь уже я не унимался, желая оправдаться.
– Поймите, Дино, она совсем юная девушка, я старше ее почти на десять лет. У меня другой и давно сложившийся круг друзей, я избегаю новых знакомств.
Для большей убедительности я даже непроизвольно приложил руку к груди, но мои слова почему-то только веселили отца Клер.
– Вы знаете, молодой человек, моя жена тоже моложе меня на много лет, но это только подогревает мою страсть. Уверен, с возрастом и к вам это придет.
– Но я не об этом! – мне пришлось повысить голос. – Наша встреча была нечаянной, и все из-за моей собачки.
Дино смеялся до тех пор, пока мы не подошли к дому.
– Успокойтесь, молодой человек, я вас прекрасно понял, – он сам открыл входную дверь, пропуская меня вперед.
Жену Росси звали Моника. Дино так и сказал, когда представлял ее мне, нарушая традиции этикета:
– Это Моника, моя жена.
Она безусловно успела уловить в моем взгляде восхищение. Я, как попугай, повторил за ним ее имя вслух. Казалось, что в магии звуков этого имени звенела весна запретных соблазнов.
Карие глаза Моники были холодны и выражали нескрываемое равнодушие. На кого она была похожа, сразу и не скажешь. На Монику Левински времен президентства Билла Клинтона она была совсем не похожа. Никаких пышных форм, добродушной улыбки и соблазнительного блеска в глазах. Скорее, она походила на Монику Витти. Тот же легкий, совсем не итальянский стан, черное с кружевами платье и обнаженные хрупкие плечи, тонкие точеные ноги, худое лицо с ямочками на щеках, чувственные губы. Прическа была тоже в точности как у этой актрисы времен ее знакомства с Антониони, или то, что я видел на экране в прославленном фильме «Ночь». Я понял, что если в этот словесный компот добавить полную ложку секса, получится та женщина, на которую я смотрел, моргая, как сыч. Одним словом, «шарман».
Извинившись, Моника вскоре поспешила в столовую, где звенела посудой Клер с прислугой. Уходя, Моника продемонстрировала нам с Дино открытую спину. Узкое платье до колен, обтягивающее крепкие ягодицы, и кроваво-красные подошвы на шикарных туфлях венчали образ молодой супруги итальянского магната. «Вау!» – говорил герой комиксов, когда нечего было сказать. «Вау», – прошептал и я, ослепленный блеском лаковых туфлей хозяйки дома. Так это же из коллекции Кристиана Лабутена, – хотел хлопнуть я себя ладонью по лбу, – так называемые «Пигаль», которые я намеревался купить одной своей подружке по глупости, пока не узнал, сколько они стоят. Но какая у этой Моники походка! От нее сразу повеяло Моникой Белуччи из фильма «Сколько ты стоишь?». Именно этот вопрос я бы задал этой молодой особе, повстречай я ее в одиночестве где-нибудь на Променад дез Англе в багровые часы заката. Чистый секс без примеси! Такая способна возбудить и статуи каменных атлантов, застывших на фасаде прибрежных дворцов Английской набережной. На вид Монике было не больше 35. «Вот это женщина! – мысленно воскликнул я. – Не зря я сюда пришел!» Дино не соврал, есть на что посмотреть. А то эта чудная Клер, и я, оказывается, ее еще плохо рассмотрел! Я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, но понял, что увлекся, не в силах скрыть свой восторг и вовремя очнуться от грез.
– Молодой человек, – обратился ко мне Дино. Его голос вернул меня на землю и не дал опуститься моей фантазии до порнографических подробностей.
– Что вы говорите? – я спохватился, словно с меня соскочили панталоны.
– Мне показалось, что у вас с губ срываются время от времени русские словечки.
– Неужели? – спросил я. Признаюсь, я был застигнут врасплох, но Дино, заметив это, понимающе улыбнулся и, не желая еще больше смущать меня, дружески положил на плечо руку.
– Скажите, молодой человек, – он сделал паузу, чтобы убедиться, что я внимательно его слушаю, и приглушенным голосом спросил: – Каковы ваши сексуальные предпочтения?
– Нас, русских, часто бранят за нетерпимость к нетрадиционным связям, и это правильно.
– И все-таки, – настаивал хозяин.
– Длинноногие негритянки с лиловым отливом кожи, – ответил я, нагло глядя на магната.
– Серьезно? – почти прошептал Дино, – и от неожиданности инстинктивно вытянул губы.
– Да! Я люблю работать на контрасте цвета, меня это заводит до сумасшествия, – торжествующе произнес я.
Росси заржал, как конь, и, припадая на колено, застучал мокасином, как копытом. Я пытался сохранить на лице черты непринужденного равнодушия. А что мне было делать? Назови я к примеру имена Фриске или Семенович, он бы просто ничего не понял. Он что, этот макаронник, по спутнику смотрит «Реальных пацанов?» Это там все хотят «вдуть» грудастой Семенович. Наконец итальянский магнат переварил сказанное, рванул дверь, что вела в столовую, и завопил:
– Ты слышала, Моника, ты слышала, что сказал Дэннис?
Хозяин впервые назвал меня по имени, делая ударение на первом слоге и растягивая букву «н».
– Что я должна слышать, – из-за двери появилась очаровательная жена хозяина, хитро прищурив томные глаза.
– Молодой человек признался, что ему нравятся негритянки… иссиня-черные!
– Вот как? – изумилась Моника, впервые улыбнувшись. – А Клер говорила, что блондинки с зелеными глазами. А формы, Денис? Ну конечно, как у Наоми Кэмпбелл?
– Ну что вы, совсем нет! – возразил я. – Мне одному с такими божественными прелестями в жизни не справиться, здесь помощник может потребоваться, либо придется распрощаться с ежедневными занятиями в сквош и теннис, чтобы сохранить силы на ночь.
Мою шутку оценила даже Клер, поначалу неодобрительно таращившая на меня недоуменные глаза.
– Если бы вы знали, Дэннис, какие пальцы у этой эбонитовой статуэтки на ногах – страсть божья! – последнюю фразу Моника произнесла по-итальянски, но я понял ее без перевода. Кстати, Дино, она, по-моему, сейчас греется где-то в холодной России в объятиях русского богатыря-миллиардера. Вас русских всех на экзотику тянет. Наш Сильвио наоборот в вашу сторону смотрит. Итальянская пресса шумит, что он нашел девчонку из России родом из города Варон.
Я состроил удивленную мину.
– Нет в России такого города. Был такой писатель в древней Италии: Варрон, создатель первой в Риме общественной библиотеки. А в России есть город Воронеж, наверное, так? – я бросил на Монику вопросительный взгляд.
– Может быть, и так, – слегка приподняв брови, задумчиво произнесла итальянка. – Я видела в каком-то из журналов лицо этой смазливой русской девицы в компании с молодящимся Берлускони. Согласитесь, Дэннис, если большой политик ежеминутно думает, как ублажить свою плоть, то мне становится тревожно за страну, которую он пытается иметь.
Моника хотела что-то добавить, но бросив взгляд на мужа, умолкла.
– Дорогая, твой рот, – Дино недовольно приложил палец к губам.
«Да-да, черт, – подумал я. – Вот именно, ее рот! Губы, как будто дрожащие бабочки. Сплошная провокация! Лучше бы они сейчас не летали», – отметил я про себя и вздохнул.
Дино снова обратился ко мне с вопросом:
– Дэннис, кстати, сколько вам лет?
– Двадцать восемь, скоро будет, – и я невольно посмотрел на часы. Было ровно половина двенадцатого. Двадцать восемь и одиннадцать тридцать? Это же именно тот цифровой код мистической нумерологии Ильфа и Петрова, что давал ключ читателю для разгадки феномена Остапа Ибрагимовича Бендера «по отъему денег честным способом», когда тот входил в Старгород со стороны деревни Чмаровки. Слава богу, никто здесь не читал «12 стульев», и мое появление в этом богатом доме в тех же цифровых параметрах возраста и времени суток останется простым совпадением.
В дверях снова появилась Клер – на это раз с вопросом: «Когда точно?». Она всюду только мешает.
– Уже совсем скоро, – я отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, и она исчезла за стеной столовой.
– Дэнис, а вы были женаты? – деликатно задала вопрос Моника, видимо желая расставить все точки над «i».
– Никогда! – сказал я нарочито игриво.
– Очень благоразумно, между прочим, – с серьезным видом поддержал меня в эту минуту отец семейства, поучительно тряхнув рукой с поднятым вверх указательным пальцем.
– Мистер Росси, на линии Женева. Вы ответите? – несколько громко, видимо, стараясь нас перекричать, почему-то по-английски обратился к хозяину немолодой слуга, появившийся у меня за спиной словно из ниоткуда.
– Передайте, Жорж, что я сам перезвоню ближе к вечеру, – так же громко ответил ему Дино по-французски.
Жорж исчез, как и появился, отвесив непринужденный поклон.
Все-таки, какие же они все шумные, кричат, жестикулируют, вместо того, чтобы подойти друг к другу поближе и спокойно поговорить. «К счастью, в этом доме не обитают бамбини и рагацци, иначе был бы вообще сущий ад», – резюмировал я про себя, глядя на весь этот хаос. Впрочем, может быть, я преувеличивал, и хаоса совсем не было, просто в Ницце я отвык от излишней суеты и криков.
Тем временем пряный аромат морепродуктов теплыми волнами распространялся по всему этажу. Дино заметил, что я втягиваю ноздрями воздух, и обратился ко мне:
– К сожалению, молодой человек, приготовить хороший буйабес в домашних условиях – дело хлопотное, и мои девочки просят немного подождать, а поскольку процесс может затянуться, предлагаю вам пройти со мной в библиотеку.
Я полагал, что будет что-то попроще типа утки под апельсиновым соусом. Для проведения подобных экспериментов действительно требуется не только смелость, но и время, и придется как следует подождать – я знал, что во французских семьях давно забыли, как готовить к обеду буйабес. Максимум, на что они были готовы сейчас сподобиться, так это на ужин по-мароккански – просто и вкусно. Мне было несколько жаль покидать эту уютную гостиную, где за стеной неустанно стучали каблучками туфли Лабутена и шлепала взад-вперед Клер в наряде золушки. Но я подчинился и оказался в кабинете хозяина, который по своим размерам походил больше на общественную библиотеку.
Сеньор Росси налил нам обоим немного коньяку в пузатые бокалы, и перед тем как раскурить толстую в палец сигару, от которой я любезно отказался, долго нюхал ее, бережно разминая в пальцах, затем нервно щелкал золотой гильотиной «Данхилл», подрезая ароматную «Гавану», и только потом опустил ее тонкий кончик в бокал.
– Книги, – Дино сделал широкий круг рукой, держа в согнутых пальцах дымящуюся сигару, – это моя слабость.
«Похоже, не единственная», – добавил я про себя, наблюдая, как он соблазнительно смакует терпкий вкус табака. Кольцо от табачного дыма на время повисло в воздухе, наполненном особым запахом старинных книг.
– Признаться, такую богатую библиотеку я видел только в фильме Романа Полански «Девятые врата», – я в знак одобрения приподнял со стола бокал, по форме похожий на священный грааль, из которого Иисус вкушал на тайной вечере.
Дино видимо помнил фильм и одобрительно улыбнулся, читая в блеске моих глаз неподдельное восхищение понимающего книголюба.
– А действительно, сеньор, не у вас ли в доме проходили интерьерные съемки библиотеки того американского библиофила, кто наложил на себя руки из-за измен его жены-француженки с темнокожим охранником? Вы же помните, что самому Полански въезд в Америку был давно и на много лет заказан из-за необдуманных связей с несовершеннолетней девицей, и потому съемки велись не там, а в Европе.
– Что-то припоминаю, – ответил Дино.
Господин Росси выпил свой коньяк и некоторое время хранил молчание, устремив в окно бессмысленный взгляд, а я продолжил:
– Мой отец тоже был любителем старинных книг и тратил изрядную сумму от своих банковских доходов на эти фолианты. Мама часто подшучивала над ним, что он любил книги больше, чем ее.
Итальянский магнат понимающе усмехнулся, разглядывая на свет стенки бокала, в котором только что плескалась янтарного цвета жидкость. К моему удивлению, я не обнаружил на его холёных пальцах ни обручального кольца, ни перстня с драгоценным камнем, то есть тех почти обязательных атрибутов туалета у почтенных и чрезмерно чувствительных итальянцев, верящих до сих пор в магию колец, приносящих в дом богатство и любовь.
– Представьте, Дэннис, супруга тоже ревнует меня к ним, когда я глубоко за полночь уединяюсь в тиши кабинета. Что поделаешь, – снова развел руками хозяин, – женщина-существо особого рода. Сколько бы ей ни давали, она всегда голодна, и чем краше женщина, тем осмотрительнее должен быть мужчина.
Дино выдал эту многозначительную, как ему казалось, философскую сентенцию и запил ее еще одной порцией коньяка.
Я уже сто раз слышал об этом, начиная со сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке», и чтобы поддержать беседу, обратился к этому философу, видимо, умудренному опытом общения со слабым полом.
– Что же тогда нам делать, господин Росси, как нам их удержать подле себя, если мы испытываем моральную дилемму? С одной стороны, нас тянет в объятия красивых и порочных женщин, с другой выходит, любить умных – дорогое хобби.
Он наморщил высокий лоб и почти с минуту мучительно думал, опустив голову. Я мог без стеснения рассматривать его. Хотя у лощеного итальянца под глазами наметились мешки и ясно обозначились первые складки будущего двойного подбородка, он все еще выглядел достаточно моложаво. Подняв голову и перехватив мой пристальный взгляд, устремленный на него, он изрек тоном превосходства:
– Мужчина должен стать для женщины книгой, желательно в достойном переплете, которую ей хотелось бы не только прочесть, но и перечитывать бесконечное число раз, открывая для себя все новые откровения.
– Должно быть, это сложно? – я явно лукавил, но Дино мне подыграл.
– Иногда мне кажется, что это непосильная задача, – сказал он каким-то уставшим голосом, глядя на себя в большое зеркало, – и заметьте, мой молодой друг, деньги тут играют не самую главную роль. Все зависит от внутреннего мира мужчины Ему должно самому быть с собой в согласии, самому интересно жить. Если этой внутренней гармонии нет, то книга, которую читает женщина, обязательно рано или поздно захлопнется. Богат ты или беден, не имеет значения в этом случае.
Мне показалось, что парфюмерный магнат говорил вовсе не мне, а общался сам с собой.
– Надеюсь, г-н Росси, вы имеете в виду не свою дочь, когда говорите о женских аппетитах?
Дино улыбнулся, вынимая изо рта сигару.
– Разумеется. Хотя Клара тоже… – он на время призадумался. – Знаете, молодой человек, с тех пор, как два года назад ее, скажем так, друг (при слове «друг» Дино поморщился) улетел продолжать учебу в Гарвард по настоянию своих родителей и сошелся там с дружками сомнительной репутации, Клара прекратила с ним переписку и совершенно перестала следить за своей внешностью, но я почему-то думаю, что у нее скоро эта хандра пройдет.
После этих слов он подозрительно на меня посмотрел, как будто не решался о чем-то спросить, типа обожаю ли я наркотики и не забываю ли таскать у себя в карманах презервативы про запас, как это делают все продвинутые французы. Не все мне было понятно в его полунамеках, и, не желая впутаться в идиотскую историю, я задал ему вопрос:
– Почему вы так считаете, господин Росси?
– Дело в том, что как мне кажется, я хорошо знал ее маму, мою первую жену, чьи достоинства унаследовала дочь. Может быть, Клара все это еще не осознала. Так вот, мою жену звали Саманта, для краткости я звал ее Сэм…
«Черт, – подумал я про себя, – если так пойдет и дальше, то он в скорости тоже станет называть меня Дэн, ну а я, наверное, буду называть его Дин».
– Сэм была настоящая француженка, то есть именно то, что мы, итальянцы, вкладываем в это понятие. О, как она умела преображаться, если ей это было надо! К тому же у Сэм была ясная голова. Она воспитывала нашу дочь, в то время как я днями, а то порой и ночами занимался бизнесом, разъезжая по миру.
– Простите, сеньор, – мне пришлось прервать рассказ хозяина дома, – я не итальянец и не знаю, что вы вкладываете в понятие «настоящая француженка».
– Ах да, вы же русский, но ваш французский, должен сказать, порой заставляет меня забыть об этом. Дело в том, что женщина для настоящего француза начинается с ног. Если у француженки красивые ноги, то французы от этого млеют и готовы простить им самое высшее образование. Если еще у этих ног тонкие щиколотки, это значит, что француженка экстра-класса. Таких здесь боготворят!
Не желая того и в подтверждение правоты мысли итальянца я вдруг вспомнил нашего русского француза по фамилии Пушкин, безуспешно искавшего по всей России три пары стройных женских ног. Нелегкое это было тогда дело, поэтому, наверное, Наталья Гончарова значилась в его записях увлечением под номером 113.
– Господин Росси, боюсь, вы не оригинальны в ваших наблюдениях насчет французов.
– Да, вот как, что вы имеете в виду? – удивился он.
– Признаюсь, что я в последние несколько лет нечасто посещал свою родину без нужды, тем не менее, российские телепрограммы по вечерам просматриваю регулярно. И вот совсем недавно мне попался один документальный фильм о когда-то очень известной в России актрисе Изольде Извицкой. Прославилась она у нас, снявшись в фильме «Сорок первый». Очень красивая женщина была, хотя судьба ее сложилась достаточно трагично. А начиналось все прекрасно, и фильм этот был в 1956 году представлен на кинофестивале у вас в Каннах и был отмечен специальным призом. Извицкая имела сумасшедший успех. Особенно расточали похвалы американцы, сравнив ее даже с Мерилин Монро, а влиятельный журнал «Нью-Йорк Мэгазин» поместил на обложке лицо Изольды. В Париже ее именем был назван ресторанчик, который как будто существует до сих пор.
– Так в чем же суть?
– А в том, что ваша злобливая газета «Фигаро» чисто по-французски отметила у Изольды только неудачные ноги, сравнив их с ногами степного кавалериста, как будто это было главным для русской актрисы. Если бы вы, Дино, только знали, как тогда Извицкую задела эта язвительная оценка.
– Да, мой друг из России, надо признать, что французы не всегда снисходительны к женщинам и даже порой агрессивны, как их петухи. Мы, итальянцы, деликатней.
Дино отвесил небольшой поклон, и в его мимолетной ухмылке я уловил нескрываемое удовольствие.
– Согласитесь, дорогой господин Росси, что мне, русскому, трудно судить об отношении к женщине французов, итальянцев или немцев. Я вот вспомнил сейчас о Марлен Дитрих. Она как-то сказала в упрек европейским журналистам, что когда была в советской России, то там журналисты задавали умные вопросы, например, спрашивали, кто ее любимый писатель, а не, кто ее любимый кутюрье.
Дино рассмеялся.
– Ах, Дитрих, эти «золотые ноги Германии», значимость которых поняли даже Геббельс и Гитлер, увидевшие ее в «Голубом ангеле». А после выхода фильма «Кисмет» эти ноги стали вдохновлять уже американских морпехов, когда их высаживали в сорок четвертом на берега Франции. Потом настала очередь добродушного француза Жана Габена, который потерял от их красоты голову. Когда же Марлен оставила его, он заявил: «Не верьте словам красивых женщин, они вспоминают о душе всякий раз, когда мужчина смотрит им на ноги».
Дино снова хитро улыбнулся и как будто что-то вспомнив, продолжил:
– А куда, собственно, прикажете французу смотреть в поисках эфемерной души? На грудь? Простите, мой друг, Франция не Россия. Даже не Италия, где женщина может похвастать достоинствами этой части тела. Вы спросите: «А Демонжо, что родилась здесь в Ницце?» Но у нее же мама русская!
Я перебил Дино и заметил, что отношение русских к женщине все-таки другое и что Марлен Дитрих на вопрос журналистов, в чем феномен ее души, отметила ее астрально-мистическую связь с русскими. Итальянец глубоко затянулся сигарой, прежде чем выдать очередную мысль:
– Давайте, дорогой мой, попробуем объяснить отношение русских к женщине все той же загадкой русской души. Дэннис, вы сказали, что образ этой вашей актрисы трагичен, я правильно понял? – хозяин дома пристально смотрел на меня. Сигара, зажатая в его пальцах, слегка подрагивала, испуская волнистую струйку дыма к потолку.
– Совершенно верно, сеньор. Как я вам уже сказал, американцы сравнили ее с Монро. Если бы они могли тогда знать, что ее судьба сложится почти так же, как у самой Монро…
– Это тоже была скоропостижная смерть? Неужели она также умерла молодой? – в его глазах застыло сожаление.
– Ей было всего 37. Она угасала, потихоньку спиваясь, в закрытой квартире, забытая всеми. Как потом оказалось, она отравилась неизвестным ядом. Заметьте, Дино, как похож их уход.
– Дэннис, еще раз, как ее звали? – спросил парфюмерный магнат, не вынимая сигары изо рта и широко расставив ноги точно так, как на своих карикатурах Кукрыниксы изображали миллионеров-капиталистов.
Я повторил ее имя снова.
– Вы, молодой человек, молодец, у вас цепкая память, склонная к сравнительному анализу. К тому же, обратите внимание, Дэннис – Мерилин Монро – ММ, а Изольда Извицкая – ИИ. Не кажется ли вам, что в этом есть нечто мистическое, или скажете, что это химера? Есть же Брижит Бардо и Мишель Морган. Их жизнь сложилась по-другому.
– Если вы, Дино, про мистику судьбы толкуете, то думаю, что это простое совпадение. Хотя истина не должна быть обязательно явной, а корни наших чувств порой находятся в мирах иных. Жаль только, что ваших лестных слов по мою душу не может услышать моя мать. Она считала, что я бездарный историк, к тому же бездельник и лодырь, страдающий прогрессирующим слабоумием. И часто сокрушалась, почему никто кроме нее не может измерить всю глубину моего невежества.
– Что ж, я надеюсь, у меня будет для этого время. Мы еще поговорим об истории, но сначала я бы хотел продолжить о себе.
Будь мы ровесники, я бы обязательно спросил хозяина дома, стоит ли. Но как младший по возрасту, не посмел.
– Так вот, – сказал магнат, нервно потягивая сигару. – Я познакомился с Самантой в Париже. Дела мои шли прекрасно, и тогда, в свои тридцать пять лет я мог многое себе позволить, в том числе, я позволил себе ее. Пора было обзаводиться семьей, чего мои родители никак от меня не ожидали. Мне пришлось изменить своим привычкам и причудам и приспособиться к привычкам Сэм. Она была тоже из приличной семьи и жила с родителями на Елисейских полях. Я женился на ней и ни разу об этом не пожалел. Как женщина она была просто чудо.
Я видел, как у отца Клер загорелись глаза и как снова угасли, едва его губы коснулись сигары. Повинуясь инстинкту житейского любопытства, я прервал Дино.
– Почему же тогда вы расстались? Может быть, вы встретили на своем пути итальянку с теми же достоинствами?
Вопрос был смелым, может быть, даже бестактным, но как я уже успел отметить, Дино был не из тех, кто встает в позу всякий раз, когда нарушается этикет, иначе зачем он стал бы так охотно посвящать меня в свои семейные тайны.
– Нет-нет, – успокоил меня он, – я тогда был почти не знаком с Моникой, хотя наша гламурная пресса давала ей как начинающей модели высокие оценки. Мне вполне хватало Саманты. Мы прожили с ней почти пятнадцать лет. Кстати, я был старше ее на столько же. Она была всегда в форме, да и сейчас, я думаю, также заставляет мужчин оглядываться при случайной встрече. Но однажды я заметил, что она перестала хотеть быть для меня самой красивой. Туфли на высоком каблуке вдруг стали ей в тягость. Она стала замечать за мной недостатки, которые раньше ее не раздражали. Каждый мужчина, я думаю, и русский тоже, видит, когда его жена вдруг начинает воспринимать его не как мужчину, а как наскучившего мужа. Супружеский долг обставляется именно как долг, как обязанность. Такое долго не может продолжаться, по крайней мере в семье, где водится немалый достаток и есть выбор. Видимо, книгу в дорогом переплете ей стало лень в очередной раз брать с полки, чтобы перечитать и найти для себя что-то новое. Я винил во всем только себя. У нее вскоре кто-то в жизни появился, и я не стал препятствовать ее возвращению в Париж. Что касается Клары, то я просил оставить ее со мной. Сэм была не против. Я говорил вам, Дэннис, что у нее была ясная голова. Француженка всегда красива и практична, но как мать Сэм уступала другим, например, итальянской женщине. Итальянка горяча не только характером, но и сердцем.
Он называл дочь Кларой, и меня это поначалу удивляло. Я вспомнил, что при нашем знакомстве Клер сказала, что имя Клер означает «ясная». Но что означает «Клара», я не знал. Между тем ее отец продолжал посвящать меня в сокровенное своей семьи, заставляя притворно сопереживать, будто я и впрямь был «в теме» и повелся на его откровения. Дино раскурил новую сигару, и, затушив спичку, продолжал:
– Разумеется, я никогда не чинил дочери препятствий видеться с матерью, только вот она сама все реже и реже посещает Париж и предпочитает жить здесь или у нас в Милане. У нашей семьи еще есть на озере Комо хороший домик с прелестным садом. Вы, Дэннис, бывали на Комо или, может быть, слышали об этом сказочном месте?
– К сожалению, никогда не был, но знаю, что это родина Плиния.
– Которого, – оживился итальянец, – старшего или младшего?
– Если не ошибаюсь, обоих.
– Да вы, молодой человек, действительно неглупы или как у нас говорят: «Cet homme gagne a etre connu»[14]. – Он прищурил глаза и снова вытянул губы, задумавшись.
Я не стал его за это благодарить или разубеждать, поскольку глуп был человек или мудр, порой можно понять только после его смерти. Заканчивая свой короткий экскурс в историю семьи, отец Клер заключил на минорной ноте:
– Впрочем, я не всегда понимаю, а, скорее, совсем не понимаю наше молодое поколение, их вкусы и нравы, – он попытался аккуратно затушить сигару в хрустальной пепельнице, но она обломилась и раскрошилась в его большой ладони.
Я смотрел на него с сожалением, поскольку он все больше и больше напоминал мне моих родителей, вынуждая говорить о том, о чем уже много раз было говорено в стенах моего родительского дома.
– В этом не наша вина, господин Росси. Дети эпохи развитых технологий остаются детьми совсем недолго. На нас влияет среда, которая слишком быстро стала меняться. Бытие определяет сознание. Я сам не понимаю, что происходит с поколением моложе меня на десять лет. У них совсем другие ценности. Компьютерное мышление офисного планктона мне тоже неведомо, как и вам, и порой ставит меня в тупик.
– Вы материалист или скажем так, вы верите в Бога? – неожиданно поинтересовался хозяин дома, раскуривая новую сигару.
– Вера? Веры у меня в последнее время все меньше, если вы в обывательском смысле. А так, черт знает, кто я. К религии у меня отношение довольно индифферентное, если вы об этом, хотя в последнее время я все больше чувствую, что во мне поселилась скорее буддистская созерцательность, нежели христианский аскетизм. Любование природой и архитектурой. Могу часами смотреть, как строится здание.
– Странно! – отец Клер заметно помрачнел и еще раз задумчиво произнес: – Однако странно слышать такие слова от вас, русского весьма просвещенного юноши, желающего стать серьезным историком.
Он поймал мой растерянно-вопросительный взгляд и продолжил:
– Во всяком случае, именно так описывала мне вас моя дочь. Если это действительно так, тогда откуда такое холодное слово, как индифферентность?
Он задумался.
– Впрочем, я тоже не отношу себя к набожным католикам, иначе всю свою жизнь был бы обречен жить с одной женщиной, но меня до сих пор притягивает история религии, и этой теме в моей библиотеке отведено самое почетное место. Дино указал дымящейся сигарой, как указкой, на высокий, упирающийся в потолок, старинный шкаф.
– Если вас интересует история Рима, это значит, что вас должно интересовать, почему пал Великий Рим. Кто только ни пытался ответить на этот вопрос из великих отцов истории. Немец Теодор Моммзенн, англичанин Эдуард Гиббон и многие другие. И все искали ответ, глядя на проблему сквозь призму религиозного мышления и предрассудков.
Я улыбнулся последовательности и созвучию фамилий: два растянутых «М» два «Б». Дино не обратил внимания на мою глупую улыбку, и продолжал:
– Ответы этих великих людей скрыты в страницах многотомных фолиантов. Не всякий сможет набраться терпения и прочесть хотя бы один из увесистых томов. Люди хотят услышать на этот непростой вопрос простой ответ, а не копаться в дебрях истории, и ответ не должен быть двусмысленным. Разве не так? – Дино смотрел на меня, буравя своими глазками, и требовал немедленного ответа. Я ощетинился, как еж, собираясь с мыслями, и наконец выпалил с самым учтивым видом:
– Я согласен, что всех интересует истина. Согласитесь, что и сами римляне, то есть те самые древние римляне, тоже хотели получить на это ответ в максимально упрощенной форме, желая понять, что с ними происходит. Именно римские историки, почуя неладное в своем отечестве, уже в середине четвертого века на потребу народу перешли на написание краткой истории своего государства. Аммиан Марцеллин был последним из великих римских историков, кто детально изложил историю Рима, но кто в то время был готов читать эти горы свитков? Его ровесники – Аврелий Виктор, Евтропий или Евнапий, Элий Спартиан и другие, превратились больше в компиляторов и эпигонов, нежели в глубоких исследователей, но именно их работы стали популярны среди читателей и послужили учебниками и популярным чтивом в средние века. Из этого можно сделать вывод, что начиная с четвертого века и на протяжении многих последующих веков всех удовлетворяли краткие и простые ответы на сложные вопросы. Вспомните хотя бы Аврелия Виктора. Он одним из первых среди римлян попытался коротко ответить на вопрос о причинах падения Рима. Это он заявил, что как только римские правители стали стремиться властвовать над своими вместо того, чтобы завоевывать и покорять чужих, империя перешла к своему упадку. Слова «упадок» и «падение нравов», а также «мораль» стали доминировать во всех древних исследованиях. Династия Северов, по мнению Виктора, была последней, что держала империю в высшем своем положении. Для меня интересно было прочесть у Аврелия Виктора его рассуждение о доблести и о роли деяний выдающихся личностей. Он считал, что со времен Ромула и до Септимия Севера империя непрерывно крепила свою мощь. Причины упадка для него просты: преступность, особенно среди правителей, недостатки образования и культуры, крах моральных устоев и прежде всего добродетелей. Росло число людей низкого происхождения, и падение нравственных устоев окончательно привело к упадку. Вот именно так считали древние римляне. С тех пор, чтобы появились новые выводы и новые историки, человечеству пришлось прожить более десяти веков, точнее, целое тысячелетие. Черт побери, может, он прав, этот Виктор, спрашиваю я себя каждый раз, когда приезжаю в Рим на Форум и смотрю, задрав голову, на сохранившиеся надписи на арке Септимия Севера. Там одно слово на латинском языке как будто выпадает из предложения и бросается в глаза всем, кто любуется этой громадной аркой. Это слово: «PROPAGATUM». Оно было первым, запомнившимся мне во время моего посещения Рима школьником. Оно почему-то стало для меня магическим, и я, помню, спросил своего отца, стоявшего рядом со мной, о его значении. Он ответил: «Это значит расширение пределов». Мне тогда как будто кто-то по голове шарахнул, и я подумал, что, может быть, именно благодаря этому слову памятник сохранился в почти нетронутом виде, один из очень немногих, если не единственный на Форуме. У граждан Рима эпохи христианства, похоже, просто не поднялась рука, чтобы разрушить эту исполинскую арку, когда на ней написано, что она возведена человеку, который осуществил «восстановление государства и за расширение власти римского народа благодаря выдающейся доблести в Риме и вне его пределов». Слова «доблесть» и «расширение пределов» для Аврелия Виктора были тогда определяющими. Обратите внимание, Дино, что ни Виктор, ни другие довольно многочисленные историки Рима и до и после него нигде в своих трудах не упоминают ни слова о христианах. Хотя так и хочется обратиться к Аврелию Виктору со словами: «А где же христиане, где же они в истории разрушения Рима, особенно в вопросе подрыва моральных устоев римского народа»?
– Вот именно, дорогой мой друг, – привстал с кресла Дино, – именно морали. Очень хорошо, что вы произнесли это слово. А вы, господин русский историк, говорите о своей индифферентности к религии!
Глаза Дино блестели. Такой фанатичный огонек в глазах я бывало замечал у игроков в рулетку в Монте-Карло, когда нужный им цвет выпадает пару раз подряд. Он откинулся в кресле и продолжил:
– Не поняв глубину причин разрушения язычества и влияния на этот процесс монотеизма, понять причину упадка и падения Рима невозможно. Популярная в эпоху просвещения идея историка Гиббона о том, что именно христианство убило в римлянах дух патриотизма и нравственности, встретило яростную критику среди духовенства разных конфессий. В то же время историки-романтики средневековья стремились реабилитировать варваров, которые с их точки зрения не были разрушителями античной цивилизации, а наоборот, являлись ее спасителями, принесшими погрязшему в рабстве миру возрождение общины. Различные экономические теории и марксистскую теорию социальной революции давайте, мой дорогой друг, оставим без комментариев. Концепции вашего русского историка Ростовцева о социальной борьбе тоже касаться не будем. Ницше все упростил. Ницше – вот тот мыслитель, которому пришло в голову, находясь здесь, в Ницце, в 1885 году написать свою работу «По ту сторону добра и зла» и четвертую часть «Так говорил Заратустра». Взорвать мир убедительной идеей и простым ответом на вопрос о причине гибели древней империи – было его навязчивой идеей. Простая идея мести! Подводя итоги борьбы добра и зла и исследуя генеалогию морали, Ницше вдруг пришел к выводу, что поверх всей человеческой истории высится символ всей этой борьбы и называется он «Рим против Иудеи, Иудея против Рима». Это смертельное противоречие. В еврее Рим видел монстра-антипода. Рим уличал еврея в ненависти ко всему роду человеческому. Что же испытывал еврей к Риму? Только жажду мести, воплощенную в христианском инстинкте. Великий Рим был силен и славен до такой степени, что такого еще никогда не было и не грезилось на земле. Евреи посмели поднять два восстания против Рима, за что Рим разрушил в 79-м году в Иерусалиме храм Ирода и вывез к себе в Город золотой семисвечник и серебряные трубы – сакральные иудейские символы. Арка Тита на Форуме до сих пор являет собой свидетельство этой великой победы. С собой в Рим Тит привел к отцу, императору Веспасиану, сто тысяч обращенных в рабство евреев, которым суждено было своими руками построить один из символов Рима – Колизей. До сих пор всех ортодоксальных евреев в мире вгоняет в ужас простая мысль пройти под аркой Тита на римском Форуме, где красуются мраморные барельефы со сценами триумфа Тита и изображениями лежащих на повозке семисвечника и серебряных труб. Вслед за первой войной с иудеями всего через каких-то пятьдесят лет император Адриан подавил второе их восстание и окончательно разрушил до основания Иерусалим, превратив его в город своей славы и назвав его Колонией Элией Капиталиной, а его исконным жителям разрешил появляться в городе не чаще одного раза в год для поклонения могилам предков. Император полагал, что древнее название города Иерусалим за несколько столетий сотрется в памяти народов. Но Ницше, этот немец с амбициями римского завоевателя, отдает должное священному народу Иудеи, в котором до сих пор жива, как он говорил, беспримерная народно-моральная гениальность. Кто победил – Рим или Иудея? Ницше не сомневается в победе Иудеи. Он говорил, что тот, кто забыл, должен знать, перед кем сейчас преклоняется человек в самом Риме и еще на половине земного шара – всюду, где человек стал ручным перед тремя евреями и одной еврейкой. Иудаизированный Рим, экуменитическая синагога, именуемая церковью, торжествует над разрушенной империей и ее историей. Как вам, молодой друг, это не бесспорное утверждение Ницше? И обратите внимание, что эти слова принадлежат сыну лютеранского пастыря. Вы еще сомневаетесь, русский историк, в силе мистического слова «месть»? Да что я, француз с итальянскими корнями, говорю вам, русскому интеллигенту, о роли личности и ее месте в истории! Я где-то слышал то же самое про вашего Ленина. Всесокрушаюшая месть этого человека за смерть брата разрушила ваш царизм, но и одновременно святую великую Русь вместе с православной церковью. Свидетельство тому – Мавзолей на Красной площади. Какая трансформация добра и зла, плохого и хорошего.
Дино закончил и сдвинул пепельницу на край стола, чтобы стряхнуть пепел с сигары. Его самодовольное лицо вопрошало о моем участии, и я поддался на его призыв.
– Согласен, что многие работы Фридриха Ницше не бесспорны, и его мораль в том числе. Спасибо вам, господин Росси, за напоминание, что Ницше когда-то работал здесь, в Ницце. Примечательно и то, что его фамилия и название города по-русски схожи по звучанию, как будто в них что-то родственное.
Дино улыбнулся.
– По-итальянски тоже, а вот по-французски – совсем нет. Я когда-то еще студентом пробовал изучать ваш русский. Дело прошлое, конечно, но кое-что помню. Видите, Дэннис, как у всех нас много общего. Мы христиане. Слава Богу, что я католик. Ницше – лютеранин, а во Франции остались еще и гугеноты, а вы, русские, – ортодоксы! Златоглавые храмы русской ортодоксальной церкви у нас на Ривьере поразбросаны всюду, от французских Канн до итальянского Сан-Ремо. Прекрасно, что с вашими эмигрантами мы сохранили вместе эти жемчужины христианской веры. Мне кажется, что мы, христиане, сейчас, в начале XXI века, как никогда нуждаемся в консолидации. У нас, скажем так, на западе Европы, – и для ясности он сделал сигарой круглое движение, – бытует расхожее мнение о возрождении христианской духовности на Востоке, в особенности в России с ее ортодоксальным взглядом на веру. Для меня это было несколько удивительно.
Он пристально посмотрел на меня, будто желал проникнуть в сокровенные тайны моей холодной души, но я промолчал. Дино воспринял мое молчание, как согласие на продолжение.
– Разве вы сами не замечаете, Дэннис, что сейчас, когда всё или почти всё дозволено, любая ортодоксальность, будь то ваша, иудейская или мусульманская, всё равно не может рассчитывать на широкую привлекательность среди образованных и свободных молодых людей. Поэтому в своих суждениях я всегда отвергал любую форму ортодоксального мышления, потому что это отделяет нас, людей зрелого возраста, от подрастающей молодежи. В христианстве стоит подумать о совместных усилиях по возрождению интереса молодежи к религии. Да, мы католики, а вы, русские, – ортодоксы. Вы, русские, вовремя сумели найти благозвучный для России заменитель греческому слову «ортодоксия». Я слышал, что вы у себя на родине не любите, когда вас называют ортодоксами, хотя и считаете себя последователями греческой ортодоксальной ветви в христианстве. Вы называете себя православными, – он произнес это почти по-русски, растягивая слово и улавливая в нем какую-то певучесть. – Я так понимаю, что слово «православие» обозначает по смыслу «славить Христа нашего правильно». Значит ли это, что мы, католики, славим Бога неверно?
Вопрос прозвучал скорее риторически, поскольку он не смотрел в мою сторону, а по-домашнему, развалившись в кресле и вытянув ноги, уставился в потолок.
– Я не могу утверждать, Дино, поскольку глубоко этот вопрос не изучал, но бытует в моей стране мнение, что наши русские предки, проповедуя язычество в средние века, славили «правь», то есть правду или правильный путь. Наши с вами современники, которые считают себя по сию пору язычниками или по вашему, Дино, паганистами, утверждают, что православие – это исконная русская языческая вера. Они убеждены, что христианская церковь на Руси в XVII веке вероломно присвоила себе это слово. Действительно, до XVI века в русских христианских летописях вы не встретите термин «православие». Применяли определения «истинная», «непорочная», «божья». В подтверждение этого паганисты напоминают, что существует ортодоксальное правило перевода Библии на церковнославянский язык, где все иудейские термины в нашей церковной лексике были греческой калькой, а это означает, что мы должны были бы называться только русскими ортодоксами, а не иначе.
– Совершенно верно! У нас тоже есть ортодоксальная католическая церковь. Теперь ответьте мне, Дэннис, значит ли это, что ее можно назвать православной католической церковью?
– Не знаю, – улыбнулся я и смущенно пожал плечами. – Во всяком случае, у нас в стране слова «ортодокс» и «православный» в народе считают одним и тем же, точнее, так считают наши служители церкви.
– Если это так, тогда, Дэннис, как вам нравится название, к примеру: «эфиопская православная церковь» или даже «православный иудаизм», – засмеялся Дино. – Лично мне кажется, что ортодоксальный иудаизм никак не назовешь православным иудаизмом.
– Выходит, православие-это все-таки не совсем ортодоксия. Согласен с вами, может, действительно правильнее было бы назвать не «православие», а «правоверие»?
– Вот именно, – встрепенулся Дино. – Тогда все встает на свои места. Никому и в голову не придет называть иудаизм православным или православным ислам.
– И все же, Дино, у нас в народе никто не хочет называться ортодоксом или правоверным. Нам просто нравится называться православными. Может, потому, что нам нравится слово «слава». Мы, наверное, в большинстве своем тщеславны. Православие для нас – это даже не слово, скорее, клич к объединению. Поменяйте это слово на любое другое, и все изменится. В глубине души нас, русских, слово ортодоксия обижает, даже убивает. Мы воинственно против такого равенства в определении «ортодокс = православный». Мы не гордые ортодоксы, мы просто православные.
– Я тоже склонен считать, что у вас превыше всего слово, а не вера. Попробуйте называться ортодоксами, и у себя в России, как вас, собственно, и называют во всем мире, и вас ждет разочарование. Мы держимся на вере, а вы, выходит, на слове. И все же, Дэннис, ответьте, вы не чувствуете в этом благозвучном смысловом определении «православный» жесткий разъединяющий пафос русских с остальным миром? Как достичь примиряющего объединения, если вы православные и тем самым кичливо указываете нам то, что мы не православные. Мне кажется, что нельзя никому, в том числе и католикам, называть себя правильными в христианстве. В этом слове звучит вызов, и вызов достаточно грозный.
В этот момент хозяину дома не помешало бы подтвердить свою фразу жестом, но Дино безмолвно подошел к моему креслу, и положив руку на его высокую спинку, стал раскуривать затухающую сигару и, глубоко вдыхая воздух носом, смотреть на себя в большое зеркало. В моем воображении опять возникла сцена самолюбования великого Дуче. Создавалось впечатление, что это был импровизированный спектакль, и Дино в нем играл главную роль, которая ему, несомненно, нравилась. Изящным движением руки он вынул сигару изо рта и продолжил:
– Не хочу копаться в нюансах веры. У католиков претензий предостаточно и к протестантам. Я был и в ваших храмах. Если вам до сих пор по нраву выстаивать всю службу на ногах, а женщинам стоять с покрытой головой и в юбках до пола, то пожалуйста. Но давайте жить в договорных понятиях единого времени. День рождения Христа для всех христиан должен праздноваться одновременно и существовать разумная последовательность: «Merry Christmas» and «Happy New Year» – произнес Дино почему-то по-английски. – Я надеюсь, молодой человек, вы ухватили мой посыл. Сначала Рождество, а затем Новый год. У вас, я слышал, есть старый Новый год и новый Новый год тоже. Еще и эта тема благодатного огня! Я не буду касаться благочестивых легенд, от чего предостерегают иерархи церкви, чтобы не пала сама вера. Однако полагаю, что если бы православная традиция обряда появления благодатного огня в пасхальную субботу являла собой реальное сверхъестественное чудо, а не чистейший вымысел, то все турки давно с большим удовольствием уверовали бы в Иисуса Христа, и их вхождение сегодня в Единое европейское пространство превратилось в простую формальность.
Дино искал во мне согласия и понимания. Но я лишь бездумно качал головой, стараясь скрыть свое невежество в вопросе веры.
– Согласитесь Дэннис, что католики приложили много усилий к тому, чтобы убедить русских ортодоксов принять грегорианский календарь, который подразумевал, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, тогда, как юлианский предполагал, что Земля плоская. Я убежден, что разум когда-нибудь победит. В средневековье бытовало такое мнение, что никто кроме католиков не примет новый календарь, потому что никто не хотел попадать под влияние папы римского. Но постепенно после католических стран Германия приняла новый календарь в 1700 году, Англия в 1752 и наконец даже греки в 1924. У вас, у русских, в 1830 году особый комитет Академии наук высказался за принятие грегорианского календаря, но министр народного просвещения высказался «против», обосновав свои действия невежественностью российского народа. Ваш царь Николай I с его мнением согласился.
Я не хотел, чтобы мою кривую ухмылку итальянец воспринял как несогласие с его словами, поэтому низко опустил голову, но так, чтобы у Дино не возникли подозрения, что я задремал. Дино прокашлялся и, отпив глоток коньяку, и слегка изменив тембр голоса, продолжил:
– Полагаю, что аргумент невежества народных масс в России сейчас не является актуальным. Но оказывается, вся проблема русской ортодоксальной церкви кроется в отношении к тем же иудеям, точнее, к их празднику Пасхи. Дело в том, что с принятием грегорианского календаря произошла реформа так называемой «пасхалии», сложной системы расчета календарного дня проведения главного праздника у христиан. Ваши ортодоксы против того, чтобы из-за перехода на новый календарь появилась пусть даже редкая, но все же возможность проведения христианской Пасхи раньше или в один день с иудейской. А посему до сих пор католическая пасха, как правило, опережает ортодоксальную, и случается, даже на целый месяц. Поверьте, Дэннис, у всех небезразличных к вере людей разных конфессий и даже у атеистов это по сей день вызывает непонимание.
Дино закончил фразу и так глубоко затянулся, что закашлялся и уронил сигару на паркет. Подняв ее, он резюмировал сдавленным голосом:
– Всем сказанным я хотел проиллюстрировать мнимую индифферентность историков к мировой религии.
Я не знал, что ему сразу ответить. Во всем ли я был с ним согласен? Пожалуй, нет. Слава Богу, что я обратил внимание на лежащий на отдельной полке толстый старинный фолиант, отделанный по корешку кожей, на котором золотом было ярко пробито на латинском: «Ammian Marcellin. Res Gestae». Последнее слово в переводе на русский означало «деяния». У нас эта работа почему-то называется «Римская история», и я, к своему счастью, неплохо ее знал. Я поднялся с кресла и подойдя к шкафу с книгами, взял этот увесистый труд в руки.
– Знаете, Дино, я во многом готов с вами согласиться. Даже позиция Гиббона о причине падения Римской империи мне очень близка. Правда, я склонен, говоря о причинах гибели империи, винить во всем не столько христиан-иудеев, сколько идею их отцов церкви, направленную на последовательное разрушение понятия святого слова для древних римлян «disciplina». С одной стороны это божественное слово обозначало обычный школьный предмет, такой, например, как грамматика или риторика, а с другой стороны, обучение этому предмету достигалось только послушанием. В этом и состояло второе значение слова «дисциплина». Это двойное понятие в Риме приобрело огромную важность и было обожествлено под именем «дисциплина». Вспомните, Дино, что говорил Вергилий: «Римлянин! Ты научись народами править державно». Отцы церкви сразу поняли, в чем сила державности, и постарались подменить в легионах послушание в «дисциплине» христианским инакомыслием, разрушающим стройные ряды легионов. У моего отца в его коллекции римских монет был один редкий экземпляр с изображением персонифицированного божества под именем «Дисциплина».
– Хорошо. Но разве богиню Дисциплину повалили на колени не монотеисты в лице иудейских христиан?
– Не все так однозначно, Дино, – я пытался рассуждать доходчиво, не давая повода упрекнуть меня в импульсивности в суждениях. – Я не случайно взял в руки именно эту книгу, – и я протянул ее хозяину. – Знаете, когда-то в ней я натолкнулся на прелюбопытное прижизненное наблюдение историка IV века Аммиана за душевным состоянием римской просвещенной знати. По этим его наблюдениям я понял, о чем думали богатые жители Рима, еще совсем не зараженные идеями христианства. Рим еще продолжал блистать роскошью и жил интересами языческих пристрастий своих граждан. Так вот, Аммиан Марцеллин, язычник по убеждениям, побывав однажды в Риме, был поражен, как резко изменились нравы «сильных мира сего». Он писал, что даже те дома, которые в прежние времена славились любовью к наукам, были погружены в забавы бездельной праздности, с точки зрения историка, позорной. Он заметил, что они перестали приглашать домой философов и риторов, их место заняли певцы и мастера потешных дел. Что его поразило в первую очередь, так это то, что почти все библиотеки были заколочены, как гробницы. Ему не нужно было тогда быть пророком, чтобы предположить, что ждет эту империю в будущем, если люди высокого общественного положения изменили своим привычкам к метафизическому познанию мира.
– Звучит довольно актуально, – Дино протянул руку, чтобы принять от меня эту книгу. Он произвольно открыл ее с явным намерением в чем-то мне возразить. Но в этот момент тяжелая деревянная дверь в кабинет медленно приоткрылась ровно настолько, чтобы в проем смогла протиснуться черная лаковая туфля хозяйки дома.
– Милый, – услышал я низкий хрипловатый голос Моники, который зазвучал фальцетом, едва она вдохнула едкий дым сигары: – О нет, это чудовищно!!! Бедный Дэннис! Невозможно войти в комнату! Когда же ты вынешь свой вонючую дрянь изо рта, милый? И надеюсь, ты намерен одеться к обеду?
Дино беспокойно опустил голову, затем развернулся к зеркалу, желая, по-видимому, убедиться, что он стоит перед ней не в костюме Адама. Его живая мимика и безмолвный жест руками выражали недоумение.
– Нет-нет, не пойдет, – настаивал дамский голос за дверью. – Хотя бы переодень рубашку и смени туфли.
– Хорошо, я все понял, дорогая, – Дино повернулся ко мне и со вздохом сожаления произнес: – Прошу прощения, Дэннис, я на пару минут! Женщины! – он смешно дернул плечами. – Скоро в собственном доме мне запретят курить. И это называется Франция? Свобода, где ты?
Хозяин, слегка кивнув головой, спешно покинул изрядно прокуренное помещение, прихватив с собой по рассеянности книгу Марцеллина. Ну пару – не пару, а минут десять я мог остаться наедине с собой, чтобы осмотреться и поразмыслить о сказанном. Едва за ним закрылась дверь, я облегченно вздохнул, поскольку не мог предположить, что здесь в Ницце мне придется в разговоре с итальянцем касаться темы русской православной церкви, и оказался, откровенно говоря, совсем к ней не готов.
Хотя, если поразмыслить в спокойной обстановке, то стоило признать, что Дино был прав в том, что если ты пытаешься себя позиционировать в качестве человека, сведущего в коллизиях мировой истории, то хочешь – не хочешь, а должен разбираться хотя бы в общих чертах в вопросах православия. История первохристианства меня, безусловно, интересовала всегда, но с тех пор, как я еще студентом внимательно изучил работу профессора МГУ Преображенского «Тертуллиан и Рим», которая была доступна в нашей университетской библиотеке даже в советские времена, я стал относиться к православию скептически. Петр Федорович Преображенский был внуком Петра Алексеевича Преображенского, блистательного переводчика первохристианских текстов и писателя. Он был репрессирован в годы войны и реабилитирован посмертно только в 1956 году. Помню, в студенческие годы мне безумно не нравился его тяжелый и заумный стиль, но то, что касалось его рассуждений об истории первохристианства и отношения к ней Русской Православной Церкви, я хорошо запомнил. Именно по этому вопросу профессор Преображенский для меня был предельно ясен и прост. Он считал, что православная церковь не создала свой тип истории христианства и утверждал, что существует только два типа конструкций по истории христианства – католический и протестантский. Что до русской православной церкви, то он сравнил ее с гоголевской невестой, которая была уверена, что если взять немного умеренного протестантства и столько же умеренного католичества, то получится смесь искомой истины. Этот профессор считал, что мечты русского философа Владимира Соловьева о соединении во времени трех христианских церквей останутся только мечтами, поскольку со стороны православия соединяться просто нечему.
Помню, в детстве бабушка отвесила мне трескучий подзатыльник и обозвала Иродом за то, что я отказался пить, да еще и на ее глазах вылил из большой алюминиевой кружки пенистое парное молоко, которое только что приняли из-под пятнистой молодой коровы, обыкновенно пасущейся невдалеке от нашей дачи. В оправдание я сказал, что это не молоко, а в мою кружку только что как мне казалось, написала, корова, что теперь стояла в хлеву по колено в пахучем навозе. Я плакал навзрыд и пытался объяснить, что до этого всегда пил молоко только из стеклянной пол-литровой бутылки, и оно никогда не было теплым. «Дурак, тебя Бог накажет», – сказала бабушка, расплачиваясь с хозяйкой коровы за вылитое наземь молоко. Я затаил на нее обиду и, оставшись наедине, бросил ей в лицо, что ее Бог, которому она украдкой молится по вечерам в углу у иконы, был еврей и все его апостолы – и Павел, и Петр, и Иоанн, и Мария тоже. Во всяком случае, так говорили старшеклассники на переменах, куря в туалетах, а они-то знали многое из того, о чем взрослые предпочитали умалчивать. «Кто же тебе такое смел сказать?» – возмутилась она не на шутку. А потом горько заплакала, утирая подолом слезы. Она со мной в тот день долго не разговаривала и все причитала: «Иуда, ей-ей, Иудушка. Зачем наводить вздумал напраслину, Господи Иисусе. Что он тебе плохого сделал, чтобы ты на него клеветал?» Мне до сих пор становится совестно за содеянное, хотя прошло целых двадцать лет, однако прощения у нее я не просил. Но и подзатыльников бабушка мне больше никогда не отвешивала.
Подойдя к большому библиотечному окну с широким подоконником, через которое открывался моему взору прекрасный вид на парк, я мысленно помянул добрым словом Владимира Соловьева за то, что он, блистательный переводчик работ философа Канта, сумел впервые в истории России поставить на русский язык всю философскую терминологию. Обидно, что она у нас в России сложилась только к концу XIX века. Тяжело признаться кому-нибудь из французов, что первый философ России Петр Яковлевич Чаадаев, написавший свои знаменитые философические письма, мог и смел изложить их только по-французски и только в формате письма, обращенного к некоей даме, а не написать сразу свой трактат, как это давно делалось в Европе. Философ в стране дофилософской по-другому поступить просто не мог. Тогда откуда ранний Пушкин мог познать философию? Может быть, Пушкину в лицее преподавали азы этой науки? Совсем нет, да и ему до этого не было дела! Говорят, что Пушкин в юности слыл озорником. Это не совсем так. Он слыл заядлым матершинником и бабником. Этот озорник научил всех лицеистов ругаться матом. Но однажды, как говорят, произошла удивительная и счастливая случайность: умница Чаадаев, служивший в Царском селе в гусарском полку, посещая жившего там историка Карамзина, познакомился у него с Пушкиным.
Я всегда хотел понять, откуда у беззаботного гуляки Пушкина уже в юности появилась такая мудрость в суждениях. Даже Иисус Христос, обладающий от рождения даром предвидения, нуждался в молодые годы в знаниях, за которыми и отправился в святые места Египта. Я с детства слышал, что герой Отечественной войны 1812 года гусар Чаадаев оказал огромное влияние на Пушкина. Но что это значило?
Чаадаеву самому во время знакомства с Пушкиным было всего-то двадцать два года. Правда, в семнадцать лет он уже закончил университет и вынужден был воевать с французами, которых привел в Москву Наполеон Бонапарт. За четыре года молодой безусый гусар проскакал верхом на лошади под пулями неприятелей от Москвы через всю Европу вплоть до Парижа. Дружил он с великим князем Константином, любимым братом императора Александра, который мог стать при желании русским императором в 1825 году. С Чаадаевым водить дружбу мечтала тогда вся блистательная молодежь Петербурга, потому что он был большим умницей, имел прекрасное воспитание и университетское образование, превосходно говорил не только по-французски, но и по-английски. Был внуком известного историка князя Щербатова и держался в стороне от праздной элиты. Зачем ему был нужен какой-то Пушкин, которому только-только исполнилось семнадцать лет? При дворе императора Александра тогда считалось, что Чаадаеву уготовано блестящее будущее. Пушкин вообще мало чего тогда хотел знать и учился в лицее, скажем мягко, не блестяще. Ругался, правда, он виртуозно. Любил и хорошо знал французский язык, но это было не главное. Допустить мысль, что Чаадаев в общении с Пушкиным желал практиковать с ним свой французский, было бы наивным заблуждением.
Тогда что? Ну не по девкам же они и впрямь вместе ходили? Конечно, нет! Если с Чаадаевым, богатым рослым красавцем, возведшим свое искусство одеваться до совершенства, искали знакомства все девицы Петербурга, то на юного Пушкина без сдержанной брезгливости никто из слабого пола тогда и не смотрел, кроме крепостных девок. Он был родом из небогатой дворянской семьи, совсем не большого роста и к тому же не обладал славянской внешностью. Его черные, вечно немытые вьющиеся волосы и длинные грязные ногти вряд ли могли нравиться Чаадаеву, одевающемуся, как лондонский денди. Может, дело было в том, что Чаадаев, привыкший с легкостью держать верх над своими сверстниками и по уму, и по знаниям, и по гусарской доблести и чести, почти не умел ругаться матом или просто браниться. Похоже, этому-то его и мог научить Пушкин и часто делал это в блистательной стихотворной форме, что поражало воображение Чаадаева и смешило до чертиков. Пожалуй, он сразу оценил способность Пушкина виртуозно владеть силой слова. Уже тогда Чаадаев нескромно мнил себя российским пророком, а Пушкину он склонен был даровать роль языка и глашатая своих идей. Он понял, что только вместе они смогут изменить Россию.
«Счастливый баловень Венеры», как сам Пушкин называл себя, писал о Чаадаеве: «Он меня поворотил на ум». Чаадаев в годы жизни в Царском Селе был серьезно увлечен идеями английского философа Джона Локка, отца западноевропейского либерализма, особенно его «Двумя трактатами о правлении». Именно Чаадаев обучил Пушкина философии и привил ему идею главенства закона с принципом разделения властей. Уроки Чаадаева не прошли даром, Пушкин неожиданно преобразился и окреп умом, а слава лицейского поэта, подкрепленная его одой «Вольность», просто взорвала Петербург. Чаадаев лично познакомил Александра I с лирикой молодого поэта и его одой, которая изумила императора. И действительно, как можно было уже в восемнадцать лет написать поэтическое произведение, которое предопределило будущее не только самого Пушкина, но и всей России? «Чему их там учат в лицее», – вопрошали бдительные придворные. Ода «Вольность» оказалась под запретом, и только Герцен в своем журнале через много-много лет опубликовал это стихотворение. Пушкин в это самое время написал и свою «прекрасную шалость» под названием «Гаврилиада», от которой митрополиты и архимандриты православной церкви пришли в ужас и пригрозили поэту смертью, если смогут доказать его авторство. Репутация «афея», то есть атеиста, надолго закрепившаяся за Пушкиным, раздражала императора Александра, а затем и Николая. Последний потребовал от Пушкина письменного признания в авторстве «Гаврилиады». При их личной встрече Николай был изумлен глубиной религиозных познаний Пушкина и назвал его умнейшим человеком России. Однако даже он не мог гарантировать Пушкину долгую жизнь, если его внеконфессиональные религиозные убеждения стали бы достоянием какого-нибудь другого лица, понимая, что месть православной церкви будет беспощадной. Ровно сто лет эта поэма была под жестким запретом цензуры – вплоть до 1917 года.
Кстати, я вспомнил, что Александр I тоже говорил и думал не по-русски, а по-французски. В трудную годину 1812 года ему, набожному христианину, вдруг захотелось попробовать прочитать Библию на русском языке, но ему разъяснили, что Библии на русском просто не существует. В Петербурге была Библия только на церковнославянском, и даже её издание было осуществлено в последний раз в 40-х годах XVIII-го столетия во времена Елизаветы – сестры его прабабки. Библия в Зимнем Дворце имелась только на немецком. Ее привезла с собой в Россию его бабушка Екатерина. Свершилось чудо, и после выдворения французов из России усилиями самого императора было предпринято издание Библии на русском языке.
Спустя год, в 1814 году, Александр I был уже сам в покоренном Париже со своим войском и пасхальные дни праздновал вместе с союзниками. К его изумлению в тот год Пасха отмечалась по календарю в один и тот же день всеми тремя христианскими конфессиями. Он воспринял это как знак свыше, и ему пришла в голову мысль об объединении церквей, которая, впрочем, так и не нашла воплощения.
Вместе с Александром I в Париже находился молодой гусар Чаадаев, которому в голову приходили мысли, подобные императорским. Он не стал дослуживаться до высоких чинов, а неожиданно для всех подал в отставку, продал все свое имущество и уехал путешествовать по Европе. Пушкина, который так мечтал поехать с Чаадаевым, в Европу не пустили с формулировкой, что каждый русский дворянин имеет право ехать куда угодно, но государю это было бы неприятно. Пушкину отказали, как потом оказалось, навсегда. Так же полагали, что и Чаадаев больше никогда не вернется. Но произошел редчайший случай – пожалуй, впервые в истории России русский дворянин, надышавшийся свободой Европы, возвратился после 4-х лет отсутствия. В России уже правил новый император Николай I, и все декабристы, к коим относил себя и Чаадаев, были сосланы в Сибирь. В состоянии философского созерцания Чаадаев уединился в имении родственников от всех и вся. Он написал восемь философических писем, обращенных к некоей госпоже. Их читали в списках только близкие ему люди. Пусть и не сразу, но удалось обойти двойную цензуру – еще и духовную – и издать в журнале «Телескоп» без указания имени автора только первое письмо, переведенное на русский. Разгорелся невиданный скандал. Журнал закрыли, наказали всех, от редактора до цензора, а самого Чаадаева высочайше объявили сумасшедшим. Запретили издание любых печатных отзывов на это письмо.
За что же такая немилость к герою войны, светлейшему уму России, человеку, как считалось в свете, высочайшей чести и совести? Пушкин обращался к другу Чаадаеву со словами: «товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна…» и т. д. Однако Россия не вспряла и Чаадаева не поняла. Почему? А как же могло быть по-другому! Он считал источником зла и варварства в России не наших дураков и дороги, а наше православие. Оно виделось ему разъединяющей стеной между Россией и цивилизацией. Он писал: «Уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Но почему в России христианство не имело таких последствий? Одно это заставляет усомниться в православии, которым мы так кичимся». Чаадаев подчеркивал, что русский народ попал в рабство лишь после того, как стал христианским.
Кстати, Чаадаев отвечал и на вопрос нашего с сеньором Росси спора о причинах падения Древнего Рима. Чаадаев считал, что общепринятая точка зрения, будто падение Рима произошло вследствие развращения нравов и деспотизма, не совсем верна, поскольку был уверен, что в этой всемирной революции погиб вовсе не сам Рим, а целиком вся древняя цивилизация. Значит, не империя погибла, а погибло и вновь восстало человеческое общество, но уже с новым нравственным законом под названием «христианство». А Россия? Россия, по мнению Чаадаева, стоит как бы вне времени. Всемирное воспитание рода человеческого на Россию не распространилось, поскольку идеи долга, справедливости и порядка в России не было. Мы, россияне, как считал Чаадаев, сумели пренебречь всеми удобствами жизни. Единственная перспектива России, по его мнению, это стать частью западной цивилизации, основанной на католическом рационализме, а идея христианского единства может повести Россию по пути нравственного и культурного прогресса. Католицизм и православие, по его мнению, это две модели идеологии. Он был убежден, что над Россией довлеет тяжелое наследие Византии, поскольку опыт времени для россиян не существовал. Чаадаев упрекал Россию в том, что ничего за долгие годы мы сами в области воображения не сумели создать – лишь обманчивую внешность и бесполезную роскошь. Как точно он тогда сказал! Как актуально это у нас даже сейчас. Мне всегда казалось, что Чаадаев в своих письмах не акцентировал внимание на букве закона, которая довлела над праздной жизнью в Древнем Риме, а затем в христианскую эпоху возродила западную цивилизацию. А у нас? У нас с одиннадцатого века главенствовал не латинский закон, у нас была византийская благодать, то есть помощь, ниспосланная свыше. Как выражался один митрополит: нам нужна была стабильность. Лучше стабильно находиться в рабстве, чем стремиться к преобразованиям, грозящим нестабильностью. Мы, оказывается, были сильны духом, а не буквой закона.
В совершенстве владея французским языком, Чаадаев, тем не менее, старался вести свою переписку с друзьями по-русски и просил даже Пушкина «писать ему на языке его призвания». Однако Пушкин писал ему письма только по-французски. Пушкин никогда не был за границей России и тем не менее писать по-русски отказывался, он хотел говорить с Чаадаевым на языке Европы. «Он мне привычнее нашего» – писал Пушкин в ответ.
Мысль о любви Пушкина к французскому возвратила меня с небес на землю, и я вдруг вспомнил, что моя учительница французского, услуги которой много лет так старательно оплачивал мой отец, в ближайшее время должна была прилететь в Ниццу. Я сам пригласил ее в гости, купил билеты, забронировал гостиницу, исполняя волю отца, который очень тепло относился к ней.
Письмо, касающееся организации досуга Эллы Андреевны, я получил от нее по интернету. Оно, кстати, тоже было на французском. Ее как филолога очень интересовали подробности проживания на Ривьере русских писателей Бунина и Сухово-Кобылина. Чтобы не прослыть в ее глазах невеждой, мне пришлось прочесть путеводитель, и к тому же в библиотеке отца я наткнулся на книгу под названием «Грасский дневник» Галины Кузнецовой, подруги Ивана Бунина. Кто-то оставил на ее полях аккуратные пометки, как раз касающихся весьма удививших меня взглядов великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии, на вопросы нашей религии. Иван Бунин, ярый враг большевизма, неожиданно откровенно высказался о «светлом» православии. Он выразился так: «Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой, радостной религии. Ложь. Ничего так не темно, страшно, жестоко, как наша религия… Черные образа, страшные руки, ноги. А стояние по 8 часов, а ночные службы. Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии. Да мы и теперь недалеко от этого ушли… Самая лютая Азия». Каково сказано поборником русского образа жизни, сохранившего его даже во Франции. К счастью, я был далек от этой темы и молил Богов, чтобы сеньор Росси не докучал мне этим больше.
Хозяин дома, обещавший быстро вернуться, действительно не заставил себя ждать очень долго, чего не сказать про злосчастный буйабес. По возвращении он был так же улыбчив и добродушен, как и прежде, точнее, старался быть веселым, и у него это неплохо получалось. Он долго чиркал спичками, раскуривая новую сигару и, извинившись за задержку, задал мне вопрос на другую тему, однако на сей раз он развел руками ровно настолько, насколько ему позволил сделать это двубортный в полоску пиджак, пошитый, как мне показалось, слишком узко в талию. Впрочем, что касается моды, то по замечаниям великих кутюрье итальянцам было неведомо чувство меры.
– Полагаю, у вас было время оглядеться, – сказал господин Росси, отвешивая очередной учтивый поклон. – Как вам, сеньор русский, показался мой кабинет, или, вернее, моя библиотека?
Мне казалось, что я уже отвечал на этот вопрос, но как не воздать подобающей хвалы хозяину, испытывающему нескрываемую гордость за свою библиотеку.
– Во-первых, я благодарю вас, Дино, за то, что вы любезно пригласили меня в этот зал, – я поднялся с кресла и непроизвольно сделал такой же жест руками, как и хозяин. В подобных ситуациях я не упускал возможности отпустить колкости либо съерничать. – Коллекция ваших книг просто прекрасна. Чудесная позолота кожаных переплетов уводит меня во времена прошедших веков. Похоже, вы сами имеете к истории некое профессиональное отношение или я ошибаюсь? – я заглянул в глаза господину Росси, чтобы он не усомнился в моей искренности.
– Скорее, традиции рода. Мои прадеды любили проводить свой досуг, копаясь в старых книгах. Не все же плотские утехи, знаете ли. Серое вещество тоже нуждается в упражнениях, иначе засохнет!
Он засмеялся, и я тоже хихикнул. Дино раскуривал сигару, выпуская дым из ноздрей, как паровоз. Он пригубил коньяку из забытого фужера, который давно стоял почти нетронутым на подоконнике, недолго помолчал и вдруг задал мне неожиданный вопрос:
– А вот вы, интересно знать, Дэннис, почему стали историком?
– Историком? – я поднял глаза на хозяина. – C’est beaucoup dire! Знаете, Дино, чтобы познать будущее, наверное, надо вовремя вспомнить о прошлом. Мне со школьной скамьи вдалбливали в голову, что история – это наука, которая делает из человека гражданина, и я долгое время верил в это, а оказалось, что история, как и римское право, служит тому, кто хорошо платит. Правда, я лишь закончил исторический факультет университета, но никогда не занимался наукой и работать пошел не по специальности – был все время на побегушках у отца в его банке. Однако признаюсь, даже это приносило мне хороший доход, поскольку отец был прирожденным финансистом, похожим на Каупервуда, героя романов Драйзера «Финанасист», «Титан» и «Стоик».
– Тогда зачем же вы поступали на исторический факультет?
– Я никогда не хотел учиться, но тогда мне светила армия, а быть солдатом я не хотел еще больше. Я был не против стать дипломированным финансистом, как отец, но он возражал и был убежден в том, что диплом финансиста в России – это лицензия потенциального вора. Отец любил повторять, что тот человек, который в состоянии познать прошлое, сможет правильно управлять будущим. Это он настоял на том, чтобы я изучал французский. Я предпочитал английский. Мне казалось, это практичнее и проще, но он сказал: «Это тебе пригодится», и я смирился. Я по молодости ничего не хотел и ни во что не верил, относясь ко всему, что говорил отец, со скепсисом. Знаете, если всегда слушаться своих родителей, то можно умереть с тоски!
– А мать? – вдруг перебил меня Росси. – Что говорила она?
– Все, что ни говорила мне мать, я отвергал сразу, не дослушав, лишь раздражался. Отец многого достиг сам, своим трудом, и я его уважал. Он стал богатым человеком, может быть, поэтому я слушался его. Во всяком случае, его слова не расходились с его делами. У мамы было все наоборот, даже отношение к истории. Знаете, у вас во Франции существует поговорка: «У счастливого народа нет истории». Я согласен с этой мудростью. Русский народ во многом был несчастен. По мере того как я учился в университете, я пытался для самого себя ответить на вопрос: древняя русская история – это наука или вымысел?
Росси опустил пустой бокал на подоконник и, отойдя от окна, оперся рукой о шкаф.
– Молодой человек, я всегда с любовью относился к истории своего народа и посвящал ей весь свой досуг. Я даже интересовался вашей Россией. У вас есть свои известные историки. Я сейчас попробую вспомнить… например, Татищев, Ломоносов, Карамзин и другие. Ах да, Соловьев еще.
Я не заметил, как он открыл шкаф, взял в руки какой-то увесистый том в синей обложке и увлеченно стал перелистывать страницы с закладками.
Действительно, Клер меня не обманула, ее отец не принадлежал к числу тех людей, которые содержат богатую библиотеку, чтобы скрывать свое невежество.
Я радостно добавил:
– Не прозвучали имена Ключевского, Костомарова и многих других, но вы и не могли назвать некоторые фамилии самых первых историков. Их имена редко упоминаются в учебниках нашей истории. Они, правда, все не русские, а немцы. Это были титаны российской академии наук в Петербурге. Готтлиб Байер, Герард Миллер и Август Шлецер. Их пригласили в Россию с одобрения царствующих особ рода Романовых с задачей написать официальную историю России. Убежден, вы никогда не слышали этих фамилий.
– Наверное, но возможно, просто забыл.
Он поставил книгу на место и убрал узкие очки в мягкой оправе в нагрудный карман пиджака.
– Тогда, господин Росси, если желаете, я вам напомню, не углубляясь в детали.
– Ну что ж, коли сегодня такой необычный день культурного обмена, давайте.
Он поспешно подошел к подоконнику, взял свой бокал и перед тем, как сесть в кресло, откупорил пузатую бутылку «Хеннеси». Хозяин дома излучал добродушие и снова улыбнувшись мне, произнес:
– У нас еще есть немного времени, пока наши девочки заняты на кухне.
На его руке сверкал золотой хронограф «Магнум» от Франка Мюллера, привлекая мое внимание, но кичливый итальянец на него даже не взглянул, будто счастливые и впрямь часов не наблюдают.
– Дино, я совсем не хочу вещать на тему древней русской истории как глашатай истины в последней инстанции. Я лишь попытаюсь рассуждать вслух.
– Я понимаю, – успокоил меня Росси, – я вас слушаю.
Он успел выпустить изо рта изрядное количество густого терпкого дыма перед тем, как я произнес первое слово.
– Вы сеньор, были совершенно правы, когда назвали имена наших историков – Татищева и Ломоносова. Именно они первыми рискнули высказать свою версию древней истории России. Сначала Татищев досконально изучил большинство первоисточников, в том числе содержавшихся в Радзивиловской летописи и в списках Нестора. Но когда в 1740-м году он, наконец, был готов издать свою историю, у него ничего не вышло. У нас в России согласия на издание он так и не получил, и даже в либеральной Англии не сумел ничего добиться. За самовольные попытки издания он был уличен в вольнодумстве и ереси. Вплоть до конца своей жизни Татищеву так и не удалось осуществить свою мечту. Только после его смерти под редакцией Миллера были изданы его дневники, но не в авторском варианте, а с многочисленными исправлениями. Крайне удивительно то обстоятельство, что никто никогда до сих пор не видел подлинных рукописей и черновиков Татищева. Так можно ли его назвать родоначальником русской историографии? Пожалуй, но весьма условно. С Ломоносовым было сложнее. Он откровенно противопоставлял свои взгляды на древнюю русскую историю тем версиям, которые были высказаны немецкими историками. Он отвергал «Трактат о Варягах» Байера и диссертацию Миллера на подобную тему, а идею последнего о скандинавском происхождении русского государства, высказанную им в 1749 году в речи «О происхождении народа и имени российского», обругал, назвав его выступление «ночи подобным». Кстати, жалоба Ломоносова в высокие инстанции на засилье немцев в Академии наук и требование превратить Академию в русскую по сути, до Романовых дошли. Однако сенатская комиссия расценила это как бунт черни во главе с Ломоносовым и потребовала предать ученого смерти и лишить его семью всех благ. К счастью, императрица Елизавета Петровна не одобрила это требование комиссии, но жалование ему уменьшили в два раза и заставили просить прощения. Письменный текст обращения составил лично Миллер. Разумеется, Ломоносову, как он ни пытался, до конца жизни так и не удалось издать свою «Древнюю российскую историю», зато на следующий же день после смерти по личному приказу Екатерины II весь его исторический архив был конфискован и передан Миллеру. Через семь лет после смерти Ломоносова Миллер сам издал его «Древнюю российскую историю». В подлинности этой работы до сих пор сомневаются все, поскольку она написана в ключе исторической теории немецких исследователей. Архив Ломоносова так и не был обнаружен нигде вплоть до настоящего времени. Скорее всего, он был уничтожен. Екатерина II благоволила к Миллеру. Рукописную библиотеку стареющего историка она выкупила за двадцать тысяч рублей, по тем временам просто колоссальную сумму. Особым покровительством Екатерины пользовался и Шлецер, бывший слуга Миллера. Он занимался разработкой схемы русской истории под личным контролем царицы. Он тоже стал считаться русским академиком и первоучителем для Карамзина. Все это имело свои пагубные последствия для российской исторической науки. Недобросовестное отношение немецких академиков русской академии наук превратило русскую историю в сатиру. Клеймить русских славян стало традицией. Николая Карамзина убедили, что главное – быть людьми, а не славянами. Он послушно написал историю государства российского с древнейших времен, как этого требовали Романовы, и издал ее в 1826 году. Царский дом буквально канонизировал ее. С этого времени наша история стала доступна для широких кругов образованных славян. Его работа была щедро оплачена Николаем I. Ежегодный пенсион Карамзина составлял пятьдесят тысяч рублей, а после его смерти такую же сумму ежегодно продолжала получать его жена, а затем и его дети.
– Интересно, – подал голос господин Росси, стоя за высокой спинкой моего кресла.
– В общем, да, интересно, – согласился я, повернув голову в поисках хозяина, и добавил, – но скорее страшно.
Думаю, итальянец уловил в моем тоне беспокойство, и в ту же минуту у меня за спиной снова зазвучал баритоном его голос.
– Не надо пугаться правды, мой друг, хотя реальная история – действительно штука страшная.
Его циничность и прямолинейность меня немного задели.
– Вы, верно, сеньор, имеете в виду вашу древнюю историю? – я съязвил, и хозяин это уловил. Слава Богу, что в тот момент он не видел выражения моего лица. Признаться, за мной такое водится, иной раз я бываю неприятным. – Важно, чтобы и вы, итальянцы, не пугались.
– Простите, я не понимаю, – произнес г-н Росси только после того, как обошел кресло и встал передо мной.
– Ну… – я несколько замялся в нерешительности, но собрался с мыслями и спокойно начал: – Согласитесь, страшно становится, когда вдруг осознаешь, что главный символ античного Рима – волчица, кормящая Ромула и Рэма грудью, отлитая из бронзы как считается в V веке до Рождества Христова древним народом этрусками, на самом деле была создана вовсе не ими, а совсем другим народом, и гораздо позже, в средние века, точнее, в XV веке нашей эры. Ваши историки промахнулись аж на целых двадцать веков. Серьезный просчет? – обратился я к итальянцу и сам же ответил: – Бесспорно.
– Ааа… – протянул он, – вы, историки, все об этой мелочи толкуете, – он помахал ладонью перед моим лицом, стараясь разогнать клубы едкого сигарного дыма. – Вы, видимо, имеете в виду заключение Анны-Марии Каррубы, нашего известного реставратора. Да, я в курсе, что ее профессиональные догадки поддержал и президент института археологии сеньор Реджино. Наверное, это так и есть, но таких откровенных ляпов по древней истории Рима совсем немного. Давайте все же отнесем их к исключению из правил.
Признаться, Европа часто упрекала французов в легкомыслии, так же как она обращала внимание на то, что мы, русские, чувствуем себя заблудшими в этом мире, поскольку силлогизм Запада нам не знаком поныне. Однако, умозаключение, которое делал Дино, вызывало у меня недоумение. Я даже отпил из его бокала немного коньяку и с жаром произнес:
– Да, но вы до сих пор по всему миру продолжаете распространять эту лживую информацию, публикуя повсюду невыразительное изображение этой волчицы и преподнося его как великий артефакт античной Этрурии. Была бы она хотя бы похожа на ту, которую описывал в своей «Естественной истории» Плиний. История сохранила для нас изображение волчицы на своих древних монетах. Четкие контуры дают точное представление, которое никак не вяжется с тем, что демонстрируется по сию пору. Это же обман! В конце концов у моего отца имеется прекрасный образец той монеты времен Антонина Пия, на которой греческие резчики штемпелей создали образ волчицы совсем не такой, какой нам пытаются сейчас навязать. Между прочим, в Капитолийском музее этому изваянию до сих пор выделен первый и самый большой зал музея, а глянцевые обложки путеводителей по Риму на всех языках мира открываются именно его изображением. Где же, позвольте спросить, любовь к истине?
Перед тем, как ответить, г-н Росси сдвинул брови и вздохнул.
– Что поделаешь, бывает и такое. Двести лет назад Стендаль в своих «Прогулках по Риму» писал про Ватикан, что количество древнеримских памятников, уничтоженных папами и их племянниками так велико, что стыдясь этого, Ватикан приказал авторам путеводителей не упоминать о них вовсе. Возможно, и в нашем случае причина все та же – стыд. Но кто не ошибается?
Он мило улыбнулся в попытке отшутиться, призывая и меня проявить должную терпимость и уважение к тем, кто провел колоссальную работу, а итог оказался сомнительным.
– Дино, но я не досужий турист, посещающий Рим только ради развлечения. Нас приучили еще в школе к тому, что знание античной истории – это мерило образованности человека. Мне все время вбивали в голову, что любое утверждение необходимо подкреплять аргументами. Я согласен, что стереотипное мышление довлеет. Даже в Москве в музее имени Пушкина зал античного искусства открывает копия капитолийской волчицы, а станцию метро «Римская» украшает изображение, стилизованное под волчицу, которая, как теперь оказалось, была выдумана итальянскими средневековыми скульпторами. Это же своего рода историческое мошенничество мирового масштаба!
– Друг мой, не стоит так волноваться, – успокаивал меня хозяин.
– Хорошо. А вот второй жемчужиной капитолийских музеев является античная конная статуя Марка Аврелия. Нас уверяют глянцевые путеводители, что это единственная конная статуя, чудом не изуродованная христианскими религиозными фанатиками, не переплавленная, как все остальные в средние века, и сохранившаяся до наших дней только потому, что наездник был похож на императора Константина Великого, принявшего христианство и канонизированного церковью как святой равноапостольный. Удивительно то, что у входа в Капитолийские музеи, что в тридцати метрах от конной статуи Марка Аврелия, установлена исполинская античная голова самого Константина с глазами навыкате, безбородого, с прямыми, а не курчавыми волосами и стильной прической, так характерной для поздней империи IV века. Словно кто-то специально обращает внимание посетителей на то, что Константин совсем не похож на Марка. Тогда почему жители Рима и служители Ватикана целых тринадцать веков принимали Константина за Марка? Возможно, причиной тому была огромная арка Константина, которая до сих пор сохранилась в хорошем состоянии, и стоит возле Колизея, привлекая внимание туристов. На арке сохранилось большое количество прекрасных барельефов, медальонов и статуй бородатых дакских воинов эпохи Траяна, Адриана и Марка Аврелия. Правда, все они не имеют никакого отношения к эпохе императора Константина, кроме большой посвятительной надписи. История создания этой арки так же запутана, как и вся история древнего Рима. Очевидно, что причина сохранности статуи не в этом сходстве. Лик Марка с восточным изгибом бровей, с библейскими миндалевидными глазами и усами точь-в-точь, как на византийских иконах, исполнен в лучших традициях христианской веры. Наверное, именно это совпадение или, скорее, подражание и спасло скульптуру. На конной статуе никогда не было никаких мемориальных надписей. Первый, кто распознал в человеке, сидящем на коне, Марка Аврелия, был библиотекарь новой византийской апостольской церкви Бартоломео Сакки по прозвищу Платина. Это он в XV веке, разбирая коллекцию древнеримских монет, обратил внимание на это удивительное сходство. Но почему по монетам? Разве образ Марка Аврелия сохранился только на них? Совсем нет. Более того, каждый, кто занимается римской нумизматикой, знает, как разнятся между собой, порой до неузнаваемости, лики одного и того же императора на монетах разных монетных дворов государства, к тому же сохранилось большое количество мраморных бюстов Марка. В его эпоху тех жителей Италии, в домах которых водился достаток, но не было его изображения, считали богоненавистниками. Заметьте, Дино, что до середины XVII века в Риме на Виа дель Корсо стояла арка Марка Аврелия, опять же если верить путеводителю писателя Стендаля. На этой арке, варварски разрушенной Папой Александром VII, было большое количество прекрасно сохранившихся рельефных панелей с изображениями лика императора Марка, на которых тяжелые верхние веки прикрывают большие выпуклые глаза. Согласитесь, Дино, есть серьезные основания подозревать, что конная статуя Марка Аврелия была отлита гораздо позже, чем второй век нашей эры, и совсем не во времена императорского Рима, тем более, что ученый XIII века Риккобальдо из Фераля в своих работах утверждал, что статуя была отлита и установлена по указанию Папы Клемента III в XII веке.
– Собаки лают, а караван идет, мой дорогой друг, – заключил Росси. – Часто, Дэннис, гораздо важнее эстетическая сторона дела, а не датировка. В конце концов, вы же не будете отрицать, что достижения древнего мира, впрочем, как и почти все открытия, принадлежат великим европейским цивилизациям. И он посмотрел на меня торжествующе, явно намекая на мое славянское происхождение.
– Я понимаю вас, господин Росси, и отчасти готов согласиться с тем, что действительно, всем славянским народам упорно внушают, что по сравнению с европейской культурой русская культура всегда была на низком уровне. Все достижения человечества традиционно приписывают грекам и римлянам. Может быть, это так и есть. Однако сложилась довольно абсурдная картина, как будто в древности славян вообще не было. Историки скалегеровской школы сделали славян бездомными и безземельными, и откуда взялись русские, не ясно. Немцы как самые авторитетные ученые в Европе, как будто доказали, что славяне появились на сцене истории только с VI века нашей эры и никак не раньше, и все у них в истории ясно и складно, если бы не один европейский народ, очень древний, перед которым историки скалегеровской школы преклоняются. Название этого народа – этруски. Эти историки утверждают, что Рим стал Римом благодаря этрускам. Если послушать известных этрускологов, то первые философы, художники, скульпторы, изобретатели военных машин были этрусками. Они обучили этому другие народы, населявшие в древности Аппенинский полуостров. Но вы, господин Росси, и сами прекрасно знаете, что в изучении истории этрусского народа есть два, до сих пор не решенных, вопроса – это откуда он появился на Аппенинах и что представляет собой язык, на котором они говорили.
– Согласен, что есть такие нерешенные проблемы, даже подозреваю, тупиковые.
– Они не тупиковые, господин Росси, тупиковым является ложный подход к поиску истины.
– Вот как? – удивился итальянец. – Тогда потрудитесь пояснить, только коротко, если можно, поскольку боюсь, нас скоро пригласят к столу, а я лишь скажу вам, что сам помню об этрусках. Знаю, что все надписи, сделанные не на латыни и обнаруженные на территории Италии, считались и считаются этрусскими. Их, кажется, обнаружили более двенадцати тысяч. Ни одну надпись не удалось до сих пор прочесть. Поэтому в Европе бытует мнение среди ученых, что «этрусское не читается». Более того, полагают, что этрусские тексты никогда не будут разгаданы. Это значит, что мы с вами так и не узнаем, откуда у нас появился этот народ. Германские специалисты, правда, настаивают, что они пришли к нам с севера, хотя древнегреческие ученые считали, что они пришли сюда из малой Азии, с территории современной Турции. Так?
– Именно так. Коротко и по делу, – поспешил ответить я и добавил: – Что касается немцев, то они действительно признаны авторитетными исследователями в этой области. Самый известный среди них, конечно, нобелевский лауреат Теодор Моммзенн. Однажды, когда обнаружили один интересный древний артефакт, весь исписанный по-этрусски, и поместили в музей Неаполя, даже он написал в одной из своих работ, что этот текст никогда и никто не прочтет. «Было бы дерзким сделать даже попытку», – говорил он. Но этот текст довольно легко прочел польский ученый, посвятивший себя изучению истории древнего мира, Тадеуш Волынский, правда, он предложил славянскую версию происхождения этрусков и их загадочного языка. Волынский очень близко подошел к расшифровке этрусских текстов. Стало, по крайней мере, ясно, что язык для расшифровки выбран правильно. Стал понятен смысл многих надписей. Практически, он совершил научный подвиг, но его открытия не были восприняты в научном мире. Более того, по указке польской католической церкви его книги сразу попали в категорию запрещенных. Польские иезуиты сожгли их все и потребовали казнить ученого. Если бы не помощь русского императора Николая I, то Волынскому бы не уцелеть. Добавлю лишь то, что он был не одинок в своих догадках. Русский археолог Александр Чертков приблизительно в то же время в своих научных работах также настаивал на том, что этруски были славянами, но к его исследованиям в Европе отнеслись с равнодушным недоверием. Он утверждал, что европейские ученые выбрали заведомо ошибочное направление в изучении этрусского языка, и в конце концов ложные версии ученых из Германии, Франции и Италии завели науку этрускологию в явный тупик.
Господин Росси слушал меня с большим вниманием и даже волновался, когда мне не удавалось, используя несовершенные знания французского, доходчиво доводить до него смысл моих рассуждений. На его лице читалась какая-то озабоченность, но когда появилась его жена и жестом пригласила нас пройти в столовую, он расплылся в широкой добродушной улыбке, как бы приглашая и ее к разговору.
– Дорогая, наш гость из России меня изрядно позабавил и, признаться, даже озадачил!
Я бросил на него умоляющий взгляд, но Дино, взяв жену за руку, не позволил ей снова поспешно покинуть нас.
– Ты послушай, дорогая, о чем говорит этот русский.
Моника устремила на меня равнодушный взгляд женщины, утомленной приготовлениями к обеду.
– Опять о негритянках?
– На этот раз нет. Он меня убеждает, что этруски – это те же русские. Ты, дорогая, уроженка Тосканы, бывшей Этрурии. Выходит, ты отчасти русская?
– Вы шутите, Дэннис, что за вздор, – обратилась ко мне Моника, и ее глаза вспыхнули огнем, как у гордой испанки.
Она взяла мужа под руку и склонила голову к его плечу. Широкий чувственный рот скривился в усмешке, но, похоже, как у всех на свете женщин гордость была у нее на втором месте после любопытства.
– Признаться, не только у вас были подобные подозрения, но это было скорее шуткой. Да, Габбана подтрунивал надо мной, еще совсем девчонкой. Мне тогда и восемнадцати не было. По подиуму порхала, как птичка. Они принимали меня за русскую, сравнивая с Наташей, которая приехала к нам в Милан, по-моему, из Украины. У меня были довольно светлые волосы и славянский тип лица. Я была очень скрытной, не такой, как все, и поэтому Дольче считал, что у меня русская душа.
Она повернулась ко мне, и я улыбнулся ей в ответ. Не скрою, ее взгляд и интонация, с которой были произнесены эти слова, показались мне до замирания сердца знакомыми, словно это уже где-то было, как ощущение «дежа вю».
– Да, Дэннис, я действительно была другой. Признайся, Дино, наверное, и ты не случайно выделил меня из всех на подиуме? Тогда тебя тянуло на русских застенчивых девочек.
– Не выдумывай, Моника, опять ты за свое. И не порти мне дочь подобными рассуждениями, – бросил он в сердцах.
– Признавайтесь, кто меня намерен испортить? – опять как всегда «вовремя» появилась Клер. – О чем вы здесь разболтались?
– Твой приятель Дэннис нас с отцом пытается под свою «славянскую» теорию подвести, – сказала Моника, продолжая держать мужа под руку и согнув в колене ногу, кокетливо крутила ступней над полом.
Я снова принялся оправдываться.
– Это совсем не так. Потому что первый, кто заподозрил в этрусках русский дух и след, был именно итальянец. Его имя было Себастьян Чиямпи. Он, живший в XIX веке где-то в Тоскане, в междуречье Арно и Тибра, однажды отправился в Польшу преподавать в Варшавском университете историю. И едва немного научившись говорить по-польски, первым из европейских ученых, кто занимался этрускологией, почувствовал, что начал понимать их надписи. Вернувшись в Италию, он готовился расширить свои исследования, но ученый мир поднял его на смех. Незыблемый авторитет немецких и французских ученых по древней истории наложил негласный запрет на любое инакомыслие, особенно на использование славянских языков в попытках прочтения неизвестных текстов, обнаруженных в Италии.
– Ладно, – сказал отец семейства, стоя в окружении своих девочек, – мы тоже не будем преувеличивать влияние русских на древнюю историю Рима, иначе и на нас вся ученая Европа ополчится вместе с гневом Олимпийских богов.
Он обнял меня за плечи и подтолкнул к двери.
За столом мы не были многословными. Скорее, мы превратились в заскучавших французов, тщательно подбиравших нужные слова восторга и оценивавших достоинства здешней приморской кухни. Молчал и я, пока не обратил внимание на крупный ярко-красный камень, сверкающий на безымянном пальце Моники в обрамлении мелких бриллиантов.
– Что, нравится? – Клер перехватила мой завороженный взгляд, обращенный на прекрасное украшение своей мачехи. Она произнесла эти слова так громко, что я даже вздрогнул. – Нравится? – Клер не унималась и требовала моего участия в разговоре.
Я положил ложку возле тарелки и взял салфетку.
– Нравится, – признался я, – а разве такое украшение может не нравиться?
– Наверное, думаешь это рубин? – хитро спросила Клер. И, не дожидаясь ответа, выпалила: – Это ограненная шпинель. Слышал что-нибудь про камень «черный принц»?
– Нет, – ответил я.
– Папа, слышишь, Денис ничего не знает про красную шпинель, величайшую драгоценность британской короны.
Клер досадливо поморщилась.
– А почему я должен это знать? – возможно, в моем голосе прозвучало раздражение, которое я попытался сгладить натянутой улыбкой.
– Ты? Да я даже папе сказала, что ты знаешь все, о чем с тобой ни заговоришь, – она посмотрела на отца. – Скажи, папа! – и весело рассмеялась.
Отец одобрительно кивнул головой в знак согласия и добавил:
– Подобный этому камень когда-то даже украшал знаменитую русскую шапку Мономаха.
– Если хочешь знать, Денис, этот камень мой папа подарил Монике неспроста. Всему виной его магические свойства. Он преображает, также развивает, подпитывает и возвышает. Я все правильно сказала, папа? – Клер снова засмеялась. – Главное, Денис, не перепутать себя с камнем. Разница в том, что в «чистых» камнях ищут не достоинства, а изъяны.
– Ну, хватит, – вмешалась Моника, – прекрати, пожалуйста, прошу тебя.
Она поднялась со стула, демонстрируя идеальную осанку и посылая всем нам улыбку.
– Нет, я скажу, – произнесла Клер, похожая в этот момент на блеклого мотылька, сидящего на цветке рядом с шоколадницей, и своим убогим туалетом оттеняющая блеск гардероба своей мачехи, – этот камень имеет магическую силу! В древние времена… – тут Клер немного запнулась. – Денис, слово «шпинель» должно быть тебе знакомо, ты же все знаешь о древних временах. Ты так часто говорил о ристаниях колесниц и о «спинах» римских цирков, украшенных диковинной скульптурой, в том числе египетскими обелисками, похожими на иглы или шипы, – она пожала плечами от нетерпения, глядя в мои равнодушные глаза. – Так вот, слово «шпинель» произошло от уменьшительной формы того самого латинского слова «spina», что означает «шип». Кроме того, это талисман любви и верности, а еще… – Клер подмигнула мне, – красная шпинель – мощный стимулятор сексуальной энергии, даже рождает тягу к разврату. Мой папа сказал, что такой камень он мне никогда не купит, и не потому, что он дорого стоит, а потому что рубиновую шпинель рекомендуют прятать от подростков. Но я уже давно не подросток, а папа все считает меня таковой.
– Прекрати, дочка, – прервал Клер отец. – Ну вот тебе результат, мы сами разрешили ей выпить вина.
Его слова прозвучали упреком жене, которая не противилась желанию Клер немного выпить вместе с нами.
– А ты, Денис? – Клер встала со стула и, подойдя ко мне сзади, обняла за плечи. – А ты подаришь мне такой камень?
Отец взглянул на дочь с упреком и даже с плохо скрываемым презрением к тому, кто возможно нравился ее дочери, и я понял: его страхи за дочь, что она снова западет на очередного негодяя, до конца еще не рассеялись.
– Да шучу я, папа, шучу, неужели ты не видишь, – и Клер вернулась на место.
– Слава богу, что ты шутишь, Клара, – с улыбкой заключил хозяин и предложил перейти к десерту.
Сославшись на диету, дамы единодушно отказались. Их нежелание разделил и я, отказавшись и от кофе. Мне было достаточно глотка простой воды.
– Папа, ты не будешь возражать, если я отведу Дениса на чердак и покажу наши русские древности, – сказала Клер, заранее уверенная, что отказа не последует.
Господин Росси только улыбнулся и беспомощно развел руками.
– Наслаждайтесь, – пожелал он нам без насмешки.
Она по-детски решительно взяла меня за руку и повела к широкой мраморной лестнице на второй этаж, покрытой ковровой дорожкой. Там в конце коридора в кирпичной стене, задрапированной гардиной, находилась совсем небольшая дверь. Узкая чугунная лестница, что вела на чердак, слегка подрагивала при каждом даже осторожном шаге, отчего деревянные поручни, неплотно прилегающие к решетчатым перилам, глухо постукивали в проемах. Запах заброшенного помещения был едва ощутимым, а деревянная чердачная дверь открылась совсем бесшумно. Крашеный пол был чист и не скрипел под ногами. Мы надели наши куртки, которые предусмотрительно взяли с собой, и прошли в середину вместительной комнаты, где стоял старинный прямоугольный стол и два полинялых кресла с резными ножками. Тусклый свет проникал через небольшие круглые окна, но было не настолько темно, чтобы спотыкаться о расставленные повсюду на полу чемоданы и диковинные предметы интерьера с частями старой, пришедшей в негодность мебели. Клер щелкнула выключателем, и мягкий свет изящных светильников, развешанных на стропилах крыши, превратил чердак во вполне милое уютное помещение.
– Прикольно! – сказал я, едва оглядевшись, лелея однако надежду как можно скорее покинуть чердак. – Ты здесь часто бываешь? – обратился я к Клер, которая уже успела плюхнуться в кресло, взметнув облачко теплой пыли.
Она уперлась локтем в угол массивной столешницы, подпирая веснушчатую щеку худой ладонью, и смотрела на меня немигающими кукольными глазами.
– Совсем не бываю, а зачем? Рыться в пыли?
– Но здесь такой порядок, выходит, кто-то сюда часто заглядывает?
– Да кому здесь что нужно? Просто папа попросил прислугу хоть немного здесь убраться к твоему приходу. Я придумала, что ты хочешь посмотреть на русские древности.
– Угу, – промычал я, наконец поняв, что имел в виду господин Росси, когда сказал: «наслаждайтесь». – Слушай, хватит выдумывать про меня всякую хрень. Ты меня реально достала своей чрезмерной похвалой. Папаша твой уже, должно быть, смекнул, что у тебя это неспроста, а я профессиональный соблазнитель, прибывший из варварской страны. Я белкой здесь сегодня кручусь, чтобы отмыться от его навязчивых подозрений.
– Что поделаешь, – вздохнула Клер, смиренно разводя руками. – Он гордится своим древним родом и охраняет меня от случайных знакомств.
– Знаешь, дорогая моя, благородные семьи, как античные цивилизации, обречены на вымирание, если не рисковать и вовремя не вливать свежую кровь, так что его потуги смехотворны.
– Надеюсь, ты сказал ему об этом?
– Зачем? Если он этого до сих пор еще не понял, то поздно, и не надо его в чем-то переубеждать.
– А ты циник.
– Ты мне об этом уже говорила.
Чемоданы, что стояли вдоль стен, на вид были действительно очень старыми и видимо, сделанными из фанеры. Я приподнял самый маленький и положил его на стол, чтобы развязать веревку, которой он был перетянут.
– Будь осторожен, – забеспокоилась Клер, – его, наверное, не открывали лет сто.
– А что в нем? – поинтересовался я на всякий случай.
– Книги разные, газеты, гравюры, может быть, фотографии, – равнодушно произнесла Клер, продолжая сидеть в той же позе. Я сумел быстро развязать несложные узлы и осторожно поднял крышку. Пыль ударила мне в нос, перехватив дыхание, как слезоточивый газ. Я принялся беспрерывно чихать, прикрывая рот ладонью. Клер была в восторге. Она весело смеялась каждый раз, когда я в очередной раз заходился в неистовом чихе.
– Что здесь смешного? – сердился я, сморкаясь во влажный платок.
– Ты будто плачешь! Посмотрел бы ты на себя со стороны, бедный! У тебя прямо текут слезы. Ты выглядишь таким беспомощным. Раньше я тебя таким не видела, – оправдывалась Клер, хотя и сама на всякий случай держала перед носом платок.
В чемодане были сложены книги Чехова, Короленко и Бунина на русском языке, отпечатанные на дешевой бумаге в местных типографиях, какие-то мелкие гравюры и много пожелтевших фотографий с незнакомыми мне лицами. Я закрыл его и поставил на место.
– Послушай, Клер, обратился я к девушке, – все это, конечно, интересно, но если я поочередно буду раскрывать все чемоданы, то скоро превращусь от пыли в серую мышь. Я лучше как-нибудь еще раз загляну к вам, но уже в подобающей одежде, чтобы покопаться здесь основательно. Кстати, твоя одежда сегодня как никогда соответствует нашим занятиям.
Клер не обиделась, но вдруг забеспокоилась, поспешно вскочив с кресла.
– Нет, раз уж пришли, давай, я сама тебе кое-что покажу, – она не стала ждать моего согласия, а отправилась в дальний конец чердака и принесла оттуда сразу две написанные маслом картины с изображением женских лиц, обе в старинных деревянных рамах. Пока я, теряясь в догадках, всматривался в незнакомые черты, Клер прикатила небольшую деревянную тележку, на которой возлежал хорошо выполненный мраморный бюст мужчины с небольшими сколами, лицом похожий на одного из братьев Орловых. От неожиданности я привстал с кресла и ладонями дотронулся прохладного сероватого мрамора.
– Это действительно достойная находка. Если бы только это был Шубин, – тихо сказал я себе под нос по-русски, испугавшись сам своей смелой догадки.
Клер обратила внимание на мое волнение.
– Это еще не все, – сказала она обрадованным голосом. – Там в больших коробках сложены другие картины и гравюры. Есть еще один мраморный бюст, но его надо погрузить в тележку. Мне одной не справиться.
Клер поначалу сидела на корточках, как арабчонок, а затем и вовсе расположилась на полу перед моим креслом, подобрав под себя ноги.
– Мы с папой об этих людях совсем ничего не знаем. Это, наверное, какие-то русские, да?
Я не знал, что ей ответить. Она сидела совсем рядом со мной и без стеснения смотрела мне прямо в глаза, как будто хотела прочесть в них ответ на свой вопрос. Наверное, стоило подняться с кресла и отправиться наконец восвояси, но я все смотрел и смотрел в ее огромные насмешливые глаза.
Она была не красавица. Нос немного вздернут, рот крупноват и скулы выступали чуть заметнее, чем полагалось. Но на это лицо хотелось смотреть. В нем была жизнь и чувственность. Особенно мне нравилось, когда она, слушая меня, охватывала шею ладонями и как-будто подпирала ими голову. Тонкая хрупкая девушка с вьющимися рыжими волосами по-детски державшая рот приоткрытым… Может, все же прав был ее дорогой папа, уверявший меня, что я плохо ее разглядел. Сказал так, словно я подсматривал за ней в замочную скважину, когда она принимала душ. Если бы немного поработать над этим лицом – придать форму бровям, подвести глаза и накрасить губы – какой мог бы получиться типаж. Я невольно улыбнулся. Снять бы с нее этот чертов мешковатый свитер с рукавами, почти закрывающими кисти рук, джинсы, едва державшиеся на ягодицах, хоть раз взглянуть на ее ноги, вечно обутые в рыжие башмаки, тогда можно было бы судить о ее достоинствах сполна.
Клер продолжала смотреть мне в глаза и вдруг, как будто прочтя мои мысли, неожиданно спросила:
– Ты что, куда-то спешишь? – и не дождавшись ответа, задала новый вопрос: – Кстати, а где ты вчера был весь день? Мобильник твой был отключен. Я ведь заезжала к тебе домой, – она прищурила глаза и засмеялась.
– Зачем? – простонал я, перестав гладить мраморное изваяние.
– Просто хотела еще раз удостовериться, что ты не изменил намерений приехать к нам сегодня. Открыла мне дверь габаритная арабка, по всей видимости, горничная, а твой йорк сиротливо сидел посреди ковра. Эта мадам была явно недовольна моим появлением и с ужасающим акцентом сообщила мне, что ты будешь только поздно ночью.
– Точно. Это была алжирка по имени Софи Бутелла. Разве ты не узнала ее по фигуре? – на что Клер весело засмеялась. Так звали парижскую уличную танцовщицу брейк-данса с точеной фигуркой, и ее имя знала вся продвинутая французская молодежь.
– Так где же ты был? – не унималась она, продолжая недоверчиво смотреть на меня.
– Летал в Венецию. Рано утром улетел, ночью вернулся.
– Один? – вопрос был нетактичным, что меня неприятно покоробило.
– Ну а с кем? Конечно, один. Друзей у меня здесь нет, – ответил я нехотя.
– А я? – она снова округлила выразительные смешные глаза.
– Ты лучше не забывай ходить на лекции, – назидательным отцовским тоном осадил я ее, еле скрывая раздражение.
– Что-то верится с трудом. Между прочим, лекции я никогда не прогуливаю, – с обидой ответила она. – Может быть, я не такая талантливая, как папа, может, не такая умная, как он, но меня папа называет перфекционисткой, потому что я всегда все делаю «comme il faut», – после некоторой паузы она добавила тихим голосом: – Думаешь, я не знаю, что в Венецию в одиночестве никто не летает, да к тому же на один день. Ты не топ-менеджер крупной компании…
Я мог бы промолчать, но почему-то сразу сказал:
– Мне нужно было побывать на площади Сан Марко и попробовать ответить на кое-какие вопросы истории, или, точнее, археологии, пока эту площадь снова надолго не затопило водой. Ты знаешь, что там это частое явление в это время года.
– Но это же неправда, – добивала меня Клер. – Какие в Венеции раскопки? Туда едут романтики, влюбленные, наслаждаются красотой города. За несколько часов там просто ничего не увидишь, не так ли, Денис?
Она выглядела расстроенной и какой-то растерянной, и я попытался ее успокоить.
– Я тебя не обманываю. Боюсь, что у тебя развивается venus distrodius.Это нервное переутомление, которое рождает у людей сомнения и недоверие. Я уже тебе говорил, что никого не посвящаю в свои мысли, которые касаются науки под названием история, поскольку я давно убедился, что ее чертоги мало интересуют окружающих, особенно, если углубляться в детали.
– Может быть, Денис, но звучит это как-то неубедительно, – несколько притворно вздохнула Клер.
– Ты считаешь, что неубедительно? Уж кому-кому, только не мне притворяться, особенно после твоих признаний, как ты завлекала меня сюда всеми правдами и неправдами. Кстати, все хотел спросить, где твой папаша сейчас работает?
Мой неожиданный вопрос ее нисколько не удивил. Она даже улыбнулась, изумляясь моей недогадливости.
– Он богат! – ее чрезмерно лаконичный ответ выдавал в ней трезвый расчет.
– Вот видишь, какая у него завидная работа! А ты передо мной разыгрываешь Золушку. Спрашивается, зачем? Тем более, так неубедительно. Быть может, для богатой девушки в этом мире цинизма быть хорошенькой дурочкой сейчас выгодно. Но ты не дура, ты перфекционистка, так, кажется тебя называет твой отец?
Я положил на ее колено свою руку без какой-либо задней мысли.
– Клер, уверяю тебя, история в отличие от любви не требует партнера. Ты находишься под впечатлением навязчивого Голливуда и туристов типа Джонни Деппа и Анджелины Джоли. Ты же будущий психоаналитик, а не юрист по криминальному праву. Так имажинируй шире, а не путайся в сетях психоанализа, отчаянно добиваясь моего внимания.
Клер погрузилась в сосредоточенное раздумье. Тонкий свист ветра в оконных рамах и молчание моей собеседницы выводили меня из терпения. Она наконец поднялась с пола и села в кресло напротив меня.
– Ну что ж, дорогой, давай имажинировать вместе. Может, ты мне даже и поможешь. Сейчас в университете мы проходим теорию психоанализа по Фрейду, так называемую психологию обыденной жизни. Точнее, психологию сексуальности. Я изучаю природу и свойства полового влечения. Наконец-то я выбрала для курсовой работы сексуальный объект и приступила к изучению его отношения к сексуальной норме.
– Вот как? – удивился я. И как далеко ты продвинулась в своем изучении?
– Совсем недалеко, к сожалению, – сказала она вполне серьезно. Это требует детального исследования.
– Звучит интригующе, – я еле сдержал смех, настолько наивными мне показались ее рассуждения, – тогда просвети меня, на ком конкретно ты остановилась, кто твой объект?
– Как это кто? – удивилась моей недогадливости Клер, – конечно, ты! Разве не понятно? Русский турист со своими «тараканами» в голове, летающий из Ниццы в Венецию на один день. Так вот, сейчас я исследую понятие сексуального фетишизма как разновидности сексуального поведения и пытаюсь ставить на тебе свои опыты согласно определенным моделям для того, чтобы установить, является ли твой фетишизм социально приемлемым или имеет патологию.
Похоже, я слишком широко раскрыл глаза, отчего теперь Клер стала давиться смехом.
– Чего ты несешь? – я толкнул ее колено, как бы желая привести в чувство реальности.
– Послушай, Денис, фетишизм это достаточно распространенное явление, как в социальном, так и в медицинском смысле. Меня же интересует его патология, то есть отклонение от нормы, когда фетишизм становится препятствием для нормальной половой жизни и может причинять страдания. Но гораздо больше меня интересует состояние, обратное фетишизму, то есть анти-фетишизм, когда определенный элемент внешности или какая-то вещь становится подавляющим фактором для сексуального влечения.
Почему-то мне сразу вспомнился эпизод с грязной обувью у Баталова, вызвавшей нескрываемое чувство брезгливого отвращения и подавления всякого интереса к мужчине у Алентовой в фильме «Москва слезам не верит».
Произнесённые слова девушки заставили меня напрячься.
– Не понял, а причем тут я?
– Мне казалось, ты все схватываешь на лету, даже можешь читать мои мысли, – она говорила предельно серьезно, выражение её лица изменилось, она как будто резко повзрослела. – Вот тебе простой пример. Мы познакомились с тобой в парке университета. Так?
Я напряженно кивнул головой, и она продолжила:
– По твоему взгляду я сразу заметила, что моя одежда, ботинки, коротко постриженные не накрашенные ногти на руках, даже велосипед не вызывали у тебя никакого интереса. По выражению твоего лица было видно, что ты был готов просто убежать. Мне бы к следующей встрече принарядиться, ведь так поступают в подобных случаях почти все и не только девушки, чтобы постараться изменить твое отношение ко мне и вызвать хоть некоторую симпатию, но тогда бы мой эксперимент закончился, так и не начавшись, либо был бы несколько неполным. Я искала с тобой встречи, может быть навязчиво, чтобы удостовериться в степени твоего сексуального отвращения ко мне, насколько ты терпим, и есть ли в этом патология. В следующий раз к нынешнему твоему приходу я упросила свою мачеху Монику, с которой у меня доверительные отношения, вырядиться так, чтобы максимально привлечь твое внимание и понаблюдать за твоим поведением. Теперь все ясно?
Она без улыбки, не заигрывая, так же толкнула меня в колено.
– Вот видишь, в нескольких фразах, схематично, я попыталась раскрыть тебе природу сексуального анти-фетишизма и его противоположности как разновидности сексуального поведения, при котором источником полового влечения становятся неодушевленные предметы. Отец, наверное, рассказывал, что у меня в прошлом был друг. Он был мне так дорог, что я была готова исполнять любую его прихоть, а он, не отставая от друзей с крутыми подружками, требовал от меня надевать на вечеринки туфли на шпильках, колготы в сетку, мини юбки. К тому же была у меня одна проблема, которая досталась от родственников, думаю, от бабушки по папиной линии – не по годам соблазнительная грудь, что постоянно вызывало насмешки его друзей. Как назло, все мои подружки «плоскодонки», а у меня вот – и она руками приподняла складки широкого свитера. Друг уехал учиться в Америку, и мы прекратили всякую, даже электронную связь. Не хочу, чтобы за мной бегали эти озабоченные уроды и свистели вслед, как этой Малене в нашем кино. Вот я и стала носить всякие дурацкие свитера.
Привстав с кресла, она растянула широкие рукава и приняла кукольную позу Арлекина из сказки про Пиноккио. Робко заглядывая мне в глаза она явно искала сочувствия. Только зачем ей это было нужно я не понимал.
– Странно все это слышать от тебя, Клер, особенно сейчас, в эпоху повального увлечения психотерапией. Я думал, что все девушки по мере созревания только и молят Бога даровать им красивую грудь да стройные ноги в придачу, а у тебя все как-то наоборот получается. Может тебя заботит зависть подруг? Обладая от природы такими достоинствами, плюс твоим изворотливым умом, ты могла бы легко подчинить любого своей воле, вместо того чтобы потакать прихотям своих сверстников.
Меня так и подмывало спросить ее, не приходилось ли ей, разумеется, по прихоти ее друга, еще и позировать для откровенных мужских журналов. В самом деле, а почему бы и нет? Может, и интерес ее к изучению понятия фетиша проснулся вовсе не от любви к познанию работы мозга, а от любви к познанию своего тела, как это получилось у неотразимой Диты фон Тиз в соответствии с ее гламурной фетиш-эстетикой. Но поразмыслив, я не посмел тревожить душу девушки, так нарочито демонстрирующей мне свою притворную фригидность, а задал совсем другой вопрос, может быть, прозвучавший не совсем в тему:
– А почему тебя назвали Кларой? Как-то не очень по-французски. Ты говорила, что твое имя означает «ясная», правда сейчас ты мне все больше становишься не ясной.
– Это был папин выбор. Они с мамой, когда были молодыми, любили ходить в кино на фильмы с ББ.
– Брижит Бардо?
– Да. Особенно «Les Femmes» – «Женщины». Он им очень нравился. Там ББ с каким-то писателем едут в поезде из Парижа в Рим в спальном вагоне. Видимо, моим родителям это что-то напоминало. Так там героиню ББ звали Клара. Кстати, папа говорит, что я ему сейчас иногда ББ напоминаю.
Она замолчала и, подняв худые руки к затылку, расчесала волосы пальцами, как гребешком, потом собрала в кулак на макушке и отпустила. Очертания ее действительно завидной груди не ускользнули от моего внимания. Во всяком случае, мне было ясно, почему на нее западали падкие на девичьи прелести похотливые сверстники. Она поймала мой застенчиво-взволнованный взгляд, отчего я сразу вспомнил о своей роли подопытного кролика, втянутого в ее научную игру под названием «фетиш», о чем раньше я и предположить не мог. Немного помолчав, она окинула меня взглядом и сказала:
– А я догадываюсь, почему ты спросил о моем имени, – и по-детски показала мне язык.
– Ну-ка!
– Ты думал, что папа назвал меня в честь красавицы Клары Петаччи, последней любовницы Бенито Муссолини, которая закрыла его своим телом во время расстрела. Признайся, я угадала?
– Да, – сказал я.
При всей моей природной скрытности я вынужден был признаться, что такая мысль действительно посетила меня при виде привычки Дино вставать в позу великого Дуче.
– Знаешь, Денис, мой папа был очень рад, что я изменилась. В прошлом году в Милане к нам в гости заезжал сам Марио Сорренти и даже хотел меня сфоткать.
– Да? А кто это, – спросил я.
– Друг мой, ты начинаешь меня разочаровывать. Не знать Сорренти! Посмотри в интернете. Попасть к нему в объектив для многих даже очень успешных людей считается за счастье. Так вот отец категорически отверг желание своего старого приятеля, хотя кто не хочет попасть в сферу интересов Марио.
– Он тебя бережет, как старое вино.
– Сравнение неудачное, но он действительно меня бережет.
– Извини, но бутылка-то уже откупорена!
Клер вспыхнула и бросила на меня испепеляющий взгляд.
– А теперь, – быстро успокоившись, сказала она, – я постараюсь тебе объяснить, почему меня интересует древняя история. Это, пожалуй, можно назвать следующим этапом моих познаний фетиша. Одно время с точки зрения современной медицины считалось, что фетишизмом страдают как правило мужчины. Было ли так всегда? Например, в древнем Риме женщины не имели в своем гардеробе корсетов, перчаток, лакированных туфлей на шпильке или колготок в сетку и ажурных трусиков. Тогда спрашивается, какие фетиши вызывали страдания у мужчин в древнем Риме? Я так и не нашла ответа. Зато проявление фетишизма у женщин тогда имело большую частоту. Такие фетиши, как мощная мускулатура или оволосение на теле мужчины овладевали женским сознанием повсеместно. Мускулистое тело гладиатора или волосатого варвара становилось все больше и больше желанным даже для немолодых матрон, в то время как их прославленные в кровавых сражениях мужья не желали качать мускулатуру на стадионах, а редкие волосы на груди, руках и ногах они беспощадно выщипывали, как дань моде и традиции. Не заметить, что сексуальный фетишизм был тесно связан с фетишизмом религиозным или суеверным, невозможно, хотя, разумеется, у них есть различия, но сейчас речь не о них. Встречаются случаи, когда фетиш доходит до форменного культа в смысле чувственного наслаждения. Такое наблюдается только в двух родственных психических областях: в сферах религиозного и эротического ощущений и представлений. Так, религиозному фетишу суеверным образом приписываются особые свойства – либо чудотворные, либо предохраняющие в форме реликвий или амулетов. Своими корнями фетиш уходит в древний мир. Что такое фетиш применительно к языческой культуре древнего Рима? Ты же сам мне втолковывал, что Рим второго века это империя с огромным числом неодушевленных предметов, наделенных в представлении верующих сверхъестественными свойствами, которые и служили объектом религиозного культа. Управление религиозным фетишизмом в древнем Риме через призму закона и является, как я понимаю, предметом твоего интереса?
– Да, это так.
Должен признаться, что после этих слов я стал смотреть на Клер другими глазами и с большим интересом.
– Так все-таки зачем ты летал в Венецию? – снова задала мне тот же вопрос настойчивая девушка, сменив тон на дружески-задушевный.
– Дорогая Клер, – я выдержал долгую паузу, откинувшись на спинку кресла и положив ногу на ногу, как чопорный англосакс, а затем глубокомысленно произнес по-английски:
– Don’t anticipate problems that don’t exist.
– Если это действительно так, – сказала Клер, тем более, расскажи!
– Но быстро не получится! Этой истории нужно посвятить время.
– Ты что, спешишь? – она задала этот вопрос уже во второй раз, и я понял, что проще будет рассказать, даже если на это придется потратить не только много времени, но и нервов в качестве платы за ее гостеприимство и хлебосольность.
– Ну хорошо, – смирился я, поняв, что планы на вечер можно не строить.
Но, похоже, избалованную Клер мое настроение мало волновало. Она смотрела на меня, но была погружена, как казалось, в свои мысли. Я налил в стакан воды из пластиковой бутылочки, кем-то предусмотрительно поставленной на стол, и выпил ее, мучимый жаждой после острого буйабеса.
Мне пришлось начать издалека, чтобы быть правильно понятым.
– Мой отец собрал у себя в доме в Вильфранше много разных предметов, на взгляд коллекционера не связанных друг с другом: книги, монеты, коллекцию дорогих часов, редкие рисунки фантазий знаменитого Клериссо, картины с сюжетами на античные темы самого Альма-Тадема, антикварные фотографии и просто красивые вещи, другими словами все, что он по крупицам скупал в антикварных лавках через своих агентов. Я давно собираюсь привести их хоть в относительный порядок, систематизировать, разложить, что называется по полочкам. Например, он много лет собирал артефакты времен Александра Македонского, потратил на эту прихоть кучу денег. Только книг на тему Александра Великого в его библиотеке было больше тысячи томов. Монеты, бронзовые бюсты, древние цветные мозаики, даже совершенно никчемный цветной рекламный плакат с изображением лучших моделей швейцарских часов, который до сих пор висит у него на двери кабинета. Причем хронометр «Сан-Марко» от фабрики «Улисс Нардан» был помечен на нем жирным фломастером и рядом поставлен восклицательный знак с ремаркой «крылатый лев». Так вот, в верхнем ящике его письменного стола я обнаружил эти часы с золотым браслетом, а на задней крышке этих часов изображен крылатый лев, но что отец хотел этим сказать, я тогда еще не понимал. Отец собирал и средневековые карты древнеегипетской Александрии и озабочен был навязчивой идеей обнаружить хоть какие-то следы Мавзолея с телом Македоского царя.
– А зачем ему, богатому банкиру, нужно было все это собирать, – не удержалась Клер, перебив меня.
– Зачем? Могу только догадываться. Возможно, это было его страстью, а жить без страстей нельзя. Отец был человеком со своим закрытым внутренним миром. И еще, наверное, в каждом человеке, обладающем историческим мышлением, спит романтик.
– А в тебе романтик когда проснется? – в ее вопросе содержался упрек, но я не поддался на провокацию, хотя если от рассказов историка не веет романтикой, какой тогда к черту он историк? Она была права, задавая мне этот вопрос. Я заглянул ей в глаза, повинуюсь скорее инстинкту самосохранения, чем основному, и только затем изрёк:
– Знаешь, Клер, в Риме в обеденное время на Пьяцца дель Попполо в кафе и пиццериях собирается много праздного люда. Площадь радует глаз, и я, преломляя хлеб со всеми вместе, задрав голову к вершине обелиска Рамзеса II, когда-то стоявшего в самом центре Большого цирка, пытаюсь оживить в своем сознании картину великих ристаний древности под рёв разогретой публики. Много ли из тех людей, что сидели рядом со мной, испытывали подобную потребность вызвать в своем воображении картины прошлого? Их немного, но они есть, иначе зачем на всех известных площадях Рима установлены эти египетские обелиски, предназначение которых, как мне кажется, притягивать из разумной оболочки земли – ноосферы, сакральные звуки прошлого. Римские императоры, которые сумели привезти в Город эти тяжеленные антенны космического разума, ничего не боялись, кроме гнева богов. В них вселялась непоколебимая уверенность, что им все можно. Мысль, что они совершают религиозный проступок, их не тревожила, потому что они воспринимали свой Город как великий храм всего мира, куда можно свозить и египетские обелиски, и еврейские серебряные трубы, и греческие древние скульптуры богов. Существование этих артефактов создает мечтательное умонастроение, которое заставляет снова переживать приключения прошлого. Впрочем, Клер, давай эти мои романтические рассуждения отложим в сторону и сосредоточимся только на Александре, поскольку моё посещение Венеции было связано с именем этого древнего царя. Хорошо?
Не скрою, мне хотелось увидеть в ее глазах ответную заинтересованность.
– Как знаешь… – Клер казалась отрешенной, что совсем не облегчало мне задачу ответить на ее же вопрос, но я уже закусил удила, и мое воображение полностью овладело моим сознанием.
– Так вот, Александр Македонский был не просто великим завоевателем. Он оставался живым Богом для многих народов на протяжении веков. Даже в Древнем Риме в конце II века нашей эры статуй с его изображением было гораздо больше, чем изображений всех двенадцати Богов из олимпийского сонма. Его вещи, что сохранились в Мавзолее, были настоящими священными фетишами, на которые молились не только простые люди. Римские императоры, начиная с Юлия Цезаря и Октавиана Августа, приезжали в Египет, чтобы постоять у гроба Александра. Каждый хотел прикоснуться к его лицу или доспехам, веря в сверхъестественную силу этого фетиша.
Древний Рим. План города
Клер привстала с кресла и, как школьница, затрясла чуть поднятой над головой ладошкой, прося разрешения задать вопрос, а я, как строгий учитель, кивком головы позволил ей это сделать.
– Я где-то читала, что его тело лежало в прозрачном гробу, наполненном медом, только есть ли в этом хотя бы доля исторической правды?
Она снова села в кресло, подогнув ноги под себя.
– Безусловно, правда об Александре с веками обросла легендами. Подлинных исторических фактов сохранилось не так уж много, но именно они и волновали моего отца. А месторасположение его гробницы до сих пор не известно и с годами превратилось в увлекательную головоломку. Публикаций на эту тему было много, но они не имели серьезного научного значения. Отец тоже не избежал искушения приобщиться к поиску захоронения. Он много раз приезжал в Египет и всякий раз брал меня с собой. Мы с картами в руках обошли почти всю Александрию пешком. Что мы знаем почти наверняка? Знаем, когда и где умер Великий Завоеватель. В Вавилоне тогда стояла невыносимая жара, и пока диадохи кумекали, что делать с телом царя, оно стало смердеть. В традиции древних народов было удалять мертвецов с людских глаз, а Александр, хоть и мнил себя при жизни отпрыском Зевса, оказался простым смертным и смердел, как все покойники, но не разлагался, о чем писал Плутарх и изумлялся Квинт Курций. В те времена мышьяк был известным ядом, но никто еще не знал, что если человека отравить этим зельем, то процесс разложения заметно замедляется, а посему древние писатели приписывали это странное явление божественной природе самого Александра. Еще один римский писатель Клавдий Элиан в своей «Пёстрой истории» упоминает о прорицаниях Аристандра из Тельмесса, известного мага в армии македонского царя, который призвал диадохов с почтением отнестись к телу Александра как к вместилищу его души, ибо боги поведали предсказателю, что страна, которая примет прах, будет процветать вечно. Тело тогда надолго забальзамировали, поскольку только через два года мастер Арридей смог изготовить гроб из чеканного золота и катафалк, своим видом достойный славы великого завоевателя. Когда все было готово, труп царя обложили благовониями, препятствующими разложению, и укрыли тело пурпурным плащом. Гроб покрыли золотой материей, а рядом положили его оружие, украшенное драгоценностями. Процесс перевозки тела из Вавилона в Мемфис подробно описан Диадором и рассказ этот, наверное, близок к истине. Из Мемфиса тело не отправили дальше, как планировали прежде, в Македонский царский некрополь, где был захоронен отец Александра Филипп и его родители. Только через два года тело царя из Мемфиса перевезли в Александрию, где Птолемеем было подготовлено достойное место. Точно известно, что это пересечение Каннопской дороги с улицей Сема. Дивной красоты мраморный мавзолей, был окончательно завершен только преемником Птолемея Сотера. Всё дело в том, что сейчас никто не знает, где в городе проходили эти дороги и где находился дворец самого Птолемея, откуда он ежедневно отправлялся по вечерам в мавзолей, чтобы воздать почести богочеловеку Александру. Страбон писал в своей «Географии», что тело Александра его друг и помощник Птолемей Соттер перевез в Александрию Египетскую в золотом гробу. Да, но сам Страбон видел уже другой гроб, а именно сделанный из прозрачного камня. Историк Светоний Транквилл писал, что император Август велел вынести тело Александра из святилища и осмотрел его, а в знак преклонения возложил на него золотой венец. Другой историк Дион Кассий дополнил скудную информацию Светония, отметив, что Август не только осмотрел, но и ощупал тело Александра, при этом повредив ему нос. Интересно, что когда Августу предложили осмотреть еще и усыпальницу Птолемееев, находящуюся поблизости, император ответил, что хотел видеть только царя, а не мертвецов. Выходит, Александр Великий оставался в памяти римских императоров живым царём или воплощением Бога. Последним, кто поведал грядущему поколению о сохранности тела Александра, был известный ритор IV века нашей эры из Антиохии Либаний. Он писал, что тело было выставлено напоказ в Александрии. Это случилось в 390 году нашей эры. Один из отцов церкви Иоанн Златоуст, ученик Либания в искусстве риторики, в самом конце IV века нашей эры переселился из Антиохии в Александрию и как-то, говоря о бренности мирской славы, обмолвился, что в городе никому уже не известно, где находится Мавзолей македонского царя Александра. Прошло всего каких-то десять лет с того момента, как Либаний сообщал, что тело Александра выставлялось напоказ, а выходит, уже забыли! Случайно ли Иоанн Златоуст это сказал или с умыслом?
– Короче, – подгоняла меня Клер.
Я делал вид, что не замечаю ее нетерпения.
– Пару дней назад я наконец понял, какое отношение имеет название швейцарских часов модели Сан-Марко и крылатый лев на их задней крышке к македонскому царю.
Клер поднялась с кресла и вплотную подошла ко мне, так что я ощутил тепло, которое источало её тело.
– Ну, и…
Я терялся в догадках, отчего она принялась меня подгонять, если мы никуда не спешили.
– Короче, – я вынужден был поторопиться и заключил: – Сан-Марко – это название площади в Венеции, крылатый лев – это символ святого Марка, а святой Марк – это покровитель Венеции.
– Ну и что это значит? – продолжала недоумевать Клер, закатывая глаза к потолку. – Каждый, кто был в этом городе на воде, знает эту прекрасную площадь и знаком с его символом.
– Да, но я никогда там не был и не знал об этом, но это далеко не главное, а главное то, что мощи святого Марка хранятся в базилике на одноименной площади. Интересно, где эти мощи взяли, если святой Марк – первый христианский епископ египетской Александрии – умер в середине I века нашей эры и до конца IV века никто и никогда о месте его захоронения ни словом не обмолвился. Клер, – обратился я к своему придирчивому и капризному слушателю, – ты как дочь знатока итальянских древностей, может быть, когда-нибудь слышала от него о гипотезе историка Эндрю Чагга?
Клер посмотрела на меня, как на чудака, и я не стал к ней больше приставать с расспросами, продолжив свой рассказ с упорством, которое возможно могло бы показаться моей слушательнице, достойным лучшего применения.
– Послушай, почему-то только в 392 году и никак не раньше некий святой Иероним, создавая в Вифлиеме жизнеописания известных людей, сообщил, что святой Марк был похоронен в Александрии. Ты, Клер, хоть начинающий, но психоаналитик, поэтому ты должна почувствовать близость совсем ничего не значащих дат: 390–392 годы. На самом деле, как мне кажется, в них заложен некий сакральный смысл. Послушай, милая, меня повнимательней, прошу тебя. Собственно, то, что Марк умер где-то в Александрии и похоронен своими единоверцами на кладбище неподалеку от нее, никакого отношения не имеет к Венеции. Общеизвестно, что святой Марк был евреем, а в городе, носившем имя Александра, насчитывалось в то время около миллиона жителей – по большей части греков, но почти 300 тысяч были евреями. Евреи проживали довольно компактно в отдельном квартале Александрии и, разумеется, хоронили своих христианских единоверцев на своей, а не на греческой территории, и предполагать, что Марка языческие эллины позволили похоронить в самом центре древнего города в так называемом Неаполе почти в том же месте, где как предполагают, и находился мавзолей Александра, было бы просто нелепо. Однако на поздних средневековых картах Александрии уже было обозначено точное место святилища святого Марка – чуть ли не на пересечении главных дорог великого города. Конечно, уместен был бы твой вопрос: а причем здесь Венеция?
В глазах Клер наконец-то появился ощутимый интерес. Это вселяло в меня оптимизм и надежду на ее сопереживание, иначе зачем я здесь, на чердаке, сотрясаю воздух. Мне действительно был нужен хоть кто-то, кто бы меня понимал, и я продолжил:
– Прошло восемь веков с даты смерти Марка, и однажды жители города-государства Венеции, превратившие его в крупнейший торговый порт всей Европы, пожелали, чтобы мощи их покровителя были перевезены к ним из Александрии, которая тогда уже была не только не языческим греческим городом, но и совсем не христианским. Город уже давно жил под властью мусульман, и попытаться вывезти оттуда не мощи, а почему-то уже целую мумию Марка, каким-то чудесным образом уцелевшую, было делом непростым. Католическая церковь до сих пор подробно информирует свою паству, каким образом удалось это сделать. Для визуального представления на фасаде базилики даже созданы мозаичные полотна, повествующие о процедуре возвращения мумии святого. Церковь утверждает, что мощи до сих пор находятся в венецианском соборе святого Марка. Клер, – обратился я снова к девушке, которая смотрела на меня скорее индифферентно, чем с интересом, – Клер, ты сомневалась, что в Венеции ведутся археологические раскопки. Мне жаль тебя разочаровывать, но это именно так. По результатам раскопок, производимых под основанием базилики, историк Чагг и выдвинул свою гипотезу. Дело в том, что обнаруженный под базиликой довольно большой по размерам каменный рельеф с изображением древнего щита и копья был явно значительно древнее этой церкви. На рельефе был изображен македонский щит с восьмиконечной звездой по центру точь-в-точь такой же, как на древних монетах времен Александра Великого. В коллекции моего отца есть такая монета с тем же изображением на реверсе. Я извлек из кармана джинсов кожаный портмоне и достав оттуда эту самую монету, протянул ее Клер.
– Бон, бон, бон, – процедила Клер так же, как делала когда-то моя школьная учительница. – И что же?
– Спрашивается, откуда в Венеции появился рельеф с древнего мемориального захоронения некого знатного македонца? Для здраво и логически мыслящего человека очевидна истина, что если совпадение по времени накладывается на совпадение по месту, то вероятность допустимого резко возрастает.
– Что ты имеешь в виду?
Она нервно вертела крошечную бронзовую монетку размером с копейку в своих тонких пальчиках и совсем не смотрела на меня.
– А то, что Эндрю Чагг предполагает и не без основания, что тело святого Марка и было телом Александра Македонского. Теперь понимаешь?
– Предположим, хотя звучит не очень убедительно, – она вернула мне монету, хитро прищурив левый глаз. – Ты что, все время носишь ее с собой?
Прежде, чем ответить, я аккуратно убрал монету на место.
– Я просто забыл ее выложить с утра по прилету. Кстати, цена этой монеты немного больше моего автомобиля.
Это мое дополнение никак не изменило ее безразличного выражения лица.
– Ты не подумай, Клер, что этот Чагг мистификатор. Почему записи о существовании мумии Александра после 390 года везде отсутствуют. Почему именно 390 год? А потому что именно в это время произошла революция в религиозной сфере. Много сотен лет жители Греции, Рима и Александрии поклонялись культам разных богов. После смерти Христа прошло 300 лет, когда римский император Константин принял христианство в качестве одной из государственных религий. В то время его исповедовало меньшинство населения римской империи. Безусловно, распространение христианства, которому покровительствовал сам Константин, отчасти объясняет причину исчезновения упоминания об Александре и утрату его гробницы. Но империя хоть и была уже по закону христианской, совсем не была христианской по сути. Приходилось долго мириться с существованием язычества. Только в конце IV века наступил критический момент. Гипотеза, что с разрушением серапиума и других храмов в древней Александрии в 390 году был разрушен и мавзолей, существует поныне. В то время переделывать храмы, присваивая им новые имена и переименовывать обряды из языческой традиции в христианские стало распространенной практикой. Многие языческие храмы по всему миру стали перепосвящаться в христианские, и мавзолей Александра мог легко превратиться в святилище Марка, так что гипотеза, что мощи святого Марка могут быть мощами царя-бога, и заставила меня спешно посетить прекрасную Венецию.
– Допускаю Денис, что с моей стороны, может быть, совсем не тактично осуждать твоего отца, но мне кажется несколько смехотворным уделять такое повышенное внимание поиску мощей Александра Великого. Такой фетиш для просвещенного прагматика, каким был твой отец, выглядит довольно примитивным.
– Не упрощай, дорогая. Отец мой не всегда руководствовался прагматическими соображениями. Его совсем не интересовали ни мощи, ни мумия, хотя с исторической точки зрения это необыкновенно интересно. Моего отца интересовал тот саркофаг из прозрачного камня, о котором писал Страбон. Помнишь ту прекрасную сцену из знаменитого фильма «Клеопатра» с Лиз Тейлор, когда Юлий Цезарь посещает усыпальницу Александра и плачет, глядя на прозрачный саркофаг, где покоится тело великого человека, которого все почитали как бога.
– Да, конечно, я этот фильм помню, и Тейлор для меня – великая актриса. Как же она мне нравится!
– Прости, – прервал я Клер, – но я совсем не об этом. Я о саркофаге. Посещал ли его Цезарь, из исторических источников доподлинно не известно, как и то, как выглядел на самом деле саркофаг. Джозеф Манкевич, режиссер этого фильма, особенно не заморачивался этим вопросом, и напрасно!
– Это что, еще один фетиш, предмет поклонения и обожания? – Клер шутила, и я на нее больше не сердился.
– Ты права в намеке на фетиш. Был ли саркофаг Александра объектом религиозного культа, наделенным в представлении верующих эллинов сверхъестественными свойствами, вызывающим трепетное поклонение, судить придется тебе, если ты терпеливо выслушаешь меня до конца.
Мне пришлось выдержать ее пристальный строгий взгляд.
– Я уже тебе как-то рассказывал, что мой отец, будучи в молодости бухгалтером Торгпредства Советского Союза в Ливии, вместе со мной и мамой прожил в Триполи почти пять лет. Это было в те годы, когда шестой флот США постоянно совершал налеты на крупные города Ливии, в наказание Каддафи за его политику утюжа ракетами арабскую землю с авианосцев, что базировались в итальянском Неаполе.
– Это когда было-то? – спросила Клер. – Лет двадцать назад или даже раньше? Меня тогда еще на свете не было. Она беспечно махнула рукой, как будто это было так давно, что и вспоминать смешно.
– Дорогая моя, – я улыбнулся в ответ на ее выразительную жестикуляцию, – тебя действительно тогда и в проекте, пожалуй, не было, хотя твои родители именно тогда, судя по твоим словам, все время ездили в поезде из Парижа в Милан и обратно. Смотрели фильмы с участием Брижит Бардо и ломали голову, как назвать ребенка, если сумеют его зачать. А я в то самое время с портфелем в руках бегал в посольскую школу или отсиживался в подвале в бомбоубежище, когда из Неаполя, в очередной раз загрузившись ракетами, отплывали американские корабли в сторону Ливии, чтобы превратить Триполи в руины, а под ними погрести и меня.
– Дурак ты, – взбесилась шалопутная Клер, при этом бросая на меня взгляд, от которого исходил романтический посыл.
– Может быть. Правда за такие слова т-т-трахнуть бы тебя здесь разок, да от твоих родителей визгу будет, что Москва услышит. Одно хорошо, что твой папаша не корсиканец и не будет напрягать меня вендеттой.
Я сказал это в шутку, желая только подразнить эту заносчивую студентку. В конце концов, разве не ее отец пожелал нам наслаждаться. Конечно, не стоило понимать его так буквально, а если только в качестве оправдания.
– А ты попробуй!
Она попыталась встать в позу ревностной католички, ярой защитницы нравственных принципов. Но что мне оставалось делать на этом пыльном холодном чердаке? Поддаться бесконтрольному импульсу и с особой злостью, бессовестно, с брутальным равнодушием сорвать с нее ненавистный мне свитер? Легко было сказать. Но ещё Чехов в своих дневниках предостерегал неокрепшие умы, что «тараканить» в таких условиях было делом не безопасным. Говоря по-французски, это «не ком иль фо». Надо было остыть и взять себя в руки. Хотя, предъявить бы ей за все мои распинания здесь счет да взять бы за все натурой, вот был бы ей фетиш! Но будучи в здравом рассудке, я успокоил ее:
– Ладно, не бойся, я не педофил!
Она задохнулась от гнева, а может быть, от моей наглой улыбки.
– Да я уже взрослая! – она перешла на фальцет. – Не смей так говорить!
Она и вправду была ненормальная дура, если могла допустить, что я, как безрассудный и похотливый болван, попадусь на ее крючок. Или я что, настолько беден, что у меня не найдется в кармане трехсот евро, чтобы найти на променаде знойную бразильянку, если так уж припрет.
– Я смотрю, с тобой и пошутить нельзя, а ты уже готова сбросить свитер. Давай договоримся сразу – либо ты меня внимательно слушаешь, либо мне пора домой отправляться. Твой сеанс психоанализа несколько затянулся.
– Хорошо, – простонала эта безрассудная девчонка. Ее бесшабашная энергия пошла на убыль, превращая Клер в само невинное и смиренное создание.
Если я правильно помнил, Фрейд утверждал, что неуверенная в себе женщина подсознательно всегда стремится к поражению.
Трудно было спускаться с небес снова к прозе жизни, но как строгий учитель, уверенный в своей правоте, я продолжил:
– Так вот, в арабской стране, которой Америка объявила блокаду, советским людям, неизбалованным излишествами, организовать свой досуг в Триполи было делом плевым. Сама понимаешь, если в универмагах полки пусты, а в увеселительных заведениях города запрещена продажа спиртных напитков и пива, ничего не остается, как играть в футбол на песчаных пляжах, либо читать книги дома под кондиционером. За долгие годы блокады американцы невольно привили нам любовь к чтению, к тому же книги исправно присылали с родины для реализации в посольском магазине. Однажды отец приобрел иллюстрированную книгу под названием «Античное искусство». С нее-то все и началось. В ней он вычитал, что Септимий Север, про которого мы мало тогда чего знали, был совсем не второстепенным римским императором. С древних времен земля, на которой мы жили в Ливии, называлась Триполитания. Наш город Триполи, носивший в древности название Эя, сохранил на своей территории только триумфальную арку, посвященную Марку Аврелию. Но вот два других города, расположенных на побережье неподалеку от Триполи, были с точки зрения археологов уникальными памятниками древнего Рима. Сабрата прославилась тем, что там в отличном состоянии сохранился древний театр, на подмостках которого выступал гениальный софист и писатель II века нашей эры Апулей со своей «Апологией». Эта его защитительная речь до сих пор является адвокатским шедевром. Написанная на латинском языке, она целое тысячелетие являлась учебником для познания римского права и изучения премудростей латинского языка, а его великий роман «Метаморфозы» или «Золотой осел» является самым читаемым романом древности, привлекающим внимание читателей до настоящего времени. Третий город – это Лептис Магна, где родился и вырос император Септимий Север, чья грандиозная по размеру и величию триумфальная арка стоит в самом центре Рима на Форуме по сею пору. В этом ливийском городе, засыпанном песком, рядом с разрушенным древнем маяком отец выискивал в бетонных трещинах, залитых морской водой, чёрные плоские металлические кружки, которые после очистки оказались римскими монетами. Понятно, что это были совсем не ауреусы, а мелкие медные ассы либо сестерции, но именно с них и началась его коллекция.
Сын Севера, известный под именем Каракалла, оставил о себе память не только кровавыми расправами по всей территории империи, но и самыми красивыми термами в Риме, которые носят его имя. Во многом благодаря Муамару Каддафи, лидеру ливийской революции, город Лептис Магна сохранил свой первозданный античный блеск, надолго отвадив корыстных археологов из Италии, Франции и Великобритании от окончательного разграбления его древних артефактов.
– Извини, что прерываю, но, пожалуйста, будь ближе к теме. Боюсь, что тебя относит течением все дальше и дальше от саркофага, – пошутила Клер.
– Да, дорогая, я говорил тебе много раз, что я зануда, а ты не верила. Ничего, терпеть осталось недолго. Давай вернемся к книге «Античное искусство», с которой, как я сказал, все и началось. В ней указывалось, со слов историка Диона Кассия, что император Септимий Север замуровал тайные письмена египтян в гробнице Александра Великого, чтобы никто кроме него не мог познать их скрытый смысл.
– Выходит, сам он сумел проникнуть в их сакральный смысл? – Клер снова прервала меня.
– Возможно. Дион Кассий писал, что Север изучил даже то, что держалось в тайне! Он правил империей целых 16 лет. За свою жизнь он сумел подняться из низов не спеша, ступенька за ступенькой, по карьерной лестнице, до высших гражданских и военных чинов империи. Был и легатом, и сенатором, сумел заслужить доверие Марка Аврелия и водил близкую дружбу с неуравновешенным и коварным Коммодом. В конце концов дослужился при Коммоде до наместника провинции. Женился Север на самой красивой и, пожалуй, самой умной женщине в империи и совсем не потому, что любил или страстно желал ее, а потому, что определил по гороскопу, что этой женщине предначертано свыше стать женой императора. Его ожидания сбылись: он стал императором на долгие годы, победив в гражданской войне троих своих соперников, не менее искусных воинов, познавших вкус к политической интриге в римском сенате. Северу досталась империя с пустой казной и пошатнувшейся дисциплиной в легионах, охраняющих границы империи. Он провел реформу армии, расширил границы своей империи в завоевательных походах и обеспечил Рим хлебом и маслом на много лет вперед, и всё это, конечно, вершилось совсем не для того, чтобы умирая, изречь: «Я был всем, и все это ни к чему?!» Кто бы мог тогда подумать, что его императорский триумф и арка, воздвигнутая на Форуме, будут последними в великой истории Рима… Мой отец, убежденный атеист, внимательно изучивший все исторические документы, связанные с именем Александра Великого, никогда не верил ни в сверхъестественную силу разума, ни сакрального артефакта, и был человеком, бесконечно далеким от религиозных предрассудков. Как прилежный ученик, он имел общее представление в объеме школьной программы о богах классического римского пантеона таких, как Юпитер, Марс, Юнона, Минерва или Меркурий. Однако когда он лично познакомился с древними городами исчезнувшей империи и побывал в самом Риме, он был удивлен, как довольно быстро за короткий промежуток времени от рассвета и до заката империи в римский пантеон вводились все новые и новые боги. Уже первый римский император Октавиан Август, принимая на себя сан великого понтифика, осуществил переход от культа богов к культу своей личности, заставляя свой народ еще и почитать гений императора. Принимая титул принцепса, первые люди государства, как и большинство людей их времени, сами довольно скептически относились к традиционным народным верованиям, нелепость существования которых была осмеяна не только красноречивым Лукианом. Любой из императоров, являясь одновременно и великим понтификом, вынужден был поддерживать старо-римскую религию с ее храмами, находящимися в полном запустении, и многочисленные жреческие коллегии, щедро обеспечивая их деятельность деньгами. В то же время великие понтифики последовательно вводили в римский пантеон и универсальных богов, потребность в которых выражали толпы перегринов[15] и вольноотпущенников, которые заполняли города по мере расширения границ империи и предоставления прав римских граждан все большему количеству бывших варваров. Если вера в олимпийских богов падала, то вера в сверхъестественное и чудесное была в высшей степени присуща всем слоям общества. Обостренный интерес ко всему чудесному проявляли в первую очередь сами императоры. За очень короткий срок многогранная религия Рима пополнилась таинственными и непонятными божествами, пришедшими из Египта и Малой Азии: Дионис, Великая Матерь богов Кибела, Митра, даже богочеловек Иисус Христос, а также Серапис и Изида. Слышать в Вечном городе призыв к гражданам чтить Изиду и Сераписа как величайших из богов-спасителей и благодетелей стало делом привычным. Население Рима первых двух веков нашей эры стало искать религиозное утешение в восточных культах с их таинственными посвящениями и мистериями, и почти утратило доверие к старым богам, испытывая к ним пресыщение. К тому же в то самое время римские жители познакомились с астрологией – таинственной наукой о звездах и быстро поверили в то, что небесные тела имеют душу, и в то, что жизнь звезд связана с жизнью людей, а по их расположению можно узнать свое будущее. В соединении с магией астрология принялась утолять человеческую жажду сотворения чуда. Все желали заглянуть в будущее и испить эликсир бессмертия, ну а если ты смертен, то хотя бы сохранить о себе память на долгие годы. Для этого императора Августа ваяли в камне и отливали в бронзе и золоте в образе Юпитера-громовержца, Коммод в памяти народной сохранился в образе Геракла, а отец его, Марк Аврелий – в образе Марса. Благодаря умелым рукам древних резчиков по камню лица императоров сохранились и на геммах, и на инталиях, которые много лет служили государственными печатями, сохраняя в памяти народа узнаваемые лики. В средние века эти печати перешли в руки европейских царей, которые продолжали пользоваться ими с той же целью, только по ошибке лик жестокого Коммода принимали за образ Христа, а лик кровавого Каракаллы сходил за образ апостола Петра. Но почему же последний выдающийся император эпохи принципата Септимий Север пожелал предстать перед народом в образе Сераписа, а его жена, первая красавица и умница Юлия Домна, осталась на много лет в памяти древнего народа в образе Изиды?
Я сделал паузу и многозначительно посмотрел на Клер.
– Север был прагматичным человеком, любил перечитывать Саллюстия, верил в астрологию и магию, преклонялся перед гением Ганнибала, злейшего врага республиканского Рима, устанавливая ему повсюду памятники. Однако на женщин смотрел только как на средство продолжения рода. Он любил природу и древности Египта, а Александрия благодаря ему наконец получила муниципальное устройство. Север считал, как, впрочем, и до него все императоры династии Флавиев, что все его великие достижения смогли осуществиться только благодаря покровительству Бога Сераписа. Но кто такой был этот почти никому не известный Серапис? По этому поводу один из отцов христианской церкви Тертуллиан, ровесник Севера, с негодованием писал, что, как ему казалось, «целая Земля кланяется Серапису». В дни своего пребывания в Египте Север тщательно осмотрел почти все интересные места и чудесные сооружения: и лабиринты пирамид, и говорящую статую Мемнона, доплыв по Нилу до Долины царей. Всюду, где только можно, он собирал тайные письмена, внимая наставлениям верховных жрецов Мемфиса. Увидел Север и испещренные священными письменами обелиски, возвышающиеся возле храма Сераписа в Александрии.
– Послушай, Денис, – прервала меня Клер, слегка покусывая губы, – как ты считаешь, умели ли римляне тогда разгадывать и читать египетские иероглифы?
– Думаю, что они обошлись без помощи розетского камня и догадок лингвиста Шампольона. Мы не знаем, кто и когда в древнем Риме первым перевел на латынь египетские иероглифы, но к примеру в книге историка Аммиана есть главы, где он упоминает никому до сих пор не известного Гермапиона, из книги которого он приводит греческий перевод египетского текста, высеченного на обелиске, который был установлен в Риме на Большом цирке. Так вот, – я провел рукой по лбу, как будто хотел прогнать навязчивую мысль, не дающую мне покоя, и продолжил: – Север вполне осознавал, что египетская земля является колыбелью религий, и жрецы тщательно охраняют основы священнодействий, заключенных в тайных письменах. Он знал, что Пифагор черпал свою мудрость именно там, и Анаксагор благодаря египетской мудрости мог предсказывать землетрясения, а как бывший юрист, Север знал, что великий Солон пользовался изречениями египетских жрецов, чтобы создать свои справедливые законы, которые оказали значительную помощь римскому праву. Даже Иисус, соперник Юпитера, герой достославной мудрости, тоже черпал из египетских источников священные знания. Посещая Мавзолей Александра, Север, разумеется, помнил ещё со школьной скамьи слова Сераписа, обращенные к Александру: «Здесь будешь ты умерший, но всегда живой… и всюду будут люди поклоняться тебе». Великий герой-завоеватель преклонялся перед ним при жизни и следовал его наставлениям. Серапис пророчил Александру, что его город возвеличится всеми благами, а он после смерти будет причислен к богам, и город Александрия будет ему усыпальницей. Север стал живым свидетелем исполнений пророчеств Сераписа. Но толмачи, лучших из которых всюду возил с собой Север, так и не сумели проникнуть в тайный смысл многих писаний, а также прочесть иероглифы, которыми был исписан с внутренней стороны каменный саркофаг Александра. Проникнуть в тайны бессмертия была цель не только Севера, но и всех римских императоров, посетивших этот Мавзолей. Возможно, от отчаянья Север приказал собрать все письмена, доставшиеся ему в путешествиях по Египту, и свезти их в Мавзолей, где и замуровать вместе с саркофагом, чтобы никто не смог до поры до времени проникнуть в их тайный смысл. Когда через несколько лет после смерти Севера его сын Каракалла снова посетил Александрию, то он своим повелением вскрыл усыпальницу своего кумира, бросив сначала ладан на алтари. Каракалла снял с себя пурпурный плащ, императорский перстень с драгоценными камнями и золотой пояс, и по словам историка Геродиана возложил их на гроб Александра.
Громкий голос Клер прозвучал, как медь, да так, что я вздрогнул до мурашек:
– А что же было написано на саркофаге? Неужели текст так и остался неизвестным?
– Известно лишь только, и то по слухам, что однажды один человек принес ветхий лист бумаги болгарской прорицательнице Ванге, чтобы она попробовала прочесть, что там было написано неизвестными иероглифами. Ванга отказала незнакомцу, но позже своей племяннице Красимире Стояновой сообщила, что эти иероглифы рассказывают о неких письменах, которые были начертаны с внутренней стороны гроба. Письмена эти якобы рассказывали о том, что было и что будет на Земле. Возможно, Ванга говорила именно о могиле и саркофаге Александра Македонского. Она заверила свою племянницу, что человечество еще не готово узнать эти истины. Так что, Клер, сама теперь решай, зачем моему отцу все это было важно знать.
– И ты веришь этой Ванге?
– Я верю Наталье Бехтеревой, а она занималась наукой и ничего не принимала на веру, всегда требовала строгих научных доказательств, до той поры, пока сама не встретилась с Вангой. Бехтерева сразу поняла, что Ванга способна излучать и принимать биопсихическую энергию. Наталия Петровна была тогда не в силах научно объяснить почему такое происходит, она сказала, что просто почувствовала это.
– А кто эта твоя Бехтерева?
– Это всемирно известный русский ученый, профессор и научный руководитель Института мозга человека в Петербурге. Ещё её дед, Владимир Бехтерев, учёный с мировым именем, изучал тайные возможности мозга, в том числе мозг Ленина, пытаясь разгадать тайну сверхчеловека. Он утверждал, что мысль материальна. Тайна бессмертия человека – вот что прежде всего интересовало римских императоров, но любой человек смертен! Бехтерева же интересовала тайна бессмертия человеческой личности, то есть его мыслей. Он утверждал, что мысль – это разновидность энергии, он называл это мировой энергией, а по закону сохранения энергии она не может просто исчезнуть, а сохраняется во времени и может принимать другие формы. Ведь так?
И я снова заглянул в ясные широко открытые глаза Клер, полные вдохновения и жизни. Она недолго сидела молча в какой-то нерешительности, прежде чем заговорить.
– Ты упомянул жену Севера, какую-то очень красивую и умную женщину, живое воплощение богини Изиды.
– Да, – ответил я, – Юлию Домну.
– А ты расскажешь мне про ту богиню, образ которой, похоже, тревожит тебя, являясь в сновидениях?
– Когда, сейчас? – спросил я, а сам изумился: откуда ей было знать, что я действительно часто вижу эту Домну в сновидениях?
От ее прямого взгляда мне стало неловко до растерянности, и вместо решительного отказа, я хмыкнул и улыбнулся, не выдавая своего смущения.
– Пожалуйста, хотя бы немного! – продолжала настаивать Клер.
Она поднялась. Ласковое прикосновение ее хрупкой руки к моему плечу как ни странно доставило мне удовольствие. От ее некогда скучающего вида не осталось и следа.
– Послушай, Клер, ты легко можешь воспользоваться интернетом и узнать довольно много об этой женщине и без меня.
– Я знаю, – вздохнула Клер. – Только от глубин интернета веет океанским холодом, а когда ты говоришь, в моем воображении она как будто оживает.
– Ладно, не льсти мне, не нуждаюсь, – я старался не смотреть на нее, чтобы моя ироничная улыбка не обидела ее. – Вот лучше взгляни, – и я достал из кармана свой смартфон. – Я фотографировал изображение Юлии Домны в десятках музеев Европы. Ездил в Мюнхен, Берлин и Париж, но только в Риме на Палатине я сумел найти ее совсем юное и безумно красивое изображение, выполненное в мраморе. Если бы не был поврежден нос, то это был бы настоящий шедевр, но даже в таком состоянии, как есть, можно понять, почему историки Рима так высоко отзывались о ее восточной красоте. Клеопатру тоже изображали в образе Изиды, но когда смотришь на Юлию, кажется, что она и есть Изида, неземной красоты царица. Греческие мастера не создавали подобных портретов. Реализм в творчестве римских ваятелей потрясает воображение, он лишен любой героизации, безжалостно сохраняя схожесть с оригиналом. Только благодаря римским мастерам мы можем понять, почему далеко не идеальная красота Клеопатры бросала к ее ногам Цезаря и Антония. Даже когда во времена принципата императоры и их жены стали по закону наконец обожествляться, это совсем не сказалось на реализме портретов. Их божественную сущность мастера передавали лишь с помощью позы и атрибутов власти.
Юлия Домна
Клер пристально всматривалась в те фотографии, что я показывал ей, и только когда подсветка экрана смартфона погасла, она спросила меня совсем серьезно, без намека на кокетство:
– А тебе не кажется, что ее лицо чем-то похоже на мое?
– Не думал, – честно ответил я, но, заглянув ей в глаза, добавил: – Вполне может быть.
– Что если тебе попробовать написать о ней повесть или роман?
– Попробовать можно, – промычал я лениво. – Признаться, был однажды момент временного помешательства рассудка, и мне захотелось написать что-то. Писатель, правда, из меня никудышный, да и кто будет читать? Впрочем, всегда можно сжечь, хотя бы для того, чтобы доказать своей бабушке, помешанной на Булгакове, что рукописи горят.
Я поднялся с кресла с решительным намерением наконец покинуть чердак.
Почему-то став хмурой, как ненастный день, Клер не удерживала меня больше, и, отойдя в сторону, лишь тихо спросила:
– Ты сейчас куда, домой?
– Да, писать повесть или роман, в общем, как получится, – буркнул я.
– Ты серьезно? – не оценив шутки, недоверчиво улыбнулась она.
– Шучу, конечно.
– Ты просто невыносим! – почти по-детски капризничала Клер. – Дашь потом почитать?
– Давай не будем торопиться, – произнес я сухо.
Она пошла вслед за мной, больше не проронив ни слова. Ее папаша, видимо, успокоившись на мой счет, предпочел нас не дожидаться и закрылся у себя в кабинете. Тишину большого дома нарушил бой старинных часов, и Клер, затаившись как мышка, прекратила шаркать обувью по паркету. Зачем ей только было нужно, чтобы я занялся писательством, таким скучным и никому не нужным делом? Хотя если бы эта озорная девчонка смогла бы так же как Юлия Домна служить для меня смутным объектом моих неосознанных желаний, тогда это было бы совсем другое дело, а так… где черпать пищу для вдохновения?
«Глупая! До чего же она глупая!» – думал я, когда поворачивал ключ зажигания, и небрежно махнул рукой своей приятельнице и ее очаровательной мачехе, стоявшим в наступающих сумерках, обнявшись, на мраморной лестнице.
Мой суетливый друг Мартин только тряс головой и фыркал, когда лизал оконное стекло в машине, стоя на задних лапах и поджав купированный хвост на сидении у меня за спиной. Сухой корм из рук незнакомой кухарки он принимать не согласился, а порцию пахучего буйабеса ему предложить не догадались.
Часть 6
964 AUC. Год 964 от основания Города или 211 от Рождества Христова
Монеты с изображениями Каракалы, Геты, Юлии Домны и Юлии Мезы
Низменные земли римской провинции Британия от Эборака до Лондиния[16] с их ухабистыми узкими тропинками вдоль мощеных булыжником, идеально прямых и широких дорог, построенных умелыми руками легионеров, остались далеко позади. Шел по счету пятый переезд с тех пор, как императорская траурная процессия, растянувшаяся на несколько миль, покинула благодатные луга провинции Бельгика с её большими и изящными городами и развитой торговлей. Тошнотворный запах ненавистных болот диких земель Каледонии, въевшийся, казалось, навсегда, в кожу упряжных животных императорских повозок, постепенно улетучивался. Наконец конная процессия вступила в полосу обширных лесов Лугдунской Галлии, страну суровых зим, больших охот и пенистого пива. Многие лета со времен божественного Цезаря, покорившего Галлию, тамошние хмурые леса мешали распространению римской цивилизации и развитию провинциальной жизни, отчего в деревнях и во дворцах местной знати сохранились старые галльские привычки времен независимости с диким разгулом в праздники и патриархальной кротостью в повседневном быту. С тех пор, как обширная сеть императорских стратегических дорог и каменных мостов разрезала почти прямыми линиями непроходимые галльские леса, многочисленным торговым и почтовым повозкам уже не приходилось месить грязь кривых лесных тропинок, а праздные путешественники меньше опасались нападения шаек беглых рабов и дезертиров из рейнских легионов, скрывавшихся от римского правосудия.
Черный февральский лес был почти прозрачен, отчего случайному путнику было легко наблюдать, как разноцветная конная процессия без задержек мерно продвигалась в направлении главного города галльских земель Лугдуна[17]. Для обеспечения безопасности и гражданского спокойствия на пути следования императорской семьи и высших магистратов Рима с многочисленной челядью к Вечному городу, дорожные надзиратели были срочно усилены боевыми когортами временно отквартированных из лагерей ближайших легионов римских армий в парадном снаряжении. Легионерам временного охранения во избежание соблазна совершения грабежей и насилия над местным населением, волеизъявлением молодых императоров Антонина Бассиана по кличке Каракалла и его брата Геты, родных сыновей усопшего Септимия Севера, было роздано каждому по четыре сотни сестерциев, дабы утолять голод и плотскую похоть не по принуждению и силой оружия, а с помощью платежных средств Великого Рима. Чтобы излишне не отягощать пристяжной кожаный кошель звонкой бронзовой монетой, легионерам рекомендовалось производить эквивалентный обмен сестерций на серебряные денарии и даже золотые ауреусы, на аверсе которых красовался бюст несравненной Юлии Августы, жены почившего императора.
Здесь, в глухой деревушке, где едва насчитать было и сотню покосившихся избушек, о скором приближении императорских повозок возвестил тремя ударами в бронзовый колокол дорожный смотритель. Возбужденные возничие и погонщики мулов, следующие встречным путем разряженной толпы, спешно разворачивали лошадей и повозки и переходили на проселочные дорожки, либо заблаговременно отводили лошадей в стойла, а то и просто стояли на безопасном удалении от обочины, желая поглазеть на императорскую процессию вместе с пришлыми колонами, которые, побросав работу, присоединялись к толпам селян соседних деревень, возглавляемых местными землевладельцами, и спешили занять пригорки, откуда было удобнее смотреть на редкое для галльских земель зрелище.
Скорбное шествие отличалось чисто восточной роскошью и было обставлено вдовой императора Септимия Севера, сирийкой или точнее финикийской по происхождению, Юлией Домной, во всём блеске и великолепии. Перегруженные дорожные повозки тянули серые мулы, подобранные под масть, или невысокие коренастые лошади галльской породы, цокающие серебряными подковами и сверкающие золочеными удилами. Мулы и лошади были покрыты расшитыми пурпурными чепраками, их погонщики, все сплошь в красных ливреях, сновали взад и вперед, окриками и свистом определяя порядок движения.
Императорскому выезду соответствовала и многочисленная свита, дорожные коляски которой были украшены драгоценными излишествами невиданной доселе простыми галлами красоты. Разнообразные статуи, бюсты и прочие предметы, произведенные из серебра, золота и слоновой кости с драгоценными каменьями разных цветов и оттенков, а также стекло и хрусталь, представляющие художественную ценность, чтобы не подвергать излишней тряске и толчкам в повозках, несли на руках императорские рабы, изящный вид которых подчеркивал богатство их хозяина. Легкие и проворные нумидийцы, выбранные на время из вспомогательных манипул седьмого сдвоенного тарраконского легиона, расквартированного в Испании, одетые в широкие пестрые халаты, шествуя в авангарде пешим порядком, расчищали звонким свистом и плетьми дорогу от зазевавшихся местных жителей и перегринов, жаждущих во что бы то ни стало попасть во внимание императорских особ.
Следом за пешими нумидийцами, гарцуя на лошадях испанской породы, выступала целая когорта преторианских гвардейцев, для легкости в передвижении одетых только в подпанцирные утепленные парадные мундиры. Все они были крепкие и рослые, сплошь светловолосые германцы, составляющие костяк северовской преторианской гвардии, подобранные за заслуги и личную отвагу из дунайских легионов. Сверкая золотыми браслетами на запястьях и серебряными фалерами на груди, они обеспечивали круглосуточную охрану всей процессии. Центурионы, по реформе любимого ими императора Севера, получившие право на ношение белых одежд во время легионных шествий, выделялись среди остальных преторианцев, облаченных в императорский пурпур, а принципалы, также обладающие теперь правом носить золотые кольца на пальцах, сверкали ими, будто сенаторы или знатные всадники. Любимые пажи императрицы ехали в масках, чтобы защитить лицо от студеного ветра. Они плотным кольцом окружали повозку, следовавшую впереди императорской, на постаменте которой стояла в полный рост золотая статуя усопшего от старости и болезни в возрасте 65 лет в британском Эбораке самого императора Септимия Севера, чью алебастровую урну с прахом везла в Рим его жена Юлия. Урну ожидало торжественное захоронение в гробнице Антонинов, что за Марсовым полем на правом берегу Тибра.
Императорская повозка, предназначенная для длительных путешествий, была похожа скорее на передвигающуюся крепостную стену с бойницами, чем на элегантный дорожный экипаж. Погонщики мулов легко справлялись со своей работой, обмениваясь между собой жестами и знаками, и, если требовалось, обрывистыми фразами, но без лишнего шума, дабы не тревожить покой светлейших матрон. Неожиданно громко, по-военному, с гортанным надрывом центурион сообщил по команде, что на пути к Вечному городу пройден очередной каменный миллиарий, торчащий серым столбом у обочины. Лошадь под гаркнувшем гвардейцем от испуга резко подала вперед, угрожая сбросить наездника, но центурион зацепился левой рукой за высокое «рогатое» седло, с хрустом выгнул спину и удержал равновесие, вонзив в землю большой бронзовый наконечник восьмифутового копья с вогнутыми краями. Нащёчники на шлеме центуриона не были плотно прижаты ремешками к лицу. Наоборот, они были щегольски откинуты на затылок, поэтому при резком толчке котлообразный серебряный шлем, отделанный двойной широкой бровью, сдвинулся и уперся ему в переносицу.
В то же самое время в повозке императрицы отворились ставни в центральном окошке, и из-за шёлковых занавесок показалось лицо совсем молоденькой девушки. Центурион быстро поправил шлем и, подведя лошадь ближе к повозке, напряг слух в ожидании высочайшего повеления. Он хорошо слышал, как рабыня-служанка Юлии Домны сообщала августейшей матроне, что отметка в 28 левгов пройдена. Служанка снова вопросительно посмотрела на центуриона. Он понял, что от него хотят, и прокричал:
– По-нашему, по уставу, значит, 44 римских мили ровно осталось до Лугдуна, к вечеру будем на месте.
Грубоватый акцент, свойственный жителям северных провинций и Паннонии, легко улавливался римлянкой с юга. Девушка продолжала безмолвно смотреть на охранника, желая услышать дальнейшие пояснения. На её лице центурион не замечал ни намёка на улыбку, ни доброго расположения, и поэтому продолжал:
– Новая дорожная мера, левга, равная полуторам римским милям, обязательна с недавнего времени в регистрациях почтовых книг имперских дорог только в трёх Галлиях и обеих Германиях по указу божественного Севера по мотивам императорской целесообразности…
Центурион командным голосом чеканил слова до тех пор, пока створки окна не закрылись наглухо. Он облегченно перевел дух, довольный своей находчивостью, и направил лошадь к обочине, где совсем рядом на пригорке стояли толпой молодые женщины. Они весело смеялись, обступив плотным кольцом самую озорную среди них, которая, жестикулируя, обратила свой пристальный взор в сторону центуриона. Гвардеец понял, что смеются именно над ним и, поёрзав в седле от нерешительности, на всякий случай снял с головы шлем, чтобы проверить крепление поперечного гребня и перьев. Всё было в полном порядке, и ему захотелось применить крепкую народную латынь, но усилием воли он подавил сиюминутный гнев, поскольку будучи глубоко суеверным римским гражданином, испытал страх, что Боги, услышав его ругательные слова, проклянут его и накликают несчастье на всех, кто его услышит.
Центурион снова посмотрел на толпу молоденьких женщин, но никто из них уже не смеялся. Все как завороженные смотрели на широкоплечего всадника в белом плаще с капюшоном. Длинные светлые волосы, спадавшие волнами до плеч, почти закрывали мощную оголенную шею воина, на которой сверкала золотая крученая гривна на манер древних британских кельтов. Грудь центуриона была увешана наградами: пять крупных фалер, выполненных из покрытого золотом серебра, были получены центурионом ещё в бытность его простым солдатом. Одет он был в короткие штаны-бракки и обут в кожаные высокие ботинки, к которым были приделаны бронзовые шпоры. Лошадь под ним была невысокая, хотя и выносливая. Всадник сидел на ней, уверенно держась в «рогатом» кожаном седле, чуточку подогнув колени, чтобы ноги не касались земли.
Центурион мог легко для острастки припугнуть плетью толпу праздных женщин и в первую очередь насмешницу, а то и приказать подчиненным преторианцам спешно созвать местных старост и сурово указать им на ненадлежащее исполнение высочайшего повеления по оказанию усопшему императору великих почестей со стенаниями и слезами. Однако он ничего этого не сделал. Траурная процессия медленно продолжала свой путь, а центурион, осадив лошадь, остался на обочине, удерживая под мышкой шлем, ярко-красный гребень которого был изготовлен не из конского волоса, как у большинства сослуживцев, а из перьев диковинных птиц, коих местным жительницам – обладательницам галльских петухов – доселе видеть не приходилось.
После четырех лет беспокойной службы в Британии у Адрианова вала центуриону императорской преторианской гвардии по имени Ульпий Квинтиан впервые пришлось увидеть женщин, чей внешний облик так напомнил ему его далекую родину. Они были одеты в длинные, спускающиеся почти до пят платья с крупными складками, поверх которых, чтобы было теплее, они надевали еще и платья без рукавов, но короче, чем нижние, и, как было принято, из более тяжелой материи. Обувь была войлочная, как и шапочки на их головах. Все женщины имели на плечах платки, сложенные по диагонали и завязанные на груди узлом. Платья были подпоясаны тонкими шнурами. Почти так же в хмурые дни ранней весны носили одежду красивые паннонские женщины с его родины, на которых нередко женились отслужившие свое римские ветераны-колонисты, а с тех пор, как на Палатине обосновался обожаемый солдатами Север, и сами римские легионеры.
Едва Ульпию Квинтиану исполнилось семнадцать лет, он был тоже зачислен в легионеры, а умудренные в боях с маркоманами римские солдаты сразу отметили у этого юного рослого паннонца отменную храбрость, выносливость и воинственность, впрочем, свойственную почти всем выходцам мужского пола кельто-иллирийских племен, выросших на берегах Дуная.
За сто лет римского владычества в обеих Паннониях на берегах Дуная были построены дюжина достойных римского величия канаб[18] и колоний с дворцами, театрами и храмами, радовавшие глаз благородных римлян. Однако у местного люда, проживавшего в округе, горожане отмечали слабый интерес к римской культуре и образованию. Потребовалось немало лет, чтобы кельты и иллирийцы восприняли строгие римские законы и стали отдавать своих детей в школы риторики и грамматики, где мальчики и девочки учились вместе, причем девочек стали учить кроме латыни ещё и греческому языку, а также пению. Школьные учителя, как правило, греки по происхождению, приучали детей к тому, что свободные граждане римской империи, независимо от их происхождения, обязаны были жить по закону, по которому, в частности, ничем не ограничивались взаимоотношения полов, и браки заключались свободно по взаимному желанию. Составление брачного контракта осуществлялось в присутствии свидетелей, которым невеста должна была подтвердить своё желание вступить в союз, к тому же возможный развод не преследовался законом. Супруги стали носить общее фамильное имя. Уважение к женщине в семье и в государстве охранялось римским законом. Знакомство с бытом и культурой Рима быстро меняло вкусы и духовный мир провинциальных женщин.
Ульпий Квинтиан учился в школе грамматиков в канабе Карнунт вместе с девочкой, чей отец был декурионом, получившим право римского гражданина от наместника провинции Септимия Севера. Девочка была влюблена в светловолосого четырнадцатилетнего богатыря и носила на своей тоненькой шейке золотую цепочку с овальной золотой пластиной, содержавшей греческий текст «Люби только меня и будешь счастлив».
Став императором, Север как опытный военачальник провел армейскую реформу, предоставив право, впервые в истории Рима, всем легионерам вступать в брак и проживать с женщинами за пределами лагеря. Отец девочки, армейский ветеран, дослужившийся ещё при Коммоде до принципала, назвал свою дочь Септимией Луциллой. К Ульпию Квинтиану он относился как к сыну и готовил его к будущей военной службе, убеждая вступать в легион, где с приходом к власти Севера увеличилось жалование рядовым воинам, ветераны освобождались от муниципальных налогов, центурионы вводились во всадническое сословие, обычные наградные знаки-фалеры стали золотыми и серебряными, а дети легионеров получали гражданские права.
По достижении семнадцати лет Квинтиан был зачислен легионером в 14-й сдвоенный легион, но вступить в брак со своей школьной подругой так и не успел, поскольку из-за гражданской войны легион в 196 году распоряжением императора был передислоцирован в Галлию в город Лугдун, где предстояла битва иллирийских легионов Септимия Севера с британо-испанскими легионами под командованием цезаря Клодия Альбина. Жесточайшая в истории Рима битва, в которой участвовало 150 тысяч римлян с обеих сторон, произошла в 197 году в четырех милях от Лугдуна на равнине Треву. Мужество британской армии под командованием Альбина столкнулось со стойкой дисциплиной иллирийских легионов под командованием Септимия Севера. Легионы Севера, умудренные опытом и славящиеся жесточайшей дисциплиной в боях против маркоманов, одержали последнюю победу в суровой гражданской войне, длившейся пять лет.
Ульпий Квинтиан, награжденный за храбрость первой золотой фалерой, был переведен во вновь созданный Севером Второй Парфянский легион, расквартированный впервые в римской истории в самой Италии недалеко от Рима, а затем за воинские таланты и дисциплину был направлен на службу в сам Город в состав преторианской гвардии, которая по приказу Севера стала формироваться из обычных солдат дунайских и сирийских легионов вместо изнеженных итальянцев. Но долго жить в столице Римской Империи Квинтиану не пришлось. Уже в качестве личного телохранителя Севера он отправился в доблестный поход римской армии против парфян и, покорив обе столицы Парфии, принял участие в триумфальном шествии Севера в Риме в качестве центуриона императорской гвардии и перешел в сословие всадников. Жалование центурион Ульпий Квинтиан стал получать настолько значительное, что мог позволить себе купить богатый дом в предместье Рима. Но невеста его, так и не дождавшись писем с приглашением на жительство вблизи лагеря постоянной дислокации, вышла замуж за местного богатого торговца, тем более что отец её умер вскоре после отъезда паннонца в Лугдун. Однако Квинтиан не забывал свою первую любовь, и та камея из темно-синего агата – подарок девушки – с изображением двух рук, соединенных в пожатии с греческой надписью по кругу «Помни меня», так и висела на его шее.
Пока Квинтиан предавался сиюминутным воспоминаниям о днях своей юности, императорская повозка, запряженная немыслимым количеством низкорослых мулов, повинуясь воле погонщиков, сделала короткую остановку, чтобы по откидным высоким ступеням туда незаметно поднялась известная всей личной охране императора уже немолодая достойнейшая матрона с простым лицом, облаченная с головы до пят в тяжелые, шитые золотом ткани.
Внутри дорожной повозки было хорошо натоплено, уют и комфорт внутреннего убранства дополнял тонкий аромат восточных духов. Небольшое помещение хорошо освещалось естественным светом через застекленные потолочные отверстия и было пустым, лишь приветливая служанка суетилась у входа. Женщина сама расстегнула теплую широкую накидку, сдвинув декоративную накладку фибулы, украшенную зелеными и красными крупными камнями. Служанка бережно повесила одеяние гостьи на вешалку и проводила ее к маленькой двери, ведущей в помещение, служившее целям личной гигиены императрицы. Вход сюда был дозволен только узкому кругу особо приближенных служанок августейшей Юлии Домны и родной сестре императрицы – богатейшей и достойнейшей матроне всей империи Юлии Мезе, без присутствия которой, как злословили придворные, императрица обходилась только в часы интима.
Юлию Мезу безмолвно приветствовали поклоном все присутствующие служанки за исключением одной, что сидела спиной к двери у окна и переливала духи из склянки в готовую чашу, которую она использовала для приготовления мазей и кремов. Взгляд девушки был сосредоточен, прямая спина напряжена, красивые руки обнажены до плеч и протянуты к свету. Юлия Меза задержала на юной деве свой взгляд, словно её действа имели сакральное значение, сравнив про себя образ девушки с богиней благочестия в момент сжигания душистых веществ над жертвенником.
Ранний визит родной сестры императрицы ни у кого из прислуги не вызывал удивления, поскольку Меза имела привычку навещать поутру в дороге свою младшую сестру с началом каждого нового перехода и подолгу донимать ее толкованием своих сновидений сообразно трактату «Онейрокритика» легендарного Артемидора Далдианского из Лидии. Стремясь постичь природу своих порой тревожных снов, эта богатая матрона почти не расставалась с цилиндрическим кожаным футляром, где хранила длинные свитки египетского папируса, на которых оставил свой след личный стилос самого Артемидора. С этим бородатым толкователем снов она познакомилась, будучи ещё совсем юной, в Антиохии, куда приезжала с отцом из родного города Эмесы[19], что находился неподалеку от столицы Сирии. Наместник этой богатой римской провинции имел привычку слушать речи Артемидора на подмостках греческого театра, куда приглашали в качестве гостя и её отца Юлия Бассиана, верховного жреца богатейшего и громадного Храма Солнца – Элагабала, традиционное обличье которого состояло из златотканного с длинными рукавами хитона, до пят отделанного пурпуром и разукрашенного золотом. Голова жреца была украшена венком, покрытым роскошными драгоценными камнями. Наряд во многом походил на театральное обличье самого Артемидора.
Утренний туалет сорокалетней Юлии Домны, желающей, как и подобало Августе, выглядеть моложе своих лет, занимал всё время до полудня. Первая матрона империи возлежала на большой кушетке, вытянув красивые стройные ноги. Совсем юная служанка быстро уловила безмолвный жест императрицы и проворно, но с осторожностью, сняв золотые сандалии владычицы, принялась массировать её холеные ступни своими нежными, но сильными руками. Шелковый, почти прозрачный хитон голубого цвета с разрезанными рукавами был распахнут и нисколько не скрывал полногрудого стройного тела грациозной императрицы. Круглая шапочка-сетка из золотых шнурков не позволяла густым прядям волос рассыпаться по плечам. О склонности Юлии Домны к самолюбованию и нарядам говорило множество серебряных зеркал, расставленных по углам. Туалетные принадлежности находились на многочисленных полках в особых несессерах. Банки для румян, притираний, помад и духов, кисточки для накладывания румян и белил, ножницы для ногтей, булавки и щипцы для завивки, гребни из слоновой кости или букового дерева, длинные булавки или шпильки из серебра и золота были расставлены или разложены на золотых треножниках по всему периметру кушетки так, чтобы прислуга не толкала друг друга в ограниченном пространстве почти квадратной комнатки. Каждая из трех служанок знала своё дело и, получив едва заметный знак, приступала к магии колдовства над телом хозяйки.
Дальний путь тяготил императрицу, а скука делала дорогу особенно невыносимой. Траур обязывал воздерживаться от веселья и не приглашать к себе в повозку скоморохов, фокусников и прочих лицедеев, так как на глазах придворной знати делать это считалось бы предосудительно. Поэтому Юлия Домна, путешествуя в дорожной повозке, забавляла себя в свободное время поисками метафизических упражнений для ума, следуя римскому правилу «exerce memoriam», или, бывало, для приятного препровождения времени с интересом и любопытством внимала овладевающей искусством прорицания сестре, всегда охотно вещавшей о секретах и таинствах гадания. Императрица, как и сестра, полагала, что книга величайшего толкователя снов Артемидора воистину гениальна, поскольку вобрала в себя бесценный опыт свидетельств исполнения снов.
Однако на сей раз ее старшая сестра держала в руках вместо свитка роскошный кодекс – книгу со страницами из пергамента. По изрядно потертому кожаному переплету императрица быстро сообразила, что книга эта совсем не та, что содержала предсказания восточных пророков, которую сестра берегла как зеницу ока в своей личной библиотеке. Домна благосклонно улыбнулась и, плотно сжав узкие ладони, прикоснулась кончиками пальцев к губам:
– Слава Изиде, богине всего сущего, наконец в руках у тебя я вижу не чернильницу с книгой предсказаний и обкусанный стилос, а книгу Саллюстия – любимую книгу нашего божественного Севера.
Меза не сумела скрыть своего изумления:
– Как ты догадалась? – в ее голосе звучала досада.
В легкой улыбке Домны читалось снисхождение к наивности сестры:
– Жаль, что в последние годы нашей с мужем жизни в Британии ты совсем нас не навещала, а он так ждал твоего приезда. Император часто проводил свой день либо вдвоем с префектом претория Папинианом, либо оставался один в обнимку с этой книгой. В «Югуртинской войне» он оставил так много закладок с красными узорами на кусках папируса, что догадаться было немудрено. Я бы не удивилась, если бы Север признался мне, что на память владеет текстом этого трактата Саллюстия. Всю мудрость этой книги он мечтал передать нашим сыновьям. Едва он открывал рот, чтобы в очередной раз произнести нравоучение Гете и Антонину Бассиану, я знала, о чем пойдет разговор. Вот, родная, потрудись открыть кодекс в том месте, где длинная закладка с нитью на конце, я же могу на память произнести тебе последние слова мужа, обращенные к нашим сыновьям.
Меза не успела открыть книгу как услышала от сестры слова нумидийского царя Миципсы:
– Не войско и не казна охраняют царство, но друзья, а их не принудишь оружием и не купишь золотом… Но есть ли друг ближе, чем брат брату?.. Я оставляю вам царство – могучее, если будете править хорошо, а если плохо, то бессильное. Ибо согласием подымается и малое государство, раздором рушится и самое великое…
Домна глубоко вздохнула перед тем, как продолжить:
– Мой скорбный путь омрачен думой о сыновьях. Остается только возносить молитвы богам за наше благополучное возвращение. Жаль, что всё, о чем мечтал их отец, совсем не сбывается. Едва умер Север, и прогорел погребальный костер в Эбораке, сыновья мои разделились в смертельной вражде друг к другу. Все нужные указы и бумаги подписывал в Британии друг и советник мужа Папиниан, а братья со своей охраной порознь помчались в Рим. Думаю, они уже туда прибыли и делят богатства, сохраненные отцом, задабривая деньгами преторианцев и легионеров 2-го парфянского легиона. Неустанно молю богов, чтобы это было не так.
– Дорогая, но Эмилий Папиниан и Домиций Ульпиан говорили мне вчера, что последними предсмертными словами Севера были: «Я был всем, и всё это ни к чему». Разве не так? – задала вопрос ее сестра.
Юлия Домна снова вздохнула.
– Как же ты любишь копаться в подробностях! Хорошо. Слова из книги Саллюстия муж произнес, когда Гета покидал наш дорожный шатёр, а Антонин был в войсках. А во дворце, в присутствии юристов, после госсовета, уже совсем слабый, он, страдая от приступов подагры, сумел произнести эти последние слова, когда по его желанию Ульпиан зачитывал ему бумаги с отчетами, которые только доставили из Рима. Кстати, в них значилось, что в городе запаса хлеба на семь лет вперёд, из расчета 75 тысяч модиев в день, а масла столько, что его хватит на 5 лет, и не только для Рима, но и для всей Италии. Папиниан считает, что такое изобилие в Риме наблюдалось впервые за столетие. Вот тебе, дорогая моя, пример подлинного величия в сравнении со всеми прочими Антонинами! Это при том, что армия Рима сейчас самая многочисленная в нашей истории со дня основания Города: 33 легиона или 356 тысяч человек! Не забывай еще – что Марк, что Коммод имели фиск пустым, а эрарий распылялся почти бесконтрольно сенатом…
Юлия Домна задумалась, прижав к губам пальцы правой руки, будто пыталась на память составить подробную карту дислокаций армейских легионов, разбросанных вдоль границ римской империи от холодной Британии до жаркого Египта. Меза села на мягкий табурет напротив кушетки императрицы, оказавшись за спинами обступивших ту усердных служанок. Теплый воздух от маленькой печки благоухал восточными пряными ароматами и поднимался вверх под крышу фургона к большому приоткрытому люку, выполненному из толстого горного хрусталя. Лицо Домны оживилось, а губы зашептали по латыни:
– Города сияют блеском и роскошью и вся земля украшена, как сад. Возможен ли лучший и более полезный строй, чем нынешний?!
– Браво, сестричка, – Меза хлопнула в ладоши чуть громче, чем следовало, заставив Домну вздрогнуть. – Даже в скорби ты способна цитировать позабытого сегодня вчерашнего соловья придворной лести Элия Аристида.
Императрица улыбнулась, не скрывая удовлетворения от лестных слов сестры.
– Да, жаль, что так быстро наши граждане забывают, казалось бы, незабвенных прославленных риторов времен славных Антонинов. Панегирик городу Риму безнадежно устарел, а потому и не слушают. Значит, нужны новые соловьи отечеству нашему!
Юлия Меза была в хорошем расположении духа и, пожалуй, в тот день склонна к многословию, что за ней водилось нечасто в отличие от младшей сестры:
– Другие времена настают, другие герои тревожат сердца нашей молодежи. Не далее как сейчас при переходе от моей повозке к твоей, сестра, я перехватила взгляд одного чужестранца, глазевшего на меня с бугра. На воздухе холодно, а он, укутанный в пурпур, волосы, видно, не стриг годов эдак несколько, на голове венок, стойку принял царственную, будто требует к себе исключительного внимания. Какой-то, судя по одежде, странствующий пифагореец, а посмел буквально буравить меня своим острым взглядом. Сущий Апулей из Мадавры, как мне его подробно и описывал Север: тоже правильное лицо, несколько женственное, правда, мечтательный взгляд и длинные густые локоны темных волос.
Меза водила руками вокруг своего лица, как танцовщица, и улыбалась.
– Откуда здесь взяться бродячему пифагорейцу? – глаза Домны расширились. – Пифагоровы житейские премудрости хорошо известны, однако в этакий холод мудрено таскаться по грязным дорогам в медных сандалиях. Здесь, в глуши лесов тяжело следовать принятой у них аскезе ношения шерстяной одежды и кожи и обходиться медовой лепешкой, ладаном и песнопением. Впрочем, – всплеснула руками Августа, – при чем тут Галлия, когда уже и в Британии на дорогах появились толпы астрологов, некромантов, заклинателей, называющих себя чародеями, колдунов всех мастей. Множатся суеверия, повсюду появляются ясновидящие, мода на некромантию. Склонность к занятиям магией становится всеобщей. Отличить колдуна от чародея на первый взгляд теперь невозможно, поскольку все стало настолько одинаково и предсказуемо, – расслабленная Августа только протяжно вздохнула. – А вот славу Луция Апулея как лучшего оратора римской империи до сих пор никто затмить не может. Это великий африканец. Но откуда мой муж мог знать о внешних особенностях и достоинствах Апулея, чтобы поведать тебе о них? Где он мог его видеть? В Риме? Нет. Апулей, с тех пор, как написал «Золотого осла» и тем навечно прославил своё имя в Городе, больше в столицу не приезжал, жил либо в Карфагене, либо в Александрии. Да, медаль с изображением лика этого философа-жреца в Африке любили чеканить в бронзе, статую ему в Карфагене, и не одну, ставили еще при его жизни, а последнюю – с одобрения моего мужа… Но где он его видел, не могу припомнить, хотя на память не жалуюсь! Сам же Север о своей встрече с Апулеем мне никогда не рассказывал.
Юлия Домна оживилась и отстранила одну из служанок, массировавшую ей шею, немного в сторону, чтобы лучше видеть лицо своей сестры. Меза сузила глаза, и на её губах заиграла хитрая улыбка:
– Мне об Апулее рассказал сам Север, и случилось это в тот самый год, когда муж твой отмечал десятилетие своего правления. Он тогда одобрил постановление Сената воздвигнуть на Форуме большую триумфальную арку во славу своих громких побед. Арку заложили по Священной дороге возле курии. Наметил он в тот же год и совершить плавание из Рима в Лептис Магну, к месту своего рождения. Ты помнишь, что посольство было превеликим. Народу нахлынуло в Африку большое множество. Город перестроили загодя, одного мрамора и гранита навезли количеством, сравнимым с потребностями Антиохии, а то и Александрии. Вот тогда в Лептисе как-то на прогулке с Севером, расхаживая по Колонадной улице под ручку, я и услышала рассказ о его годах юности и отрочества, что он утаил в своей известной биографии, составленной Марием Максимом. Ты знаешь, дорогая, что его отец Публий Септимий Гета в колонии Лептис Магна был человеком уважаемым, хотя и не самым богатым. Так вот, как сказал Север, в год правления провинцией Африка проконсулом Клавдием Максимом, старым приятелем родственников матери Севера, в Сабрате слушалось дело по обвинению в преступном занятии магией некоего философа школы Платона, писателя и софиста из африканской Мадавры по имени Апулей. Председательствовать на суде вознамерился лично проконсул провинции Клавдий Максим, прибывший из Карфагена. Он же и направил отцу Севера свое личное приглашение присутствовать на слушании, обещая Гете незабываемое удовольствие от защитительной речи Апулея, получившего уже тогда успех в Риме и похвалу лично от императора Антонина Пия за успехи в занятии литературной деятельностью. Дорога была не близкой, но и не далекой, чуть меньше одной сотни миль. Юный сын Геты, наш незабвенный Септимий Север, которому тогда было двенадцать лет, навязался отцу в провожатые, поскольку уже тогда мечтал стать адвокатом и изучал не только латынь, но и греческий. Отец смилостивился и взял на себя обузу в лице своенравного сына.
Юлия Августа чуть приподнялась с кушетки и свободной рукой подала знак сестре, что желает слушать продолжение.
– А история была такова, – многозначительно произнесла Меза, не меняя позы. – Апулей, проживавший в то время в Мадавре, вознамерился совершить поездку в Александрию, но по дороге серьезно заболел. Город Эя, где он был вынужден остановиться для лечения, лежал как раз по пути из Лептиса в Сабрату. Остановился он на временный постой у знакомца, с которым учился в прошлом в Афинах, изучая адвокатское дело и красноречие. Поскольку Апулей тогда сильно нуждался, друг его по имени Понтиан посоветовал писателю жениться на его матери Пудентилле, вдове и богатой женщине. Состояние ее тогда оценивалось в четыре миллиона сестерциев. Апулей согласился, тем более что женщина проявила к нему нескрываемый интерес. Однако слов о женитьбе по любви они никогда не произносили. Именно на этом основании родственники первого мужа Пудентиллы обвинили Апулея в том, что он околдовал женщину, которая была в возрасте чуть более сорока лет. То есть, в том же, что и ты, моя родная сестричка, и была она старше Апулея на целых двенадцать лет.
Юлия Меза приподнялась с табурета и, хихикнув сдавленным голосом, произнесла:
– Тебе это ничего не напоминает, дорогая?
Юлия Домна подняла на сестру грозные глаза задетой за живое женщины. Смолчать и дать повод даже своей сестре усомниться в своих женских чарах она не желала, и рассказ старшей сестры ей пришлось прервать.
– Ты полагаешь, сестра, что я уже старуха, и пленить молодых солдат своими женскими прелестями уже не способна. Только за деньги?! – она бросила на сестру недовольный взгляд.
Юлия Меза поднялась с табурета, будто загипнотизированная взглядом сестры. Известная в Городе как образец добродетели, не в пример Августе, она была одета в короткую тунику, закрывающую руки до кистей. Поверх туники Юлия Меза предпочитала носить корсет из тонкой кожи, который добавлял её фигуре стройности, а груди – большую полноту. Стола как одежда замужних женщин, служившая продолжением туники, была пошита без рукавов. Она не была столь длинной, чтобы волочиться по полу, подол был оторочен пурпуром и вышит жемчугом с золотыми блёстками. Красивый пояс был покрыт разноцветными камнями и обвит золотой цепочкой тонкой работы. Ровный пробор разделял седые волосы, завязанные узлом на затылке. Юлия Меза не стремилась выглядеть моложе своих пятидесяти лет, и поэтому её утренний туалет занимал немного времени.
Юлия Домна, оторвав долгий взгляд от ее наряда, подала знак прислуге. Девушки отступили в сторону, и императрица поднялась, встав на пол босыми ногами. Ростом она была выше своей сестры, её длинная белая шея была без единой морщинки, ноги крепкие, мышцы ягодиц упругие и подтянутые, высокая грудь словно рвалась из-под шелка. Руки императрица держала на тонкой талии. В глазах старшей сестры Домна читала восхищение собой. Она торжествующе улыбнулась. Сменив гнев на милость, она ласково произнесла:
– Послушай, дорогая, здесь немного душно. Пусть с тебя снимут пояс и столу и расшнуруют строфион[20], тебе будет удобнее. Присядь и продолжай.
Меза покорно последовала пожеланию сестры. Императрица снова легла на кушетку, и девушки продолжили колдовать над телом хозяйки. Красота женщины южного быстро увядающего типа была мимолетна, и способы продлить её срок у каждой восточной красавицы были свои, которые она хранила в секрете.
Юлия Домна
Перед тем, как снова начать, Меза помедлила, собираясь с мыслями.
– Заниматься магией с преступными целями в Риме было запрещено под страхом смертной казни ещё во времена республики, порукой даже служил «Закон XII таблиц». Обвинение против Апулея в преступном занятии магией было объяснимо хотя бы потому, что целью ворожбы была денежная корысть. Сами-то приворотные зелья и любовная ворожба осуждению и нами, и плебсом никогда не подвергались. Но это был совсем другой случай, который мог грозить смертью. Разумеется, и Клавдий Максим как наместник провинции, и все члены совета суда из свиты проконсула, прибывшие с ним из Рима, но имевшие однако только право совещательного голоса, были уже заранее на стороне Апулея – человека с блестящим образованием и известного в Риме ритора, мастера слова и прекрасного рассказчика. Септимий Север рассказывал мне, с каким восторгом он слушал речь Апулея в собственную защиту на подмостках сабратского театра. Именно тогда, как сказал Север, он окончательно решил посвятить себя изучению закона и научиться говорить так, как Апулей. Слушая этот рассказ императора, я дала себе слово докопаться до сути обвинения и системы защиты обвиняемого. Хочу признаться, что в отличие от Севера, который никогда не читал «Золотого осла», я неоднократно перечитывала эту книгу и считаю, впрочем, как и все в Риме, что это самое выдающееся произведение, когда-либо написанное на латыни, но тогда я еще не знала, что Апулей свою защитительную речь в Сабрате давно положил на папирус и даже издал в отдельном кодексе. Мнение наших великих юристов Папиниана и Ульпиана, назвавших эту речь адвокатским шедевром, для меня ничего не значило до тех пор, пока я сама не прочла ее. Это достаточно объемный труд, дорогая. Так вот, на суде стороны имели право говорить лишь строго ограниченное время, однако по закону обвиняемый мог говорить в несколько раз дольшее, чем обвинитель, поэтому водяные часы отмерили Апулею достаточно времени, чтобы он поразил всех своим красноречием и вызвал у граждан Сабраты восторженные овации.
– Дорогая, объясни мне, к чему ты клонишь? – спросила Домна, вновь почуяв в рассказе сестры неприятную для себя подоплеку, связанную со своим замужеством. Юлия Меза уловила ее замешательство и хотела было прекратить свое повествование. Она поднялась с табурета, но Домна кивком головы, глядя сестре в глаза, остановила её. Меза продолжила.
– Знаешь, у нас репутация колдуна во все века была не лучше репутации жулика. Историю императорского Рима мы с тобой хорошо знаем, изучали. Октавиан Август запрещал заниматься астрологией и жёг звездочётные книги, а Тиберий даже казнил бродячих чародеев. Среди приближенных ко двору известно, что ты, дорогая моя, была тоже выбрана Севером в жены далеко не по любви, а скорее по ворожбе. Север выбрал тебя по всем правилам звездочетной науки, как и хотел. В чем – в чем, а в астрологии муж твой был действительно сведущ. Он не скрывал от друзей, и не только от них, что он вдовец и человек суеверный и если все же вознамериться жениться во второй раз, то будет очень осторожным, а посему, не таясь, интересовался гороскопами возможных невест. Его боевые друзья из IV-го Парфянского легиона в Сирии, легатом которого он когда-то был, а, может, и друзья в сенате донесли ему, что есть в Сирии девушка, которой в гороскопе предсказано стать женой царя. Так Север доверился своему и твоему гороскопу и женился на тебе. Вспомни, это был не простой год, дорогая моя сестричка. Император Коммод после смерти своего отца Марка Аврелия был у власти уже полных шесть лет. Против него плелись заговоры как сенаторами, так и преторианцами. Только всё было напрасно, он ожесточился и не доверял никому, даже друзьям. Доносчиков была уйма. Он даже родную сестру Луциллу не пощадил, сослав её на остров Капри по обвинению в заговоре, где и убил. Скольких достойных граждан Рима он отправил на смерть по доносам и обвинению в «оскорблении величия»! Разве ваша громкая свадьба в Риме не могла быть истолкована недоброжелателями как наведение порчи на первое лицо в государстве или колдовство с корыстными намерениями, что ещё хуже и тоже каралось смертью по нашему закону. Аналогия с делом по обвинению Апулея напрашивается сама собой!
– И какой же ты из этого сделала вывод? – Юлия Домна пристально глядела на сестру.
– С выводами я не спешила, а обратилась за разъяснениями к Эмилию Папиниану как префекту претория и второму человеку в империи, но он мне отказал, сославшись на занятость, а его асессор Юлий Павел посоветовал с этим вопросом обратиться к императорскому секретарю по прошениям Домицию Ульпиану, который сейчас готовит к изданию свой трактат «Об обязанностях проконсула». Это административная инструкция, в ней он как раз и дает своё толкование об астрологах и пророках. Он привёл мне массу примеров из своей практики, а ты знаешь, какой он зануда и любитель копаться в мелочах. В частности, он сказал, что начиная с Августа, в период консульства Помпония и Руфа было принято сенатское постановление, карающее римских граждан изгнанием из Отечества с конфискацией всего имущества по обвинению в колдовстве с корыстными намерениями. Представь себе, что если бы Север был чужеземцем, ему тогда могла грозить даже смертная казнь. Так вот, Ульпиан на мой вопрос ответил, что выбор Севером такой невесты пусть и косвенно, но мог угрожать здоровью действующего принцепса, а это значило даже для обычных граждан смертную казнь. Ульпиан полагал, что вам с Севером тогда просто повезло, и император Коммод мог квалифицировать это просто как шутку, приведшую к свадьбе уже немолодого наместника Лугдунской Галлии. Более того, Коммод на самом деле был доволен его государственной службой, да и в своих частных беседах с Севером не ощущал вражды или угрозы своей особе. Может, еще и поэтому сам Север, став императором, заставил сенат, пусть и через два года, но принять постановление об отмене приговора «О забвении» и о признании Коммода божественным и сумел вернуть его прах в усыпальницу Антонинов, наперекор общему мнению в сенате Рима об одиозности Коммода. Заметь, провёл через сенат, хотя мог ограничиться своим рескриптом. Вспомни, начиная с Октавиана Августа, только четверо из одиннадцати первых императоров были постановлениями сената причислены к сонму богов сразу после смерти.
Юлия Домна почти всё время, что говорила сестра, держала голову опущенной и смотрела в деревянный пол. Ей очень хотелось хоть в чем-то возразить, особенно в том, что она – самая красивая девушка Сирии – была, может быть, не любима, но определённо в их отношениях с мужем было что-то большее, чем любовь. Поэтому даже после полного исполнения гороскопа Север в отношениях с женой проявлял несвойственную ему кротость, всегда глядел сквозь пальцы на любовные и политические интриги Юлии, которая, судя по всему, была окружена для него мистическим ореолом «волшебной помощницы, добывающей своему избраннику великое царство».
Императрица в свои сорок лет продолжала выглядеть почти так же, как и 23 года назад, когда впервые приехала в Рим, чтобы очаровать своей необычайной красотой местных патрициев и всадников, искушенных в вопросах любовной интриги и разврата. Дочь жреца Вааля, погружая своё сознание в сладострастный омут девичьих грёз, находилась в часы досуга полностью во власти восточной мистики. Юлия Домна была абсолютно убеждена, что могла пленить любого, используя неотразимые чары своей первозданной красоты. Тогдашний наместник Лугдунской Галлии, приехавший в Рим по вызову императора Коммода для согласования размеров налоговых льгот в своей провинции, был действительно, как говорила сестра, оповещен боевыми друзьями божественного Марка Аврелия, с которыми сам много лет воевал бок о бок против врагов Рима на границах империи, что в Городе появилась молодая сирийка, на первый взгляд не проявлявшая склонности к добродетели, но чей гороскоп говорил о том, что она предназначена для императорского трона. Север много времени проводил в коридорах власти Капитолийского холма и хлопотал заодно о выделении участка по Аппиевой дороге для захоронения своей жены Марции, умершей уже немолодой от простуды. Она успела родить супругу двух дочек, которых он привёз с собой и собирался оставить на воспитание в столице у родственников жены, пусть и дальних, но принадлежавших к патрицианскому роду. Мальчик, что родила Марция за несколько месяцев до смерти, остался в Лугдуне под присмотром кормилиц и сиделки, поскольку дальний путь в повозке врачами не одобрялся.
Может быть, и Север посмеялся бы с друзьями над неопытной и самоуверенной красавицей из Сирии, верующей в своё блестящее будущее, если бы не его собственные убеждения. Ужасно суеверный, он искренне верил во все эти глупости с тех пор, как в юности ему было дано несколько предсказаний о его самодержавной власти в будущем. Несмотря на упрямые наветы «доброжелателей», Север был уверен, что Юлия Домна была не из тех молодых девиц, что спешили по прибытии в Рим торговать своим телом, повесив себе на лоб табличку «Занято», даже пусть и в первосортном лупанарии плебейских кварталов. Он считал, что даже если эта красавица и станет лупой и ежели когда-нибудь примкнет к отряду, так называемых «хороших меретрис», то никогда не допустит публичного бесчестия. Такие женщины прибывали в Рим в поисках привилегированного любовника, которому не стыдно будет появиться с ней на людях в высшем свете. Они влияли на развитие моды в городе, на них бросали завистливые взгляды благородные матроны, они были увлечены искусством, философией и литературой. Но с их красотой, темпераментом и умом они вынуждены были довольствоваться лишь галантным полусветом надушенного, элегантного и распущенного Рима. Если она женщина хотела преуспеть, то должна была следовать кодексу, который выработал добрую сотню лет назад великий поэт Овидий под названием «Искусство любви».
Ценные советы по обольщению мужчин Домна всегда хранила в своей памяти, особенно те примеры «правильного» поведения, которые демонстрировала на протяжении всей своей жизни жена божественного императора Марка Аврелия. Именно правила «правильного» и пусть не всегда добродетельного поведения диктовала «мода», управляющая образом жизни римского гражданина.
Уроженка провинции Сирия, финикийка по крови, говорящая на всех семитских наречиях, общепринятых не только во всей огромной Сирии, но и в маленькой Палестине, Юлия Домна отличалась повышенной требовательностью к себе и к состоянию своего тела, где краеугольным камнем была чистота, поскольку гигиена тела была слабым звеном жизни на востоке Римской империи. Мысль Цицерона «Запах женщины прекрасен тогда, когда сама женщина ничем не пахнет» была доминантой в подготовке Домны для жизни в Риме. Она была ещё совсем маленькой девочкой, когда отец рассказывал ей, как легионы римской армии во главе с Марком Аврелием на пути в Египет проходили по городам Сирии, и император, много лет воевавший с германскими племенами, вступив в Палестину, испытал шок и отвращение к вонючим, вечно потным иудеям, и воскликнул: «О, маркоманы, о квады, о сарматы! Наконец я нашел людей хуже вас!»
Сама строго соблюдая безукоризненную чистоту, она то же требование предъявляла и к мужчинам. Знакомясь с Септимием Севером, Юлия сразу оценила не только благородство и ум галльского наместника, но и его ухоженность: аккуратная стрижка, борода, мастерски побритая цирюльником, чистые и ровные ногти, белые зубы, свежее дыхание и отсутствие волос в ноздрях. Овидий не уставал повторять: «Мужская красота должна быть естественной». Кроме прочих достоинств Домна оценила и естественную красоту Севера и дала своё согласие на брак.
Север осознавал, на что шел, выбирая себе в жены сирийку. Кому как не ему было знать, кто такие эти отважные женщины. В качестве легата IV Скифского легиона, одного из трех расквартированных на территории Сирии, Септимий по долгу воинской службы часто бывал в богатейших и красивейших городах этой римской провинции от Антиохии до небольшого, но богатого города Эмессы, где родилась Юлия Домна. Со времен вторжения в Рим «азиатского сладострастья» империю продолжали захлестывать болезни без названия, связанные с именем Венеры. Рим считал, что во всей империи нет более порочной, более нездоровой расы, чем еврейская, а Сирия – эта богатейшая провинция, от края до края являлась рассадником проказы и венерических заболеваний. Сюда в поисках новых изощренных наслаждений съезжались любители путешествий со всей Римской империи, становясь позднее жертвами неизвестных болезней. Север не причислял себя к пламенным борцам за чистоту общественных нравов, поскольку считал, что как и благородные матроны Вечного города, так и римские плебеи в равной мере развращены и распутны. Друг и поклонник Марка Аврелия – стоика, когда требовали обстоятельства, он причислял себя к эпикурейцам, а, значит, не чурался чувственных удовольствий и считал их едва ли не единственным средством, способным разогнать свою меланхолию.
На простой вопрос: как могла попасть в Рим эта девица почти плебейских кровей, не будучи зарегистрированной у эдила, он отвечал сам себе, что только одним способом: в Риме не преследовали приезжих девушек, нуждающихся в покровительстве патронов, у которых хватало ума не спешить одеваться на манер благородных римлянок, чтобы не бросать открытого вызова матронам. Танцовщицы, флейтистки и комедиантки, наводнившие Рим, были сплошь чужеземками, они пользовались популярностью среди богатых граждан города, поскольку в совершенстве владели языком тела и знали толк в искусстве любви и сладострастия. Особенно выделялись испанки, египтянки и гречанки, но первенство среди всех чужеземок в Риме держали сирийки, которые к тому же отдавались всем подряд без разбора и наотрез отказывались платить налог с дохода, установленный эдилами, поэтому их первых сначала облагали большими денежными штрафами, приказывали сечь розгами и только потом высылали из города. Силы порядка столицы, разделенные на 14 районов, не боролись за ужесточение правил въезда в город жриц любви, поскольку конкуренция способствовала снижению цен. «Бродячая проституция» в Риме была запрещена, зато порядок выдачи лицензий на позорную профессию был облегчен муниципальной властью до минимума, что обеспечивало бесперебойной работой сотни лупанариев в каждом районе Рима.
Септимий Север, будучи сам образованным человеком, привыкший в жизни всего добиваться своими собственными силами, при первом знакомстве с Юлией был восхищен не столько красотой юной женщины неполных семнадцати лет, сколько ее редкими способностями читать его собственные мысли, давать умные советы, легко рассуждать на философские и религиозные темы. Молва среди повес о том, что эта сирийка возможно даже и плебейского рода, как и все представительницы ее народа, наверное, не всегда добродетельна, притворна и далека от целомудрия, только вызывала у Севера снисходительную улыбку. Он любил Рим, но понимал, что римский народ никогда не был целомудренным, зато был самым суеверным народом мира, где вера в гороскоп, жребий, порчу и сглаз составляла главную религию. Его, как и всех римских граждан, не пугали толпы развратников и проституток на перекрестках шумных улиц. Главное, чтобы никто из них не произносил скабрёзностей и грязных ругательств, брошенных в лицо или в спину, способных накликать несчастья на тех, кто их услышал. Так вот, Юлия Домна отличалась ото всех, кого встречал Север на своем пути, своим здравомыслием. Она умела красиво говорить, избегая похабщины, обладала хорошим литературным стилем в эпистолярном искусстве и превосходно, без акцента, говорила на многих языках, главными из которых были греческий и латынь, а также пунический и арамейский, – именно те, на которых говорил он сам, пусть даже и с сильным африканским акцентом.
Была ли в их браке любовь, о которой взялась рассуждать сестра, Домна сама не знала, но всегда с радостью отмечала, как супруг был доволен, когда их дом, благодаря именно ей, был полон нужными людьми и важными особами, жадно глазевшими на ее женские прелести. Уже через год после шумной свадьбы она родила Северу сына Гету.
В свои 43 года, когда Север получал из рук Коммода свое новое назначение в качестве наместника Верхней Паннонии, он был физически силен, никогда не жаловался на боли в ногах и не уступал в доблести ни одному легионеру иллирийских легионов, самых подготовленных в военном искусстве. Именно в этой провинции прожил много лет Марк Аврелий. Там он и написал свою мудрую книгу «Наедине с собой» и там же умер. Карнунт и Виндобона были городами, где Север благодаря своей красавице-жене имел уважение, успех у легионных командиров и считался другом действующего императора Коммода. Мудрость Марка Аврелия, которую Север впитал в себя за годы службы, вселила в него силы и помогла объединить легионы римской армии, а после гибели Коммода и Пертинакса победить всех своих соперников в гражданской войне и стать единоличным императором на долгие 18 лет, сделав империю самой богатой и процветающей за всю историю Рима, хотя и не без жестокости ради силы закона и порядка. Себя Север именовал сыном Марка Аврелия, приняв титул Пертинакса, а сына Бассиана назвал Антонином в честь великих императоров Рима.
Как любая красивая, избалованная вниманием мужчин женщина, Юлия Домна была глубоко уязвлена замечанием сестры, даже в молодости никогда не отличавшейся красотой, и если кто ее когда и любил, так это только ее законный супруг, Юлий Авит, который умер, оставив ее с двумя дочками на руках, да еще, пожалуй, сам Септимий Север, который не скрывал своего особого отношения к золовке, чей ум и врожденная добродетель свидетельствовали о глубокой женской порядочности. Вряд ли можно было назвать имя хотя бы еще одной женщины, к которой Север испытывал бы такую искреннюю симпатию. Даже его родные сестры и дочери не пользовались такими благами, в которых купалась эта пятидесятилетняя женщина. Сама же Юлия Домна высоко ценила свою сестру за ее совсем не восточную прямоту и честность в суждениях. Собственно, за что держать обиду, если та лишний раз напомнила ей что муж не любил ее до самозабвения, а, может быть, любил как раз именно ее сестру.
«А кто из Антонинов, на кого пытался походить ее муж, любил своих жен?» – часто успокаивала себя Домна, рассуждая о прожитом. – Может, Адриан? Его жена Сабина была самой несчастной женщиной в империи, поскольку всегда была нелюбимой. Он, великий император, любил, как оказалось, мальчиков, особенно Антиноя и при этом ревновал свою жену! Пострадал даже его секретарь, писатель и любимец двора Гай Светоний Транквилл только за то, что держал себя на половине его жены Сабины более свободно, чем было позволено правилами императорского двора.
Марк Аврелий, философствуя по жизни, скорее боялся, чем любил свою жену Фаустину Младшую. За ее пороки он ее не порицал. Любовников своей жены он выдвигал на высокие административные должности. Тертулл, Тутилий, Орфит, Модерат, – эти имена помнили не только Домна и Меза. Марк посещал Рим нечасто, больше сама жена навещала его в военных лагерях. Она родила ему двенадцать дочерей, но он, император, привечал как свою только Луциллу, она была и внешне красива, и похожа на его мать. Он выдал ее замуж за императора Луция Вера.
Вот уж был действительно красавец! Все женщины Рима его желали. А он любил только Пантею, обыкновенную продажную женщину, которую повстречал, будучи тоже в Сирии случайно. По просьбе любимой он сбрил бороду, не побоявшись пересудов и насмешек. Что было бы дальше в супружеских отношениях Луциллы и Вера, неизвестно, поскольку он скоропостижно скончался в 38 лет. Римлянки видели, как Пантея буквально изводила себя, оплакивая Луция Вера, сидя у его могилы. Даже Марк Аврелий, тронутый таким поведением преданной женщины, помянул эту сирийку в своей философской книге. А Лукиан из Самосаты, этот прометей красноречия, в своих популярных и насмешливых книгах называл Пантею, любовницу и гетеру Луция Вера, женщиной совершенной красоты, прекраснее Афродиты Книдской и Афины Лемноской, увидев которую, мужчины столбенели от изумления, обращаясь в камень.
После смерти Марка Аврелия его единственный сын Антонин Коммод сохранил сестре своей Луцилле все знаки императорского достоинства: в театрах она сидела в императорском кресле, всюду перед ней несли факел, но жене Коммода Криспине все это не нравилось. Луцилла тоже тяжело переживала конкуренцию с Криспиной. В конце концов, уличенная в заговоре против брата, Луцилла умерла на Капри, а Криспина была обвинена своим мужем Коммодом в прелюбодеянии. Любил ли кого Коммод? Конечно, да! Но это была вовсе не жена, а Марция. Целых десять лет она своей красотой и искусством продажной женщины сводила его с ума. Будучи рабыней сестры Коммода, она получила от него вольную и попала во дворец на Палатин в качестве любовницы императора. Ее положение ничем не отличалось от положения законной жены, за исключением преднесения факела. В его покоях красовался огромный портрет Марции в обличье амазонки. Невероятно, но этим непредсказуемым Коммодом, уничтожившим почти всех сенаторов в Риме, управляла вольноотпущенница, она-то, скорее всего, и спасла тогда, о чем говорила Юлия Меза, Севера и ее, Юлию Домну, а точнее, их законный брак. Удивительно, но красивые женщины, Марция и Юлия Домна, стали добрыми подругами, общавшимися много лет друг с другом без зависти, ревности, злобы и цинизма, а предметом их вечных споров была только великая культура Греции, откуда собственно родом и была Марция Аврелия Цейония Деметриада.
«Уж если до конца быть честной перед сестрой, – думала Домна, – то Марция оказала мне и Северу помощь дважды, поскольку неудержимое стремление к престолу моего мужа сыграло с ним злую шутку, когда он, вернувшись из Галлии, недолго исполнял проконсульскую должность в Сицилии и необдуманно вознамерился обратиться к местным халдеям за предсказаниями, будет ли он императором. Вскоре по доносу «доброжелателя» последовало обвинение, грозящее смертью Северу. Вершить суд было поручено самому префекту претория, который откровенно симпатизировал Марции и дурно отзывался о Коммоде. Тогда обвинен был только клеветник, за что и был распят на кресте. Конечно, обошлось не без помощи моей подруги».
Юлия Меза долго сидела в полном молчании, не сводя глаз с императрицы и изумлялась, как та, кому принадлежит весь этот мир, готовый исполнять ее волю, неумело и неуклюже пытается скрыть свои сокровенные мысли под маской улыбчивой и добродушной женщины.
Юлия Домна после долгого молчания медленно подняла голову и, встретив пронзительный взгляд сестры, преспокойно продолжала разговор, так и не пожелав поделиться с ней вслух своими женскими секретами, а, может быть, и горестными обидами.
– Благодарю тебя, сестра, – тихо сказала она, – за содержательный разговор об Апулее. Этот софист и впрямь философ, да какой! Он утверждает, что силой наш мир исправить нельзя. Он призывает бороться не со злом, а с питающим зло невежеством, в то время как мы пытаемся противопоставлять злу только наши добродетели.
Юлия Меза была очень рада, что их беседа стала приобретать другое направление и с готовностью поддержала сестру, с легким сердцем продолжив разговор.
– Да, пожалуй, зависимость Апулея от философии Платона очевидна. Ну как тут не вспомнить Сократа: «Лишь невежда совершает зло, а познавший самого себя может стать добродетельным».
Юлия Домна тоже не скрывала удовольствия от того, что сестра демонстрировала свою готовность продолжать беседу, а не спешила удалиться к себе в повозку под любым предлогом, как она часто делала, едва разговор касался болезненных для нее тем.
– Слава Богине Изиде, – произнесла Августа чуть громче, чем обычно, – что Апулей никого не клеймил, восторгался женской красотой, а не обличал всех и вся, как делал Лукиан, злобно взирая на Рим как на сосредоточение земных пороков, и не был так мрачно погружен в себя, как добродетельный Марк Аврелий. Сейчас, сестра моя, нам как никогда нужен новый Апулей, способный написать книгу не менее знаменательную, чем его «Метаморфозы», но гораздо более познавательную, способную надолго увлечь молодых людей.
– Неужели ты думаешь, что есть тот, кто сможет попробовать написать такую? – с сомнением в голосе спросила Юлия Меза. – Впрочем, постой, не говори ничего, я сама догадаюсь, кто бы такое мог сделать. Ну конечно, – от возбуждения Меза повысила голос. – Это, скорее всего, Клавдий Элиан, отменный мастер. Умеет и поучать, и развлекать.
– Не угадала, – Домна, как счастливый ребенок, зашмыгала носом от удовольствия, – но вполне соглашусь с тобой, что его «Пестрая история» и впрямь была хороша, я, помнится, писала ему об этом в Рим. Представляешь, этот молодой блюститель древних нравов Вечного Города до сих пор не женат и продолжает сторониться красавиц, которых я ему рекомендовала. Для меня остается загадкой, почему он вознамерился умереть бездетным? Уж не тронулся ли он рассудком?
Юлия Меза искренне сожалела, что ее любимец Элиан никак не попадал в сферу литературных интересов императрицы, и ее интенсивная жестикуляция в знак неодобрения сентенцией сестры означала, что она все же желает переубедить собеседницу, переходя на нелицеприятные откровения, свойственные женщине, страдающей уязвленным самолюбием.
– Дорогая, ты прошла тернистый путь одномужней матроны, но храм патрицианского целомудрия для тебя оказался тесен, и гимны, что звучали там, были не по твою душу. Не подумай, я не мечтаю застать тебя, мать семейства, за прядением шерсти и изготовлением одеяний для сыновей. Да, они, став императорами, вряд ли будут носить окаймленную пурпуром тяжелую тогу и сапоги из красной кожи, как делали ранее древнеримские цари. Сейчас им больше по душе галльская каракалла. Ты еще когда на сносях была, не была замечена в добродетелях, принятых для mater familias, просто потому что с рождения ты воспитывалась отцом как свободная женщина. Но Клавдий Элиан был воспитан по-другому, не как все в Риме, он образец пуританства, потому мне по душе его перо, проникнутое моралистическим духом, к тому же он римлянин от роду! Истово почитает Изиду и Сераписа, враждебен к атеизму, владеет аттическим языком не хуже афинян. Чего же более?
Видя бесстрастное лицо сестры, Меза стала терять терпение.
– Если Элиан тебе не так хорош, тогда как тебе нравится Афиней, этот египтянин, чей литературный стиль так хвалил Гален, и, как я помню, его охотно рекомендовал твоему вниманию достойнейший юрист Домиций Ульпиан?
Юлия Домна всем своим спокойным видом демонстрировала сестре, что выбор ее останется неизменным, и менять его она не собирается.
– Ты отчасти права. И врач-философ Гален, и Ульпиан – люди достойные, я их уважала и к мнению их прислушивалась. Гален умер, но приходят новые, и в моем интеллектуальном окружении нет лиц недостойных. Заметь, родная моя, что всех их отличает энциклопедический ум, молодой возраст и жажда перемен. Тут и Диоген из Лаэрты, и Дион Кассий, и Ульпиан, и Афиней, Элиан и Флавий Филострат тоже. Домна протянула руку с загнутыми пальцами сестре и посмотрела на нее. Уловив недоумение во взгляде Мезы, императрица продолжила:
– Да-да, дорогая моя, и Филострат! Он, надеюсь, и станет автором той книги! Почему именно Филострат, а не, например, Элиан, которого ты мне так настоятельно рекомендуешь? Совсем не потому что он грек и отец его – знаменитая в литературных кругах личность, а потому, что он решителен и дерзок, он молод духом. Помню, как-то Элиан сочинил обвинительную речь против одного сейчас почти забытого тирана, который осмелился обличать римлян. Элиан читал нам свою книгу, играя на приглашенную публику, и гневно повышал голос. Тогда Филострат, присутствующий на чтении, сказал ему: «Я был бы в восхищении, сочини ты эту речь при его жизни», – снисходительно дал понять, что настоящий муж должен обличать живых тиранов, а мертвых пинать может любой, кому не лень. Мне нравится беседовать с Филостратом, он не слащавый угодник или лизоблюд, его осмысленная дерзость располагает к доверию. Я не жалею золота в благодарность каждому – будь то софист или философ, оратор или юрист, посещающий мой узкий кружок единомышленников, и, пожалуй, каждый, доверь я ему мой заказ на книгу, исполнил бы его достойно. Ты, сестра моя, едва вышла из своей повозки, чтобы перейти в мою, сразу обратила внимание на странно одетого человека, и судя по твоим наблюдениям, странствующего пифагорейца, зыркающего глазами, – Юлия Домна внимательно следила, как сестра следует за ее мыслями. – Наша империя переполнена шарлатанами, магами, чудотворцами. Все римские дороги забиты странным людом. Раньше действительно считалось, что Фессалия в Греции и Каппадокия в Азии – это столицы магии римской империи. Пришли новые времена, и все восточные провинции стали проявлять худшие черты Фессалии и Каппадокии, а сейчас болезнь распространилась и на север империи. Германия, Галлия, Испания все больше напоминают мне родную Сирию. Где, скажи мне, дорогая, высоконравственные примеры для подражания? Я предложила Филострату написать книгу об Аполлонии из Таины, для начала взяв сохраненные мною манускрипты, точнее, записи Дамида из Ниневии, который хорошо знал Аполлония лично, в качестве основного материала для создания его образа. Заметь, не мага, а истинного чудотворца с моральными качествами в духе римских традиций, примера для подражания. Думаю, что сейчас самое время после продолжительного забвения вернуть к жизни фигуру мага из Таины и привлечь к нему всеобщее внимание образованной части римских граждан. Безусловно, книга должна быть интересной, даже захватывающей по своей фабуле и морально поучительной по сути.
Юлия Меза от неожиданного выбора сестры в качестве героя книги человека известного ей с юных лет по рассказам отца, привстала с табурета. Вопрос «почему» застыл на губах, и ей потребовалось некоторое время, чтобы почти прокричать:
– Все мы знаем имена великих магов, но почему именно он? Я знаю, что смыслом его жизни было возрождение нравственного содержания учения Пифагора. Но вспомни, что он говорил: «Нет пользы городу в каменных истуканах и зрелищах…». Он выступал против ристаний и гладиаторских поединков. Он против всех статуй, а ими, дорогая сестричка, заставлены все форумы римских городов, причем большинство с твоим ликом.
– Это не так! – возмутилась Августа. – Аполлоний никогда не замышлял преобразований в нашем государстве. Ты лучше вспомни, чем он закончил свою сентенцию.
– Чем же? – спросила Меза.
– «Ежели не достает ему разумения и закона». Разумения и закона, дорогая моя, – повторила Домна. – И в этом весь смысл его высказывания.
Губы добродетельной матроны дрожали. Чтобы как-то успокоить сестру, императрица примиряющим жестом усадила ее на место.
– Хорошо, назови мне имена этих великих, – сказала она спокойным тоном.
– Пожалуйста, давай вспоминать: Заратустра, Моисей, Пифагор, Дамид…Наконец, Иисус Христос, – и Юлия Меза загнула мизинец на правой руке.
– Кто? – настала очередь удивляться Домне. Возлежать ей надоело, и она села на кушетку, отстранив на время усердную служанку.
– Как кто? – удивилась растерянная Меза. – Иисус Христос. Я называю тебе только тех магов, которых упоминают в своих известных трактатах Авл Геллий, Апулей, Цельс, Тертуллиан, Лукиан, Диоген, да и другие твои знакомцы.
Лицо Домны выражало неподдельное удивление, а её глаза горели любопытством.
– Ты назвала магом Иисуса Христа. Мы с тобой однажды уже обсуждали христиан, точнее говоря, книгу Марка Аврелия, и было это в присутствии мужа моего – Юлия Домна повернула голову к двери, где в углу на треножнике стояла небольшая алебастровая урна с прахом усопшего императора, наполненная благовониями, и многозначительно подняла глаза в немой молитве.
Ненадолго в повозке установилась тягостная тишина. Скрип колес да окрики и свист погонщиков напомнили сестрам о скором прибытии в Лугдун.
Юлия Августа продолжила:
– Что сейчас говорить, понятно, что стоицизм Марка – философия в первую очередь римских сенатских кругов, но никак не простого народа. Цель его философии – переносить спокойно все несчастья, научить людей жить для общества, укрепить их в добродетели, помочь выбрать твердый жизненный путь. Но разве сейчас стоицизм не пришел в упадок? Разве последний его преданный приверженец, наш божественный Марк Аврелий, в своем трактате, скажем честно, до крайности пессимистичном, не сделал упор на невозможность что-либо исправить в этом порочном, исполненном зла мире? Слава Богам нашим, что он не успел разувериться в их могуществе. Однако так и не уверовал ни в бессмертие души, ни в правоту божественных законов. Вспомнил ли он о Христе и его последователях? Да, вспомнил однажды, когда говорил о душе. Марк говорил, что душа человека должна быть готова отрешиться от тела без оттенка воинственности, свойственной христианам, строго без театральности. Заметь, он подчеркнул воинственность и театральность поведения христиан. Его отрицательное отношение к христианам определяется не религиозными соображениями, а чисто философскими побуждениями. В годы царствования Марка действительно были гонения на христиан, но только однажды и только в Лугдуне, куда мы с тобой скоро приедем. Гонения были связаны не с его политикой, а с ненавистью народа к христианам, которых они считали виновниками эпидемии. Не хочу хулить Богов, но, наверное, стоит вспомнить с благодарностью Овидия Кассия, тогда поднявшего восстание на юге Империи против Марка. Это заставило императора оторвать свой взор на время от маркоманов и сарматов на севере и побывать наконец у нас в Сирии, и даже дойти до Александрии. Ты, сестра, была почти взрослой девушкой, когда видела Марка, проходившего с легионами через наш город. Его знакомство с Лукианом, проживавшим тогда в Александрии, а также с Цельсом, были, скорее всего, не случайными. Позже Цельс написал свой трактат «Правдивое слово», благодаря которому и мы с тобой тоже смогли разобраться, что, собственно, из себя представляет пророк Иисус Христос. Даже Дион Кассий, этот историк-всезнайка, отвечая мне однажды на мой запрос, отписал, что христианство с его точки зрения – это всего лишь разновидность иудейских обычаев. Я ценю слово Диона Кассия Коккейана как слово мудрейшего из историков Рима, но и Цельса, и Лукиана ценю тоже высоко. Что Цельс, что Марк Аврелий – не враги христиан. Их религия вызывала у Цельса и у Марка лишь жалость, а не гнев. Они гуманные просветители и верили в силу убеждения и логику. Теперь ты, как я понимаю, готова предложить мне Иисуса на роль главного героя будущей книги как великого чародея!
Юлия Меза подтверждающее кивнула, не проронив, однако ни слова, как того требовала благородная скромность. Она любила слушать сестру, когда неподдельная любовь к софистике окрыляла эту матрону, известную в народе как матерь лагерей, сената и Отчизны, а теперь еще получившую и титул «Феликс».
– Допустим, – опустив веки, согласилась с сестрой Домна, – но тогда хочу задать вопрос: был ли Иисус на самом деле? Существуют ли материальные свидетельства его жизни? Минуло ровно два столетия с даты его вероятного рождения. Мы с тобой изучили работу Цельса и теперь знаем, что никаких свидетельств, подтверждающих присутствие Иисуса на Земле, Цельс не обнаружил. Не потому ли друг Цельса Лукиан так едко и зло высмеивал христиан. Вспомни шедевр его красноречия – рассказ «Лжепророк». Его до сих пор читают не только в библиотеках Александрии, но и в самом Риме. Читают, да подсмеиваются. Обращаю твое внимание, сестра, что там Лукиан вспоминает и об Апполонии из Таины! Его сарказм по поводу Апполония сейчас мы опустим. Меня интересует сухой факт упоминания прославленным писателем имени Аполлония из Таины как доказательство существования его на Земле.
Юлия Меза не удержалась и, поднявшись со своего табурета, подошла к сидевшей сестре так близко, что почти касалась ее колен, и заговорила тихим голосом:
– Как ты можешь утверждать, что Цельс не нашел никаких свидетельств, если он писал, что Иисус родился в иудейской деревне у девы, зачавшей его не от Иосифа, с кем состояла в законном браке, а нагуляла в блуде с греческим легионером по имени Пантера и, уличенная мужем-плотником в прелюбодеянии, была изгнана из дома! Цельс утверждает, что Иисус, в юности нанявшийся поденщиком скота в Египте, искусил способностей, которыми там славится народ. Наделенный искусством магии и чудотворства, Иисус вернулся на родину и объявил себя Богом.
Юлия Домна властным движением руки повелела сестре замолчать.
– Так кто же он, дорогая, чародей, волшебник или все же Бог? – в её глазах застыл вопрос. – Иисус творил с помощью божественной силы или магии? Если Иисус был так всемогущ и являлся сыном Бога, то в нашем с тобой понимании формальной логики Аристотеля мать Иисуса должна была быть небесной красоты, иначе непонятно, почему именно с ней соединился Бог. Также логика нам с тобой подсказывает, что если Иисус является Богом, а, впрочем, пусть остается просто магом или чудотворцем, то почему допустил он, чтобы его мать не имела достатка и влачила жалкое существование? Цельс был серьезным философом, и Марк Аврелий, поручая ему написать правдивую историю о великом маге Иисусе, надеялся, что она ответит на многие вопросы. Цельс сам прошел по Палестине от Галилеи через Самарию до Иудеи в поисках доказательств жития пророка и его матери Марии. И Иерусалим, чье имя сейчас забыто стараниями божественного Адриана, усмирившего безумства иудеев, ни в чем не напоминает то, что возможно видел Иисус. Город претерпел значительные изменения, сменив название на колонию Элия Капитолина. Новые прямые светлые улицы со своим кардо и декуманусом[21] и Храм Юпитера, что высится на развалинах иудейской святыни, совсем не напоминают о годах величия иудейских царей. Телесный образ Иисуса Цельса описывал мало не потому, что не хотел, а оттого, что не о чем было вещать. По слухам Иисус не был велик ростом, был слаб физически и далеко не красавец. Почти все, что удалось написать Цельсу, было создано на основе слухов и догадок, изложенных в древних книгах, хранящихся в Александрии. У меня до сих пор не укладывается в голове, как Иисус мог допустить, чтобы в него – Бога, мага или чародея – плевали люди, и над ним издевался Понтий Пилат и первосвященники. Я думаю, в его силах было поступить так же, как поступил чудотворец Апполоний Таинский во время неправедного суда у жестокого императора Домициана. Как следует из фактов, изложенных в бумагах у Дамида, он просто исчез из дворца, испарился, и появился уже далеко от Рима в безопасном местечке под названием Дикеархия. Почему Иисус после воскресения, если таковое вообразимо, не появился на глаза Понтию Пилату или первосвященникам? Разве все это не напоминает тебе, дорогая моя сестричка, насмешки Лукиана из Самосаты! Всю свою книгу Цельс писал, черпая сведения из разрозненных и противоречащих друг другу рассказов, взятых из Евангелий, ходящих по рукам в Египте у коптов и у иудеев, что остались еще в Палестине.
Юлия Меза положила руки на плечи сестры, и когда императрица замолчала и подняла на нее глаза, произнесла:
– Не все он почерпнул из Евангелий. Например, того, что Иисус родился от грека Пантеры, как утверждал Цельс, там нет.
Юлия Домна в отличие от старшей сестры была абсолютно спокойной, и ее голос не дрожал от волнения.
– Ты об этом мне, помнится, уже говорила, – она ласково улыбнулась. – Значит, о Пантере он узнал из других старых иудейских манускриптов, коими полны александрийские полузабытые хранилища, и согласись, источник ровным счетом ничего не меняет.
Домна помедлила и, глядя на сестру, добавила:
– Видишь, дорогая, сколько у нас вопросов, оставленных без ответа историей, а ты призываешь меня взяться за новую книгу об Иисусе. Главное для нас заключается совсем в другом. Полагаю, что почитание древних Богов – это не столько вопрос веры, сколько уже вопрос традиций, поскольку наши древние культы олицетворяют собою единство гражданского сознания римского народа. Но христиане не желают почитать наших Богов и следовать культам божественных императоров. Они оскверняют святые места, нарушая наши законы, и театрально идут на смерть по обвинению в нарушении закона «О святотатствах», а их священники причисляют их к лику святых и объявляют их мучениками, тем самым поощряя других на подобные поступки. Значит, христианство вместе с Иисусом ведет к подрыву единства нашего общества. Если даже этого единства у нас нет до сих пор в той мере, в какой бы хотелось, то людям нужна хотя бы видимость этого единства, чтобы в границах огромной империи не чувствовать себя изолированным. Наши древние культы связывают ныне живущих с прошлым поколением, с жизнью предков. Цельс считает обязательным условием нормального существования общества включенность человека в общественную жизнь ради пользы законов и благочестия. Последователи Иисуса Христа, как правило, люди необразованные, а Цельс, как и его патрон Марк Аврелий, презирали именно необразованность. Мне же нужна книга, которую будут читать люди образованные, которые на любое заявление писателя будут задавать вопросы «как и почему», поэтому герой будущей книги должен быть реальным гражданином нашего государства, а не небожителем.
Юлия Меза усилием воли преодолела волнение и заставила себя снова сесть на табурет возле ложа, на котором все еще сидела, а не возлежала сестра. Домна заметила, что ее глаза потеряли свой утренний блеск, спина ссутулилась, и казалось, что Меза, вечно жаждущая познания и желающая спорить по любому вопросу, сейчас замкнется в себе и под разными предлогами засобирается перейти из повозки императрицы к себе. Но младшая сестра ошибалась. Меза только внешне излучала равнодушие, ее мозг интенсивно работал в поисках аргументов для продолжения дискуссии. Наконец она нервно сглотнула и неуверенно произнесла:
– Иреней…
– Кто? – переспросила Юлия Августа.
– Иреней, – сказала Меза громче и уверенней. – Ты считаешь, что он тоже недостаточно образован?
– Ты сейчас кого имеешь в виду? Только говори яснее.
– Я имею в виду Иренея из Смирны, второго епископа лугдунского. Ты должна его помнить.
– Иренея, который когда-то жил в Лугдуне? – пожала узкими обнаженными плечами Домна. – Имя и вправду как будто знакомое. Когда это было-то? – призадумалась она. – Если только тот бородатый и застенчивый с виду философ уже немолодых лет.
Она посмотрела на сестру и спросила:
– Ты-то откуда его знаешь?
– В том-то и дело, что я не знаю его вовсе и даже тогда, когда навещала тебя в этом городе после твоего брака с Севером, ты никогда о нем разговор не заводила. Про него мне много раз говорили коптские христиане, что часто наведывались ко мне в Антиохию из Александрии с разными прошениями. Они-то мне и поведали в подробностях об этом праведнике и его загадочной душе, называя его отцом церкви.
– О чем же шла речь? – поинтересовалась императрица, ворочаясь на ложе и пытаясь занять удобное положение.
– Они мне больше все про Иисуса твердили, какой он чародей был на самом деле, выдавая его за сына божьего. А я им вроде тебя поначалу все в пример приводила Дамида нашего, а потом и Аполлония из Таины не забывала помянуть, дескать, он не в пример Иисусу велик был воистину, мог даже, когда ему заблагорассудится, исчезать с глаз долой и перемещаться в пространстве, особенно, если почует для себя какую опасность.
– И что же они говорили тебе в ответ? – добрая улыбка на лице Домны располагала сестру к откровенному рассказу.
– В ответ они стали рассказывать об Иуде Искариоте, будто был такой ученик у Иисуса Христа, возможно, даже самый лучший среди всех двенадцати. Он в их общине хранителем казны был. Копты в подтверждение слов своих даровали мне книгу, написанную вроде даже самим этим Иудой. Ты знаешь еще от Цельса, что о бытии Иисуса на Земле христиане узнают из этих самых книг, написанных его малограмотными учениками.
Юлия Августа в знак согласия слегка кивнула головой.
– Так вот, копты эти, передавая мне означенную книгу в дар, предупреждали, что вторую такую трудно будут сыскать на земле, поскольку всему виной стал этот Иреней из Лугдуна.
– Если поразмыслить и представить, где копты проживают, а где Иреней много лет проповедует, то поверить мудрено. Дорога дальняя, не всякому по плечу, да и не по карману нищему иудею. Выходит, знакомец мой лугдунский влияние в секте своей имел громадное и связи в империи, ежели даже копты его слушались, – изумилась Августа.
– Не торопи меня с ответом, ты лучше послушай дальше, – сказала Меза, заметно волнуясь. – Как будто бы годов эдак пять до вступления в должность наместника этой части Галлии Септимия Севера в самом Лугдуне собор христианский прошел, и на нем верховодил всем Иреней, и приняли они совместное решение оставить всего лишь только четыре книги из всех, что ученики Иисуса написали о его житии и считать отныне их канонами.
– А куда же остальные книги повелели девать? – снова поспешила с вопросом Домна.
– Остальные в целях сохранения единства веры приказали уничтожить или лучше даже сжечь, чтобы смуты не создавать в сердцах верующих и тем самым ересь не плодить. А того, кто ослушается, обещано было отлучить от церкви.
– Скажи, ты тот манускрипт сохранила или, поди, отдала кому?
– Как же не сохранить было. До сих пор у меня в личном табуларии, что я отстроила в своем поместье в предместьях Антиохии, библиотекарь числит в списках наличия.
– Так и что же в книге той такого написано, чтобы речь о ней держать так долго. Может, тайны какие скрыты? – глаза Юлии Августы блестели любопытством.
– Со слов коптов могу только сказать, поскольку все сама разобрать не сумела сразу. Этот текст, оказалось, сперва писался на арамейском, затем его греки на свой лад перевели, а уже потом копты на своем языке изложили. Пусть и читаю я легко на всех языках семитских, да только разумею не всяко, чтобы в толк взять, поскольку изъясняются они не просто и дело вовсе не в самом языке, а в мыслях мудреных.
– Ну-ну, рассказывай дальше, как сможешь, лишь бы складно вышло.
– Так вот, – зевнула Меза и потрясла головой, прогоняя сон, навеянный монотонным стуком колес. – Копты считают, что Иуда Искариот в своем Евангелии все как было на самом деле в жизни без прикрас и выдумки изложил. Иисус там так же, как и наш Аполлоний, был способен чудеса творить разные. И по водам хаживал, и исцелял, и оживлял, но главное, тоже где надо, исчезал на глазах и даже перевоплощался, принимая облик другой точь-в-точь, как у Апулея в книге «Золотой осел». И перемещаться в пространстве невидимым тоже мог. Они, эти священники христианские, во главе с Иренеем, посчитали тогда в Лугдуне, что грех предательства, совершенный Иудой, был столь велик, что этого алчного отступника они нарекли сразу всеми синонимами подлости человеческой. На самом же деле, как в той книге, что у меня хранится, Иуда сделал ровно то, что ему велел будущий спаситель рода человеческого, обладавший силой абсолютной власти. Я запомнила одну строку, которую повторяли копты из раза в раз. Ты только послушай, что говорит Иисус Иуде перед казнью, оставшись с ним наедине: «Ты превыше всех учеников моих. Тебе надлежит пожертвовать человеком, скрывающим меня». Заметь, что история предательства Иуды была упомянута только в тех четырех книгах, что приказал оставить Иреней. В других, как утверждают копты, об этом не было сказано вовсе. Египетские христиане убеждены, что Иисус заранее знал, что будет распят, и всем ученикам своим раздал роли. Роль Иуды была предать. Но помыслы Иуды были возвышенны оттого, что он один правильно понял Учителя и был убежден, что страдать на кресте Учитель его не будет. – Меза с облегчением в сердце снова присела на табурет.
– Выходит, история предательства Иуды, изложенная в тех канонах, что оставил Иреней, это, возможно, чистый вымысел, далекий от правды жизни. Вымысел тех, кто стоял у истоков церкви христовой. Нам с тобой это только на руку. Сама посуди, служители этой секты, скрывая от своей паствы великие чудеса, на которые сподобился Христос, и предавая огню книги прочих учеников, в угоду учению тем самым, может, даже сами того не ведая, облегчили нам работу с новой книгой об Аполлонии. Мы же все чудеса, что он творил, наоборот покажем до последнего, чтобы возвысить его значимость, и назовем мы эту книгу на манер учеников Христа «Житие Аполлония из Таины».
Домна радостно посмотрела на старшую сестру.
– Только вот что я не поняла из твоего рассказа: зачем римляне взвалили не себя грешный труд своими руками казнить Иисуса, или другой заботы у Пилата на тот момент не было?
– Как раз наоборот. Все было исполнено по закону. Законы Рима суровы, но это наши законы!
– Тогда смилуйся и вразуми непонятливую сестру свою! – снова на губах Августы заиграла шутливая улыбка.
– Так ведь Христос не просто топтал ногами босыми земли Палестины и демонстрировал приемы колдовские, творя на пути своем чудеса невиданные. Он еще и проповедовал, пока не въехал верхом на ослице в ворота Иерусалима с великой вестью к горожанам, что он и есть царь иудейский, тот самый Мессия, кто, возможно, и исполнит ветхозаветные пророчества, тот, которого так долго ждал Богом избранный народ. Ученики его тоже верили в Иисуса как в Мессию, царя нового мира, который придет к власти и все враги его падут. И в первую очередь сам великий Рим.
– Чего же не исполнил?
– Знать, не поверил ему Синедрион во главе с первосвященниками, да и главное, сам народ иудейский воспринял весть благую с сомнением. Вот и потребовал от римского префекта Понтия Пилата утвердить решение Синедриона казнить Иисуса по закону Рима на основании «оскорбления величия».
– Как же тогда сам Иисус позволил им над собою надругаться, если он и вправду был тем, за кого себя выдавал?
– О том и речь, что в книге от Иуды записано, что пожертвовали только человеком, скрывающим его. Иуда верил, что Мессия не будет страдать распятым на кресте, оттого и исполнил наказ Учителя продать его Синедриону.
– Ладно, – махнула рукой Августа в сторону сестры, – дальше не надо. Бог на то и Бог, он и не может страдать, он бессмертен. И закончим на том. Не все, видать, у этих священников христианских складно выходит, оттого столько ереси по земле гуляет. Но это их проблемы, а не наши, пусть у них и голова болит.
– Как же ты заканчивать собралась, – всполошилась Меза, – если на мой вопрос об этом самом Иренее так вовсе ничего не рассказала.
Юлия Домна широко улыбнулась, излучая добродушие.
– Ты все об этом старце, что выдавал себя за вельможного лугдунского священника и внушал мне доверие своей почтенной бородой и осанкой? Помню, голос он свой подавал только по делу.
Юлия Домна снова внимательно посмотрела на сестру.
– Я поначалу никак не могла взять в толк, зачем ты мне этого Иисуса в разговор о герое нашей книги всю дорогу навязывала. Оказывается, виной тому, скорее, были копты. Хорошо же они мозги тебе прочистили, если даже ты за Христа вступилась. Эти новоиспеченные христиане лезут сейчас всюду и целят в душу. Берегись! – Домна в шутку погрозила сестре пальцем.
– Ты бы лучше сама не отвлекалась, а то опять разговор об Иренее в сторону уведешь.
– Да, – сказала Августа, – я, пожалуй, только сейчас отчетливо вспомнила, кто он такой был. Только прошу, не забывай, что тогда, при первой нашей встрече с ним я носила в себе Гету и была вся в мыслях о первенце своем. Никаких других дум в голове не держала. Что, собственно, я могу тебе о нем сказать? – она долго собиралась с мыслями и даже опустила голову, чтобы попробовать сосредоточиться. – Умен он. Тут спору нет, – наконец выдавила из себя Августа. – Только уж очень мудрено выражался. Мысль свою упрячет так глубоко, что призадумаешься, либо я тогда была глупа, что только тряпку впору сосать, либо он сам был недосягаем до женского трезвого разумения. Слыл в Лугдуне ревнивым цензором христианских нравов. Помню, мое внимание привлекли шумные россказни местных матрон о его необычайно емкой памяти. И впрямь оказалось, он был способен подолгу декламировать известных поэтов, особенно греческих, приводя в восторг неокрепшие девичьи умы. Этим и пользовался. Его паства пополнялась не только за счет местных иудеев. Сам же Иреней, как оказалось, был вовсе и не иудей и не грек, а сириец родом из Смирны. Вот, пожалуй, и ответ, почему он так привлек мое внимание к себе, – сказала Юлия Августа, довольная тем, что сумела удовлетворить любопытство сестры. – Да, вот еще. Он спросил, знаю ли я, что означает мое прозвище Домна на арамейском. Я притворилась, что как будто бы не знаю, а он мне скажи, что «Домна» – это латинское имя, деформированный перевод с арамейского имени Марта, что означает «госпожа». Значит, и надлежит быть мне императрицей. Обещал об этом молить Бога своего.
Юлия Меза закивала головой:
– Видно, нужна ты ему была очень.
– Да, Иреней уже тогда нуждался в расположении к себе наместника, но подход к нему рассчитывал получить через мою благосклонность. Еще с тех давних пор, когда правил страной Марк Аврелий, и на христианскую секту в Лугдуне обрушился гнев горожан за ворожбу проклятую и последовали гонения, Иреней уяснил крепко, кто там хозяин и как стоит дорожить расположением местных магистратов, не говоря уже о наместнике всей лугдунской Галлии. Иреней уже в нашу первую встречу в открытую намекал на то, что я финикийка из Эмессы, а муж мой по отцовской линии был пуниец, а, значит, и сам с семитскими корнями. Видишь, дорогая, как этот Иреней все в свою пользу вывернул! Был убежден, что для него это большая удача, что его избрали вторым по счету епископом Лугдуна, а судьба даровала ему встречу со мной, тоже сирийкой, как и он сам. Клялся тогда, что будет молить бога своего за нашу с мужем удачу, и быть нам с Севером в скором времени людьми известными во всей Империи. Я тогда не удержалась, возьми, да расскажи мужу о нашем с ним знакомстве. Не скажу, что в тот же день, конечно, но как только случай представился. Север обещал подумать, да и ему тоже, перед тем, как расположение свое выказывать епископу, хорошо было бы заручиться одобрением Коммода. Однако в скором времени мы срочно покинули Лугдун, получив новое назначение в Сицилию, а затем и вовсе отправились в Верхнюю Паннонию. Прошло с тех пор лет эдак восемь, как волею богов оказались мы снова в Лугдуне, но уже в другом качестве. Клодий Альбин был побежден моим отважным мужем. Смотри-ка, сестричка, случилось в феврале за десять дней до мартовских календ ровно, как сейчас, но тогда в самом Лугдуне разрушения были превеликие и горе людское огромное, но заметь, гонений на христиан не было вовсе. Тогда-то в дни скорби по боевым товарищам мужа у костров погребальных и состоялась наша следующая встреча с Иренеем. Я лично представила его Императору, проводя в шатер. Он убеждал мужа, что все прошлое время молился за нашу семью и что его давние пророчества сбылись. Север не обещал ему своего покровительства, но в то же время дал понять, что епископ может рассчитывать на доброе расположение и обещание свое сдержал, по крайней мере, до времен своего императорского указа во время нашего долгого вынужденного стояния в Иерусалиме, то бишь в Элии Капитолине. Было бы глупо со стороны Иренея рассчитывать тогда на что-то большее. Мне казалось, что указ уберег Иренея и его секту от дальнейших погромов и гонений, и хоть жестоко ограничивал желание Иренея привлекать в паству вновь обращенных, самим своим наличием впервые даровал христианам определенное положение, признавая их секту в римском праве. Но Иренею хотелось большего. Он много и часто писал мне, но мне ли было соглашаться с ним, когда я уже примеряла на себя образ Изиды. Особенно много было писем от него после оглашения в городах империи эдикта Севера. Уверял в пагубности затеи мужа, поскольку закон бил ему как епископу не в бровь, а точно в глаз, ибо цель священного служения Иренея в Галлии была именно в распространении христианской веры не столько среди иудеев, сколько среди тамошнего галльского люда и прочего плебса. Уверял меня, что в скором времени новая вера верх возьмет над другими, убеждая, что вопреки эдикту Севера христианство ускорит свое распространение по всей империи. В кругу прихожан своих по всей Галлии Иреней даже пробовал подменять культ Изиды культом Богородицы. Удержу ему не было, и не боялся он гнева императорского и законных преследований. Не хотел он понимать, что в империи и так культы умирающих и воскресающих богов распространены повсюду: Осирис, Дионис, Митра – со счету боюсь сбиться, если начну перечислять всех. Теперь вдобавок к ним еще один нашелся – Иисус Христос. Понятно, что Иренею тогда было невдомек, что мы с Севером были в ту пору уже в Египте. Император на радость жителям той земли учредил в Александрии городской совет и разрешил уроженцам Египта становиться римскими сенаторами. Мы прошли по следам Цезаря и Клеопатры, Адриана и Сабины, проплыли по Нилу от Александрии до Фив. Стали посвященными в запретные письмена, хранящие тайные знания, скрытые в усыпальнице Александра Македонского. При нашем добровольном согласии и с одобрения жрецов Египта мой муж принял на себя образ Сераписа, а я – Изиды. Перед нами открылись врата абсолютной власти, способной определять судьбы. Распоряжением Севера вход в усыпальницу Александра был замурован. С тех пор минуло ровно десять лет. Я являю собой в нашем Отечестве идеал женственности и материнства. Миллионы римских женщин ежедневно поминают имя Изиды в своих молитвах и боготворят меня, веруя в мое божественное происхождение. Благодаря мне культ богини Изиды стал в империи повсеместен наряду с культом Сераписа. О тысячах статуй в римских городах с моим изображением я и говорить не хочу.
Заметив в глазах сестры сомнение, Домна простерла руки в сторону урны с останками мужа.
– Скажи, божественный отец, тот, в чьем лице империя обрела своего спасителя на многие годы, разве не я, родившая тебе сына и оберегавшая тебя всю жизнь от злых духов, и есть живое воплощение Изиды, которой повинуется судьба…
– Клеопатра тоже была одержима своей божественностью, считая себя дочерью Изиды, – сказала Юлия Меза, подняв глаза на сестру. – Она тоже была уверена, что ни один смертный не способен уничтожить ее. Ты и Изида? Прошу тебя, не заполняй пустоту внутри себя обманом.
На сей раз Августа совсем не рассердилась. Она была невозмутима и произнесла:
– Ничто так не обманывает, как правда, ибо люди хотят быть обманутыми.
В повозке на время воцарилась тишина.
– Но это же полный абсурд, – едва слышно прошептала Меза.
– Credo quia absurdum est! – вдруг сказала Августа, впервые за долгое время перейдя с греческого на латинский.
– Это кто же такое умудрился сказать, – подобие улыбки появилось на тонких губах Мезы. – «Верую, потому что абсурдно», – повторила сестра вслед за Августой, но уже по-гречески.
– Тертуллиан, а он уж знает, что говорит.
– Боги милосердные, – взмолилась Меза, – такой достойный софист, и не догадаешься сразу, что может прийти человеку на больной ум.
– Клянусь Изидой, он совсем не потерял рассудка. Вот уж кто действительно мог бы написать книгу об Аполлонии, о которой я мечтаю.
– Ты шутишь, наверное, – сказала Меза и замахала руками, словно прогоняла дурных духов.
– Совсем не шучу. Я читала, как и ты, его труды. Превосходный мыслитель и филолог. Вровень с самим Апулеем можно поставить. Иреней мне тоже хвалил его не один раз. Говорил, что Тертуллиан положил начало их церковной латыни, к тому же первым употребил слово «троица» на этом языке. Но главное, за что ценил его Иреней, так это за то, что Тертуллиан смело утверждал, что Отец, Сын и Дух святой обладают одной божественной природой. Но это так, – махнула рукой Домна, – к слову пришлось. Это вопросы их веры христианской. Мне до этого нет никакого дела. Я когда его впервые читать начала, то сразу заметила, что он в апологии христианства умело пользовался доводами разума, блестяще владел логикой. Эх, – горестно вздохнула Августа, – был же он раньше ярым сторонником Эллады. Не скрою, его парадоксальное мышление мне было очень мило. Ты только послушай, как он мог писать. – Домна подняла с мягкой подушки голову и застыла, прикрыв глаза, словно Изида в минуту медитации, перед тем, как изречь заученную сентенцию по памяти:
– «И я, презрев стыд, счастлив и бесстыден, и спасительно глуп, Сын Божий распят – это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий – это совершенно достоверно, ибо нелепо; погребенный воскрес – это несомненно, ибо невозможно». Каково сказано! Как звучит он на латыни! Вот такой мастер слова мне и нужен. – Юлия Домна прижала руки к розовеющим щекам. – Какую бы он мог замечательную книгу написать для меня!
– Да, но нам, эллинам, это кажется безумным, – продолжала возмущаться старшая сестра.
– В том-то и дело, что вместо того, чтобы становиться великим мастером слова, он впал в религиозные премудрости и повернул перо свое против эллинского любомудрия. Пригласить его в мою команду единомышленников сейчас означало бы стать заложником его заблуждений, да и он сам не прельстился бы благами нашей цивилизации. Не мечтает он о роскошной мраморной вилле на берегу моря, о деньгах и любовных утехах. В моих беседах с Севером мы часто вспоминали имя Тертуллиана, с которым супруг был знаком лично, когда посещал Афины. Оба они были молоды, их объединял интерес к познанию обрядов Митры. К тому времени Тертуллиан уже заслужил посвящение в третью степень. К тому же они оба помышляли принять посвящение в элевсинские мистерии, как того когда-то желали великие императоры и мыслители Адриан и Марк Аврелий. Что Тертуллиан, что муж мой – оба были уроженцами Проконсульской Африки и почти ровесники, имели похожие цели в жизни, даже желали подражать одному и тому же герою – Ганнибалу, грозе Рима и вечному его врагу. Север, став императором, своею волею установил статуи Ганнибала не только во всех городах империи, но даже в самом Риме, перепугав всех блюстителей древней славы Вечного города. То, что в сенатском сословии сейчас совсем перевелись представители славных патрицианских фамилий, совсем нет вины Севера, их изничтожила сама императорская власть за сто последних лет. Те же, что все же сбереглись волею богов, растеряли свое богатство и влияние настолько, что не в состоянии быть услышанными теми, кто знает и понимает разницу между Спиционом и Ганнибалом. Да простят и не покарают меня Боги, если я окажусь не права, но в истории остались только два героя, на которых сейчас хотят быть похожими наши юноши – это Александр Македонский и Ганнибал. Север в беседах со мной сокрушался и не понимал, что подвигло Тертуллиана, уже сложившегося и успешного адвоката-стоика, принять христианство. Примеры мучеников, демонстрирующих по выражению Марка Аврелия так театрально свою готовность умереть ради веры, вряд ли были первопричиной. К женщинам Тертуллиан охладел, но это полбеды. Он вздумал поучать всех нас. Сейчас Тертуллиан полагает, что наша цивилизация извратила человека, и единственный выход из создавшегося положения он видит в возращении к естественному состоянию. Выходит, во всем виновата наша цивилизация!
– Значит, не все так однозначно в нашем с тобой совместном понимании состояния вещей в государстве.
Домна всегда искусно умела управлять своими эмоциями, держа себя в рамках, подобающих ее статусу, лишь пальцы ее рук, впившиеся в край кушетки, говорили о ее непростом отношении к получившему в империи известность софисту Квинту Септимию Флоренсу Тертуллиану. Ее глубокий вздох говорил о многом.
– Кстати, – обратилась Августа к сестре, – было время, тебя волновал юридический статус женщины в империи, особенно когда ты оформляла документы, отчуждая в свою пользу те две огромные государственные виллы, построенные в предместьях Антиохии, которые были вовремя выкуплены за бесценок твоим мужем. Ты не хотела упускать свою выгоду и выиграла спор с проконсулом, используя свой правовой статус по закону, даже не прибегая к помощи двора. Роскошь этих вилл по мнению наместника Сирии могла сравниться только с любимой виллой Севера, что находится в Кампании. Ты тогда консультировалась у Папиниана и должно помнишь, что заботило нашего прославленного юриста.
Юлия Меза вынуждена была подтвердить слова сестры, не вполне понимая, зачем, собственно, это понадобилось Домне, и сказала слегка сдавленным голосом:
– Да, помню. Я помню даже главное юридическое определение, легшее на папирус Папиниана, и готова тебе передать его смысл почти дословно: «По общему правилу нашего законодательства положение женщин в империи хуже, нежели мужчин».
Юлия Домна привстала с кушетки и ткнула сестру пальцем в грудь, задрапированную цветастым шёлком и украшенную зелеными камнями в золотой оправе.
– Вот что тебя тогда тревожило – твои права! Ты сейчас стала богатейшей матроной, и твои права собственности защищены нашим законом. Вот о чем умалчивает Тертуллиан! Давай вспомним, что он смел говорить о римской женщине. Готова признать, что прочла его книги не без пользы для себя. Для меня стало очевидным, что Тертуллиан – серьезный враг целостности нашего государства, но сначала хочу сказать не о нем, а о римской женщине. Творческое созерцание любого творца-философа всегда подмечало в женской красоте две бездны: божественную и, говоря терминами самого Тертуллиана – дьявольскую. Тертуллиан подмечает только дьявольскую, а потому так однобок! Я согласна, что основным свойством красоты женщины является способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый. Для Тертуллиана же это означает начало непочтения и бунта. Поэтому женщина для него – это служительница дьявола и порока. Отсюда все его последующие сентенции касательно ограничения прав женщины. Для меня вся многовековая история Рима – это история достижения женщиной прав в нашем обществе. Величие Рима в том, что он предоставил женщине то, чего она была достойна, пусть даже и не в полной мере. Папиниан прав, что положение женщины в нашем обществе хуже, нежели мужчины хотя бы потому, что по римским законам женщина до сих пор не обладает полнотой гражданских прав, поскольку лишена избирательного права. Но со времен Октавиана Августа по законам Рима женщина обрела свободу быть уважаемой личностью в обществе, наследовать имущество – и в этом завоевание нашей цивилизации. Теперь Тертуллиан призывает нас вернуться к временам закона «Против роскоши», который запрещал женщинам носить на себе больше пол-унции золота, окрашенную в разные цвета одежду, ездить в повозках… дальше даже не хочу перечислять. Ну, когда такое было в Риме? Закон Оппия, внесенный в комиции четыреста лет назад в разгар войны римлян с Ганнибалом, был тогда продиктован необходимостью экономить средства для ведения военных действий. Через двадцать лет Катон Старший отменил этот закон под напором толп женщин, обступивших консулов и преторов с требованием возвращения своих прав. Римская матрона приобрела вес в обществе. Нас слушают мужчины, с нами считаются сенаторы, к нам прислушиваются императоры. Тертуллиан смеет утверждать, что рот женщине нужен, чтобы держать его закрытым. Нам надлежит слушаться и подчиняться только мужу, не пить вина, не красить ногти, не мазать губы, не подводить глаза. Ткани нужны только белые, чтобы закрывать тело и не соблазнять мужчин. «Украшай глаза скромностью, рот молчанием», – так, кажется, звучит его изречение.
Она обменялась с сестрой понимающими взглядами, и Юлия Домна продолжила:
– Он отказывает нам в праве разводиться с мужем и призывает всегда держать перед ним голову склоненной и вообще не выходить из дома. И все это ты, моя родная сестра, тоже готова называть возвращением к естественному состоянию? Ты что же считаешь, что он прав, утверждая, что наша цивилизация извратила человека? Он заявляет, что своими прическами мы, матроны, напоминаем ему проституток. Впрочем, досталось от Тертуллиана и мужчинам. Он считает, что второй брак это прелюбодеяние и равен двоеженству, но это мелочь по сравнению с его нападками на женщин. Его ненависть к женщине и к театру имеет под собой одну основу. Понимаю, почему он так агрессивен в своей нетерпимости к литературным творениям Апулея! В книгах Луция мужчины восторгаются красотой женщины, пленяющей их силой стройного тела и гибкого ума. Изида у него – главный образец преклонения. Никому ещё не удавалось сравниться с ним в мастерстве воспевания на латыни ее достоинств. Ты, дорогая моя, в великие праздники свои седые волосы тоже нередко красишь в рыжий цвет, как римские христианки, что понаехали в Рим в том числе и из Африки и компактно заселили земли между холмами Целия и Авентина. Им тоже досталось от Тертуллиана. Якобы, они стыдятся своего происхождения и темных волос и потому уподобляются матронам, стремящимся в свою очередь быть похожими на женщин, что приехали в Рим из Германии и Галлии. По всему видно, что Тертуллиан напрочь забыл «Искусство любви» Овидия, отрывки из поэмы которого мы зубрили в школе. Вспомни: «Платье украсит вас, а без украшений самое прекрасное лицо, будь оно похоже хоть на лицо прекрасной Венеры, теряет свою прелесть».
Юлия Меза, задетая откровениями младшей сестры, интуитивно подняла руки к голове, чтобы поправить прическу, и провела холеными пальцами, давно отвыкшими от тяжелого женского труда, по своим седым волосам, с детства упорно не желавшим укладываться в аккуратный пучок. Но носить модные в Риме парики Меза продолжала отказываться, хотя и признавалась сама себе в том, что готова последовать советам сестры. Часто прибегавшая к помощи париков при частой смене царского облачения, Домна экономила время и делала это с изяществом, достойным подражания. Многочисленные каменные бюсты с изображением её сестры в длинном девятиреберном парике восхищали римских женщин, мечтавших быть похожими на свою императрицу.
Меза продолжала молча слушать сестру.
– Трактат свой «Апологетик» Тертуллиан обратил не к своим единоверцам, а к сторонникам традиционных верований в империи. Значит, он, защищаясь, нас поучал. То же самое пытался совершить и Климент Александрийский во время нашего с мужем второго посещения столицы Египта. Его трактат «Увещевание к эллинам», а также сочинение «Какой богач спасется» произвели на мужа моего Севера пагубное впечатление, поэтому-то и Тит Флавий Климент подвергся гонениям, правда, он сумел избежать жестокой кары, вовремя покинув Александрию, укрывшись, как говорят, в Каппадокии. Призыв Климента к гражданам империи отказаться от традиционных обычаев веры не вызвал у Севера такого сильного возмущения, как нападки Климента на Бога Сераписа как хранителя культа Александра Македонского. Видимо, Клименту было неведомо, что наш император являл собой поборника славы Александра и всех Антонинов, а мавзолей Адриана будет местом покоя праха самого Севера, иначе, зачем так оскорблять Клименту Адриана, который, по его словам, не смог воспротивиться желаниям похоти своей и сделал своим любовником мальчика-красавца Антиноя. Мало того, Климент не понял, зачем Адриану понадобилось причислять Антиноя после смерти того к сонму Богов и удостаивать его почестей за блуд. Мавзолей Адриана Климент посмел неосмотрительно назвать «Храмом мертвецов». Дорогая моя, – глубоко вздохнула императрица, слегка хлопнув себя в сердцах по обнаженному колену ладонью, – и Тертуллиан пишет, что не понимает, за что Климент претерпевает гонения! Пусть продолжает молить своего Бога, чтобы свершилось чудо, и Климента Александрийского минула кара императорского эдикта, не потерявшего до сих пор свою силу.
Едва Юлия Домна умолкла, Меза сказала:
– По письмам моих осведомителей, что получала я в последнее время, я поняла, что катехическое училище в Александрии после бегства Климента, принял к руководству некто Ориген, еще совсем юноша. Сейчас он возмужал, и его имя часто на устах у известных философов Востока. Говорят, что он лелеет мечту сочинить трактат против «Правдивого слова» Цельса, но на написание такой книги нужны деньги!
– На меня не смотри, я не дам, – засмеялась Юлия Домна. – Да и ты, сестричка, думаю, не раскошелишься!
Юлия Меза покачала головой.
– Ты права, не дам ни одного сестерция. Апологии отцов христианской церкви изрядно надоели. У этих ревнителей Иисуса до сих пор нет ни храмов, ни статуй, ни традиций жертвоприношения. Другими словами, у них отсутствуют привычные атрибуты религии, а значит, им не избежать по римским законам обвинений в безбожии, святотатстве и оскорблении величия императоров.
– Дорогая моя сестра, – приветливо улыбнулась Домна, – я неспроста расточала пред тобою словеса по поводу ненавистных мне имен Лукиана и Тертуллиана. Одного готова клясть за безбожие и насмешки над святыми для римлян именами, другого – за отрицание культа видимой красоты, главной прелести нашей древней религии. Я вспомнила их имена еще и потому, что они в своих трактатах и рассказах поминали нашего Дамида как великого чудотворца, что дало основу для рассуждений о моем выборе в пользу героя будущего романа Аполлония из Таины. Скажу больше, мною давно даны распоряжения Флавию Филострату избегать в книге любых сентенций по поводу вышеупомянутых имен и ряда других известных лиц, подобных Клименту. Думаю, ты согласишься со мной, что следуя советам Цезаря, я сделала достаточно для многих персон, чьих ученых взглядов я не разделяю. Религиозная терпимость не только супруга моего, но и всех Антонинов позволила им избежать наказания по римским законам и до сих пор благословенно топтать наши земли. Да будет так! Империя претерпела значительные изменения в век Антонинов, и нельзя не замечать, что пропасть, разделявшая в республиканское время римского гражданина и всех остальных, постепенно исчезла. Мнение наших юристов звучит однозначно – настало время даровать права римских граждан населению всей империи, и это произойдет, я думаю, в ближайшие год или два, и огласят это мои сыновья – императоры. В этом праведном деле я буду им помощником. Что касается нашей сегодняшней литературы в целом и ее новых тенденций, то мне пришлось по нраву то определение, которое использует в своей лексике Флавий Филострат. Он называет все это второй софистикой. Заботясь о процветании империи, мой муж обеспечивал достаток продовольствия в Риме и развитие торговли, я помогала ему советами, посвящала все свое время заботам об образовании в империи. Я поддерживаю и субсидирую из госказны преподавание философии и риторики, открываю все новые школы, золотом и серебром поощряю антикварные изыскания. Новые софисты, как и прежде, обучают диалектике и красноречию, но занимают теперь постоянные кафедры и состоят на жаловании городов, а значит, и обучают стилю Платона и Фукидида не на свой страх и риск, как раньше, рассчитывая получить плату только лишь из кармана своих учеников, а материально защищены государством.
– Необходимость в знании греческого языка в Риме не оспаривает сейчас ни один сенатор, – скромно вставила Юлия Меза.
Ее младшая сестра благосклонно кивнула.
– Единая система образования обеспечивает интерес всего народа империи к чтению. Ты заметила, наверное, как возрос интерес к истории, мифологии и этике. Дружбой с софистами гордится в Риме все сенатское сословие. Думаю, что то время, когда императора Адриана осуждал весь просвещенный Рим за его пристрастия к греческой и египетской культуре, уже не вернется никогда. Я предложила опытному софисту Филострату составить на основании хроники Дамида биографию Аполлония. В начале это будет лишь фактологическая заготовка для будущей книги. В окончательном же варианте этот труд должен стать действительно занимательным чтивом и содержать изобилие диковинного и чудесного. Я уже выдала Филострату все необходимые бумаги с полномочиями в восточных провинциях империи, дающими доступ ко всем архивам, вплоть до доступа в гробницу Александра Македонского, где по приказу мужа моего были замурованы тайные письмена египтян. Но это на случай, если сам пожелает познать их мистический смысл. Средства на путешествие и содержание прислуги и помощников ему были предоставлены заранее из императорской казны. К нему в Афины в качестве поощрения прилежной работы я отправила дорогие подарки. Я думаю, это было не лишним, поскольку первые черновые записи мне уже им направлялись, и не единожды. В первых своих набросках Филострат был щедр на описание подвигов Аполлония и повествовал о дальних странах, диковинных зверях и премудрых брахманах в Индии. В ответ я направила письменные одобрения его починов, особенно отметила исполнение им всех моих пожеланий. Безусловно, он будет достойным сочинителем первой настоящей биографической фабулы об Аполлонии, и я пророчу ему успех у читателей.
Юлия Меза была задумчива, мучаясь в сомнениях, и в какой-то момент императрица даже стала подозревать, что от внимания сестры мог ускользнуть главный смысл ее порою сбивчивого монолога о своём выборе главного героя книги и её авторе, но вдруг та, слегка нахмурившись, сосредоточенно произнесла:
– Насколько я понимаю, наш Аполлоний – это странствующий пифагореец, чьи пророчества и исцеления пользовались широкой известностью, может даже, гораздо большей, чем других бродячих чудотворцев, в том числе Иисуса Христа. Я готова признать все твои аргументы убедительными, однако все его чудеса вершились в Каппадокии, а репутация этой земли совсем не лучше Фессалии, главного средоточия колдовства в нашем государстве. Говорят, что до сих пор в тех местах жрецы ходят по горящим углям босиком. Колдовство там – дело обычное, к тому же каппадокийцы – народ злобливый. И хотя Аполлоний исцелял бесноватых, побеждал в Эфесе чуму, его каппадокийское происхождение уже само по себе является свидетельством его порочности. Разве не так? – Меза примирительно улыбнулась.
Августа выслушала сестру с большим вниманием и охотно продолжила разговор.
– Мы и не намерены скрывать его происхождение, хотя ты сама хорошо знаешь, что связь Аполлония с Каппадокией была достаточно условной, да и говорил он без всякого каппадокийского акцента. Согласна, что подозрение в колдовстве сопровождало Аполлония всю жизнь, даже после смерти. Потому и задача Филострата как сочинителя состоит в том, чтобы оправдать своего героя всеми возможными способами, подробно и красочно описать его борьбу со злыми демонами, рассказать об исцелении бесноватых, о победе над чумой в Эфесе. Аполлоний должен предстать перед читателями как бескорыстный приверженец древних эллинских правил и уставов. Ты совершенно правильно дала ему определение странствующего пифагорейца. Не только наш добрый друг и ученый антиквар из Лаэрты Диаген писал и пишет о Пифагоре. Есть и другие, поскольку для образованного греческого населения Пифагор был и остается образцовым философом, а для необразованного – просто земным воплощением бога. О странствующих же пифагорейцах известно до сих пор до обидного мало, а народ их воспринимает как образец знахарства. Потому в низовой культуре на подмостках театров они являют собой подобно Лукиану предмет насмешек. Я просила Флавия Филострата писать так, чтобы все население государства нашего поняло, что есть Боги, есть люди, а еще есть Пифагор! Наша культура должна обзавестись новым героем в лице Аполлония. Я позволяю Филострату как сочинителю составлять жизнеописание Аполлония из Таины, изображая не сущее, а возможное. Для нашей культуры мудрец и чудотворец Аполлоний должен стать предельно притягательным, отвечая потребностям нашего времени. Мои долгие беседы с Папинианом привели к пониманию зыбкости старинных понятий о колдунах, к которым причислялись знахари, звездочеты, жрецы варварских Богов. Широкое применение строгих статей римских законов диктует необходимость популярно разъяснить толкование терминов. Будущая книга должна на примере главного героя помочь простым людям правильно понимать, где зло, а где добро, где добрые чародеи, а где колдуны, заработавшие дурную славу. Ты кстати напомнила, что Домиций Ульпиан приступил к написанию трактата «Об обязанностях проконсула», где традиционная этика получит защиту и право закона. Мы будем иметь применяемые на практике внятные разъяснения к таким законам императора Юлия, как «Об оскорблении величия», а также к законам «О святотатствах», «Об астрологах и пророках», к закону Фабия «О плагии», «Об убийцах и ворах», «О насилии», «О подарках и о коррупции». Это получится в сто раз лучше тертуллиановых нравоучений, изложенных эзоповым языком.
Торжествующий взгляд императрицы был обращен к сестре, которая промолвила:
– Уверена, историк Тацит тебе бы возразил. Он любил повторять: «Чем ближе государство к упадку, тем больше в нем законов». Признайся, сестра, он был прав.
– Не признаюсь, – резко ответила Юлия Домна. – Наш юрист Юлий Павел утверждает: «Сознавшийся считается проигравшим». А я не люблю признаваться, а значит, проигрывать.
– Этот законник из Тира, словоохотливый Ульпиан, кажется мне, тебе пришелся по сердцу, да и по возрасту вы ровесники.
– Что значит «ровесник» и что значит «по сердцу», – удивилась Юлия Домна. – Да, я ценю его как юриста. Светлая голова. Папиниан видит его своим преемником на посту префекта претория. Но если ты намекаешь на наши возможные отношения, то тут ты не права – любовник он никудышный. Я люблю… – Юлия Домна мечтательно раскинула руки и, не смущаясь, поглядела на сестру.
Меза не позволила ей продолжить описание предмета своего вожделения и сказала:
– Не надо, сестра. Я знаю, кто тебе нужен для любовных утех. Боги совсем не изменили твоих пристрастий за годы, прожитые в Британии.
Домну, казалось, забавляло смущение сестры. Она улыбнулась и, томно вытянув ноги, произнесла:
– Нет, не изменили. Скорее, только укрепили. Однажды в день замирения с каледонцами жена Аргентококса в разговоре со мной открыла мне глаза на причину вольных отношений британских женщин с их мужчинами. Оказывается, это они, а не мы, римлянки, живут в согласии с требованиями природы и открыто вступают в связь с наилучшими мужчинами, тогда, как мы позволяем тайно соблазнять себя худшим. Жить в согласии с требованиями природы – главная заповедь Изиды. Я должна следовать им.
– А мораль, – спросила Меза.
– Мораль? Зачем? У бессмертных существ не может быть представления о морали. Я и при живом муже не скрывала, что любила и люблю крепких рослых юношей с севера. Они меня готовы ласкать в своих крепких объятиях длинными галльскими ночами.
Юлия Домна снова мечтательно улыбнулась и вдруг, как будто что-то вспомнив, повелительно повысила голос:
– Клавдия! – назвала она имя одной из своих служанок. – Посмотри, милая, в окно. Этот красавец, что горлопанит после каждой пройденной мили, еще не сменился с дежурства?
– Нет, все еще в седле, достойнейшая.
– Прекрасно. Вскоре он мне понадобится.
На лице императрицы отразилось нетерпение.
Уход за кожей тела, включавший массаж, завершался довольно болезненной процедурой – эпиляцией. Каждый волосок на ее теле должен был быть удален либо сбрит даже с интимных частей тела. Императрица приняла позу, удобную для прислуги, широко раскинув ноги. Именно в таких позах римские художники любили изображать на стенах лупанариев развратных меретрис, бесстыдно выставляющих свои прелести напоказ. Юлию Мезу, строгую целомудренную матрону, посвятившую себя только мужу и заботящуюся о достойном воспитании своих дочерей, к тому же олицетворяющую своим поведением общепринятую модель добродетели, возмутило бесстыдное позерство сестры. Она не могла скрыть негодования.
– Ты, дорогая моя, могла бы хотя бы дождаться, когда я покину твою повозку, вместо того, чтобы так нескромно позерствовать.
Ее оскорбляла не нагота, а та нарочитость, с которой сестра выставляла напоказ свои манящие чресла. Домна властным жестом удержала сестру, уже было поднявшуюся с табурета.
– Прошу, не уходи, сегодня эта процедура не займет у меня много времени, поскольку в прошлый переезд я довольно долго позволяла прислуге издеваться над моим телом. Кстати, мы не договорили.
Вскоре служанка еще раз насухо протерла обработанные участки тела императрицы. Оставалось одеться и надеть украшения. Служанки, отвесив поклон, бесшумно удалились, захватив с собой многочисленные инструменты для достижения женской красоты. За гардероб отвечала горничная, за которой уже послали. Сестры остались одни, если не считать преданную служанку по имени Клавдия, что покорно стояла в затененном углу возле урны с прахом покойного императора.
Лицо Юлии Мезы было задумчивым, глаза подернулись пеленой воспоминаний, когда ее сестра наконец подала знак, что желала бы продолжить важный для обеих разговор о задачах греко-римской культуры.
Перед тем, как заговорить, Юлия Домна тяжело вздохнула.
– Мой милейший супруг, – начала она свой монолог почти заупокойным голосом, – светлой памяти которого исполнены мои мысли на этом долгом пути из Британии в Рим, в беседах со мной убеждал меня в том, что митраизм мирно уживается с Богами греков, римлян, египтян и галлов. Искусные воины с Понта и Малой Азии, пополняющие наше войско на северной границе, признавались императору, что митраизм давно укоренился у них в сознании. Септимий говорил мне, что вера в Митру укрепляет дисциплину в армии, значительно расшатавшуюся во время правления Марка Аврелия и особенно его сына Коммода. Он убеждал меня, что Митра сейчас стал покровителем всей империи. Север предрекал новую роль митраизму как религии лояльности власти. Ты, сестра, прекрасно знаешь, что союз императорской власти с войском достигался до сих пор с помощью традиционной религии и строился по образцу патрицианской фамилии, то есть полководец есть патрон, а его подчиненные – клиенты. Обязанность патрона заключается в покровительстве клиентам. Сейчас уже это превратилось в анахронизм, сознание военных деформируется, и, как следствие, падает хваленая римская дисциплина. Поэтому муж мой, представляя собой высшее военное командование, в своей новой военной реформе попытался опереться на религию, но не на традиционную греко-римскую, а на такую, где Богом договора и товарищества в армии становится Митра. По его прямому указанию многие легаты и наместники становились посвятителями в Митру и возводили ему алтари. То, что вера в Митру укрепляет дисциплину в армии, заметил еще Марк Аврелий, и в беседах с Севером часто указывал ему, что приход митраизма в казармы вовсе не является стихийным выражением недовольства военных греко-римскими Богами, поскольку Митра вполне мирно уживается со всеми ими. Сейчас, когда святилища Митры рассыпались по всей империи и в том числе по самому Риму, император открыто заявил себя последователем Митры и гонителем секты христиан, поскольку христианство отличается нескрываемой ненавистью ко всему греко-римскому и еще особенно к митраизму из-за необъяснимой близости культовых сторон обеих религий. Я, как ты можешь догадаться, до поры до времени не придавала особого значения этой теме, особенно проблеме построения армейской дисциплины, которую муж мой считал главной.
– Как ты полагаешь, дорогая, – перебила сестру Меза, – этот Иреней еще жив? – она пребывала в состоянии оживленной задумчивости, возбужденно и беззвучно шевеля губами.
– Был жив, – ответила Домна, – когда мы всей семьей следовали в Британию года три тому назад и вставали на постой в Лугдуне на императорской вилле. Люди наместника сообщили, что плох был здоровьем этот Иреней, но увидеться с ним тогда мне было недосуг. Впрочем, я и не сожалела. Ты, я так понимаю, хотела бы его повидать, ну, скажем, завтра. Однако тебе лучше сделать это даже сегодня, конечно, если он жив, поскольку завтра мы тронемся из Лугдуна с рассветом. Надо спешить в Рим. Дети мои, поди, уже делят власть, – Юлия Домна помрачнела и с тревогой покачала головой.
Она хотела встать но вспомнив, что она еще не обута, опустилась на место и посмотрела на Мезу, которая прибывала в некоторой нерешительности.
– Вот что я тебе скажу, – произнесла Августа. – Нечего тебе с ним встречаться, только время свое попусту тратить, да будить воспоминания о прошлом. Я же сказала, я просила Филострата о христианах и о других несчастных в вере или в безверии, в книге, которую ему надлежит написать, не упоминать.
Величественная матрона повернула голову к прислуге. Подобрать нужную обувь по сезону для нее было делом непростым. Из соседней повозки все время подносили разные по фасону и цвету пары обуви. Домна только фыркала и посылала за новыми – она желала быть на высокой платформе. Как догадывалась Меза, сестра собиралась провести конец дня в интимном уединении с тем красавцем из преторианцев, что продолжал громко вещать за стенками повозки, объявляя мили, оставшиеся до прибытия в Лугдун.
Юлия Меза искала повода, чтобы поскорее покинуть императорскую повозку и перебраться к себе, но ее сестра, настроившись на общение другого рода и с другим собеседником, все же не потеряла, как видно, желания обсудить с сестрой темы, волнующие их обеих.
– Прошу тебя, останься еще немного со мной. Милая, как ужасно, что этот когда-то шумный Лугдун до сих пор так и не восстановился. Река, мосты, мраморные виллы по берегам, воздух, полный свежести: эти картинки так и стоят перед глазами.
Юлия Домна тяжело вздохнула.
– Ах, какие были площади, храмы, базилики, мастера лили прекрасное стекло, печатали монету, ткали шелка. Слава Изиде, моей покровительнице, что уцелели охотничьи термы на берегу Роны, помнишь, там, у самого обрыва?
При воспоминании о термах, что располагались на самой окраине города и о том, что там нередко происходило, у Домны перехватило дыхание. Яркий румянец залил ее щеки. Она инстинктивно повернула голову в сторону урны с прахом Севера и метнула быстрый взгляд на сестру, опасаясь, что та заметит ее смятение. Но увидев, что Меза также предавалась воспоминаниям, опустив голову и прикрыв веки, она облегченно выдохнула. А ее сестра печально сказала:
– Что же сокрушаться, дорогая, если твой муж после той великой гражданской битвы, что оставила рядом с городом груды тел легионеров римской армии, ограничил налоговые послабления для восстановления разрушенного величия Лугдуна.
– Нет, ты меня не поняла, – сказала Августа, – то было политическое решение, а я говорю сейчас о личном отношении. Каждый раз на подъезде к Лугдуну воспоминания о прошлом грызут мою душу. Если бы не мужчины, способные заставить меня забыться и заснуть без ночных кошмаров, я бы просто сошла с ума. Мой муж, вечная ему слава, никогда меня не упрекал за желания, может быть, не всегда уместные в длительных походах, уединяться с охраной, поскольку ценил мой здравый ум, который ему был куда более дорог, чем мое грешное тело. Последние годы у нас в семье если кто и мог оценить мои прелести и увидеть во мне желанную женщину, был совсем не Север, а скорее его сын Антонин Каракалла. Этот строгий юноша, окруживший себя личной охраной от страха быть убитым охранниками Геты, не обращает внимания на женщин и, похоже, питает такую же ненависть ко всем девицам, как и к своей жене Плавцилле, что сослал на остров с целью загубить несчастную. Только вот на себе я нередко ловила его пылкий взгляд, в котором читала нескрываемую разбуженную похоть.
– Успокойся, дорогая, – с ироничной улыбкой прервала Домну Меза, – не думай, что только ты напоминаешь ему о том, что он мужчина. Я заставала свою старшую дочь в его покоях не раз, правда, Соемия уверяла меня в его братских намерениях.
Юлия Меза умолкла и отступила к дальнему углу повозки, чтобы дать возможность сестре примерить еще одну пару обуви, украшенную камнями различных цветов, которыми были усыпаны даже каблучки. Тонкая, необычайно мягкая кожа сапожек плотно облегала щиколотки императрицы. Юлия Домна, поднявшись с кушетки, сделала несколько шагов взад и вперед и, похоже, наконец осталась довольна своим выбором. Искренние восторженные улыбки служанок были тому подтверждением. Домна снова присела, жестом приглашая сестру подойти ближе, откинулась на подушку и тихим голосом продолжала:
– Твоя дочь чрезвычайно дальновидная – всякое может случиться. Надеюсь, свидетелями их встреч наедине была не только ты. Уместно вспомнить, что Антонин Каракалла, первенец Севера, родился здесь, в Лугдуне, и сына своего Гету я начала носить в утробе здесь же, хотя рожать его пришлось в Риме из-за смены места службы Севера. Но это так, опять к слову пришлось, – Августа посмотрела на сестру. – Помню, дорогая, с каким усердием и интересом ты и я изучали в детстве историю Рима и Востока. Гражданские войны, что вели великие мужи империи в прошлом, были грандиозны. Великие битвы Юлия Цезаря против Помпея, Августа против Антония, где с обеих сторон сражались римские воины, особенно остро тревожат мое воображение, когда я перебираю пальцами старые монеты с выбитыми на них портретами героев тех памятных событий. Не думала, что стану свидетельницей похожих реальных событий именно здесь, совсем неподалеку, всего в трех римских милях от Лугдуна, где легионы моего мужа, прибывшие после долгого перехода из Паннонии и Иллирики, даже не успев встать лагерем и обжиться, приняли бой с Клодием Альбином, который привел на равнину Треву все свои британские легионы в полном боевом снаряжении. Тогда в кровавой битве сошлись между собой лучшие легионы непобедимой римской армии, числом более ста пятидесяти тысяч воинов. Крови было всюду столько, что земля под ногами хлюпала, куда не ступи. А какой запах был на следующий день! Зловоние погребальных костров, черный дым от которых накрыл плотной пеленой близлежащие леса, заставил всю живность бежать прочь. Жуткая вонь была сладковато-тошнотворной. Был февраль, погода стояла точь-в-точь, как сейчас, днем еще ничего, а по ночам холодно. Солдаты согревались, скучившись вокруг погребальных костров, которые тысячами полыхали все ночи напролет. Кровавые языки пламени взмывали в черное галльское небо. Даже волки выли от ужала далеко в лесах. Я тоже выла, не в силах совладать с дрожью. Тот страх поселился в моей душе надолго. Длившаяся пять лет гражданская война, в которой победил мой муж, последовательно уничтожив всех трех уже правивших императоров – Дидия Юлиана, Песцения Нигера и Клодия Альбина – завершилась здесь, в Лугдуне. Историки Рима и в первую очередь здравствующий по сей день Дион Кассий, назвали эту войну как по численности погибших воинов, так и по количеству сражений и длительности переходов, самой разрушительной и кровопролитной в истории Рима. Кассий не назвал расходы казны, а они были огромны. Тогда казна была пуста! А сейчас подвалы храма Сатурна полны серебра и золота. Когда такое было? Со времен Октавиана Августа, первого императора – никогда! У Траяна после разгрома Дакии, у Веспассиана и Тита после усмирения иудеев, пожалуй, было гораздо меньше. А при Марке Аврелии и Коммоде империя просто была разорена.
Все время, что императрица говорила, гладя в зеркала, которые держали в руках служанки, ее сестра, крутила, перебирая пальцами, крохотную золотую монету местной лугдунской чеканки. На аверсе монеты была отпечатана голова Клодия Альбина, Цезаря Римской армии, наделенного дважды властью консула. Борода и короткая стрижка Альбина на золотой монете были хорошо и рельефно прочеканены так, что луч света, пробившийся через крохотное окошко повозки, сверкал на мелких кудрях Цезаря и размытым бликом отражался на лице императрицы.
– Что у тебя в руке? – поинтересовалась Юлия Домна у сестры.
– Ауреус с изображением Альбина, – ответила та и протянула крохотный кружок золота сестре. Домна повертела монету в руках и перед тем, как вернуть ее обратно сестре, произнесла:
– Я много лет лично хорошо знала Альбина.
– А мне не довелось, – с сожалением сказала Меза, – хотя много о нем слышала.
Она взяла у сестры монету и положила ее на деревянный подоконник.
– Я знала его разного, – продолжала Юлия Домна, – с тех пор, как его приметил Коммод в качестве легата. Он был высок ростом, имел необычайно белокожее лицо, отсюда, кстати, и прозвище имел «Альбин».
Монета с изображением Клодия Альбина
Ее сестра добавила:
– А Песцений Нигер имел очень смуглое лицо, отсюда и прозвище «Нигер», – Меза сама была готова рассмеяться над своим замечанием, но вовремя сдержалась, поскольку громко подавать голос в помещении, где находился прах усопшего, не полагалось посвятившим себя упражнениям в добродетели матронам. – О, Диоскуры-спасители! О, Геракл, избавитель от зла! – взмолилась она. – Благороднейшие были воины, их любили народы Рима, а кончили жизнь одинаково, что Альбин, что Нигер.
– Ты что же считаешь и Клодия Альбина благородным? – подняла вверх брови императрица, но, поразмыслив немного, решила согласиться с сестрой. – Пожалуй, ты права. Осанку он имел благородную, в густых курчавых волосах всегда носил повязку. Считался одним из первых в Риме любителем женщин, хотя, мало того, что не признавал извращенных любовных утех, но и пытался преследовать за подобные вещи благородных людей империи, за что я его бранила еще тогда, будучи в Галлии. Ты знаешь, дорогая, он пробовал сочинять. Я была свидетельницей его первых опытов. Свои познания в сельском хозяйстве он описал в собственной книге под названием «Георгика». Без конца мне нахваливал свои «Милетские рассказы». Я и друзья мои читали их, но все сошлись во мнении, что написаны они были посредственно. Коммод ценил его воинскую смелость и вкус к хорошеньким женщинам, даже даровал ему некоторые знаки императорского величия. Например, только Альбин имел тогда право носить в его присутствии греческий алый плащ. Император Коммод еще наградил его почетным званием «Цезарь» за воинскую доблесть. Мой муж тоже любил Альбина, но совсем за другие качества. Хотя голос Альбин имел женский, по звучанию близкий к голосу евнуха, в гневе он был страшен. Муж мне говорил, что Альбин имел прекрасную технику владения оружием. Одним словом, он заслуженно мог быть соправителем моего мужа. Но история распорядилась по-своему. В борьбе за императорскую власть проиграл не мой муж, как хотелось бы большинству в сенате. Не Септимий Север, а Клодий Альбин был обезглавлен. Его труп пролежал у нашей палатки под Лугдуном несколько дней, пока не начал смердеть. Муж отправил голову Альбина в Рим для устрашения врагов в сенате. Скажешь, Север поступил излишне жестоко? Может быть, ты считаешь, что великий Цезарь был милосерднее? Не забывай только, что если бы победил Альбин, то и меня, и моих детей, и тебя, дорогая Меза, он тоже не пощадил бы.
Слова сестры заставили Мезу вздрогнуть.
Забыть грозные годы гражданской войны для нее было непросто, но снизойти до показного сочувствия и жалости к родной сестре, не скрывая иронии, она не решалась. Рассердить Августу до злопамятства было делом неосмотрительным, поэтому старшая сестра осторожно напомнила:
– Ты, дорогая моя, нередко намекала мне в письмах еще тогда, что Альбин давно приметил тебя как желанный объект для своих любовных забав. В то время ты осталась непоколебимой в своей добродетели, хотя Север был вдалеке от Рима, а ты изнемогала от одиночества.
– Да, все было именно так, – согласилась императрица. – Я не отвечала на его домогательства. Даже хотела пожаловаться на него мужу. А ты это, собственно, к чему?
Меза не смогла скрыть своего злорадства.
– И ты хочешь сказать, что, окажись победителем, Клодий Альбин тебя бы казнил, так и не воплотив в жизнь давнюю мечту овладеть тобой?
– Моим телом, может быть, и овладел бы, только не душой, а казнил бы после. Он добивался от меня большего, чем просто удовольствие. Он желал испытывать чувство власти надо мной, добиться моего послушания, но на это, и ты это знаешь, мало кто может претендовать. Просто он не был моим мужчиной. В нем не было той силы, которая могла бы подчинить меня. В глазах его я читала только похоть и высокомерие. Все остальное было ложным, даже его восхищение, и я это чувствовала. Всю свою жизнь я сама выбираю себе любовников, а цену себе я знаю. Может быть, я распутна с точки зрения каледонок из вонючей Британии, но я беру от жизни только то, что хочу. А потому, дорогая моя, христианские идеалы покорности мне чужды и даже ненавистны. Я ценю свое слово, свой взгляд на жизнь, а свое равенство с мужчиной защищаю и словом, и делом. С мужем моим мы жили по договору и не нарушили его до конца дней Севера. Правила римского брака – это равенство двух сторон и согласие жить в этом равенстве без ущемления чьих-либо интересов. Не всем благородным мужчинам Рима это по нраву, а этим иудеям и христианам в особенности. Марк Аврелий это тоже понимал и никому не позволял чернить имя жены свой Фаустины-младшей, признавая за ней свободу желаний и равенства.
– А любовь? – тихо, почти неслышно, произнесла Меза.
– Что? – переспросила ее сестра, отмахнулась от этого слова, как от назойливой мухи, и добавила: – Любовь оставим Овидию! Мы говорим о праве, дорогая. А эта упомянутая тобой чувственная категория не является категорией римского права. Ты знаешь, что Марий Максим, старый друг моего мужа, в последнее время поддался искушению попробовать свои силы в написании истории Рима и заваливает меня письмами с просьбой предоставить ему факты из моей личной жизни и жизни Севера. Клялся, что напишет правдивую историю жизни друга своего и наших с ним нежных чувств, а не панегирик усопшему императору.
Меза перебила сестру, будто вспомнила что-то очень важное.
– Представь, именно я сподвигла этого блистательного трибуна на написание подобного сочинения. Не знаю, насколько успешным будет его труд. Начал он с Нервы и Траяна. Действительно, ты права, он намерен продолжить традиции Светония Транквилла. Слышала я от твоих доброжелателей, что он весь в трудах, черпает вдохновение из прижизненных панегириков императорам и памфлетов против них, роется в государственных архивах, заблаговременно заручившись письменным согласием Севера, а сухую статистику цифр разбавляет занимательными подробностями жизни великих. Вот очередь дошла и до вас.
– И что же он пишет о друге своем и обо мне? – улыбка императрицы была самодовольной.
– Ты, может, и не знаешь, что я навещала его виллу в пригороде Рима жарким прошлым летом перед тем, как отправиться к вам в гости в Британию. Он поделился со мной своими соображениями по поводу того, что у твоего мужа в начале его правления были серьезные намерения в случае необходимости назначить Песцения Нигера и Клодия Альбина своими преемниками во власти. Однако Север изменил свои намерения именно после разговора с тобой, дорогая. Внимая твоим просьбам и заботясь о своих подрастающих сыновьях, он отказался от своих планов. Марий Максим также поведал мне о том, что сказал твой сын Гета тебе и отцу своему по поводу смерти многих римских сенаторов и детей Альбина…
Домна мрачно взглянула на сестру и дрогнувшим голосом спросила:
– И что, эти слова моего младшего сына им уже положены на папирус?
– Не знаю, – отвечала спокойным тоном Меза. – Может быть, он сохраняет это только в черновых записях. Кстати, сказал, что хотел бы обсудить с тобой свою книгу, как только ты объявишься в Риме и назначишь дату следующего собрания кружка твоих единомышленников.
Она замолчала и многозначительно взглянула на императрицу.
– Может, тебе известно, что именно этот новоиспеченный историк собирается поведать в своем творении? – теперь тревожный взгляд императрицы выдавал ее волнение.
Меза помедлила перед тем, как ответить.
– Известно, – сказала она. – Когда твой сын Гета узнал, что после победы под Лугдуном отец его намерен провести указ о наказании смертью всех, кто повинен в нагнетании атмосферы оскорбления величия здравствующего императора, и организовать конфискации их имущества в пользу государства, он сказал: «Значит, в Отечестве нашем будет больше таких, кого опечалит наша победа, чем тех, кого она обрадует».
На лице Юлии Домны проявились черты нескрываемого удивления.
– И это мог сказать мой малолетний сын Гета? Ты уверена? – с сомнением в голосе спросила она.
– Марий Максим сказал, что это подтвердил ему в беседе сам Гета.
Тем временем прислуга императрицы приступила к процедуре примерки любимого императрицей семирёберного парика.
– Нет-нет, – неожиданно заупрямилась Юлия Домна, – сегодня хочу с девятью рёбрами, пусть будет подлиннее.
Пока посылали за другим париком, императрице подвели глаза и накрасили губы. Юлия Меза не смела покидать повозку без согласия на то сестры, а посему стояла без движения, мешая прислуге исполнять свои обязанности.
– Знаешь, милая, – обратилась Юлия Домна к сестре, не поднимая накрашенных глаз, – мне в Риме очень понадобится твоя помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы примирить братьев и решить первоочередные государственные вопросы. Ты понимаешь, что нам надлежит поспешать. Времени мало. Вся процедура траурных встреч у наместника будет проходить в укороченном режиме. Я уже давно посылала в Лугдун людей с уведомлением. Мое присутствие в доме наместника будет и вовсе формально коротким. Все траурные мероприятия будут возложены на твои плечи. Помощником тебе будет Папиниан. Я же хочу уединиться и не желаю, чтобы меня потревожили.
Где-то совсем близко от повозки снова гортанно прозвучал отрывистый солдатский доклад преторианца Ульпия Квинтиана, известивший о приближении траурного кортежа к границе города Лугдуна. Услышав голос своего нового любимца и главного телохранителя, Юлия Домна загадочно улыбнулась сестре, что послужило знаком для Мезы покинуть повозку. Спускаясь со ступеньки, Меза услышала сказанные ей вслед слова императрицы:
– Завтра я пошлю за тобой, конечно, если буду в силах продолжать беседу. Ежели посыльного не будет, не беспокой меня, а приходи на следующий день уже без приглашения.
На протяжении всех двенадцати месяцев, что последовали за кончиной императора, его сыновья по возвращении из Британии не решались отлучиться из Рима куда либо хотя бы на один день из страха потерять влияние в государственном совете и поддержку своих сторонников в сенате. Главной же задачей для них было удержать нити управления городскими преторианскими когортами и грозными воинами II-го Парфянского легиона, который стоял лагерем всего лишь в пятнадцати милях от Рима по Аппиевой дороге в местечке под названием Альба. Там правами легата был наделен надежный боевой товарищ усопшего императора, бывший префект конницы Трикциан.
Из всех тридцати трех легионов императорской армии только II-й Парфянский, созданный самим Септимием Севером, стал по решению сената дислоцироваться на территории Италии. Тем самым, впервые в римской истории Север урезал Италию в правах, приравняв ее к остальным провинциям Великого Рима. Горячий поклонник и ученик Марка Аврелия, он, соблюдая древние традиции Рима, был вынужден провести значительные реформы в системе управления страной в целях укрепления экономического, военного и политического могущества государства.
Имея колоссальный опыт управления, пройдя все ступени гражданской и военной власти Рима, император Север достиг вершин народной славы и оставил своим сыновьям Антонину Каракалле и Гете богатства, каких за всю историю государства никто не оставлял своим наследникам или преемникам. По справедливости поделить власть и несметные богатства между сыновьями Севера оказалось делом далеко не простым. Великий римский юрист Папиниан и его прославленные ученики Ульпиан и Юлий Павел, а также друзья божественного Севера, в присутствии Юлии Домны, предложили юношам совместно разработанный план раздела империи на две равные части, по которому Антонину отходила вся Европа, а Гете – Азия с Антиохией и Александрией, достойными стать будущей столицей.
Однако до фактического раздела дело так и не дошло стараниями Юлии Августы. В конечном счете разделу подвергся только Палатинский дворец. Северо-восточная часть дворцовых сооружений отошла Гете. Антонин заполучил весь юго-запад, Юлии Домне полностью оставили весь новый дворец с термами, построенный ее мужем на юго-восточной оконечности того же Палатинского холма. Братья враждовали между собой люто и, во избежание кровопролитной резни в стенах Палатинского дворца, все переходы из одной части дворца в другую в конце концов были надежно заколочены. Если не считать государственных дел в совете или сенате, они старались нигде друг с другом не встречаться.
Гета в отличие от старшего брата продолжал вести свой размеренный образ жизни: днем он коротал время в своей дворцовой библиотеке или подолгу сиживал в гостях у близкого друга, Саммоника Серены, чья личная библиотека была больше, чем на Палатине, и насчитывала 62 тысячи книг. Еще одним его излюбленным местом также стали гостеприимные палаты Папиниана, где он постигал науку управления государством. А еще Гета любил посещать частые собрания своей матери, на которых можно было встретить всех достойных граждан империи, имеющих оригинальный взгляд на философию, искусство и литературу. Юноша слыл тонким знатоком местных вин, был гурманом восточной кухни и имел слабость к дорогой изящной одежде. Редко принимая участие в ночных оргиях, он ценил внимание красивых женщин, способных доставлять ему как чувственное, так и эстетическое наслаждение в том числе и танцами, за что щедро платил им, не жалея золота. Он был статен и обладал манерами в лучших традициях древних патрициев. В общем, Гете была уготована судьба яркого политика, и только легкое заикание в моменты особого волнения не позволяло ему преуспеть еще и в ораторском искусстве.
Антонин Каракалла был совсем другим. Он питал неприязнь к роскоши городской жизни и воздерживался от всех дорогостоящих излишеств, предназначенных лично для него. Весь год, что Антонин прожил в Риме, он откровенно скучал. Чтобы упражнять свое тело, он ежедневно занимался ездой на колеснице, благо, что дворцовый стадион, построенный еще Домицианом, при разделе Палатина между ним и Гетой, отошел ему, и он, совсем не опасаясь за свою жизнь, мог позволить себе подолгу пылить на биге по дорожкам стадиона. И вел себя Антонин совсем не как подобает императору, а скорее, как воин. Он был готов браться за любое, требующее физических усилий, дело. Любил ходить в тяжелые изнурительные походы, в которых сам носил за собой увесистое оружие, пренебрегая верховой ездой. Выносливость Антонина Каракаллы вызывала восхищение даже у бывалых легионеров. Он был необычайно скромен и позволял, чтобы к нему обращались не как к императору, а как к боевому товарищу. Даже на Палатине Антонин иногда собственноручно молол для себя зерно, замешивал тесто и пёк его на углях. Как правило, к себе в личную охрану он подбирал самых храбрых германцев и в свободное время от службы охотно вступал с ними в дружеское общение. Читать книг он не любил. Исключением был, пожалуй, только «Анабазис Александра» писателя Арриана. Эта книга для него была поистине священной, походы Александра Македонского он изучил досконально и желал быть похожим на своего кумира во всем. Став императором, Антонин повелел повсюду в городах установить изображение Александра или его статую в знак своей духовной связи с македонским царем – покорителем мира.
Каракалла мечтал только повелевать. Такие же планы вынашивал и его брат. Их отец, почивший год назад в канун февральских нон, завещал братьям прежде всего хранить дружбу. Всего остального, считал он, у них было с избытком: в храмах и хранилищах полно золота, государственные амбары трещат от хлеба и масла, границы надежно прикрыты. Но именно дружбы между сыновьями не было никогда, даже в детстве. Показной мир между ними сохранялся только молитвами и стараниями их матери, но чего ей это стоило, знали только ее боги и хранители – Изида и Серапис, чьи величественные храмы и статуи, воздвигнутые в Риме стараниями мужа, внушали уважение гражданам и страх иноверцам.
Светлый солнечный февраль возвещал о приходе весны, и воздух день за днем все больше наполнялся ароматами цветов. В Риме наступали долгожданные Паренталии. Так называемые родительские дни начинались по юлианскому календарю в февральские иды и считались днями общественного траура. В эти дни все римляне поминали умерших, украшали памятники цветами и венками, жгли лампады, на могилах оставляли бобы, яйца, соль и хлеб, возливая на землю, где покоились близкие, вино и воду.
В последний день траура, когда до мартовских календ оставалось ровно 9 дней, в Вечном городе отмечали государственный праздник Фералии, считавшийся последним днем родительской недели. В этот день должностные лица появлялись на глаза плебсу без знаков отличия, а римские высшие магистраты ровно на сутки слагали со своих плеч претексту. Запирались многочисленные храмы, исчезали с глаз горожан белоснежные тоги, окаймленные широкой пурпурной полосой, и всадники снимали с пальцев золотые кольца. В этот еще не совсем теплый день вечно праздный Рим становился серым морем плащей и шерстяных капюшонов. В народе их называли каракаллами. За любовь именно к этой одежде император Антонин Бассиан, деливший власть с родным братом Гетой на Капитолии, был тоже прозван в народе Каракаллой.
В праздничные Фералии после полудня солнце, и без того невысокое, начинало быстро клониться к закату. Оно слепило глаза прохожих и отражалось от золоченых бронзовых крыш многочисленных храмов, базилик и дворцов. Беломраморные высокие стены общественных зданий и портики колоннадных улиц, поглощая солнечные лучи, казалось, сами светились ярким светом. Мощные насосы поднимали вверх каскады сотен фонтанов, мелкие водяные брызги преломляли солнечный свет, образуя радуги, которые прятали свои многоцветные концы в водах голубых бассейнов на Марсовом поле.
Монументальный вход в императорский дворцовый комплекс, что возвышался на Палатинском холме, был выполнен в форме большой экседры и располагался прямо напротив Большого Цирка. Император Каракалла незаметно для сторонников Геты покинул дворец и сразу повернул налево, пройдя вдоль величественных аркад нового дворца, построенного на Палатине его отцом, и вскоре оказался у Септизодия. Мерный шум падающей воды в каскадах величественных фонтанов этого нимфия всегда вызывал у Антонина легкую дрожь. Огромная бронзовая скульптура отца в полный рост была так величественна и высока, что почти закрывала собой главный вход в новый дворец и термы императорского комплекса, где жила его Юлия Домна с кучей приближенных, поклонников Мельпомены и прославленных юристов. Антонин не решился тревожить Августу своим визитом в такой день, когда ритуал обязывал ее вести себя скромно, не вынося на суд граждан всякий раз ее новые дорогостоящие одежды, подчеркивающие безупречный вкус великой матроны и ее внешние достоинства на зависть скорбящим Вечного города. Сам Антонин был одет в серый с капюшоном плащ, ниспадавший до пят. Никто из его личной охраны также не привлекал внимания. Серый плащ превращал всех этих рослых и статных гвардейцев в бесформенных, похожих друг на друга громил, напрочь лишенных всякого мужского обаяния.
Покинув лупанарий, размещавшийся в пристройке к Большому Цирку, праздно шатающиеся проститутки сгрудились на самом перекрестке между Аппиевой и Остинской дорогами, откуда хорошо просматривался весь караул разряженной дворцовой стражи, и жадно высматривали клиентов, готовые удовлетворить любого за сходную цену. Воины преторианской гвардии в праздничном обличии всегда вызывали восторг у римской черни. Народ гордился своим отечеством, глядя на их могучий строй, сплошь разодетый в императорский пурпур с копьями в руках и мечами в ножнах. Преторианская гвардия призыва императора Септимия Севера в корне отличалась от набора предыдущих императоров: Коммода, Марка Аврелия и Антонина Пия, при которых туда попадали только привилегированные изнеженные италийцы, имеющие в Риме покровителей. Нынешние же поступали на комплектование в Рим только из боевых легионов, стоящих на защите государства по берегам Дуная и Рейна. Это были лучшие из лучших легионеры, не связанные личными обязательствами с имущим классом Рима и получающие за свою доблесть повышенное денежное содержание. На сей раз праздничных построений не предусматривалось, увольнительные были отложены, а свободные от караула когорты стояли своим лагерем на Квиринале.
Некогда древний и шумный римский праздник Луперкалии, традиционно проводимый в середине февраля, переместили сенатским постановлением на более позднее время, и отмечаться он стал не на Марсовом поле, а в самом Большом Цирке. На этот раз праздник был назначен за семь дней до мартовских календ. Инициатором проведения торжественных ристаний выступил сын Папиниана, префекта претория. Он тогда служил отечеству и сенату в качестве квестора и пожелал дать за свой счет богатые зрелища, благосклонно одобренные императором Гетой при молчаливом согласии Каракаллы. Граждане Рима радостно поддержали такое решение, полагая, что за сыном стоят огромные деньги его отца, знаменитого юриста и префекта претория, лучшего друга божественного Севера, чей апофеоз был отмечен печалью всех римлян ровно год назад у стен Палатина. До знатных ристаний на Циркусе Максимусе оставалось меньше двух дней, и римский народ находился в предвкушении зрелищ.
Император Антонин тоже пребывал в нервном состоянии ожидания, поскольку не исключал очередной стычки с братом, что случалось до этого не раз. Фанатично преданный фракции «синих», Антонин Каракалла рассчитывал провести оставшиеся двое суток не на Палатине, а за Тибром в окрестностях цирка Гая и Нерона, где располагались конюшни и племенные фермы этой фракции. Там, в стенах клуба «синих» он чувствовал себя среди друзей и в полнейшей безопасности. Император не скупился на поддержку своей команды профессиональных возничих и содержание тренировочных плацев, где команда могла оттачивать свое мастерство.
Клуб фракции «зеленых», чьим главным патроном и спонсором был император Гета, размещался на Марсовом поле в пределах цирка Фламиния. В стенах прославленного клуба, украшенного искусной мозаикой, настенной живописью и дорогой мебелью, собирались знатные граждане Рима, чьи личные состояния были огромны, а жилища сравнимы с загородными дворцами Папиниана и Геты. В комнатах клуба всегда было полно поклонников «зеленых», звучали песни и было весело. Посмеяться со всеми часто приходил и сам Гета, у которого среди возничих фракции было много личных друзей.
Каракалла помнил, как нелегко, а порой невозможно было победить «зеленых», поэтому его люди всегда поддерживали тесные связи с владельцами клубной фракции «красных», поскольку только совместными усилиями они иногда побеждали «зеленых». Но сейчас, стоя невдалеке от Септизодия у перекрестка, откуда брала свое начало самая древняя и широкая из мощеных дорог Рима Аппиева, он думал совсем не о цирковых ристаниях на колесницах. Всё его внимание поглощала грандиозная стройка на отроге Авентина, на которую он исправно направлял значительные собственные средства.
В обычные дни здесь сновали тысячи чернорабочих, каменщиков и плотников, было всегда пыльно и шумно, но в эти праздничные Фералии работы были временно приостановлены, и в прозрачном воздухе засверкал решетчатый бронзовый купол «солнечного зала» будущих Антониновых терм. Купол хорошо просматривался через деревянные леса на зависть тем ученым-механикам, кто не верил в возможность сооружения такой бронзовой решетки, на которой должен был держаться весь свод. Наконец-то появилась возможность построить огромный зал, который бы наполнялся естественным светом, давая возможность посетителям по достоинству оценить всю ту немыслимую красоту величественных статуй, колонн и даже купален, сделанных из базальта, гранита и других благородных пород камня.
Антонин Каракалла негромким, но волевым командным голосом велел своим телохранителям отступить от него на расстояние, так чтобы не мешать ему любоваться красотами сооружения. Не отойди они от императора, невысокий ростом Антонин попросту затерялся бы за их широкими плечами. Теперь, широко шагая по выступающим местами камням дороги, он поддерживал подол плаща обеими руками, чтобы не оступиться, в то время как купол капюшона постоянно спускался ему на глаза, мешая обзору. Строительство Антониновых терм было начато благодаря стараниям Септимия Севера и имело целью создать для простых жителей Рима и всех свободных граждан империи, посещающих Вечный город, не просто бани, а целый комплекс, где тысячи людей обоих полов могли бы не только одновременно получать водные процедуры, но также совершенствоваться как личности, занимаясь в просторных залах физическими упражнениями и посещая латинскую и греческую библиотеки, расположенные в парковой зоне терм. Главное же, во время пребывания в термах они должны были ощущать себя в душе приближенными к Богам. Внутреннее убранство терм должно было ни в чем не уступать ни шику императорского дворца, ни блеску столичных форумов, ни размерам капитолийских храмов. Вход для малоимущих должен был стать бесплатным.
Все годы, что Север воевал в Британии, здесь в Риме шло грандиозное строительство, и до полного завершения вспомогательных зданий оставалось совсем немного. Были для этого и средства, и умелые руки, но основой было то, что императоры Антонин и Гета не жалели своего времени для завершения дела, начатого отцом. Антонин Каракалла считал необходимым построить рядом с Аппиевой ещё одну мощеную дорогу, которая проходила бы по всему периметру терм. По его замыслу она должна была стать самой красивой в городе, по ее сторонам он планировал установить статуи и бюсты великих людей империи, а также героев и Богов Олимпа так, чтобы священнодействия в честь богини Изиды и Сераписа потрясали разум и очищали душу для обретения надежды на вечное счастье.
Император Антонин наконец покинул пределы города и задумчиво зашагал по брусчатке Аппиевой дороги в сторону Капуи, где с обеих сторон на десятки миль протянулись богатые семейные гробницы знатных римлян, порою напоминающие своими размерами целые дворцы, мраморные храмы и пирамиды. Священной обязанностью и традицией римского народа было хранить память о мертвых, поэтому Антонин Каракалла в этот светлый праздник не мог не посетить могилу родной матери, умершей вскоре после его рождения, а также могилы боевых товарищей, захороненных неподалеку от нее, всего в полумиле от Мавзолея Цицилии Метеллы.
Спешно возвращаясь в город, император намеревался еще до наступления сумерек успеть почтить память Александра Великого. Он направился на форум Августа, где украшением площади служили две оригинальные греческие картины работы Зевксида, изображавшие Александра Македонского. Их поместил на форум сам Октавиан Август. Здесь, по распоряжению императора Клавдия, лицом Августа на форуме было записано лицо самого Александра. Затем, обогнув Капитолий с востока, Каракалла вышел на виа Лата. Традиционно посещая святые места, связанные с памятью Александра, он всегда проходил по этой улице ровно три сотни шагов и поворачивал налево, к цирку Фламиния. Там, совсем неподалеку, начинались пропилеи портика Октавии, обращенные в сторону цирка. Их во времена правления Севера реконструировали, оставив монументальную надпись на архитраве, разъясняющую, кому должен быть благодарен народ за эту милость. Это было любимым местом Антонина. Внутри портика хранилась скульптурная группа работы самого Лисиппа, известная всем римлянам под названием «Турма Александра», где были изображены сразу 24 воина, сидящих на лошадях, а также знаменитая работа живописца Антифила «Александр и Филипп с Минервой», где Александр вместе с отцом стоял на колеснице.
На сей раз Каракалла по совету своих преторианцев отступил от правила, не желая встречаться с охраной брата, оцепившей цирк Фламиния по всему периметру, и прошел несколько дальше, до большого здания Серапиума вдоль широкой улицы, застроенной многоэтажными инсулами. Пересекая Марсово поле в направлении Тибра, Каракалла дошел до театра Помпея, где на огромном портике, щедро украшенном произведениями искусства, выставлялась для обзора граждан самая известная картина художника Никея «Александр». Здесь Антонин всегда оставался подолгу, внимательно вглядываясь в лицо македонского царя, и интуитивно старался копировать его манеру держать голову повернутой налево. Именно в такой позе год назад он, вступая в права императора, повелел скульпторам изображать себя для любования римским народом по всей территории империи от Египта до Британии.
Темнело в феврале быстро. Рим, погружаясь во мрак, повсюду зажигал масляные лампы, мерцающие по холмам, словно светлячки. Комендант караульной службы седьмой когорты ночной стражи, заступая на патрулирование, уже дал команду запаливать жаровни там, где обычно в дневное время хранил ветошь и веревки для факелов, поскольку отвечал ещё и за исправную работу больших фонарей, развешанных вдоль берегов Тибра. Стража, выставленная на мосту Агриппы, была предупреждена о приближении Каракаллы к цирку Гая и Нерона, и, едва завидев факельное шествие крепких мужчин в серых плащах, уже до передачи пароля оттеснила праздную толпу граждан, чтобы преторианцы личной охраны императора Антонина беспрепятственно проследовали на другой берег Тибра.
Четырнадцатый затибрский городской район Рима был заселен в основном трудовым людом из восточных провинций империи. Он простирался вдоль берега почти до Яникула. Многочисленные святилища восточных богов служили в это время суток местом для собраний землячеств финикийцев, иудеев и сирийцев. Однако именно здесь, средь портовых рабочих, Антонин Каракалла чувствовал себя куда в большей безопасности, чем в девятом фламиниевом районе, переполненном преторианцами, находящимися на службе у Геты, и сторонниками фракции «зеленых», собирающимися в кучи около каждого фонаря, чтобы воодушевленно петь гимны и орать кричалки, пить вино и лапать доступных женщин.
Дорога, что лежала между Яникульским и Ватиканским холмами, была в это вечернее время почти безлюдной, и по мере приближения Антонина к цирку Гая, которого в народе больше помнили по кличке Калигула, вдоль дороги стали появляться не только гробницы, но и старинные виллы. В непосредственной близости от цирка, в пышных и вечнозеленых садах, окружавших роскошно декорированную виллу, когда-то принадлежавшую Агриппине, матери Калигулы, размещался клуб фракции «синих», вокруг которого даже в это позднее время сновало много праздного народа. Фанаты клуба шумно приветствовали приближение императора с охраной. В этот вечер вилла была особенно ярко освещена масляными лампадами и факелами, и внутреннее убранство ее отливало роскошью золотого декора. Мозаичный пол с изображением ярких морских сцен и бассейн к приходу императора были доведены до безукоризненной чистоты. Каракалла не стал осматривать помещения, где ему предстояло провести ночь, а сразу направился на песчаное поле цирка, где все еще продолжались тренировочные заезды. Песок время от времени обильно поливали водой, чтобы пыль не мешала следить за техникой возничих, отчего воздух был чист и влажен, а запах лошадиного навоза не шибал в нос. Крики возничих и ржание лошадей глухо разносились по почти пустому цирку. Народ не топтался вокруг императора, фанаты также держались поодаль на почтительном расстоянии от охраны. В отличие от Геты Антонин не пытался заигрывать с чернью, оттого и не одобрял брата за излишнюю доброту и показную доброжелательность к народу.
Размеры скакового поля цирка Гая позволяли свободно разместиться сразу четырем квадригам точно так же, как и в Большом цирке, что позволяло «синей» фракции создать для возничих условия, максимально приближенные к условиям соревнований. Весь многочисленный штат фракции, состоящий из конюхов, тренеров, ветеринаров, портных, шорников, распорядителей конюшен и их помощников, а также чистильщиков и поильщиков лошадей, высыпал на скаковое поле, чтобы поглазеть на новое приобретение – двадцатипятилетнего возничего по имени Помпей. Он был куплен Антонином Каракаллой из конюшни «белых» по настоянию владельцев фракции за вполне умеренную по тем временам сумму по счастливой случайности. Она представилась, поскольку «зеленые» слишком затягивали с переходом в свою конюшню грека с громкой кличкой Помпей, ставшего по официальным результатам заездов новым «тысячником» в прошедшем году, поэтому сам возничий с согласия владельцев «белой» фракции предпочел перейти к «синим» за цену, для себя лично вдвое большую, невзирая на дружбу «зеленых» с «белыми» и протекцию самого Геты. На день предстоящих лудий Помпей имел 1023 личные победы на бигах и 265 на бегах квадриг. Многих, знавших толк в беге квадриг, изумляло, как этот низкорослый и щуплый грек, посмевший присвоить себе имя великого Помпея, умудрялся во время ристания удерживаться на ногах даже тогда, когда распорядителями его конюшни в ярмо впрягалась кобыла, а элитные чистокровные жеребцы использовались в качестве пристяжных.
Каракаллу заверили, что этот юноша, сумевший всего за 6 лет профессиональных выступлений стать «тысячником», поможет фракции наконец-то одержать победу над «зелеными» и взять главный приз, который покроет часть суммы, затраченной на его приобретение. Антонин скептически отнесся к этим заверениям, поскольку во фракции «зеленых» было сразу три «тысячника», пусть возрастом и старше тридцати, но они еще крепко стояли на ногах, были любимы всеми фанатами, проживали на своих богатых загородных виллах и водили дружбу лично с императором Гетой.
Фракция «синих» приобретала лошадей для своей конюшни в основном в Испании и в Африке, реже на заводах самой Италии. «Зеленые» больше смотрели на Восток от Греции до Малой Азии, особенно на Каппадокию, звавшуюся «страной прекрасных лошадей». Антонин Каракалла с большим вниманием следил за техникой, которую демонстрировал Помпей во время тренировочных заездов. Юноша особенно восхищал его во время прохождения на квадриге веховых столбов. Успех сложнейшего маневра прохождения меты по правилам находящейся с левой стороны колесницы, зависел от гибкости и мощи двух пристяжных лошадей, причем правая всегда была атакующей, а левая играла роль якоря. Техника управления гоночной колесницей в корне отличалась от управления тяжелой, обитой деревом, триумфальной или боевой. Управлять тяжелой, слабо поворотливой колесницей, где возница мог позволить себе, широко расставив ноги, держаться двумя руками за натянутые вожжи либо в одной держать вожжи, а в другой – кнут, мог любой крепкий и ловкий мужчина уже после нескольких тренировок. Маневрировать же легкой, сделанной из тонких железных прутьев колесницей, было нелегко, и учиться управлять таковой начинали мальчики с малого возраста. В такой повозке во время гонки возничий левой рукой все время держался за металлический круг, чтобы не вылететь из нее, а правой орудовал кнутом. Вожжи он в руки не брал, они были накручены на его туловище, и он управлял лошадьми, наклоняя корпус тела вперед или назад, тем самым отпуская или натягивая их. Настройка упряжи должна была быть произведена столь же искусно, как это делалось у щипкового музыкального инструмента, и взаимодействие лошадей и возничего было поэтому едва уловимым. Все это достигалось годами изнурительных тренировок. Лошади проходили дрессуру в течение трех лет, и только достигнув пятилетнего возраста, начинали принимать участие в состязаниях.
За два столетия своего существования цирк Гая и Нерона пришел в упадок, много лет его никто не восстанавливал, и Антонину пришлось вложить в ремонт этого грандиозного сооружения немалые средства, чтобы идеально выровнять поверхность песчаного ристалища так, чтобы даже неспешный прогон лошадей по песку доставлял возничему массу удовольствия. Было время, когда скаковое поле цирка было устлано песочной подушкой, в которой блестели золотистые чешуйки «горной зелени» для особой визуальной красоты. Антонин не был сторонником высокой эстетики Гая Калигулы и поэтому не приказывал в угоду своей прихоти посыпать Цирк слоем киновари и буры. Но Каракалла любил лошадей до безумия и так же, как Калигула до него, требовал от всех жителей в округе ночью соблюдать тишину и не пугать лошадей, спящих в стойлах, за день до состязаний. Ради этого он нарушил привычку, приобретенную по возвращении из Британии, ночевать только во дворце Палатина. Он лично следил не только за порядком, но и за уходом и разведением этих благородных животных, требовал предельного внимания и порой мелочной опеки над каждой лошадью.
Каракалла был доволен, что здесь, недалеко от Ватиканского холма, за довольно короткий срок были созданы почти идеальные условия для содержания беговых лошадей. Калигула, построивший этот цирк для своих собственных развлечений, любил лошадей больше, чем людей, и считал их умнее любого из своих сенаторов. После Калигулы этот цирк избрали местом отдыха императоры Нерон и Клавдий. Первый даже увеличил его размеры и украсил мрамором. Главным же украшением цирка был огромный обелиск, который по велению императора Гая Калигулы доставили из Египта. Уникальный по размерам, он не имел на своей поверхности иероглифических знаков. Историк Рима Плиний-старший считал организацию доставки такого тяжеловесного груза из Египта выдающимся событием в истории Рима. Калигула ничего не менял в форме обелиска, он лишь украсил его от своего имени посвящением Августу и Тиберию. Антонин Каракалла особенно любил и ценил последнего, и присутствие этого сооружения на «спине» цирка Гая считал для себя добрым знаком.
С верхних рядов трибуны, куда поднялся император со своей охраной сразу по завершении тренировочных заездов тех возничих, кого прочили претендентами на главный приз гонок, открывался прекрасный вид на вечерний город. Несмотря на то, что уже почти стемнело, бросалась в глаза выделяющаяся на фоне розоватого вечернего неба громадная усыпальница рода Антонинов – мавзолей Адриана. Император Адриан создал её для себя по подобию мавзолея Александра, что был воздвигнут в Египте. Громада этого сооружения возвышалась недалеко от цирка Гая на том же берегу Тибра при входе на Элиев мост. На самой вершине этого цилиндра была установлена исполинской величины бронзовая квадрига со статуей Адриана, и Каракалле, стоявшему на трибуне цирка, казалось, что эта квадрига мчится ему навстречу. Он невольно улыбнулся: его сердцу было мило любое упоминание о македонском завоевателе, и ему, знатоку древних дивинаций казалось, что он угадывал в этом кажущемся движении квадриги божественное знамение.
Перед тем, как отправиться на виллу в расположение штаба фракции и там устроить веселую пирушку с преторианцами, Антонин, шумно вдыхая прохладный воздух дрожащими широкими ноздрями, замер, нервно перебирая в памяти события минувшего дня, беспокоясь о том, не было ли среди них тех, что могли вызвать гнев всевидящих Богов. Его память хранила немало добрых знаков, явившихся, как ему казалось, наградой за благие дела, но душа его полнилась какой-то неосознанной тревогой. Заглушить ее ему никак не удавалось, и он предположил, что поклонение праху отца в мавзолее Антонина могло бы добавить ему уверенности в себе и укрепить надежду на победу в скачках. Он содрогнулся, вспомнив слова отца перед самой его смертью. Были они обращены к урне, приобретенной отцом для сохранения своего праха: «Ты вместишь в себя человека, для которого был мал целый мир».
Каракалла подал знак, раздались звуки труб, и по команде военного трибуна была тотчас поднята на ноги вся личная охрана принцепса. В черном небе вспыхнули сотни масляных факелов. Строй ночной стражи растянулся на расстоянии вытянутой руки до самой решетчатой ограды мавзолея, украшенной бронзовыми павлинами. Туда и направился Антонин, так и не пожелавший снять с плеч серый бесформенный плащ, скрывающий знаки императорского величия на тунике пурпурного цвета.
Весь следующий день в цирке шла тренировочная муштра, чередующаяся с бесконечными согласованиями планов на каждую гонку. В завершение тяжелого дня без исполнения песен и организации фейерверка все выпили вина. Тишину Вечного города нарушали только редкие крики птиц над быстрыми волнами Тибра.
На следующее утро в день ристаний старший сын божественного Севера проснулся довольно поздно, когда лучи февральского солнца уже коснулись золоченой крыши храма Юпитера на холме Капитолия. Спальнику было не велено будить императора, пока тот сам не подаст голос с дозволением войти, поскольку ночью в его временные покои доставили двух известных в городе пленительных танцовщиц родом из Палестины. Личной охране Каракаллы, сменившей ранним утром преторианскую ночную стражу, было неведомо, что император прогнал от себя чаровниц почти сразу, как только почувствовал, что в очередной раз насладиться темноволосыми красавицами ему не удастся из-за нахлынувшего на него приступа потери потенции. От этого недуга его с переменным успехом лечил ученик прославленного Галена, оставившего после себя рецепты приготовления снадобий, облегчавших когда-то страдания самого Коммода, жаждавшего ежедневных утех для своей безжизненной плоти. Императорского лекаря той же ночью прогнали взашей.
Антонин как бывалый солдат оделся быстро и без посторонней помощи в то, что было заранее тщательно подготовлено для выхода императора в народ. Он спешил, поэтому серебряный сосуд с водой и полотенце, которое держал в руках спальник, ему не понадобились. Прошли целые сутки с тех пор, как священный праздник завершился, и с восходом солнца римлянами завладели другие настроения, далекие от траурных. Галльский серый каракалл остался лежать нетронутым на табурете, а на плечах императора теперь сверкал пурпурный шелковый плащ на белой подкладке. Он был застегнут только на одну фибулу, причем игла застежки закрывалась декоративной золотой накладкой, в центре которой сиял крупный синего цвета драгоценный камень. Хотя на свежем воздухе было прохладно и ветрено, Антонин отказался надевать головной убор, принятый для торжественных случаев, до тех пор, пока не доберется пешим порядком до Большого Цирка. Отсюда, с холмов Ватикана, уже было слышно дыхание проснувшегося Циркуса Максимуса. Он, как оживший вулкан, издавал монотонный гул, угрожая скорым взрывом.
Путь к Палатину воины дворцовой стражи выбрали кратчайший и совсем не спешили перебираться на противоположную сторону Тибра, как хотелось бы императору, чтобы не пересекать уже заполненное праздным народом Марсово поле. Реку Каракалла перешел через мост Эмилия и сразу оказался на форуме Боариум.
Пересечь форум и добраться до цирка было невозможно, не пройдя мимо квадратной, совсем небольшой, арки аргентариев, построенной на деньги местных банкиров в честь всей семьи Северов. Много лет Антонин намеренно обходил это место. И хотя прошло уже добрых семь лет, как на барельефах арки изображение бывшей жены Антонина Плавциллы было вымарано, Каракалла волей-неволей вспоминал имя той, которую он никогда не желал, и любое воспоминание о которой вызывало у него только чувство раздражения, и возможно являлось, по мнению врачей, причиной неожиданных вспышек временной импотенции. Антонин невольно замедлил свой спешный шаг, и, бросив взгляд на барельеф квадратной арки с изображением родителей, стоящих у алтаря, поймал себя на мысли о том, как давно он здесь не был. Ему опять вспомнилось, как отец решительно уговаривал его взять в жены дочь Гая Флавия Плавциана. Вспомнил, как ровно десять лет назад рабы переносили на Палатин приданое дочери друга отца, которое было столь огромно, что историк Дион Кассий как-то в беседе с ним, Каракаллой, съязвил, что такого приданого с лихвой хватило бы на пятьдесят достойных Каракаллы принцесс.
Антонин ненавидел Плавциана не только за его дочь, ставшую ему женой, но и за то, что тот, совсем не страшась имени императора, смел называть себя самым влиятельным гражданином Рима после отца, хотя Каракалла к тому моменту был уже более пяти лет, как объявлен отцом своим полноправным соправителем и носил титул Августа. После женитьбы долгожданный титул Августы вместе со всеми привилегиями, в том числе и правом чеканить монеты со своим изображением, получила и жена его, Плавцилла. Отцу ее, Плавциану, стали воздвигать памятники, пышностью превосходящие статуи правящего императора, причем в храмах возносились публичные молитвы Богам за его здоровье.
Доверенное лицо, земляк и друг отца, будучи не только префектом претория, но и градоначальником Рима, он сумел опутать семью императора Севера своими осведомителями и стал собирать и распространять по городу оскорбительные слухи о самой Юлии Домне, а ее знатных подруг, почтенных матрон, подвергал допросам, выбивая у них нужные показания. Августа Юлия Домна, почитаемая народом Рима и сенатом как «матерь лагерей сената и отчизны», чьи бюсты и портреты выставлялись во всех больших и малых городах империи, была вынуждена от страха за свою жизнь отойти в тень и удалиться от всех государственных дел, уединившись в своих покоях на Палатине. Окружив себя софистами и философами, она не покидала границ дворца, лишь бы всемогущий Плавциан, которому во всем потакал император, не обвинил ее в измене мужу и в заговоре против него, о чем Плавциан собрал, как ему казалось, неоспоримые доказательства.
Коварный префект претория не скрывал неприязненного отношения и к своему зятю, который демонстративно отказывался посещать покои своей жены несмотря на суровые требования отца. В редкие часы уединения Юлии Домны со своими сыновьями, без страха быть подслушанной, она делала недвусмысленные намеки, что необходимо срочно что-то делать. Антонин любил свою мать, а, точнее, мачеху, всем сердцем, не только как послушный сын, но и как влюбленный в нее юноша, в чем часто признавался отцу, говоря, что любил бы только ту женщину, которая была бы такой же прекрасной, как мать. Эти смелые откровения сына смущали и пугали Севера, может быть, поэтому император силой заставил сына жениться, чтобы отвлечь его, как казалось принцепсу, от позорных и крамольных мыслей.
После настойчивых материнских намеков решительному и импульсивному Антонину однажды пришел в голову смелый, хотя и не особо хитроумный план. Он задумал первым оговорить Плавциана перед отцом и обвинить его в заговоре. Это действительно могло выглядеть вполне правдоподобно, поскольку незадолго до этого умер брат отца, носивший, как и его младший брат, имя Гета. Проницательный старик, будучи уже на смертном одре, призывал Севера быть бдительным со своим префектом претория и прекратить так безоглядно во всем ему доверять. Едва отец вернулся в Рим из своей загородной резиденции, что находилась в Кампании, где он готовил очередную военную реформу со своими юристами и назначил аудиенцию членам госсовета, как Каракалла, прознав, что Плавциан по необъяснимой причине стал вдруг носить под тогой панцирь, попросил отца о срочной личной аудиенции и сообщил принцепсу о готовившемся против него заговоре во главе с самим префектом претория. Отец счел доводы сына во многом вздорными, однако, выслушав его, тут же вызвал к себе своего друга. Едва Плавциан попытался привести доводы в свое оправдание, как Каракалла кинулся к нему, сдернул с префекта тогу и, срывая голос, стал выкрикивать в его адрес обвинения. Затем крепким ударом кулака в лицо он сбил старика с ног и, поставив ногу на металлический панцирь врага, потребовал от отца смерти государственного преступника немедля, не дав заговору развиться.
С молчаливого согласия Севера его охрана тут же мечами покончила с Плавцианом, не дав префекту издать ни единого звука. Каракалла ликовал. Наклонившись к безжизненному телу старика, он вырвал клок волос из его головы и помчался в покои матери, где застал Юлию Домну сидящей наедине со своей женой, Плавциллой. С криком «Вот он, ваш Плавциан!» он кинулся к растерявшимся женщинам. Дион Кассий и Флавий Филострат, примчавшиеся в покои императрицы, стали свидетелями этого дикого торжества Антонина. Они также увидели нескрываемое счастье в глазах Юлии Домны и животный ужас, застывший на лице жены Каракаллы. Как показали дальнейшие события, Антонин был оправдан, и худшие ожидания Плавциллы подтвердились. Вскоре ее, прожившую на Палатине в законном браке с Антонином целых три года, сослали на Сицилию, приговорив к забвению, что значило по законам Рима вымарывание ее имени со всех надписей и документов и уничтожение ее изображения во всех скульптурных формах. Каракалла открыто угрожал жене и признался, что как только он станет единоличным правителем, то покончит с ней окончательно.
Септимий Север принял меры к расследованию заговора, и можно было ожидать череду смертных приговоров, как случалось прежде. Однако на этот раз никого не казнили, только одного сенатора приговорили к изгнанию.
…Будь его воля, Антонин без промедления разрушил бы эту ненавистную ему квадратную арку, всякий раз напоминающую о все еще живой Плавцилле, однако строительство этого на первый взгляд ничем не примечательного сооружения являлось частью работ, связанных с организацией Секулярных игр, которые с величайшей помпой были проведены в Риме в том же году. Почетная роль в проведении этих незабываемых торжеств отводилась Юлии Домне наравне с Севером. Подобные игры, согласно традиции, проводились в империи каждые сто десять лет. Самые пышные провел Октавиан Август ровно 220 лет назад, позднее организатором был Домициан, однако то действо, которое видели римляне, и которое осталось в памяти народа на долгие века, было создано именно творческим воображением Юлии Домны. Эти игры превосходили все доселе проведенные не только красотой и пышностью, но и огромными затратами по их организации. Даже великий Август не мог помыслить о подобных расходах. Каракалла горько усмехнулся при мысли о мелких затратах на предстоящие однодневные лудии в сравнении с тем, что было каких-то восемь лет тому назад. Всего через год после Секулярных игр он спас Юлию Домну от интриг подлого Плавциана, а сам избавился от назойливой жены. Мать, как ему казалось, была у него в вечном и неоплатном долгу. Он навсегда запомнил сияющие глаза Юлии Домны – глаза благодарной женщины, готовой тогда на все.
Взрыв диких возгласов и неистовых воплей в цирке, до которого оставалось несколько сотен шагов, всколыхнул весь город. Волна мощного гула прокатилась по узким улицам Рима, приводя всех сограждан в трепет. Каракалла, вздрогнув, мгновенно понял, что это значило. Это его ненавистный брат и соправитель Гета появился в своей ложе, и громкое приветствие фракции «зеленых» заставило лицо Антонина исказиться гримасой. Не в силах унять волнение, он ускорил шаг, торопясь занять место в своей ложе.
«С ним что-то надо делать!» – непонятно отчего вдруг вспомнились Каракалле слова матери, относившиеся тогда к Плавциану. Антонин поежился, отдавая себе отчет в том, что мысленно повторил эти слова, но имел он в виду при этом отнюдь не старика-интригана, а…собственного брата Гету. Злоба к младшему брату перекосила его рот, и от своей решительности он содрогнулся. «Мать, во всем виновата только она. Она до сих пор не знает, как поделить власть между нами. Раздел империи на равные части пополам ее не устраивает. Значит, кто-то должен умереть. И это будет он! Юлия Домна мне обязана, ведь если бы не я, коротать бы ей бесконечные дни в изгнании где-нибудь на Липарских островах. Она должна меня понять, она поможет мне. Я уверен, она и простит меня, если…» Таившаяся еще недавно только в его подсознании, эта мысль обрела теперь форму навязчивой идеи и захлестнула все его существо, притупив даже беспокойство по поводу начинающихся ристаний.
Антонин размашисто шагал к Большому Цирку, полный тревожных дум, и даже не ощутил, когда слуги надели ему на голову тяжелую золотую зубчатую корону. Именно ее носил незадолго до смерти отец. Приближаясь к монументальному зданию Циркуса Максимуса, Каракалла невольно восхищался величием наложенных друг на друга трехэтажных аркад, облицованных мрамором. Такое архитектурное решение напоминало амфитеатр Флавиев, громада которого была так любима римлянами. Но колоссальных размеров Большой Цирк, превосходивший амфитеатр Флавиев в несколько раз, потрясал граждан города и размером, и декоративным оформлением. Под кровлей мраморных аркад цирка разместились лавочники, торговцы пирожками и жареным мясом, астрологи и проститутки.
Большой Цирк. Рисунок: Санчурский Н. Краткий очерк римских древностей. СПб, 1897. С. 14
Появление Каракаллы на публике в своей ложе, огороженной от брата всего лишь невысокой деревянной стенкой, обложенной разноцветными шелковыми подушками, вызвало буйный восторг во фракции «синих». По трибунам прокатился стон. Личное присутствие августейших лиц поднимало градус эмоций и вызывало трепет в римской толпе. В хаосе переполненных трибун, вместивших четверть миллиона зрителей, не было видно ни скамей почерневшего мрамора, ни ступеней, ни перил. Каждый, кто хотел достать себе место в цирке, пришел сюда с восходом солнца. Кутаясь в шерстяные плащи, зрители ждали весеннего тепла. Но лучи утреннего февральского солнца пока не могли пробиться вовнутрь чаши Большого Цирка, чтобы обогреть продрогших любителей скачек, они лишь скользили с холмов Квиринала по высоким арочными стенам и касались верхушки обелиска Рамзеса II, стоящего в самом центре цирковой «спины» бегового поля.
Наконец в какой-то момент заостренный и покрытый золотом пик иглы обелиска, привезенный еще Августом из покоренного Египта, начал отражать лучи на трибуны, а скульптура горящего факела, установленного на самой его оконечности, также сделанная из золота, загорелась на солнце, будто превращая обелиск в горящую свечу. В это мгновение набожные римляне встали с мраморных скамей и, простирая руки к небу, благодарили Богов за счастье лицезреть предстоящие ристания. Как только солнце начало освещать беговое поле, председательствующий на Играх курульный магистрат и его представительная свита приступила к своим обязанностям.
На верхних ярусах переполненных трибун молодые люди обоих полов и разных сословий, перетасованные волею случая, имели приятную возможность познакомиться друг с другом. Не зря Овидий в поэме «Искусство любви» советовал своим ученикам посещать цирк, ведь здесь, в цирке, томные прелестницы искали себе мужей, а ветреницы – приключений. В секторах, где места были расположены ближе к беговому полю, переливаясь многоцветием праздничных туалетов, собирались изумительные красавицы из тибрских дворцов. Пышность нарядов, блеск драгоценных камней, опахала из павлиньих и страусиных перьев, аромат благовоний – все это создавало атмосферу грандиозного праздника. Но чувства дружбы и семейственности, любовь к Отечеству и благородная набожность отступали на второй план, когда вставал вопрос, победят ли на скачках «зеленые» или «синие». Великий Плиний, про которого римляне говорили, что он знал почти все, в письмах, адресованных своим друзьям, выражал недоумение по поводу того, что тысячи мужчин, которых никак было нельзя отнести к разряду римской черни, забывая обо всем, вновь и вновь фанатично следят за мчащимися по полю лошадьми с колесничими и безоговорочно преданы тряпке цвета своей партии. Население великого Города было поделено на 4 части, а точнее на 4 цвета: белый, зеленый, синий и красный, и каждый гражданин с рождения и до гробовой доски был предан своей партии, фракции, а точнее тряпке, как называл все это Плиний-младший, историк, писатель, близкий друг великого императора Траяна и один из очень немногих римлян, кто никогда не посещал цирка.
Святость религиозной церемонии была соблюдена по всем канонам римских религиозных обрядов. В самом цирке, возле триумфальной арки в три проема, установленной в честь победы Флавиев над иудеями, прошла традиционная торжественная помпа[22]. Возбужденная публика со страстной одержимостью спешила заключать первые пари.
Едва предводители фракций заняли свои места, как распахнулись ворота, откуда появились беговые колесницы, раскрашенные в четыре цвета представленных к ристаниям партий. Дрожащие от нетерпения великолепные лошади с подвязанными хвостами и вплетенными в гривы лентами спешили занять на старте свое место согласно жребию. Возничие колесниц, одетые в туники с короткими рукавами, каждый на свой манер были сплошь по телу обвиты защитными ремнями. На их головах были надеты одинаковые гладкие кожаные шлемы, на поясной ремень каждого крепился острый кривой нож. Возничие демонстрировали возбужденной публике свое видимое спокойствие.
Каракалла и Гета почти одновременно из своей императорской ложи подали знак к началу первой скачки на бигах[23]. Под звуки длинных труб сигнал к старту давал председательствующий на играх еще совсем молодой, но уже облаченный властью квестора магистрат. Им был сын прославленного префекта претория юриста Папиниана, одетый для такого случая в яркую, расшитую перламутром тогу. Он стоял на видном всем постаменте, опершись, как старец, на посох из слоновой кости. Голова его была увенчана увесистой, сверкающей золотом короной, которую, чтобы та не сдвигалась на лоб, поддерживал стоящий за его спиной раб. Молодой квестор, ведавший сенатской казной, пожаловал свои деньги на эти богатые зрелища, поэтому, согласно римской традиции, именно он и давал сигнал к старту, бросая на арену у меловой черты белую салфетку.
Предстартовая гробовая тишина, воцарившаяся в цирке на короткое время, была взорвана воплем трибун, возвестив всему городу, что скачки начались. Одновременно, подняв тучу пыли, рванули вперед шестнадцать коней, запряженных в колесницы по два. Две колесницы, заявленные в заезде от одной конюшни, первоначально разобщенные на песчаном поле согласно жребию, отчаянно искали друг друга в пыли, чтобы уже в свой первый прямой беговой отрезок до веховых столбов занять правильную позицию, определенную планом на гонку, утвержденному предводителем фракции на все семь кругов.
Антонин Каракалла, всегда эмоциональный на ристаниях, страшный в гневе и непомерно радостный в счастливые минуты, теперь источал ледяное равнодушие. Мысли его были далеки от гонок. Он не сидел как брат, обложивший себя шелковыми подушками, а, скрестив руки на груди, все время стоял и медленно, как философ, поглаживал короткую бороду. Стеклянный взгляд Антонина был затуманен, тогда как издали лицо казалось одухотворенным. Высоко подняв голову и оглядывая переполненные трибуны, он увидел мачеху, сидящую среди друзей на открытой верхней веранде дворца Севера на Палатине, которая как бы нависала над цирком, и сразу опустил голову, прикрывая глаза ладонью. Каракалле казалось, что Юлия Домна, обладая поистине колдовской проницательностью, с одного взгляда была способна разглядеть в дружелюбной улыбке пасынка кровавые намерения, тем более, что план его был настолько прост, что он сам не сомневался в реальности его осуществления. Дело было за малым: заставить ее уговорить брата прийти на встречу с ней без охраны и в благостном настроении. Каракалла был уверен, что при ее желании Гета полностью ей доверится и потеряет бдительность.
С тех пор, как братья стали враждовать между собой в открытую, не стыдясь народного пересуда, вдовая императрица не появлялась в священной ложе на Палатинском склоне Большого Цирка. Она не появлялась там даже после пятого часа, когда игры прерывались на дневную трапезу, предпочитая оставаться во дворце и смотреть на ристания через широкие арки в верхних комнатах своих друзей-софистов или вольноотпущенников, которых сама расселила рядом с собой для душевного спокойствия. Каракалла с нетерпением ждал, когда гонки на бигах прекратятся и начнутся приготовления к ристаниям на квадригах. Тогда у него появится время, чтобы вполне безопасно для собственной жизни пройти во дворец через главный вход и подняться в покои матери, где он мог бы получить у нее аудиенцию в спокойной неофициальной обстановке.
Постоянно длительные приготовления императрицы для выхода в народ вызывали у Антонина раздражение еще с детства, и он редко обременял себя ожиданием встречи с матерью для короткого вежливого приветствия с поцелуями, и покидал покои Августы в ярости, так и не дождавшись ее. Но в тот день все складывалось для него так, как он замыслил. Как будто Богиня Фортуна, которой он неистово поклонялся, дала ему на все это свое благословение.
Каракалла, оставив личную охрану у дверей, почти ворвался в покои Юлии Домны, когда она в почтенном одиночестве совершала пешую прогулку на свежем воздухе по верхней анфиладе нового дворца. Изобразив на лице улыбку, он изо всех сил постарался продемонстрировать матери свое доброе расположение и признался, что наконец-то именно сейчас на играх, сидя с братом в ложе и находясь во власти порыва, он осознал значение науки дружбы и взаимного уважения, которую отец зачастую силой вбивал им с братом в голову, заставляя заучивать чуть не наизусть труды писателя Саллюстия. Он клятвенно заверил царствующую матрону что готов при ее гарантиях безопасности для себя и Геты встретиться с братом в ее присутствии на ее нейтральной территории дворца и мирно обсудить все спорные вопросы, следуя ее советам и предложениям.
Юлию Домну приятно поразил тот дружеский настрой, с которым делился своими намерениями Антонин. Даже та льстивая манера, с которой он излагал свои мысли, была ей мила. Она видела своего старшего сына насквозь, знала его коварство и лютую ненависть к брату, интуитивно чувствовала, конечно, и то, что он питал к ней как к женщине чувство животного вожделения. Часто, заглядывая в колючие глаза Антонина, Юлия оказывалась во власти панического страха за себя, за сына Гету, сестру Юлию Мезу и особенно ее дочерей Маммею и Соэмиду, с которыми он иногда оставался наедине. Каракалла приходил в бешенство, когда ему, уже соправителю Севера, родственники не позволяли подолгу оставаться с этими молодыми девушками в его покоях, видимо, сознавая, что дочери Юлии Мезы, в отличие от их добродетельной матери, не особенно следовали заповедям Богини Целомудрия.
Несмотря на вполне оправданную тревогу, которая ни днем, ни ночью не покидала душу императрицы, она не могла не оценить пусть и сомнительные, но такие милые сердцу матери метаморфозы в поведении Антонина. В конце концов сколько раз Элий Антипатр, домашний учитель старшего сына, да и сам Папиниан, уверяли ее, что неконтролируемая агрессивность и разрушительная сила характера Каракаллы с возрастом может трансформироваться в мудрость уравновешенного императора. «Разве в детские годы, – рассуждала про себя Домна, – Антонин был жесток с окружающими, скупился на щедрые подарки друзьям, не оказывал милость падшим? Разве не благодаря Антонину Антиохия и Византий вернули себе старинные права, когда Север готов был все там разрушить, преследуя сторонников Песцения Нигера?» Она могла долго успокаивать и убеждать себя в том, что ее страхи напрасны, ее болезненная подозрительность и осторожность преувеличены, что в Антонине есть что-то, что за эти годы ей не удалось в нем разглядеть. Ну а избавление ее от Плавциана, это ли не подарок, казалось бы, судьбы, но однако созданный умом и руками ее пасынка. Юлия Домна улыбнулась своим мыслям. Глубокая складка между тонких изогнутых бровей исчезла, она расправила плечи.
По мраморным коридорам в блеске порфира и оникса, тихо ступая по инкрустированному серебром полу, сновали безмолвные рабы с подносами. В дневные часы Юлия Домна ела очень мало, да и по вечерам старалась избегать званых пирушек, приучая вышколенных поваров к вынужденному безделью, но триклиний, некогда излюбленное место отдыха императоров, находившийся чуть в глубине дворца, совсем близко от ее покоев, продолжал хранить домашнее тепло. Туда, подальше от ушей преторианских гвардейцев, Августа отвела Антонина для продолжения беседы. Столы не ломились от изысканных яств, но простая вегетарианская пища, которую она привыкла употреблять вместе с мужем, задолго до смерти начавшим страдать подагрой и почти переставшим употреблять в пищу мясо, всегда была в изобилии. И, конечно, фрукты по совету врача Галена.
Юлия Домна сидела, откинув спину на мягкую подушку, широко раскинув руки на подлокотники и вытянув ноги. Каракалла не последовал приглашению присесть и, сдерживая дрожь в ногах, стоял перед ее креслом, как бывалый солдат, держа руки за спиной и широко расставив ноги. Он не мог налюбовался красотой своей мачехи, способной, как и в молодости, быть изысканной в праздничных нарядах, подчеркивающих точеную фигуру с тонкой талией и высокую, почти всегда глубоко декольтированную грудь, на которой, казалось, почти лежало драгоценное колье. Впервые за несколько месяцев Каракалла внезапно почувствовал, как у него пробуждается тяга к женщине. «Боги, только не сейчас!» – взмолился Антонин. Он неловко попятился, отвешивая прощальный вежливый поклон, и поблагодарив ее за аудиенцию, сказал на прощание, что будет с нетерпением ожидать встречи с братом.
Каракалла, поспешно возвращаясь в цирк, был безмерно счастлив, что мать с такой искренней радостью приняла его план, не сумев разгадать его недобрые намерения, которые ему никогда прежде не удавалось скрывать от её пронизывающего взгляда. Только у себя в ложе он наконец присел на подушку и разрешил спальнику, своему доверенному телохранителю, подать себе сосуд с фалернским вином и пресную лепешку с соусом «кровавый гарон». Он не боялся, что его отравят, и ел спокойно, держа съестное у себя на коленях. Рядом, через деревянную загородку, заканчивал трапезу его брат Гета, окруженный веселыми друзьями и охраной. Его стол был исключительно рыбным и отличался, как всегда, отменным изыском для гурманов и чревоугодников. Каракалла бросил в их сторону злобный взгляд и прошипел себе в бороду: «Осталось недолго, жрите!»
Мощный рев аплодирующих трибун требовал начать ристания на квадригах. В карцерах заканчивались последние приготовления. Лошади, дрожащие от нетерпения, уткнулись носами в задвижку ворот и неустанно перебирая копытами, громко стучали по деревянному настилу. Все кони были взъерошены, одинаково выезжены, быстроноги и полны сил. Возничие в последний раз сами поправляли упряжь, проверяя стяжные хомуты и подтягивая подпруги. Предводители партий один за другим подавали знаки готовности своих квадриг. Биги в отличие от квадриг двигались по полю немного медленней, но отличались большой маневренностью. Возничий мог продемонстрировать зрителю все свое мастерство. Коренастые жеребцы с относительно короткими ногами и массивным корпусом прыгали тяжелее верховых, но зато превосходно бегали. Но ристания на квадригах имели более высокий престиж. Возничий должен был демонстрировать не столько высокую технику, сколько смелость, стремительность и хладнокровие. Полные падения или, как называли такие случаи римляне, «кораблекрушения», случались в ристаниях на квадригах гораздо чаше и приносили значительный ущерб фракции, но зато их месяцами и в подробностях обсуждали жители города.
Снова открылись стартовые ворота на квадратной стороне здания Циркуса. Снова запели трубы. Толпы фанатично преданных почитателей своих фракций, заключив пари на каждый забег, начали распевать песни, размахивая кусками материи цветов цирковых партий. Появление первых квадриг привело зрителей в полный восторг. Имена испытанных возничих, чьи результаты приближались к великим «тысячникам», были и в обычные дни на устах знатоков ристаний. Лошади нервно потряхивали гривами и грызли удила, когда Циркус хором выкрикивал их имена: «Коракс! Виктор! Тускус! Полидокс! Андрамон!» Трибуны пустили волну, перекатывая цветные тряпки из угла в угол. Изредка возникали драки, но слишком буйных, мешающих другим наслаждаться зрелищем, быстро усмиряли.
Возничим предстояло скакать во весь опор по прямой, снижать скорость на поворотах до минимальной, испытывая при этом колоссальные нагрузки на спину и ноги и суметь не зацепиться за веховой столб и вновь быстро разогнать лошадей до предела их возможностей. И так все семь кругов, изматывая себя и лошадей кнутом и криками, затратив на все про все по замерам водяных часов меньше десяти минут! И если ты первый, тебе даруется любовь трибун, твое изображение красуется на всех плакатах, развешанных на стенах города. И пальмовая ветвь тебе, и кошель, набитый золотыми монетами – тоже тебе. Это же шестьдесят тысяч сестерций. Ты богат! Ты молод! Ты велик, как Бог! Ты желанный гость в каждой римской семье. Проигравший же покидает Циркус тихо. И слава Богам, берегущим тебя, если на могильном камне с надписью «Погиб во время состязаний» будет начертано не твое имя.
Судьба главного приза решалась в последнем заезде. Все пять предыдущих, пребывая в думах о грядущем, Каракалла просидел молча, казалось, окончательно потеряв к играм всякий интерес. Зычный крик «Euge!» вырывался из глоток фанатов фракции «зеленых». Они продолжали весело праздновать очередную победу своей фракции в пятом заезде, и, ничуть не смущаясь, смеялись над Антонином, поглядывая в его сторону. Наконец Каракалла очнулся, осознал, что «синие» уже проигрывали в целом по заездам, и фракция могла потерять не только большие деньги, но и свой престиж. Проигрывать он не любил и не умел, особенно брату. Он хранил ненависть к Гете с тех пор, как проигрывая ему много лет назад на детских ристаниях на маленьких пони, опрокинул свою бигу и сильно ударившись, сломал ногу. В циркусах, болея за своих «синих», Антонин обычно не в силах был сдерживать эмоции и переходил к рукоприкладству, оскорблениям и унижениям соперников, и порой доходил до того, что угрожал их жизням. Совладать с собой в такие минуты он не мог, хоть и восхищался на словах Марком Аврелием, который всегда на публике демонстрировал свое спокойствие, сохраняя эмоциональную индифферентность ко всем общественным зрелищам. Оттого, наверное, и задумал Марк-философ начать свою знаменитую книгу именно с того, что поблагодарил своего воспитателя за то, что тот не привил ему любовь ни к «зеленым», ни к «синим».
С первых стартовых мгновений шестого забега на квадригах Каракалла не мог усидеть на месте: он стоял, будто готовясь к прыжку на беговое поле. Его руки дрожали, напряженные ноги были полусогнуты, словно он сам управлял квадригой. Со старта возница «синих» рванул во весь опор, и Антонин, по воле инстинкта, наклонился вперед, в мыслях пришпоривая коней. Возница предпринял торможение, и Каракалла тоже отклонился назад, как бы натягивая поводья. На лбу императора выступил пот, его дыхание стало прерывистым. «Ближе к спине»! – заорал он, взбешенный, хотя возничий, тот самый молодой грек по кличке Помпей, управлял своей колесницей поистине виртуозно. Подрезая соперников, тем самым вытесняя их из круга, используя для этого собственных лошадей, либо хитрыми маневрами вынуждая к этому лошадей другой команды, он круг за кругом обеспечивал себе преимущество и держал «зеленого» позади, в то же время не упуская из поля зрения действия «белых» и «красных». «Держаться как можно ближе к спине, даже на острых углах! – повторял, как молитву, император снова и снова. – Как можно ближе к спине, ты слышишь? Вот так!» – заулыбался он. Крепкая ось трещала от резких поворотов. «Придави колесницу соседа! Хорошо, делай крутую дугу»! – почти сорвавшимся голосом шипел Каракалла. Глаза его горели, он смахнул пот с виска. «Теперь ослабь поводья»!
Веховые столбы были благополучно пройдены в очередной раз. Бронзовые изваяния дельфинов, ныряющих в бассейн, и скатывающиеся с постамента яйца, установленные на «спине» Циркуса, отмеряли полных пять кругов. Последний заезд не оставлял равнодушным ни одного зрителя. Уже и женщины бились об заклад на свои украшения. На ставки годилось все – от домашней утвари до рабов.
– Так держать, грек! – вырвалось из глотки Антонина. Торжествующий император видел, как «синий» рванул вперед по прямой, оставляя «зеленых» уже больше, чем на корпус, позади.
«Похоже, эта гонка будет за нами!» Каракалла оглянулся и встретившись глазами с начальником личной охраны, стоящим за его спиной, широко улыбнулся. Он распорядился подать себе воды с медом и на мгновение повернулся спиной к полю, протянув руку за кубком. В этот момент трибуны взорвались дикими воплями, и все повскакивали со своих мест. Мчавшиеся впереди всех лошади «синих» взвились на дыбы от боли, когда, предельно сократив расстояние до меты, колесница «синих» правым колесом угодила в образовавшийся провал, который не успели выровнять служащие Циркуса после пройденного круга. Колесницу выбросило чуть вправо, подрезая «зеленых». Резкий, неожиданный толчок опрокинул колесницу «синих». Возничий, путаясь в вожжах, волочился по песку. Его острый нож никак не мог перерезать натянутые вожжи. Перемалывая лошадей «синей» квадриги, возничий «зеленых», пытаясь избежать «кораблекрушения», не без поломок ушел вправо к трибунам, пропуская мчавшихся за ним «белых». В этот миг отстающая ото всех колесница «красных», следующая за «синими» плотно вдоль стены, то ли случайно, то ли умышленно со всей мощи налетела на несчастного грека по кличке Помпей, разбивая его тело на куски, затаптывая и перемалывая его кости копытами лошадей и колесами квадриги. Не получив повреждений в этом столкновении, «красные» удачно обогнули мету и сразу оказались впереди, опередив на голову «белых». Усиливая беспорядок, «зеленые» с оборванной сбруей и сломанным дышлом продолжали нестись вперед, пытаясь догнать неповрежденную колесницу «белых». Но в этой пыли «зеленый» ничего не мог разглядеть. Он потерял из виду потные крупы лошадей противника. «Красный» первым достиг меловой черты, опережая квадригу «белых» на целые две головы.
Праздник закончился. Ликовали «красные». Их фракция была не так многочисленна, как другие, но их тоже было немало. Женщины визжали, пританцовывая от радости, многие мужчины плакали, утирая слезы счастья лоскутами красной материи. Победитель получил пальмовую ветвь и призовой кошелек с деньгами. Но главный приз со щедрой добавкой от императоров все равно достался «зеленым», поскольку по совокупности они одержали больше побед. Состязания закончились очередным большим успехом фракции «зеленых». В Риме в отличие от Греции, где уважали мастерство возничих и скорость лошадей, ценили больше всего успех своей партии. Зеленый цвет накрыл весь город. Император Гета, его близкие друзья, фанаты фракции, ликовали – это был их праздник.
Удрученный Каракалла, покидая Циркус в одиночестве, окруженный усиленной охраной, тем не менее тоже получил радостную весть: по счастливой случайности левый пристяжной жеребец квадриги Помпея по кличке Тускус, обошедшийся партии «синих» в добрый десяток миллионов сестерций, в этом кровавом «кораблекрушении» почти не пострадал, сохранив драгоценные ноги. Тускус был лучшим «principium» на гонках на протяжении последних трех лет, обеспечивая партии громкую славу. Значимость этой лошади было невозможно переоценить. Он, левый пристяжной лучшей квадриги «синих», в каждой гонке галопом описывал предельно короткую дугу, оказывая сопротивление центробежной силе всех остальных лошадей квадриги, и первым после выполнения поворота переходил в быстрейший аллюр, проделывая огромный объем работы. По устоявшейся традиции на афишах цирка наряду с возничим упоминалось только имя «principium».
Постепенно новость о том, что Тускус остался невредим и не поломал ноги, распространилась по всему Большому Цирку. Болельщики всех партий принялись единым хором скандировать его имя. Кличку грека Помпея не выкрикивал никто, оно звучало только в пересказах свидетелей драмы тем, кто не смог попасть в Циркус в тот день. Рим не любит проигравших, Рим превозносит только победителей. Изуродованное тело Помпея быстро убрали с глаз зрителей. Его захоронили с почестями, следуя закону «Двенадцати таблиц» на обочине Аппиевой дороги, а его мраморная вилла на берегу моря так и осталась недостроенной.
Каракалла сам удивился той выдержке, которую он демонстрировал в тот вечер по отношению к брату – предводителю победившей партии «зеленых». Он заставил себя присутствовать, хотя и недолго, на ритуальном празднике по случаю закрытия лудий. Юлия Домна в очередной раз увидела в этом знак искренних намерений Антонина искать с братом мира не только на словах. И вот теперь ему оставалось только дождаться от матери письма с согласием на встречу.
Тягостные дни ожидания Каракалла коротал в компании с вернейшим другом Матернианом. Умелый организатор развлечений принцепса на любой вкус, Матерниан единственным был посвящен в его коварный план достижения единоличной власти в империи. Не доверяя никому, кроме себя, видя во всем своем окружении только заговорщиков в пользу Геты, Каракалла метался по комнатам, бесконечно меняя состав личной охраны и беспрестанно вопрошая оракула о предзнаменованиях. Матерниан посылал за предсказателями и халдеями, магами и звездочетами, даже за гадателями по внутренностям животных, но Антонин не доверял даже им и сомневался в правдивости их вещаний, подозревая в угодничестве. Получить же истинные вещания пророчицы небесной Богини из Карфагена, которой он доверял больше всего, не было времени.
На второй день ближе к ночи он наконец получил долгожданное письмо от мачехи с подтверждением явиться в ее пределы дворцовых сооружений на следующий день под вечер, без оружия и охраны. Этим письмом она гарантировала готовность брата следовать тем же правилам.
– Она поверила! – Антонин торжественно произнес эти слова и, хлопнув в ладоши, оглянулся по сторонам. – Она поверила, – повторил он те же слова уже тихо, встретившись с Матернианом, который сразу принялся писать письмо к военному трибуну Оклатинию Адвенту, служба которого размещалась на Виминале в преторианском лагере. Письмо содержало дружескую просьбу при составлении графика смены караульно-постовой службы во дворце на Палатине на предстоящий день предусмотреть определенный состав преторианцев личной охраны вдовствующей императрицы, а именно: Луция Фуска, Элия Респекта и Валерия Валента.
Как только Матерниан запечатал письмо, Антонин подошел к другу совсем близко и, глядя ему прямо в глаза, тихо произнес:
– Пусть письмо это на Виминал к Адвенту отнесет прокуратор моих личных имений Опилий Макрин. Согласись, приход в преторианский лагерь опытного юриста, далекого от военных дел, который к тому же ведет в настоящий момент ряд судебных гражданских дел, не вызовет ни у кого подозрения. Пусть вручит лично в руки, а устно, оставшись один на один, передаст ему мою настоятельную просьбу неукоснительно выполнить это поручение.
Матерниан знал, что эти преторианцы, много раз проверенные на деле в клятвенной преданности Антонину, готовы исполнить любое задание, а если понадобится, положить свою жизнь за него. Время для них наступило.
– Они должны быть готовы к тому, – продолжал Каракалла, – что во дворце в покоях матери их обязательно обезоружат и мечи отберут. Поэтому их кинжалы должны быть ловко спрятаны под плащами. Марциалий, центурион моей личной охраны, проведет с ними завтра утром перед заступлением на службу последний инструктаж. Что еще, – Антонин ненадолго призадумался и продолжал: – Что бы ни случилось завтра, германцев из моей личной охраны из этого дела исключить, никаких воинов второго Парфянского легиона в этом деле тоже не должно быть. Обойдемся пока без них. Для прикрытия используй фрументариев из лагеря перегринов, что на Целии. Во дворце должны быть только преторианцы из иллирийских племен, и только те воины, имена которых я тебе уже назвал. Остальные должны быть в полном неведении, исключить даже полунамеки. Еще раз для тебя, – Каракалла был деловит и собран до предела, – план прост. Завтра к вечеру я явлюсь к матери первым, заведу разговор в ожидании Геты. Приход брата в покои матери и будет знаком к началу. Как только двери за ним закроет последний из стражи, сразу без промедления и слюнтяйства двое первых должны вонзить свои кинжалы в тело Геты. Третий должен остаться за дверью. Как только брат будет мертв, я подниму крик, что меня убивают, а дальше, – Каракалла опять сделал паузу и задумчиво произнес: – Дальше будет видно. Главное, брат должен быть мертвым. Это все.
Повернувшись спиной к другу, Каракалла умолк и ушел в себя, скрестив руки на груди.
Матерниан не проронил ни слова в ответ. Он встал, отвесил поклон и удалился, держа в руках свиток с письмом.
На другой день все произошло так, как хотел Антонин. Как только захлопнулась дверь в комнату приемов императрицы, Гета сразу догадался обо всем и бросился в объятия сидящей матери со словами: «Мма-мма, сспа-сси меня»! От страха он не справлялся с врожденным заиканием, и слова разбивались на протяжные слоги.
…Первый удар пришелся ему в спину, под левую лопатку. Когда Гета откинулся назад, второй удар в грудь окончательно его успокоил. Юлия Домна была тоже ранена в руку, когда попыталась защитить его. Кровь ее и сына слились в одно багровое пятно на ее праздничной светлой столе, расшитой золотой нитью и сплошь украшенной камнями. При виде крови и слыша истошные крики матери, обуреваемый яростью и гневом Каракалла в какой-то момент был готов сам присоединиться к бойне и нанести ей удар в висок, лишь бы она наконец замолчала. Медленно сползающее с рук Домны безжизненное тело Геты застежкой плаща зацепилось за ее столу, и чтобы удержать тело сына от падения, императрица попыталась встать, но ворот, обшитый широкой каймой и вышитый жемчугом с золотыми блестками, лопнул. Тело Геты рухнуло под ноги матери, увлекая за собой столу, которая удерживалась на теле Юлии Домны только широким поясом. Белоснежная туника была настолько тонка и прозрачна, что не скрывала достоинств тела императрицы. Строфион из тонкой светлой кожи, которую она носила поверх туники как предмет интимного туалета, придавал ее и без того пышной груди еще больший объем.
Перепачканная кровью туника, обнаженные плечи и опустошенные от безысходности глаза на смертельно бледном, за минуту изменившемся лице мачехи, встряхнули замутненное сознание Антонина. Намеченный план действий вспышкой пронзил его мозг. Каракалла разжал занесенный кулак, его озверевшее лицо неожиданно преобразилось и стало каким-то жалким и несчастным. Он обхватил курчавую голову руками и с диким криком «Меня убивают, спасите» – рванулся к двери, из которой уже выбежали иллирийцы. Юлия Домна пребывала в шоке. Она не могла осознать, как случилось, что покои императрицы, считавшиеся по законам империи святыми, были осквернены кровью. Она, дрожа всем телом, инстинктивно подалась вперед, пытаясь кинуться вслед за убегающим Каракаллой. Подол ее праздничной столы, обшитой мелко присборенной тесьмой, был настолько пропитан кровью, что тяжелым шлейфом волочился по мраморному мозаичному полу.
Дворцовая стража, прибывшая на крик, оказалась не готовой в первые минуты правильно оценить происшедшее и приняла под охрану обезумившего Антонина. Каракалла потребовал, чтобы его немедленно доставили на Виминал за высокие стены преторианского лагеря. Гвардейцы, собранные по тревожному рожку для построения, были раздосадованы случившимся, но Антонин успокоил преторианцев обещанием произвести немедленную щедрую раздачу денег, если они поддержат его претензии на единоличное правление империей. В храме при казармах преторианцев, где хранились их боевые регалии, Антонин, простираясь перед алтарем, принес богам благодарственные дары за свое якобы чудесное спасение.
Ночь Каракалла провел в лагере, опасаясь мести легионеров II парфянского легиона, стоящего лагерем совсем недалеко от Рима. Размещенные впервые в истории Рима на территории Италии, легионеры в полном боевом снаряжении были, согласно идее военной реформы Септимия Севера, гарантом безопасности императорской власти. Они любили Гету гораздо больше, чем Антонина хотя бы потому, что младший из братьев был по своему облику и поведению очень похож на своего отца. Весь следующий день Каракалла вел нелегкие переговоры с легионерами перед запертыми воротами их лагеря. Они были бы рады не нарушать свой долг и служить верой и правдой обоим братьям, но что им оставалось, если Геты уже не было в живых, а Антонин обещал им, как и преторианцам, повышение жалованья, а также всяческие награды за «преданность».
Наконец, заручившись поддержкой легиона и преторианцев, Каракалла, сопровождаемый личной охраной, отправился в сенат на заседание, предусмотрительно поддев под тогу панцирь. Сумбурная речь Антонина не содержала ничего нового кроме того, что он уже сказал раньше преторианцам и легионерам, представляясь жертвой покушения со стороны брата во время посещения безоружным своей матери, чудом спасшимся волею богов. Сенаторам Антонин велел благодарить милостивых богов за то, что они обрушили беду только на Гету. Завершив свою сбивчивую и неубедительную речь в стенах курии, Каракалла новым постановлением на радость всего римского мира повелел отпустить всех изгнанников на волю независимо от того, когда и по какой причине они были осуждены. Правда, к этому радостному моменту жены Антонина Плавциллы благодаря стараниям ее мужа уже не было в живых, как и ее брата. Они были убиты на прибрежных островах, служивших римлянам тюрьмами.
В тот же день Антонин учинил кровавую расправу над сторонниками Геты. Пострадало много людей, в том числе и невиновных, особенно из цирковой партии «зеленых», от предводителей до возничих. Всем, кто оплакивал Гету или носил траур по убиенному, по закону «Об оскорблении величия» мог быть вынесен смертный приговор. На следующий день только к полудню у Антонина нашлось время, чтобы навестить во дворце свою несчастную мачеху. Убитая горем женщина не покидала своих покоев, но, преисполненная мужества, не отказывала в приеме никому из своих друзей и придворной челяди. Приближаясь к покоям Юлии Домны, Антонин не испытывал угрызений совести, был подчеркнуто деловит, проявляя нарочито доброе внимание к охранникам дворца. На подходе к ее палатам он повстречал старую женщину, которая, согнувшись и вытирая слезы с лица, не обратила никакого внимания на императора. Каракалла сразу узнал ее. Это была Корнифиция, последняя из живших в то время дочерей Марка Аврелия. Антонин подал едва заметный знак своему охраннику, и всеми уважаемую старую женщину, едва она повернула за угол коридора, закололи мечами, а тело тихо отволокли в подвал.
Римский император, цезарь Марк Аврелий Антонин Август, сын Луция Септимия Севера, к тому же великий понтифик, отважнейший принцепс, консул, проконсул и т. д., вошел на этот раз в покои вдовствующей императрицы без предупреждения. На его лице блуждала улыбка победителя. В тот день Юлия Домна не встречала его стоя. Она надменно сидела в своем кресле, как всегда грациозно, с царственной осанкой, демонстрируя откровенное пренебрежение к пасынку. Глаза ее не были опухшими от слез. Чуточку прищурив глаза, Юлия пыталась скрыть всю силу ненависти к этому волосатому и уродливому пигмею, которая переполняла ее сердце. Едва Антонин пожелал открыть рот, она осадила его, как мальчишку, набросившись на него с криком: «Ты зачем зарубил Папиниана? Он был лучшим другом твоего отца, умнейший человек империи, наша гордость»! На ее лице не было слез, только ярость исказила ее красивое лицо. Антонин был на удивление спокоен и даже циничен.
– Я не отдавал приказ его зарубить топором, это прямой произвол моих преторианцев. Я просил их заколоть его мечом. Я уже строго наказал центуриона за ненадлежащее исполнение моего приказа.
– Но зачем ты это сделал? – почти простонала мать, и у нее задрожали руки. – Ты, верно, совсем потерял рассудок?
Каракалла подошел ближе к креслу, в котором сидела императрица, и спокойно ответил:
– Я рассудка не терял. Не ты ли меня поучала всю жизнь, что при любых обстоятельствах необходимо сохранять холодный разум и принимать решения, взвесив все «за» и «против». Тебе жаль Папиниана? Конечно, он же гений! А Нарцисс, задушивший Коммода и тем самым непроизвольно открывший отцу дорогу к власти? Тогда по решению сената этого несчастного Нарцисса отправили ко львам. Разве за этим решением не просматривается юридический гений друга отца? Сколько раз Папиниан выступал в защиту Севера в сенате, убеждая его членов, что отец вершил справедливость, убивая сторонников Песцения Нигера и Клодия Альбина в гражданской войне. Отец по своей прихоти разрушил твой любимый город, красавицу Антиохию. А Лугдун, лежащий до сих пор в развалинах, а Византиум? Я просил отца, я умолял его, я плакал у тебя на коленях, чтобы он пощадил хотя бы детей Альбина, но он их утопил в Роне под Лугдуном.
Юлия Домна попыталась что-то возразить Антонину, но он в запале пренебрег желанием матери и не позволил ей перебить себя. Отойдя от кресла, где сидела Юлия Августа, на почтительное расстояние, он продолжал:
– Помнишь, как отцу захотелось называться сыном Марка Аврелия, а не именем своего родного отца Септимий Гета? Папиниан взялся за это дело и убедил сенаторов, что сын Марка Аврелия Коммод, чей смердящий труп плавал в водах Тибра много дней, достоин был быть причисленным к сонму Богов! Сенат реабилитировал этого самого гнусного из императоров Рима. А как же по-другому? Не может же эта тварь называться в анналах братом отца без реабилитации.
Юлия Домна была не согласна с сыном и наконец сумела прервать его.
– Послушай, дорогой мой, это политика. Твой отец был великим стратегом. Да, выступая в сенате он трепал имена Юлия Цезаря и Помпея, упрекая их в неоправданном проявлении милосердия к врагам Отчизны, но как гражданин, твой отец, едва вступив на землю Египта, сразу отправился в Пелузий, чтобы принести жертвенные дары теням великого Помпея. Прошло 250 лет, а он помнил и чтил его. Какой жест уважения к истории! Кассий Дион как-то сказал мне о твоем отце, сумев втиснуть суть в одну фразу: «Немного слов – много помыслов». И он был прав.
Глаза у Юлии Домны снова загорелись, и лицо приняло прежнее очаровательное выражение.
На лице Каракаллы появилась улыбка:
– Ты еще вспомни имя благороднейшего Пертинакса. Да, он был умница, добрейший человек, достойный император, и отец благородно мстил за своего невинно убиенного предшественника. Он по совету Папиниана тогда убедил сенаторов организовать вторичное символическое погребение императора Пертинакса, что казалось делом почти невозможным. Отцу нужно было доказать, что он, новый, законно избранный правитель империи, сын Марка, законно избран, и чтит традиции. Золотую статую Пертинакса повсюду возили вслед за отцом, а он присоединил ко всем своим именам и титулам еще и имя Пертинакса и повелел называть себя так во всех клятвах и молитвах. Это все делал Папиниан, потому что так было нужно отцу. Он чувствовал, что божественный промысел призывал его к власти. Теперь пришло мое время. Я обратился к Папиниану с мольбами помочь мне удержаться у власти, иначе сенаторы и члены государственного совета вспомнят про то, что до сих пор живы ближайшие родственники и Коммода, и Пертинакса. Они тоже могут достойно носить имя божественных Антонинов. В таком случае меня, если не убьют сразу, то отправят далеко на острова, вы с сестрой тоже потеряете уважение народа. Ты можешь допустить хотя бы мысль об этом? А когда вас лишат всех почестей и привилегий и объявят частными лицами, отобрав дворцы и оставив без охраны, вы все взвоете. Так что же мне ответил на мои мольбы твой добрейший и порядочнейший юрист?
Юлия Августа бросила на сына вопросительный взгляд.
– Он повернулся ко мне спиной и сказал: «Убийство легко совершить, но нелегко его оправдать». Он сделал свой обдуманный выбор, за что и поплатился головой. Ты говорила, что политик должен быть решительным. Я не стал убивать сына Пертинакса и племянника Коммода, я просто предложил им покончить с собой. Это жестоко?
Когда Каракалла говорил, он, не отрываясь, смотрел на мать и видел, как эмоции меняли выражение ее лица. Глаза Юлии Домны говорили, что в глубине души она с ним согласна. Антонин продолжал убеждать ее логикой кровавого диктатора.
– Ты права, я бываю крайне жестоким. Да, это я приказал умертвить сына Папиниана за то, что на прошлых ристаниях в Циркусе он так учтиво и рьяно выказывал свое уважение Гете, что друзья брата стали надо мной насмехаться. Я, как и отец мой, такого не забываю. Также убили любимца брата, писателя и болтуна Саммоника Серену. Да, его закололи в его же доме, в его любимой огромной библиотеке, сидящим за письменным столом. Очень символично! Не будет распространять среди римских граждан памфлеты на меня.
Августа вновь, но на этот раз зло, посмотрела на пасынка. Каракалла не обратил никакого внимания на ее колючий взгляд, и бесстрастно продолжил:
– Мне сейчас очень помогают твои, мама, любимцы – Юлий Павел и Ульпиан. Они, в отличие от тебя, меня сразу поняли. Сейчас не покладая рук они трудятся над моими новыми распоряжениями и указами. Заметь, я не тронул ни одного, повторяю еще раз, ни одного человека из твоего ближайшего окружения. Живы-здоровы все эти писатели и софисты – и Филострат, и Кассий Дион, всех и не припомню. Знаешь, я не питал, как Гета, к ним большого уважения и не приветствовал ваших философских сборищ. Уверен, среди них нет моих сторонников, но нет и заклятых врагов. Что ж, пусть живут на радость тебе и твоей сестре. Мне жаль брата. У тебя, мама, был шанс разделить империю на части. Но тогда, год назад, у тебя не хватило на это духу. Я тебя за это не виню, но ценой твоей нерешительности стала жизнь брата. Если бы не он, то жертвой оказался бы я. Казалось бы, какая разница? А разница большая, по крайней, мере, для тебя, мама.
Лицо Августы выразило заметное удивление.
– Гета хотел управлять империей со своими многочисленными друзьями, но единолично, – пояснил Каракалла. – Я же воин, мне жить в этом городе скучно. Палатка, запах костра в альпийских горах, простая еда, жесткая дисциплина во всем – в этом вся моя жизнь. Когда-то отец мечтал о военных лаврах Траяна. Он их снискал в Месопотамии, захватив несметные богатства парфян, покорив обе ее столицы – и Ктесифон, и Селевкию. Я же мечтаю о лаврах Александра Великого, македонского царя. В то время, как брат внешне был похож на отца, я, как говорят мои единомышленники, вылитый Александр Македонский, даже ростом невысок, как он. Ты же мама, мечтала заниматься политикой, а не только философией. Ты хотела подготовить и провести через сенат новый эдикт о гражданских правах в империи. Я не возражаю, бери на себя это бремя. Будешь руководить всей моей перепиской с провинциями и возглавишь канцелярию с правом собственноручного ответа. Ты станешь величайшей из всех матрон, впишешь свое имя в анналы на века, прославив этим весь наш род Северов. Я знаю, ты хотела этого, ты мечтала об этом. Я отдаю тебе это, получай, а проливать слезы, предаваясь воспоминаниям, дело пустое. Отец говорил: «Обогащайте солдат, а об остальном можете не думать». Будь уверена, я выполняю его заветы. Вчера своим указом я поднял жалование легионерам до 750 динариев в год, а оплату гвардейцам увеличил до 2050.
Антонин Каракалла видел, как эта женщина, еще совсем недавно слушавшая его, еле сдерживая слезы, стала преображаться на глазах. Она приобрела цветущий вид. Ее глаза заблестели интересом, Она, казалось, уже готова была приступить к обсуждению новых государственных законов. Она желала жить и творить!
Юлия Домна еще при жизни отца вызывала у Антонина одним своим присутствием на торжественных выходах излияния юношеского семени. Север бранил сына, но сделать ничего не мог, как и великий врач Гален, друг императора и прилежный консультант Августы по всем интимным вопросам, полагавший, что для созревшего здорового юноши, достигшего четырнадцатилетия, это было вполне нормально. Но личные чувства Антонина были не в компетенции медицины. Каракалла был способен не только воспылать неистовой страстью, но и полюбить, и это глубокое чувство ему подарила его мать, точнее, мачеха, в образе которой он, Антонин, видел свою скрытую от посторонних глаз любовь. С годами это острое чувство заметно притупилось, и к двадцати пяти годам, познав и давно, все постижимые формы услад своей похоти, молодой император поостыл, хотя все еще мечтал насладиться этим запретным плодом. Ему очень хотелось прочитать эту заветную книгу от начала и до самого конца, а потом поставить ее на полку своей уже немаленькой библиотеки, и, может быть, уже больше никогда не перечитывать. Этому солдату было некогда, он вознамерился завоевать весь мир, а не гадать, воздыхая, досталось ли его мачехе ее красота ему на благо или в наказание.
Юлия Домна хорошо знала, что значил этот томный взгляд впадающего будто в летаргический сон Антонина, названного в детстве Бассианом по имени ее отца из Эмессы, способного убеждать людей словом, а также силой гипноза. Императрица училась у отца искусству подчинения людей своей воле, и в совершенстве владела всеми способами соблазнения мужчин. Ее эротический потенциал был безграничен. Антонин, глядя на неувядающие и дразнящие женские прелести своей мачехи, почти прошептал:
– Я пожелал бы, если бы это было дозволено.
Вставать в позу жертвы невоздержанных страстей было делом неосмотрительным, даже опасным. Юлия поднялась с кресла, отчаянно призывая свое сердце к благоразумию, и подспудно ощутила, как быстро смогла войти в роль продажной обольстительницы, готовой платить по долгам, подавляя в себе брезгливость к похотливому собеседнику. Ее пленительные крутые бедра заговорили языком жестов. Она вдруг вспомнила любимое изречение юриста Ульпиана «Что угодно принцепсу, пусть будет законно». Царствующая матрона начала снимать с себя одежду без стеснения, даже с легкой снисходительной улыбкой на манер искушенных меретрис, жаждущих обслужить взыскательного клиента и, желая быть услышанной, изрекла почти громко: «Принцепсу, если угодно, то и дозволено».
Антонин ее услышал и с трепетом в сердце стал снимать с себя увесистые императорские доспехи, путаясь в ремнях с крючками и застежками. Умудренный опытом в любовных связях с покладистыми и угодливыми красавицами из благородных семей, которыми был заполнен императорский двор, Антонин ощутил с этой женщиной скованность и нерешительность. Его шершавые ладони снова становились предательски влажными. Возникшая пауза грозила Каракалле привычным приступом импотенции. Его охватывал все нарастающий страх, и в его колючем взгляде начинала читаться неосознанная злоба на все человечество.
Юлия Домна мгновенно ощутила угрозу. Она решительно не хотела превратиться в очередную свидетельницу полового бессилия мстительного императора. Упустить удачный случай стать властительницей, завладев волей и желаниями императора, не входило в ее амбициозные планы. Призвав силы Изиды себе в помощь, она посмела повернуться к обезумевшему от отчаяния императору спиной. Увесистая стола и легкая, как пушинка, туника упали с ее плеч в одно мгновение. Уже босая, с розовыми пяточками, как у совсем молоденькой девицы, она удобно расположилась в широком кресле, встав на колени, и уткнулась головой в кожаную спинку. Полностью нагая, прогнув спину, как пантера, она замерла в позе египетского сфинкса. Антонин был заворожен происходящими наяву, почти мистическими метаморфозами, и почувствовал нарастающее возбуждение. Юлия сама раздвинула ягодицы руками, выставляя себя в глазах соблазнителя в бесстыдном свете. Она знала, что делает, медленно демонстрируя Антонину всю свою пленительную красоту.
Каракалла задохнулся от возбуждения, забыв о своих страхах и тупых, неприятных болях в области паха. К своему изумлению и материнскому стыду матрона ощутила, что ее саму возбуждала ее откровенная поза, обращенная к приемному сыну. Боясь взорваться от избытка страсти, Каракалла решительно пошел на сближение, достаточно разогретый для получения гарантированного удовольствия. Осторожное прикосновение грубых ладоней императора к бархатно-нежным плечам Домны заставило ее вздрогнуть всем своим божественно-совершенным телом.
…Он любил достойнейшую матрону сначала на кресле, поддерживая ее за локти, затем на своем плаще, расстеленном на обогреваемом теплом полу. Он мычал и хрюкал от удовольствия, когда любил ее, стоя босым на холодной мраморной лестнице, покрываясь градинами пота. Он был груб и беспощаден в припадках страсти. Вкус запретного плода оказался для Антонина приторно сладким до сухости во рту.
Крепкое солдатское тело было по нраву и вдовствующей императрице. Она знавала и прежде, что значит тренированное тело молодого преторианца, хотя бы на примере Квинтиана, и что оно способно дать ей, если она сумеет полностью расслабиться и даст волю своему богатому воображению. От осознания греха кровосмешения, пусть и мнимого, она испытала беспокойство, а с ним – и нежданное удовольствие. Впрочем, обостренное чувство осознанной вины лишь придавало неповторимый колорит её магической натуре, способной постигать глубины изощрённого удовольствия. Всегда балансируя на грани рафинированной моралистки и праздной обольстительницы, Юлия была способна доводить себя до полного исступления в жажде искупаться в аромате романтического букета.
Казалось, что он, Антонин, был способен без устали продолжать терзать холеное тело стареющей матроны до ее полного физического изнеможения. Но так только казалось. Дьявольская колесница по сирийскому прозвищу «Домна» топтала тело Каракаллы, поражая темными чарами сознание доблестного принцепса. Наконец она отжала его, как лимон, опустошив подряд два раза. И только когда он заметно обмяк, матрона смилостивилась, торжествующе ощутив, что еще способна держать буйного коня в узде, подчиняя своей воле. Она доказала себе, что все еще является лучшей, и подбирая с пола разбросанные предметы своего туалета, почти физически ощутила, что воистину стала повелительницей всего римского мира.
Антонин еще продолжал звучно фыркать, как загнанный конь, но его лицо светилось от удовольствия. Он получил от этой женщины все, о чем мечтал, и понял, что не ошибся. Такого ему хватит надолго, и, подвязывая пояс у зеркала, он видел свое самодовольное отражение, желающее ему подмигнуть. Каракалла, склонив голову к левому плечу, сам подивился, как же он был похож на этот раз на всемогущего македонского царя, образ которого Антонин с замиранием сердца ежедневно созерцал на площадях и портиках Рима.
– Вот так меня, Антонина Августа, и нужно ваять, не по человеческому усмотрению, а по божественному провидению, – произнес он вслух. – Завтра, а впрочем, почему завтра, – изумился своей неторопливости Каракалла, – я сегодня же отпишу распоряжение всем лучшим скульпторам империи скалывать лишний мрамор и лить серебро и бронзу так, чтобы поворот моей головы и подбородок были такими же. В общем, к левому плечу, – заключил он и, повернув голову к Юлии Домне, одевающей полупрозрачную тунику, еще раз усомнился в правоте отца, считавшего, что любовные утехи нужны только для рождения детей. Истоки метафизики непорочности в соображениях отца и добродетельная целомудренность Юлии Мезы, сестры мачехи, так и остались для Антонина загадкой.
Довольный собой, он был готов направиться к выходу, когда Юлия Августа остановила его вопросом:
– Ты можешь причислить Гету к Богам?
Антонин Бассиан остановился, медленно пожал плечами и приподняв брови, дал матери одобрительный ответ:
– Пусть будет божественным, лишь бы не был живым. Но ты должна знать, что на Форуме, а точнее, на архитраве триумфальной арки нашего божественного отца я вымараю имя брата как можно скорее.
Каракалла покинул Палатин через большие ворота с выходом на форум, чтобы в очередной раз посетить Храм Мира, но совсем не для того, чтобы насладиться золотым семисвечником и серебряными трубами из Иерусалимского храма, привезенными императором Титом. Влекло его другое. На противоположной стене беломраморного храма на серых мраморных плитах в масштабе 1: 240 была изображена вся карта города, так называемая Форма Урбис. Эта карта, изготовленная по личному заказу Септимия Севера, была настолько идеальной, что помогала Каракалле отдавать приказы легионным трибунам, префектам когорт и примипиллам по зачистке домов и кварталов, где еще могли до того момента укрываться ярые и непримиримые сторонники Геты, подлежащие уничтожению в первую очередь. На Форуме было, как всегда, шумно, и личной охране Каракаллы приходилось вовсю поработать плечами и локтями, чтобы клиенты императора, а также рабская челядь патрициев и лица перегринского статуса не мешали Антонину вплотную приблизиться к триумфальной арке отца.
Подняв голову и щурясь от солнца, Антонин хозяйским взглядом оценивал выбитые на арке слова. Он подозвал к себе префекта города.
– Соскоблишь конец третьей и всю четвертую строку, начиная со слов: «Публию Семтимию Гете, сыну Луция, знатнейшему Цезарю». На этом месте как раз уместится следующее: «Отцу Отечества, наилучшим и храбрейшим принцепсам». Все остальное оставишь без изменения.
Давая указания префекту города, Каракалла попытался быть предельно конкретным, но поднявшийся вдруг гул и дикие крики просто оглушили его. Каракалла обернулся и увидел, как группа преторианцев волокла на Палатин через форум бывшего префекта Рима, известного сенатора Фабия Цилона, друга семьи Северов, яркого сторонника примирения братьев. Старика тащили из его собственного дома в короткой тунике и легких сандалиях. Добрейшего Цилона хорошо знали все свободные граждане Рима и легионные воины, недолюбливавшие преторианцев. Они и подняли этот невыносимый шум. Из боязни вызвать всенародное возмущение Каракалле пришлось взять Цилона под опеку. Он даже снял свой плащ и заботливо накинул его на плечи старика, отправляя его обратно домой. Указанием императора доверенному трибуну было срочно предписано оформить смертный приговор всей группе незадачливых преторианцев. Трибун осмелился спросить Антонина о причине столь жесткого решения. Каракалла в объяснениях был краток: «Я просил убить быстро и тихо, а они вздумали учинить принародный самосуд».
Цилону безумно повезло. Смерть его миновала. А вот паннонца Ульпия Квинтиана, героя гражданской войны и любимца всех знатных матрон Рима, неоднократно замеченного осведомителями Антонина в покоях Юлии Домны и служившего префектом турмы в преторианских кавалерийских частях, просто утопили по указке Каракаллы. Чтобы придать казни законный характер, дело разбиралось не судьей, назначенным городским магистратом, а самим главным магистратом-префектом Рима. Обвинение было предъявлено в письменной форме на основании закона «Об оскорблении величия» за неоднократные оскорбительные высказывания паннонца в адрес императора. Суд к тому времени давно перестал быть публичным зрелищем, поскольку при единовластии принцепса утратил политическую значимость, а значит, все меньшую роль стали играть эмоции, а все большую – всестороннее знание права. Свидетелями по этому делу выступали два воина, простая женщина и даже один государственный раб, что совсем не противоречило букве закона, который допускал данный свидетельский состав именно по делам об оскорблении величия.
Милостью императора по специальному разрешению тело паннонца было выдано его сослуживцам для погребения. И только через пять лет после смерти самого Антонина Каракаллы на месте погребения тридцатитрехлетнего гвардейца, верного стража личных покоев божественного Севера, появился памятник, поставленный соратниками Ульпия Квинтиана, выходцами из дунайских провинций, служивших в преторианской гвардии. Латинская эпитафия была на редкость многословной, но римских граждан, отправляющихся из Рима в сторону Капуи по Аппиевой дороге, она нередко заставляла остановиться и призадуматься у пирамиды рядом с пятым милевым столбом. Аккуратно выбитые буквы на белом куске обработанного мрамора гласили: «Взгляни, идущий мимо путник, на памятник воинского благочестия, который поставили мы в слезах. В этом воздвигнутом надгробии вы видите то, что рождает Паннонская земля, а погребает земля италийская. В 17 лет он сам приобрел себе с великими горестями почести лагерной службы, и в течение долгого времени нес эту службу. Когда он уже надеялся, что смертный страх миновал, Плутон вверг его в воды Тибра раньше, чем он вышел в почетную отставку. Ты, путник, в своем благочестии пожелай ему легкой земли…»
Часть 7
Мелкий дождь то начинался, то останавливался, потом снова, едва смочив асфальт, враз прекращался, заставляя резиновые дворники спотыкаться на просохшем лобовом стекле, отчего мой задремавший терьер тревожно шевелил хвостом, вслушиваясь в резкий скрип и протяжные звуки, подобные творениям гениального Шнитке.
Включив «режим автопилота», я бездумно запарковал автомобиль рядом с гостиницей «Новотель», где по договоренности с темнокожим метрдотелем частенько снимал за полцены номер и предавался греховным утехам с прелестницами из Бразилии. Сделал я это безо всякого умысла и скорее по глупой рассеянности, прежде чем осознал, что ехал не за тем и не совсем туда. Впрочем, аэропорт Кот д’Aзюр находился совсем рядом, и потеря во времени была невелика, стоило только перебраться на другую сторону Променад дез Англе. Перепарковывать свой «Пежо» я не стал и с собакой под мышкой, не дожидаясь разрешающего знака светофора, перебежал через дорогу и направился ко входу в зал ожидания.
Ида Рубинштейн. В. Серов
Порывистый ветер с моря, наполненный запахом авиационного керосина, тревожил рассудок, навевая мысли о дальней дороге и настраивал на деловой лад. Предстоящая встреча с Аллой Андреевной помимо моей воли приводила меня в необъяснимое уныние, превращая всеми правдами и неправдами снова в непутевого школяра. Когда-то эта женщина одним своим суровым видом внушала мне благоговейный страх. Я не видел ее считай лет восемь и полагал, что это тягостное чувство от времени просто выветрилось из головы навсегда. Она тогда долго была моим домашним репетитором по французскому, к тому же без конца докучала своей строгой моралью, хотя ее об этом никто из родителей не просил и, разумеется, не оплачивал как дополнительную услугу.
Мама гордилась тем, что именно она по рекомендации привела к нам эту долговязую Мери Поппинс, а отец каждый раз, когда заставал ее сидящей подле меня за письменным столом, просто светился от счастья, отмечая, как я заметно терялся под ее требовательным взглядом, и волей-неволей вынужден был проявлять некий интерес к учебе. Элла Андреевна не была красавицей, но мне иногда даже нравилось украдкой разглядывать ее, но только не встречаться с ней взглядом, что вызывало во мне двусмысленные чувства восхищения и юношеского страха. Мне тогда казалось, что смотреть ей в глаза означало сразу замерзнуть. Это была настоящая Снежная королева, напоминающая Тильду Суинтон: спина прямая, шея длинная, скулы острые и белая-белая кожа. В недавнем телефонном разговоре со мной она призналась, что за последние годы сильно поседела. Я никогда прежде не дарил ей подарков даже на восьмое марта, и поэтому сейчас, стоя с букетом роз, купленных в здании аэропорта, покрывался испариной каждый раз, когда раздвигались пластиковые двери из зоны прилета.
Поначалу в пестрой и разноголосой толпе прилетевших я даже не признал ее. Это она углядела меня первой, и опуская сумку на колесиках на пол, подняла в приветствии вверх правую руку. Левой она прижимала к груди массивный глянцевый журнал, на обложке которого красовалась какая-то эпатажная женщина в коротком черном платье. Под фотографией крупными желтыми буквами значилось имя «Рената». В машине Элла Андреевна предпочла сесть спереди рядом со мной, положив себе на колени этот габаритный по размеру журнал с длинноногой бабой на обложке, и сразу прервала скованность первых минут общения.
– Я почему-то думала, что у вас здесь машина будет повместительней, – сказала она, пристегиваясь и поправляя завернувшиеся лацканы норкового полушубка.
– Здесь не Москва, в Ницце все по-другому, – возразил я, выруливая со стоянки гостиницы. – Важно, чтобы было удобно, особенно парковаться, и еще, – добавил я многозначительно, – буржуазия здесь стремится к скромности, русская, правда, не в счет. Кстати, об удобстве: почему вы не убрали этот тяжеленный журнал в чемодан, – спросил я больше для того, чтобы продемонстрировать заботу.
– Просто не было места. Кто-то оставил его в салоне самолета, и я взяла. Мне всегда нравилась Литвинова. А знаете, Денис, что говорили про нее учителя в школе? Она с обожанием смотрела на обложку, на которой, нарочито выставляя узкое колено, изящно позировала роскошная Рената, обутая в высокие сетчатые ботфорты.
– И что же говорили учителя, – спросил я без солидарного восторга.
– Она не от мира сего! Люблю таких, воздушных. И вправду богиня. Их так мало в искусстве, очень мало. Была Татьяна Доронина, – и она подняла указательный палец, – а теперь вот Рената. Мистическая жестикуляция и дрожащий тембр голоса. Ее красота вдохновляет и заметьте, Денис, не только мужчин, а голос буквально умиротворяет. Когда я ее слушаю, у меня начинает тепло распространяться по ногам.
Она провела руками по бедрам, будто процесс снова пошел, а потом почти шепотом произнесла:
– Живая Аэлита. Серебряный шлейф звезды, как от Зинаиды Гиппиус или Иды Рубинштейн.
После этих возвышенных слов последовало движение ее руки вверх, в котором было что-то театрально-фальшивое, как и вся игра нашего бомонда в новый похотливый декаданс с разговорами о прелестях смерти. При этом по любому поводу поминают Христа, чтобы дал им непременно много.
В этот короткий список возвышенных существ я бы с легкостью включил и саму Эллу Андреевну. Тоже с «большим приветом» и жеманным вздохом, послушаешь такую, и голова начинает идти ходуном. «Не знаешь потом, как себя вести», – подумал я и ощутил на себе ее холодный отрезвляющий взгляд.
– Она же вроде как лесбиянка, – произнес я осторожно, как будто за что-то извинялся, и добавил, – как и эта, как ее, Земфира.
Ее тяжелый вздох дал понять, что моя куцая попытка поддержать благородный ход ее мыслей не удалась.
Элла Андреевна быстро отвернулась от меня и стала равнодушно смотреть в окно, не проронив ни слова, словно боялась своих дальнейших признаний, которые будут неправильно мною истолкованы. Может, это было и хорошо. Она ни разу не упомянула о былом и грустном, о моих родителях, как это принято после долгой разлуки, не пыталась при встрече обнять, даже расположить к себе добродушной улыбкой. Собственно, а зачем? Мы никогда не понимали друг друга, точнее, это я не стремился к пониманию ее ценностей.
Машина в трафике медленно продвигалась к центру города, и впереди замаячил роскошными башнями «Негреско». Я в отличие от нее не замыкался, и продолжал вешать ей на уши свое:
– Я хорошо помню, что вы не любили приземленных, к примеру, таких как я, а тут выходит, вам по нраву пошлые рассуждения, полные ментального бесстыдства. Она же все время придуривается, но придуривается искренне.
– Не понимаю, о чем вы, – дернув плечом, Элла Андреевна продолжала демонстративно смотреть в окно.
– Эту, как вы выражаетесь, живую Аэлиту давно придумал Трумен Капоте в «Завтраке у Тиффани». Помните Одри Хэпберн, она играет там эту… то ли авантюристку, то ли девицу по вызову. Никто в ее окружении не может понять, она дура или хитрая лисица, и только один удачливый в бизнесе умник пытается разгадать ее сущность. Он бесконечно с радостью вожделеющего безумца дает ей деньги, но взамен не получает обещанного и постоянно задает себе вопрос: «она придуривается или нет», и сам же отвечает на него: «да, придуривается, но делает это искренне».
– Интересно, как это в оригинале звучало у самого Капоте.
– Как «real phony».
– Денис, вы такой же колючий, как были прежде.
Ее недобрая улыбка скрывала тайную надежду на мое благоразумие.
– Как только с вами девушки общаются, – за ее дружеским упреком последовал глубокий вздох.
– Нормально общаются. Я хорошо им за это плачу и они не придуриваюся, – сказал я, стараясь быть предельно откровенным. Несмотря на ее суровое поглядывание в мою сторону, я надеялся на взаимопонимание, поэтому продолжил:
– Сейчас любая услуга как товар на рынке имеет свою цену. Бесценна только настоящая любовь, и то исключительно потому, что у каждого понимание о ней свое, нет критерия, оттого и не с чем сравнивать.
– Да вы философ, кто бы мог подумать, – засмеялась моя бывшая наставница.
Она неизменно продолжала меня называть на «вы», как и прежде.
Когда-то я думал, что это просто общепринятый педагогический прием, а потом пришел к выводу, что это ее личная причуда, и с тех пор не придавал этому особого значения.
– Орламонд, – произнес я это не всем понятное слово. Видимо, тема нашей беседы и лежащий на коленях преподавательницы журнал вырвали его из моего подсознания.
– Это вы к чему? – спросила она.
– Орламонд, – термин, в переводе означающий «не от мира сего». Так называлась вилла бельгийского писателя Метерлинка, теперь это отель, который находится по дороге из Ниццы в Вильфранш, где живу я.
– Если такое название, место должно быть действительно интересное, – глаза Эллы Андреевны заблестели. – Наверное, дорогой отель, – в душе, видимо, ожидая опровержения, предположила она.
– Черт его знает, я там никогда не жил, но думаю, что недешевый. Четыре звезды. Отель «Меркюр Гримальди», который я забронировал для вас в центре Ниццы, – тоже очень неплохой, но «Меттерлинк» классом выше, да и контингент там такой, что, деньги предпочитает не экономить. Когда-то в этом дворце должно было открыться шикарное казино, но планам не суждено было сбыться, однако флер финансового благополучия там сохранился до сих пор. Одним словом, необычное это местечко. Хотите увидеть? Съездим посмотрим, нет проблем.
– Денис, я не люблю, когда безрассудно тратят деньги, тем более, когда я тому причина.
– Да ладно вам, не заморачивайтесь, не такие уж это деньги. Февраль – низкий сезон и цены вполне умеренны, иногда можно даже в «Негреско» поселиться за полцены. Был бы только свободный стандартный номер. Уверяю вас, это будет не намного дороже «Меркюра», и эти дополнительные расходы меня уж точно не разорят.
– Делайте что хотите, – с какой-то обреченностью в голосе ответила Элла Андреевна.
– В конце концов не понравится – всегда сможем вернуться в Ниццу, – успокоил я свою щепетильную гостью.
Воистину роскошное место, куда я привез Эллу Андреевну, хоть и находилось в непосредственной близости от дороги, что шла по обрывистому карнизу, но располагалось значительно ниже, на самом краю скалистого мыса, и было скрыто от посторонних глаз густыми кронами альпийских сосен и темными перьями гигантских кипарисов. Нам повезло – нашелся небольшой одноместный номер, из окна которого открывался чарующий вид на Кап Ферра и высокую гряду альпийских гор. Там, пониже Гранд корниша среди белых дворцов затерялась и моя относительно скромная обитель.
– Я уже как будто видела это место, – Элла Андреевна не в силах была скрыть восторга, глаза ее светились, и лицо с ямочками на щеках стало добрее.
Широко она никогда не улыбалась, и сейчас природная сдержанность не позволяла ей этого. Ей явно нравилось находиться в этом отеле, и она не могла этого скрыть. Элла Андреевна сняла с себя норковый жакет и повесила его в тяжелый дубовый шкаф, благоговейно прикрыв резную дверь. Она не стала переодеваться с дороги, а лишь сменила обувь, оставшись в двубортном брючном костюме из плотного шелка ярко-голубого цвета. Костюм по всей видимости был далеко не новым, однако сидел на ней идеально, подчеркивая достоинства стройной, почти не изменившейся с годами фигуры. Выйдя из номера, мы спустились вниз, где рядом с бассейном нас пригласили за столик и налили горячего кофе. Погода к вечеру заметно улучшилась, и ветер с моря поутих. Наконец появилось солнце, которое, выглянув из-за туч, вскоре начало клониться к закату, разделяя спокойное море золотой дорожкой.
– Я уже как будто видела это место, – снова слово в слово повторила она свою фразу, которую произнесла еще в номере, когда смотрела в окно. – Точно, Денис! Я вспомнила!
Элла Андреевна, всегда обладавшая ровным и спокойным нравом, вдруг захлопала от радости в ладоши, как дошкольница на новогоднем представлении.
– Да-да, кажется, здесь, во дворце у бассейна с точно такими же греческими колоннами вперемешку с кипарисами происходило действие фильма «Кто есть кто». Тут по сюжету жила богатая писательница. Ее играла Мари Лафорэ. Помните, Денис? Согласитесь, это просто какая-то мистика! Мы, старшеклассницы, когда учились в школе, дико завидовали этой француженке, купающейся в роскоши.
Она, верно, попутала меня с моим отцом. Может, когда-то я действительно смотрел этот фильм, но именно этот эпизод припомнить не мог.
– Ну как же, Денис, – не успокаивалась она, пряча смущенную улыбку в ладонь. – Впрочем, вы, наверное, правы. Ваше поколение живет переживаниями других героев и не смотрит по вечерам «Трех мушкетеров» и «Фантомаса». Это я, как дура, готовясь приехать в Ниццу, пересмотрела все французские фильмы, что были дома. Бельмондо, Мирей д’Арк и, конечно, Демонжо.
– Почему «конечно»?
– Потому что она родилась в Ницце, а мама у нее с русскими корнями.
– Господи, Элла Андреевна, русская история так плотно переплелась с этим берегом, что впору писать большую русскую энциклопедию Ниццы. Ностальгия – состояние деструктивное.
– Денис, я понимаю, что вам со мной скучно, и вряд ли имена звезд французского кино и эстрады семидесятых годов прошлого столетия вас волнуют также, как и меня.
Мне нечего было ей возразить, и хотя она ожидала моего участия, я просто промолчал.
К кофе нам подали дежурное тирамису, и когда гарсон удалился, она продолжила:
– Я надеюсь, вы завтра свободны и нам ничто не помешает отправиться по историческим местам, связанным с жизнью писателя Сухово-Кобылина. Я уже, кажется, говорила вам по телефону об этом. Признаться, я хочу попробовать собрать материал для своей будущей статьи в журнале.
Я неохотно оторвал глаза от красного «Феррари», который довольно долго и несколько неловко пытался припарковать под крышу гаража один седовласый джентльмен.
– Вы серьезно? – спросил я.
– Да, Денис, Кобылин был сложным и главное, не до конца понятым современниками и потомками человеком.
– Элла Андреевна, но позвольте, – я чуть было не рассмеялся ей в лицо, что было бы, разумеется, просто непозволительно с моей стороны, но вовремя сумел овладеть собой и продолжил: – Разве у нас на родине еще сохранились те, кому интересна судьба этого беспечного и тщеславного помещика. Он до такой степени кичился своей древней родословной, что потерял осмотрительность и умудрился угодить в тюрьму только потому, что не знал, как, когда и в каком размере на Руси положено давать взятку, а в остроге от обиды на всех он занялся сочинительством «Кречинского». Эту его прескучную комедию по-моему до сих пор ставят в московских театрах. Когда-то мои бабушка с мамой ходили на нее в Моссовет.
– Ну Денис, – с обидой в голосе сказала Элла Андреевна. – Можно ли такое говорить об одном из первых почетных академиков русской словесности.
– Если бы только я один так считал! Его давно позабытая могила, где покоился писатель целое столетие, сейчас пуста, в то время как прах почти всех выдающихся генералов и мыслителей царской России, кого чтит еще наша история, за последние годы по указанию сверху и при активном участии Православной церкви уже вывезли с Ривьеры на Родину. Останки же Сухово-Кобылина эти меркантильные французы убрали с места захоронения, и на этом месте давно покоится кто-то другой, поскольку за место на кладбище здесь нужно платить. Мощи раба Божьего Кобылина поместили в ящик, который до сих пор никому не понадобился, даже нашей Академии. Может, кому-то это покажется несправедливым. Что ж, остается только ждать, – развел я руками, – ибо приидет Сын Человеческий и тогда воздаст каждому по делам его.
– Вы несносны, Денис, в вашей злой откровенности, – почти прокричала Элла Андреевна, не боясь быть услышанной, поскольку кроме нас на открытой веранде никого в тот момент не осталось.
– Путь к правде тернист, – примиренческим тоном промолвил я, – и прокладывать к ней дорогу без здоровой доли цинизма просто нелепо. Ну, допустим, что в этом есть и ваша вина, уважаемая Элла Андреевна. Моя несносность во многом выпестована вами.
Она снова бросила на меня свой пронзительный взгляд, и холод дрожью с мурашками пробежал по моей спине. Я поморщился и попросил гарсона принести мне бокал домашнего вина.
– Вот как, значит! – в легкой ухмылке учительницы легко читалось самоуверенное высокомерие. – И в чем же? – она откинулась на спинку стула в ожидании внятных объяснений.
– Извольте, – с покорным спокойствием ответил я. – Вы когда-то в мои молодые годы так долго подыскивали и тщательно отбирали для меня обороты архаичного французского, на котором вряд ли кто-то уже говорит, опасаясь серой прозы сегодняшнего дня с обилием жаргонных выражений, и в конце концов сделали выбор в пользу эпистолярного языка Петра Чаадаева, точнее, его философических писем, адресованных к некоей даме и написанных по-французски. Пересказывать их было для меня необыкновенно скучно. Легче было просто заучивать кусками, особенно его первый опус. Все, что мною было заучено в юности по вашему требованию как священное писание у набожных католиков, засело в моем подсознании и кошмарит меня до сих пор по ночам. Пользы от этого оказалось немного, однако когда мне нужно казаться умнее, чем я есть на самом деле, я просто «включаю дурака» и повторяю когда-то зазубренное, а все хлопают глазами и думают, наверное, какой я оригинал.
– Положим, Денис, отделять зерна от плевел – это часть моей профессии, но в данном случае не столько я, сколько ваш покойный батюшка был инициатором изучения этих писем. Спорить с ним я не смела еще и потому что действительно лучше Чаадаева в царской России по-французски не писал никто, к тому же он был великий умница. Как хочется, чтобы «вon mot» – живое слово Чаадаева еще долго было на слуху, поскольку его парадоксы заразительны. Хотелось бы мне услышать самой, как вы, Денис, включаете своего «дурака». Не скрою, было бы очень забавно услышать из ваших уст умное слово.
«Началось, – подумал я, опуская глаза. – Сейчас попробует делать из меня клоуна», – но сдержался и произнес:
– Сегодня ваш день, Элла Андреевна, отказать не смею, но давайте не здесь и не сейчас.
– А почему не здесь? – сделала хитрое лицо Элла Андреевна. – Нам никто не мешает.
Сдерживая глупую улыбку недоумения, я украдкой огляделся по сторонам, словно готовился прикарманить со стола ценный артефакт, выставленный на всеобщее обозрение.
– Но только не смейтесь, иначе я собьюсь, – сказал я торопливо, будто возвращаясь в прошлое.
Я поднялся со стула и, опершись спиной о мраморную колонну, принял излюбленную позу этого мыслителя, пряча за воображаемый подворот камзола правую руку, а левую держал на лбу, прикрыв глаза.
«En pays etranger, dans le Midi (en France) surtout, ou les physiognomies sons si animees et si parlantes, maintes fois, quand je comparais les visages de mes compatriotes avec ceux des indigenes, j’ai ete frappe de cet air muet de nos figures.
Des etrangers nous ont fait un merite sentiment d’une sorte de temerite insouciante qui nous rend si indifferents aux hasards de la vie aussi tels a tout bien, a tout mal, a toute verite, a tout mensonge…
Vous trouverez en consequence, qu’un certain aplomb, une certaine methode dans l’esprit, une certaine logique nous manquent a tous. Le sillogisme de l’Occident nous est inconnu…
C’est que nous n’avons jamais marche avec les autres peoples, et nous n’avons les traditions ni de l’Occident ni de l’Orient. Places comme en dehors des temps, l’education universelle du genre humain ne nous a pas atteints.
L’experience des temps est nulle pour nous. Solitaires dans le monde nous n’avons rien donne au monde, nous n’avons rien pris au monde. Nous n’avons emprunte que des apparences trompeuses et le luxe inutile[24]».
Я старался декламировать не спеша, максимально выразительно и следя за произношением.
– Merci, cela suffit, – прервала меня счастливая и довольная собой Элла Андреевна, – да вы к тому же и артист, ставлю вам пятерку, дорогой мой! Выходит, не зря вы здесь проводите время, и французский просто замечательный!
Похвала моей преподавательницы была с налетом испуга в глазах, видимо, общаясь со мной сейчас, спустя столько лет, она все равно не могла побороть смущения.
– И все-таки, – спросила она, – я никак не могу взять в толк, при чем тут Чаадаев, говорили-то мы о Сухово-Кобылине.
Она сидела, откинувшись на спинку кресла и с материнской теплотой смотрела на меня, слегка щурясь.
– И правда, сказал я игривым тоном, – какое нам дело до этого плешивого чудака, как обзывал его поэт Языков, считая Чаадаева идолом исключительно для немногих строптивых душ на Руси и их слабых жен. Бог с ним, с Чаадаевым. В конце концов его вина косвенная. Но тогда, в годы моего студенчества, по вине моего батюшки или вас, уж не знаю, впрочем, это не столь важно, благодаря Чаадаеву, я серьезно заинтересовался судьбой Николая Надеждина и даже, кажется, сам выбрал тему курсовой работы о нем и просиживал часы, в душной университетской библиотеке, подбирая материалы.
Элла Андреевна сидела молча, но вдруг оживленно спросила:
– Вы имеете в виду редактора журнала «Телескоп», где было впервые опубликовано письмо Чаадаева?
– Именно его! – всплеск моих рук мог показаться чересчур эмоциональным, однако вино в моем бокале осталось непролитым, и я выпил его залпом перед тем, как продолжить.
– Тогда, в 1830 году Чаадаев закончил писать все свои восемь писем и в течение последующих пяти лет пытался опубликовать хотя бы одно из них если не в Петербурге, то хотя бы в Москве, и все напрасно. Двойная жесточайшая цензура не давала ему никаких надежд. В 1836 году именно Надеждин, тот, кто с отличием окончил московскую духовную академию, родоначальник политической публицистики в России, с блеском защитивший докторскую диссертацию в Московском университете, на свой страх и риск решился издать письма Чаадаева в своем журнале. Петр Яковлевич в дружеской беседе предостерег Надеждина от возможных серьезных последствий и предложил, прежде чем публиковать самое первое, очень задиристое как ему казалось письмо, начать с третьего по счету, которое в цензурном отношении представлялось автору наиболее безопасным. Но Надеждин был неумолим. В наивных мечтах организовать на страницах журнала широкую дискуссию, он решительно настаивал на том, чтобы начать публикацию именно с первого письма. Более того, он сам отредактировал перевод с французского, осуществленный поэтом Норовым, и даже написал вступительную статью, где отметил возвышенность предмета, глубину и обширность взглядов Чаадаева. Однако сам император Николай I, лично прочитавший философский трактат и благожелательную статью Надеждина, наоборот, в отличие от Николая Ивановича, назвал содержание письма «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного», добавив, что не извинителен ни редактор журнала, ни, разумеется, цензор, занимавший в то время место ректора Московского университета. Его впоследствии император лишил и места, и пенсии. Если отношения Надеждина и Чаадаева тогда никак нельзя было назвать дружескими, причиной чего был характер Петра Яковлевича, то отношения Надеждина с пожилым ректором Университета Болдиным были самыми теплыми и доверительными. Выходило так, что его Николай Иванович, выражаясь современным языком, просто подставил. Надеждина выслали в Вологду и запретили впредь вести какую-либо преподавательскую деятельность. Ясно, что это значило для сына бедного приходского священника, одержимого идеей прославиться. Тогда я не понимал, зачем он это сделал. Считать ли это недомыслием гения? Однако это последнее, что приходило мне в голову. Скорее всего, доводы разума были тогда у него далеко не на первом месте.
– Денис, так все-таки, как это связано с Сухово-Кобылиным?
Элла Андреевна была в нетерпении, готовясь, видимо, мысленно к нашей завтрашней «вылазке». Интерес моей наставницы для меня, все-таки, наверное, плохо игравшего роль гостеприимного хозяина, был превыше всего, к тому же мне самому было даже приятно идти у нее на поводу.
– Именно к этому я и подвожу. А по-вашему, что за человек был этот Сухово-Кобылин? Вы намерены писать на эту тему, поэтому должно быть уже составили о нем собственное мнение.
– Об Александре Васильевиче? – медленно произнесла Элла Андреевна, сомневаясь, действительно ли мне это интересно.
– Да, сказал я, – но для начала именно в молодости, – и чтобы как-то разогнать тучи недоверия, я продемонстрировал заинтересованную улыбку, и, подозвав гарсона, попросил подать коктейль из фруктов и свежевыжатый сок из спелых плодов папайи.
– Ну что ж, – чуть кокетливо качнула головой Элла Андреевна, – это безусловно проще, но не хотелось бы быть банальной настолько, чтобы свести все к тому, что этот молодой франт в какой-то мере являл собой прообраз известного пушкинского персонажа, который, если помните, Денис, обладал особенной гордостью, которая побуждала его признаваться с одинаковым равнодушием в своих как добрых, так и дурных поступках, вследствие чувства превосходства над остальными.
Элла Андреевна оживилась, почувствовав себя снова востребованной.
– Прежде всего нужно обратить внимание на то, – Элла Андреевна почти беззвучно чихнула в кулачок и, достав из сумочки легкую шаль, набросила ее на плечи, – что в России в середине XIX века окончательно оформился такой особый, очень немногочисленный, общественный слой под названием «неслужащие дворяне», который не без оснований претендовал на высшее звание в обществе, поскольку его представители были действительно независимы и обеспечены, а посему приравнивались к сановной власти. Другими словами, настоящими аристократами в России того периода были высшие государственные сановники со своими родственниками, а также «неслужащие дворяне» с их огромными состояниями, родовой знатностью и молодыми отпрысками, получившими отличное образование. Вот именно к этому кругу и стал принадлежать юный Александр Васильевич Сухово-Кобылин, принявший гражданский чин титулярного советника. Он был действительно прекрасно образован, в 1838 году окончил с золотой медалью Московский университет, был богат и очень гордился своим независимым положением неслужащего дворянина, которое давало ему возможность беспечно предаваться всем радостям жизни. Отец его, офицер царской армии, потерявший глаз в войне с французами, мечтал, чтобы сын имел духовный сан, но быстро на это надежду потерял, понимая, что сын пошел в свою матушку, чрезвычайно властную богатую помещицу. Молодой Кобылин стал членом английского клуба, любителем театра и заграничных путешествий. Он активно занимался спортом и серьезно изучал философию Гегеля. Вечерние посещения светских литературных салонов и череда любовных похождений были частью его повседневной жизни. Мужчины в московском дворянском обществе побаивались его острого языка, а присутствующие там дамы нередко попадали под его обаяние. Он легко заводил знакомства с известными писателями и учеными, хорошо говорил по-немецки и по-французски. Отличался мужественной красотой, однако был самоуверенным и дерзким, в общем, нрав имел жестокого крепостника. Часто бывал во Франции, старался казаться истым парижанином и мог похвастать большим количеством любовных похождений.
После этих слов Элла Андреевна слегка зарделась, поймав на себе мой ироничный взгляд, и на время замолчала, проявляя деликатность к светлой памяти Кобылина. Она взяла в руку высокий бокал с соком и сделав пару глотков, довольная собой, улыбнулась.
– Как-то он познакомился с очень красивой парижанкой, простолюдинкой по имени Луиза Симон-Диманш, которую пригласил переехать к нему в Москву, и прожил с ней восемь лет. Она была у него на полусупружеском положении, что, впрочем, не мешало ему продолжать любить других женщин.
Я привстал с пластикового стула, чтобы прервать складный рассказ опытного педагога.
– Спасибо, Элла Андреевна. Именно это и нужно было мне, чтобы не ошибиться в своих оценках поведения Надеждина тех лет.
– Бог мой, – развела руками Элла Андреевна, – а я-то, грешница, думала вашего, – сказала она, не скрывая милого сарказма, и даже решилась улыбнуться, свернув губы трубочкой.
– О да, я действительно чувствовал в вашем повествовании о молодом Кобылине намеки на современных прожигателей жизни, но не хочется расширять исторические границы, поэтому теперь продолжу, но о Надеждине. Согласитесь, мотивом поведения Надеждина в деле философических писем Чаадаева должно было быть как минимум временное помрачение рассудка причиной которого была, по всей видимости, несчастная любовь. Не зря говорят французы в подобных случаях: «шерше ля фам». К своим тридцати годам преуспевающий издатель Николай Надеждин стал необыкновенно популярной личностью в Москве. Он даже взял себе литературный псевдоним Никодим Надоумко, поскольку стал настолько авторитетным критиком, что уже состоял в переписке с самим Пушкиным и смел поучать его, как писать прозу. Он был вхож во все дома вельможных князей и влиятельных людей Москвы. Круг знакомств Надеждина стал так широк, что однажды через рекомендации Аксаковых он был приглашен в дом Сухово-Кобылиных и стал домашним учителем старшей сестры Александра Васильевича по имени Лиза, которая втайне от родителей лелеяла мечту стать писательницей, подобной Жорж Санд. Надеждину как лучшему учителю словесности за репетиторство очень хорошо платили, но он вздумал влюбиться в свою ученицу. Девятнадцатилетняя Лиза ответила на его чувства, и у них завязалась переписка. Сохранился дневник Надеждина, подтверждающий их связь. Вскоре тайна переписки была раскрыта. Поползли нелепые слухи, что своим намерением вступить в брак Надеждин хотел поправить свое мещанское положение, поскольку не имел ни наследственного состояния, ни поместий, подобных Кобылиным. Поэтому никто в высшем свете просвещенной Москвы не поверил в искренность его чувств.
Элла Андреевна хотела что-то спросить, но я ее опередил:
– Вы скажете, Элла Андреевна, – как же так может быть, чтобы известнейшая личность, умница, преуспевающий издатель собственного популярного журнала, к тому же доктор наук, профессор университета, стал настоящим посмешищем в обществе. Однако на самом деле именно в России такое случалось сплошь и рядом. Скажете: какое унижение, он же профессор университета! На самом деле, пустое звание. Свет смотрел на него свысока, поскольку в то время в университетах из лиц высшего сословия почти никто не учился, предпочитая воинскую службу или службу при дворе. Надеждин был настолько наивен, что даже представить не мог, что профессорское сословие в Петербурге имело весьма дурную репутацию. Мать Елизаветы Кобылиной Мария Ивановна, стала убеждать Надеждина, что дочь его больше не любит, что с ее стороны была совершена ошибка. Брат Лизы Александр Васильевич, студент университета, посчитал, что их древний род оскорблен, и поспешил вызвать Надеждина на дуэль. Скорее всего, он убил бы литератора, поскольку в свои восемнадцать лет уже прекрасно владел пистолетом и саблей, а Надеждин имел слабое зрение и не отличался дюжим здоровьем. Профессором овладело глубокое отчаяние. Его положение стало невыносимым и даже где-то трагичным, поскольку его врожденная плебейская мораль не давала ему права разрешать споры на дуэли, и выходило так, что гордый попович столкнулся с дворянским чванством семейства Кобылиных. Тем временем Александр Васильевич не успокоился, он стал повсюду преследовать Надеждина и угрожать ему расправой, если тот не уберется из Москвы. Отец Александра Васильевича, одноглазый старик, бывший вояка, во всем соглашался с сыном и сам вынашивал коварные планы покончить с Надеждиным. Естественно, в таких условиях брак Елизаветы с профессором оказался невозможным. Надеждин подал в отставку, покинул Москву и ожидал получения обещанного друзьями в Петербурге места вице-губернатора, однако даже уволиться из университета с чином ему не удалось, поскольку и в этом ему отказали. Он утратил душевное равновесие. Личная неудача просто раздавила его, а мечта получить место вице-губернатора тоже оказалась несбыточной. Самым же трагичным было то, что он сам стал сомневаться в искренних чувствах гордой Елизаветы, которая вдруг стала требовать, чтобы он непременно занял высокое положение согласно табеля о рангах. Николай Иванович на свой страх и риск все-таки вернулся в Москву и возобновил работу в своем журнале, где его временно замещал его ученик Виссарион Белинский. Вскоре и было опубликовано то письмо Чаадаева, в котором высочайше усмотрели идеализацию Запада и, как сейчас любят выражаться политологи, ложное представление об историческом предназначении России, не говоря уже о критическом отношении Чаадаева к русскому православию, которому Надеждин служил много лет верой и правдой. После ссылки Надеждин больше никогда серьезно не занимался литературой и даже не делал попыток на ком-либо жениться. Елизавета так и осталась до конца его недолгой жизни единственной надеждой на личное счастье. Сама же Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина вскоре после расставания с Надеждиным вышла замуж за французского графа, однако брак их оказался недолгим, но то, чему научил ее Надеждин, дало глубокие корни. Она тоже стала успешным издателем и популярной писательницей, известной под псевдонимом Евгения Тур.
– Невероятно, чтобы такой ум, как Надеждин, совсем забросил творчество, – Элла Андреевна отодвинула от себя тарелку с нарезанными кусочками фруктов и посмотрела на меня, изумленная моим рассказом.
– Отчего же? Он пробовал заниматься наукой, даже принимал участие в научных экспедициях. Результатом его исследований стало развенчание популярных в то время в России панславянских взглядов, утверждающих бесспорное стремление всех славянских народов к созданию единого общеславянского государства. Если выражаться современным языком, создание широкого русского мира, но это уже, наверное, другая история.
Я взглянул на Эллу Андреевну, сидевшую на краешке стула и положившую ногу на ногу, зацепив носком недорогой туфли за тонкую лодыжку другой. Я вспомнил, что в такой позе она могла сидеть неподвижно, подолгу слушая мои монотонные пересказы французских текстов классиков. Ее туфли были для меня всегда больше ироничными, чем сексуальными, а высокие каблуки являлись всего лишь необходимым продолжением ее длинной ломкой фигуры, а не сознательным способом обольщения.
– Вы замерзли, – сказал я вполне сочувственно, наблюдая, как моя гостья не оставляла в покое шаль тонкой шерсти, накрывая ею то спину, то колени.
– Немного, – призналась Элла Андреевна смущенно.
– Тогда, может быть, перейдем в ресторан или давайте, я отвезу вас в город поужинать.
В это время в бассейне включили подсветку, зазвучала тихая музыка.
– Спасибо, Денис. Я после шести стараюсь не есть, только йогурт и немного воды. Не беспокойтесь, я предусмотрительно привезла все с собой из Москвы. Что я бы сделала, так это приняла теплый душ и посмотрела французские каналы. А вы поезжайте и занимайтесь своими делами. Завтра я буду ждать вас после завтрака.
– Лучше, если вы после завтрака сами позвоните из номера, вдруг просплю, – но подумав, я добавил: – Впрочем, звоните в любое время, если возникнут вопросы.
И она позвонила. Так рано мне уже давно никто не звонил, даже бабущка, когда в Москве ей не спалось. На часах не было и семи, даже освещение на улицах еще не отключали.
– Денис, доброе утро, – бодро сказала она, и я после некоторой паузы поприветствовал ее хриплым от сна голосом.
– Я правда еще не вставала, – сказала она уже немного смущенно, поняв, что потревожила мой сон, – но собираюсь сделать свою традиционную зарядку на воздухе, затем переведу дух, и мне вот что подумалось – может быть, можно заказать завтрак в номер?
– Вам можно все, – подтвердил я приглушенным полушепотом, – даже пользоваться мини-баром в полном объеме. Расходы – не ваша забота. Когда соберетесь, звоните, но особо не спешите, – сказал я и, повесив трубку, сразу провалился в сон.
Мартин, лежащий на подушке рядом, даже не пошевелился. Ровно через два часа она снова позвонила и сказала, что готова. Мы все еще спали, но на это раз ее звонок был ожидаем.
– Вы небриты, Денис, – сделала мне замечание Элла Андреевна, едва моя машина подъехала на парковку «Орламонда». – Надеюсь, у вас было время позавтракать?
– Я так рано не ем, – как можно приветливей ответил я, посмотрев на Мартина, который неподвижно лежал на заднем сидении, не проявляя никакого желания к приветственным телодвижениям.
Мы тронулись в сторону Болье и вскоре оказались там, где когда-то первые академики русской словесности Чехов и Сухово-Кобылин отмечали свои высокие звания. Болье, самое теплое место Франции, благоухало ароматом цветов уже сейчас, в конце февраля. От центральной площади этого уютного райского уголка, где кроме нас не было ни души, наша дорога шла все время вверх к холмам, поросшим обильной зеленью. Именно там, на небольшой площадке, рядом с костелом, находилось старинное городское кладбище, где много лет покоился прах одного из патриархов русской словесности. Я показал Элле Андреевне то место, где когда-то в плотном ряду имен усопших на беломраморном квадрате была выбита золотом фамилия писателя. Теперь же на мраморе такого же цвета и в том же размере виднелась фамилия совсем другого человека. На всем нашем пути вверх, к холмам и обратно мы так никого и не встретили, и только хруст мелких и острых камней под ногами отпугивал птиц, сидящих на тонких ветках вдоль дороги.
По дороге к заливу Элла Андреевна решила заглянуть в один неприметный бутик, а мы с Мартином остались пить кофе в парке до тех пор, пока из открытой двери магазинчика не показалась наша московская гостья под руку с незнакомкой возрастом немного постарше. Они приветливо переговаривались, как старые приятельницы. Оказалось, что хозяйка бутика, с которой разговорилась Элла Андреевна, была в курсе обстоятельств жизни нашего писателя, к тому же считала себя большой поклонницей русской литературы и любезно передала нам телефоны и адреса тех людей в городке, с кем можно было встретиться и переговорить по вопросу перезахоронения останков Сухово-Кобылина. Я сердечно поблагодарил эту неравнодушную даму, которая не спешила вернуться в свой бутик и все стояла, улыбаясь, на пороге, и посмотрел на Эллу Андреевну, поражаясь, как просто ей удавалось заводить знакомства.
– Может, отправимся куда-нибудь пообедать? Я знаю здесь классную точку, где подают изумительно приготовленное мраморное мясо с красным вином.
– А вы знаете, Денис, отчего умер Сухово-Кобылин? – вдруг задала она встречный, неуместный, как мне показалось, вопрос, наклонившись и вырывая на обочине дороги отростки диковинного разнотравья.
– Наверное, банально от старости, – надеясь угадать, ответил я, пожимая плечами, – ему же было чуть ли не девяносто лет. В конце концов, не мясом же подавился.
Элла Андреевна заулыбалась дрожащей трубочкой своих накрашенных губ, аккуратно укладывая собранные ростки в маленький целлофановый пакет.
– Он никогда ничем не болел, и в свои 86 лет был отменно здоров, но однажды зимой, кажется, в феврале, принимая воздушные ванны, простудился, отчего и умер. Кстати, здесь, во Франции, он вообще мяса не ел, стал вегетарианцем, и признавался всем, что наконец почувствовал себя человеком.
– Ну что ж, Элла Андреевна, в таком случае последуем его примеру и будем есть ризотто с трюфелями. Я, честно говоря, проголодался.
Однако к моему настойчивому призыву она снова осталась равнодушной и хранила молчание, словно я уговаривал ее съесть жареную картошку с котлетой.
Тогда я предложил ей прогуляться до виллы Керилос, затем пройтись по набережной, а там уже и перекусить в одном из местных ресторанчиков. Потом можно было, если она не устанет, посетить виллу Ротшильда.
Почти всю дорогу Элла Андреевна была молчалива и как будто несла в себе какую-то скрытую грусть, подбирая с дороги разноцветные камешки в карман и подолгу рассматривая у цветков пестики и тычинки, как ботаник. Только когда мы стали приближаться к Сен-Жан-Кап-Ферра она немного оживилась, проявляя желание к общению.
– Денис, как же грустно сознавать, что люди не сохранили место захоронения этого никем до конца не понятого мистера Икс, все что осталось, это только колумбарий да ящик под номером 9. Был богатым, владел не только необъятными лесами и сахарными заводами в России, но во Франции большим имением в Жирондо с прекрасными виноградниками. В Болье старик жил на собственной недурной вилле. Его родная дочь от связи с Нарышкиной, с которой в браке он никогда не состоял, обеспечивала за ним достойный уход, и сама была богатой женщиной. Поймите, предмет моей тревоги не в том, что у русского классика отобрали три метра его земли, бог с ними в конце концов, а в том, что никому до этого дела нет ни во Франции, ни в России.
– Дорогая моя, – сказал я почему-то по-французски, перебивая Эллу Андреевну, – о чем вы говорите, об исторической справедливости? Тогда вспомните Надеждина, который умер в 1856 году в Санкт-Петербурге. И где его три метра? Не забывайте, если бы не семейка Сухово-Кобылиных, наверное, все у него сложилось бы по-другому. Было бы логично, если бы он покоился рядом со своим великим учеником Белинским на Волковском кладбище, по крайней мере, Добролюбов и Писарев похоронены рядом, а вот где Надеждин? Знаете, во время моего последнего приезда в Москву я посетил некрополь Донского монастыря, где покоится Чаадаев. Когда-то он завещал похоронить себя рядом с могилой девицы Евдокии Норовой, которая долгое время горячо, но безответно его любила. Разумеется, это было мое не первое посещение монастыря. Однако, к моему удивлению я впервые обратил свое внимание на то, что рядом с их могилами, буквально в двух метрах захоронен прах бывшего ректора МГУ профессора Болдина, того самого цензора, что допустил к публикации первое письмо Чаадаева. Конечно, для меня это был просто удар. Это, безусловно, знаковая случайность. Наверное, и Чаадаев оценил это, поскольку умер гораздо позже Болдина, в том же 1856 году, что и Надеждин. Простите, Элла Андреевна, что уже не первый раз докучаю вам с этим Надеждиным, но проклятый 1856 год просто преследует мое воспаленное сознание. Вспомните Парижский договор того же года и вынужденный вывод нашего флота из Севастополя сюда в Вильфранш. Знаете, незадолго до своей скоропостижной смерти Чаадаев известил своих корреспондентов по переписке, что намерен покинуть Россию навсегда и обосноваться то ли в Лондоне, то ли даже в Ницце. Спросите, почему? Представьте себе, Чаадаев в это время встретился с Александром II на одном из московских балов и, взглянув на царя, сказал своим товарищам: «…Просто страшно за Россию. Это тупое выражение, эти оловянные глаза». Интересно, что Александр II всю свою жизнь мечтал перебраться на ПМЖ в Ниццу со своей второй женой и их детьми, но тоже не успел.
– «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», – чуть слышно произнесла себе под нос Элла Андреевна.
– Что вы говорите? – переспросил я.
– Это не я, это Пушкин, – ответила преподавательница.
– А что вы скажете по поводу великого родственника Кобылина, что покоится на Замковой горе в Ницце? Его же могила находится в прекрасном состоянии!
– Вы кого имеете в виду, Денис?
– Герцена и членов его семьи.
С набережной мы перешли на узкую каменистую пешеходную дорожку, которая огибала весь полуостров Кап Ферра. К этому времени солнце стало припекать совсем по-летнему, и мы сняли с себя куртки.
– Представьте только, Денис, – сказала Элла Андреевна восторженно, – именно здесь сто лет назад любил прогуливаться и принимать солнечные ванны Александр Васильевич. В это время года он ходил неизменно в высокой серой шляпе и в сюртуке покроя 40-х годов, вызывая насмешки язвительных французов, поскольку был человеком необычайно старомодным. Философ противоречивого ума, ужасного апломба и самодурства, внешне похожий на Жана Маре в образе графа Монте-Кристо, шел по этой дорожке, снимая шляпу перед каждой дамой и раскланиваясь с редкими знакомыми.
– Да, повезло этому человеку по жизни быть знакомым, общаться и даже дружить со всеми так называемыми новыми людьми России: Чаадаев, Герцен, Огарев, Надеждин. К тому же он прожил долгую жизнь, но никогда не желал становиться новым, как они. Сказать, что всему виной была его матушка, которая в разное время и по разным причинам запрещала этим новым людям переступать порог их дома, оберегая сына от вольнодумства, было бы слишком наивно хотя бы потому, что именно Герцен надоумил его посвятить себя изучению философии Гегеля и осуществить перевод трудов этого философа на русский язык. Дух его необузданного крепостничества распространялся не только на его бесправных крестьян, которых он безжалостно порол, но и на женщин, которых он любил. Для вас он загадка? Для меня – нет. Эгоист, в чем сам признавался неоднократно, при каждом удобном случае ублажающий свой эгоцентризм и похоть. Вы не припомните, – обратился я к бредущей по дорожке спутнице, – какую точно сумму следователи по делу убийства Луизы, возлюбленной Кобылина, требовали от главного обвиняемого, чтобы закрыть дело?
Элла Андреевна задумалась и, пожав плечами, произнесла неуверенным голосом:
– Вроде 30 тысяч серебром или 100 тысяч ассигнациями.
– И неужели сумма действительно была для семейства Кобылиных неподъемной?
– Это было по меркам того времени целое состояние, но тут дело было далеко не в деньгах. Александр Васильевич как родовитый дворянин воспринял их предложение как покушение на свою честь.
– Простите, Элла Андреевна, но слова о родовой чести Кобылиных напоминают мне снова о безродном Надеждине. Снова тема об эфемерном достоинстве русского помещика. Наверняка, стал дерзить следователям и со свойственной ему гордыней обзывать всех ведущих дело унизительными словами, не делая различий в рангах. Он вполне серьезно считал, что его душу мог понять только благородный по происхождению человек, а неблагородного он считал неспособным сопереживать чужому горю.
– Возможно, так и было, кто знает, однако сумма, о которой идет речь, была действительно несоизмерима содеянному, поскольку отсутствовали прямые доказательства причастности Кобылина к делу, а выдвигались только косвенные.
– Но и вы согласитесь, Элла Андреевна, что, скорее всего, они не с потолка называли именно такую сумму этому главному подозреваемому по делу.
– Признаюсь, я не задумывалась, насколько обоснованными были их финансовые претензии.
– На самом деле, они, эти бездарные и хамоватые, как полагал Кобылин, следователи, боялись продешевить. Все они считали Кобылина бессердечным донжуаном и в этом отчасти были правы. Они внимательно изучили дело самой Луизы Симон-Диманш. Кстати, знаете что-то о ней?
– То, что и все. Белокурая девушка редкой красоты с голубыми глазами, довольно несдержанная в поведении и безумно влюбленная в Александра Васильевича, представительного рослого мужчину с горделивой осанкой. Любил ли он ее так же как она его, это вопрос.
– Умел ли он вообще любить? – высказал я свое сомнение. – Наверное, в этом весь вопрос, но то, что он знал цену любой женщине, с которой был близок, это факт.
– То есть? – спросила преподавательница.
– А то, что пригласив французскую подданную Луизу жить в Москву, он обеспечил ее капиталом в 60 тысяч рублей серебром, открыл на ее имя торговлю бакалеей и шампанским, тем самым превратив во временную купчиху. К тому же снял для нее целый этаж в графском доме в самом центре города и приставил к ее услугам полдюжины своих крепостных. Она добросовестно исполняла свои обязанности, а он свои. И так продолжалось целых восемь лет. Он был по натуре ходок и не скрывал от Луизы своих временных увлечений, пока не влюбился в молоденькую Надежду Нарышкину, урожденную Кнорринг. Она была весьма занятной замужней штучкой. Ей было чуть больше двадцати пяти, и ласки законного мужа, которому она родила дочь¸ ее давно не прельщали. Она сходила с ума по Сухово-Кобылину и забеременела от него. Эта богатая дама с зелеными глазами слыла настоящей светской львицей и сводила с ума многих искателей любовных приключений в Москве, поскольку имела не только незаурядную внешность, но и острый ум. По обычаям светских львиц того времени она принимала гостей по вечерам, а то и за полночь у себя дома, лежа на кушетке, выставляя на всеобщее обозрение изящно обутую ножку. Представьте, ручки и ножки этой красавицы оставались у нее, как у девочки, до самой старости, и сводили с ума не только Кобылина, но гораздо позже и самого Александра Дюма-сына, знавшего толк в женщинах. Нарышкина с Кобылиным предавались любви не только в его холостяцких хоромах, но и у нее в мужнем особняке. Однажды Луиза, эта безумно ревнивая женщина, застала их в постели Кобылина и осыпала оскорблениями не только любовника, привыкшего к ее чудачествам, но и самоуверенную и властную Надежду Ивановну, которая была не менее ревнивой, чем сама Луиза, и к тому же обладала демоническим характером. Нанесенные обиды она не прощала никому. Многие историки до сих пор полагают, что именно она имела непосредственное отношение к дерзкому убийству французской побродяжки, как называла Луизу сама баронесса, и осуществила это руками крепостных крестьян, а вот своих ли или Кобылинских, это вопрос. Спешный отъезд Нарышкиной в Париж после убийства Луизы, откуда она больше никогда не возвращалась, наводит на такие предположения. Кобылин отказался уехать вместе с Надин, как будто что-то заподозрив, и этим, конечно, обидел баронессу, обещавшую отомстить за дерзкий отказ своему возлюбленному. Поразительно, но свою дочь от Александра Васильевича она назвала Луизой. Нарышкина в спешке взяла с собой в Париж только свои знаменитые драгоценности и немалый капитал, а ее богатые родители купили единственной дочери прекрасную виллу под Парижем, где Надин продолжала вести разгульную светскую жизнь до самой старости. То, что Кобылин остался в России и к тому же не скрывал некоей вины за смерть возлюбленной, следователи истолковали как проявление слабохарактерности подследственного, решили воспользоваться этим и развести его на деньги по-крупному, понимая, что барчук был богат. Тем более, что на стороне следователей был не только несовершенный закон, но и все дворянское сообщество Москвы, задетое его ершистым характером и необузданной гордыней. Не осталась в стороне и православная церковь, упрекающая его в позорном прелюбодеянии. Заметьте, в прелюбодеянии с Луизой, а не с замужней Натальей Нарышкиной, что было бы логично.
На лице Эллы Андреевны отразилось нескрываемое удивление. Однако углубляться в подробности прелюбодеяний она не пожелала и увела разговор в сторону.
– Да, – сказала она, – его холопы осмелели тогда настолько, что в отместку за побои и нанесенные обиды частенько бесстрашно бросали ему в спину оскорбительное: «убивец, бабу убил». Верно, у следствия не было прямых улик его вины, но и у него не было убедительных доказательств своей невиновности. Он плакал от обиды, но сделать что-то был бессилен. Даже Закревский, генерал-губернатор Москвы, который никогда не верил в вину Кобылина, полагал, что для бабьего угодника, каковым он его считал, посидеть в камере было бы полезно, пока желчь того не сойдет на нет. Представляете, я только сейчас поняла, почему с него требовали такую крупную сумму для того, чтобы закрыть дело. Никому тогда и в голову не приходило, что оказавшись в камере, Кобылин возьмется за перо и напишет комедию, а потом вслед за ней еще две пьесы о жестоких порядках и повсеместном взяточничестве, где дворяне предстанут не в лучшем свете.
– Элла Андреевна, – прервал я спутницу, – тогда и самому Кобылину такое в голову не приходило. Эта жертва судебной ошибки осознала свою причастность к великой литературе только тогда, когда его заточили в тюрьму во второй раз и уже относительно надолго. Именно в этот раз он взялся за перо и родил «Кречинского». После первой короткой отсидки его снедала злоба, а не муки творчества. Помните у Некрасова: «Блажен незлобивый поэт, в ком мало желчи, много чувства». Кобылин тогда отписал письмо самому Николаю I, возмущаясь тем, что его посадили в клетку с ворами и, как он выразился сам, с безнравственными женщинами, видимо, искренне полагая, что его Луиза и, конечно, Надин были высоконравственными дамами, а не срамными бабами. Сейчас бы такое назвали двойными стандартами.
– Да вы что, Денис – сравнивать тех девок, что сидели в камере, с благородными созданиями! У них и цели были другие, ими двигали чувства.
– А может, весь вопрос был в цене? – я посмотрел на Эллу Андреевну с усмешкой, – всякий раз, когда Кобылин приходил к Луизе, он давал ей сам или передавал с посыльным три золотых полуимпериала. Российский полуимпериал в то время приравнивался к французской золотой монете достоинством в 20 франков, которую во Франции продолжали называть луидором. Это были немалые деньги. Одного луидора в Париже, вспомните рассказы Мопассана, было более чем достаточно, чтобы взять в заведении любую понравившуюся девицу, а тут три монеты. Извините за такие подсчеты, но, думаю, от отца мне передалось стремление не упускать такие детали в исторических вопросах. Иногда это помогает правильно понять некоторые моменты, поскольку истина нередко кроется в цифрах.
– Что вы, Денис, конечно, оставайтесь самим собой, – сказала преподавательница и, прищурив глаз, почесала свой тонкий нос.
– Так вот, по показаниям слуг Кобылин посещал француженку почти каждый день.
– Извините, Денис, – прервала меня Элла Андреевна, – это какие слуги?
– Двадцатилетний повар и восемнадцатилетний конюх, которые жили в доме у француженки и поначалу признались на следствии в своей причастности к убийству Луизы, поскольку тюремный частный пристав жестоко избивал их, выбивая признания. Позднее они от своих показаний отказались. Так вот, повторю, что Кобылин не жмотничал в отношениях с Луизой, посещая ее ежедневно. Получается это 18 граммов чистого золота в сутки, да на 365 дней, да 8 лет. В итоге – 52 с половиной килограмма золота. Вы спросите меня: покидала ли Луиза Москву? Нет. За 8 лет, что она там прожила, она ни разу никуда не ездила. То ли Кобылин ее не отпускал, то ли она сама не стремилась? И вправду, кто захочет терять такие деньги.
Элла Андреевна посмотрела на меня укоризненно, словно упрекала в примитивном мышлении.
– Все познается в сравнении, – процитировал я гениального Ницше. – Кстати, эта мысль пришла философу именно здесь, на Ривьере, когда он писал о своем Заратустре. Думаете, следователи по-другому считали? Они поэтому и выставили ему счет по полной – 30 тысяч серебром. Это просто даром в сравнении с тем, сколько он платил за свою любовь. Он такие затраты, бедняга, нес ежегодно, а сто тысяч ассигнациями отдать ему, выходит, стало жалко. Видно, его маман Мария Ивановна и не подозревала за сыном такой расточительности в любовных отношениях, иначе бы так не возмутилась, узнав, какую сумму просят следователи за закрытие дела. Сынок, получается, был просто транжирой!
– А вы не думаете, что это и было доказательством его глубоких чувств к Луизе? Он ведь действительно не хотел ее отпускать домой во Францию, даже когда началась его связь с Нарышкиной.
– Вполне вероятно. Я думал об этом. Знаете, когда обнаружили труп Луизы с перерезанным горлом, у нее в ушах оставались золотые серьги с бриллиантами и кольца на пальцах, что окончательно запутало дело.
– Я согласна, что Сухово-Кобылин со взяткой явно затянул, а потом стало совсем худо, и дело ушло на утверждение в Сенат. Все могло решиться в его пользу, и со временем так стала считать и его мама. Чаадаев, к которому Александр Васильевич обращался за советом, тоже просил его смириться и заплатить, чтобы не попасть за решетку.
– Вот видите, нет худа без добра, тогда бы Кобылин не написал свои три пьесы. Тюремные нравы и масштабы взяточничества на Руси остались бы ему не ведомы. Следователи наивно полагали, что Господь все же вразумит Кобылина, и он своевременно отвалит им денег, но они не могли предположить, что этот строптивый барчук по своим философским убеждениям был атеистом, и потому не слышал Божьего гласа, а находился в плену германской тяжеловесной мысли, логика которой на Руси не являлась аргументом в доказательстве. Наверное, поэтому-то Чаадаева всю жизнь считали сумасшедшим, а Кобылин продолжал находиться под подозрением в убийстве. Однажды он в отчаянии сказал друзьям: «Как горько, что в России правду и справедливость надобно вымаливать у Государя» и покинул Россию. Согласитесь, его мысль не потеряла актуальности и в наше время. Помните высказывание Салтыкова-Щедрина?
– Которое, – быстро спросила Элла Андреевна, – у него много мудрых изречений.
– А вот это: «Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют», – я усмехнулся перед тем, как продолжить: – Кобылин наверняка бы добавил: «и повсеместно требуют взяток».
– Да, – согласилась она, но не забывайте, Денис, что для того, чтобы покинуть Россию, Кобылину пришлось пройти через неприемлемую для его мятущейся души процедуру церковного покаяния для очищения совести за прелюбодейственную связь. Правда, тогда он уже не робел и признавался, что сама судьба провела его на сцену московского театра сквозь двери сырой «сибирки». Чудно, – нахмурив брови, сказала она, – его прах покоится в Болье, а милой его сердцу француженки остался в Москве.
Элла Андреевна помолчала, потом грустно сказала:
– Лишний раз убеждаешься, как причудливо тасуется колода жизни. Воистину, неисповедимы пути Господни.
Определенно, в тот день мы с Эллой Андреевной стали заметно ближе и виной тому скорее было скрытое тепло патриотизма, нежели любовь к отеческим гробам.
Обедали мы в уютном ресторане, который располагался на самой вилле Ротшильда. Я попросил прежде принести бутылку розового вина: меня утомили бесконечные разговоры и непривычно долгая ходьба. Как ни удивительно, но в этот раз даже Элла Андреевна пригубила свой бокал. Мы больше не вспоминали про Кобылина, а любовались прекрасным видом на море и богатыми виллами миллиардеров на Кап Ферра, что открывались нашему взору через широкие окна ресторана. Тартар из тунца, салат с баклажанами и брускетту с крабами Элла Андреевна предпочла запивать не вином, а водой «Сан-Пеллегрино».
В роскошном саду Ротшильдов все уже цвело и было тепло, но Элла Андреевна захотела как можно скорее вернуться к себе в отель, чтобы принять солнечную ванну, как когда-то Кобылин, сидя у голубого бассейна, окруженного широкими мраморными колоннами. Она не скрывала, что была в восторге от моего выбора отеля, и мечтала поскорее предаться там отдыху после долгой прогулки по побережью. Для того чтобы не возвращаться вновь в Болье, я взял такси и отвез Эллу Андреевну в отель. По дороге мы наметили план следующего дня, и Элла Андреевна попросила полностью посвятить его Иде Рубинштейн, о которой я знал не так много, чтобы быть достойным экскурсоводом. К счастью, место, где покоилась эта известная во Франции женщина, было не так далеко от Ниццы.
Ида Рубинштейн. Набросок В. Серова
Для того чтобы углубиться в детали биографии этой дивы, о которой со мной собиралась говорить моя спутница, я получил от нее журнал, где было опубликовано несколько лет назад любопытное эссе, написанное ею. Теперь, увы, мне было чем заняться вечером. Работа оказалась довольно объемной. Лежа на диване, разморенный долгой ходьбой и плотным обедом, я, не без труда напрягая внимание, приступил к чтению…
СУМАСШЕДШАЯ ИДА
Время нынче худое, оттого и заморачиваться о смысле жизни стало делом мудреным. Куда проще ощутить блаженство от нечаянной встречи с чудом. Это как вспышка белозубой улыбки фортуны – словно окунуться в чарующий лик Нефертити или задохнуться в нежном объятии обворожительной Клеопатры. И ноги у этого чуда должны быть непременно длинными, такими, как у богини Изиды, а лучше, как у самой Иды с картины Серова, с пальцами, унизанными кольцами с драгоценными камнями, от блеска которых перехватывало дыхание у безнадежных романтиков, посвятивших себя поиску прекрасного.
Что делать, если неприкаянное сердце тяготится прозой повседневного быта и хочет смотреть куда-нибудь на Восток, например в полный мистики Египет, где небо всегда ясное даже ночью от сияния ярких звезд, а земля там как будто разговаривает языком загадочных фигур, восхищая душу своими пропорциями.
Вот и Маша с Леночкой, мои прелестные и всегда послушные дочери, будучи еще совсем нежными созданиями, в редкие часы досуга находясь дома, беззаботно дурачились, нацепив на себя мою дешевую бижутерию, и строили друг дружке смешные рожицы. Порою, желая повеселить и меня, они теряли благоразумие и волокли из шкафа мои туфли, а заодно и все, что попадало им под руку: шелковый лифчик или цветастый пеньюар. Стоя у большого зеркала в прихожей, они пытались лицедействовать и принимали при этом совсем не детские позы: нескромно виляли бедрами и, уперев кулачки в бока, призывно смотрели на свое отражение. Думаю, что девочки делали так во всех семьях, и меня это не настораживало. Очевидно, потребность в познании пластических форм своего тела, в том числе и эстетический образ своей «наготы» для привлечения внимания других заложен в нас природой и подсознательно дает о себе знать.
Шалости моих девчонок частенько вызывали у меня раздражение, но бывало и редкое необъяснимое восхищение. Воспоминания об этом согревают меня и снова возвращают в то далекое прошлое, когда мой случайный взгляд выхватил почти воздушную несовершенную геометрию угловатых фигур девочек, которая тем не менее восхитила меня почти до сумасшествия. Однако объяснений моему материнскому восторгу я не находила, и до сих пор разобраться до конца с секретом той пропорции мне не удается. Платон когда-то утверждал, что Бог всегда действует геометрически, вызывая в наших душах восхищение, а эллины называли Пифагора Богом лишь за то, что тот видел гармонию любой формы в числах, но раскрывал формулу лишь посвященным. Его божественный промысел так и остался сокрытым от нас временем.
Одно слово – магия. Впрочем, все, что вызывает во мне необъяснимое восхищение, я называю магией, хотя муж считает все это бредом: он убежден, что конфигурация естественных форм всегда подвержена личностной интерпретации, а поэтому не всякая, пусть даже и самая совершенная форма, является магическим знаком или ключом, уносящим сознание в запредельное пространство, особенно, если это касается форм телесных. Мой Иван, в прошлом известный баскетболист, до сих пор продолжает смотреть на все свысока, а посему я давно махнула на него рукой, потому что ему не до чего нет дела. Человек он скучный и немногословный, его вообще мало что интересует в этом мире, кроме спорта. Пойти с ним в театр удается крайне редко, а изобразительное искусство его не трогает вовсе.
Открытие выставки обнаженной натуры на Крымском валу под названием «Магия тела» предваряла броская реклама в прайм-тайм на центральных каналах телевидения и подразумевалось, по всей видимости, что это культурное событие в очередной раз удовлетворит нашу потребность во встрече с прекрасным. С телеэкрана сыпались красивые фразы о гладкости линий и «свечении» кожи соблазнительных натурщиц прошлых веков. Описание портретных композиций и жанровых сцен сладкоголосый диктор за кадром связывал с великими именами Репина и Серова, Сурикова и Серебряковой, и не только их. Эстетический образ «наготы» присутствовал и в названиях масштабных полотен – «Обнаженная натурщица в шляпе», «Красавица», «В бане» и, конечно, «В мастерской»…
Ощутить эстетическое наслаждение и полюбоваться лучшими картинами в стиле «ню», созданными нашими отечественными художниками, конечно, захотелось и мне. К тому же, как профессиональному лингвисту мне давно хотелось понять, как культурологические различия между понятиями «голый», «нагой» и «обнаженный» проявляются в сфере изобразительного искусства.
В субботу 20 сентября ровно в полдень солнце светило не по-осеннему жарко. Пряный запах специй и жареного мяса, исходящий от летней шашлычной парка «Музеон», казалось, привлекал отдыхающих куда больше, чем похожий на алый парус большой холщовый плакат с красочной эмблемой «Магия тела», трепещущий на ветру у самого входа в ЦДХ.
Если театр у его почитателей начинается с вешалки, то мое знакомство с прекрасным началось с кассы. Уже совсем не молодая, но миловидная женщина приветливо улыбнулась мне через толстое прозрачное стекло, и перед тем, как принять от меня деньги, вдруг спросила, внимательно посмотрев на меня, нет ли у меня каких-либо льгот. Растерявшись от неожиданности, я покачала головой, непроизвольно сфокусировав взгляд на своем отражении в стекле, и поспешно убрала за уши выбившиеся из-под берета на ветру локоны темных волос, подернутых сединой. Кассирша без слов выдала мне льготный билет за сто пятьдесят рублей и двести пятьдесят рублей сдачи с пятисотки. С молчаливым недоумением и с видимой благодарностью я убрала деньги в кошелек, но в последний момент обнаружила, что не хватает ста рублей. Моя реакция удивления была встречена дамой за стеклом с натянутой благодарностью. Она вежливо попросила вернуть всю сдачу, а заодно и билет, извиняясь за досадное недоразумение. Наконец я получила от нее все, что хотела: билет за полную стоимость в 350 рублей, плюс жалкую мелочь, а любезная кассирша проводила меня безразличным взглядом. Хорошо, что рядом со мной не было мужа. Он бы не сдерживаясь оценил мое растяпство и неспособность практически мыслить. Потеря в рублях была невелика, но почему-то осадок от только что совершенной глупости долго не покидало меня, хотя, конечно он не омрачил предстоящий праздник чуда, ради которого я и приехала. Просто я лишний раз убедилась, что как всегда всему виной была моя дурная щепетильность и неспособность идти на взаимовыгодный компромисс.
Экспозиция начиналась со второго этажа, с небольшого зала, где было представлено не более полудюжины полотен, в том числе почти забытая картина великого Валентина Серова под названием «Натурщица», датируемая 1905 годом. Однако около нее посетителей не было. Видимо, красота женской телесности, изображенная на полотне, не обладала той магией, которую обнаружил художник в 1910 году, написав картину «Ида Рубинштейн», очень похожую на эту по композиции, где также присутствовала характерная для Серова искомая простота и правда. По узкой лестнице я спустилась на этаж ниже, продолжая поиск целомудренной красоты. Целомудрия действительно было много, а вот красоты – совсем мало. Не хватало и декоративной прихотливости, которая иногда превращает нагую женщину в эффектный образ. Может быть, пропорции идеальной фигуры, которые меняются из года в год, перестали быть реалистичными, а стали все больше метафоричными? К концу своего пребывания в холодных залах экспозиции я окончательно потеряла надежду выстроить свое субъективное определение великой красоты и идеального тела. Рядом с выходом, там, где было представлено объемное полотно художника Кустодиева «Красавица», была размещена картина возможно меньшей значимости под названием «В бане». Не помню, почему я остановилась подле нее. Скорее, по наитию. Вряд ли меня чем-то тронул тонкий эротизм неизвестного мне художника Тихова В.Г.
– Вот и я о том же подумал, – неожиданно обратился ко мне лысоватый мужчина, которого я поначалу совсем и не приметила, и, с интересом оглядев меня сверху вниз, задумчиво продолжил: – Выходит дело, и после 17-го года могли достойно изображать обнаженных девиц, смотри, как плещутся!
Этот нахал обращался ко мне совсем без стеснения, словно мы вместе пришли на стадион и болели за одну команду. Я промолчала, удостоив наглеца едва заметной снисходительной улыбкой. Однако, по-видимому, он расценил это как готовность к общению и, оглядев меня снова, продолжил:
– А вот эта, – он небрежно указал пальцем с желтым ногтем на кустодиевскую обнаженную даму и с отчаянием произнес: Но это просто безобразие!
Говорил он довольно громко, как будто приглашал редких присутствующих к разговору.
– В постель к этой красавице как-то совсем не хочется, – заключил он с сожалением.
Высокая полная женщина, стоящая рядом то ли с внучкой, а может быть с дочерью, определить было трудно, взяла девочку за руку и отступила от кустодиевской красавицы на шаг назад, предоставляя незнакомцу возможность подойти к шедевру поближе. Девочка в круглых очках, казалось, тоже была задета той бесцеремонностью, с которой вторгся этот мужичонка в ее сокровенные мысли.
– Красота женской телесности, вызывающая восхищение, кроется совсем не в эротизме, – обратилась она тонким голосом к своей родственнице, видимо в поисках поддержки.
– Да? А в чем же? – мужчина охотно откликнулся на девичью реплику и, развернувшись корпусом, как на шарнирах сразу на 90 градусов, переключил свое внимание на эту кроткую пару.
– Мера вкуса и уровень мастерства, молодой человек, – обратилась тучная дама к этому разговорчивому мужичку, – вот что определяет умение передавать не ситуацию «раздетости», а эстетический образ «наготы».
Мне повезло, что мужчина повернулся ко мне спиной, я незаметно покинула выставку и, выйдя в парк, сразу повернула туда, где возвышался памятник Дзержинскому, предварительно удостоверившись, что за мной не увязался хвостом этот чудной тип.
Яркое солнце клонилось к закату и нещадно слепило глаза, заставляя руку лихорадочно шарить в сумке в поисках очков. Снова перед моими глазами замаячил алый парус «Магии тела», монотонно похлопывающий на еще теплом осеннем ветру. Я огорченно вздохнула, сожалея, что в этот чудный погожий день встреча с магией так и не состоялась, а могла бы, очутись на стене галереи полотно Серова «Портрет Иды Рубиштейн», чей угловатый образ был выбран интернетом в качестве символа этой выставки. Однако этой картины там не было. Впрочем, наверное, ее и не должно было быть, поскольку полотно не принадлежало Третьяковке. Кстати, за последнее время мне посчастливилось бывать в Питере дважды, но оба раза я не застала картину в экспозициях Русского музея. На мой изумленный вопрос пожилая хранительница с улыбкой ответила: «Эту дамочку до сих пор хотят видеть в Европе и Америке как нашу главную жемчужину». Охотно верю, но тогда здесь мог бы выставляться известный эскиз Серова под названием «Портрет артистки и танцовщицы Иды Рубинштейн», который художник написал графитным карандашом. Он хранится в Третьяковке и проходит под инвентарным номером 113113. Этот рисунок передает восхищение автора и он был бы необыкновенно здесь кстати, впрочем, как и другие откровенные наброски Серова к этой всемирно известной картине.
Не столько чтобы отдохнуть, сколько чтобы немного отвлечься, я присела на пустую лавочку, скрытую от глаз прохожих невероятно пахучим свежестриженным кустарником. Полдюжины уверенных в себе девиц, беззаботно фланирующих по парку, привлекли мое внимание тем, что слишком шумно отгоняли от себя ногами стаю приставучих сизых голубей. Я невольно повернула голову и отметила, что все они были в ярких туфлях на невероятно высоченных каблуках. Субтильные и длинноногие, они стояли на цыпочках, будто отрываясь от земли, едва касаясь опоры, как балерины. Я невольно улыбнулась, поразившись, как этим девочкам легко удавалось передвигаться почти не сгибая ног в коленях в туфлях, похожих скорее на причудливые ходули. Чудеса, да и только. Заставить кого-либо поверить, кто не видел это своими глазами, невозможно, пока не увидишь это сам. Так, наверное, и в искусстве. Прежде чем попытаться перенести телесное чудо на холст, нужно это чудо увидеть не во сне, а наяву. Так случилось и Серовым. Предмет своих многолетних воздыханий, образ Навзикаи, который неоднократно приходил к Валентину Александровичу во сне, художник увидел наяву в Париже только в 1910 году незадолго до своей смерти.
– Ну что перед нею все наши барышни, – сказал он восторженно своим ученикам и друзьям, когда в Париже увидел свою призрачную мечту в облике танцовщицы под именем Ида Рубинштейн, и вознес к небесам свои дрожащие от волнения коротенькие руки. В тот момент, по признанию друзей, Серов удивительно походил на самого Наполеона Бонапарта и не только по причине малого роста: гения русской портретной живописи мучили вечные поиски истины и славы. Немногословный по натуре Валентин Александрович был тогда необычайно словоохотлив.
– Ну что, скажите, можно было сделать с Орловой, открытое лицо… Да что в нем, какие черты?!
Это Серов говорил ученикам о самой княгине Ольге Константиновне Орловой, легендарной личности высшего петербургского общества, ведущей свою родословную от самих Рюриковичей. Считалось, что только она имела дар первой почувствовать новые веяния во французской моде и немедленно организовать ее показ в салонах Москвы и Петербурга. Она и сама обладала чудесной фигурой и царственной осанкой с флером эротизма, от которых трепетали художники Бенуа и Сомов. Она была первой из первых во всем и не терпела рядом с собой иных красавиц. Своей серьезной соперницей в умении одеваться не только изысканно, но и современно Орлова считала княгиню Юсупову. Зинаида Николаевна была прекрасна лицом, к тому же высока и изящна. Одним словом, блестящая красавица, которую не зря называли петербургской прелестницей. Она не хуже прославленных танцовщиц исполняла русские танцы, к тому же была очень умна. Серов написал ее портрет, когда Юсуповой уже шел пятый десяток. Зинаида Николаевна была проста в обращении и абсолютно не честолюбива. Эти черты ее характера приятно поразили Серова. Однажды Орлова увидела портрет своей соперницы его кисти и немедленно пожелала иметь нечто подобное, но непременно в роскошном наряде, подчеркивающем ее безупречную фигуру. Кроме своей блестящей родословной, богатства и великолепных внешних данных она еще гордилась тем, что ее мама была племянницей легендарного генерала Скобелева, того, кто умер в рассвете славы в Москве в постели шикарной проститутки от любовного удара и чей памятник долгие годы украшал Тверскую площадь.
Валентин Серов имел большую семью и почти всегда нуждался, а посему отказаться от денег Орловой не посмел. Имея ошеломительный успех у себя на родине, за портрет он брал по тем временам немалую сумму: не меньше пяти, а то и шести тысяч рублей. Однако очередь желающих иметь портрет его кисти продолжала оставаться непомерно большой. Постоянное отсутствие денег в его кошельке объяснялось только его щепетильностью и черепашьей медлительностью в написании портретов, а также особенностями характера самого художника. Даже члены великокняжеской семьи вместе с императором испытали норовистый характер Серова, который не терпел малейшего диктата или советов. «Портреты Серова – всегда суд над временем», – говорил Брюсов. Орлову предупреждали, что позировать художнику придется очень долго, но княгиня терпела, понимая, что имеет дело с великим. Работа княгине не понравилась, и она передала ее в дар музею.
Пожалуй, только портреты Генриетты Гиршман получались у Серова относительно скоро без потери качества. Эта привлекательная женщина никогда не вызывала у художника раздражения, а деньги за ее портреты ее муж, известный коллекционер, платил исправно, выручая вечно нуждающегося Антона (так звали Валентина Серова близкие).
Портрет княгини Щербатовой в творчестве Серова стал последним. Ее муж, князь Сергей Александрович, меценат и коллекционер, сам был художником и требовал от Серова, чтобы тот отразил в портрете все прелести его жены. Князь считал свою Полинушку, обыкновенную деревенскую девку, обладающую способностями ясновидящей, «видением большой красоты». Князь, привороженный ее сверхъестественными способностями, ни секунды не сомневался, что ее высокая стройная фигура способна поражать людей своими античными пропорциями, и считал, что тончайшие черты ее лица просто должны были лишать покоя поэтически одаренных людей. Сам же князь признавался, что белокурые волосы жены, отливающие червонным золотом, волновали и его до мурашек.
Князь Щербатов был тогда любезно предупрежден Зинаидой Юсуповой, что позировать Серову нелегко, и она сама за время длительных и многочисленных сеансов, бывало, то худела, то полнела. Сергей Александрович серьезно опасался за хрупкое здоровье своей жены, но уж очень хотелось иметь портрет кисти Серова. К тому же князь знал, что Серов – художник злой и любит подмечать и гипертрофированно изображать на полотне недостатки своих моделей. Даже в своих воспоминаниях князь отмечал, что воспеть женщину Серов просто не умеет, поскольку не чувствует подлинной красоты. А подлинной ли была эта красота? Вопрос спорный. И сам Щербатов вряд ли мог дать ей определение. В чем он был прав, так это в том, что красота Полины Ивановны действительно не вдохновляла Серова, но он все-таки согласился писать ее. Бросив неприветливый взгляд на княгиню, художник произнес: «Тут есть что делать и с фигурой, и с лицом». Рисунок к портрету приходилось неоднократно переделывать. Щербатовы были категорически против, чтобы Серов сажал Полину на низкое сидение, поскольку точеная фигура княгини терялась, как это уже было у Орловой. Наконец нашли компромисс, и княгиня согласилась позировать, стоя с закинутой назад рукой, но стоять неподвижно пришлось так долго, что кончилось все защемлением нерва. Княгиня слегла, сеансы пришлось приостановить. В тот день раздражению этой искусной гадалки и ясновидящей не было предела. Маловероятно, чтобы она своими гаданиями и ворожбой могла навести на художника порчу. Тем не менее, когда вскоре Серов собрался поехать в дом Щербатовых, чтобы наконец начать писать портрет красками, он впервые заставил себя ждать. Тогда у Щербатовых раздался телефонный звонок, и сын художника сообщил:
– Валентин Александрович очень извиняется, что быть не может, он …он умер.
Оказалось, у Серова не выдержало сердце, хотя ему было всего-то 46! Щербатовы не захотели оставить у себя рисунок и поспешили отослать эту последнюю незавершенную работу в дар Третьяковской галерее. Сами же после революции доживали свои годы на Лазурном берегу, где самоуверенная красавица и ясновидящая продолжала успешно зарабатывать на жизнь гаданиями. Впрочем, именно там доживали свои годы и все остальные женщины, которых когда-то согласился писать Серов.
Но пока он еще был жив и продолжал творить, все они: Орлова, Юсупова, Гиршман и, конечно же, Щербатова, очень богатые, благополучные, счастливые в браке, каждая по-своему прекрасная, узнали, что художник, находясь в Париже, забросил писать заказные работы и в обстановке таинственности в сумрачной часовне «Шапель» приступил к работе над портретом Иды, этой странной и непонятной эпатажной чудачки, выдающей себя то ли за танцовщицу, то ли за артистку. Красавицы, вполне вероятно, мечтали, не скрывая зависти, хотя бы одним глазком заглянуть в святая святых знаменитого художника.
И вообще, как она посмела вообразить себя первой красавицей на свете и кто она такая на самом деле? Так или почти так вопрошали эти записные красавицы Петербурга и Москвы, будто Ида покушалась на их статус, словно она была пышногрудой белокурой прелестницей с осиной талией. Совсем нет! Даже наоборот! Это Серов посмел назвать ее первой красавицей, это он, вечно угрюмый первый портретист России, сказал о ней: «Какое лицо! Полная архаика!», а его друг, тоже художник, любвеобильный Левушка Бакст, и вовсе считал ее богиней, сравнивая с гордым тюльпаном.
На самом деле ее звали Лидия Львовна, но сама Рубинштейн предпочитала имя Ида, хотя простолюдинам и обывателям она позволяла называть себя Аделаидой. А вот Серов, этот робкий и стыдливый при виде красавиц гений, вдруг осмелел и, не спрашивая разрешения, прилюдно стал называть ее Навзикаей – именем той царевны, от красоты которой столбенел Одиссей. Ида не стеснялась позировать для его эскизов в самых откровенных позах, которые и сейчас не решаются публиковать даже независимые журналы и выставлять в музеях и галереях чопорные галеристы, поскольку отдают они чистой эротикой. Эта женщина нравилась ему безумно, если не сказать большего. Отец шестерых детей ревновал Иду ко всем, с кем она проводила вечера в Париже, а это были граф Робер де Монтескье и поэт Габриэле д’Аннунцио. Иду пугал и смешил звон посуды в той условной мастерской, где художник жил и где ему готовили обед, и где она, совершенно нагая, сидя на пьедестале, сооруженном из чертежных досок, старалась не выходить из полосы света, подчиняясь властным окрикам недовольного мэтра.
– У меня нет денег на рестораны! – кричал он в отчаянии в ответ на насмешки танцовщицы.
Только ему Ида позволяла быть грубым с собой. В сердцах он бы мог их всех, пошлых воздыхателей и богатеев, вызвать на дуэль и перестрелять по одиночке (а считался он лучшим стрелком в Петербурге и Москве), но это было лишь плодом его воспаленного сознания, поэтому ему оставалось только писать на них злые шаржи, к чему он имел немалый талант.
В том же году в то же самое время и в том же городе, где работал Серов, другая российская красавица с изящной талией и в статусе уже вполне состоявшейся поэтессы кружила голову другому художнику, правда, еще мало кому известному, по фамилии Модильяни. Последовали откровенные эскизы углем на бумаге в похожей манере.
Много прямых линий, та же угловатость натурщицы, такой же плоский живот, девичьи острые груди, длинная линия сухой спины, черные волосы и восточный тип лица. Совпадение необычайной редкости. Только вот этот портрет прославленной поэтессы Анны Ахматовой, сидящей также в неглиже, что находится сейчас в Музее изящных искусств во французском Руане, скорее всего писался художником по памяти. Именно так пыталась объяснить появление этого шедевра сама поэтесса, поскольку приехав в свадебное путешествие в Париж со своим мужем Гумелевым, в середине мая 1910 года, она художнику, тем более в обнаженном виде, не позировала. Да, действительно, Амедео очаровал влюбчивую Аню только за один короткий вечер. Особенно ее поразило его лицо, черты которого так напоминали античного Антиноя. Сидя с поэтессой в кафе Ротонда, Модильяни был восхищен ее способностями угадывать его мысли и пересказывать чужие сны.
– Vous etes en moi, comme une hantise («вы во мне, как наваждение»), – признавался ей художник.
Это уже потом, ровно через год, Ахматова приедет в Париж снова, но уже именно к Модильяни, и тот напишет, опять же по ее словам не с натуры, сразу 16 рисунков, из которых только один, возможно самый невинный, сохранится у поэтессы как свидетельство их нежной дружбы и неприкрытой чувственности. И впрямь, Анна Ахматова – это вам не какая-нибудь Рубинштейн, чтобы целыми днями просиживать в холодной мастерской, да еще в полном неглиже, принимая откровенные позы, как заблагорассудится Антону (Ида тоже называла Серова Тошей). Нет, Ахматова не такая. Обычно Модильяни рисовал быстро. Порой за четверть часа ему удавалось написать сразу дюжину рисунков какой-нибудь обнаженной натурщицы, поскольку не ставил перед собой цели передачи вибраций живого женского тела. Стала ли Ахматова его любимой моделью? Да конечно нет. Тем более что его картины тогда никто не покупал. Да, он не мог не отмечать, что она имела необычную внешность, но этот художник-модернист не замыкался только на ней. В отличие от Анны ее муж Николай Гумилев не заметил в глазах Модильяни ни золотых искр, ни сходства с Антиноем. Он называл этого художника не иначе как «пьяным чудовищем». Ахматова содрогалась от этого определения. Она не забыла, как Амедео водил ее в Лувр, именно в египетский отдел, уверяя поэтессу, что все остальное в этом музее просто недостойно внимания. Этот итальянский красавчик тогда, как и Серов, а вместе с ним и Ида, просто бредил Египтом. Анна не могла понять, почему. «J’ai oublié de vous dire que je suis juif» («я забыл вам сказать, что я еврей»), – признавался художник Анне, а еще он увлекался магией и оккультизом каббалы и всем тем, что касалось тайных знаний. Предки Серова и со стороны отца и со стороны матери тоже были евреями, но великий русский художник, находясь в Париже, совсем не интересовался оккультными тайными знаниями. Ему было не до этого. он был поглощен только Идой, и рисовал ее с большим удовольствием.
– Эдакое создание, да и глядит-то она куда, – обращался к друзьям Серов.
К восторгу художника Ида смотрела не на него. Очарованному мастеру все время казалось, что взгляд ее устремлен в… Египет. Почему в Египет? Интересно, что бы на это ответили Стасов и Поленов, любившие при всяком удобном случае дружески подтрунивать над еврейством семьи Серовых.
Перед тем как писать Иду, Серов часами трудился в известной парижской мастерской Колеросси, где можно было очень дешево, всего-то за 50 сантимов получить возможность работать с обнаженной натурой. Во время этих сеансов в многолюдной мастерской Серов, бывало, недовольный результатом, безжалостно швырял измятые эскизы в мусорный ящик.
– Что вы бросаете кредитные билеты! Ведь вы – знаменитость! – почти кричал, упрекая художника в расточительстве, Иван Ефимов. В словах ученика и родственника Серова было много правды. Как много русских купцов, проживающих тогда в Париже, готовы были дорого платить за эти рисунки, мечтая развешивать их на стенах своих меблированных комнат, тем паче, что на них изображались обнаженные красотки. Модильяни тоже нуждался, но у него ничего не покупали, поэтому он просто дарил свои шедевры, а Серов мог легко продать свои эскизы, но никогда этого не делал, за редким исключением он их безжалостно уничтожал. Только эскизы обнаженной Иды он оставил себе. Она была единственной, кто дразнил его воображение и пробуждал в нем мечты, которые он скрывал ото всех и даже от самого себя. Ее ненавязчивое чувство некоего божественного всемогущества довлело над его клокочущим эго, вызывая приступы беспричинной злобы.
– Я злой! – восклицал он в своем парижском ателье, и его слова эхом отражались от стен «Шапеля». – Я злой, злой, – повторял он и так было всегда, когда Ида не приходила в назначенный полдень и задерживала встречу с его несравненной Навзикаей. Но его муза была прежде всего женщиной, которая хотела нравиться, и не только ему. Ее шикарные костюмы, умопомрачительные украшения из бриллиантов и рубинов должны были видеть все. Эпатаж был частью ее повседневной жизни, это свойственно как правило всем увлекающимся натурам.
Первым серьезным увлечением Иды был Аким Волынский, и их отношения продолжались несколько лет. В театрально-литературных кругах России фигура Волынского была более чем заметная. Его экспертной критики боялись многие. Большой умница и любимец женщин, Аким Львович в 1906 году завершил свои романтические отношения с замужней Зинаидой Гиппиус и при первой же встрече не оставил без внимания Иду. Вскоре он даже был готов взять ее в жены. В своей переписке с Рубинштейн он обращался к ней не иначе, как «моя божественная Ида», искренне полагая, что вся суть ее красоты была сосредоточена в величайшей ее декоративности, то есть в первую очередь не она сама, а ее чудесные туалеты и солнечная косметика, которая просто сыпалась с ее лица, восхищали взыскательную публику. Что же касается Иды-человека, то тут у него были большие сомнения. Человеческие черты в ней угадывались с трудом.
Серов в отличие от Волынского решительно не замечал в ней ее декоративности. Он видел перед собой только человека, достигшего высот божества. Для утверждения в своем мнении он сразу вознамерился писать ее только в обнаженном виде, лишив всякого декора, разве что только с кольцами с камнями на пальцах рук и ног, но страшился, что модель не согласится на это.
– Она счастлива, когда может раздеться, – успокоил Серова Александр Бенуа.
И действительно, он получил ее согласие без лишнего кокетства. Быть написанной самим Серовым в то время означало быть отмеченным знаком высшего света.
Впервые он принялся за работу с таким необычным для себя воодушевлением. Бесстыдство Иды художник заметил сразу и решил не скрывать эту черту ее характера в своих эскизах, но только в эскизах, доступных исключительно ему и никому более. А зритель должен был видеть только ее идеально ровную спину. Художник анатомически верно передал характер телосложения танцовщицы и остался этим очень доволен. Закончив писать портрет, Серов понял, что сотворил нечто гениальное без каких-либо прикрас. Просто чудо и все. И для этого не потребовалось ста сеансов, как было с Орловой, – всего-то несколько месяцев.
– И как иначе. Это же такое создание! – повторял он неоднократно своим друзьям.
На следующий год в Риме на международной художественной выставке Серов представил две свои картины, точнее два портрета – Орловой и Рубинштейн – написанных в один год. Слово «картина» он не уважал. Парадный портрет Орловой по признанию всех был выполнен автором прекрасно, да и кто бы посмел поставить творчество портретиста под сомнение, а вот Иды… Учитель Серова Репин присутствовал на выставке лично и был просто раздосадован увиденным. В момент созерцания шедевра ему даже показалось, что на голову рухнул потолок павильона, а язык присох к гортани. Придя в себя, великий мастер изобразительного искусства Илья Ефимович спросил своего ученика: «А это чья работа, Антон?…»Дальше у Репина в его записях следует несколько строк без слов, одни многоточия. Старик, видно, крепко умел ругаться. Когда он все-таки обрел дар членораздельной речи, последовали реплики: «Гальванизированный труп? Какая скверная линия спины… И колорит: серый, мертвый…труп…» Репин, к сожалению, не смог увидеть ожившую на полотне призрачную мечту своего великого ученика, который сумел, по признанию многих, отказавшись от арсенала своей сложной техники, создать совершенно небывалый доселе шедевр.
Ах, если бы только один Репин был так суров в оценках портрета Иды. Досталось и художнику, и его несравненной Навзикае.
– Обезьяна, а не женщина!
– Кузнечик!
– Существо, близкое к животному.
Но не будем перечислять все, что вылилось на ее прекрасную голову. Сама Ольга Константиновна Орлова деликатно воздержалась от нелестных суждений, но свой парадный портрет, который ей откровенно не нравился, она согласилась подарить Русскому музею при условии, что он никогда не будет висеть в том же зале, где портрет Рубинштейн, хотя, казалось бы, что между ними общего? Два портрета разных по технике, да и сами изображенные на них женщины с полярными убеждениями и разной эстетикой тела. Но кто рискнет понять и рассудить двух женщин?
Действительно ли Ида была так уродлива, как ее хотели представить в России многие из тех, кто нескромно называл себя знатоком женских прелестей. Прошло ровно сто лет, но изображение этой женщины продолжает волновать не только мир искусства. Может, разгадка кроется именно в эстетике тела Иды, написав которую Серову удалось заглянуть в будущее, представив миру даму, ставшую законодательницей современной моды и стереотипом, к которому стремится любая женщина именно сейчас: высокое худое тело, острые локти, тонкие щиколотки и узкие колени.
А какая она была в детстве? Иде не исполнилось и десяти, когда ее родители, богатейшие купцы России, умерли, и ее с сестрой Ириной отправили из Харькова в Петербург к богатым родственникам, которые жили то ли на Моховой в окружении представителей высшего сословия, то ли на престижной Английской набережной. В семье Софьи Горовиц девочку искренне жалели, поскольку росла она долговязой, очень худой и невзрачной.
В столице русских императоров тогда уже витал дух изысканного модерна, открывались десятки разных театров, где играли все европейские знаменитости. В городе порой становилось тесно от культурных событий, а великосветское богатство смешивалось чудесным образом с богатством индивидуальностей. Мадам Горовиц обожала театр, особенно балет, к тому же у семейства Рубинштейнов в Мариинке была собственная ложа под номером 13. Уже в девичестве Ида грезила театральной карьерой и почти каждую неделю лицезрела блистательную и надменно-холодную Матильду Кшесинскую, когда та в окружении поклонников отъезжала от театра в карете, полной цветов.
Но мало ли барышень из хороших семей болели тогда театром? Иде дали приличное образование. Она окончила частную гимназию Таганцевых, к тому же лучшие преподаватели Петербурга на дому учили девочку языкам, музыке, пению, давали уроки актерского мастерства и танцев. Она росла в окружении роскоши, а также семейного внимания и тепла. Ее часто возили в Европу. Разумеется, никто из многочисленных родственников, проживающих не только в России, но и по всей Европе, не помышлял что молодая барышня, наследница многомиллионного родительского состояния, умная и начитанная, поклонница творчества Ницше, вздумает стать профессиональной драматической актрисой, что в просвещенных кругах, близких к их окружению, не без оснований считалось равноценным тому, чтобы стать куртизанкой. Ида подолгу, часто полностью обнаженная, простаивала у больших зеркал, коих в большом доме было предостаточно, пытаясь обнаружить в своей непривлекательности качества, похожие на изыск. Она была плоскогрудая и угловатая, а миндалевидные глаза чересчур вытянуты к вискам. Рот – слишком крупный, к тому же она была чересчур высокая и худая. Ноги длинные и на удивление прямые как стрелы, но кто их видит под платьем? Одним словом, классическая андрогинная внешность. Глядя в зеркало, сразу и не разберешь, кто перед тобой, то ли долговязый мальчишка, то ли чересчур худая высокая девчонка, похожая на гадкого утенка.
В эпоху модерна в Петербурге больше примечали большеглазых красавиц с круглым ликом и пухлыми прелестями. Другими словами, публика требовала блондинок с крупным бюстом и тонкой талией. Ида в минуты полного отчаяния вспоминала своего друга Акима Волынского, с которым любила назначать встречи в Эрмитаже в залах Рафаэля и Рембрандта. Огромные полотна с обнаженными красавицами всплывали в ее памяти. Как они все были похожи: пухлые пальчики на ножках, толстые щиколотки, мясистые коленки с ямочками и, разумеется, пышная грудь.
«Красота – загадка», – говорил ее любимый писатель Достоевский в романе «Идиот». «Выходит, эта эфемерная красота и должна была спасти мир. Разве не идиотская мысль? – сомневаясь, рассуждала про себя Ида, глядя на свою несформировавшуюся грудь. – Мир и понятия не имел, что такое красота, поскольку не помышлял о том, чтобы поднять голову, а смотрел все время себе под ноги, чтобы не споткнуться на рыхлой мостовой. Возможно, вопрос совсем не в наготе, а в красоте наготы, и неважно, вписываешься ли ты в каноны красоты – главное, произвести первое яркое сильное впечатление. Но это вопрос стиля и воображения, даже если оно и кому-то покажется извращенным. Ах, какой этот Волынский был умница!»– Ида от нечаянной радости подпрыгнула и попыталась встать на пальцы.
Это он однажды показал Иде графический портрет своей бывшей любовницы Зиночки Гиппиус работы Бакста. Та же андрогинная внешность, но какое производит впечатление! Мужской камзол, вытянутые по диагонали листа скрещенные ноги, копна рыжих волос, и все. А какой эффект! На самом деле ростом Зиночка была совсем не велика. Бакст просто удлинил ей руки и ноги, акцентировал остроту колен и сузил щиколотки. Бакст знал что делал – он превращал серую мышь в красавицу.
– Ему нужны деньги? Он их получит, – Ида решительно сомкнула губы. У нее денег было много.
Все еще глядя на себя в зеркало, Ида попыталась принять позу Гиппиус, точь-в-точь как на картине, вытянув длиннющие ноги, и обомлела от безупречности силуэта. «Несомненно, Бакст умеет видеть красоту. Неспроста он не сводит с меня глаз и оказывает знаки внимания. Он еще пожалеет, что поспешил с ранней женитьбой на дочери Третьякова! А что если назвать свою внешность библейской и культивировать это в сознании других? Для начала хорошо было бы самой уверовать в свою изумительную красоту, а уж потом в нее поверят и другие. Решено».
Наконец-то она успокоилась и приступила к формированию своего собственного стиля, а космические костюмы, плод эротической фантазии Левушки Бакста, полностью отвечали задуманной цели и щедро Идой оплачивались. В его нарядах она преобразилась до неузнаваемости. Идеалы ее вычурной красоты были дополнены нотками соблазнения. Поначалу ключом ее образа стали черные обводы вокруг глаз и пунцовые губы. Дополняла образ благородная форма ее носа. Лицо древней эпохи. Прическа с пышным напуском на лоб и с копною черных кудрей позади. Она совсем не стремилась соблазнять мужчин, она стремилась соблазнить только себя. В этом была особенность ее фантазий и ее эстетики. Ее имидж соответствовал ее внутренним убеждениям. Навязчивое стремление прославиться во что бы то ни стало не покидало Иду с детства, и она приступила к строительству собственной судьбы в искусстве. Идея в двадцать лет стать трагической актрисой непременно как Сара Бернар отпала у нее практически сразу, как только она дебютировала в «Антигоне», поставленной в частном театре на ее же деньги. Голос был слишком слабый, глухой и манерный. Однако ее античный точеный профиль и безупречный овал лица не остались незамеченными критикой. А вот недостаток актерского мастерства необходимо было устранять. Правда, учиться у Станиславского, который очень нуждался в ее деньгах, она не захотела, заявив, что его система давно устарела. Станиславский обиделся и надолго затаил злобу. «Нет голоса – не беда, – успокаивала себя Ида, – Саломея – вот то, что мне сейчас действительно нужно». Она знала, что Оскар Уайлд написал пьесу на французском специально для Сары Бернар, но та отказалась играть, сославшись на скандальность библейского сюжета. «Скандал? Библейский сюжет?» – обрадовалась Ида и срочно оплатила перевод пьесы на русский. Это ее тема и Саломея – это же она сама и есть! Правда, из-за этой пресловутой скандальности показ пьесы в России запретили, для верности даже совсем закрыв и сам театр Комиссаржевской, где Ида собиралась играть. «А что если попробовать себя в танце?», – терзалась в сомнениях Ида.
В то время по всему миру разворачивалась настоящая эпидемия танца Саломеи. Пляску библейского Востока пробовали исполнять многие известные балерины. Ида понимала, что пришло ее время раскошелиться как следует. Она смело ворвалась в кабинет крепко пьющего и грозного в общении композитора Глазунова и, соблазнив его крупной суммой, убедила написать музыку к пьесе. Левушка Бакст, покоренный гибкостью ее стана, пообещал создать для нее совсем новый костюм. Бакст знал свое дело, но в то же время был убежден, что именно обнаженное тело с аккуратным треугольником лобка – лучший сценический костюм для такого мифического существа, как Ида. Но как быть с ее ростом? Как с такими длинными ногами и руками танцевать, Ида решительно не представляла. Увлеченная тогда школой новой пластической хореографии Айседоры Дункан, популярной в Москве, носящей название «Школа босоножек», Ида подумала, что ей это по силам, но Дункан сочла ее тело «не античным» и давать уроки отказалась.
Спасти ее и помочь обрести уверенность в себе мог тогда только Фокин, модный балетмейстер Мариинского театра и приверженец новаторских течений в хореографии. В 24 года научить вставать на пуанты, даже для Фокина звучало, как абсурд, пусть и за огромные деньги, что она ему посулила. Поставить сложный номер с дамой, не имеющей никаких данных для балета? Нет, Фокину это казалось невозможным, но наперекор всему Ида уже видела его хореографом своего будущего представления. Частные уроки классического танца мастер все-таки согласился дать, но только во время своего отпуска в швейцарском пансионе.
Ида покорила хореографа своим поразительным трудолюбием и чрезмерным усердием, вселив в него уверенность в ее способностях. Для спектакля не хватало только режиссера с именем. Ида захотела, чтобы им стал Всеволод Мейерхольд. Надо признать, что деньги Рубинштейнов тогда решали почти все, к тому же она изводила себя изматывающими репетициями, а игра буйной фантазии и мечты построить в центре Петербурга свой собственный театр из розового мрамора не давали ей покоя. Родственники семьи Рубинштейнов, водившие дружбу с семейством Ротшильдов, были не на шутку обеспокоены судьбой молодой барышни, особенно когда увидели эскизы костюмов Бакста, в которых миллионерша намеревалась выступать на сцене.
Беспокойство их было не беспочвенно. Не успев обнажиться в новой постановке на парижской сцене, Ида оказалась в известной лечебнице Левинсона для умалишенных, тоже, кстати, родственника большой семьи Рубинштейнов. Пожалуй, только Софья Горовиц не поверила в сумасшествие Иды. Она сумела вывезти ее из Парижа в Петербург, где быстренько женила на ней своего сына Владимира. Конечно, не бескорыстно, зато Ида наконец избавилась от навязчивой опеки родственников и стала единоличной хозяйкой многомиллионного наследства родителей.
Чтобы успокоиться и войти в образ Саломеи, девушка отправилась ненадолго в Палестину. Ее «Танец семи покрывал», наконец поставленный на сцене петербургской консерватории, просто потряс публику. Получилась экзотическая пляска, наполненная чувственным эротизмом. Демонстрация страстной истомы достигалась тягучим движением прекрасного тела непрофессиональной танцовщицы. К концу танца Ида, снимая с себя последовательно одно покрывало за другим, оставалась лишь с бусами на шее. Но не откровенная нагота и эротизм приводили публику в восторг. Ида была способна достигать эффекта одной только позой или поворотом головы, превращаясь в оживший барельеф Древнего Востока. Такого Петербург еще не видывал. Как всегда, без скандала не обошлось. Голову Иоанна Крестителя, которую Ида держала в руках во время танца, по требованию Синода полиция отобрала. В остальном все прошло блестяще. Пожалуй, недовольным остался только Станиславский. Константин Сергеевич не забывал обиды, и после представления был немногословен и критичен, бросив журналистам: «Бездарно голая!». К счастью, в шуме оваций на его замечание никто просто не обратил внимания. Выставив на всеобщее обозрение свое худое тело, возведенное в превосходную степень своей нарочитостью, она заставила поверить собравшуюся публику, что это и есть красота. Те многие, кто прочили ее таланту только второстепенные роли в скучнейших, как ей тогда казалось, пьесах Горького и Чехова, оказались в меньшинстве. Дерзкий и ослепительный тюльпан, сеющий вокруг себя порок, наконец распустился. Стильное уродство вошло в моду, но и ума и эрудиции у Иды было не отнять. Блеск ее ровных зубов, яркость изысканных костюмов, плавное прикосновение длинных рук к хрустальным бокалам на светских раутах, трепет улыбки на коралловых губах – все это ежедневно находило восторженные отклики в столичной прессе.
Будущий антрепренер «Русских сезонов» в Париже Сергей Дягилев тоже был среди тех, кто воодушевился безукоризненными пропорциями Идиного тела. В программе первых русских сезонов в парижском театре «Шатле» постановка балета «Египетские ночи» под новым названием «Клеопатра» числилась последней. Распределение ролей в ней было делом щекотливым. Фокин решительно убеждал Сержа попробовать Иду и распрощаться наконец с любовницей, пусть и бывшей, Николая II, примой – балериной Кшесинской. «Какая к черту Матильда? – думал хореограф – она старая, ей уже 36, как и самому Дягилеву. Ноги у нее кривоватые и, рост метр пятьдесят два, никто из публики и не заметит в спектакле бедную Клеопатру. Здесь нужна высокая и заметная танцовщица с восточной внешностью и грациозным телом».
Убеждения подействовали. В русском балете прежде не было таких и не было бы, наверное, никогда, если бы не взяли Иду. В Париже с ней можно было добиться чрезвычайного успеха, полагал Фокин. Для француза, как считали искушенные эксперты, главное – «были б ножки хороши», а остальное приложится, к тому же у Иды водились огромные деньги, и не надо было Сержу ломать шапку перед великими князьями и самим царем с извинениями за свою нетрадиционную ориентацию, а заодно и Идино с Бакстом еврейство как не уважающих православную церковь, на что педалировала Кшесинская в льстивых записках к самому императору.
«Черт, это же такая удача – сразу одним ударом избавиться от сумасбродной Матильды да еще возможно и денег нажить!» Дягилев лишний раз утвердился в принятом решении. Париж ожидал приезда ярких звезд Мариинки: великих Павловой, Карсавиной, Нижинского и Фокина. Рубинштейн была представлена в списке последней. «Last but not least» – последняя по счету, но не по существу дела, – полагала Ида. Переработка Фокиным «Египетских ночей» под измененным названием должна была стать мощным трамплином для Бакста и Рубинштейн. Бакст придумал костюмы и декорации в духе Древнего Египта, открывая новую грань своей собственной личности. Никто тогда и не пытался лепить из Иды классическую балерину, но пластика ее тела отличалась чрезвычайной выразительностью, и Фокин ожидал фурора. В парике, обсыпанном голубой пудрой и в полупрозрачном наряде, Ида торжественно предстала перед публикой. Зрителям явилась настоящая богиня и чародейка. Рубинштейн тогда сразу свела Париж с ума, но это был даже не триумф и фурор, ожидаемый Фокиным, нет, это был какой-то всепарижский психоз, поскольку зрителям, пришлось воистину узреть божественное чудо. Первый русский балетный сезон 1909 года был триумфально завершен. Предстояло торжественное возвращение на родину.
В Петербурге газеты шумели о победах «Русских сезонов», но и не только о них. Многие издания пестрели злыми слухами вперемежку с откровенными сплетнями, смакуя особые отношения любвеобильного Дягилева с Нижинским. Также всех интересовала кругленькая сумма, которую якобы получал Дягилев от миллионерши Рубинштейн за каждый ее выход на парижскую сцену. Называли даже сумму в тридцать тысяч франков. Слухи муссировались, полные иронии и насмешки, и распространялись в надуманных подробностях по всем городам России. «Все это вздор!» – возмущался Александр Бенуа, но его тогда никто не хотел слушать.
В предстоящем сезоне 1910 года нужно было закрепить победу русского искусства. Дягилевым был заказан еще один новый балет на восточную тему с декорациями Бакста. Выступления уже планировались в Гранд Опера. Теперь Париж должна была потрясти «Шахерезада». Понятно, кто должен был доминировать на этот раз. По поводу героини сомнений не было. На этот раз в Париже не было не только Кшесинской, но и Павловой. Анна отказалась сама, не желая делить предстоящий успех с Идой, партнером которой, как и в «Клеопатре», был великий Нижинский. Однако даже его танец не мог затмить искусства жестов, которым в совершенстве владела Ида. Сладострастность танцев и поз, царственное великолепие Иды, гармония ее тела просто сразили весь Париж и покорили даже тех, кто никогда не ходил в театр, а видел ее фото только в газетах или анонсах, развешанных на фонарных столбах. «Шахерезада» стала не просто балетом, а эмблемой русских сезонов 1910 года.
Художественную целостность спектаклю придали без сомнения декорации и костюмы Бакста. Лучшие художники мира и модельеры Франции искали случая познакомиться с Идиным Левушкой, который в Париже тоже стал звездой. Известный французский писатель того времени Марсель Пруст, глядя на выступление Иды, сказал: «Ничего не видел прекраснее». Наконец состоялось торжество ее женщины, женщины-вамп, доселе неизвестного никому эротического образа восточной дивы. Теперь изображение ее лица красовалось всюду, даже на конфетных коробках. Моду в Париже стала задавать только Ида. Все что раньше считалось недостатком она возводила в эталон.
Своих парижских тетушек, которые пришли поздравить своенравную племянницу с успехом «Шахерезады», новая звезда даже не пожелала узнать. В Россию танцовщица уже не возвращалась никогда. Она купила себе в Париже дом и ушла от Дягилева, желая стать независимой в своем творчестве. Роли второстепенных мимических актрис ее уже не интересовали, а художественный патронаж русского импрессарио стал в тягость. Впрочем, она и раньше повторяла одно и то же: «Я не могу идти с кем бы то ни было. Я могу идти только одна». Казалось, все ее мечты сбылись, но она уже жила новыми проектами и во многом преуспела. Самые элитные парижские салоны наперебой спешили распахнуть свои двери, называя ее культовой фигурой парижской богемы. Наконец ее известность перестали связывать с именем Дягилева, она стала независимой экстравагантной покровительницей искусства и светской львицей, к тому же продолжала быть актрисой. Она поручила д’Аннунцио, этому невзрачному классику итальянской литературы, написать мистерию в стихах под названием «Мученичество Святого Себастьяна». Музыку Ида заказала Дебюсси, костюмы, конечно, Баксту. В спектакле роль святого играла сама Ида. Это был очередной скандал, как и с «Саломеей» в Петербурге.
Невероятно, но благодаря именно этому скандалу и смелости Иды на нее обратила внимание сама Сара Бернар и признала в этой иудейской распутнице женщину своей породы. Всемирно знаменитая актриса согласилась заняться с Идой театральным искусством, и к тому же бесплатно. Она сразу поверила, что Ида – это редкое явление в искусстве, которому надо помочь всесторонне раскрыться. Их встреча произошла благодаря протекции и покровительству графа Робера де Монтескье, поэта и тонкого эстета, который называл Иду своей музой. В «Идиоте» на подмостках театра Сары Бернар Ида сыграла саму Настасью Филипповну, и теперь Париж погрузился уже в грешное безумие Достоевского. В возрасте 48 лет она создала свою собственную труппу и впервые сама встала на пуанты, чтобы снова выступать в «Гранд Опера».
Но это было еще далеко не все, что ей хотелось создать. Она стала первой русской успешной женщиной-антрепренером на Западе, и ее балеты в «Гранд Опера» в течение нескольких лет встречали переполненные залы. Она сама отбирала репертуар и подыскивала площадки для своих выступлений. Ида бралась за переговоры о гонорарах только с лучшими из лучших: Стравинский и Дебюсси писали для нее музыку, декорации придумывали Бенуа и Бакст, а Фокин и Мясин были ее постоянными балетмейстерами. Главным же хореографом была только Бронислава Нижинская.
Однажды Иде взбрело в голову самой попробовать станцевать что-либо на испанские темы, и она заказала Морису Равелю написать музыку к балету «Болеро». Композитор выполнил ее заказ. Она сама первой исполнила танец на столе в декорациях испанской таверны. Всего-то шестнадцать минут, но каких! Балет стал апогеем ее сезонов и превратится во всемирную классику.
В своем изысканном особняке в Париже неподалеку от Елисейских полей на Пляс дез Этаз Юни 7, в интерьерах, выполненных Бакстом, который тогда разрывался от выгодных заказов в домах Ротшильда в Лондоне и Нью-Йорке, Ида часто устраивала обеды и приемы, приглашая на них не только близких друзей, но и знаменитых Андре Жида, Поля Клоделя, Анатоля Франса и многих других известных писателей, с которыми подолгу вела интеллектуальные беседы. Ее личная библиотека была воистину уникальной. Она хранила как редчайшие российские издания, так и древние фолианты европейской мысли. Ида говорила на восьми языках и могла цитировать по памяти высказывания великих на древнегреческом и латинском. В ее доме был выстроен репетиционный зал с наклонной сценой, как в театре. Даже гардины в столовой были исполнены в пурпуре с золотыми кистями и напоминали театральный занавес. Экзотическая роскошь в доме встречалась всюду. Древнегреческие бюсты, африканские маски и японские статуэтки расставлялись так, чтобы не мешать обширной коллекции живописи, которую много лет собирала не только она сама, но и ее многочисленные тетушки и сестра, также проживающая в Париже. В роскошном саду, утопающем в цветах, вокруг дома разгуливали павлины и пантеры. В жаркую погоду Ида грациозно прохаживалась по своим владениям совершенно обнаженной в золотых сандалиях и украшениях на пальцах рук и ног под охраной пантер и маленького тигренка. Именной такой ее однажды застали ожидающие приема Клод Дебюсси с Бакстом. Из раны на руке божественной Иды, оставленной лапой хищника, сочилась кровь.
Для Иды это было в порядке вещей, поскольку весь смысл ее жизни заключался в искусстве и экзотическом времяпрепровождении. Она объездила весь мир, часто преодолевая значительные расстояния пешком, порой ночуя в простых палатках, охотясь на северных медведей в Норвегии и львов в африканской саванне. Она, как и в молодости, спала мало, ела еще меньше и все время пребывала в движении. В годы двух мировых войн она работала в госпиталях, ухаживая за ранеными и инвалидами, а также помогая несчастным своими деньгами. За ее великое терпение и служение Франции Ида была отмечена высшей наградой республики – «Орденом почетного легиона». В годы фашистской оккупации ей повезло – ее спас ее богатый друг и любовник сэр Уолтер Гиннес, перевезя в Англию. После войны Ида вернулась в Париж, но своего дома уже не нашла. Французы полагали, что она, как ее родственники и родная сестра, сгинули в фашистском гетто, поэтому изрядно обветшавший особняк, в котором орудовали немцы, снесли, и на его месте были построены многоэтажные апартаменты. Дом с дорогими ее сердцу костюмами и фотографиями разграбили, коллекцию живописи вывезли в Германию, но по большому счету ей было жаль лишь своих книг с дарственными надписями великих.
Вскоре Ида переехала на юг Франции в город Ванс на побережье Средиземного моря. После смерти из всего ее богатого наследства в скромном жилище сохранился лишь журнальный столик, сделанный из панциря гигантской черепахи, которую Ида когда-то привезла из дальнего путешествия в подарок поэту д’Аннунцио, но черепаха, объевшись ядовитых тубероз в саду, сдохла, и панцирь пустили в дело. А еще остался небольшой томик стихов Монтескье, когда-то подаренный графом своей музе. Иду похоронили на кладбище в этом городе, где она провела последние пятнадцать лет. Как говорят знатоки и пишут журналисты, на надгробной плите ее могилы значатся только две буквы: «I.R.» и дата смерти: 1960, поскольку свой день рождения Ида никогда не отмечала.
Мне, как и всем, кто еще помнил об этой удивительной женщине, всегда хотелось иметь у себя в доме что-либо напоминающее о ней, ну хотя бы оригинальную фотографию тех времен. Однажды, совсем неожиданно у меня дома раздался телефонный звонок. Звонил отец моего ученика, которому я давала частные уроки французского для подготовки к поступлению в МГУ. Я уже не помнила, кому из них, отцу ли лично или его сыну я неосмотрительно рассказала о своем желании приобрести что-то, имеющее отношение к Иде Рубинштейн. Да это и неважно. Только вот Валерий Геннадьевич, отец моего ученика, человек известный в банковском деловом мире Москвы, видимо, не забыл о моей мечте, и посоветовал мне обратиться в антикварный магазин на Бронной, которым владел его близкий приятель. Как будто у того антиквара появилась редкая фарфоровая статуэтка превосходной работы. Как я поняла, этот антиквар каким-то образом был многим обязан Валерию Геннадьевичу и по его признанию, был бы счастлив, если бы мне понравилась эта вещь, более того, мне была сразу обещана значительная скидка.
Признаться, я была тронута и на следующий же день, как только в моем рабочем графике появилось окно, отправилась в салон ознакомиться с этой вещицей. Раньше мне никогда не приходилось покупать у антикваров, и я редко посещала салоны похожие на тот, который увидела. Магазин был практически пуст, хотя вещи, которые выставлялись на продажу, были восхитительны, и полагаю, что цены немалой. Я сразу почувствовала себя несколько неловко, и успокаивало только то, что я была одета под стать событию и не производила впечатление бедной родственницы успешного банкира. Ко мне подошла обаятельная молодая девушка и, улыбнувшись, поинтересовалась целями моего прихода. Я сообщила, что мне необходимо увидеться с Марком, хозяином салона. Его отчество мне было неизвестно, и я тут же добавила, что пришла по рекомендации Валерия Геннадьевича.
Марк Анатольевич появился так неожиданно, выйдя из какой-то потайной комнаты, что я не заметила, с какой стороны он сумел подойти. Он любезно проводил меня сначала к витрине, где выставлялся предмет, являвшийся целью моего визита, а затем подозвал своего заместителя – полноватую ярко накрашенную женщину средних лет, с которой мы прошли в отдельную комнату, где нам никто бы не мог помешать. Марк Анатольевич обрушил на меня весь поток информации по цене и качеству этой редчайшей вещи, подчеркнув изумительное состояние предмета. Цену он назвал практически сразу и заверил, что мне невероятно повезло, поскольку ему самому ни разу не приходилось в своей работе встречаться с предметами, имеющими какое-либо отношение к Рубинштейн.
Честно говоря, я была готова к высокой, но разумной цене на эту статуэтку размером немного большую, чем средняя, но сумма, озвученная Марком и потонувшая в какофонии профессиональных терминов и восторженных восклицаний, повергла меня в уныние, подломив мою веру в человеческую адекватность. К тому же мысль, что сумма в 35 тысяч евро могла быть каким-то образом услышана моим мужем, не привыкшим измерять предметы домашнего декора ценами на хороший автомобиль, и могла причинить его здоровью непоправимый ущерб, волновала меня в тот момент не меньше. Марк Анатольевич производил впечатление проницательного и деликатного человека и, как я догадалась, из вежливости не подавал вида, что заметил смятение в моих глазах, но не сжалился и, не дожидаясь моей реакции, перешел в атаку:
– Уверяю вас, Элла Андреевна, что цена на эту антикварную жемчужину могла быть значительно выше, знай мы наверняка, что статуэтка изображает именно Рубинштейн. Впрочем, в этом у нас сомнений практически нет, поскольку в те годы, когда эту вещь произвели на свет божий, только Ида могла позволить себе выступать на сцене театров Европы топлесс. Ее имя было на слуху, фигура худая и рост не малый. Сомнений нет, это она, и головной убор достаточно экстравагантный, и цвет волос, и прическа, – все стилизовано под Рубинштейн.
Когда аргументы Марка поиссякли, эстафету приняла его помощница, представленная мне как Роза Эммануиловна. Добродушно улыбнувшись, она попросила называть ее просто Розой.
– Видите ли, Элла Андреевна, скульптор и автор этой модели Рудольф Маркус был необычайно известен в Европе и не стал бы изображать танцовщицу в столь откровенном наряде, не будь она именно Идой. Обратите внимание, что Рубинштейн танцует не в пуантах, а босоногой. Именно так она танцевала в «Гранд Опера» и в «Шатле» во время «Русских сезонов», и исполнение ее знаменитого танца в «Плясках семи покрывал» также осуществлялось босиком. Она и на пуанты встала, когда ей было далеко за сорок. Если вам приходилось читать воспоминания балерины Игнатьевой-Трухановой, вы наверняка легко узнаете в этом образе именно Рубинштейн.
– Конечно, я читала, – ответила я, удивившись разборчивой осведомленности Розы Эммануиловны, так как полагала, что упоминать мемуары Трухановой следовало бы в последнюю очередь, если вопрос касался Иды Рубинштейн, поскольку ненавистью и завистью этой балерины к Иде пропитана каждая строка. Это она, Труханова, позволила себе нелицеприятное определение, которое много лет муссировали нечистоплотные журналисты, сравнивая Иду с великой Павловой, на чье место Ида никогда и не претендовала. Она никогда не была классической балериной и не собиралась ею становиться. Ей хватало быть самой собой, великой женщиной, владевшей в совершенстве искусством жеста.
– Если мне не изменяет память, – обратилась я к Розе, – то в своих мемуарах Труханова написала, что Рубинштейн походила на Павлову так же, как фольга на бриллиант.
– Может быть, и так, я уже не помню, – качнув головой, ответила Роза, – а что, у вас какие-то сомнения по поводу цены, – вернувшись к главному для них вопросу, спросила она.
Теперь она смотрела на меня немного раздраженно.
– Имейте в виду, дорогая, – мы Валерию Геннадьевичу, а он для нас не случайный человек, предложили 30-процентную скидку и подтверждаем свои намерения. Вам это обойдется менее, чем 25 тысяч евро. Согласитесь, цена более чем умеренная.
В глазах Розы сверкнула надежда. То, о чем я подумала в тот момент, пусть останется на моей грешной душе. Двадцать пять тысяч? Я бы и две с половиной никогда не потянула. Что я могла себе позволить потратить, потеряв рассудок? Ну максимум одну тысячу. А тут мне приходилось играть роль дамы, для которой выложить двадцать пять тысяч евро было делом привычным и пустяковым.
– Я бы с удовольствием, к тому же давно мечтаю иметь у себя что-либо подобное, – выдавила я с превеликим трудом и горя желанием поскорее пуститься в бегство. Я затравленно посмотрела на свой портфель, лежавший в обтянутом гобеленом старинном кресле.
– Так в чем же проблема? – натянуто улыбаясь, перебила меня Роза.
– У нас есть все документы, подтверждающие подлинность этого изделия. Произведено фабрикой Розенталя во времена довоенной Германии, – сделал еще одну попытку сломить меня Марк Анатольевич.
– Сомнения именно в босых ногах Иды, – сказала я сдавленным голосом и почувствовала на себе тяжелый взгляд Марка.
– А что такое, – удивилась Роза.
– Дело в том, – сказала я, – что ноги Иды восхищали не только великого д’ Аннунцио, но и нашего Льва Бакста. Ида имела высокий рост и большой размер ступни, причем особенно длинными были второй и третий пальцы, что позволяло ей с легкостью нанизывать на них кольца с крупными камнями, которые она не снимала даже гуляя у себя в саду вокруг дома.
– И где же об этом написано? – не скрывая иронии, поинтересовалась возбужденная Роза.
– Особенно никто до сих пор на этом внимания не акцентировал, но догадаться нетрудно, – сказала я.
– И на чем же строятся ваши предположения? – удивился Марк Анатольевич.
– А вот на чем. Гладя на картину Серова, где Ида возлежит обнаженная, унизанная драгоценными камнями на руках и на ногах, об этой особенности строения ее ног можно только догадываться. На картинах ее любовницы Ромейн Брукс, которая любила изображать Иду обнаженной, только что-то вырисовывается. А вот у Бакста все прописано достаточно четко. Он был очень точен в деталях, и по просьбе д’Aннунцио тщательно прорисовал пальцы ее ног, когда работал в 1911 году над акварельным эскизом костюма Иды к «Мученичеству Святого Себастьяна».
– А где эта картина находится, кажется, в Лондоне? – задал мне вопрос Марк.
– Возможно, но, по всей видимости, она в частной коллекции.
Марк Анатольевич вздохнул. Он осторожно, даже где-то заговорщически прикоснулся к моей руке и тихо сказал:
– Ну мы же не будем это афишировать, верно?
Он хитро улыбнулся и обратился к Розе:
– Я отойду на часок-другой отобедать, дорогая, а ты удели нашей гостье внимание, может ее заинтересует еще что-нибудь.
Я не спешила возвращаться на работу, у меня было «окно» до трех, и горячий кофе с конфетами «Осенний вальс» был предложен мне кстати. Роза была заинтересована моим рассказом, и ей непременно хотелось продолжить разговор. Для легкости в общении я предложила ей называть себя просто Эллой, но она то ли из уважения, то ли по какой-то другой причине обращалась ко мне подчеркнуто по имени-отчеству.
– Вы заметили эту особенность пальцев ее ступней только на этом эскизе? – спросила Роза, наливая мне кофе в невесомую чашечку фирмы «Гарднеръ»,
– Совсем нет! Просто в 1911 году он прописал ее ступни особенно тщательно, желая угодить д’Аннунцио. Но впервые он акцентировал на этом внимание в 1908 году в эскизе к Идиному костюму к «Танцу семи покрывал». Замечательный и очень красивый эскиз, но, к сожалению, пальцы прописаны нечетко. Однако при желании можно легко заметить, что самым большим по длине был не первый, не второй, а именно третий палец. Такое строение встречается нечасто.
Роза слушала меня внимательно, так ни разу не прикоснувшись к своей чашке с остывающим кофе.
– Кстати, – добавила я, – эта красивая акварель Бакста пришлась по нраву не только д’Aннунцио. Ее по достоинству оценил Серов и даже Луначарский, который в то время находился в Париже. А Бенуа пробовал организовать выставку работ Бакста.
– Как же вы много знаете! В чем причина вашего внимания именно к этой экстравагантной даме? – спросила Роза и наконец потянулась к чашке.
– Да уж так получилось. Хотела подработать в одном журнале, предложили тему. Интернет только набирал обороты. Приходилось искать материалы в иностранных изданиях, много читать и не только о ней. Например д’Аннунцио. Он слыл большим любителем женщин, я бы сказала, ловеласом европейского масштаба, имел особую способность влиять на женское сознание и не знал у них отказа. По своей харизме был очень похож на нашего Пушкина. Как и наш гений он вел подробный список своих побед. В его своеобразной картотеке насчитывалось несколько тысяч жриц любви! Кстати, д’Aннунцио считал Иду «Сивиллой, прислушивающейся к Богу внутри себя». Он вообще воображал ее существом неземным и поначалу обращался к ней как к брату.
– Странно…
– Да нет. Вы, наверное, не знаете, что Ида была активной лесбиянкой, и еще в России у нее с этим были проблемы. Айседора Дункан, которую Ида по ошибке приняла «за свою», брезгливо отказалась ей давать уроки несмотря на хорошие деньги.
– Да что вы? Ужас! – воскликнула Роза в изумлении.
Она взяла сигарету и помяла ее в коротких пальцах. Я обратила внимание на изрядно облупившийся лак на желтоватых ногтях. Уловив в моем взгляде вопрос, она покачала головой и сказала:
– Извините, здесь курить нельзя, – и убрала сигарету обратно в пачку.
Немного помолчав, Роза сказала:
– Вы знаете, меня все время не покидает мысль, что у нас в хранилище что-то было, имеющее отношение к этому д’Aннунцио, но что, не могу вспомнить. Подождите минутку, я сейчас.
Она стремительно встала, неловко задев пухлым коленом за угол журнального столика, отчего кофе в чашке колыхнулся и выплеснулся в блюдце. Кивнула головой охраннику и скрылась за неприметной дверью.
– Я была права, – послышался ее радостный голос. – У нас есть фотопортрет этого итальянца. Хотите посмотреть?
– Особого желания не имею, – как можно деликатней ответила я на ее предложение.
– Почему? – с удивлением спросила Роза, держа в руках большой черно-белый портрет, наклеенным на толстый картон.
– Я терпеть его не могу, – сказала я виновато. – Мне неприятны его рыбьи глаза, холодные, как смерть.
– Глаза как глаза, – пожала плечами Роза, разглядывая фото, и, перевернув его, воскликнула, – кстати, а здесь сзади надпись: «Ленин называл его единственным революционером в Италии».
Я не могла не улыбнуться в ответ на наивный текст, так поразивший сотрудницу антикварного салона.
– Не знаю ничего о его революционной деятельности, но то, что он был многолик и даровит – это факт. Даже Муссолини заимствовал у него диктаторский имидж и фашистское приветствие. Как все фанатики он был душевнобольным. Простите Роза, а это у вас единственная фотография?
– Да, к сожалению, – кивнула она и, как бы оправдываясь, добавила: – Может, он, лысый и низкорослый, не любил фотографироваться?
– Это был особый тип человека, – ответила я. – Он любил фотографироваться. Страшный позер, особенно любил запечатлевать себя в абсолютно обнаженном виде в чересчур откровенных позах, как женщины в порно журналах. Тогда это шокировало всех, но он именно к этому и стремился. Как это ни странно, его крошечное тело возбуждало многих известных дам. Его внимания добивались многие богемные красавицы. Одна из его любовниц, все та же Брукс, писала, что одна только мысль о его наготе питала ее творческие силы.
– А что питало его творческие силы? – спросила Роза с любопытством.
– Д’Аннунцио сам признавался, что с детства замечал за собой одну странность. Он возбуждался всякий раз, как только видел портрет Святого Себастьяна с кровоточащими ранами на ногах. Он называл это чувство «священным трепетом». Однажды в Париже в театре «Шатле» он увидел босоногую русскую диву. Ее ноги настолько его взволновали, что он понял, что наконец-то увидел ноги святого Себастьяна, которые бередили его воображение долгие годы.
– А что это за святой? Не припомню такого.
– Святого Себастьяна? – переспросила я. Его житие не имеет исторической основы. Как будто бы он был префектом претория при императоре Диоклетиане, но тайно уверовал в христианские идеалы и стал вдруг исцелять больных одним крестным знамением. Император приказал вывезти его из Рима и, приковав к дереву, пронзить стрелами. Белиберда, конечно, тем более, что Диоклетиан известен тем, что пожелал сам без принуждения покинуть свой высокий пост и уединился у себя в имении. На все последующие приглашения вернуться во власть он отвечал: «Если бы вы только видели, какая у меня уродилась капуста, вам бы и в голову не пришла подобная мысль.»
– Согласна, но почему он? – прервала меня Роза. – Мучеников, осужденных на смерть за веру предостаточно, но почему д’Аннунцио выбрал именно Себастьяна?
– Этот образ в искусстве, особенно в изобразительном, стоит особняком. Тициан, Рубенс, Караваджо, Ботичелли и так далее – все они удостоили этого мученика своим вниманием. Д‘Аннунцио, как все итальянцы, был человеком глубоко верующим и уже с детства восторгался его изображением, посещая музеи Италии. Он сам любил играть в юного мученика, привязывая себя к дереву. Как верующий, да еще извращенец он жаждал достичь для себя сильнейшего сладострастного возбуждения, а для этого хотел смешать в своем творчестве религиозный экстаз, физическую боль и телесную хрупкость. Лучшего образа для этого было просто не найти. Д’Аннунцио долго искал музу для воплощения своих идей у себя в Италии, но в 1909 году вынужден был податься в бега от своих назойливых кредиторов и оказался в Париже. Тогда знакомство с художницей Ромейн Брукс было для него спасением. Она – высокая и худая – ходила неизменно в мужском костюме, коротко постриженная, желая сделать свою сексуальность видимой другими, и будучи по сути бисексуальной, практиковала случайные связи. Брукс писала свои картины все больше в стиле «ню», была богата, неожиданно унаследовав от деда большое состояние. Все совпало. Он – с внешностью крысенка, маленький, лысый и вонючий, как ни странно именно это она искала для страстного романа. Опять же ее андрогинная внешность – то что он искал для своих творческих планов. Весь год они томились вожделением, любуясь друг другом. При том, что они не расставались, художница постоянно писала ему письма, признаваясь в том, что сходит с ума по его обнаженному телу. И только сама мысль о его наготе приводила ее в экстаз. На следующий год, когда на подмостках Парижа блистал русский балет, д’Аннунцио поддался искушению увидеть русскую диву в театре «Шатле» в «Клеопатре» и ощутил шок, когда увидел босоногую Иду. Он был подавлен и влюблен одновременно и искал случая быть ей представленным. Случай вскоре действительно подвернулся. Его возлюбленная Брукс организовала в престижной галерее «Дюран Рюэль» выставку своих картин, где в любимых серых тонах представила на суд французов свои изображения обнаженных женщин и имела немалый успех. На выставке оказалась и Ида. Она была восхищена не столько творчеством художницы, сколько ею самой, для Брукс же хрупкая и гермофродитная красота Иды была эстетическим идеалом. Ида впервые в своей жизни влюбилась и настолько потеряла голову, что предложила Ромейн бросить все, купить виллу вдали от Парижа, где они могли бы жить вдвоем, но художница запротестовала. Ей нужен был еще и д’Aннунцио. У Габриэле впервые появился шанс подобраться к телу Рубинштейн. Ему тогда исполнилось сорок семь лет, Брукс была моложе его почти на десять, а вот Иде шел только двадцать шестой год. «А почему бы и нет», – согласилась Ида. К тому же д’Аннунцио сразу очаровал ее, а его навязчивая идея написать в стихах мистерию «Мученичество Святого Себастьяна», где ей предлагалось сыграть главную роль, попала точно в цель. От его планов разило грехом, и в предвкушении очередного скандала Ида ощутила себя на седьмом небе. Д’Aннунцио тогда несколько перестарался не только в своих чувствах и близости к телу Рубинштейн, но и в творчестве, затянув свое произведение на целых пять часов. В парижском театре «Шатле», именно там, где Ида начала свою триумфальную карьеру, она повергла в шок утомленную затянутым сюжетом публику своим театральным дарованием. Если д’Aннунцио за надругательство над святым был отлучен от церкви, то еврейка Ида была в полном фаворе. Их тройственный союз длился целых четыре года, пока Ида не повстречала на своем пути свою вторую серьезную любовь. На сей раз, возможно благодаря мужским умениям д’Aннунцио, она наконец воспылала сокровенными чувствами к мужчине. Им был богатейший человек Англии, пивной магнат, лорд и меценат сэр Уолтер Гиннесс. Он был женат, но сердцем был предан только ей, и прожил вместе с ней долгих тридцать лет. Он стал смыслом ее жизни, полностью соответствуя ее представлениям о мужском достоинстве и уме.
Мы помолчали. Вспомнив о цели моего визита, Роза улыбнулась и скорее из обязательств перед шефом, чем от желания увеличить дневную выручку, спросила:
– Ну так все же, Элла Андреевна, если не статуэтку, то, может быть, возьмете портрет поэта?
– Ни в коем случае, Роза. Как можно, маргинальная личность. Мерзкий тип, помешанный на крови, – я не смогла скрыть брезгливости, отразившейся на моем лице.
– Ну что ж, ваше право. И все-таки, согласитесь, Элла Андреевна, разве Ида – это не сумасшедшая волчица, всякий раз жаждущая эпатажа?
– Да конечно нет! Просто она искала свое решение неправильного уравнения любви, ну а любовь и есть самая восхитительная форма безумия. Она и умерла достойно, замаливая грехи вдали от людской суеты.
– Вы были у нее на могиле? – спросила Роза.
– Я не была в Ницце. В Париже – много раз, а в Ницце не посчастливилось.
Своего сожаления я не скрывала.
– Как? – удивилась Роза. – Валерий Геннадьевич так вас ценит и не приглашал к себе не виллу? В такой город, особенно для вас! Сколько совпадений! Там Дункан погибла ужасной смертью, вы говорили, что и Ромейн Брукс сошла с ума и умерла там же. Выходит, и Ида отошла в иной мир где-то там. Мистическое место…
– Выходит, у Валерия Геннадьевича есть недвижимость на Лазурном берегу?
– Вроде да., – Роза ответила уже почти заговорщическим тоном. – Во всяком случае он доверительно сообщал об этом Марку, поскольку искал пути перевозки туда мебели и картин. У Марка на этот счет большие связи и возможности. Только уж вы меня не выдавайте.
Услышав бой старинных часов на стене и взглянув на массивный золоченый циферблат, я с ужасом обнаружила, что безнадежно опаздываю и взяла с кресла портфель.
На прощание Роза выразила сожаление, что мне не довелось побывать на могиле Рубинштейн и увидеть на плите ее инициалы «IR».
– Поймите, я совсем не в тех отношениях с банкиром, чтобы принимать от него такие дорогие подарки и обременять его своим присутствием. К тому же у меня дети и муж, – добавила я.
– Как вы прозаичны, милая, – хохотнула Роза, – а я грешным делом подумала: какая интересная женщина, даже чем-то похожа на Иду, вот ведь совпадение, просто женская красота сегодняшнего дня.
Я не нашлась, что ответить, да и откровенничать по любому поводу с кем бы то ни было не в моем характере. Поблагодарив собеседницу и радуясь в душе, что не увидела Марка еще раз, я покинула галерею.
Элла Беляева
Отложив, наконец, журнал в сторону, я поднялся с дивана, чтобы покормить собаку и, не мешкая, отправиться на вечернюю прогулку по берегу залива.
Анна Ахматова. Эскиз А. Модильяни
На следующий день Элла Андреевна снова разбудила нас ранним звонком. Я никогда не был в Вансе и не тешил себя надеждой отыскать на местном кладбище могильную плиту с инициалами IR, поскольку Борис Носик, знаток русской истории на Французской Ривьере в одной из своих книг, посвященных окрестностям Ниццы, признавался, что долго искал могилу божественной Иды на кладбище в Вансе, но увы, не нашел. Однако Элла Андреевна упорно призывала меня вести поиски не там, а в Сен-Поль-де-Вансе, который располагался в нескольких километрах от Ванса и на кладбище, где покоился художник Шагал. Я не без раздражения в сотый раз ссылался на Носика, убеждавшего читателей, что Ида захоронена именно в Вансе.
– Ну что вы, Денис, тычете мне в нос этой книжонкой. Носик, похоже, не смотрел фильм «Играем Иду Рубинштейн». Там несравненная Илзе Лиепа играет Иду, да так, словно та оживает, а голос, что звучит за кадром – самого Максима Суханова. Он ясно говорит в конце фильма, что Ида захоронена именно в Сен-Поль-де-Вансе, и на ее могильной плите выбиты буквы IR.
Эскиз к мистерии «Мученичество святого Себастьяна». Л. Бакст
В конце концов для после долгих препираний было решено начать с Ванса, а потом уже поехать в Сен-Поль, но только без собаки, чтобы не отвлекал внимание, и для удобства воспользоваться местным автобусом, а мою машину оставить в Ницце.
Старинный и тихий Ванс встретил нас ярким солнцем и утренней свежестью горного воздуха. Мы обошли все ближние и дальние уголки кладбища и, казалось, уже окончательно потеряли надежду после трех часов бесплодных поисков. Оставалось только взять такси и переехать в Сен-Поль, но Элла Андреевна, находясь в состоянии какого-то нервного возбуждения, словно искала могилу близкого себе человека, отчаянию не предавалась и с завидным упрямством и какой-то милой навязчивостью обращалась к пожилым жителям этого городка, пытаясь выведать нужные сведения. Наконец одна из старушек, что мы встретили на цветочном базаре, посоветовала нам обратиться в туристическое агентство, которое находилось возле автостоянки. Элла Андреевна направилась туда с такой скоростью, что я еле за ней поспевал. Распахнув дверь агентства, мы увидели за стойкой рыжего долговязого парня, болтающего по телефону. Наше стремительное появление явно озадачило его и, даже не попрощавшись с собеседником, он прекратил разговор и обратился к нам с искренней учтивостью. Узнав, что нам нужно, он заверил, что сможет нам помочь. Перебрав несколько затертых толстых тетрадей, что стояли на полке, он нашел пометки, относящиеся к предмету наших поисков. Радостно улыбаясь и с удовлетворением наблюдая наше восторженное удивление, он назвал нам точное место захоронения: участок в квадрате 16, могила 5. На прощание он подарил нам карту городка, на обороте которой пометил место захоронения.
К кладбищу Элла Андреевна почти бежала, и я с необычной для себя радостью наблюдал за худенькой прямой спиной, сам как будто возвращаясь в детство и представляя себя участником увлекательной игры.
Могила Иды Рубинштейн
Серая, почти провалившаяся замшелая плита на могиле не хранила на себе ожидаемые латинские буквы, прописанные в завещании Иды. Значилось полное имя знаменитой русской дивы, не оставляя никаких сомнений, что это именно то, ради чего мы прибыли сюда. Еще на плите был выбит католический крест и стояла дата: 1960.
Улыбка засветилась на лице Эллы Андреевны, и она судорожно захлопала в ладоши.
– Это наша Ида. Она приняла католичество, замаливая здесь грехи.
Я разделял ее радость, с трудом сдерживая ликующую улыбку. В тот день нам явно повезло, и груз моральных обязательств свалился с моих плеч. Успокоившись, умиротворенная Элла Андреевна переключила свое внимание с могильных плит на уникальную природу здешних мест. Я наблюдал, как аромат пряных трав средиземноморья буквально пьянил ее сознание, а виды зеленых цветущих долин, поросших апельсиновыми деревьями, приводили ее в состояние эйфории. Чудная панорама окрестных холмов и виноградников вызывала в ней неподдельный восторг.
Как будто очнувшись, она спросила:
– Денис, а почему вы не вывозите сюда из Москвы на время холодов своих стариков? Это же преступление.
– Проблема не во мне! Если моему отцу не удалось это сделать, то куда уж мне. Бабушка у нас тот еще оригинал. Убеждена в том, что Ницца – это бесовское место. Это все Булгаков. Тут еще безвременная и нелепая смерть родителей окончательно убедили ее, что отец приобрел здесь виллу на свою голову.
Элла Андреевна задумчиво молчала и вдруг, как будто что-то вспомнив, сказала:
– На первый взгляд действительно глупо, но возможно, она недалека от истины.
– Как? – я остановился и посмотрел на свою гостью совсем другими глазами. – И вы тоже заговорили об истине?
– Послушайте, Денис, не кипятитесь. Вы, похоже, забыли, что когда в 1850 году Герцена за его политические взгляды и бунтарский дух выслали из Франции, он перебрался в итальянский Пьемонт, избрав Ниццу в качестве временного прибежища, и поселился на Променад Дез Англе. Именно в это время в Москве зверски убили Луизу. Положим, это всего лишь простое совпадение, однако Герцен почему-то сразу по прибытии на Лазурный берег принялся чертить у дверей своего дома различные пентаграммы, желая огородить себя от злых духов, будто чего-то или кого-то боялся.
– Пентаграмма, – сказал я, – это всего лишь правильная пятиконечная звезда. Ее чертили на дверях своих жилищ язычники и иудеи еще с давних времен в качестве защитного символа, чтобы уберечь себя от проделок демонов и черной магии. Но зачем ему, убежденному материалисту, чертить на своем доме элементы ритуальной магии?
– Он потом сам признался в своей книге «Былое и думы», что пентаграммы, может быть, и защищают от нечистых духов, но не от нечистых людей – против них они бессильны. Действительно, через год здесь в море утонули его мать и сын, а затем через несколько месяцев при родах умерли его жена и новорожденный сын.
– Дорогая Элла Андреевна, если верить во всю эту чушь, можно сойти с ума. В дневниках отца содержится много подобных примеров, от которых жутко становится.
– А где его дневники? В Москве?
– Почему? Он все предусмотрительно перевез сюда. Я потратил несколько лет, чтобы попробовать разобраться во всем, что он припер из Москвы, заполнив кабинет и библиотеку.
– Наверное, некоторые его друзья и партнеры по бизнесу тоже поселились где-то поблизости?
– Совсем нет, – возразил я. – Почти все приобрели недвижимость в испанской Марбелье. Жизнь в этом городке несравнимо дешевле, но отцу там показалось скучно.
– Очень бы хотелось взглянуть на его кабинет, если вы, конечно, разрешите.
– Пожалуйста, но у вас остался всего лишь один день. Я думал, вам будет гораздо интересней побывать на кладбищах Рокбрюна и Ментоны, а также на русском кладбище в Ницце вместо того, чтобы копаться в отцовских бумагах.
– Значит, когда-нибудь я снова сюда приеду. Если ничего не случится, жизнь вон какая непредсказуемая.
– Отец тоже любил так говорить. Впрочем, смотрите сами.
Элла Андреевна предложила отправиться в обратный путь, снова отказавшись от ужина. «Хочет снова поскорее вернуться в отель», – заключил я. Я заметил, что она успела завести интересные знакомства среди отдыхающих. В номере у нее появились журналы на французском, которых мы в городе не покупали, а приобретать их втридорога в самом отеле она никогда бы не решилась, да и мне бы не позволила.
Выпив по чашке кофе на автобусной станции, мы отправились в путь. Солнце садилось, заливая и без того фантастические пейзажи розоватым светом.
Даже в эти первые весенние погожие дни постояльцы отеля, коих было не так уж много, после обеда предпочитали собираться возле бассейна или, если не было ветра, спускаться к морю, чтобы совершать неспешные прогулки и принимать солнечные ванны, любуясь вечерним закатом. Элла Андреевна следовала их примеру, при этом легко общалась с людьми своего возраста, переходя с беглого английского на любимый ею французский и очаровывая собеседников русской благожелательностью. Мое присутствие и лишняя опека могли только помешать ей раскрепоститься.
На следующий день, совершив короткую ознакомительную экскурсию по Монако и пообедав в «Отель де Пари», я все-таки решил завезти ее в дом своего отца и, приготовив кофе, позволил Элле Андреевне покопаться в его бумагах и книгах. По тому как и с каким интересом она рассматривала его кабинет и библиотеку, я чувствовал, что ей было небезразлично все, что касалось отца. Я хотел бы, чтобы она обязательно попросила что-либо на память о нем, как это делали и не раз его друзья, посещая этот дом, но она на это, видимо, не решилась.
К вечеру, когда мы с Мартином по обыкновению отправлялись ужинать в старую Ниццу, Элла Андреевна наконец вышла из кабинета расстроенная и грустная, и тихим голосом попросила отвезти ее в отель. На мой немой вопрос, застывший во взгляде, она как будто прочитав мои мысли, ответила:
– Нет-нет, Денис, мне ничего не нужно.
Мы быстро собрались, оставалось только набросить шлейку на Мартина, который все время сидел у двери и нетерпеливо перебирал передними лапами, как только перехватывал мой понимающий взгляд. Элла Андреевна в доме была в своей серой водолазке с высоким воротом, которую часто поправляла, дотягиваясь до книг на полках, будто боялась, что я увижу ее живот. Теперь она не спеша надела свой голубой двубортный пиджак, застегнув все золоченые пуговицы, и смотрела, как я, сидя на корточках, готовлю собаку к выходу, расчесывая его чуб. Повернувшись ко мне спиной и глядя в широкое балконное окно, она вдруг обратилась ко мне с вопросом:
– А вы сюда кого-нибудь из ваших французских друзей приглашаете?
– Из друзей? – переспросил я, не скрывая удивления. – Будь у меня характер получше, я бы мог завести друзей, а так… – я развел руками, – так одни увлечения, а для этого незачем звать их непременно к себе в дом, тем более, что здесь такое не принято.
– Жаль, – сокрушалась она, – очень даже жаль. У вас красивый дом и богато обставлен. Уютно, как в хорошем отеле, – видимо, намекая на «Орламонд». – А какой вид на залив, это просто какое-то чудо, – ее звонкий голос почти переходил на фальцет. – Я понимаю вашего отца, почему он рвался именно сюда. Это сущий рай!
– Вот видите, – я поднялся с колен и подошел поближе к своей гостье, – выходит, вы понимаете моего отца, но я лишь на пути к пониманию, поскольку это не дом нашей семьи, это был только его дом. Здесь даже не было комнат, предназначенных для мамы и меня. Несколько гостевых здесь правда есть, но они с тех пор пустуют. Я здесь ничего не изменил, все осталось, как прежде. При всей кажущейся гармонии здесь по-прежнему царит любимый им хаос. Много красивых и, наверное, дорогих вещей, но приобретены они были им лично с определенным смыслом, даже старый, пожелтевший календарь 1999 года, что висит на двери в кабинет, несомненно несет некую смысловую нагрузку. Какую? Пока понять не могу. Просто паноптикум какой-то получается.
Элла Андреевна внимательно слушала меня.
– Конечно, причину приобретения некоторых вещей определить было нетрудно. Например, эти две работы Пиранези в старинных рамках. Я знаю, где и зачем он их покупал. Но зачем ему понадобились работы лепщика по бронзе со странной фамилией Напс, – я указал Элле Андреевне на большой оригинальный бронзовый подсвечник, за которым он охотился несколько лет. – А вот этот потрескавшийся от времени письменный стол? Он как будто был доставлен сюда прямиком из кабинета самого Александра Дюма-сына. Зачем?
– Может, чтобы напоминать о Нарышкиной, – ответила мне Элла Андреевна.
Я оставил ее предположение без комментария.
– Все антикварные книги в его библиотеке находятся в отличном состоянии, все в кожаных переплетах работы тех времен. Ни одного новодела. Порой он доводил себя до исступления в поисках редких изданий. Даже бабушка беспокоилась, не потерял ли ее сын рассудок. Его последнее приобретение – вот эта «Военная энциклопедия» издательства Сытина 1911 года. Он заплатил за нее 60 тысяч евро, купил ее здесь, как говорят, из личного собрания самого Дмитрия Мережковского. Отец даже поначалу не успел найти этим книгам места на полках и держал все 18 томов на углу как раз этого письменного стола, часами, как завороженный, любуясь их золочеными переплетами. Я тоже не убираю их в шкаф.
– В библиотеке я видела большую картину, написанную маслом. Это, насколько я понимаю, Ромейн Брукс, может, даже ее же оригинальная копия.
– Что вы, – успокоил я гостью, – Брукс не писала копий на заказ. Она была состоятельной дамой, и деньги ее просто не интересовали. Отец разделял ее эстетические идеалы и был убежден, что гермафродитная красота Рубинштейн прописана у нее гораздо выразительнее, чем даже у самого Серова. Отец заказал изготовить копию кому-то из известных наших художников, может, Сафронову, и тот сумел сохранить серые тона, только сделал их еще прозрачнее, обнажив тело Иды до предела.
– Денис, – произнесла Элла Андреевна, стоя ко мне вполоборота, – ваш отец был большой оригинал. Вы никогда не замечали за ним что-то …
– Что-то дьявольское? – подсказал я.
– Я не это хотела сказать. Расскажите мне о нем.
– Нечего рассказывать, – сказал я. – Он был странным, порою скучным и не всегда понятным, что называется «себе на уме». Впрочем, однажды я заметил его за довольно странным, как мне показалось, занятием.
Элла Андреевна заметно оживилась и, развернувшись, подошла ко мне ближе, с любопытством заглядывая в глаза.
– Это было вот здесь, в холле. Видите эту большую гравюру Пиранези? Она называется «Иконография». Как-то отец говорил мне, что эта «вещь» как живая икона для язычника: завораживает настолько, что кажется, перемещаешься в пространстве и времени.
– И что же? – нетерпеливо прошептала Элла Андреевна, словно боялась кого-то разбудить.
– Так вот, он сидел неподвижно в этом кресле и, должно быть, не слышал, как я спустился из спальни вниз и встал у него за спиной. Отец отрешенно смотрел на гравюру и держал в левой руке монету. Это был простой римский сестерций второго века. Пальцами он все время переворачивал её, ласково поглаживая то аверс, то реверс, словно этот кусок цветного металла был живым предметом его обожания, и осязал лик императрицы, изображенной на нём. Мне стало не по себе, будто я застал его голым в интимной обстановке. Отец время от времени подносил монету к кончику носа, будто принюхивался, но монета выпала у него из руки, и он, наклонившись, увидел меня и вздрогнул. Я вечно ему только мешал. Он попытался скрыть свое недовольство. Я ни о чем его не спрашивал. Он сам сказал, что был ТАМ, в том мире, словно у себя дома. Я не удержался и спросил: «А можно мне тоже»? «Сначала надо быть уверенным, что ты там нужен, – сказал он сурово и добавил: Стремление к истине – это процесс познания самого себя. Мы до сих пор не знаем, на что способен наш мозг». С тех пор я следую его примеру и таскаю в кармане одну большую монету, конечно, не древний сестерций, но, думаю, что не хуже, из серии «Русский балет» с номинальным достоинством в сто советских рублей. Монета золотая, а главное – редкая, хоть и далеко не самой высокой пробы, и отпечатана относительно недавно. Тру пальцами по рельефу танцующей балерины, что выбита на реверсе, да чувствую, что все это – напрасный труд. Никто ко мне не являлся ни во сне, ни наяву.
Элла Андреевна подошла вплотную к гравюре.
– Она оригинальная?
– Наверное, – ответил я. – Бумага «Верже» конца восемнадцатого века с водяными знаками, печаталась во Франции.
– И всё-то вы знаете, – хитро улыбнулась Элла Андреевна. – Ну, допустим портрет Путина в римском облачении – это понятно, чья-то умелая стилизация, – сказала она с улыбкой, глядя на следующую рамку.
– Совсем нет, это вовсе не Путин. Это Юлий Цезарь! Я сам сделал это фото в залах Ватикана. Просто ракурс оказался довольно забавным. Отцу понравилось настолько, что он оформил это удачное фото под портрет.
Юлий Цезарь
Схожесть образов заставила Эллу Андреевну ещё раз изумлённо покачать головой.
– Что вы на меня так смотрите? – спросил я. – Вы же сами писали в журнале, будто Платон утверждал, что бог действует геометрически, когда посылает нам свои знаки. Это ли не знак вселенской геометрии?
Она еще раз взглянула на Цезаря и призадумалась, несколько потупив взор.
– А вот эти две яркие картины, так не характерные для вкуса вашего отца, – что они здесь делают, – осторожно спросила она.
– Это эротические фантазии на тему Мерилин Монро, так сказать, современная реализация пин-апа. Вот эта, – я указал на сидящую на старом чемодане Мерилин, – это известный испанский художник Карлос Диез, с которым отец состоял в переписке, а вот та – уже японца Наджима Сораямы. Отец за ней сам летал в Штаты. А вот что они здесь делают? Признаться, я и сам не понимал отца до поры до времени, и, кажется, понял только вчера вечером, когда прочел ваше чудесное журнальное эссе про Иду.
– Не может быть! – выразительные глаза Эллы Андреевны стали излучать радость и изумление одновременно.
– Вы, наверное, заметили, когда были в библиотеке, один небольшой рисунок в простенькой рамочке. Это акварель самого Льва Бакста. Недешевое приобретение. Отец привез его сюда тоже из Америки. Так вот, вам самой как знатоку творчества Бакста эта вот картина Сораямы ничего не напоминает?
Элла Андреевна подошла ближе, словно хотела заглянуть в полуоткрытые глаза Мерилин.
– Простите, но когда я вижу такую Монро… – она неодобрительно качнула головой и поджала губы.
– Да забудьте вы на минутку о Мерилин и представьте, что это другой человек. Ну? – мое нетерпение, казалось, было на пределе.
Элла Андреевна задумалась и долго пребывала в возбужденном замешательстве, как будто вот-вот что-то вспомнит.
– Это же знаменитый портрет Зинаиды Гиппиус, – наконец разродилась она. – Тот же ракурс. Во всяком случае, ее фривольная поза, предельно вытянутая левая нога и руки тоже в том же положении. Если бы Бакст написал Гиппиус, обутой в туфлях на высоких каблуках, получилось бы, как говорят сейчас, «один в один».
– Совершенно верно! – обрадовался я. – Да, но и цель, поставленная японцем, была, похоже, заимствована у Бакста. Он так же пытался скорректировать фигуру Мерилин, удлинив ей ноги и заузив щиколотки. Результат получился, как у Бакста, просто ошеломительным. Жаль, что Мерилин не может видеть этот портрет. Она, должно быть, представляла себя именно такой.
– Откуда вы, Денис, знаете, какой она себя представляла, стоя у зеркала?
– А вы посмотрите на эти две картины еще раз. Видимо, отец не зря повесил их вместе – так легко сравнивать. На картине Карлоса Диеза Мерилин изображена такой непосредственной, какой была в жизни, веселой и обворожительной со всеми своими многочисленными достоинствами и недостатками. Карлос как будто специально хочет, чтобы мы заметили ее недостатки. Предположим, что это лишь только ноги. Они, конечно, были хорошими, но для Мерилин этого было мало – она хотела совершенства. Совершенство достигается только в фантазиях художника, и его достиг Сораяма. Джин Кармен рассказывала моему отцу, что Мерилин всегда была не уверена в красоте своих ног. Однажды незадолго до своей смерти с ней случилась истерика, когда она узнала о намерении Френка Синатры жениться на одной молоденькой танцовщице, которая по возрасту, конечно, была не то, что она, но что было гораздо хуже – это то, что у той были красивые ноги. Это признавала даже неподражаемая Ава Гарднер, серьезно считавшая, что и ее ноги тоже далеки от совершенства. Зацикленная на той же проблеме, она вместе с Мерилин перемерила сотни пар обуви на высоком каблуке и пришла к выводу, что их ноги слишком короткие и жирные. Известный фотограф той поры Милтон Грин, большой друг Монро, прославившийся своими работами для журнала «Life», особенно черно-белыми фотографиями с ногами Марлен Дитрих, попробовал повторить свой успех и с ногами Мерилин Монро. Он задумал провести похожую черно-белую фотосессию под названием «Сидящая в черном». Монро согласилась позировать, надеясь, что волшебник Грин сумеет сотворить с ее ногами нечто подобное тому, что когда-то сделал с ее лицом фотограф Френк Повольный, превратив его в икону стиля. В конце концов сессия удалась, фотографии понравились, особенно самой Мерилин, но ее ноги…Такие ноги, как у Марлен, у Милтона Грина для милой его сердцу Монро не получились, как бы он ни старался прятать их в черные чулки. А вот Сораяма воспользовался методом Бакста и создал то, о чем мечтала Монро.
– Вы, Денис, назвали имя какой-то Кармен, – любопытный взгляд преподавательницы было трудно не заметить.
– Совершенно верно, это знакомая моего отца. Фотография, которая висит между этими двумя картинами…
– Ах вот в чем дело, – засмеялась Элла Андреевна, прервав меня на полуслове. – А я-то никак не могла взять в толк, зачем здесь это фото, когда все ваши фотографии висят совсем в другом месте. Она принялась разглядывать фотографию светской дамы, словно видела в ней свою потенциальную соперницу. – А она красивая, даже чем-то похожа на саму Мерилин. Выходит, не случайно она здесь оказалась.
– Не случайно. Это близкая подруга Мерилин Монро. Когда-то в пятидесятых Джин была в Америке настоящей иконой пин-апа, била все рекорды по числу появлений на обложках глянцевых мужских журналов. Снималась в кино, была подружкой известного чикагского гангстера Джонни Розелли.
– Ужас! Зачем же вашему отцу, финансисту и банкиру, были нужны такие знакомства?
– Это как раз несложно. Как я сказал, Джин Кармен была подругой Монро, особенно близки они стали незадолго до смерти Мерилин. У них в жизни было много общего. Джин была тоже, как и Мерилин в свое время, любовницей Френка Синатры, и даже во время вечеринок с самим Джоном Кеннеди, Мерилин неоднократно уговаривала Джин, как та сама признавалась, заняться с президентом сексом втроем.
– И как, уговорила? – стыдливо усмехнулась моя наставница.
– По ее признанию, не согласилась, а как было на самом деле, кто знает… Джин была и свидетельницей частного посещения дома своей подруги Робертом Кеннеди. Вскоре после смерти Мерилин Джонни Розелли посоветовал своей любовнице надолго исчезнуть из Голливуда, чтобы не стать очередной жертвой тех, кто играл не по правилам. Джин Кармен прожила следующие десять лет своей жизни вдалеке от злачных мест Америки, никем не узнанная, и тем самым сохранила себе жизнь. Уже в преклонном возрасте незадолго до своей смерти она была приглашена на деловой раут в Нью-Йорке, где и познакомилась с моим отцом. Видимо, это фото с автографом и пожеланием любви она подарила отцу, когда он работал в Америке в 90-х годах.
– Однако странно все это, – задумчиво произнесла Элла Андреевна. – Я думала, что ваш отец большой политикой не интересовался, был таким скромным и немногословным в общении.
– Отчасти это действительно было так, но с тех пор, как у нас здесь побывал Сергей Каузов в качестве партнера по бизнесу, отец стал проявлять больший интерес к новейшей истории Штатов, в частности, к семье Кеннеди.
– Что-то знакомая фамилия, – силясь вспомнить, сказала Элла Андреевна.
– Бывший муж Кристины Онассис, единственной дочери богатейшего человека планеты Аристотеля Онассиса, которая при разводе с работником советского Внешторга Каузовым подарила ему два танкера, чтобы у него был собственный бизнес.
– Да-да, теперь вспомнила. Кажется, Онассис за что-то очень не любил братьев Кеннеди, даже как будто был заказчиком убийства Роберта.
– Версий много, – сказал я, – в этом смысле довольно интересны фильмы Млечина. Такое переплетение судеб сильных мира сего! Джон Кеннеди и его брат Роберт, Кристина Онассис и Каллас, Жаклин Бувье и ее сестра Ли, Мерилин Монро и князь Монако Ренье, – все они связаны с именем Аристотеля Онассиса не столько как самого богатого человека XX века, сколько как любителя женских ног, которые он боготворил до конца своих дней и на что никогда не жалел денег. Он был мудр, обожал секс, но женскими душами не интересовался никогда, предпочитая проституток.
– Тогда зачем он столько лет добивался расположения Жаклин Кеннеди?
– Как принято сейчас говорить: ничего личного, только бизнес! Он следовал своему правилу и повторял везде, что «лучшая женщина – та, которую больше никогда не увидишь». Что до Джеки Кеннеди, то он воспринимал ее не иначе, как продажную женщину и добивался не любви, а ее согласия на интимные отношения, что не одно и то же. Впрочем, она тоже не испытывала к нему никаких чувств. По происхождению она была француженкой и потому выросла в твердом убеждении, что замуж выходят ради больших денег. После смерти мужа ей достался по ее меркам полунищий пенсион в сто тысяч долларов от американского фонда. Не мне вам говорить, что настоящая страсть француженки – это деньги. Жаклин требовала от Онассиса за развод 20 миллионов. Сам Аристотель считал, что этих денег она не стоит, к тому же именно она, как ему казалось, наградила его какой-то венерической болезнью, от которой он в конце концов умер. Тем не менее после долгих споров и препираний с дочерью Онассиса Кристиной та все-таки не выдержала, и Джеки свое урвала, заполучив единовременно 26 миллионов долларов, плюс пожизненный пенсион в размере 150 тысяч, а также антиквариат, который впоследствии продала за 34 миллиона.
Элла Андреевна больше не задавала вопросов и безмолвно смотрела вдаль через открытое окно на мерцающий маяк. Мой мобильный уже давно разрывался у меня в кармане, требуя ответа, и не замечать этого было глупо, поэтому я извинился перед своей собеседницей и сказал в трубку
– Oui.
Это была Клер, которая в очередной раз просила уточнить дату отлета моей гостьи.
– Завтра, – сказал я коротко, – дневным прямым рейсом, – и отключил мобильник во избежание повторного звонка. – Эти француженки… – Я в отчаянии махнул рукой.
Взгляд Эллы Андреевны был на редкость заинтересованным, как у мамаши, пронюхавшей про новые отношения сына. По ее глазам было видно, что она жаждала откровений, сняв маску сдержанного воспитателя.
– Совсем недавно здесь была одна девица, – замялся я в нерешительности, – но скорее это исключение. Кстати, в доме ее отца такой же хаос от антикварного барахла.
– Вот как? – улыбнулась Элла Андреевна, довольная хоть таким признанием.
– Нет-нет, ничего такого, что вы можете подумать! – я пытался притушить любопытство некогда безучастного эксперта.
– Да ладно… – вдруг, как девчонка, сказала она, заставив меня рассмеяться.
– Скорее, этот визит был совершен из вежливого любопытства, хотя до сих пор его мотив мне не конца понятен.
– Нет, Денис, она вам не безразлична! – решительно, без тени сомнения сказала преподавательница.
– Ну почему вы так решили?! – воскликнул я раздраженно, но осекся и, помолчав, признался: – Хотя, если честно, я о ней стал думать и не нахожу этому объяснения. Она необычная, озорная. Мне с ней не скучно, точнее, – добавил я, – становится не скучно.
– Не валяйте дурака, Денис, время быстро летит, а вам уже 28. Если есть люди, с которыми вам не скучно, старайтесь быть с ними. Общение – это то, чего вам сейчас не хватает. Любовь может быть разной, но только не скучной, иначе это что-то другое.
Она говорила и одновременно наспех подкрашивала губы в ярко-сиреневый цвет с перламутровым оттенком, прекрасно гармонирующий с ее костюмом. Посвежевшая и помолодевшая, она была явно довольна собой и снова и снова смотрела на себя в большое зеркало.
– Эта француженка должна быть непременно яркой, если хочет вам понравиться. Я угадала? – Элла Андреевна смотрела на меня в упор, не мигая.
– Все наоборот, – сказал я, – даже какая-то нелепая. Косметикой почти не пользуется, и одежда на ней несуразная. Грешным делом я поначалу засомневался в ее ориентации. Оказалось, опасения были напрасны, к тому же она из приличной семьи.
– Все понятно. А ноги у нее стройные?
Она задала неожиданный для меня вопрос, наверное, вспомнив разговор про Онассиса.
– Под теми штанами, в которых она вечно ходит, не поймешь.
– Ну правда, классные? – она продолжала настаивать.
– Я же говорю, она всегда, как Ангела Меркель, ходит в брюках, – и, опустив глаза, добавил, – как, впрочем, и вы.
Элла Андреевна вслед за мной опустила голову, обводя взглядом большой холл.
– Я смотрю, Денис, вы продолжаете изучать историю. Всюду книги, учебники и разбросанные по углам листы бумаги.
– Да какой там! – махнул я рукой, не соглашаясь с предположением учительницы. – «История ничему не учит, только наказывает», – говорил Ключевский. Я устал поучать других и наказывать себя. Хочу просто познать себя, как бы нелепо здесь это ни звучало.
– Нет, Денис, для начала научитесь просто любить.
– Кого это? – я недоверчиво нахмурился.
– Женщину. Да-да, женщину. Это не просто, поверьте, если не путать любовь с сексуальным удовлетворением.
– А потом?
– А потом как-то все остальное приложится.
В тот вечер мы больше не проронили ни слова.
В день вылета обедать Элла Андреевна не стала, сказав, что поест в самолете, поэтому чек-аут мы произвели без задержки. Дорога в аэропорт была не утомительной, и машину удалось припарковать почти рядом со входом. На регистрации было совсем безлюдно, да и багаж ее оказался скромным. На прощание я протянул Элле Андреевне маленькую коробочку, обтянутую синим бархатом, которую вытащил из кармана.
– Это вам, – сказал я спокойным голосом, прижимая Мартина к груди.
– От тебя, Денис? – она назвала меня на «ты» впервые.
– Нет, что вы, я лишь исполнитель воли отца. У него в кабинете есть сейф. Там, как оказалось, он хранил ценные вещи. Это, – я постучал пальцем по коробочке, – я нашел там. Кому предназначалась эта вещь, я до поры до времени не знал, но не маме, это точно. Она терпеть не могла голубого цвета, предпочитая красную гамму. Ее любимый камень был рубин, а если бриллиант, то розовый.
– Я не понимаю… – ее губы слегка подрагивали.
– Отец был во многом эксцентричным человеком, но он как-то мне сказал, что именно вы его понимаете. У него всегда была мечта пригласить вас в Ниццу, но, видно, не нашел должного предлога.
– Но мы с ним почти не общались, так, разговаривали несколько раз.
Она снова пыталась объяснить мне, что ее отношения с отцом никогда не выходили за рамки служебных.
– Значит, он разговаривал с вами мысленно и чувствовал, что вы близкий ему по духу человек.
Элла Андреевна все не решалась взять коробочку.
– Берите, – сказал я настойчиво и сам открыл ее. – Даже если это кольцо придется вам не по сердцу, имеете полное право просто его продать. Это голубой бриллиант, камень небольшой, всего-то в два карата, и в оправе из белого золота, специально, чтобы подчеркнуть красоту голубого. Из документов, что остались в сейфе, значится, что отец заказал его в Амстердаме, и камень очень чистой воды, только не продешевите, если решите продавать. За такие деньги можно будет хороший автомобиль купить, большой, как вам с мужем нравится.
– Не уверена, одобрил бы тебя твой отец, – сказала Элла Андреевна, посмотрев на потолок, скрывая накатывающуюся слезу.
В конце концов она благоговейно взяла коробочку в руки и надела кольцо на безымянный палец левой руки. Цветная игра света на гранях круглого бриллианта пыталась растопить холод ее глаз. Глубоко вздохнув и с трудом сдерживая рыдания, она скрылась за пластиковыми дверями.
– Finita la comedia, – грустно сказал я собаке, которая тяжело дышала и поскуливала. – Теперь главное, чтобы она не переживала и спокойно прошла паспортный контроль.
Пес звонко залаял, требуя опустить его на пол.
Покинув стены аэропорта, я ощутил громадное облегчение, как будто неведомый груз спал с моих плеч.
Мартин весело семенил короткими лапами и довольно вертел головой. Темно-синий двухместный спортивного типа мерседес, что припарковался рядом с моей машиной, немного перегораживал мне выезд, поэтому я аккуратно постучал по стеклу его боковой двери, чтобы дама за рулем, сдала назад. Собачка, на заднем сидении, похожая на моего Мартина, подала голос, и женщина, сидевшая за рулем, забеспокоилась. Высокий, поднятый воротник ее светлого плаща своей изнанкой демонстрировавший логотип «Берберри», прятал от меня ее лицо, но, похоже, она поняла, в чем дело, и открыла свою дверь. Мне пришлось обойти ее машину сзади, и я видел, как из открывшейся двери показалась стройная нога, обутая в лаковую светлую туфлю на высоком каблуке почти такого же цвета, как и плащ.
– Не беспокойтесь, мадам, вам совсем не обязательно выходить из машины, – сказал я достаточно громко, чтобы меня было слышно. – Только немного сдайте назад, я сейчас же уеду.
Я не обратил внимания на звонкий лай рассерженной собачонки, доносящийся из открытой двери, и поспешил к своему «Пежо».
– Денис, Денис, – за спиной у меня раздался знакомый голос, заставивший невольно обернуться. – Я жду тебя уже целый час. Подумала, уж не решил ли ты тоже улететь в Москву, – Клер сняла солнечные очки, и очаровательная улыбка разлилась по ее лицу.
– Бог мой, ты чего здесь забыла, – сказал я удивленно, – и по какому случаю такой прикид?
Разглядывая ее, я непроизвольно присвистнул точно так же, как это делают бесноватые арабы, сидящие на лавочках в парках Ниццы.
– Ты куда так вырядилась? – не удержавшись, снова спросил я позволив себе бестактность, словно имел на нее какие-то права.
– Я еду к вам в гости.
В ее голосе не было и намека на обиду.
– К кому это к нам?
– К тебе и к твоей учительнице. Я сказала папе, что ты меня пригласил познакомиться с ней.
– Но она улетела, ты же вчера спрашивала, – и я интуитивно показал рукой в сторону аэропорта.
– Знаю, знаю, ты вчера говорил, – и она простодушно засмеялась, убирая волосы за воротник.
– Что же должно было произойти, чтобы ты рассталась со своим свитером и брюками.
– Папа убедил переодеться. Дал целую тысячу, чтобы я купила вот эти туфли, – и она неловко, чуть не потеряв равновесие, приподняла одну ногу. Это Живанши от Рикардо Тиши. А мама Моника настояла, чтобы я надела ее новое коктейльное платье. Мне оно очень нравится, только в груди тесновато.
Она расстегнула плащ, демонстрируя короткое узкое платье, которое прекрасно сидело на ее юной фигуре.
– Ты же хотел меня увидеть в таком наряде, признавался, что тот прикид тебя не заводит.
– Какой дешевый подкат! Ты что городишь? – мой голос вдруг стал хриплым, и я не сумел скрыть гримасу искреннего изумления.
– Говорил, говорил! Поверь, я бы с удовольствием сбросила с себя весь этот ужас хоть сейчас и облачилась в свои вещи, они вон там, – и она указала на багажник своего автомобиля. – Поедем к тебе, я там и переоденусь, если захочешь, – она произнесла последние слова почти заговорщически, полушепотом, и тихо по-детски хихикнула.
– Ладно, ты давай дуй впереди, а я за тобой последую, – сказал я, обалдевший от всего происходящего, и поспешил к своей машине.
– Carpe diem! – произнес я, стукнув кулаком по капоту. В кармане кутки звякнула мелочь.
«Надо не забыть спросить, может, она еще и балетом занималась?» – подумал я, нащупав в кармане свою заветную монету.
Аромат ее духов преследовал меня всю дорогу, заставляя улыбаться смелым мыслям, которые в предвкушении чего-то желанного неотступно лезли в голову.
– Может, и вправду, ну их всех к черту! Всех, и в первую очередь ее папашу, а вместе с ним и мои навязчивые страхи, – приободрил я сам себя, подъезжая к дому.
Как назло дверь открылась не сразу, заставив меня нервничать и озираться по сторонам, как неопытного воришку.
– Ну а если твой папаша наконец прозреет. Да он за мной потом будет бегать, как за твоим прежним сосунком, что сбежал в Нью-Йорк!
Я произносил слова достаточно громко, беспокоя собак, которым расстегивал шлейки. Правда, все это я скорее говорил сам себе, чем ей, которая, казалось, совсем меня не слушала. Она беззаботно крутилась перед большим зеркалом, где днем раньше Элла Андреевна любовалась на себя, подкрашивая губы, и задумчиво улыбалась. Признаться, и мне было трудно узнать ее, поскольку в туфлях на высокой шпильке она заметно преобразилась и даже как будто повзрослела. Она распрямила обычно немного сутулую спину, выставляя грудь вперед. На ее стройных ногах были не замшевые ботильоны и не милые скромные лодочки, а открытые остроносые туфли телесного цвета с эффектной отделкой, может быть, конечно, не совсем по сезону.
«Можно было бы приобрести что-то и поскромнее», – подумалось мне в тот момент.
– Ты слышишь, что я говорю, – я снова повысил голос, обращаясь к Клер.
– Конечно, слышу! – так же громко ответила мне Клер, без смущения глядя на меня сильно накрашенными глазами. – Он уже прозрел и все понял.
– Ты что несешь? – я невольно присел после ее слов.
– Он еще сказал: «Пусть лучше будет этот русский…если он тебя захочет». Он прекрасно знал, что я собираюсь в аэропорт и, конечно, все понял.
После этих слов я был бы не прочь закурить одну из толстых сигар ее папаши. «Попал, – подумал я, – на такой контент я не подписывался, реальная засада».
…Солнце медленно опускалось за горизонт, хотя на часах была только половина шестого. В серебряных сумерках явственно угадывалось название многоэтажного круизного лайнера, который медленно заходил в бухту, подавая звучный сигнал. Как по команде за ним последовал телефонный звонок, от чего я даже вздрогнул. Это была бабушка, и, как всегда, некстати. Она поздравила меня с первым днем календарной весны и радостно сообщила, что у них наступила оттепель и по карнизам стучит дождь.
– Мы так рады с дедом, что пережили еще одну зиму.
Она заплакала в трубку от нахлынувших чувств.
Я почти ощутил тепло её дыхания, до ужаса знакомое с детства, мне захотелось поплакать вместе с ней, но бабушка вдруг спокойным голосом сказала:
– Значит, скоро будем собираться на дачу, наверное, уже в апреле переедем. Ты приедешь?
– Конечно, – сказал я тихо, – как всегда помогу вам все перевезти.
– Дися, голос у тебя какой-то уставший, ты как себя чувствуешь, не болеешь?
Я улыбнулся и обратился к Клер:
– Бабушка спрашивает, не заболел ли я?
Откинув ногами одеяло и соскочив с постели, Клер счастливо улыбнулась и подошла ко мне вплотную, приложив немного влажную теплую ладонь к моей небритой щеке.
– Впервые слышу, как ты говоришь по-русски, – сказала она, не таясь, довольно громко, хотя ее мягкие губы едва шевелились.
– Ты что, там не один? – послышался в трубке встревоженный голос бабушки.
– А что такое? – сказал я недовольно.
– Клянусь, опять какая-то девица, – сообщила она деду, – и не по-нашему говорит.
Приглушенный голос бабушки едва слышался в трубке. Так всегда случалось, когда она одновременно пробовала говорить и со мной, и с дедом, зажимая телефонную трубку маленькой сухой ладошкой.
– Да брось ты, бабуля, наводить тень на плетень, все у меня хорошо, – успокаивал я свою беспокойную бабушку и прижал Клер к себе за талию еще сильнее.
– Ты смотри там, Денис, особенно не забывайся, где ты есть, эта Ницца до добра не доведет.
Было слышно, как вслед за бабушкой заволновался и дед.
– Чего ты к нему лезешь, Варвара. Какое твое дело, с кем он там, с бабою или еще с кем. Зла на тебя не хватает, до греха только меня доводишь.
– А ты не лезь, сидишь и сиди себе. Сразу прям с бабою. Я слышу там девичий голос, вот и говорю, – бубнила бабушка моему деду, – ведь сам парень ничего никогда не расскажет, молчит, как партизан, вот я и волнуюсь.
– Бабуля, не надо вам ругаться, все хорошо.
В такие минуты я всегда вспоминаю их дачный диалог, запавший мне с детства глубоко в душу.
– Гена! – кричала бабушка, обращаясь к деду. – Смотри, он суп не ест!
– Вылей на него, Варя! – не отрывая глаз от газеты, отвечал дед.
– Я серьезно, накажи его как следует.
– Варя, я тебе что, палач? – сердился дед и уходил с кухни.
И сейчас их словесный пересуд продолжался на повышенных тонах.
– Хорошо-хорошо, пусть не бабу он в этой Ницце хочет, – слышался глухой голос деда в трубку. – Пусть женщину, – соглашался он, – лишь бы с толком, чтобы дети были.
– Внучок, – я услышал снова подобревший голос бабушки, – ты свою девочку привез бы к нам познакомиться, а то дед серчает, говорит, что правнуками пора обзаводиться.
– Когда? – спросил я озабоченно.
– Да хоть летом на Ивана Купалу или на Петров день, – она громко засмеялась, понимая, что говорит глупость.
– Ладно, решим, – сказал я и попрощался со стариками.
Теплое дыхание Клер как будто согревало мне душу, а ее холодный нос касался моей колючей шеи. Наконец я положил телефонную трубку на место, а Клер, осторожно ступая на цыпочках по холодному полу, обхватив свою грудь, посеменила к кровати, переступив тонкими ножками через собачек, мирно лежавших на прикроватном коврике. Она села на край кровати, все еще держа ноги на цыпочках, и пристально смотрела на меня, нисколько не смущаясь.
«И чего эта горе-психоаналитик пытается найти в моей русской душе, – подумал я. – Дурочка, она думает, что там погреба, а там ничего нет, сплошные потемки, как в черном квадрате Малевича».
– Как в черном квадрате, – повторил я вслух, обводя пальцем в воздухе контуры предполагаемой геометрической фигуры.
– Говори по-французски, я тебя не понимаю, – зябко сжав острые колени, засмеялась Клер.
Прелесть ее улыбки продолжала меня очаровывать.
– Я говорю, что люблю тебя, – тихо сказал я, все еще пребывая в восторге от ее желанного тела.
– Не ври, – прошептала она в ответ. – Ты говорил совсем другое!
– Другое? Разве ты не слышала, что я сказал?
– Слышала, но это же была неправда. Так?
– Мне казалось, что ты понимаешь меня и всегда ровно настолько, насколько я хотел быть понятым.
– Это тогда, когда я тебе верю.
– Верь и сейчас.
Она поднялась и безмолвно пошла ко мне, глядя прямо в глаза. Я не мог двигаться и только наблюдал.
«Поганый город», – зазвучало в ушах бабушкино предостережение.
Дьявольски красивая нагая девушка улыбалась.
Но главное – не ее улыбка, не идеальные груди и даже не ноги. Главное – глаза. Они заставляли теряться в привычных ориентирах, пока я не почувствовал вкуса ее помады, и мое сердце больно заколотилось в висках.
От неё исходил аромат, показавшийся мне знакомым.
Так, наверное, должны были пахнуть только ангелы.
– Кто ты?
– Догадайся, – алые губы едва шевелились.
– Может, ты и есть тот ангел-хранитель, о котором в детстве мне рассказывал отец, – сказал я чуть охрипшим голосом.
– Спасибо, что не дьявол, – улыбка снова тронула прелестные губы. – Я Муза… – наконец произнесла она под звуки раскатистого грома, доносившегося со стороны альпийских гор. Дождь за окнами заметно усиливался. Меньше всего мне хотелось говорить…
Примечания
1
Все события и персонажи частей романа, посвященных Древнему Риму и XVIII веку, являются реальными. Автор позволил себе лишь художественно их изложить, не отступая от исторической точности.
(обратно)2
Секутор – гладиатор с мечом и щитом.
(обратно)3
Сегментарная лорика – доспехи из стальных полос, изнутри попарно скрепленных на груди и спине кожаными ремнями.
(обратно)4
Фалеры – наградные знаки, прообраз медалей: небольшие металлические бляхи с изображениями богов или прославленных полководцев.
(обратно)5
Оптион – помощник центуриона.
(обратно)6
Перистиль – открытое пространство, как правило, двор, сад или площадь, окружённое с четырёх сторон крытой колоннадой.
(обратно)7
Таблиний – помещение в древнеримском жилище между атриумом и перистилем, служившее в качестве гостиной или кабинета хозяина дома.
(обратно)8
Кубикула – спальня.
(обратно)9
Ликторы – служители, сопровождавшие и охранявшие высших магистратов.
(обратно)10
Фасции – или ликторские пучки – пучки вязовых или берёзовых прутьев, перетянутые красным шнуром или связанные ремнями. Атрибут власти высших магистратов.
(обратно)11
Халдей – бродячий предсказатель, астролог, обычно вавилонского происхождения.
(обратно)12
Ауспиция – предсказание будущего на основе наблюдений за поведением птиц.
(обратно)13
Патера – сосуд для ритуальных возлияний.
(обратно)14
Этот человек выигрывает при знакомстве (фр).
(обратно)15
Перегрины – лично свободные, но не имеющие римского гражданства лица, в основном обитатели покорённых Римом областей.
(обратно)16
Эборак – Йорк, Лондиний – Лондон.
(обратно)17
Лугдун – Лион.
(обратно)18
Канабы – римские поселения рядом с постоянными лагерями войск.
(обратно)19
Эмеса – город в центре западной Сирии, современное название – Хомс.
(обратно)20
Строфион – лента из ткани или мягкой кожи, прототип бюстгальтера. Широкий строфион со шнуровкой – прототип корсета.
(обратно)21
Кардо – улица, ориентированная с севера на юг, декуманус – улица, ориентированная с востока на запад.
(обратно)22
Торжественная помпа – торжественное шествие перед началом гонок на колесницах или гладиаторских игр.
(обратно)23
Биги – колесницы, запряженные парой, квадриги – четверней.
(обратно)24
«В чужих краях, особенно на юге Франции, где люди так душевны и выразительны, я столько раз сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей, и бывал поражен этой немотой наших лиц. Иностранцы ставили нам в заслугу только своего рода беспечную отвагу, к сожалению, делающую нас столь безразличными к превратностям жизни, что вызывает в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, ко всякой лжи. Как вы можете заметить, всем нам (русским) не хватает какой-то последовательности в уме, какой-то логики, силлогизм Запада нам не знаком… Наверное, дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами…и не имеем традиций, ни Запада, ни Востока. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. Опыт времени для нас не существует…Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли…мы заимствовали лишь одну обманчивую внешность и бесполезную роскошь».
(обратно)





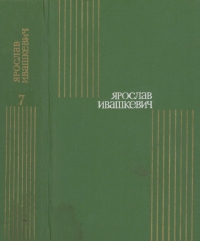

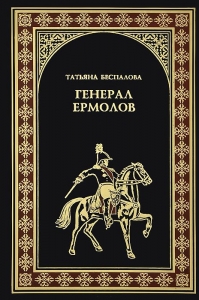

Комментарии к книге «Хочу женщину в Ницце», Владимир Николаевич Абрамов
Всего 0 комментариев