Владимир Личутин Скитальцы
Книга 1 Долгий отдых
Часть первая
По чьей речке плыть, той и славой слыть.
Поморская поговоркаГлава первая
Поданным в здешнюю канцелярию доношением крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков изъяснил, что в прошедшие перед сим годы, а в которые именно, не упомнит, дядя его двоюродный Степан Богошков отдал прародительную пашенную землю в приданое с теткой своей Улитою, выданной в замужество за крестьянина Афанасия Таранина. Они померли, а завладел тою землею брат Таранина и отдал во владение зятю своему, крестьянину той же Дорогорской волости, Петре Чикину, который законных крепостей на то владение не имеет.
А как прочих наследников не осталось, кроме вышеозначенного Калины Богошкова, то и просит он вернуть ему во владение прародительную землю.
Из указа Архангелогородской губернской канцелярииВремя по-пустому шло, да и деньги проживал: Архангельский – город большой, много всего требует. На постое у плотника адмиралтейского Киприяна Васильева был, тот ходил в присутственные места, обещался помочь, но тоже колесом копейка. За труды и помехи купил ему Калина пимы из оленьих камусов, подарком подал, а жене своей взял в базарной лавке крест серебряный тонкий с цепочкой трехколесчатой да два платка александрийской пестряди, обложенных вологодским кружевом, да рукавицы белые ровдужные, подбитые лисьим подчеревком. Как разложит подарки на столе, да ну вздыхать тяжко, тут и слезы шипучие близко подступят. Хозяин утешать возьмется постойщика, а не примет в толк, что не по тяжбе горюнится, а по дому тоскует. Уж нет-нет и махнет рукой: леший с ней, с землей-то, – морем живем. Да вот обида в груди негасимо тлеет... Прилюдно на мирском сходе опозорил Петра Чикин, с грязью норовил смешать, со злым умыслом иль для баловства, но выхаживался перед народом, тыкал в Калину пальцем:
– Гли-ко, сколь велико, посмотри-ко, сколь большо. Вы послышьте, у него и говоря-то не людская, у него и мать – чернотропка с Пезы, да и баба оттуль же.
Поначалу разговор-то пустопорожний шел, но тут словно бы кто подбил Петру Чикина для сытого бахвальства, и задел он Калину за самую душу. Так больно зацепил, что разом загорелся тот, пронзительно закричал:
– Ты бабу мою не замай, слышь, харя бычья. Ты к бабе моей не касайся, заугольник.
– Осподи, было бы чудо. Да я рядом и с... не сяду.
Калина принагнулся, подбирая с дороги, что к ладони ульнет, потяжелее и поувесистее, мужики притихли, что-то будет, но тут парень подогадливее крикнул: «Каля, тебя жонка кличет, велит домой идти».
Еще в гневном жару вспомнил вдруг Калина то, что в памяти неслышно тлело с давней поры, и выплеснул Петре в рыхлое лицо:
– С моей пашни колоба жрешь. Так попомни: последний раз сеял, последний раз пахал.
Сказал и, не сгибая сухой спины, по-птичьи подскакивая, ушел в избу. А другим утром в Мезень поехал, в уездную канцелярию прошение подал. Там отказали, на Окладниковской шняке[1] в Архангельский город ушел и с той поры вот уж месяц, как деньги проживал и по жене маялся: тяжелой оставил желтоволосую Тину. Как отправляться в город, наказывал: если сын явится – Донатом нареки, – давножданный, значит.
И только в самый конец августа милости дождался: «Просим означенному крестьянину Петре Чикину во владении тою землею учинить запрещение, а Калине Богошкову, яко законному наследнику, оную землю возвратить». С такой бумагой за пазухой чего зря мешкать? Навестил соломбальскую вдовую купчиху Прасковью Кудинову и подрядился следующим летом на ее шняке подкормщиком сходить до Матки[2] . Потом стал и попутье искать в торговых рядах, у лавок каменных и деревянных на базарном торжище, где запах трески жил, палтосины да зубатки; и на прибегищах[3] высматривал, не застоялась ли где мезенская посудина. Но с летнего берега стояли лодьи да шняки и всякие новоманерные суда, да с Кеми изукрашенные по носу гукоры, да золотичанские широкоскулые карбасы и шкуны, да парусники торговые из Норвегии, да шенкурские тягловые баржи, а своих вот никого не сыскал, не нашлось морского попутья до дому.
Тогда с плотником Киприяном за ручку простился, а с его хозяюшкой – низким поясным поклоном и побежал пинежской дорогой в родную деревеньку. Дорога жила людно в предосенние дни, все торопились поспеть до заливных дождей, засухо попасть по домам. Обгоняли Калину телеги двуосные скрипучие. С тех жалостливо и любопытно окликивали: «Куда, мил человек, топаешь?» Попадали навстречу калики перехожие с пестерями на горбу, те норовили табачку выманить. Скоро проезжали уездные исправники да землемеры в тарантасах, еще по-летнему, с откидными верхами; один раз и тройка чуть не стоптала, так пена лошадиная на плечах и осела, только ямщик крикнул уже за спину: «Глухарь сивый, ослеп, што ли?» Почувствовал Богошков, как облило холодом спину, оступился в придорожную канаву, не сдержался, сгоряча матюкнулся и сразу полегчало. «Леший на смерть несет. Вавилон какой-то, прости Господи. Как есть – столпотворение, – еще подумал Калина, приходя в себя. – Много ли надо? Оглоблей по голове, тут и ложись сразу и помирай».
В деревнях Богошков на постой не становился, к питейным дворам не заворачивал, на чужую телегу не прискакивал, чтобы ненароком не задержаться. Порой дорогу срезал, выходил на пожни. В лугах редело, отава загрубела и поднялась по щиколотку; днем она отпотевала и податливо ложилась под ступню. Лист на березе залубенел, подсох; понизу деревья тронуло желтизной, опалило слегка; смородинные кусты посветлели, и проглянули солнечные дробины ягод; они прохладно скатывались в пригоршню и студили кожу. Птицы гомонили в черемухах, объедались и тут же сваливались в папоротники, сонно закрывали глаза от сытости и осеннего дурмана и пугливо взлетали из-под самой ноги. Уже вершины зародов прогнулись лошадиными хребтинами, и еловый лапник под дождями ловко прильнул к тугим бокам. Наверное, из лесу выходили лоси – манило сено – и в подножьях темнели выеденные норы. Солнце уже не палило люто, комар свалился к болотам, доживая последние деньки, и лесными пожнями спешилось радостно.
Но однажды в душе Калины родилась боязливость: вспомнилась желтоволосая Тина, как она не отпускала его от себя, словно чуяла что, льнула опущенной тяжелой грудью, а лицо было восковое, с набухшими подглазьями. Богошкову почудилось, что жена вот сейчас умирает, и, опьяненный багульником, он опрометью кинулся набитой тропой, пока не задохнулся от колотья в груди и не свалился от устали на маленькой лесовой чищенице[4] .
Вечерами уже выстывало и темнело скоро. Гудели ноги, но, побарывая усталость, Калина развел костерок. Огонь сразу выхватил копешку невдалеке, черные низы деревьев; темь сдвинулась навстречу и плотно окружила пламя. Оступаясь в ручьевине, нащупал ногою место поглубже, зачерпнул воды в медный котелок, подвесил на рогульку. Вдруг кто-то заполошно всхохотал, тяжело пролетел в темноте, трогая крыльями ветви. От Калины на траву легла незнакомая гнутая тень, она невпопад шевелилась, ломаясь на стволах деревьев, и внезапно пугала. В отсветах костра опять мелькнула любопытная птица, похожая на большую оленью рукавицу, непугливо умостилась на нижней ветке. Острые уши встали торчком, зеленые глаза горели бесовски. Калина выхватил из костра горящий сук и бросил в птицу. Она неохотно снялась и поплыла в глубину леса и еще долго ухала там.
Богошков неуютно чувствовал себя в лесу. «Только бы до утра доманить. Ой, к несчастью эта лешева птица». Осенил троекратно крестами, умащиваясь в копне. Из темноты на него глядел желтый зрачок костра, потом только легкий свет еще недолго жил, открывая траву, но вот и он умер, а Калина все ширил глаза, вглядываясь в подвижную тень. Мелко шелестел осинник, казалось, сыпал с неба занудный осенний дождь, и под этот трепет Калина забылся. А очнулся внезапно, уже белым днем, так показалось вначале, и сквозь сенную паутину вдруг увидел тяжелую горбатую голову, мягкие коровьи губы в тягучей зеленой слюне и желтые звериные зубы, которые тянулись к самому лицу. Богошков невольно отодвинулся в глубь копешки, а лосиха, разглядев Калину, непугливо удивилась, широко зевнула и дохнула на сонного мужика теплом и молоком. Калина наблюдал за лосихой, и все для него казалось внове. Он давно отвык от земли, от пожни, там до десятых потов маялась Тинка, а сам он пропадал в море, лишь изредка появляясь в дому, чтобы запастись харчем на следующий промысел да намиловаться с бабой.
Лосиха вдруг отпрянула в сторону и кинулась к лесу, широко разбрасывая клешнятые ноги. Не иначе кто спугнул, лениво подумалось. Ноги отмякли за ночь и держали слабо...
А у вчерашнего огнища двое стояли и в его сторону поглядывали: один простоволосый, сутулый, другой – поприземистее, в треухе. С одним бы дак и гореванье не особое, наклал бы плюх, но второго-то, пожалуй, и оглоблей не спехнуть. Заскребло у Калины в груди, и сразу сон вспомнился. Обратают, ей-Богу, обратают... Согнулся – нож за голенищем, пестерек не спеша закинул. А те, двое, мялись с ноги на ногу, будто устали ждать.
Еще всмотрелся, от натуги глаза заело и вроде бы омыло их легким, влажным туманом, а на душе полегчало вдруг. Признал Калина того, сутулого; вроде бы Степка Рочев, с Няфты парень, давно ли рекрутил, сказывали, три дня гулеванье шло, легкий на ногу, верховой мальчишка, но с чего бы ему тут околачиваться? А те устали ждать, пошли навстречу, волоча ноги. На коренастом мотались плисовые алые шаровары, сапоги разбиты – и босые распухшие пальцы видать; нос когда-то перебит в драке и криво сросся, а в правой руке черемуховая палка с тяжелым наростом. Степка Рочев в синих пестрядинных портах, костлявые ноги выпирают, и в рубахе из белого холста. Рубаха вся в саже, видно, что в курной избе ночевали, да и лица от спанья посоловелые, опухшие. Степка словно бы мимо смотрел, а когда Калина крикнул заранее: «Степка Рочев, а ты откуль?» – что-то дрогнуло в его лице.
– Это чего он? – спросил коренастый, кивая на Калину, и Степка непонимающе пожал плечом.
Голова у коренастого, круглая и мохнатая, сидела по-медвежьи, в густой непролазной шерсти застряли сенные паутинки. Богошков пристальнее вгляделся, признавая парня, но не припомнил его и решил, что чужой кто, пришлый: много их, беглых, околачивалось по лесам, разбоем жили. Еще посмотрел Калина на свои сапоги, и жалко стало: ведь совсем новые, в Архангельском купил, как домой бежать, а шел всю дорогу босиком, прижаливал, но, видно, отдать придется. Уж вплотную тати были, черемуховой палкой можно достать, а Богошков все решал, браться за нож иль нет. На всякий случай еще позвал Рочева, чтобы не промахнуться.
– Степка, во дурной... Ты что, соседа не признаешь? Разбогател, что ли? Это же я, Калина Богошков с Дорогой Горы. В Няфте-то у меня того... слышь? Тетка Акулина в соседях с таткой твоим через заулок живет. И неуж не припомнишь, а? Во я, глянь, ну?..
– Да вроде что-то... – засмущался Степка, искоса взглядом спросил совета у дружка, но тот мял черемуховую палку в чугунных ладонях, словно бы взвешивал ее. – Калина Богошков, да неуж? – решился вдруг и возопил во весь голос, сразу прихватил мужика и стал тискать, словно пробуя на силу и крепость в ногах, а Калина напрягся, когда обнимались и целовались троекратно, но и особо не неволил тело, чтобы не выдать тревогу и страх.
– А я было и не признал. Ой, кабы да осечку?
– Да и неуж не признал бы?
– Всякое бывает, – Рочев натянуто засмеялся было, но тут же оборвал нехороший смех и снова оглянулся, но дружок все так же темнел за плечом, похожий на придорожный камень.
– Отцу-то-матери што сказать, иль сам явишься?
– Сбег я из матрозов, – просто признался Степка, не пряча черных зырянских глаз, на дне которых жил постоянный больной испуг. – На Печору деваюсь. Ищи меня там. На Печору, как в воду. Только ты мотри, ни-ни!..
– Да Бог с тобой. Уж как на дыбе припрут, дак.
– Если что, достану. Иль нет?
– Достанешь, почто нет-то. Ты парень лихой.
– Ну то-то, – добавил Степка, губы по-детски распустил, широкие, неприбранные, – казалось, заплачет парень. – А мамке ни-ни...
И они пошли поженкой в лес: коренастый все оглядывался через плечо, сердито выговаривал Степке, тот крутил головой, наверное не соглашался, и в редком сквозном осиннике еще долго виделись алые портки.
Четыре дня бежал Калина торопливо, теперь уже просясь на ночлег. В Совпольской деревне у Анкиндина Фролова купил старенький стружок за рубль и сплыл на нем по Кулою до своей деревни. Последние две ночи не спал, пальцы от весел не согнуть, но эта работа привычная, – одному да по воде спускаться. Но как выходил из лодки, невольно присел, в левой ноге отдала застарелая рана. Отсиделся на камне, сапоги травяным клочом обмахнул, натянул не спеша; порты понапустил на голенища, чтобы пофасонистее было, все это делал с ленцой, а хотелось бежать в избу. До тоски все выгорело внутри: а ну как плохо отрожала, а может, и покойница уже моя желтоволосая Тинка? Тьфу-тьфу, свят, что ведь поблазнит. Показалось, будто жена с угора сторожко спускается. Да нет, то чужая баба.
Пестерек из лодки выудил, на одно плечо закинул и поднялся в гору. Кровавый камень-арешник скакал из-под пятки и долго колесил, тихо плескаясь в воду. Однажды оскользнулся Калина, аж душа оборвалась, потом словно очнулся, устыдился, побежал вверх, как сердце позволяло да больная нога; лужком порыжелым, мимо баньки, по заулку, скорее-скорее, вот и поветные ворота, заложку нетерпеливо крутнул, сорвалось из руки гулкое кольцо. Ворота будто сами распахнулись, а на пороге – Тинка: не сразу и признал, словно бы чужая баба. Волосы тусклым пламенем отдают, лицо тугое, румяна на щеках, брови подсурмлены, морщины на длинном лбу посеклись, и у тонких губ – паутинки. А как глянула – под желтыми ресницами ее глаза, Тинкины, весенней воды глаза – Господи, какие желанные.
Через порог не здороваются, да и с улицы видно, зазорно миловаться. Обошел Тинку стороной, только ладонью по спине скользнул, ощутил тепло бабье сквозь льняной стан. А жена следом, не навязывается, смотрит сквозь слезы на Калину, и мысли-то все самые худые: не разлюбил ли? Калина к зыбке сразу шагнул, нагнулся, всмотрелся в окутки, а уж смеркалось и плохо виделось в глубине берестяного коробка чадо родное.
– Сын, давножданный сын наш. Ос-по-ди-и, – притулилась Тинка к мужу сначала робко – родной весь, потом пропах, дорогой, кострищем, – руку запустила в отросший спутанный волос. – Кого велел, того и родила. Вылитый тятька.
Что-то стронулось внутри у Калины от хриплого шепота. Слишком долго желал он Тинку и потому неловко себя вел. Обернулся, будто насильно обнял жену, а Тинка хитро топырила ладони, и Калина от этой игры хмелел все больше.
– Да погоди ты. До вечера-то погоди. Что люди добрые скажут, – упиралась, а самой уж невмоготу.
Не послушал, в горницу жонку унес, от нее молоком пахло. Лежали в кровати, Тинкина голова на плече, в сумраке совсем прежняя. Тинка что-то наговаривала счастливо, а Калине слушалось плохо, все еще радость переживал, гладил жену по прохладному плечу.
– Мне, как Доню-то принести, сон привиделся, будто медведь тебя на спине тащит. Я плачу, следом бегу, ревмя реву, да бегу. Отпусти, молю, смилуйся. А утром и ослобонилась, – шептала успокоенно, а после и уснула неслышно, боком привалилась к Калине, и от нее доносило ровным духовитым теплом. За ночь в горнице выстыло, в ставни сорило мелким занудливым дождиком, крыша невдолге и набухла, а из желоба в бадейку мягко пролилась первая потока.
Лишь под утро Калину взял сон.
Глава вторая
Однажды в избу к девке Павле Шумовой в денное время пришла по дружеству Матрена Бабикова и, будто шутя, говорила, что братан Степка Рочев с Архангельского пришел, с матрозов бежал, уж трое ден во хлеве живет, норовит на Печору иль куда еще уйти, да попутья нет. «Это ж надо такое?» – дивилась Павла, губы в оборочку поджимала, таращила под неровными русыми бровками грустноватые глаза. Засиделась Павла в девках, а теперь и сама себя старила, носила рубаху серую из грубой холстины, черный сарафан с синими бейками по подолу, да и повадки-то все старушечьи приняла.
– Андели, как же он решился? Они на Няфте все ухари.
– Ты оприють его на пару ден, – просила Матрена. – У тебя изба с краю деревни, никто к тебе не ходит, а у нас, почитай, каждый час гости, самовар-то со стола не сымаем, все кто-то живет, будто постоялый двор. Леший надавал эту родню.
– А удобно ли мне, Матренушка? – Павла не знала, как отказать подруге, да и не особо верила ее словам. – Я же в девушках хожу, и отец старой с печи не слезат. Да мне и страшновато. А вдруг, если что?
– Да ты что, Пашка, ково боисся? У нас Степанко смиреной. Спрашивала, зачем, говорю, побежал? Неужель нетерпеж взял? А не знаю, говорит, зачем и побежал, вот сейчас бы и повинился. Вон он какой, – улещала Павлу Ма грена, но девка мялась, ответа определенного не сказала, да с тем и забылся разговор.
А утром запотемно пошла во хлев коров обряжать, лучина в зубах трещит, а в руках-то бадейка молочная да лохань с паревом. Только наземные опорки насунула на ноги, дверцу отворила, а впрямь перед нею мужик иль парень какой стоит, сразу и не признала. А как раз в самое Рождество было, тут всякая чертовщина привидится. Вон намедни у Нюрки Окуловой леший в поветные ворота так ногою стеганул, что копыто отпечаталось, всей деревней ходили смотреть. Эко чудо – дивились.
– Сгинь, нечистый, – а откреститься нечем, руки заняты.
– Да это я, Степка Рочев, – несмело сказал парень.
– Поди-поди, откуль взялся, – пугливо отпрянула Павла.
– Да куда я денусь, беглый матроз я...
– Поди, откуда пришел. Мне корову обряжать надо, – чуть остывая и слушая сумеречный Степкин голос, еще гнала Павла, а сама уж думала втайне: и действительно, куда же он девается, на улице скоро светать начнет, увидят еще да хватятся, разговоры пойдут, откуда парень взялся, да чей он, да почему от Павлы под утро ушел. Смеяться будут, вот, скажут, Пашка – хваленка[5] , сколь ни бесстыдна, замуж не берут, не сватают, так блудом свое возьмет.
Как подумала о том Павла, закраснела вся, да и лучина, видно, догорела, ресницы опалило, выпустила ее из зубов, и сразу непроглядные сумерки родились.
– Ушел бы ты, Степка, – уже тише и как-то несмело попросила Павла, прислушиваясь к темноте. – Девушка я, незамужняя.
– Ты не бойся, эка ты бояка, – уже смелее заговорил Степка, поймав в голосе Павлы слабину. – Я ведь не тать какой, не разбойный человек. Через двое ден уйду и как в воду.
Павла запалила лучину, обошла Степку стороной, корову подоила, навоз выкидала, в овечник не пошла, выскользнула из хлева и дверцы на щеколду заперла. В избе лучину в светец воткнула, крикнула отцу на печь за розовую занавеску:
– Эй, тата, не спишь, чай? – хотела объявить о беглом, но споткнулась.
– Чего тебе? – откликнулся Захарий Шумов, обратя к дочери высохшее в круглой седатой бороде лицо. Глаза далеко провалились в синие ямы и при свете лучины глядели бельмасто и тускло. Уж совсем плох был отец, и руки его мелко тряслись, когда он запахивал воротник косоворотки.
– Сдеелось што, доченька? – снова спросил Захарий, старой душой расслышав непонятную беду.
Дочь самовар не наставляет, чаем не поит, в печи не шурудит деревянной лопатой и заслонку не просит прикрыть, – небось печь уж выстоялась, в самую пору хлебы садить, – а огрузла на лавке под образами. А Павла мучилась, хотелось бы ей от беды негаданной разом отделаться, прочь выгнать незваного гостя, а сотворить это – непонятный стыд долит и жалость, а больше всего – стыд. Вот как отцу проскажешь, сразу дознание начнет, что да как, да от куда, не согрешила ли, да чей парень, характером терпим ли?
– Печь-то застудила, слышь, Павла? Чего на лавке-то расшеперилась, как мокра ворона. – Отец тяжело откинулся на изголовье, кряхтя и вздыхая.
– Лежи давай, не мала девка.
– Ну ты, цыц, – приподнялся на локте, прислушался широким створчатым ухом, принагнул свой розово-белый лопух к притвору двери. Не пришел кто? Вроде бы дворовые ворота сгремели.
Павла промолчала. Лопатой забрасывала в печь хлебы, катила их по каленому поду и думала про Степку: «Леший, не может спокойно-то сидеть. А может, старосте повиниться?»
– Слышь, татушка, я еще даве тебе хотела... Мотря Бабикова Степку Рочева привела, просила два дня подержать, – сказала Павла и напряглась, ожидая, как-то отец велит.
– А я ведь чую, што чужой кто, – довольно откликнулся Захарий. – Дак и зови, раз к чаю угодил. – И, кряхтя, пробовал поднять непослушное тело. – У бедности – не у греха. Кому-то зло, а нам – гость. Пособи, чего уставилась.
Павла почти сняла отца с печи, и тот, опираясь о лавку, прошел в передний угол, сел, широко расставив костлявые ноги.
– Ну зови, двери-то все начисто выпрет.
Степка Рочев пришел, низко склонился в поясном поклоне, долго крестился, выудив из-под совика[6] нательный образок. Лучина трещала, неровное тусклое пламя выхватывало сумрачные углы, земляной пол, закопченную матицу, два сундука в простенках и широкую просиженную лавку. Небогато жили; утренний и без того слабый свет не пробивался в волоковые оконца, забитые соломенными матами.
– Ты чей, сынок? – всматриваясь в Степку, спросил Захарий.
– Анкиндина Рочева, из Няфты.
– Ухарь был мужик, уж сколько раз из-за баб колотили. Кровью похаркат и встанет, – сразу завспоминал старик, все шевеля моховыми бровями. – Давно бегашь? – спросил неожиданно. – Ты только не ври, а то поди обратно на улку.
– А на Ильин день побежали...
– Недалеко ушел... А ты не слушай, не мужско то дело, – прикрикнул на Павлу, – собирай на стол. Хлеб-то, поди, сгорел, глуха тетеря, еще замуж собралась... Недалеко ушел. Чево не служилось?
– А, да так, – махнул рукой Степка, еще не решаясь скинуть обмерзший совик и заледенелые тобоки[7] ; ведь всю ночь провел в ближних зародах и только под утро забрался к Шумовым во двор.
– Чево не служилось? – настырно переспросил старик.
А Степку разморило в тепле, ему страшно не хотелось уходить из пахнущих жильем сумерек. Павла выкатывала из печи хлебы, тяпала их ладонью, покрывала рушниками, досадовала на себя.
– Меньше надо было дверьми ходить, а то взад-вперед так и чешет... Как жать-то будешь? Поймают, батогов надавают, в кандалы ноги вденут, в Сибирь загремишь. Эх, соколик. Дак чево не служилось? Один хрен ведь, где жить? Там, в матрозах, дарово кормят, – не отступался Захарий, перекидываясь с дочери на гостя.
– А стоскнулось что-то, так домой потянуло. Вот до Няфты добегу и объявлюсь.
– Греха-то не натворил? Вы ведь с Няфты все с ножиками ходите.
– Не-не, батя...
– Тогда скидывай одежу, чай пить будем, поедим чего Бог послал.
Ели все молча, Степка жадился, торопился, отрывая еще от горячего каравая большие тяпухи и макая в кислую рыбу. Он раскраснелся, по щекам пошли крутые некрасивые пятна, давно не мытые руки заскорузли, пальцы потрескались на сгибах, соленая подлива разъедала кожу, и Степке, наверное, было больно. Павла неотрывно смотрела на парня, на худое большеглазое лицо, обросшее мелкой кудрявой шерстью, и было ей жалко его неистраченной материнской жалостью; подумалось, что надо бы затопить баньку, но опять же могут увидеть, лучше нагреть воды да в избе помыть Степку. Девка сидела у краешка стола и каждую минуту снималась то за тем, то за другим, а сама все прислушивалась к заулку, морща и без того старовидное лицо, сутуля широкие мужские плечи.
Потом дала Степке старый домашний совик да катанцы с высокими голяшками, выпроводила обратно в хлев, в угол, где было наметано сено, показала, как хорониться на случай беды. Степка сказал, что будет шить из купленной пестряди рубаху, попросил скроить и принести еще иголку и ниток. Павле смешно показалось, как это в потемни мужик будет себе рубаху шить, но вслух не усомнилась, сделала все, как просил, только упредила, чтобы огня ненароком не заронил, сено летошнее, палючее, ему искорки малой довольно, а сама побежала в деревню послушать, что люди бают.
А в лавке бабы говорили страшное...
Глава третья
Самоядский канинский пастух Матвей Лытуев показал выборному старосте Мартемьяну Петухину, что приехал он, Лытуев, по прежнему знакомству в избу ко вдове Парасковье Ханзиной, которая имеет жительство в тайбольской избе в двадцати верстах от Дорогой Горы по реке Кумже. Он зашел в дом и увидал беду. Баба лежит на полу мертвая, заколота, чего он испугался и ушел вон. Приехав в деревню, он объявил выборному старосте о том, и Мартемьян Петухин приехал в тот дом и увидел, что хозяйка Парасковья Ханзина лежит на полу мертвой, а дочь ее в овечнике заколота, клеть и коробья переломаны; померло с голоду пять коров, три теленка, тридцать пять овец, имущество пограблено, а что – неизвестно, преступника отыскать не могли, и пастуха Лытуева тоже взять не могли, ходит около чума с ружьем и топором, почему и не приступились к нему...
Из судебного дознанияСпал Степка Рочев в избе. Еще вечером попросил Павлу спрятать сверток, но девка отказывалась, сомневалась вслух, не краденое ли, а Степка клялся, что покупное все, и схоронить надо до той поры, когда объявится властям, а его помилуют, и он вернется и заберет все. Павла верила и не верила, но что-то мешало ей отказать парню, уж больно в потемках страшно ей было девичьим греховным страхом, и в голове-то у нее кружилось, и ноги шалили, слабли. Казалось, прожигал ее неспокойными глазами Степка Рочев. А он все шептал из темноты: «Не тать я, не убивец, не бойсь ты меня, Павлуша». Так сладко говорил, словно обещал что. И не отказала девка, взяла тяжелый сверток, но в избе не утерпела, отпорола с краю, высмотрела, лежали там платки женские да рубахи всякие; пугливо зашила заново и на улице под кряжи еловые положила и снегом прикрыла.
А сейчас лежала на лавке под ставенками, спать боялась, задирала голову в темноте, когда трепыхали куры в запечье иль с глухим плеском скатывались с крыши снежные навеси. Ведь знала она, что снег свалился, а чудилось Бог знает что. И так маялась до первых петушиных побудок, встала с белым неживым лицом, словно за ночь на пять лет постарела.
А днем страхи рассеялись, уже опять любопытно думалось о Степке, когда бегала по Дорогой Горе то за солью будто, то за свежей опарой, а сама все слушала чего-то иль на что-то решалась. Вечером все ворота полонила запорами, печь на второй раз протопила, воды нагрела, бочку залила, сверху тряпьем всяким накрыла, чтобы не выстыла, золу из печи вымела, соломы свежей настелила, приказала Степке лезть в чело. Степка мялся, ожидал, когда Павла выйдет куда или на худой конец отвернется, в избе жар стоял, и тело еще больше зудело. Захарий Шумов лежал на печи, любопытно подперев локтем дрожащую голову, и молчал, – может, думал о молодости своей иль жалел, что сыновей Бог прибрал. А Павла вдруг потянула Степку за рукав рубахи и ровно сказала:
– Снимай порты-то, застираю, пока паришься. От грязи-то все забукосело.
– Да отвернись ты, – не вытерпел Степка. – Что я тебе, чурка с глазами?
И Павла опомнилась, закраснела густо, ушла в запечье, а парень скинул порты, полез на шесток, больно стукаясь коленями о кирпичи. Обжигая плечи, втиснулся в самый жар на запрелую солому, холод пошел кожей, и поначалу показалось, словно бы выставили голым на мороз.
Павла подала веник, и Степка, сколько душа терпела, похвастался, но тесно было в печи, не размахаешься, и от жару дышать нечем. Вылез бурый с подтеками сажи, потом долго в бочке сидел, булькаясь в воде, крутился, будто на ровном месте дыру вертел, усталь ушла, и все пережитое вместе с нею: чертовски хорошо было сейчас Степке Рочеву, а о будущем он не умел думать.
Павла в шайке стирала его порты; она круто выгибала широкую спину, тесный сарафан, казалось, лопался на бедрах, и Степке, отдохнувшему и разомлевшему, вдруг нестерпимо захотелось любви. Играя, он плеснул в девку водой, она обернулась, локтем утирая вспотевший лоб, вся помолодевшая, словно сбросила от двадцати восьми годков на всю десятку. От жара щеки подсохли, куцые бровки потемнели и глаза округлились, светились влажно и ласково. Может, представилось Павле, что у нее семья, муж и все хорошо у нее.
– Ну-ну, не балуй, – прикрикнула девка совсем домашне, бегло оглядывая плоскую широкую грудь парня и костлявые прямые плечи. Распаренный Степка выглядел совсем молодым парнишечкой, кудерьки намокли и приклеились ко лбу, но глаза по-мужичьи жадно горели.
– Спинку бы нито помыла. Ну, как брату родному...
– Обойдессе, – Павла насупила брови, торопливо отвернулась, суровея и поникая плечами: поняла, не для нее Степка.
– Хоть бы украл кто ее у меня, – вдруг сказал Захарий Шумов. – Девка-то золото, порато работяща, у нее и мати такова же была.
– Будто вам со мной плохо, татушка, што вы меня гоните, – тусклым голосом откликнулась Павла. И когда подбиралась в избе да вечернюю выть[8] собирала на стол, на Степку Рочева больше не глянула, словно парня не было тут. А он, будто ненароком, то ладонь у девки придавит к столешне, то тайно ущипнет за тугой бок, а глаза нахальные – лыбится Степка и зубы желтые скалит.
Повечеряли, потом и на боковую. Павла лучину задула торопливо, изба погрузилась в потемки, круги радужные заходили перед глазами; сразу где-то в дальнем углу под порогом заскоркала мышь, огрызая у двери соломенную обвязку, туго задул в стены ветер-снеговей и, на всю ночь завывая, умостился в дымовой трубе. Отец гряхтел на печи, гремел старыми костями, и Павла тоже долго не могла найти себе места, и только подозрительно тихо было подле печи, где лежал Степка.
Поплакать хотелось Павле, повыть, тоска темная навалилась: вот и татушка скоро помрет, и одной ей тогда куковать. «Хоть бы робеночка Господь послал», – неожиданно подумала и представила сразу, как сосет он титьку, и грудь от таких мыслей щекотно потянуло, и стало Павле истомно. «Грех ведь. Каково сколотного-то[9] принести, на деревни обкостят. И кой леший этого вахлака к нам привел? Дрыхнет, будто у себя в доме. Носом-то нахаживает, спокой-дорогой».
Резко и шумно повернулась на правый бок, голову подняла, призрачно и лазорево светит лампада под Спасителем Нерукотворным и скорбно, так понятливо, всматриваются в Павлу птичьи глаза его. «О Боже...» – заплакала неожиданно, сминая рыдания в себе, кусала пахнущее оленным волосом изголовье, а ветер пробивался сквозь соломенные маты, по избе тянуло сквозняком, и пламя лампады натужно гнулось к дверям.
– Павла, испить дай водицы, – неожиданно прошелестел Степкин голос.
Павла испуганно прянула, села на лавке, поджимая босые ноги, напряженно и затаенно прислушалась к темноте.
– Ты слышь, Павла, водицы бы испить, – сонно повторил Степка.
– Лежи давай, приспичило, – буркнула себе под нос, пробежала по холодному полу, стягивая рубаху под грудью, еще почему-то мгновенно подумала: «Ну вот и все...» В потемках долго шарила рукой, больно натыкаясь пальцами о косяк, не могла поймать с деревянной спицы ковш. Вода в кадке засалилась льдом и тонко хрупнула, прогнувшись под черпачком. – Не барин, руки на месте, мог бы и сам, – все боршала девка.
Она напрягала глаза, чтобы не расшибиться, потом неожиданно наступила на Степкины ноги, и он притворно ойкнул. Протянула ковш. Рука парня оказалась совсем рядом, быстро скользнула по ее локтю и словно бы ожгла кожу. Павла торопливо отпрянула, привыкая к темноте, выпрямилась, ее охватила мелкая дрожь, и, туже натягивая под грудью рубаху, покорно подумала: «Ну вот и все». Она ждала Степку и невольно слышала, как бились его зубы о медную кромку черпака: Рочев пил воду гулко, как лошадь, и студеная вода свободно катилась по его луженой глотке.
– Прими ковш-от, – сдавленно шепнул Степка.
Павла принагнулась навстречу голосу, чтобы поймать черпак, и тут же ойкнула, полетела в темь, в жаркие, густо пахнущие потом одевальницы[10] . Парень охватил Павлу жилистой рукой, молча притиснул в постели, задирая рубаху на голову. Павле было душно и больно, судорога томила спину, под жадными Степкиными ладонями болели груди, но девка покорно отдавалась, ожидая и настраиваясь на что-то. А Степка насытился, отвалился от Павлы и сразу покойно захрапел, чему-то рассмеявшись. А девка оправила рубаху, вытянулась близ Степки будто покойница. Ощущая тепло его тела, недолго полежала, еще ожидая чего-то, потом перешла к себе на лавку. Сухо было во рту, тянуло в животе, но голова была светлой и совсем не хотелось спать.
«И неужели это любовь? – подумала Павла, вглядываясь в зеленое пятно лампадки. – А девки-то с ума сходят. Кака тут любовь, больно, и все. Чуть не разорвал, идол». Она еще любопытно прислушалась к темноте. Парень спал, закручивая носом свисты. «Едва не убил, охальник», – подумала, не сводя взгляда с тусклого света лампадки, потом неожиданно приподнялась, ей показалось вдруг, что душу у нее вынули, так стало пусто и горько внутри. Пала на лавку и завыла тонко, по-щенячьи, захлебываясь слезами, оплакивая прежнюю Павлу: последнее, чего так долго и постоянно желала, сбылось неожиданно и непонятно; и уже на исходе ночи не знала она, было ли чего, или так, почудилось только в стародевьем сне.
Утром поднялись все затемно. Степка сряжался не спеша, будто на свиданку, порой любопытно заглядывал Павле в глаза.
– Пойду и объявлюсь. Посекут и помилуют. Не тать я какой, – кряхтел у порога, натягивая новые просохшие тобоки из оленьих камусов, пестрядинную, расшитую по вороту рубаху, суконный совик. Повязался шерстяным кушаком, помахал руками, пробуя, ловко ли сидит на нем одежда.
– Объявись, сынок, повинись, – укреплял Степкину веру Захарий Шумов. – Чего бегать-то, много не выбегаешь. Ныне кругом люди, а без пачпорта – как без имени людского. А Павлуша ждать будет, – добавил старик многозначительно.
Степка крякнул и промолчал, только сказал еще, со скрипом отворяя разбухшую дверь:
– Низкое вам спасибо, незабывное.
– Пустое это, по-Божески, – остановил Захарий. – Мне живота своего не жаль, в могиле одной ногой, а Павле-то еще жить. Дак уж ты молчи, когда пытать учнут.
– На дыбе не выманят. Я на добро честный.
– Павлу-то пожалей, не чужая она тебе ныне...
– Нашел родню. Ему родня – черт да сатана, – фыркнула Павла. Из-под низко надвинутого плата глаза глядели колюче. – Давай, затворяй двери, холод-то напускаешь. Не на улице ведь. – Вытолкнула Степку, провела темными сенями во двор, через маленькую дверцу выпустила на зады и сама вышла, боязливо осматриваясь, не узрел ли их кто. Степка мялся, переступывал ногами, решался что-то сказать, протянул руку к Павле, видно хотел обнять, но девка отстранилась пугливо.
– Поди, чего мнешься, – оттолкнула повисшую руку, отшатнулась к стене, в черную тень.
Степка промолчал и, проваливаясь по колена в снег, пошел на угор, чтобы оттуда, будто с реки, войти в деревню, к избе старосты. Он шел сутулясь, высоко задирая ноги и нелепо размахивая руками, раза два еще оглянулся, отыскивая глазами Павлу, но девка не шелохнулась. Она еще постояла немного, послушала шорохи: снег подавался под Степкиным телом, где-то проехали розвальни, скрипя полозьями на дорожных раскатах; засветились тускло дальние избы, запахло дымом, а сверху, из зеленого лунного неба, хлопьями сваливался снег. Он таял на Павлином лице, и было непонятно, то ли снежная мокрядь щекочет губы, то ли неслышные слезы.
Девка очнулась, зябко поежилась, заторопилась поветью домой, утирая лицо платком.
– Всю-то ноченьку глаз не затворил. Уж так ноги стянуло, места себе не мог найти, – зажалобился отец.
Павла упала перед ним на колени, уткнулась лицом в порты, чувствуя себя маленькой и одинокой.
– Ну, ну, Господь с тобой. Беда забывчива, а тело заплывчиво. Вот и ты тепере все знашь, – гладил Захарий поникшую дочернюю голову. – Свой век жить как ли нать.
– Татушка, прости, черт поманул. Прости меня, татушка, грех-то какой. Осподи...
– Господь простит, Павла. Чего сама себя виноватишь? Куда денешься, раз не крадут тебя.
– Батя, прости...
– Дикой парень. Не мог девку с толком взять. А я-то молчал, кашлюн старый. Все думал, даст Бог – слюбитесь. Пашка сына принесет, и помирать мне будет отрадно. Ведь восьмеро вас было... Осталась ты одна, Павлуха, да и та – на мужика кроена.
Глава четвертая
Где-то на исходе февраля на самого Прокопа-дорогорушителя в избу Петры Чикина пришел выборный староста Мартемьян Петухин и велел свезти в Мезень «беглого матроза Степку Рочева».
– Дорога-то больно худа. Снегу, как из прорвы, и кони у меня на ужищах висят, стоять не могут, – пробовал выкрутиться Петра. – Малы они, малее собачки будут. Ты бы до Калины Богошкова сходил, Мартемьян, у того карюха куда бойчей.
– Сряжайся да ко мне заедь, заберешь матроза. Может, кого спопутья дать? Тут баба Комаришна слезно молит.
– Никого, никого, ты че? – взволновался Петра, поняв, что дальше бесполезно волынить. Сразу помрачнел, закинул под лавку катанки, закричал за ситцевый занавес, где баба его ткала половик: – Гутька, собери подорожников до завтрева... Ну еду, еду, чего ишо? Чуть да как, отвези сразу. Готовы на плечи вызняться да понюгать. Где девки-ти, хоть бы сена вороному кинули...
Собирался тяжело, пыхал натужно грудью, и кирпичный румянец пробился на щеках. Потом вывел из стойла толстоногого мохнатого конька с длинной волосатой мордой и широкой каменной грудью, долго обтирал попонкой сразу закуржавевший круп. Вороной недовольно косился, скалил длинные желтые зубы, и глаза его матово тускнели под длинными дымчатыми ресницами. Петра сунул в зубы коньку горбуху хлеба; таил ее до времени в глубокой походной рукавице, чтобы не замерзла. Вороной жадно вдохнул заиндевелыми мягкими ноздрями ситный запах, роняя слизкую мокроту, ловко подобрал краюху с ладони хозяина и криво усмехнулся, зная себе цену.
Неказистый был воронок, самых-то мезенских статей: с толстыми коленными бабками, вислым, не капризным до еды животом, и все же в Дорогой Горе не найти другого такого конька, который бы вывез тебя из любого бездорожья, когда только острые уши по-заячьи торчат из снега да посекшаяся грива струится по зыбучим сугробам. Вот почему прижаливал Петра Чикин своего бегунка, и упряжь у него была пригнана в самый чик: не жала и не елозила по рабочей спине, да и колоколец под дугой хоть и кимженского литья, но особый, раскатистый, с хриповым настроем, и далеко слышен его медный звяк, чтобы встречный еще за поворотом знал Петру Чикина и воротил коня на сторону, давая дорогу.
Остывая, привыкая к мысли, что ехать придется, Петра развернул сани, кинулся в них боком, и казалось, что в злых душах сейчас ухнет сычом, промчится по Дорогой Горе, будя улицу особым чикинским колокольцем, да вытянет лошаденку по крупу витой кожаной плетью, чтобы розвальни подпрыгнули на ухабе и потом летели воздухом до другого сумёта.
Но Петра едва ворохнул левой вожжой, направляя путь, и до самой избы не поторопил коня.
Подводу уже заждались, староста торчал у своей избы, матюкался, ему хотелось поскорее сбыть беглого с рук, а Степка Рочев обвалился к изгороди и сонно озирался вокруг, словно бы соображал, а не бежать ли ему дальше своим путем. Тут-то из-за угла и вывалилась лошадь.
– Как на свадьбу сряжаессе. Умереть можно, – закричал навстречу староста. – А ты мне не балуй. В дороге-то, – уже в который раз упредил беглого.
– Поздно мне теперь баловать, – покорно сказал Рочев, а зырянские темные глаза блеснули охально. И только Петра не взглянул на Степку, не дождался, когда удобнее сядет парень, а тут же понюгнул конька, и тот побежал ровной развалистой рысью, в отвислом его животе забулькало и заворчало. Долго ехали молча, холод пробирался под совик, и Степка свернулся в задке розвальней, хороня тепло.
– Чего дальше-то не бегал? – нарушил молчание Петра, вглядываясь в Степкино посиневшее лицо и словно бы жалея парня. «Ухорез и глаза разбойные. Так и ест», – подумал тайно, и под ложечкой у него засосало. – Бежал бы нито куда. Эвон места-то, – добавил уже потише, смягчая голос, и край оленьей полости неловко набросил на Степкины ноги.
– Надоело, набегался уже.
– А-а-а...
И опять надолго замолчали, не увязав разговора, да и солнце задымилось, поблекло: мороз обжигал губы и вязал щеки. У Степки отерпли ноги, холод пробрался в меховые тобоки и сковал пальцы. И только лошадиный круп, весь белый от инея, ровно и неспешно колыхался перед глазами.
– Понюгни лошадь-то. Живьем не довезешь, голову снимут, на кол посадят. Вон задница-то сколь широка, удобна для кола, – раздраженно выкрикнул Степка.
– Это ты спину для батогов готовь. Разрисуют, мастера есть в расправы, – обрадовался разговору Петра. Он тоже устал молча наблюдать лошадиные вихлястые ноги. – Есть мастера-то, рука наторела, два раз в одно место не ударят.
– Но-но, – грозно окликнул Степка, становясь на колени.
– Чего разнокался? Лошади не казенны, – обернулся Петра, удобнее забирая в руке витую плеть со свинцовой головкой. – Чего разнокался?..
– Прошибат мороз-от, – неожиданно пошел на попятную Степка и спрятал от мужика темный взгляд.
– Прошибат тебе. Не нать было бегать. Кой леший понес на зиму глядя? По девке соскучился, быват?
– По ей, стерве, ночами во снах стала ходить. Замутила душу, – готовно согласился Степка и вдруг вспомнил Павлу, покорную, тяжко пыхающую грудью, безмолвную, похожую на мужика. Что-то виноватое колыхнулось у парня в душе, и хотелось эту вину чем-то загладить, может, хорошими словами. – Ядрена баба-то, кобылой не свернуть. Вот и стала чудиться. Все как по жизни. И милуемся мы с нею, и ласкаемся всамделишно. А проснусь, только душа тоскнет. И побежал сослепу, прости ты меня, осподи.
– Креститься нать, коли чудится. Это черт поманывал, – посоветовал Петра и сразу обмяк, распустил губы. – Ну и как она-то? Добег дак...
– А не успел добечь, как все повернулось. – Степка недоговорил, внимательно вгляделся обочь, где проезжала встречная подвода. Вся в куржаке, усталая кобыла тяжело преступалась в снег, тянула розвальни, в них напряженно стоял на коленях мужик, белый от инея. Он только мельком глянул и молча проехал мимо, торопливо потряхивая вожжами. А Петра тоже встал на колени и еще долго смотрел в спину проехавшего мужика и матерился мерзлыми губами.
– Ты чего костишь-то, родня, че ли? Только родню да заклятого врага так величают, – усмехнулся Степка, снова прячась в совик, куда уже заполз холод.
– Да землю-то Калина-варнак отсудил, изо рта прямо выдернул.
– Твою, что ли? – спросил Степка, пряча глаза. – Ну и ловок, а тихоня с виду.
– Егова пашня, родительска. Мою, ишь ты, мою. Чтобы мою кто взял, да я... И не нужна ведь, варнаку, землица-то, почитай, с моря, варнак, не вылезает. Так же заростит, погубит земельку. А я бы – ой, таких бы лошадок держал. Люблю лошадок, как побегут, а грива пламенем так и возьмется, каждая жилка в теле гудом гудит, глазища горят, хвост по ветру пластается, а подковки только – ток-ток, уй-у. Они ведь, наши мезехи, обличьем пузаты, да росточком не больше зайца и шерстью по-собачьи обросли, а как пойдут скакать в морозину, бездорожьем, тут ни одна лошадка рядом не потянет. Не-е. – И Петра приподнялся на колена, наверное, пофорсить захотел перед Степкой, показать свою природу, даже треух сбил на одно ухо и плетью крутанул; вжикнула в воздухе свинцовая пулька, вшитая в крученый ремень, но не коснулась седого лошадиного крупа.
Повалился Петра, осел на один бок, зарываясь поглубже в полость, и тусклым голосом досказал:
– Не, не могу зазря скотину гонять. Не примет душа, и все.
– Ну, ловок Калина. Мужик-то вроде незавидный. С Архангельского-то вместях бежали, дак ничего не сказывал. С чего бы полагалось, – тихо сказал Степка и отвернулся от Петры, словно всматривался в застылый лес и в глубокие следы от полозьев, убегающие прочь: «Шу-шиу, вжи-вжи», – ширкали розвальни о крупитчатый снег, тихо покачивало на крутых переметах, клонило в дрему.
– Да неуж? – равнодушно-скованно откликнулся Петра, о чем-то своем соображая, и больше ничего не спросил, стал усаживаться поудобнее, кряхтя и подбирая под себя подол совика. – Палит морозина, круто берет. Февраль – бокогрей, вот те и нагрет боки. Голоден, не? – окликнул Степку.
– Кабы душу промочить...
– Приворачивать не велено. Мне и не с руки с тобой валандаться. Развяжемся поскорей, а там сами по себе. – Петра остановил конька, кинул охапку сена, губы вороного обросли молодым ледком.
Степка ел лениво, все озирался на лес, откусил от житнего колоба, долго жевал и едва проглотнул, спеклось в горле.
– Казенны-то харчи небось скусней? – насмешливо окликнул Петра, напряженно вглядываясь в поблеклое Степкино лицо с пятнами чайного цвета на скулах.
– А это на чей скус. Кабы скусней, дак не побег бы.
– Жил-то чем, воровал небось?
– Было всяко. Мы тут в анбаре полевом дивно взяли.
– Да неуж? А с кем упромышляли? – спросил Петра, замирая от догадки. «О Бог мой, Иисусе пресветлой, он варнак, не иначе».
– Любопытной Варваре нос оторвали...
– Бабу-то Ханзину с девкой не вы, случаем?
– Но-но, дядя, я не тать какой, не душегубец! – закричал Степка Рочев, неожиданно спрыгнул с розвальней, обогнул по снегу лошадь и кинулся дорогой, каменно ступая застывшими тобоками. Петра поначалу растерялся, побежал следом, громоздкий и сырой: «Стой, варнак, стой!» Потом вернулся обратно, погнал лошадь, отчаянно матюгаясь и зависая над розвальнями с откинутой плетью.
– Застегну, собаку, – бормотал он, – как есть застегну.
Какое-то злое удовольствие настигло Петру, и он бы наотмашь захлестнул парня свинцовой пулькой по лицу, но за поворотом сразу не разглядел Степку. Тот стоял обочь дороги, затаившись за сосной, а когда розвальни поравнялись, выскочил, заорал заполошно:
– А, испужался, в порты напустил, – и довольно захохотал, оскалившись.
– Ну, дьявол, ну, сотона, погоди, – злился Петра, заворачивая коня. – Я те пошуткую сейчас, каторжна морда.
– Тронь-ко, пожалуюсь начальству, – весело издевался над мужиком Степка. Он успевал отскочить на зады розвальней и все кричал: – Батогов захотел, скотина? Я матроз, я у батюшки царя на службе, а ты мужик, скотина ты. – И вдруг упал на колени, стукнулся лбом о накатанный полозом след, о мерзлые кавалки навоза.
– Прости, грешного. Дурачина я, обормот.
Петра соскочил с кресел, замахнулся кнутовищем, казалось, что сейчас прибьет парня на месте, но Степка не шевельнулся, снизу выглядывая на мужика; покорно стерпел, когда тот небольно жигнул плетью по спине.
– То-то, я тебе ужо! – отмякая, грозил Петра. – Ну, паря, шальной ты. Не сносить тебе головы.
А Степка уже сидел в розвальнях, откинувшись по-барски, потом притворно завиноватился:
– Прости меня, Петра. Ты, я вижу, мужик куда с добром, веселой мужик.
Тут лошадь вывалилась на опушку, дальше дорога шла подугорьем, уже начинались пашни, и вдали хитро сверкнула куполом церковь Рождества Богородицы. До города оставалось с версту. Уже запотемнело, в густом небе расположились синие острова облаков, снег на реке посерел, и снежной пылью мела поносуха[11] , разыгрываясь под вечер. Степка огляделся, и ему опять неожиданно взгрустнулось, подумалось странно, что последний раз он видит эти края. Он украдкой запустил руку в тобоки, нащупал там холщовый сверток. С деньгами расставаться было жаль, но и до мезенской расправы везти нельзя: отберут да еще и плетьми расспросят, откуда они. А Степка Рочев – не душегубец, не тать лесная, он человечьей крови не пускал, он парень веселый, верховой.
– Слышь, Петра, я с повинной объявлюсь, дак меня спустят? – спросил Степка Рочев, вглядываясь в отсверкивающие в мрачном небе купола церквей.
Чикин пожал плечами и промолчал.
– Вот я и говорю, посекут да и спустят. Служи, скажут, матроз. А я прийду к тебе и спрошу: Петра, деньги вертай.
– Какие такие деньги? – изумился Чикин, ожидая нового подвоха. «Осподи, – подумал он, – скорее бы в расправу сдать».
– А я разве не отдал тебе на сохранение? На, говорю, Петра, деньги, ассигнациями пятьдесят рублей, да серебром сто восемьдесят, да медью три рубля, да один двугривенный, да еще три пятиалтынных. В тряпице холщовой завернуты, так и подал. А ты по простоте душевной не считамши их под задницу засунул, под оленную одевальницу, в самый передок розвален, – дурачил Петру парень.
– Не плети, Господь с тобой. Чего мелешь-то, каторжанец? – пугливо огрызнулся Петра, не зная на что и подумать, и поторопил лошадь. Молча проехали сторожевую рогатку и Спасскую деревянную церковь, миновали питейный дом да купецкий двор Артемия Малыгина и остановились у бревенчатой приземистой избы, обнесенной частоколом.
Нижней расправы судья капитан Шилов сидел потерянный; леший помутил вчера ум; в доме мезенского мещанина Федора Семенова он избил и обругал безо всякой на то причины городничего майора Петелина, и тот небось жалобу строчит в верхнюю расправу. «Ах ты стручок гороховый, березовый ты пенек, и кто велел тебе являться, коли не просили тебя, – судья сидел за ободранным столом хмурый, с отечным лицом и жевал пшеничный усище. – Нынче бабы по всей Мезени колокола льют. Ой, бес в ребро, набрался хуже свиньи», – клял он себя. Да и как тут не напиться изволите, ежели край света, темь непроглядная и дикость.
Тут дверь отпахнулась, в клубах мороза двое вошли: один под потолок, бурый от мороза, широкий, будто печь, пролезал в своем совике боком, второй – сухоребрый, с прямыми плечами и легкий на ногу, сразу по-птичьи обежал канцелярию и каменно во фрунт застыл.
– Ну, что у вас? – уставился судья посоловелыми глазами.
– Беглого матроза велено доставить с Дорогой Горы, – ответил Петра и на всякий случай поклонился.
– Это ты, что ли? – любопытно спросил капитан Шилов, забывая на время о вчерашнем.
– Как есть я, дурак, прости Господи, ваше высокоблагородие, – выгнул грудь Степка и пришлепнул мороженными тобоками, сбивая пятки вместе.
– Ну шутник ты, братец.
– Так точно, сроду такой, и татушка такой был, и дедо двоюродный. Скоморохи-с...
– Ну, братец, бежали зачем? Иль корм плохой в адмиралтействе, а может, отцы-командиры неподобно себя вели-с?
– Никак нет... Батюшке нашему богоподобному служил не щадя живота. А лонись пришла с нарочным из деревни гумага со слезными просьбами от татушки и матушки. Пишут они мне через старосту, Степушка, приезжай навести, быват, и помрем скоро. В избе не топлено уж кой день и некому хлеба подать, воды поднести. И такая тоска меня окрутила, ваше высокоблагородие, так немочно исделалось, что и сам не знаю, как побежал прошлой осенью, и вот доныне и бегаю.
– Складно ты врешь, братец, – светло и холодно блеснул глазами судья, а добрые губы разбежались в доверчивой улыбке. – Врун ты, братец, и записной врун ко всему прочему-с.
– Никак нет, – горячо воскликнул Степка, ловя в голосе капитана слабину. Он неожиданно в поклоне повалился на пол, темные волосы, беспорядочно и кудряво отросшие на свободе, осыпались на шею, на лицо, а ночные глаза омыло влагой и скорбью. – Не погубите, ваше высокоблагородие. Век молиться за вас стану. Бес попутал, жена у меня, дети малые, так стоскнулось. Мужик ведь, в соках самых, вдруг да что, все думается, бабы по ночам гоняются, мочи не стало...
– Ну-ну, братец, – смущенно отвернулся судья и тихо добавил: – Зачем опять врешь сказки. Мы ж пытали-с, откуда ты и чей, давно по тебе сыск объявлен и в кандалы велено тебя заковать и по этапу в Архангельск.
– Вру, и что с того? – насмешливо и готовно согласился Степка, поняв, что не отвертеться. Неловко поднялся с пола, – знать, мешал заколелый на морозе совик. – И что с того? Но сам объявился. Видит Бог, что не тать я, не убивец. Бывало, лежу в казарме, посреди ночи глаза отворю, вонища, хоть топор вешай; храп-от на все глотки, а мне лес вольный привидится, шумит он, манит. И задумал: побегаю и вернусь...
– Эй, Прошка, – кликнул судья высокого с круглой грудью драгуна. – Отведи беглого в арестантскую.
Степка весело подмигнул Петре и выпихнулся в дверь, а Петра еще топтался у порога, плотнее нахлобучивая треух. От волнения он взмок, и рубаха пристала к спине.
– Ну что еще? – безразлично спросил судья. – Он как-то сразу осунулся, мешки под глазами налились сыростью, и при мутном свете свечи он показался Петре совсем старым.
– У нас, значит, того... В Дорогой Горе мещанин Калинка Богошков есть, ваше высокоблагородие, – дрожащим голосом объявил Петра и споткнулся деревянным языком. – Ну, как бы это ловчее... До Пинеги-то он с матрозом Степкой Рочевым вместях бежал, да и амбар полевой брал. А разбойник возьми и проскажись. Вон оно как...
– Ну ладно, поди.
Петра еще что-то хотел добавить и забыл вдруг. Вышел отдуваясь: «Ну слава те, сбыл лиходея с рук». А на Мезени уже влажно темнело, к вечеру совсем от теплило, и снег скатывался из печально взвихренных облаков легкий и неслышный. Невесомый, совсем весенний ветер прошелся низом, омыл лицо, и Петре стало как-то не по себе, – может, от усталости или еще по другой какой причине. Захотелось выпить, ни о чем не думая посидеть в тепле и посудачить. И Петра завернул коня к божатке[12] Акуле Толстой, но в сани садиться не стал, шел рядом, тяжело ступая на волглый крупитчатый снег, чувствовал, как дорога проседает под ногами, а значит, конец февралю.
Петра завел коня во двор, поставил сани в дальний угол, часто поглядывая на мерцающие окна, на желтые проталины на сугробах. Из трубы слоисто и тяжело поднимался дым, пахло жильем. Он достал из розвальней одевальницу, оббил ее от трухи, слежавшееся сено забрал охапкой и кинул ворохом под морду коню. А как пошел в избу, нагнулся к саням за ременкой и что-то не нашел ее. Стал искать, встряхивать сено, заахал сразу, заматюгался, костя себя: знать, посеял в дороге иль разбойник этот куда закинул, и в самом передке неожиданно наткнулся на сверток, будто в холщовую тряпку хлебы завернуты. Еще по пустой мысли откинул его, а уж после подумал неладное, стал торопливо разворачивать холстину, и как услыхал серебряный звон, так все и понял. Тяжело задышал Петра, не считая денег, завернул их обратно в тряпицу.
– Каково подстроил, каково, а? Куда хошь девайся, – сразу перетрусил, стал припоминать, как это случилось, ведь будто и от саней не отлучался. Вот дьявол, ну и разбойник, поехать и заявить, поехать и объявить, мол, так и так, иначе с этими деньгами греха не оберешь. Сколько же их, посчитать? Степка-то баял, дак много, поди, там. Баба Ханзина в бедности не живала.
И Петра, стараясь не шуметь, воровски покинул божаткин двор, погнал коня мезенской улицей к расправе, чтоб пасть на колени перед капитаном Шиловым, повиниться в незнаемом грехе; вроде мужик с понятием, зря в морду не тычет и окриком не берет. Но окна в расправе уже черны и пустынны, слюдяные закраины едва просвечивали за крутыми забоями[13] , – знать, судья ушел на отдых.
Еще недолго посидел Петра Чикин в розвальнях, оглядывая мезенскую расправу, и остыл от прежнего рвения.
– В Николы и заночую у кума. Восемь верст верхней дорогой, – вслух размышлял Петра, вроде бы забывая о свертке под задницей. – Знать, Божий промысел... чего уж. Нигде не бывал, никто не видал, а Бог напитал... А и то... Допытай, возьмись, на-ко выкуси.
И Петра с полоумной совсем головой повернул вороного к Дорогой Горе. На ночь глядя погнал коня к дому с одной лишь мыслью – как бы подалее деться от этих мест. В Николе к куму на ночлег не привернул, дорогой колоба стылого пожевал, да какая тут, к лешему, еда, и в самое утро заехал в свой заулок. «Бог дал, Бог и оборонил», – успокоил себя Петра и, воровато озираясь, сунул сверток под мерзлые кавалки навоза да сверху еще коровьих жидких олабышей выкидал из хлева. «Поди возьми тут. Спаси мя и помилуй, Никола-заступник».
А перед самой Евдокией случилось в Дорогой Горе такое, отчего разговоров было не убраться. В начале марта навестили Калину Богошкова мезенский исправник Казаков, староста Петухин Мартемьян, он сродни будет Богошкову, да десятский Мясников, тоже с ихней деревни мужик. Провели они повальный сыск, переполошили всех, в избе гово?ри не вели, оценили мерина в подпалинах да корову красную, да корову нетель, да пятнадцать овчишек, да снасть рыбацкую и все прочее по цене девяносто три рубля пятьдесят копеек. И староста Петухин Мартемьян имение принял под присмотр и обязался хранить в целости и никуда не тратить до повеления нижнего земского суда. Тинка пластом лежала на полу, с нею плохо стало, когда Калину вывели из избы и посадили в сани-розвальни, где уже горестно сутулилась девка Павла Шумова.
А как съехали с деревенского угора, встретился о дорогу Петра Чикин в бараньем нагольном полушубке. Он оступился по колена в снег, когда розвальни раскатились в его сторону, пристально вгляделся рысьими глазами в немое лицо недруга Калины Богошкова и вскричал натужно, не таясь:
– Душегубец, кровь проступила на перстах твоих!
Глава пятая
Ему объявлено увещание, что истинное признание избавит от истязаний.
Вторую неделю добивались от Степки Рочева признаний в убийстве вдовой бабы Парасковьи Ханзиной да ее девки Варвары, но парень запирался, божился, вот те крест, ничего слыхом не слыхал и в тех местах веком не бывал. Исправника Казакова путал, сбивал с мысли, на Калину Богошкова доносил, что у Березницкой деревни примерно версты в четыре он да товарищ его Алексеев, остались у ручья в лесу, а он, Калина Богошков, в ночное время ходил в амбар, что напротив часовни, для покражи, и через крышу, зорив ее, взял белого крестьянского сукна две трубы, которое и поделили они меж собой, да рубаху мужскую держамую из синей пестряди, шубу овчинную, да семь фунтов масла коровьего, шестнадцать фунтов соли и пешню-острогу. Тряс обросшей кудрявой головой, чуть ли не слезу ронял Сгепка Рочев, а стоял на своем.
– Да побоись Бога, Степушка. Что ты со мной делаешь, пощади живота моего, – увещевал глухим голосом Калина Богошков. стараясь заглянуть Степке в глаза. У Калины щеки совсем запропали в светлой бороде, ему что-то нездоровилось, выбитая в колене нога разбухла, и уже третью ночь мужик толком не спал. Но каждый день водили его на расспросы, все допытывались, почему не сказался, что видел в бегах Степку Рочева, да как зорил полевой амбар, да где попрятал покраденное имение.
– Ну почему же тогда-с не доносили? – допытывался исправник Казаков, рано полысевший от неустроенной своей жизни и от служебных скитаний по уезду. Он уже о чем-то догадывался, но многого и не знал, потому как беглого солдата Алексеева случайно застрелили при задержании в тайбольской избе. Виновный уже под стражей, ему не миновать колодок, но дело стоит, потому исправник недовольничал, грозил батогами, но что-то медлил, словно не знал, с которого начать: иль с обросшего кудрявым волосом беглого матроза с шальными ночными глазами, иль с простодушного светлобородого мужика из Дорогой Горы, которого исправник каким-то образом припоминал.
– Ну почему тогда не повинились? – повторил исправник.
– Застращал, ваше благородие...
– Ну а ты, крестьянская девка Павла Шумова, отчего не открылась? – спросил у Павлы. Та сидела у двери, простоволосая, растерянная, с глупо открытым ртом, часто всплакивая, вспоминая татушку, которого покинула в сиротстве, в истопленной избе, некормленого-непоеного. Девку мутило, словно бы она что дурное съела, голова кружилась, хотелось запрокинуться на лавку и лежать. Порой взглядывала испуганно в Степкину сторону, и если бы он был побитым и печальным, она, пожалуй бы, молчала и под плетьми, но Степка весело похохатывал, порой резко склонялся, хлопал гулко ладонями по новой оленьей обувке, перевязанной под коленями шерстяной тесьмой. И эта Степкина веселость Павлу смущала и гневила, а парень, не скрываясь, раздевал ее взглядом донага нахально и больно. И девка прослушала вопрос, глаза ее закраснели, и родились крупные слезы.
– Простите, батюшка, глупу девку, неразумну. Я маленько вздремнула.
– Чурка с глазами, – вдруг сказал Степка, нагнулся и опять хлопнул по новехоньким тобокам из оленьих лап. И эта обувка смутила исправника; он заново перелистал дело, все допросы, где что пограблено было, и в дознаниях тобоки не числились, а значит, покрадены совсем недавно.
– Застращал он меня, батюшко. Спусти ты меня, у меня тата на печи голодный, холодный, – взмолилась Павла, боясь глянуть в Степкину сторону. – Ты-то молчи, зверина. Мы тебя, как родного, поили-кормили...
– Вот те и застращал, – толстые Степкины губы расплылись. – Знать, и тебе сладко жилось? – добавил, намекая на что-то.
– Зверина ты, у-у, тьфу, нечисть. Ножом угрожал, батюшко. Глазищи-то у него, кого хошь перепугат. А у меня тага на печи да я, девушка. Уж спустите как ли.
– А тобоки отцовы? Захарий Шумов дал? – вдруг спросил исправник у Павлы, но мельком глянул на Степкино лицо и заметил, как дрогнули растерянно глаза.
– Не, в них и пришел. У нево и совик-то новый, с хорошего сукна, небось кого пограбил, да, как я показывала, в холсте зашито платья всякого да платов. А мне-то сказывал, что на свои деньги куплено. Дак спустите, батюшко, – взмолилась снова девка и повалилась на колени. – Куда я тепере, позорна, денусь. Только в пролубь головой...
Павла стала биться на полу и стенать, на том допрос неожиданно кончили и всех отвели в арестантскую, а на Степку Рочева исправник повелел колодки надеть. И еще неделю пришлось сидеть в холодной Калине Богошкову и Павле Шумовой, пока-то разыскивали в тундре самоедского пастуха Матвея Лытуева. Тот посмотрел на Степку и признал на его ногах тобоки своей работы: в прошлом годе шил и продал задешево по старой дружбе покойничку Ханзину.
– У, лопь косоглазая, – вскинулся Степка на низкорослого смуглолицего ненца, но не успел и половицу перешагнуть, как усадили на лавку умелые стражники. И поник головой Степка, понял, что запираться не след более, и много было в тот день работы для подканцеляриста Никифора Митрофанова.
И Степка Рочев показал: «... По осени в пустой промышленной избе жили немалое время, но покраденная ранее мука кончилась. А знал он, Рочев, что невдалеке от этой избы есть дом и живет там Дорогорской волости крестьянин Иван Ханзин с женой и дочерью. И о том сказал сотоварищу своему Алексееву, и тот поутру пошел туда просить хлеба, и того же дня вернулся обратно, и принес два житника прелых, и сказал, что хозяин недавно помер, а в доме живут только жена его и дочь. И Алексеев стал звать Рочева пойти и жену и девку убить, а имение пограбить, на что он, Рочев, сказал, что на убийство не пойдет. Тогда Алексеев без согласия взял с собою нож в ножнах и копье, которое они нашли в этой избе, и пошел один ко вдове Ханзиной. А вернувшись обратно, сказал, что жену и девку убил до смерти, а покраденное имение все притянул на чунке. Но всего имущества Алексеев не показал, а только хвастал бураком берестяным, в котором было денег ассигнациями шестьдесят пять рублей, да серебряных пятнадцать рублей, да медных пятиалтынников сколько, про то он, Рочев, не знает, потому что теми деньгами Алексеев не поделился, а забрал себе.
На товарище был покраденный ранее у березницкой деревни в амбаре суконный совик, а на совике том – кровь. Он ту кровь замыл, сапоги, которые по ветхости при побеге пропали, выбросил и надел тобоки покраденные, а вторые отдал мне. Что случилось в том доме, он, Рочев, знает только по словам Алексеева, который рассказывал так, будто пришел к избе Ханзина на лыжах уже вечером. Копье, дескать, оставил в сенях у дверей, а нож в ножнах взял с собой. Зашел в избу, просил у бабы Ханзиной денег двадцать рублей, хлеба и сказывал, что пойдет явиться. Но оная жонка хлеба и денег давать ему не стала, а бранила его, Алексеева. Тогда он осердился, вынул из ножен нож и тем ножом стращал Парасковью Ханзину и просил хлеба. Замахнулся он на оную жонку ножом, и она руками обороняться стала, попало ей по правой руке, по кисти. Она не убоялась страху, схватила Алексеева сзади за опояску, а девка Варвара убежала на улицу. Потом вытянул жонку из избы, взял в левую руку оставленное у дверей копье и тем копьем бабу Ханзину колол, во что угодить мог.
Мать девку к себе на помощь прикликала с улицы, Варвара прибегла и Алексеева сзади копьем в шею ткнула и проколола на нем суконный совик, а тела не повредила, после того свое копье бросила, а копье в руках Алексеева захватила и хотела его отнять. Тогда он ножом девке по руке чиркнул, и девка убежала в овечник, а мать упала на пол. Алексеев погнался за девкой и дверь в овечнике с внешней стороны завязал веревкой, а когда вернулся, то увидал, что баба Ханзина еще жива, и лежащую ее тыкал копьем два или три раза. А когда она стала мертва, то накрыл сверху оленьей полостью и пошел в клеть.
Искал там денег и найти не мог, пошел в амбар и там денег найти не мог, пошел в гумно и топором рассек две бочки с мукой, но кроме муки там ничего не было. Потом искал в доме денег и нашел во дворе под скотинными яслями прикрытый навозом берестяной бурак с медными деньгами и ассигнациями. Еще взял в сенях винтовку, топор, шубу овчинную небольшой руки, в клети разбил короб и взял из него рубаху мужскую красную александрийской пестряди, полурубашье набойчатое женское, да плат красный александрийской пестряди, обложен нитяным кружевом, да двои тобоки, шитые из оленьих лап; на улице на дворе нашел чунку, погрузил имущество, привез в тайбольскую избу и сказал мне, что жонку Ханзину и девку ее убил. А мне из пограбленного Алексеев отдал рукавицы женские, да две рубахи синие пестрые, двои портки, да холста белого восемь аршин с половиной, двои чулки шерстяные вязаные, да два платка набойчатые.
А что еще покрал Алексеев в доме вдовы Ханзиной, он, Рочев, того не знает, потому что тем же днем, боясь, чтобы не поймали, пошли из той избы на низ реки, где и спрятали ружье, а чунку сожгли. Потом он, Рочев, стал склонять Алексеева, чтобы явиться властям, пока убийство не открылось, дай Бог, посекут да обратно в адмиралтейство отправят, но товарищ не захотел, и они тут разминулись. А где он сейчас, того Рочев не знает...»
Следствие затянулось, и конца его не видать было. Калину Богошкова отослали к городничему под стражу, он совсем разболелся и пал духом. Однажды навестил его свояк, дорогорский староста Петухин, посоветовал отписать прошение властям, чтобы освободили на поруки ввиду крайней болезни. Калину осмотрели и нашли, что крестьянин Дорогорской волости Калина Богошков «подлинно одержим болезнию в ногах и лихорадкою, которые причиняют ему большую слабость и бессилие и имеется во внутренности изнурение его тела».
Калину отдали из-под стражи на поруки канцеляристу Патрикею Аксенову и мезенской команды драгуну Ивану Ершову, и взята была с мужика подписка, чтобы жил он на городе Мезени в верхней слободе и до решения дела никуда не отлучался, а еще было объявлено ему, «чтобы впредь с лихими людьми, татями и разбойниками обхождения не имел и об них, когда узнает, объявлял».
И только в самую весну Степку Рочева обули в колодки, потом секли прилюдно на Мезени и в Дорогой Горе и по этапу отправили в Сибирь. И, знать, набегался с той поры верховой няфтенский парень, потому что след его канул в полуночной стране, откуда редко кто являлся назад.
А Павле Шумовой и Калине Богошкову по всемилостивейшему указу царя плети заменили батогами, и на деревенском сходе прилюдно выпороли за их доброту. Павла к весне совсем сникла и постарела, снежный волос родился на голове, а на впалых щеках проступила пятнистая ржавчина: нежданно затяжелела девка. И когда ей бесстыдно заголили спину, заворотив на голову юбки, как в ту единственную ночь, она гак же покорно лежала и только выла, не сдерживая себя, и украдкой упиралась локтями, чтобы не давить животом в скамью.
Часть вторая
Одно начало, да разная дорога
Поморская поговоркаГлава первая
Тайку на этом свете не ждали.
Сына просил у Бога Петра Чикин, потому как все девки рожались, одна за другой, попридержать бы их, а нужен наживщик был, чтобы землю на него отрезали, чтобы за сохой мог стоять. Петра самолично двери настежь отворил, все замки спрятал; с Гутьки кольцо серебряное тонкое снял и косу расплел, только знай рожай сына, жонка. Да и Августе попреки в горле встали, рада хоть пятерых парней разом принести, только бы не точил мужик гнусливыми словами, да и понимала бабьим умом, что женские годы под гору покатились, вот и живот частенько постанывает ныне. Потому и крепилась Августа, и брюшину затягивала, чтобы в глаза людские не бросалась; скрывала она, что на сносях, как бы не сглазили колдуньи-еретницы.
Перед тем как Тайке родиться, было над деревней знамение. Еще утренняя заря не отгорела и печально и багрово потухала, покрываясь серым пеплом мглистого неба, и солнце еще не проклюнулось из снежных заводей, как за второй Пыей, на синих лесных склонах, родились и стали пухнуть два мутно-холодных шара. Они были подернуты изморосью и весь день тащили за собой похожее на донце медной кружки крохотное солнце и до самой вечерней зорьки колыхались, то вытягиваясь оранжевыми столбами, то странно расплющивались, иль стояли красными языками, подобием пламени великаньей свечи. За весь день тусклое солнце так и не проклюнулось сквозь розовое марево и вместе с ним вернулось в снежные облака.
Людям было страшно. В тот день в Дорогой Горе не гасили лампадок, крестьяне сулили всяких напастей, а где-то за полночь в самую потемь так закуревило – Божий страх. Метель билась в старые стены, тоскливо пуржила, накатисто ударяла в волоковые оконца, словно нащупывала слабину, и тогда казалось, что изба Чикиных скоро не выдержит и падет на колени. Порой ветер катился через поветь, совался в неплотно прикрытую дверь меж соломенными обвязками, и снежная пыль легко носилась над самым полом. Баба Васеня не стерпела, тяжело спустилась с печи, сняла с засторонка жирничок.
– Находальники, стомоногие жеребцы, носит взад-вперед, а уж двери прикрыть не помыслят, – захотела отпахнуть пошире дверь, чтобы заново прикрыть плотнее, но она отпотела, разбухла, а может, наросли на пороге наледи, – и пришлось брякать ногой. Тут и всполошилась неожиданно дочь, захлебнулась в крике. Баба Васеня с жирником побежала к Августе, закричала зятю...
– О-о-о, чешись больше. Осподи!
Петра скорее к повитухе Соломониде, хорошо рядом, на самых задах жила старушка-девица. Потом снег отвалил от бани, запалил каменицу. Березовые полешки положены были загодя и схватились сразу. Не успела выстояться баня, и Августу привели, готовое дело. Петру выгнали вон – не мужское дело быть при родах. Соломонида растелешила роженицу, в пар пока не повела, угар еще гнездился под низким потолком. Вдвоем с бабой Васеней водили Августу в сенцах да потряхивали: той было больно, она кричала животным голосом, но освободиться не могла.
– Ты поплачь, ты пореви, – бормотала баба Васеня, необычно жалея дочь. – Осподи, через горе да на горе, вся-то и жизнь. Ведь говорено было, не ешь хлеба ячменного, а ты все ись хочу да ись хочу, вот и нажоралась, – вдруг закричала на Августу.
А повитуха, маленькая и опущенная, как осенний гриб, мужицкой ладонью оглаживала роженицу по спине, по плечам: Августе становилось сонно и безразлично, боль куда-то ушла, и только слезы стекали по лицу и мешали дышать.
– Ты пыжься. Не иначе паренек идет, ишь своенравный какой, ширится, мамку мучит и сам мучится. А ты, голубица-касатушка, не садись, ты похаживай, ты поскакивай. Знать, поперечно идет молодец.
Но без лошадиной упряжи не обошлось, пришлось тянуть бабу через пахнущий зверем и потом тесный хомут, тут все облились стонами и банным жаром. Только под утро пришла девка. Августа по крику узнала, кого принесла, головы не повернула. А повитуха подняла девку за ножки, по заднюшке похлопала:
– Эки-ти девки у нас в слободке еще не рожались. Голова-то вся в белых волосьях, хоть под венец ставь, густы-ти сколь.
– Будет тебе ерунду молоть, – остановила баба Васеня. – Как положено, так и рожено. Людей не насмешили, на стороне не займовали.
Повитуха обиделась, луковичное лицо спрятала за сетку морщин, пожевала губами, но смолчала: ребенка разложила на скамье, веником березовым захлестала, запричитала уже сухим, почужевшим голосом:
– Не я тебя мыла, не я тебя парила, мыла тебя, парила бабушка Соломонеюшка. От Христа пришла, от истинного, с мягкими руками, с крепкими словами, мыльным мылом, теплою водою мать-мироносица, рабы Божия, на легкую помощь, на доброе здоровье, на Божию помощь. – Квасу в рот набрала, погрела-побулькала, роженую напоила, пряника чердынского нажевала, в тряпку завернула, сунула в рот. – Ну, не ревишь, значит, смиренна будешь.
И только Августа на дочь не глянула, а мать веником ее лупит и утешает:
– Ну, чего ревишь. Обратно не запихнешь, не воротишь. Не зашивать же веретенкой, коли идут.
– Да, идут, – в голос воет Августа, обвисая на скамье. – Теперь хоть в избу не ворочайся. Забьет, ирод.
Тут и свечи принесли в баню, самовар – он еще кипел, пузырился и от мокрого пара сразу запотел, стал белым. Пряники чердынские да орехи-меледу в тарелках поставили на полок. Соседки навещали, чай пили, девку мяли, в зеленые глаза смотрели.
– Эко чудо, таки у нас еще не рожались.
И только Петра Чикин дочь не навестил, до вечера в питейном доме пропадал, диво какое, небывалый случай: нагрузился вином, потом в сугробе сидел, редковолосая голова в снегу, в бороде слезы замерзли. Мужики узнали его беду, идут мимо, спрашивают:
– Петра, кого Бог дал?
– Работницу-оржануху. Кому нать, за полушку отдам, – пьяно кричал Петра и опрокидывался в снег.
– Ну, буде, буде изводиться тебе. За слезы деньги не давают. Ты не реви, Москва слезам не верит. Подрастет девка-оржануха, мужика во двор заманит, худо ли ты живешь?
– Кака к лешему жизнь, в чужом-то дому с руки ешь, слова громкого не скажи, – пьяно жаловался Петра.
– Как же, тебя с руки накормишь, кукушку эдаку. Поди давай домой-то, дочку приветь. Божий подарок.
... Через неделю Августа с дочкой из бани вернулись. Петра бабу не колотил, но и разговаривать не стал, с печи не слез поглазеть на дочь, а только шипел тоскливо:
– У, колода вислобрюха, деревянна ступа. – И даже на повитуху голос поднял, будто ее вина была в том; чаем не напоил и стопочку не поднес, как полагалось по старинному обычаю, не нами заведенному. Хорошо, баба Васеня сундучок свой открыла с немудрящим обзаведением, там из коробки чайной рубль денег достала – на похороны копила, да свой сарафанишко набойный ношеный, да кусок мыла, с фунт будет, отдала: «Ты у нас, бабушка, опачкалась. Вот возьми мыла, оно тебе спонадобится».
Роженую окрестили Таисьей, на третий день, как заведено, молоком коровьим цельным кормить стали: от старшей сестры, от девки к девке шел белый жестяной рожок, – купил его Петра на Пинежской ярмарке, – на рожок натянули коровий розовый сосок, налили молока сырого – пей, девка, наедайся, набирай кость да мясо для бабьей доли.
Глава вторая
В ту ночь на Кузьминки, когда у Петры Чикина нежеланная девка родилась, сироте Павле Шумовой тосковалось. Она еще не думала опростаться, хотя и бродила по дому тяжело, юбки расперло – и пришлось разнаставлять; поднималась с лавки, упираясь широкими ладонями в опухшие бедра и трудно разгибая спину; с лица совсем опала, окостлявела, и глаза стали круглыми, коровьими и совсем провалились в синие ямы. Павла часто гляделась в тусклый лик Матери Казанской, в ее печальные и зеленоватые при свете лампады глаза, сонливо вздыхала и всплакивала, роняя короткие слезы.
На улице пуржило, Бог ты мой, не приведи Господь в такую непогодь ехать полем. Бездумно молилась Павла за того, кто в пути сейчас, татушку поминала, боязливо озиралась на печь, словно бы он там лежит, со страхом прислушивалась, как воет ветер на повети, как ударяется в волоковые оконца и натужно вздрагивает в слуховом окне волочильная доска.
– К покойничку ветер-то, – шептала Павла пересохшими сизыми губами, туже запахивалась в черный плат. – Кого-то приберет Господь, успокоит. А татушке не довелось, лег на чужбинке, мается сейчас, ой и не лежится небось ему, не можется. Не он ли и просится в дом.
Прислушалась, показалось, будто корова мыкнула во хлеве. Вот беда тоже, ввечеру едва поднялась Пестронюшка и молока с пригоршню дала, а уж вымя-то горячим камнем: осподи, хоть бы коровушку мою не сронило. Достала из солонки щепотку соли, зашептала тупо, озираясь на дверь; потрескивала лучина в светце и, шипя, осыпалась искрами в корытце водой:
«... Призываю я, раба Божия Павлушка Шумова, к своей скотинке, крестьянской-то животинке, Пестронюшке моей спасительнице, вечно упомню я нокот нутряной, серчевой, паховой, здоховой, рудяной, костяной, зажильной тож да закожной, еще зашерстной да закопытной... Осподи, не дай осиротеть».
Запалила лучину торопливо, дверь отпахнула ногой, у порога целые сугробы снега, перемело насквозь, да и что говорить, в сиротском доме нуждишка в каждую щель ширится. А в стены ветер наотмашь бьет, кажется, вот-вот изба раскатится по бревнышку. Затихнет, да как хватит накатисто, с натужным стоном, огонь трепыхнется на лучине и едва оживет заново. Страшно Павле, черные тени шатаются по мохнатым от куржака стенам, старые сети обросли снежным мохом; под потолок высится крест с шатровой тесовой крышей и у самой лесенки, где в подызбицу спускаться, стоит гроб, а на крышке снегу внавал. Не привелось татушке лечь в свою домовину[14] , а ведь как старался, тесал топором из лиственницы да на точеные ножки поставил. Бывало, говаривал: не знаю, Павла, как еще наживемся, а что свадьбы играть, что похороны рядить, одинаково мешкотно, а я уж не хочу тебе обузой быть. И на кладбище рядом с женой место себе приготовил Захарий Шумов, камни откатил прочь, чтоб сподручнее копать могилу, а вот не пришлось лечь в родную землю. Леший за руку поволок на старости лет на Пезу, вдруг захотелось навестить сестреницу.
Летом-то ожил старик, прямо молодец молодцом стал, еще дуги гнул и короба вязал под грибы-ягоды, а на самый Спас вошла блажь в голову: поеду, и все. Тут и попутье подвелось, взяли старика чернотропы, подняли на лодке вверх по Пезе в деревню Лобан, а там зажился он у сестры, потом с осенними дождями прихворнул, как-то сразу истаял весь, куда в таком теле старика спровадишь. И Павле никак не известно, что с тятей, каков он, живет себе одна и своей поры ждет. А река Пеза застыла нежданно, и Захарий Шумов умер в самое безвременье: и на лодке не спустишься, и по льду лошадью еще рано ехать, хоть и до Дорогой Горы не столь и далеко, верст шестьдесят, не более. И не вывезли покойничка, схоронили на чужом жальнике: а перед смертью-то как плакал старик, весь извелся, дочь-то свою больно жалел.
«Осподи, куда теперь ряженье это – гроб да крест. Подумать страшно, каково приданое-то». Павла спустилась по обступанной ногами лесенке, осторожно сходила, боялась оскользнуться, – долго ли тут до беды, хитрое ли дело упасть, – лучину в зубах держала, а за перильце обеими руками придерживалась. Спускалась, а под грудью при каждом шаге будто что-то ойкало. Воткнула лучину в паз, а коровушка и не встала, только тяжело подняла мокрую голову, белая шерсть свалялась на лбу; глаза при неярком свете совсем черные, мертвые какие-то. Упала на колени Павла, взмолилась:
– Да ты скажи, косата-голубушка, что с тобою приключилось?
А ветер задувает, страсть Божия, такая заметель, что-то хлопает с заулка, шарчит по стене, словно скребется кто иль в дом просится бесприютный. Пестронюшка смотрит темно и вроде бы Павлу не видит, а из глаза слеза так и выпала. Девка ситную горбушку к мягким губам прислонила, а корова будто каменная, только животом тяжко ходит, словно кто из него вон просится. А сена охапка лежит нетронута, самое мелконькое сенцо, пахучее, в другое бы время вмиг слизнула. Павла захватила щепоть, в зубы тычет, другой рукой меж рогов щекотит, радует корову, а та как есть ступа деревянная.
– Татушка, не оставь, возьми за собой, – вдруг взмолилась Павла, легла головой на оплывший тяжелый коровий бок. – Куда я теперь сиротиной-то вековечной, всякий меня пообидит, кажный оплюет.
Вдруг пугливо прянула, страшное почудилось ей; вроде бы странно тихо стало. Тут и лучина зашипела, осыпалась искрами, темнота обступила. Павла лицо подняла, слепо оглянулась кругом, а сама и не знает, как давно плачет, а тихо так, до жути тихо, и в стены ветер не хлопнет, и корова мокро не вздохнет, сыто отрыгая жвачку. И Павла последний раз всхлипнула, зашарила у Пестрони по морде, нащупывая ноздри, а теплый воздух уж нейдет из пасти, словно задохнулась кормилица и быстро так остывать стала.
– Ой, не-не... ты ужо... голубушка моя, – беспамятно зашептала Павла, встрепенулась, на колени встала, больно ударяясь об мерзлые кавалки навоза. – Я тебе горбушку посолю, потом ты хорошо попьешь, а к завтрему и все пройдет. У меня парево-то в кадце такое уж сытое настоялось. Я сейчас и приволоку. А пока сенца поешь, пожуй сенца-то, оно с заливной поженки, где в прошлом годе ты выгуливалась. Уж запамятовала небось? Ну ты не балуй, не упырься. – Стала девка пехать сено корове, другой рукой бок гладить, а он уже словно студеный камень-голыш.
И тут поняла Павла, что кончилось Пестронюшка, настучала заметель в ее окна новое горе, и словно судорога с девкой приключилась: тело напружилось, голова запала за плечи, и повлекло Павлу назад, обвалилась она спиною на мертвую уже скотину и беспамятно вскричала, словно прощалась с кормилицей: «Ой-о-о». Тут с новой силой родилась заметель, ударила в стену хлева и хрипло заплакала, задыхаясь в снежных забоях. А у Павлы так больно зашлось сердце, она туго и торопливо натужилась, чтобы избавиться от боли, и – разрешилась.
Глава третья
... День за днем, будто вода, бежит жизнь, и не бежит даже, а неторопко струится от весны до весны, когда можно возрадоваться солнцу-батюшке, и от ночи до ночи, когда костям приходит время покой дать. И пусть поздновато, но и Тайка зеленоглазая встала на кривые ножки, потом и в рост пошла, а там и три годка приспело, а где три, там и пять. Сидит Тайка на печи, словно сноп, и только покряхтывает, а все молчком, глаза, будто березовый вешний лист, с окон не спускаются.
Старшая сестра Евстолья воду в кадце приволокла, сейчас разливает по бадейкам черпачком, тихо звенькает вода, тонко поет что-то, хочется Тайке побулькаться, да лихо с печи слезать: приморило ее. Другая сеструха – Манька на печном шестке сидит, чтобы не хулиганила – не пакостила; из устья жар пышет, подпаливает девке голую попу. Манька ерзает на кирпичах, бабу Васеню тормошит за седые косички.
– Баба, ись хочу, – кричит на всю избу.
Баба Васеня чугунами ворочает в печи, матерится, мало ли еды надо сготовить на этакую семью, у нее спина болит, – знать, к перемене погоды. А тут над самым ухом соплюха гундосит, минуты спокойной от нее нет, вся в отца. Баба длинная, костлявая, вместо щек сухие ямы и нос висюлькой, а волосы от печного жара розовые и сухо потрескивают.
– Помолчи ты, сичас олабыши поспеют. Лихоманка бы тебя затряхнула, ненаеда окаянная. Отец, чего молчишь, дай ей трепки хорошей. Ужо, – грозит баба, – отдам я тебя водяному лохматому, хвостатому, любит он непослушных девок чекотать да за пятки щипать.
А Манька только пузыри из носа пускает, пятками в битую печь лупит и вопит:
– Ба-а, ись!
– Да спусти ты ее на пол, изведет ведь, – кричит Августа. Сама красная, упрела вся, экая здоровющая жонка, парево коровам в хлев таскает.
– Спусти, спусти, – боршит баба, – такую спусти, дак живо чего накудесит. У других ребяты как ребяты, а тут исчадие како-то.
Налила щей пустоварных большую миску, молоком закрасила, по олабышу сунула в руки, девки за столом зачавкали, засопели, подолами под носом возят, пугливо на отца поглядывают, чтобы его ложку не опередить, а то быстро по лбу заработаешь, только голова загудит. А у Петры свои заботы, часто гладит огромную редковолосую голову, молчит. Баба Васеня печь прикрыла жестяным листом, руки по локоть в саже, скуластое лицо от печного жара прокалилось, как медный рукомойник, и кожа на впалых щеках дубленая, век износу не будет ей. Корявой ладонью по внучатым головам прошлась:
– Соплями-то захлебнетесь... Эки вы, будто с голодного острова. Ладно, ужо ввечеру киселя с брусеницы сготовлю.
Девки от радости завизжали, хоть уши затыкай, подхватили одежонку, из-за стола вымелись, ускакали на поветь.
– Тайку-то заберите, – крикнула баба вослед, да куда там, только и слышно, как половицы заговорили. А Тайка на печи осталась, глазами хлопает.
– А ты чего там, чудо-юдо, девка с глазами? Иль печным воздухом живешь, иль тараканов плодишь? Ну-ко я тебе пряничка чердынского дам, ведь люба ты у меня, тиха да баска.
Баба Васеня наконец обрядилась, опорки скинула, полезла на печь, охая и кряхтя натужно, на оленью постель опрокинулась, чуть внучку боком не придавила, сразу ее в охапку, жесткими сухими губами оцарапала Тайкину щеку; обдала девку чесноком да полынью горькой. Знать, успела баба заглянуть тайком в запечье, где у нее настойка припрятана.
Любит баба Васеня последнюю внучку. Отец-то обличьем весь серый, словно песец-крестоватик, а в Тайке ничего отцовского нет, будто согрешила Августа с проезжим ижменцем. И глаза у девки прозрачные и зеленые, и словно бы там, за мягкой их чистотой, восковые свечи таятся и свет от них идет постоянный и тихий.
Баба Васеня внучкину голову к себе пригибает, дышит полынной настойкой, а Тайка придорожным одуванчиком прорастает за спиной, тычет бабу острыми кулачками.
– Ба-а не на-а...
– Ух ты, гуля моя, – опять целует жесткими губами баба Васеня. – Глупа ты моя, неразумна. Ну чего там углазела?
– Ба-а не на...
Тайка смотрит на грязные оконца, они серые от долгого дождя, словно бабушкин домотканый костыч[15] : девка ширит глаза и ничего не может разглядеть. Еще вчера заметила Тайка большие вешние льдины, а лежали они, словно сытые коровы в рыжих подпалинах. С утра Тайка выбегала под окна, дальше теплых мостов нет, дальше грязь непролазная по самую шею, а может, и выше. Там, где рыжие льдины, в прошлом годе соседская, Нюрки Ружни-ковой, корова потонула, не могли достать. А еще дальше водяница с водяным живут, они малых деток щекочут за пятки. Страшно Тайке в грязь ступить: она качается на тонких ножках, словно одуванчик недоспелый, большой живот перевешивает с мостков. Тянет слабую шейку девка, слушает, кажется ей, что льдины тонко говорят: «Чья, ты, чья?»
– Баба, я чья? – вдруг спросила Тайка.
– Осподи, и что еще в голову взбредет. Чего ты там опять высмотрела? Богово ты рассуждение, родителево творение. Осподи, дожжинушка без передоху. Вчера, как радугу зеленую углядела, так и сказала себе: Васеня Миколавна, жди большого дождя. Оно так и есть. Вешний дождь – хлебу вождь. У тебя, Тайка, глаз-от мой, ты примечай все.
– Ба-а-а, по дождяной дуге куда походят? – опять спросила Тайка.
– Это Боженька о нас заботится, живущим на небеси воду подымат.
– А на небе што? – Тайка тянется из-за бабкиной спины и круглыми глазами смотрит на заплаканные бычьи пузыри на оконцах. Ей жарко и душно на печке, кружится голова, и девка уж плохо слышит, что говорит баба Васеня.
– Узнаешь, касатушка. Все там будем, того пути не обойдем. Над каждым человеком человек стоит, а над всема – природа одна. На земле страдаем, на небе поживем в свое удовольствие. Для того небушко и существует – для радости... Ой-ой, глаза-ти посоловели, будто солдацкие пуговицы. Ну-ко погуляй по двору, погуляй, – баба тормошит внучку, но из-под руки не отпускает. – А начала там нету и нету конца. Все одно небо. И протекают по нем молочные реки, горы золотые стоят, и растут всякие там деревья с золотыми плодами и живут мертвые люди. Стары-ти сидят при почете в золотых домах и едят индейское мясо и чего душенька схочет, а молоды-ти, так те катаются с золотых горок на чунках. А кругом там херувимы да анделы-хранители, музыка райская... Ну-ко, девка, давай слезай с печи, разморило тебя, как пареную репу, – оборвала сонный рассказ баба Васеня, внучку через себя перекатила и на приступок поставила.
Тайка ногой потянулась к полу, а вниз посмотреть – страшно, дух захватывает, и обратно вернуться сил нет: плохо растет Тайка. Закрыла она глаза, да и отпустила руки, будь что будет. Шлепнулась о пол мягким местом, скривилась, хотела заплакать, но раздумала.
– Сколь ты, Тайка, неловка да кулемиста. Поди давай к сестрам, вон в избе как угарно, вся захалеешь, – уже сердито заворчала баба, кряхтя, повернулась на другой бок и сонно досказала: – Осподи, ведь на краю света живем, темны мы, глупы люди.
А Тайка к оконцам подошла, расплющила нос о бычий пузырь, с улицы дождь хлещет, березы еще не распушились, бренчат живыми ветками, просятся в избу. Где-то глухо дальние двери захлопали, босые ноги заплескали по тесовым плахам, девки в посконных рубахах выскочили под дождь. Тайке видно, как сразу увяли и почернели сестрины головы. Девки давили из тонких холодных лужиц дождевую воду, она брызгала на красные пупырчатые ноги, рубашки сразу съежились, но сестрам все нипочем. В сторону Тайкиного окна корчат козьи рожи и вопят дурашливо:
Дождик, дождик, перестань, — Мы поедем на ердань Богу молиться, Христу поклониться, Как у Бога сирота, Затворяй ворота, Ключиком, замочком, Золотым платочком...Потом задрали серые от дождя рубашки и Тайке малиновые от холода попы пялят. Страшно девке, кожа на спине скукожилась, а в избе тихо, только слышно, как вода из рукомойника каплет – дончит в пустую лохань. Тайка на всякий случай тоненько повыла. Показалось ей, померещилось, что не сестреницы на заулке грязь толкут, а водяной с водяницей идут Тайкины пятки щекотать. Тайка еще плотнее прилипла к зажелтевшему бычьему пузырю, а дождь-то нюнится в три ручья, совсем закрасил волоковое оконце небесной водой, и потому ничегошеньки нельзя на улице выглядеть.
Тут в дверь забухало, большая рогожа вплыла в кухню и, жестяно шурша, встала торчком, а за ней что-то пищало и подвывало.
– Ба-ба, – закричала Тайка. Спряталась за столом, легла на лавку, голову прикрыла ручками, а сестреницы вокруг запрыгали, запричитали.
– Таиса-крыса, дождика боисся. Таиса-крыса, дождика боисся.
Тайка тут и разглядела, что эти девки-сестры, сразу стало жарко и весело, она под образа выстала и тоже дразниться стала.
– Вам мамка зубы выпернула, во-о...
– Таиса-крыса, Таиса-крыса.
– Беззуба катара, мама хлеба не дала, солью накормила, спать повалила.
Сестры надулись, на щеках пятна родились, будто крапивой нажгло. Тайку за подол тянут с лавки. Тайка царапается, но уже молчит, на глаза проступили две дробины светлые. Ей хочется позвать бабу, но Тайка молчит.
– Старой бабки хвостик, все глодает кости да сидит на печи и грызет кирпичи.
– Ба-ба, – закричала Тайка и заревела в голос, тут уж ей вовсе обидно стало. – Чего они дразнятся? Ба-ба, возьми меня.
Баба Васеня проснулась, голова у нее тяжелая, как грузило: знать, задурило печным угаром. Она еще плохо соображала, что кричит меньшая, но уже по старой привычке причитать стала:
– И вздремнуть-то не дадут, несыти окаянные, хоть бы домовой вас к себе прибрал. И пошто девку забижаете, пошто вы спокойно жить-то не можете, глупы головы, темна сторона? Я вот возьму сейчас вожжи да как начну охаживать, – закончила баба Васеня уже тише, потому что пришла в себя и поняла, что больше не дадут соснуть.
– Ба-ба, киселя хотим, – заныли тонко девки.
– Я ужо вам не киселя, а березовой каши хорошей наварю да по заднице накладу, бесстыжие, совсем уговору на вас нету. Все отец слабину дает, попускает. Ты-то, Евстолья, уж совсем большая девка, скоро замуж пора, а как веретено, – бормотала баба Васеня, с печи слезала, надсадно кряхтя и постанывая, – видно, здорово разморили каленые кирпичи ее изработанное тело.
– Ну, кышьте на холодную половину. Наварю, дак позову, бат сама не съем. Да рубашонки-то не цапайте вверх, ведь большие, невесты скоро.
Девки убежали, перечить больше не стали, а Тайка стояла под образами, слезы высохли, и остались на щеках серые следочки, словно ползли из глаз две лесные улитки. Баба Васеня сняла Тайку на пол, костлявой рукой обжала, склонила свою голову с двумя тощими косичками перед Николаем Чудотворцем.
– Осподи, пошто живем, на кой хрен живем?.. Ты погоди, Тайка, не щекоти старуху, – выпустила внучку, быстро навестила запечье, недолго копошилась, слышно было, как звякала бутылью, а когда вернулась к божнице, от нее опять несло полынью и чесноком.
– Андел мой, сохранитель мой, сохрани мою душу, скрепи сердце мое, враг-сотона, откачнись от меня, Спасова рука, Богородица сама...
– Баба, а это что? – перебила Тайка, но баба Васеня ткнула твердым пальцем по лбу, словно ожгла, и сразу закраснела и загудела голова.
– Ты, Тайка, бабу Васю слушайся. Я тебе не приневоливаю, ты мала-глупа, ум-от у тебя пока в ногах, но и в дела старших не встревай. – И опять зашепелявила беззубым ртом: – Стоят во граде три лика святых: Фома, да Лука, да Никита-великомученик, за нас Бога молят денну и нощну за грешную душу. Около нашего двора Иисусова молитва, Николина ограда, тын медный, ворота железны, аминем заперты, а на хоромах святая вода...
Баба Васеня говорит все глуше, словно засыхающий ручей на мшистых камнях, порой встрепенется, сухие косички вздрогнут над головой. В избе дремотно и сумрачно, скучно Тайке и одиноко, хочется бабины мышиные хвостики дернуть, но боится трепку получить, потому все стоит у окна, слушает, как егозят, топочут на повети девки да глухо льется на тесовые половицы мостков проливной дождь.
Глава четвертая
Уже и на вешнего Николу вода пришла и схлынула, а тяти все нет, может, и сгинул он, потому и мать белее холста, все молчком бродит по горенке, губы поджимает, словно что сдерживает в себе: хоть Донька не велик, на Успенье восьмой стукнет, но он все понимает. Желтоволосая мама Тина осунулась, сине под глазами, нос заострился и как-то подался книзу. Еще прошлой весной на окладниковском карбасе ушел Калина Богошков за кормщика на Матку – и вот до сих пор нет его. «Осподи, осподи, убереги его от злых сил, дай выстоять, – шепчет желтоволосая Тина. – Нынче во снях сиху-ягоду видела. Уж столько ее, море черное, разливанное. К слезам снится эта ягода, к слезам».
– Ты поди побегай, Донюшка, да с Яшкой Шумовым не водись. Экий сколотыш настырный, все чего-то выдумает.
– Не, мамушка, он хороший. Он ничего не боится. Вчерасе Петры Чикина жеребца хвост отсадил по самую репицу. Мы с ним си?лья скать будем.
– Ужо поймает Петра, уши вам оборвет. Ты не вяжись с Яшкой, сынок. – Тина оправила на сыне кафтан. Единственный сын-то, уж больше Бог не дал, а так хотелось деток, но, знать, не судьба, кому что на роду поставлено. – Ты на босу ногу не бегай, лапотки не скинывай. Долго ли простуду схватить.
– Не-не, мама, – прижался Донька к теплому материну животу, подышал в ситцевый, пахнущий хлебом сарафан, как бы нагрелся от него, а сам украдкой нет-нет да и на шесток взглянет, где блюдо с шаньгами наливными стоит. Вроде бы и сыт, да охота перед Яшкой похвастать, у него мать таких не печет, они все шти пустоварные намолачивают, аж за ушами пищит.
Тина стала камень-дресву толочь в ступе да щелок в лохани мешать, сразу запахло зольной водой да горелым камнем. Два березовых голика под порогом лежат, ждут свой черед, ой, придется им поскрипеть нынче. С Пезы взял Калина Богошков жену, от гряза?в-чернотропов привез, у них избы-то кушные, по-черному топятся и по всей-то деревне сажные черные дороги наторены, с того и зовут тех людей чернотропами. Но Тина не такова, отлична от них и лицом и рукодельем. Вот и нынче затеяла она большое мытье и ради весны, и за-ради души, хочется ей отвлечься, погасить нескончаемые думы. Сегодня два березовых голика изотрет-измочалит, каждое бревно вышоркает до морошечного налива, а по полу белому босой ногой ступить любо. Распахнула ставеньки, двери открыла; сквозь цветные стеклышки солнце пробилось, заиграло по избе, свежим сквозняком дохнуло из повети. «Осподи, Калинушка, дай спутного ветра». Заткнула юбки, заголила жилистые ноги, все двери уличные на запор, чтобы кто не подглядел, тут все наружу, тут одежда мешкотна и навязчива, как разойдешься, тут впору совсем растелешиться.
– Ты поди, Донюшка, побегай, да близко к воде не ходи. – Стала голик в ладонях мять, увлеклась Тина задельем, про сына забыла, а тот живехонько шаньгу наливную с блюда уволок и бегом из дома, только двери поветные схлопали.
Остановился Донька на взвозе и захлебнулся ошалело от счастья, от какой-то упругой радости, что поселилась в нем, и надо дать разгон, иначе лопнет Донькино сердечишко, ей-Богу, лопнет. И Донька засмеялся: «Ух ты...» – прикрыл хмельные от весны глаза белыми ресницами, ячменные волосы неслышно осыпались на лицо. Украдкой оглянулся, не следит ли мамка, хотел лапоточки под взвоз закинуть, да остерегся, палку меж ног сунул и помчался лошадкой, тпрукая себе под нос. Поспешил к реке, там заждался небось Яшка Шумов, а невольно у избы Егорки Немушки остановился, рот открыл, до того интерес забрал Доньку. Стоит, слушает, как пила словно бы моргает светло и спрашивает «вжик-вжик», и опилки, желтые на солнце, легко сыплются на черную утоптанную землю, на опревшие онучи Егора Немушки, на его опущенные плечи и на постоянный овчинный треух, сбитый на левое ухо.
Забыл Донька и про шаньгу, и про Яшку Шумова, который заждался, смотрит он на Гришку Деулю, и страшно за него: стоит мужик под самыми небесами в широкой посконной рубахе. Там, наверху, наверное, ветрено, потому что борода вехтем и закидывает ее за плечо. Тянет Деуля железо сквозь еловое бревно, и весь вид говорит, как ему весело. Он пыхает красными щеками, Егорку Немушку подтыкивает: «Дай деру, дай деру Немушке Егору». И Донька тоже тихонечко пропел в лад пиле: «Дай деру Немушке Егору». Завидно Доньке, вот бы на верхотуру попасть, весело там; не видно ему, что у Деули рубаха черная от пота. И у мастера Егорки жирные разводы на спине, но Немушко тоже светится лицом, потому что, слава Богу, весна, дожили до тепла. Нос у него утушкой, брови рыжие торчком, что-то свое мычит, может, песню поет, порой сплевывает, и лицо у него мохнатое от опилок. Может, он говорит Доньке: на, подержись за пилу, но мальчишке не понять мычанья; он подходит ближе и смотрит в некрасивый кривой рот, а Гришка Деуля сверху кричит, скаля зубы: «Эй, Донька, портки потерял, невест-то всех распугаешь».
Доньке страшно и весело, он высунул язык и закричал пронзительно, по-бабьи: «Дюля, ты откуля?» – так на деревне Гришку Деулю ребята дразнят, а мужик не обиделся, дурашливо зарычал, пугая мохнатыми бровями: «Оттуля я, от гуля». И Донька спохватился, вспомнил вдруг о приятеле, помчался к реке, скатился в овраг, а там было сумрачно еще и сыро, солнце заглядывало туда лишь на закате, оттого на склоне лежал линялый ноздрястый снег, пробитый мышиными норами. Донька скинул лапотки и, проваливаясь по колена, побежал снегом, душа у него охала, и холодно и пусто замирало под самой грудью. Выскочил на солнцепек, запрыгал голубыми ногами по обветшалой траве, белой, как Донькины ресницы, и скользкой, будто намыленной.
Тут, как ящерка, выскользнул неожиданно Яшка Шумов, сам озабоченный, глаза насупленные, волос на голове вигой, мать об его кудри отцов гребень весь извела.
– Ну чего ты, соня-засоня. Я тебя заждался, а ты как вчерашний день, – сказал Яшка взросло, переступая черными в цыпках ногами. – Пойдем вершу ставить в шарке, гам вода спала. Рыбу на костре жарить будем...
– А у меня во-о, – показал Донька крупяную шаньгу и хотя сыт был по горло, а похвастал и откусил, стал сладко жевать, причмокивая. – Хочешь? Мне не жаль.
– Не, у нас самих полно, мамка намедни пекла. Даже кулебяку рыбну. Думал, живот лопнет. Два раза на ветер слетал.
– Ну да, ври-ко? – не поверил Донька.
– Пропасть мне, если вру. Ой-ой, гли-ко, червяка съел, – вдруг закричал Яшка, пугливо замирая и хватаясь за живот.
– Где, ври-ко боле? – испуганно заморгал Донька, оглядывая шаньгу.
– Слеподыра, слеподыр, червяка слопал...
У Доньки замутило в животе, он шаньгу решил в снег закинуть и замахнулся уж, но побоялся Божьего гнева и раздумал, в ладони олабыш замял и стал слушать, как червяк в животе ползет.
– Только брось. Скажу твоему татке, что хлебом бросаессе. Он быстро тебе уши накрутит.
А Донька стоял немой, моргал белесыми ресницами и думал – заплакать иль нет?
– Ну ладно, давай, што ли, – снисходительно согласился Яшка и выхватил шаньгу. – Мой живот все стрескат.
– И ничего? – тихо спросил Донька, заглядывая приятелю в рот.
– Как ли нито... да авось. – И Яшка проглотил шаньгу.
Донька и мигнуть не успел, как ее не стало, только услыхал, как потрескивало у друга за круглыми прозрачными ушами.
– Еще хошь? Я приволоку, – тихо спросил Донька.
– Да ты што... да не... У нас своих во! Лопай – не хочу. Я за-ради тебя лишь! Айда на пашню коренье искать. Скус-но...
– Скус-но-о, – закричал Донька.
И, оскальзываясь на склоне, они помчались за деревню, где туманно парила и потела под солнцем отдохнувшая за зиму пашня.
Глава пятая
И пришли вслед за гусями-лебедями незакатные дни. Выбежит Тайка на взвоз, в небе птица всякая гомонит, девку выспрашивает: «Чья ты, летим? Чья ты, ле-тим?» А Тайка босыми ножонками топочет по нагретым бревнам, волосы льняные вспахивают, рубашонка на пузе топорщится, весенний ветер щекочет, как собачий язык.
– Хи-хи, ха-ха, – словно синица, смеется Тайка, машет гусям-лебедям и кричит: – Задний – наперед, задний – наперед.
Слышат гуси Тайкину просьбу, и, как пуговичка на застежке у бабушкиного костыча, отрывается крайняя птица, летит на самое острие клина, и вожак покорно уступает место. Нравится это Тайке, верится ей, глупышке, что небесные птицы слышат ее синичий голос, и она все кричит: «Задний – наперед» – до тех пор, пока не проглотит небо уже тонкую, как волос, птичью стаю.
На крыльях своих принесли гуси-лебеди незакатные белые дни, все сразу перепуталось, смешалось, словно льняные полотенца, отбеленные вешним снегом, развесила баба Васеня на оконца, и уже совсем не знала Тайка, когда ей спать нужно, а когда на угор бежать. Отворит она глаза, а будто и не спала вовсе: тараканы шебарчат и в призрачном ночном свете кажутся осколками желтой живой серы, которая течет от старинных лиственниц. Тайка любит жевать серу, горько от нее во рту и лесом пахнет. Порой ночью проснется, протянет ладошку в изголовье, а там у нее всегда липкий катыш серы лежит, с вечера еще оставлен, сунет его в рот и давай чавкать и слушать, как живет ночная изба.
В избе храп, тяжело спит тятя. Порой встряхнется он, словно подбросили куль с мукой, скрипнет деревянная кровать, мать вздрогнет и спросонья бормотнет: «Понеси тя леший». Тайке видно сквозь занавес ресниц, как косо встает, матюкаясь на мамку, отец – в серых исподних, мотня болтается у колен, идет клешнятыми ногами, как копытами, по мусорному полу, обязательно коту Лампейке наступит спросонья на хвост, да еще с досады поддаст ногой и потом пьет из медного ковша долго; и вода шумно переливается в вислом просторном животе, льется по рубахе, маленькими звездочками срывается с серой скомканной бороды на половицы.
Тайка грезит в утреннем плывучем свете и уже не знает, что засыпает вновь, а сквозь сон слышит, как баба Васеня тянет через нее квашню, потом растопку для печи, хлопотливо бормочет, подтыкая под Тайкины бока окутку, и от этого прикосновения шершавых рук девке особенно уютно и сладко спать. Но так же неожиданно, заслышав бряк деревянной лопаты и все эти хлопоты по обрядне, Тайка сама собой выплывает из сна, еще долго соображает, что к чему, лезет в изголовье за черствым комом серы, сует его в спекшийся рот и чавкает на всю избу. Смолка размякла, пристает к молочным зубам, Тайка ковыряется во рту и вместе с серой легко вынимает из десен зуб, хлопотливо выковыривает из жвачки, вытирает его окуткой. Зубик неровный, кривой, как шильце, которым татка подшивает катанцы. Тайка бросает зуб в запечь и шепчет: «Мышка-мышка! На тебе зуб костяной, дай мне коренной».
В избе уже пахнет хлебом, баба выкатила караваи на стол, сверху домотканым утиральником накрыла, чтобы отошел ситник, набрал ржаной дух, погладила лопатистой ладонью и словно согрелась; Тайке видно, как сразу отпотели и очистились бабины глаза.
– Тайка, ты все одно не спишь. Спровадь меня в баню... Ну поди, поди ко мне, чудо-юдо, девка с глазами. – Сняла Тайку с печи, дала шлепка ласкового, нос утерла, горбушку отломила от каравая. – Потатчица я, ну, да ладно, быват и простится. Одна ты у меня, ласковая...
А потом они сидели на чердаке, на старых берестяных коробах: тут пахло пылью, прошлогодними лежалыми объедьями и легким тленом. Баба Васеня чихала, снимая с длинных шестов прошлогодние веники: последние банные припасы, что хранились на Аграфену-купальницу, трясла ими в воздухе, будто приноравливаясь, как ядренее хвостануть себя по спине; листы опадали, и в солнечном свете плыли бабочками-капустницами. Тайка снималась с короба, ловила сухие листы, и они с хрустом лопались в ее ладонях, оставляя зеленую пряную пыль.
Целую охапку веников понесла баба в баню, и Тайка взяла веник, чтобы погадать на свою судьбу. Вода в бочке уже забукосела от грязи, покрылась серым налетом, и ползали по ней жучки-паучки; сажа куделью висела на черном потолке и шевельнулась неожиданно, когда раскрыли дверь. Баба Васеня зашла в баню, а Тайка робко выглядывала из сенцев, глаза у нее потемнели от страха, что-то косматое шевелилось в дальнем углу под самым потолком: знать, там и живет баннушко-чертушко с большими зубами и красными глазами. Тайке страшно, она тихонечко покрестила себя пониже пупа, подумала и бабу Васю осенила крестами, невольно присела.
– Ба, а тебе не страшно, ты не боиссе баннушки? – спросила из-за спины.
У бабы розовые от натуги глаза, она дула под черные каменья, шевелила ленивый огонь, чтобы распалился он, побежал по дровишкам. Потом долго отпыхивалась, пока пришла в себя, приставила к двери черемуховый кол, на бережок села и Тайку к себе притянула на колени.
– Глупо ты, чадо, неразумно. Зверь на доброго человека зуб неймет. Дьявол, он ведь противу доброго молодца другого человека сотворил – разбойника-находальника.
У бабы Васени щеки совсем сухие, нос висюлькой почти до губы, и под носом всегда мокро. Тайке почему-то жалко бабу Васю, она еще плотнее прижимается к мягкому ее животу и теребит белые косички. А тут совсем родилось солнце, покатилось над Пыей-рекой, за дальними рыжими болотинами и синим дремотным ельником; вода в Курье заиграла, прибрежные глины-няши заплавились, затлели утренним солнечным жаром. Мелкая вода в Курье, совсем кроткая и желтая, как брага; рыбы-малявки кидались в верхние струи, и тогда по недвижной воде шли белые круги. Комары разнылись у баньки, толклись над самым угором, но горький березовый дым пугал, и они серой пылью оседали в прохладные заросли лебеды и крапивы. Бабу Васеню сморило совсем, она еще какое-то время смотрела на дремотный покой, о чем-то вздыхала, гладила внучкину голову, потом сказала вдруг: «Люди ведь как трава: их секут, а они растут. Осподи, с такой земли бы не уходил». Она еще что-то шептала свое, уже неслышное, голова ее стала вздрагивать чаще, нос висюлькой скатился в самый подол, и баба устало всхрапнула, припадая телом к земле...
Днем вся Дорогая Гора мылась в бане, потому что нынче Аграфена-купальница, нынче гадание на банные веники. Баба Васеня девок перемыла, выпроводила на заулок, потом и последнюю внучку отхлестала березовыми листами, на лавке-полке раскатила и долго мяла железными пальцами, словно кожу снимала.
– Животик-то рахитный. Мы тебе животик-то поправим, – бормотала баба Вася. – Ты хлеба-то много не ешь, у тебя матин животик. А подобает всякому человеку беретчися от хлеба недопеченова, ибо великие болезни от того рождаются; да не едим хлеба горячева или гораздо мяхкова, да пусть переночует...
Целую шайку воды выплеснула на девку, и та сразу распялилась, задохнулась, зафуркала, прийти в себя не может, а баба Васеня с полка стянула, не дала опомниться, осушила внучку тряпицей, под мышку веник сунула, а сама уж хлестаться не стала. Умаялась она, ей бы сейчас кваску холодного да на лавку пасть. Плеснула на себя из ковша, вот и все мытье, один веник парной на полок положила, второй – с собой взяла, на пороге поклонилась и сказала: «Спасибо тебе, баннушко, на парной банечке».
А там, где Курья приворот делает под самый каменистый берег, столпились на влажной осотной лужайке мужики и бабы, топчут еще мелконькую острую траву осоту, под ногами ребятня путается: для них редкая забава. Людишки все медные от бани, на ситцевых рубахах потные разводы, банный и бражный дух прет от православных за добрую версту. Влажными, черными от мытья вениками от гнуса комариного отмахиваются и березовый лист, просохнув на лету в палючих воздухах, уже на землю падать не спешит, а летит косо, на потеху ребятишкам, потому что ошалелые собаки несутся за листами, как за большими зелеными мухами хватают, кусают их с ходу, чихают от березовой жгучей пыли и со злости задирают друг друга.
Пятилетняя Тайка у бабы Васени за спиной прячется и не отпускает ее тяжелую, как весло, руку: жутковато Тайке от веселья, которое заполняет ее нутро, от солнца, что печет белую голову, от множества брехливых собак, от бородатых мужиков и надоедных ребятишек. Баба Васеня что-то бормочет, часто крестится, выдирает из Тайкиной ладошки свою корявую ладонь, и потому девку покачивает, но она ногами стоит крепко и сразу ловит другую бабину руку.
Тут кто-то дернул Тайку за рубашонку, в ухо крикнул: «Жук навозный». Это Донька и Яшка промышляют, уж мимо не пробегут, чтобы девок Чикиных не задеть. Яшка малой, а заводила, беда какой обормот, все чего-нибудь надумает: сразу Тайкину рубаху на плечи задрал, девкин рахитный животик на стыд выказал да своей ногой Тайкину прищемил и в плечо рукой подталкивает, чтобы девка на землю голой заднюшкой села. А Донька Богошков голубые глаза ширит, палец во рту сосет. Потом вытащил слюнявый палец изо рта, запел:
– Девка глупа, нету пупа, пуп на елке, съели волки.
– Девка без пупа, девка без пупа, – запрыгал Яшка, а Донька снова палец в рот и хлопает белыми ресницами.
– А ты тоже, – робея, сказала Тайка, пересиливала себя, чтобы не заплакать.
– Что тоже? Тоже негоже, тоже по роже, – по-гусиному зашипел Яшка, сделал разбойное лицо и неожиданно ухватил Тайку за нос, да так больно, что два светлых соленых жука родились в уголках глаз. – Ну чево тоже? – Яшка еще сильнее ущемил нос, и глаза его стали темнее и страшнее.
– Ты тоже беспуный, – решилась и сказала Тайка, беззвучно плача крупными редкими слезами. А Донька опять вынул изо рта мизинец и запел:
Кто тоже, тот погана рожа...– Ба-ба, – наконец громко заплакала Тайка, дернула бабу Васеню за костыч. – Ба, а чего они дразнятся.
– Кыш, находальники, чего девку Таиску забижаете, – прикрикнула баба Васеня и, не оглядываясь, пробовала зацепить которого ли, да где там: их будто ветром сдуло.
Тут что-то ровно вздохнуло, легкий ветер пришел с моря, всколыхнул устоявшуюся мару, шевельнулась вода, и родилась на ней легкая синяя рябь. Толпа взволновалась, катаясь на скользкой няше, топая по ней и проседая по самую щиколотку. Стали забродить в ручей, кто-то смеялся, кто-то громко рыдал, выли собаки, их тягучий надрывный лай приносил тревогу и ощущение несчастья.
Баба Васеня тоже повлекла Тайку за собой, крепко прихватив ее за руку жесткими ревматическими пальцами. Глина обнимала Тайкины ножки, тягуче выкручивала из пахов, в самом низу животика было больно, а пяткам щекотно от прохладной няши. Потом все бросали в ручей жухлые от жары, почти безлистые веники, которыми хвостались в бане; и с суеверным страхом, часто крестясь и всплакивая, смотрели, как тонут они в желтой бражной воде и опять всплывают черными прутьями вверх и лениво крутятся в нарождающемся водовороте.
Баба Васеня бросила свой, почти целехонький веник, и Тайка слабой рукой подкинула исхлестанный и нагой, вернее, несколько корявых прутиков, которые она крепко сжимала в ладони. Охвостья до ручья едва долетели и упали на самую отмель, покрытую маслянистой лазурной пленкой, но откуда-то взялась волна и подхватила Тайкин веник. Он было захлебнулся в непрозрачной воде, на какой-то миг затонул, и баба Вася испуганно шагнула навстречу, дернув внучку за руку, но тайные невидные родники подняли узловатые, обстеганные прутики, и они закачались в ручье, будто взъерошенная мертвая ворона.
– Ну, слава те, осподи, значит, год живем – не помрем. Пойду самовар наставлю, а ты от реки подале, не толчись у воды.
Тайка еще видела, как баба Вася, перегнувшись в пояснице почти вдвое, тяжело поднималась в угор и маленькие розовые камешки снегирями отлетали от чуней. Но тут пронзительный, радостно-неистовый крик покрыл весь угор, – казалось, вскрикнула от внезапной боли какая-то великанская нездешняя птица:
– Сем-га-а ва-лит!..
Волна шла в шар навалисто, густым рыжим потоком, широко и слоисто, неслышно подминая под себя нижние пласты, и буквально вспухала, переливалась через края, как угревшееся в квашне тесто, затопляла черные глубокие следы, и мелкий бисер пузырьков сеялся поверх воды, словно внизу, на дне человечьего следа, уже поселился губастый окунь. Чайки летали над бражной водой, пронзительно кричали и хмелели, теряя белую слюну, ослепительно вспыхивали под солнцем и казались слепленными из воска. А на округлой глади протоки все резались и вспухали крутые дольные морщины, будто ручей стремительно старел. Это семга, ослепнув в мутном потоке, задыхаясь и тараща покрасневшие глаза, вырывалась на верхние, пробитые солнцем витые струи, и тогда косо срезанные черные гребни, так похожие на острие стрелецкой алебарды, мчались поверх воды, точно обрезанные от живого, стремительного тела.
Семга задыхалась, покинув море, но с отчаянием обреченного она рвалась туда, где ждали ее извечные родовые ямы, где из набухших икринок вылупились на свет Божий ее мать, а потом и она сама, и ее многие дети. Семга оглохла и ослепла от неистового желания, ее упругий хвост дрожал, как нерв, и только нежной кожей боков, которую до крови исцарапали песчинки, она понимала, что плывет не одна. И вдруг азартный зов, что взбаламутил Дорогую Гору, пронзил и налившийся стремительный ручей до нижних темных вод: будто тысячи рачков-капшаков впились в семог, и они распластались в своем движении на самой верхней и светлой морошечной воде.
А мужики, в одно мгновение забыв, что очистились от скверны, что завтра Иванов день, катились с угора, на ходу сбрасывая верхнее платье, и в одном исподнем, а кто и без, не стесняясь баб, – до этого ли сейчас, осподи, потеха-то какая, – сыпали в Курью, в крутые бражные струи, и сразу же исчезали по пояс в жирном вареве, и там, где брызги падали на белое тело, засыхали рыжие веснушки глины. Мужики становились живой нервной стеной, и в зыбком солнечном свете ослепительно вспыхивали остроги и вилы, охотничьи ножи и кривые длинные шилья с зазубринами на концах.
А на берегу, оскальзываясь на каменьях-голышах, дрожала от непонятного волнения и счастья Тайка. Она дрожала и, покачиваясь, тянулась к самой воде, в голове у нее мутилось, слегка подташнивало, наверное, от голода, и мелконькая затопленная трава зябко щекотала ноги.
Тайка и не заметила, как вошла в ручей по самые щиколотки, и вода омочила посконный подол: девка вглядывалась в глубину, и, наверное, от напряженья голову окружало, и невольно тянуло присесть. И может, показалось Тайке иль слишком желала она того крохотным сердчишком, но, оставляя за собой пенистый неровный след, от середины переполненного ручья кинулась в деревенский берег испуганная семга и неожиданно ткнулась в тонехонькие и слабые Тайкины ноги. Девка зачарованно и как-то недоверчиво смотрела на черную пятнистую спину, и косо срезанный взъерошенный гребень, и в студенистый выпученный глаз, все еще не веря своему счастью, потом стала неловко и осторожно приседать, опуская в воду ладони. И когда семга, вспугнутая живым движением руки, метнулась в сторону, Тайка повалилась в ручей, ловя упругое скользкое тело рыбы. Потом она попробовала встать, но ноги ее оказались в пустоте, и Тайка сразу обмякла, ее потянуло вниз, стало вдруг страшно, и, откинув назад, чтобы не захлебнуться, такую тяжелую голову, Тайка закричала пронзительно:
– Баба Ва-ся!..
Этот вскрик утонул в человечьем и птичьем грае, как-то никто не заметил, что тонет крохотная девка, да и до нее ли было в этой радостной суматохе. И только баба Васеня поймала Тайкин голос, потому что ее вроде бы рвануло за самое сердце, и она вдруг увидала, что внучки на берегу нет: растерянно крутнулась туда-сюда и, к ужасу своему, нашла Тайкину обмокшую голову в обезлюдевшей, переполненной Курье.
И баба Васеня, будто птица-журавлиха, мотая рукавами льняной рубахи, слетела с красного, почти кровавого от солнца угора и, не успев придержаться, так и упала в ручей, загребая ладонями воду. Она пробовала встать, но сразу не смогла, сбивала с ног быстерь, валила на спину, и потому баба Васеня поползла, проседая руками в тягучей няше. Но вдруг, толкнувшись белугой, кинулась к Тайке, вернее, к тени ее, которая еще слабо просвечивала сквозь освещенную воду.
Баба Васеня не умела плавать, да к тому же и скатилась-то в омуток, вырытый пришлыми водами. На последнем воздухе, что копился в самых закрайках нутра, она подхватила увядшее Тайкино тело. Сквозь пелену баба Васеня еще видела внучку в своих руках над самой головой, призрачную и совсем легкую, словно птичье крыло. И, толкнувшись ногами от вязкого дна, сколько могла, рванулась вверх и, как садила хлебы еще утром в протопленную печь, так же катнула Тайку по воде в сторону берега...
Тайку за ноги опрокинули вниз головой, и вода тягуче и горько, выматывая душу, хрипло вылилась вон. А бабу Васеню нашли на морском берегу через неделю и привезли в деревню распухшую, черную и неузнаваемую. Было жарко, и когда баба Васеня лежала в наспех сколоченном гробу, над нею противно вились и гундосили мухи. Тайке было страшно, она сидела на печи и неотрывно смотрела то на плешивую голову читальника, то на грубую тесовую домовину на лавках, на чужое, в синих пятнах лицо и на опухлые козонки пальцев, сжимающих свечу, на которые капал удушливый воск. Тайка подумала, что бабе Васене, наверное, больно от горячего воска и тесно лежать недвижной и сдавленной еловыми досками. В кухне было удушливо и трудно дышать, хотя и открыты настежь все двери; по лавкам сидели и судачили бабы в черных платках, ровесницы Васене; они поминали Гришку Носырю, который залился еще о прошлом годе, но так и не нашли хрещеного, а уж бабе Васене как повезло, что во родную землицу ляжет.
В тот же вечер, как поспела могила, бабу Васеню отпели и спешно положили в землю, в стороне от кладбища, и когда ночью все спали, она пришла к Тайке, живая и настоящая, с обгоревшим до медного блеска сухим лицом и с белыми хвостиками косичек, выглядывающих из-под повойника. Девка не удивилась и не испугалась, а спросила, радостно замирая: «Ба-ба, там тебе весело?» – «Как не весело-то, внучка, во спокое мы там», – сказала баба Васеня, и глаза у нее были нестерпимо-зелеными, как вешний березовый лист, пронизанный солнцем. «Ты меня возьми, баба. Мы будем с тобой на чунках с золотых горок кататься», – попросила Тайка, стараясь обнять бабу и, как бывало, прижаться к ее мягкому теплому животу, но баба Васеня вроде бы неслышно отплывала и все говорила затухающим голосом: «Бог с тобой, Таюшка. Ты молода, Бог с тобой. Поживи на земле-то, поживи. На земле родной порато[16] хорошо, куда как хорошо...»
Глава шестая
Мать принесла телушечку, тонконогую, вислогубую, с мокрыми карими глазами и всю черную, будто ночь, с двумя крохотными белоснежными заливчиками над передними копытцами. Мать поставила телушечку на жидкие ноги, и копытца поехали в разные стороны. Чернушка стала заваливаться на пол, хорошо, ее подхватил Яшка: он так и держал ее, дрожащую и мокрую, с тонким острым крестцом и слюнявыми губами, пока-то мать набросала у порога стогодовалой соломы, сохранившейся от прошлой коровы, и уложила туда чернушку.
– Теперь заживем, – сказала Павла, и горестное плоское лицо ее на миг осветилось хорошей улыбкой. – Петра Чикин дал за помывку бабы Васени. Помой, говорит, бабку, а почему бы мне и не помыть. Осподи, как, сердешную, раздуло. – Павла говорила непрестанно и все жевала губы, встряхивала простоволосой головой, не отводя взгляда от телушки. – Не заметим, как и подрастет кормилица наша. На, говорит, скотинку заместо денег.
– Ишь ты, – взросло подхватил Яшка, губы трубочкой вытянул и довольно переспросил: – Так и сказал?
– Угу...
Павла сидела у мокрогубой скотинки, обтирая холщовой тряпицей, а Яшка сзади навис к матери на спину, лохматя жидкие волосы.
– Заживем тепере?
– Ну пошто не зажить. Много ли нам нать, сиротинам, – ответила мать, быстро собрала на стол немудреную выть. Сама не ела, что-то не хотелось, села напротив Яшки, подоткнув кулаком горестное лицо, не снимала с сына взгляда и все дивилась, до чего же похож на отца. Вылитый Степанко: и волос егов, и губы, и похмычки. А ведь могло и не быть Яшеньки, как бы тогда жить?
– Ты ешь... ядреней ешь-то, понажористей. Быстрей вырастешь, – наставляла сына, а саму отчего-то тянуло поплакать тихонечко и наедине. – Ты не бедокурь на деревне, слышь? Пошто у бабы Фросиной козы рог обломил? Беда прямо с тобой. Сам не больше катанца, а смотри, что творишь... Пришла даве, жалуется: «Твой прохвост мою козу молока лишил».
– А чего она дразнитце?.. Откуль такого сколотыша Павле надуло? – передразнил Ефросинью и пообещал: – Вырасту, все окна высажу.
– Я тебе высажу. В кого только горлохват растет? – спросила себя и сразу осеклась, поняла, в кого Яшка удался. «Оборони от несчастий, – подумала, – не дай парню пропасть. Семый год идет, а все мужичьи похватки. Ой-ой-ой». – Бог мне тебя, Яшенька, на счастье дал.
– Бог, Бог, могла бы и татку иметь. Где растеряла? Все не как у людей...
– Осподи, чадушко ты мое, – сначала засмеялась, потом заплакала, закраснела глазами, нос сразу распух. – Ну иди ты к матери, она тебя приласкат.
– Приласкат, приласкат. Телю-то чем кормить станешь?
– Мужик ты, мужичок. У тебя и рассуждение все натуристое.
А Яшка не дослушал, отмахнулся рукой, побежал, топоча босыми железными пятками по скрипучим половицам, только рубашонка завилась в коленях. «Осподи, прибрал бы в порты, запнется да падет», – подумала Павла и закричала, поспешая следом:
– Ты куда?
– На реку, – донеслось с улицы.
– Смотри не утопни, утопнешь, дак домой не приходи, – устало махнула рукой, уже бездумно села на лавку в переднем углу, запрокинула голову и тупо смотрела в черный провал дверей, и белые подвижные тени на пустынной длинной повети, и на обыденно примелькавшийся гроб, который Павла в свое время поставила на попа, приладила досочки и ныне складывает туда всякую еду, пряча ее от надоедливых котовьих проказ.
А Яшка торопился угором, просто так спешил, не зная куда, уж такая у него была привычка, все бегом, все бегом, тут и поймал его Петра Чикин за подол рубашонки, зажал меж толстых ног, будто двумя бревнами придавил. Был Петра в синей пестрядинной рубахе, растерзанной до пояса, рысьи глаза посоловели, дырчатый широкий нос увлажнел, и от мужика нетерпимо накатывало пивом, как от хорошей бочки. Знать, добро помянул бабу Васеню еще намедни, а сейчас сомлел от еды-питья и сидел на ступешке крыльца гора горой.
– Куда дорогу правишь. Яков? Как тебя по батюшке там, надо будет у матки спросить, пусть ответствует, – спросил Петра и сдавил Яшку коленями, как коричневую лесную ящерку, и парнишка весь изогнулся, и казалось, оставит сейчас у Петры нижнюю часть тулова, но Яшка – не ящерка, а мальчишка по седьмому году. – А ну, винись, не ты ли у моего жеребчика по весне хвост отнял? – И закрутил ухо, да еще вместе с головенкой так, что Яшку просквозило горячей болью до самых пяток. Он внутренне длинно простонал, глотая в себе слезы, но крохотный прозрачный родничок все же родился из смородиновых глаз и просочился на замурзанные щеки. Но простодушно-наивными глазами Яшка глянул на Петру Чикина и сказал:
– А че он мне в лицо хвостанул. Я и осердчал.
– Он осердчал. Ну и находальник, разбойник, весь в тятьку, – по-лошадиному заржал Петра, его сырое тело колыхалось, и живот тяжело вылился из портов, белый и огромный, с рыжей пуповинкой посредине.
– Он осердчал, ну ты таковящий... Экий ты языкастый. Дак чей будешь? – не отставал Петра, но колени ослабил и ухо отпустил, а Яшке почудилось, словно отняли от лица горящую головню.
– Богов я...
– Ишь ты, Богов, значит? – Петрины глаза чуть прояснились, и в них родилась дальняя тупая мысль, похожая на воспоминание.
– Мне мамка сказала, что Богов я.
– Ну и ладно, хрен с нимо... пусть Богов... Видел, какую корову я твоей матке дал?
– Ври боле. До этого молока помереть можно.
– Да ну? – удивился Петра. – Смелой ты на язык.
– Смелой, – согласился Яшка, соображая, как бы лучше улепетнуть. – И матка баит, что порато смелой Ой, гли-ко, портки потерял, бабы хохочут.
– Где-где? – удивился пьяно Петра и ослабил колени, а Яшка выскользнул прочь, уже чувствуя свободу и торжествуя ее, но тут мужик опомнился, круто перегнулся и длинной корявой рукой подхватил мальчишку за штанину и потянул к себе, как худого теленка, заголяя Яшкину костлявую задницу.
– Пусти-и, – неожиданно заверещал Яшка, предчувствуя беду и становясь самим собой, семилетним сиротиной. – Скажу матке, что забижаешь, она тебе бороду выдерет, козел вонючий. – Слезы рванулись неудержимо, и Яшка захлебывался в рыданиях не в силах уже оборвать и потушить внезапное горе.
– Ну че ты, ужо погоди, – растерянно бормотал Петра, не ожидая таких слез.
– Козел вонючий, кукушку сьел, все скажу, – выл Яшка на всю улицу, распаляя свою душу и ожидая, что услышит его слезы мать и примчится на помощь. – Сиротину забижаешь, совести нету, – причитал Яшка, вспоминая материны присловья.
– Отпусти парня, что пристал, налил глаза, ничего уже не зрит, – выскочила на крыльцо Августа, хотела мужика по голове съездить, но Петра, по-медвежьи громадный, развернулся и рыкнул:
– Загунь[17] , колода пуста...
– Загунь. загунь, слова доброго не скажет, ирод пузатый, – запричитала Августа, скрываясь в притворе дверей, но тут в пьяный разум мужика пришла новая хмельная мысль, и он закричал вослед бабе: – Пива нам, пива сюда. Хошь пивка на солоде? Язык липнет с него, ли-и-пнет язык-от. Баба-то стерва у меня, ой, стервь, а пиво варит, варит пиво-то. Чево есть, тово не отымешь. Колода вислобрюха, ступа березова, наплодила одних девок... Последню-то девку принесла как, я топор со злости схватил, дай, думаю, отрублю себе эту штуку. А она еще ревит, погоди, не руби, может, на что ли и сгодится. Ей, значит, сгодится, а парня принести не может... А хошь, Тайку отдам в жонки, расти быстрей. Пи-ва таш-шы, ступа березова, – опять закричал в полую дверь.
Пиво вынесла старшая девка Евстолья, широколицая, носатая, поставила бурак берестяной подле отца и поскорее скрылась в избе.
– Наплодила уродин, – бормотал Петра, мусоля пьяными губами Яшкины щеки, все прижимая мальчишку к себе, а тот воротил лицо на сторону, задыхаясь пивным перегаром и смиряясь с такой оказией. – Ты не реви. Myжик ведь, а ревешь хуже бабы. Порку бы тебе задать хорошу за таки слова, ишь, обзыватся как, скотина мала. Какой я тебе козел вонючий, я тебе Петра Афанасьич, слышь, ирод проклятый? – опять возвысил голос мужик, раскаляя пьяное воображение.
– Да, – захныкал Яшка, – сам бьешь дак...
– Бьешь дак, – передразнилПетра. – Ругатца будешь?
– Не-е...
– Ну то-то. Пива хошь?
– Не-е-е...
– А скусно пиво-то, ох скусно. За татку свово пригубь.
– Нету татки, Богов я.
– Ну-ну, леший с тобой, а ты пей, – все тише и напряженней бормотал Петра, пьяно наваливаясь к Яшке и занося над ним березовый бурак. Тоненькая желтая струйка пролилась мальчишке на волосы, на лицо, и Яшка невольно подставил рот, потому что деваться было некуда, и стал глотать густое сладкое пиво, захлебываясь и сопя, и представляя себя мужиком. Пиво текло по рубашонке, залилось в портки, и когда невмочь стало Яшке, он, задыхаясь, замолотил Петре в просторный гулкий живот и обвис на коленях. Яшка услышал, как легкий огонь словно бы воспламенился в груди, головенка стала легкой и пустой, сразу забылись недавние слезы; мальчишку распирал смех, и он тонко хихикал, прижимаясь замурзанной мордочкой к лохматой Петриной груди.
– Ну как, скусно?
– Ску-сно...
– То-то, еще хошь?
– Не-ка...
– Тогда поди прочь, сколотыш, – отпихнул Петра парнишку, сам запрокинул бурак, и пиво гулко и сыто полилось в его просторный живот.
Яшка поглядел, как пьет Петра Чикин, и хотел пойти к реке, но только ноги почему-то потеряли прежнюю упругость, стали слабыми ивовыми прутиками, голову стремительно вскружило, и понесло Яшку, как заправского петуха, на землю, потом он и вовсе потерял себя, лежал на спине и блаженно хихикал, дрыгая ногами.
– Слабак еще, а я хотел Тайку за тебя отдать, – хмельно бормотал Петра, осоловело водил глазами по улице, потом, будто гусиное перо, сунул Яшку под руку и понес угором в дом. Павла кинулась навстречу, разглядев кудрявую сыновью голову, сразу заойкала: как же это да что с ним? – а Петра только ухмыльнулся, скалил желтые лошадиные зубы: «Ну что разоряессе? Ну выпил мужик, подумаешь, велико дело».
– Дак какой он мужик, – причитала Павла, не зная на что и подумать и что предпринять. – Семой годок ребенку. Где он нахватался эдак, Петра Афанасьич?
– Чево не знаю, тово не знаю. Иду, гляжу, лежит парнишка совсем плох, лыка не вяжет. Подобрал, – говорил Петра, а сам ухмылялся, потом привалился на лавку, гулко икая.
Павла в холодных сенях, чтобы легче было сыну, бросила оленью постель, осторожно закатила Яшку, Господи, совсем лягушонок. Он лежал с закрытыми глазами и что-то свое говорил, поминая татку и Бога, порой искал узкой ладошкой материну руку и тонко звал: «Мамушка, где-ко ты?»
– Эво, сынок, я. Ну что же ты эдак по-худому, а? – Павла стояла на коленях, закинув над сыном плечи, и серая холщовая юбка плотно облила ее широкие нескладные бедра. Петре в проем двери была видна ее неохватная спина и все тугое устойчивое тело, и неодолимое желание проснулось в мужике. Но он томился на лавке, словно бы не решаясь стронуться с места иль поджидая чего-то. А когда Павла пришла к печи и поднялась на приступок, развешивая мокрые сыновьи портки, Петра не сдержался боле, по-рысьи вскочил, неожиданно легко для его громоздкого, пьяного тела, и снял с приступка оробевшую бабу. Павла крутила большой редковолосой головой, все хотела взглянуть Петре в лицо, может, шутит мужик, но не могла, а только вяло повторяла, несильно поводя плечами и упираясь локтями:
– Ну, закоим так, Петра Афанасьич? Осподе, закоим так?
– Ты молчи, ты молчи. Жеребенка хошь? Дам жеребенка, лошадью будет.
– Осподи, Бога побойся, – испуганно упрашивала Павла, сонно покоряясь этой силе. И уже потом, на лавке, измятая и выпитая, все повторяла недоуменно и тупо: – Боженька, пошто же так-то? Пошто же так-то со мной, за какие грехи? Осподи...
– Ты молчи, молчи только, я к тебе похаживать буду, – боязливым шепотом утешал Петра, чувствуя в себе непонятную жалость к Павле и странную неодолимую боязнь чего-то. И они еще недолго сидели рядом, удивительно схожие, как брат и сестра.
Часть третья
Глава первая
Вот и Аграфена-купальница отошла, когда коренья и травы целебные ищут, а Калины Богошкова все нет, как в воду мужик канул. Желтоволосая Тина и в Мезень наведалась – весточку узнать, ведь слухом земля полнится, но и в городе не то обнадеяли ее, не то огорошили, сказали только, что раньше Спаса мужиков с Матки ждать нечего.
Реви не реви, а жить надо. Трава грубеет, солнце сушит ее, уже метельник роняет желтые охвостья, и плешивик[18] разделся. Ныне лето на удивленье, после майских проливней все тепло да тепло стоит, земля уже не парит, и сухой слюдяной воздух над хлебами желт от солнца и непрозрачной пыли. Дорогая Гора опустела: мужики – на промысле, бабы – на лугу, и только стар да мал караульщиками в избах, только те и в дому, кто под стол пешим ходит да кто с лавки едва подъемен. И желтоволосой Тине тоже пора на пожни, а она все чего-то еще ждет, время тянет, хотя сена метать самая пора. Ведь в хлеву две коровы да телица на зиму встанут, ну, правда, старуху комолую в осеня забивать надо, а остальных животин да пятнадцать овец чем держать? «О-ох-ох», – горевала Тина, скучнея лицом, и заделье из рук валилось, ничего не веселило жонку, и голубые глаза потускнели, словно бы морозом подбило их, но медлила баба, все думалось ей, только она за реку, тут и Калина в дом. И Донька тосковал, улица не радовала его, потому что дружка закадычного Яшки Шумова нет в деревне.
Но однажды в самое утро приехал дядя – Гришаня Келейный, – и все сомненья разом решил, повелел собираться на пожни: и целый-то день желтоволосая Тина металась по избе, пекла хлебы погуще да пироги попостнее с треской и палтосиной, чтобы не плесневели на жаре – ведь на сенокосе то и поешь, что с собой захватишь.
Далеко богошковские пожни, считай, что на краю света. Не нужда бы, так за двадцать верст порожистой рекой век не поехал: только двое суток подниматься, а там уж человека встретить – настоящее диво. Тина в карбасе стояла, толкалась шестом, у нее руки выломило от такой работы. Река вовсе обсохла, вытончилась на перекатах, вила косицы средь глыбастых камней, обтянутых жирной, хвостатой зеленью, а по самым берегам коричневая ряска стояла, и во множестве среди бронзово-серых лопухов заманно влекли кувшинки.
Донька на носу на оленьих одеяльницах сидит, он как бы на подгляде, упреждает, что впереди да как бы на камень поперечный днищем не встать. Мать сказала, что Донька тоже работник, а он и рад стараться: порой берет веселко и загребает, норовя заглубиться покруче в прозрачную струю. Донька быстро устает и тогда отваливается спиной на бортовину и жалостно смотрит, как упирается берегом дядя Гришаня. Доньке видно, как над ним постоянно стоит черный живой столб: гнус, качаясь над мужиком, ноет, отыскивает прорешки в белой рубахе с чайными разводами пота, забивается под распахнутый ворот, куда не достает сетка накомарника. У дяди обгорелые кисти рук повиты толстыми жгутами вен, и на плече глубоко вдавился след от лямки, за которую и тянет дядя Гришаня. Доньке жаль его и завидно, он порой вскакивает на нос карбаса, готовый спрыгнуть на берег в жесткий перезревший осот, и хнычет: «Мам, я с дядей Гришаней». – «Сиди давай, я тебе покажу с дядей Гришаней», – одергивает желтоволосая Тина.
А речка петляет суземьем, из чащинников наносит жаром и болотистой гнилью, и душным запахом таежных цветов; порой густоперые ели выходят о самую воду, ощерив рубчатые змеистые коренья. Тут берег обычно моховит и крут, он таинственно проваливается в непрозрачную воду, и редкие льдистые кувшинки стараются обойти это место стороной, выгибаясь на длинных мясистых стеблях. В такую черно-коричневую воду смотреть жутковато, из ее глубины часто всплывают один за другим глазастые пузыри, и Доньке чудится, что там, на моховом дне, сидит водяной, зубастый и мохнатый, как вывернутая овчина. Порой Донька устает смотреть, постоянное и ровное течение струй кружит голову, на мальчишку наплывает сладкое блаженство, и он засыпает, не замечая ни того мгновения, ни самого сна, пока лодка не толкается в берег. И Донька вроде бы и не спал, сам собой поднимает легкую голову и видит на берегу прозрачно-белый свет костра, мать, готовящую ужин, и устало опрокинутое в траву тело дяди Гришани.
Так же незаметно кончилась для Доньки речная дорога, когда лес посторонился и низкие бережины, матово-серые в предночном серебристом свете, подступили к самой воде. Вечернюю выть не готовили, а так и пали в траву, как пропащие лошади. Но на свежем воздухе часа за три взяли свое, без петухов, по внутренней душевной нужде, проснулись сами собой, когда солнце еще не заиграло над лесом и роса тяжело и студенисто влекла к земле захолодевшие цветы. Пока солнце не встало, нужно ловить утренние прохладные часы. Прямо из реки напились, попутно плеская на лицо и грудь, вздрагивали, приходя в себя, и тут же приценивались, с какого края начинать и как лучше валить застоявшуюся траву; потом друг за дружкой встали по самой середке поляны, где солнце раньше всего выпьет росу, и замахали горбушами.
И Донька азартно вступил в работу, срубая косой под самый корень жилистые дудки кипрея и белые султаны каких-то пахучих трав, похожих на корянки, и мохнатую кашку, и небесные колокольцы, в которых еще спали шмели; он махал горбушей, тяжело проволакивая узкое косое жало, словно тащил горячее железо плотницкой пилы сквозь сырую неподатливую деревину. Порою Донька скрывался по плечи и тогда барахтался в бешеном лесном травостое, как в стремительной воде. Он сразу взмок, порты набухли от росы и противно вязали ноги, потный жар окутал голову и закружил ее, заныли плечи, и обвисли руки, захотелось окунуться в реку и сидеть в ней, распялившись по-лягушьи. А мать словно бы забыла о сыне; спешила встречь наплывающему солнцу, вся окутанная паром, и вслед за нею плыли черные комариные облака. Желтоволосая Тина рубилась в зеленом омуте с покорностью, она не спешила, ибо знала, наученная жизнью, что спешить нельзя; порой отбивала осевшее полотно, и к Доньке убегал железный веселый звяк.
Вскоре Доньке заскучалось, он хотел побежать к матери, да побоялся получить тычок, и горбуша все чаще находила кочки и вырывала белые змеистые коренья и желтую земляную прель, да еще эти комары слоем облепили плечи, насквозь прокусывая рубаху, так что не было от них никакого житья. И он сдался, рванул к балагану, где тлело кострище, разрыл золу, открывая мерцающие живые уголья, бросил вялой травы и желанно укрылся за пахучим жирным дымом.
Но вот и солнце поднялось, заиграло; ближний лес посветлел, оттуда потянуло прелью и кислицей; дикий лук, отпотев на речном берегу, запа?х терпко и дразняще; желтая солнечная вода словно бы пролилась на покос, и Донька не заметил, как из нее выплыли к балагану мать и дядя Гришаня. Потом они пили из берестяного бурака чуть горьковатую, припахивающую лесными травами воду, пили вкусно и долго, и по растресканной шее дяди Гришани скатывались светлые щекотные жуки.
– Осподи, хоть бы недельку эдак-то... Вот где конец-то свету истинный, – невольно выдохнула Тина, радостно озираясь. – Ну-ко, слей водицы, всю чисто выели нетопыри лешовы, – ругнулась без злобы, распахивая ворот холщовой рубахи и открывая опухшую, покусанную шею.
– Знают, где вашего брата пробовать, на свежее-то мясцо кинулись, – сказал дядя Гришаня.
– Было свежее, да протухло. Лей давай да глаза-ти отвороти.
– Через кровь и пот тянешь в рот. Наломаешься, дак и поешь. Ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня с этими словами неожиданно окатил бабу из бурака, а вода раскатилась по шее и под рубаху, на свободно опавшие груди и на ложбинку горячей спины. Тина вздрогнула, ошалело вскрикнула: «Тихо ты, лешак», – и, на миг забывая, что не родной мужик рядом, испуганно заобирала горстями воду с опущенных титек.
– Ну-ну, хватит, эка ты, чисто кобыла, – смущенно отвернулся дядя Гришаня. – Льни-ко и мне водицы, весь чисто сопрел. – И он подставил бурую, потрескавшуюся шею, и Доньке от костра видно было, как вода отскакивала от нее, словно от елового старого корня, или копилась в глубоких морщинах, скатываясь на белое усохшее тело. И Доньке сразу стоскнулось по отцу, и он неожиданно спросил:
– Мама, а татушка скоро будет?
Тина вздрогнула, обернулась, распушила мокрой ладонью выгоревшие Донькины волосы, а в глазах, чуть тронутых инеем, снова проснулась притухшая было тревога.
– Утресь, как проснессе, и наш татушка буде...
– Ври-ко боле, – не поверил Донька.
– Ну-ну, – вдруг резко прикрикнула желтоволосая Тина, сглатывая неожиданные слезы. – Каши березовой захотел?
– Чего орешь на парня? – заступился дядя Гришаня. Он стоял у балагана и вычесывал серую посекшуюся бороду деревянным гребнем. – Орет на парня, сама не знает, чего орет. Вари выть-то давай, вон солнце на корню траву сушит. А мы пока по дрова...
Шел дядя Гришаня, западая на левую ногу, держался цепкой рукой за Донькино узкое плечико и бормотал глуховато:
– У тебя мамка-то всем бабам баба. Ты ее слушайсе.
– Я и не перечу.
– Во-во, на мати не жалуются. Да и кому, да и грех, Донюшка. До Бога высоко, до царя далеко, отец у моря в неволе, одна мати возле. Хочет – посекет, а хочет – помилует.
– А меня мати не секет, – похвастался Донька.
– И худо, что не секет, порато худо. От любви посекет, только ум поправит. А она жалеет, раз пары у тебя нету. У нас, у Богошковых, все на детишек обижены. У меня с бабкой сколько их было, считать забыли, а ни один вот не зажился, а потом и старуха убралась, оставила меня сиротеть. Тебя мати тешит, по-худому тешит. А тешеной, что до времени рожоной, оба – не от Бога.
– Намедни мамка меня отшлепала, овцу одну на поскотине потерял, – признался Донька, ему вдруг не захотелось быть тешеным.
– Ну и хитрован ты...
– Не-ка, я простофиля. Мамка мне-ка говорит, простофиля, дак.
– В наш ты род, богошковской. – согласился дядя Гришаня. – Меня, бывало, старуха моя все срамила, пошто я тихой такой, будто корова комолая, всякий подоит. Заведется, бывало, покоенка, ругается, криком покорить норовит, все небо замутит. А я молчу. Немтыря ты, кричит, немко безъязыкой, что у тебя, языка нету, отнялся, скажи хоть слово людское. Сяду вот на тебя да поеду по деревне людей смешить. И тут я смолчу, пережидаю, ни слова против, а скоро бабку мою хоть в долонь бери да жамкай, веревки с нее вей, такая податливая станет, ну мягше воску. Не разговорный я был, чего таить это дело, а нынче наговориться не могу. Вот беда-то настала, мелю и мелю, остановы-то никакой нету. Порой думаю, может, дикой какой я стал, одичал, человеческий вид потерял? Дак нет, выйду в деревню, покажусь, вроде не бегут от меня. А вернусь опять, по избе поброжу, а кругом тайбола[19] дикая, темень несусветная, хоть криком кричи, хоть зверем вой, никто не услышит. Разве зимой только волк в ответ: у-у-у, а я будто возрадуюсь, в потемень-то как начну из ружья обхаживать, аж засветит все, загудит. Только повалюсь, а он, волчище, треклятый, опять: у-у-у, я снова в одном исподнем за ворота. И так всю ночь позорюсь, и весело мне. Осподи, вот жизнь-то, не знаешь, что и хочешь. Бывало, все спокою искал, уйду в горки, в боры, где белку возьму, где куньку подловлю, и благостно мне...
Бродили Донька с дядей Гришаней долго, добыли из леса хонгу[20] , ох и жаркие будут дрова, желтоволосой Тине на радость. Но пока волокли да разделывали на чураки, у матери и выть готова: житняя каша с коровьим маслом и котел чаю. Принесла еще Тина из тени берестяной пестерь с подорожниками и достала пирог рыбацкий с палтосиной. Корку твердую, как кожаные переды у сапог, рвали руками, но солонющей рыбы тащили совестливо, чтобы поменьше съесть, а поболе воды выпить. После житней каши долго чаи дули, выплескивая на сторону сваренных комаров, не по одной кружке опрокинули, сыто рыгали, закусывали пряниками медовыми: ради сенокосного зачина раздобрилась Тина Богошкова, ну как тут не покормить мужиков-работников.
С такой выти не грех бы и поспать, да не на отдых в комариную даль тянулись, дай-то Бог под самую ночь прикорнуть на один глазок. И так пойдет со дня на день, закрутится колесом до самой последней копны, и тогда только свободно глянешь и подивишься: осподи, да мы ли провернули всю эту тягость, а зароды, а зароды-то стоят, будто новые пятиалтынные, будто избы просторные, ветер их не подточит ни с какого боку, былинки не унесет, и под каждым кустышком ни одной косицы травы не качнет забытой – всю прибрали к рукам. Вот тут и вздохнуть бы, да нет, до ледостава только взад-вперед, вперед-назад на карбасах. Ведь сено на пожнях – это не сено, его зимой по тайболе не вызволишь, надо полой осенней водой на карбасах сплавить; иначе мор коровушкам, висеть им на ужищах[21] до новой травы иль посередке зимы с присохшими хребтинами идти под нож. И такое бывало...
Под полуденным солнцем желтоволосая Тина ворошила граблями сено, Калину, мужика своего, поминала, где-то он там, живой ли в студеном море: жил бы в деревне, спокой-дорогой, и какая нелегкая его тянет, пёхает во льды, на каменный остров. Все люди как люди, при земле живут, во своей семье, а тут бродяга бродягой – знать, приворожила его водяница морская, обманщица русалка ввела в ман греховный. Осподи, не дай погинуть мужику, заступись, вороти его в домы живу-здорову, не осироть сына моего, рублевую свечу поставлю во спасение, век стану за тебя молиться.
А Гришаня Келейный из черемухи волокуши под сено ладил, крепил вересковыми обвязками, чтобы гнулись они да не ломались, таких на целый век хватит. Порой за Донькой приглядывал – тот на речном берегу дикий лук рвал. Бездумно шевелил Гришаня тонкими губами, щеки присохли к деснам, опустел рот, что у малого, бормотал мужик себе под нос: «А что будет после-то, выспрошу у Господа», – и легкий ветер с далекой реки Шалони завивал сивую стариковскую бороду.
– Прости ты меня, осподи, ох-хо-хонюшки. Робь не робь, а все одно повалиссе в гроб. – Оглянулся Гришаня, присмотрел, куда бы поудобнее приклонить голову, накрыл лицо холстинкой, чтобы не напекло, и сразу захрапел, пугливо вздрагивая во сне черными растоптанными пятками. И где-то на третьем тяжелом вздохе поднял старик голову, будто и не спал вовсе, сбросил с тихо мерцающих глаз кровяной от комарья плат, охлопал себя по тощим ляжкам. «Ох-хо-хонюшки, как же это я сподобился?» – сказал виновато вслух и, припадая на левую ногу, пошел кошениной, и зеленые кузнечики весело посыпались из травы.
Сено таскали допоздна, черемуховые ручки гнулись от тяжести и выскальзывали из ладоней, плечи дрожали, острые лопатки Гришани Богошкова совсем выперли из серой от пота рубахи, и когда он приседал на левую ногу, у Тины каждый раз пугливо и жалостливо вздрагивало сердце. Ей все казалось, что вот-вот мужик завалится на бок, надорвется, а там беда, куда с ним денешься, и Тина, запыхавшись, окликала:
– Гришаня, вздохнем хоть чуток. Позоримся хуже скотины.
– Карюху бы сюды, мигом справились.
– А кто пригонит?
– Если бы Калина, дак.
– Если бы, – со вздохом откликалась желтоволосая Тина, вглядываясь в деверя, Тот лежал пластом у подножия стога, кусал былинку, вернее, теребил ее съеденными деснами, и какое-то доброе удовольствие, мало похожее на усталость, жило на его запорошенном сенною пылью лице.
– Вот как понять, куда все это девается? – вдруг сказал дядя Гришаня, поворотив черное от загара лицо, на котором светлые глаза казались житними спелыми зернами. Потом переждал чуток и снова повторил, ни к кому не обращаясь, разве только к своей душе: – Вот куда все это девается?..
– Ты о чем, Григорей? – беспонятно переспросила Тина, подумывая, что пора подниматься, хватит, належались, уж и ночь на пороге, а ей еще ужин готовить.
– А все вот. К лешевой матери. Вон облак куда-то гонит, не по своей же охоте бежит. И эти деревья не веком же здесь стояли. Что-то, знать, было туточки и тоже девалось. Ну да Господь с има, ох-хо-хонюшки. – И дядя Гришаня заскрипел горлом. – Укатали вошки Бога. Это меня то есть.
– Окстись, чего говоришь, Григорей? Грех ведь, – испуганно одернула деверя желтоволосая Тина.
– А бывает и грех, да не про всех. Чево такое сказал, чтобы пугаться? А может, Бог вошку укатал, нажился, говорит, хватит, копчушка старая. Раз работать не замог, ложись и помирай. Ох-хо-хонюшки. – И вдруг весело закричал, задрав черное лицо, отыскивая племяша: – Донька, отца не зришь?
– Че-о, где-ка? – вроде бы не расслышал Донька, а сердце зашлось. Он только что лежал в зароде, думал о дружке закадычном Яшке Шумове, где-то он сейчас, и следил в пустынном небе за одиноким розовым облачком, похожим на шкуру весенней лисицы, которое утекало куда-то неслышно и безвольно. А внизу, под стогом, о чем-то мерно говорили мамка с дядей Гришаней; их голоса доносились до вершины зарода, как шорох неторопливого ручья, и сыпили Доньку.
– Че-о, дядь Гришаня? Че сказал?
– Тятьку не зришь, говорю? Глухня...
– Полно тебе парня задорить, – ткнула Тина в бок деверя.
– Ну, ну, ладно, – примирительно сказал Гришаня, набирая на вилы сено.
И только Донька под самым небом крутил рыжей головой, как желтопузая синичка, взаправду отыскивая взглядом отца и не находя его, и сердце крохотным кулачком билось в ребра и просилось вон.
– Где-ка? – уже отчаянно закричал Донька, вцепился рукой за шершавый стожар и скатился на самый край зарода.
– Ополоумел? Не свались, – испуганно спохватилась Тина.
– Ништо, крепче будет. Эй, Донька, шевелись, исправник едет, – подзадорил Гришаня и ворох душного кусачего сена бросил на мальчишку, утопил его с головой в терпкой глубине. – Топчи его пушше, екмамкарек, – все кричал дядя Гришаня.
А Донька, выбираясь из вязкого наплыва, разгребал сено руками и, проседая по самую шею, добрался на вершину зарода уже молчаливый и грустный. Он понял, что дядя Гришаня его надул, и ничто сейчас не веселило мальчишку. Донька лениво утаптывал зарод, оборачиваясь вокруг соснового стожара, сглатывал непрошеные слезы и мокрыми оплывшими глазами еще ловил дальнюю поречную сторону, где круто обрывалась тайга, уступая место травянистым лывам. Оттуда, с той стороны приплыли на лодке Донька, мать его – желтоволосая Тина и дядя Гришаня, оттуда мальчишка ждал и своего батяню.
Небо там было тускло-серым и постаревшим, словно бы посекшимся мелкими тонкими морщинами; гребни елей казались пугающе мрачными и черными, и уже нельзя было разглядеть на опушке леса пожухлых от жары малинников, в которых прятались полчища перезревшей крапивы и надутые крапчатые жабы, а по ночам там кто-то тяжело и пугающе ворочался. Донька пристально смотрел в эту густую таинственную синь, где сейчас правила всякая нечисть, и ему вроде бы почудилось, как зашевелились кусты малинника и оттуда показалось мохнатое чудище.
– Нечистая сила, – закричал заполошенно Донька, наливаясь непрошеным страхом. – Леший тамотки, чур-чур. – И он опрокинулся в зарод, закрыл голову руками.
– Донюшка, сыночек, осподи, да что с тобой? – крикнула снизу мать.
– Балуется, чего боле, – сказал напряженным голосом дядя Гришаня и тут же обернулся и посмотрел в поречную сторону, расслышав твердую и частую поступь. И у старика волос на голове стал колом, но мало ли на своем веку повидал дядя Гришаня всякой нечисти, потому скорехонько осенил себя крестом и шепнул: «свят-свят, сгинь, нечистая»: ведь никого не ждали в такое позднее время на самом краю света. И только у желтоволосой Тины отчаянно шевельнулось сердце, потому что о мужике своем она непрестанно денно и нощно молила Бога, и тут, расслышав частую и твердую поступь и мокрые всхрапы, она сразу подумала: «Осподи, не Калинушка ли ко мне едет».
И она приставила ладонь козырьком и, отчаянно отмахиваясь другою рукой от надоедливых комаров, напряженно вгляделась в размытый тусклый свет и решительно побежала навстречу по склону еще не обкошенной холмушки. И еще не видя никого толком, она уже твердо знала, что это Калина ее едет на коне, потому как бабье сердце вещун. И путаясь в захолодевших под вечер пониклых травах и усмиряя больно занывшее сердце, Тина уже не бежала, потому как неожиданно ослабли ноги, а все тише пошла, потом и совсем остановилась. А лошадь плыла в траве, и семена овсюга прилипали к мокрому брюху. Лошадь фыркала и чихала и в неярком белом свете наступающей ночи казалась заиндевевшей. Верховой не понукал кобылу, не торопил ее, они, видно, оба устали за длинную дорогу, и разом увядшая Тина не могла признать ни мужика, ни белой в черных подпалинах лошади. Потом легкий побережник набежал с речной стороны, всколыхнул устоявшиеся травы, живая синяя тень сдвинулась от лесной опушки навстречу Тине, и седая лошадь стала темно-рыжей в белых подпалинах, и услыхала баба такой до боли знакомый голос: «Ну копошись, зайчиха. Эй, люди, здорово работали». И узнала Тина чуть надтреснутый мужний говор, ибо только Калина обзывал кобылу зайчихой за ее длинные уши, и, замораживая в себе грудной стон, еще не веря своему счастью, она позвала негромко:
– Калина, это ты?
– Ну-ко, на-ко, баба своего мужика не признавает...
– Слава те Богу, вернулся терящий.
И когда карюха поравнялась, сбивая грудью белые пахучие цветы, Тина прижалась лицом к мокрому, заляпанному дорожной грязью голенищу бахилы и сразу отстранилась, недоставало еще, чтобы кто видел, пусть и свой, как она мужика обнимает, а потому ухватилась за стремя и пошла рядом с лошадью, часто всматриваясь в смутно белеющее лицо Калины.
– Это ты? Ну и слава Богу, – повторяла Тина устало-счастливым голосом.
– Каково разживались без меня?
– А, какое тут житье, горе мыкали. Без мужика в дому что сироты.
– Ну-ну, – споткнулся Калина и замолчал, словно не зная, что спросить-высказать. Его качало в седле и до тошноты хотелось спать. И когда он сполз животом с рыжухи, разминая ладонями колени, Тина сразу приметила, что неровно подбитые в кружок волосы на голове у мужика сбелели, словно первая пороша. Калина молча обнял брата, прижался к его сухой щеке, сына Доньку скупо и устало обмахнул ладонью по волосенкам и сразу сел в стороне, подальше от огня, словно бы таясь и призакрыв глаза.
– Вымотала дорога? – спросил Гришаня, непривычно суетясь у костра, вороша мохнатые от пепла угли и подживляя огонь хворостом.
А Калина не ответил брату и опять уклончиво спросил, словно бы ему не хотелось говорить о себе:
– Ну каково разживались? Сенов дивно наставили?..
– Мы-то слава те осподи, Христом спасаемся.
– Ну и лады, ну и лады.
– А я все гляжу в залывы, и сердце мое стоскнулось, – сказала Тина, смахивая со щеки счастливую слезу. – Вот чую сердцем...
– Вот и свиделись, вот и сви-де-лись, – тут Калина неожиданно поперхнулся, замолчал сразу, словно бы утонул, повалился тихонько с чурбака, широко раскидывая по земле чугунной тяжести руки с глубокими трещинами шрамов. Тина ойкнула, подскочила к мужику, подумала, что помирает он, а Калина-то спит сладко, по-ребячьи почмокивая губами. «Эх тебя укатало», – сказала желтоволосая Тина, нагнувшись над мужем, под голову сунула клок еще теплого сена, чтобы пришли добрые сны, сама еще недолго посидела подле, вглядываясь в белое, совсем неживое лицо, по самые глаза обросшее сивой бородой. Вот когда совсем сравнялись братовья и обличьем и летами. «Ой, сердешный, ой, соколик, умучило как. Знать, несладко пришлось, досыта нахлебался морского рассолу». И Гришаня Богошков словно расслышал тайный причет невестки, откликнулся от костра:
– А не нами сказано: без моря горе, а с ним вдвое. От моря едят, от моря и стареют. Эй, Тинка, от радости сыты не ходят. Мужиков кормить надо.
– Дак спит ведь.
– Поспит – да и встанет. А про нас и не сказ?
– Ой, что это я, – совсем ополоумела, глупая баба. Сейчас, что ли, сготовлю, а вы тут тише шиньгайте. Донька, отпахнись от отца, дай ему поспать. Поди в полог-ту, полежи, пока я выть сготовлю.
И Донька послушно залез в балаган, повалился на оленьи постели головою к выходу, чтобы все ладом видно было: и костер с веселым морошечным огнем, и мать, совсем черную в ярком горячем свете, и похожего на сиротливого кулика дядю Гришаню, посунувшегося на чурбачке, и раскинутое тело батяни с неживым острым лицом. Наверное, уже переломилось за полночь, потому что у недальней сосны, одиноко вросшей в поляну, посерела чешуя; трава на пожне шелковисто светилась от созревшей росы, а вдали над щетиной леса уже начинало наливаться желтизной покатое небо. И ночь быстро закатилась, едва успев народиться. А Донька еще расслышал, как глухо на дальнем плесе кинулась щука, где-то мокро всхрапнула лошадь и за пологом в лопухах завозилась зорянка, прочищая горло Потом еще показалось Доньке, что он не спит, а по-прежнему смотрит на костер, на черные длинные тени от матушки и дяди Гришани, а на самом-то деле он уже давно спал счастливо и легко.
Когда желтоволосая Тина сготовила запоздалую выть и хотела скликать мужиков, то звать было некого, всех сморил сон. Жонка сняла котел с огня, поставила в стороне и накрыла его холстиной, чтобы не нападало комарья, потом стянула с головы повойник, и желтые с житним отливом волосы тихо раскатились по плечам. Тина еще шально качнула головой, мутной от литой усталости, тупо посмотрела на розовеющее небо, еще подумала, что скоро пора вставать, а мужика надо бы перетащить в полог, иначе натянет с земли хворь, и с этими мыслями подошла к Калине, чтобы разбудить его. Она совсем нечаянно прильнула головою к его груди, словно хотела послушать сердце, а оторваться уже не было сил.
Но потом, видно, шея отекла, занемела, шевельнулась Тина, беспамятно приподнялась, чтобы ловчее повалиться снова, и тут увидела, что утро совсем проснулось, легкие дымы курятся от просыхающих трав, и вот-вот солнце встанет. «Ой, спяха, ой, засоня», – выбранила себя, легко ладонью огладила неширокие плечи Калины, еще подумала про себя: «Пускай поспит, не буду тревожить, а деверя поднимать пора». Земля выстыла за ночь и была холодной от росы, и желтоволосая Тина не раз замирала сердцем и содрогалась от прохлады, пока спускалась к реке, а отходила с берега осторожно, высоко заткнув юбки и щупая воду босою ногой. Но вода оказалась мягкой и ласково-теплой, будто щелок, лицо, остывшее за ночь, едва услышало ее прохладу, словно парным молоком поливала себя Тина. Выпрямилась, собираясь выйти на берег, но чуть замешкалась, почувствовала в себе необыкновенную легкость и вдруг заметила радостным взглядом то, отчего давно отвыкла, может, с самых детских лет. Словно мелкие рыбешки, толклись в ногу тонкие струйки воды, огибали колена и сразу же звонко сливались воедино, потом, шурша, пропадали в осоте, шевеля его жесткие перья. Еще дальше посмотрела Тина, в самые верховья, где река делала крутой поворот: там вода казалась необыкновенно скользкой, почти ледяной, и, не задевая ее, как бы сами собой стояли ровные столбы розового пара, незаметно истаивающие в просторном атласном небе. Порой словно бы из этих столбов опадали вниз беззвучные камни, и тогда по недвижной реке расходились широкие круги. И ничего не подумалось Тине, но только словно бы что ворохнулось в душе и сделалось бабе истомно и дрожко, так что морозные пузырьки вскочили на загорелых руках.
Вдруг на той стороне задрожали кусты ивняка, и, проваливаясь меж осотных высоких кочек почти по самое пузо, вымчали лошади, а следом, по живым неустойчивым моховинам, будто боясь замарать ноги, прыгал мальчишка, совсем голый. Неожиданно он икнул горлом и, едва коснувшись руками гнедой лошадиной спины, сел над самым хвостом, как на широкую лавку, звонко пришлепнул ладонью и вонзился сухими пятками в отпотевшие широкие бока. Гнедуха всхрапнула и, разбрызгивая зеленую грязь, поскакала зайцем через осотные кочки, потом опала в реку крутой грудью, окутывая себя и мальчишку пеленой прозрачной солнечной воды.
– Осподи, да чей это? – забеспокоилась Тина. – Утонет ведь, лешак.
Приставила ладонь к глазам, но признать парнишку не смогла, потому что утренняя река застила глаза. Но тут снова задрожали кусты, словно промчались там испуганные звери, оттуда появился громоздкий, расхристанный мужик в одном исподнем, за него цеплялась руками простоволосая баба, путалась в ногах и что-то причитала бессвязно. Высокие осотные кочки сбивали дыхание, и рыхлый мужик скоро устал бежать, по колена в воде остановился, потрясая кулаком.
– Вернись-ко, сотона, дак убью! – зычным басом кричал он. – Воротись-ко, сколотыш... Воротись, не задию. Ей-Богу, не задию, только лошадь-ту пожалей, – вдруг взмолился он.
– Яшенька, сыночек, воротись, – причитала простоволосая баба. – Петра Афанасьич тебя не задиет. Он крест дал.
А мальчишка не слышал мольбы, он сидел на лошади маленькой коричневой ящеркой, лупил ее по бокам кулачонками и жестокими пятками, гнал вдоль тенистого берега, готовую вот-вот свалиться в мутную, закрученную воду и захлебнуться в ней.
– Ма, да это же Яшуха Павлин, – не веря глазам своим, сказал за спиной у желтоволосой Тины заспанный Донька. Она и не услыхала, как встали ее мужики и сейчас толпились позади. – Ну и находальник, — завистливым дрожащим голосом добавил он. – Яш-ка, я здесе-ка, приедь к мине, – радостно закричал Донька пронзительно-чистым голосом. – Яш-ка, я тута.
Нетерпеливый Донькин голос всех смутил и заставил замолчать, и Яшка Шумов, а это был он, вздрогнул от неожиданности, перестал всхлипывать и шмурыгать носом, обернулся, и тут гнедуха, просевшая ногами в промоину, споткнулась, окунула в реку по самые уши длинную гривастую морду, а Яшка не усидел на широкой, потной ее спине и скользкой рыбиной плеснул в осотах. А утро зарождалось ангельски тихим. Даже на этом берегу было слышно, как, задыхаясь и проваливаясь в тягучий ил, бежала Павла Шумова, и было похоже, будто мимо провели мыльную, загнанную лошадь. Павла за мокрые волосенки вытянула ошалелого сына на берег, дала по острой заднюшке хорошего звонкого шлепка и поволокла в кусты. А Петра Чикин ласково усмирял задохшуюся гнедуху, хлопал ее по дрожащей, упругой шее, вытирал рубахой оскаленную морду. Потом скинул исподники и, не скрывая наготы и широкого своего брюха, побрел по мелкой воде, чтобы окунуться, но выше колена трудно было сыскать глубь, потому что русло тут делало петлю и прижималось к другому берегу, вырыв там омута.
Тина смущенно отвернулась:
– Вот лешак, хоть бы стыд-то прикрыл.
– А ты гляди пуще, небось соскучилась, – сказал, подсмеиваясь, деверь, а рядом с ним стоял Калина и оглаживал длинную бороду, побитую серебром.
– Ой-ой, – всплеснула руками Тина, побежала к кострищу, расшевелила покрытые пеплом угли, навесила на деревянные крюки котел со вчерашней вытью, каша даже не успела выстыть.
– На ханзинские пожни сел? – спросил Калина у брата, кивая головой на ту сторону.
– Слыхал я краем уха, будто два ведра водки поставил. А сход и за ведро был согласен, лишь бы на дармовщинку выпить. Уж кой год травные места пустуют. А ему что, он и у черта кушак стащит.
– А ты-то как там, небось блазнит? – спросил Калина, намекая на братнево одиночество.
– Живу в своих Кельях да от леших отмахиваюсь.
– Помрешь, дак и схоронить некому будет.
– А уж так. Это верно дело...
– Дак перебирайся к нам, не стеснишь, – вдруг смущенно и глухо предложил Калина.
Но Гришаня промолчал, словно бы не расслышал Калину, ушел от ответа.
– Ну, а ты-то как, оклемался? Вчерась как прибыл, так пластом и пал.
– Вроде ожил. Ожил вроде, – сухо рассмеялся Калина.
– Не нами сказано: кто в море не бывал, тот и горя не видал. Помнишь, Калинко, татушку? Придет, бывало, с моря, кается: веком ноги моей в море не будет. Не то в воду, а к воде не подойду. И почнет деревья валить, пожоги делать; только бы навину[22] пахать, а он как затоскует-заболеет. Вот и побежал опять в Мезень к мещанам наниматься. А где лежит нонь, один Бог ведает.
– А мне уж в море не бывать. Зарок дал, – вдруг сказал Калина.
– Не зарекайся, брательник. Не мы правим собой, – возразил Гришаня, смутно жалея брата и догадываясь о какой-то смертельной беде, случившейся в полуночной земле, но расспрашивать не стал: поведает, как время тому придет, когда горестно ожгет душу и станет невозможным молчать более и мучительно захочется освободить память от воспоминаний.
Впервые после года разлуки сел Калина Богошков во главе трапезы и, прижав туго замешенный ржаной каравай к груди, сначала нюхнул хлебушко, клоня седую голову, потом ловко и бережно разрушил его на длинные ломти, сложил горкой посреди холстинки, а горбушку подал сыну.
– Ой, Донюшка, у тебя жонка-то будет горбата, – засмеялась Тина, опять готовая плакать от радости.
– Горбата, да богата. Ничего, Донька, от горбушки набирают силушки, – хитро утешил дядя Гришаня.
И только Калина Богошков молчал: хмурая тень набегала на длинный желтый лоб, и тогда жестко сдвигались брови, но тайная улыбка тревожила губы, покрытые белыми пятнами, и Калина улыбался, не раздвигая рта. Ел он тихо, словно стеснялся иль не замечал никого, осторожно волочил деревянную щербатую ложку с кашей, подставляя под нее хлеб, жевал долго и бережно, и сухие щеки тогда глубоко западали. Однажды Калина забылся, что-то хотел сказать иль поперхнулся, но раскрыл широко рот и показал черные пустующие десны, будто век не бывало у мужика зубов. Тина заметила это и сжалась вся, словно ударили ее, но виду не показала, из котла еще подложила каши.
– Ешьте понажористей, – прикрикнула она на мужиков. – Теперь уж до вечера не едать. Ты-то, Донька, чего ленишься? Ведь каков у стола, таков и у стога.
– Я нынче на карюшке ездить буду, – откликнулся Донька.
– Езди-езди, Бог с тобой, а завтра и сести не заможешь...
– Не замогу. У меня с прошлого лета мозоли.
– Атаман ты у нас, – сказал дядя Гришаня. – А ты сам-то, Калина, каково себя слышишь? Может, до полудня полежишь в тенечке?
– Когда лежать-то? – раздраженно откликнулся Калина.
– Ну, да как знаешь, – готовно согласился Гришаня. – Горбуша направлена, травушка ждет.
– Ма, к Яшке спусти когда ли, – неожиданно заканючил Донька, когда мужики ушли на пожню, а мать еще замешкалась у одинокой сосны, развешивая на длинных голых суках мокрые вехти.
– Не канючь, робить-то кто будет?
– А когда спустишь?
– Отвяжись, чего выдумал. Поди, лошадь прибери, – не слушая толком сына, оборвала разговор желтоволосая Тина. Она неотрывно приглядывала за мужиком, как шел он от балагана мимо сосны по еще не просохшей отаве, оставляя за собой черные неровные следы; как потом скрывался в дудках-падреницах, в небольшой калтусинке меж пониклых ив; как появилась белым одуванчиком в диком травостое его седая голова, и на солнце вскоре сверкнуло лезвие горбуши и раз и другой... И только тогда, будто решившись, Тина горестно вздохнула, оправила синий костыч из тканины, закрывая обгорелые, саднящие от воды и солнца ноги, откинула накомарник на плечи и пошла следом за мужем. И теперь уже Донька глядел в спину матери, пока она не исчезла в калтусине, а когда ее не стало видно, подбежал к одинокому дереву, где мать просушивала свое немудреное хозяйство, и почему-то стал плакать. Он ревел в три ручья, беззвучно шмыгая коротким круглым носом и прижимаясь щекой к горячему шероховатому стволу. Потом он так же неожиданно перестал плакать, отколупывая ногтем рыжие чешуины, запрокинул голову; там, где-то в самой вышине, шумела голубоватая вершина, и в жилистых иглах всегда жил теплый ветер. Он качал длинные упругие ветки, и от них по всему стволу шел тихий звон, и сыпались иголки и чешуинки. Донька приложил ухо к дереву, послушал, как поет оно, сразу забыв о своем непонятном горе, и, жигая себя ивовой вицей, побежал отыскивать карюху.
А Тина подошла к мужу неслышно и встала поодаль за увядшим ивовым кустом, на котором лист свернулся в трубочку от долгой жары. Ей было хорошо видно, как наотмашку рубился Калина с загрубелой травой, горбуша часто втыкалась в высокие, скрытые овсюгом кочки, и тогда мужик матерился, тоскливо озираясь. Но Тина все так же таилась за кустом и, прижаливая мужа, шептала: «Ну отдохни ты, чего маешься». Ей бы хотелось подойти к Калине, окрикнуть неожиданно, прижаться к его груди и говорить ласково: «Осподи, кровиночка ты моя, за што так-то. Ну пошто ты бежишь от меня?» А она вот робела почему-то и пряталась, словно бы чужая. И вдруг Тина услыхала пересохший голос и не сразу поняла, что это Калина ее зовет.
– Эй, Тинка, чего таишься? Поди до мужика-то, – позвал он хрипло и удивился, что так трудно и неловко давались ему первые ласковые слова, вот ведь как озверел-одичал в своем море. – Ну поди, поди ко мне. Эка ты, мужика своего не признавать? – говорил Калина все торопливее, глотая слова, и невольно отмякал душой и чувствовал, как в нем просыпается наконец такая желанная радость встречи, что от нее пересохли губы и стало трудно дышать. – Ну поди, поди ко мне, ужели забыла? Эка ты, – говорил Калина уже шепотом, а сам гладил, гладил нетерпеливыми дрожащими руками горячие и податливые бабьи плечи. – Ужель забыла, а?
– Осподи, чего мелешь? Забыла... Как только язык повернулся такое сказать, – легко заплакала Тина, уже в который раз за нынешнее утро. – Сам приехал вчерась, ровно чужой, в глаза не смотрит. Осподи, жи-вой ведь...
А вечером, когда легкий туман выстелился над водой, с другого берега приехал гость. Сначала что-то шуршало и фыркало на той стороне, потом уключины скрипнули совсем рядом, и с весла звонко пролилась вода; у костра сразу все притихли, настороженно повернулись к реке и ожидающе смотрели, как из молочного тумана показался смолевой нос лодки-осиновки, а на корме сидел, обвалившись, мужик, весь в белом, угласт и велик, словно глыба весеннего льда. Еще с реки этот мужик закричал басовито: «Эй-й, хозяева, хлеб да соль. Здорово вечеряли», – последним гребком весла разогнал лодчонку, да так, что она залетела в осоты и на пологий травянистый берег, и Петра Чикин, а это был он, вышел к хозяевам посуху, даже ног не замочив. Был он в легких чунях, шитых из телячьей кожи, порты заправлены в короткие голяшки, и каждой порточины хватило бы обернуть вместо юбки Тинку Богошкову; рубаха холщовая, сопрелая в подмышках, навыпуск и без опояски. Никто не поднялся навстречу Петре, не захлопотал, и он сам подошел к огню, оскальзываясь на влажной отаве стоптанными чунями.
– Бог в помощь. Да тут и хозяин сам, а сказывали – потонул, – и Петра протянул короткопалую толстую ладонь, всматриваясь в Калину, и его глаза на обожженном солнцем безбровом лице горели зеленым кошачьим светом. – Ну, здорово, што ли, хозяин, – повторил Петра Чикин уверенным голосом, словно был здесь давножданным гостем, но ладонь смущенно и растерянно дрогнула.
И Калина Богошков, приподнявшись с земли, торопливо сунул навстречу длинную сухую руку:
– Ну, давай поздоровкаемся, если не с камнем за пазухой.
– Чего говоришь-то? Да кто старое помянет, тому глаз вон.
– А кто старое забудет, тому оба долой, – ехидно напомнил Гришаня Богошков.
Но Петра проглотил намек, решив умом, что лучше не ссориться более.
– Довольно сенов-то наставили? Я, грешным делом, помыслил: раз дом без хозяина, надо бы пособить чем. Мало ли чего было, да быльем поросло, а теперь, слава те осподи, сколько лет прошло... Небось опять богачества-то навез?
– Навез, – согласился Калина. – Дивно навез, до смерти хватит.
– Ишь ты, ловок... Тут уж так: иль на воз, или с воза. Мы корячимся, корячимся на земле на матушке, света белого не видим, сыто не едим да хорошо не спим, а тут на тебе: сбегал в море – и пан. Ну, Тинка, разоденет тебя мужик в шелка-бархаты.
– Разодену, – согласился Калина. Но отчего же хмурое облако накатилось на его лицо?
– А други-то как? – страшно завидуя, спросил Петра.
– А никак. Нету других-то, – тихо ответил Калина, и был он сейчас лицом столь бел и страшен, словно только что из земли достали человека. – Бог прибрал. Всех прибрал. Все-ех. А это видел, на, гляди, гляди на богачество, – и Калина задвинул пальцы в рот и широко распялил бескровные губы, открывая черные пустые десны. – Ы-ы-ы, – наклонился над Петрой, гыкая юродиво в самое лицо и брызгая слюной.
– Ну ты, Бог с тобой, – испуганно отшатнулся Петра, А Калина уже задирал порточины выше колен, показывал иссохшие ноги в синих покойницких пятнах:
– И тут богатство, и эво.
Желтоволосая Тина убежала в полог, уткнулась в постели и тихо завыла:
– Осподи, да за что же его эдак.
Донька забрался к матери в изголовье, утешал, гладил спутанные волосы, сам готов разреветься:
– Матушка, не надо...
– Хватит тебе выть-то, ну! – крикнул раздраженно Калина. – Осподи, ну не вой же, и без тебя тошнехонько.
– А ты не покрикивай, ты не покрикивай, – вступился за невестку Гришаня. – Никто тебя не неволил, на цепи в море не тянул. Сам свою судьбу выбирал. Расшумелся, с ним худо, его не тревожь...
– А ты кто? Гли-ко, люди добрые, посмотрите на него, он пасть открыл, – распалился Калина, теряя разум и бессмысленно оглядываясь вокруг. Голова у него кружилась, и мужик толком не мог разглядеть даже, кто сидит подле. – Убирайтесь! Чего вам нать от меня, чего нать? – яростно кричал Калина. Непонятная злоба сдавила горло и мешала дышать, и он вбивал кулаки в землю, пока кровь не проступила на козонках. И, разглядывая разбитые пальцы, Калина словно бы очнулся, увидел себя со стороны и тогда повалился боком, прижимаясь щекой к захолодевшей истоптанной траве:
– Осподи, дай силу не потерять разум...
Гришаня понял, что с братом неладное, отбросил прочь обиду, обнял Калину за плечи, стал гладить по жестким седым волосам бережно, будто малое дитя.
– Ну что с тобой, Каля? – уговаривал Гришаня. – Ведь эким ты никогда не был. Ты откройся нам, сними тягость с души.
– Да и то правда, полно тебе убиваться, – поддакнул нерешительно Петра Чикин, подумывая умом, как бы ловчее убраться отсюда. – Вот уж воистину сказано: выстрелив, пулю не схватишь, а слово сказав, не поймаешь.
Тут и Тина смирила плач, вышла из полога, стала у кострища возиться, разживила огонь, чтобы чаю нагреть. В разговоры она не вязалась, не дозволено ей, бабе, соваться в мужские дела, как-нибудь сами разберутся. Но с Калины глаз не сводила, думала: ей бы только наодинку с ним остаться, приголубила бы она мужика, утешила – и открылся бы он как на духу, и оттаял бы сразу.
Все невольно замолчали, Калина сел, отвернувшись, и положил голову на острые коленки. Было смутно и тихо, маленькая, болотного цвета луна, так похожая на подкову, прорезалась посреди неба и родила вкруг себя крохотное озерцо света. Где-то туго плеснула рыба, может, билась она в Гришаниной верше; потом откликнулся кулик, он икал долго, захлебнувшись сиротскими слезами; вдали над синим изломом матерого леса вспыхивали белые молнии, – знать, где-то шла гроза. И в этой смутной душной тишине особенно звонко и назойливо нудели комары.
– Хоть бы дожжа не пало. Дало бы сена закончить, – нарушил молчание Гришаня. – Вот и темнеть стало, осеня подкатывают на дожжах.
– Теперь как бы убраться отсюдова поскорей, – Охотно откликнулся Петра, искоса поглядывая на понурое лицо Калины. – Уж и не рад, что забрался в экую даль, пожадился. И с сенами-то напозоришься, а потом и достать-то не знаешь как.
– Потные сена-то, не одна рубаха на них сопрет, пока возьмешь. Дак тебе все больше других надо. Опять мужиков-то надул, эки богатые пожни за ведро водки выбил.
– За два ведра, – поправил Петра, – а нынче хоть даром отдам.
– Отдашь ты даром, держи карман шире. Работники-то кто?
– А Павла со своим сколотышем. Извел меня, изгильник, нынче лошадь чуть не угробил. Поймал бы о ту пору, сразу убил, и все. Дак опять мати жаль.
– Да как не жаль, живой ведь. От кого парня-то нашла?
– Поговаривают, от Степки Рочева, беглый матроз тут околачивался, с Няфты сам-то, оттудова родом.
– Я, может, и мати его знаю? – стал припоминать Гришаня.
– Да все может быть, как не знаешь-то. Дак он, паразит, – бабу Ханзину с девкой порешил. А изба и поныне пустая. Хотел я ныне в избе остановиться, что ни говори – жилье, дак не мог своих девок туда затянуть. Ревут обе, страшатся, что бродят покойницы каждую ночь. А чего им бродить, давно уж и косточки истлели... А страшно... Уж на что я мужик, а и то...
– Как не страшно-то, экое смертоубийство. Уж на веку не забудется, – согласился Гришаня. И тут заметил, что сзади племянник притулился, развесил уши. – Донька, кыш, не тебе экие разговоры слушать.
– Я тихо, дядя Гришаня, – захныкал Донька. Хочется ему про Яшкиного татушку послушать.
– Беги в полог, чего сказано, а то вицу схлопочешь. Неслух, – пригрозила мать, а с нею плохо спорить.
И Донька поплелся в балаган, но повалился у самого лаза, печальный и хмурый, подоткнув кулачком лицо. Хотел было отцу пожаловаться, да раздумал, притих: и оказалось вдруг, что в сумрачной тиши каждый звук слыхать далеко. Куда-то луна провалилась, – знать, застлало ее лохматым мокрым облаком, небо затемнилось, и отсюда, из балагана, огонь костра казался живым красным зверем, а люди – совсем чужими, угловатыми, и от них на лужайку ложились длинные страшные тени. У Доньки от страха спирало в горле, он боялся даже оглянуться назад, в сумрачное жилье балагана, где стояли укладки со всякой утварью. Казалось, что там обязательно сидит хозяинушко, смотрит на Доньку розовыми глазами и точит о свои копытца острые желтые ногти.
– Ма, – опять захныкал Донька, думая разжалобить матушку. Но та нынче была сердита.
– Не канючь, вот дитя народилось. Сладу с ним нет, – пожаловалась мужикам, села подле Калины, положила ему руку на плечо. – Ну хватит. Господь с тобой, – стала утешать шепотом, чтобы не расслышали у костра.
– Ваш-то золото. У Павлы совсем отбивной паренек. Ему бы только назлить да напроказить, – сетовал Петра. – Намедни палец мне прокусил насквозь, волчонок. Во-во, – стал показывать всем толстый, грязный палец. – Насквозь прохватил, волчонок.
– А Павла, та робить может, за двух мужиков робит, – перевел Гришаня разговор на другое. – Ей бы мужиком быть.
– Уж не похулю. Робь, говорю, Павла, жеребенка дам.
– Ты дашь, ты вон какой, – опять нечаянно подковырнул Гришаня и снова смутил мужика.
– Я ведь только снаружи такой, я больней... Вы-то чево в эдакую даль перлись? Что вам, в Кельях сенов не хватит? Сенцо-то там, прости Господи, сам бы ел: мелконькое, суходольное, а запашина от него, ой. Коровушки от одного запаху молоко гонят рекой.
– А ты не сюда ли заришься? – вдруг догадался Гришаня. – Ну ловок, ловок, соседушко.
– Бог с тобой, экое придумаешь. Я вот о чем раздумался. Ломишь, ломишь, дня-ночи не знаешь, а потом пук – и все. Досками обошьют да в землю спрячут, чтобы не вонял. Вот и нажился. А мы все корячимся, миром жить не можем. Пошто не можем?
– Лукавый бес в дырку от пуговицы залез, а его и зашили. Тоже хитрей хитрого хотел быть, – сказал Гришаня, никак не веря Петре. – А смерть че, от нее не сбежишь.
– Михайло Тазуй как помирал, донага разделся, все кричал: «Жить хочу, осподи, жить хочу», – неожиданно заговорил Калина тусклым голосом, словно бы проснулся внезапно. – Жить-то хотел, порато хотел, а Господь вот прибрал. Такие дела, – опять замолчал Калина, всматриваясь невеселыми глазами в огонь. Розовое от пламени лицо его было горестно.
– Кажись, засиделся я. Духотища-то, уф. Как бы не полило, наставим тогда сенов, – сказал Петра Чикин, тяжело приподнимаясь, становясь сначала на колени.
– Оставайтесь, оставайтесь, Петра Афанасьич, чайку с нами, – запоздало предложила Тина.
– Да какой чай на ночь глядя, – отказывался Петра.
– Вот странно все, ох-хо-хонюшки. Иной из трусливой породы живет девяносто годков, а из храброй породы человече – на двадцатом падет. Ежели помыслить так, вроде бы по разумению Божьему: храбрый сам свою смерточку ищет. Но отчего по-иному получается: иной из трусливой породы да в самом благополучии, можно сказать, под боком у бабы своей на двадцатом годке скапутится, а храбрец – ломан-переломан, Господи, места на нем живого нету, и чуть ли не до века тянет. Тут и есть Божье провидение, и знать его нам не ведомо, – так долго и невнятно бормотал Гришаня Богошков, вглядываясь в брата выцветшими глазками и подслеповато мигая.
– Как думать о смерти начнешь, значит, нажился, – напомнил Петра. – Боженька знак тебе дает, не иначе.
– Типун тебе на язык, чего мелешь-то, Петра Афанасьич? – одернула Тина, вмешиваясь в мужской разговор.
– Мы перед Покровом-то будто очнулись... да, будто очнулись, мяли как лошади хорошие. А знатье бы, дак, а? Ужели бы я? Я-то за кормщика, глухарь сивый, здоровье-то все на море ухвостал. Поворот земли знаю и теченье воды, а тут, эх! – вдруг тихо начал говорить Калина, теребя ладонями обтерханный понизу зипунишко: жонка сзади набросила на плечи, ночи-то студеные, долго ли захворать, а потом не один раз спокаешься. – Промысел-то как шел, дак спали, где приткнет ночь, досыта не едали горяченького, а устали не знали – ведь работали в душевное удовольствие. Мы-то на стану, на острове были, еще наш татушко там промышлял, а остальны-ти в Митюшихину губу ушли, на другой стан, чтобы не мешаться. А перед Покровом очнулись мы, как птица начала на крыло подниматься и вода-то на море засалилась. Нет бы раньше, я-то, я-то, глухарь сивый, до старости ума не нажил, – и Калина горестно забрякал кулаком по колену. – Вот уж воистину, Бог ума не дал – дак не займешь. В бане намылись, мне бы сразу хватиться: пошто наши с Митюшихиной губы к нам не попадают, да к ним спешить, а я, дундук, переждать-погодить решил. Тако бы дело нынче, дак травки бы под себя подстелил.
И так не дождались мы котляного карбаса, знать, грех там какой вышел, неведомо нам. Но только в какое-то утро выскочил я из избы, и Боже ты мой, на море ни слезинки, верите, будто всю воду выжало и кругом белее покойницкого савана: все море лединами забито, и ветер-полуночник[23] садит с Матки, ну силы нет, как садит. Тогда-то я пал на камень и заплакал: понял тут, что крепко надо молиться Богу, чтобы выжить до нагорных ветров[24] .
А еды-то у нас никакой, зимовать не помышляли, что было – приели. Потом и солнышко-батюшко укатилось до весны, на Веденьев день и ошкуй[25] перестал хрипеть, в снега залег Мы избу обрыли кругом, чтоб тепло сохранить, а дровец-то, прости Господи, топишь да прижаливаешь, только сальничек трещит день-ночь: как одна плошка выгорела, значит, день миновал, другая кончится, значит, ночь умерла. В избе запашина, морозина садит, самое светопреставление, конец света, и только вот и лежишь в постелях в малице[26] да в тобоках, подольше не встаешь, чтобы поменее дровец тратить. А проснессе, волосье-то к изголовью примерзнет и оторвать не можешь.
И еще раз я тут согрешил: надо бы мне мужиков толкать, тут первое дело ходить надо, а я дровец прижаливал, вот и запустил это дело. А как стал с нар стаскивать, их уже лень долить начала. Они, двое-то, еще Михайло Тазуй был, солонинки поедят, потом воды напьются, – ведь с соленого всегда на воду гонит, – вот и стали они пухнуть. Я поднимать, а они ни в какую. Я гиган на улице сделал, ну бегать вкруг него; горку ледяную залил – накатаюсь, набегаюсь, с меня дурь-то на вольном воздухе выпрет, а зайду в избу, там душина – из горла воротит, а они еще лежат да нахваливают, больно им хорошо.
А я умом-то думаю: ой, ребяты-ребяты, до могилы своей поступочкой идете, сами на себя руку кладете, коли пластиной лежите дохлой. И тут стал замечать, что Тимоха нет-нет и затоскует, среди ночи проснусь, будто ревет кто; крикну: живы ли кто? А Тимоха замрет, будто голодная кошка, и не подаст голоса. А ведь чую я, что плачет он. А однажды и говорит он нам: ой как мяса оленного хочу, так бы и попил крови-то горячей. Я тут было как приволоку утельгу, пейте, говорю, кровь – с нее и спасетесь, и никоторый пить не хочет, рыла воротят. Впервой на зимовке-то, а к тюленьей крови привычка нужна.
Я Тимохе-то: какие, говорю, олени? А снега лютые были, вповал шли, я и думал, что олени на материк свалились[27] иль на горы поднялись, где моху выбить можно. А Тимоха не послушал и ушел, да и вроде совсем пропал. Потом в потемни приходит, оленя волочит. Тут крови-то мы напились, возрадовались, мяса сырого с ножа поели, и к утру Тимоху мутить стало, – знать, не приняла душа строганины. Ввечеру жаловаться стал; пятки у него заныли – это уж первая примета на цингу, потом жилы скрутило, он, парничок, и ноги ладом вытянуть не может.
А однажды плюнул, так, осподи, одна чернота со рта, будто сажи печной наглотался, десны распухли, кровь идет, зубы сами собой выпадывают, и никий хрен их во рту не удержит. То все был Тимоха толстой, а тут сразу вытонял, кощей кощеем, под глазами черные пятаки, а на Крещенье и руда изо рта хлынула. Он подозвал нас и тихо говорит: «Наробился, знать». А я ему отвечаю: «Пошто, Тимоха, на себя наговариваешь. Ты пошто себя заживо-то хоронишь?» А он: «Вот чую, как за мной пришла смертушка». Ишь ты, он смертушку свою в обличье видел. Тут Мишка-то и сдался, по-худому заревел, не помирай, говорит, Тимоха...
Ночью гроб сколотили, ну, известно, какой там гроб, одно прозванье: из сенец от стенки доски оборвали да сшили на живые гвоздочки, чтобы хоть держалось да предать можно было земле по христианскому обыкновению. Под утро и у меня пятки стало крутить и тягость на душу взошла, бабу свою увидел: вот стоит перед очию, будто живая. Ох-хо-хо... Схоронили мы Тимоху, снегом закидали, полагали так, что весной, как мать – сыра земля отойдет, тогда и спрячем покойничка.
А на Оксинью-полузимницу солнышко на дальних берегах заиграло, еще не выкатилось, но ровно следочек свой оставило, и душа-то возрадовалась сразу, будто жизнь переменилась. И светло стало после экой темнотищи, сальничек часа на два загасили. Снег слепой стал, у меня и глаза подбило, саднит веки, слеза горючая бежит, щиплет, на щеках-то борозды выело. С неделю ничегошеньки не видел, с черной тряпицей на очах сижу, а Мишка подле лежит, уж по-худому жалуется, от него дурнотой потянуло, заживо портится человек. На великий день Благовещенья, любовный у Господа праздник, надо бы церковные стихиры петь, солнышко славить, а Мишуху не поднять, лежит пластиной дохлой. Я ему как бы заместо няньки, и самого-то карачун долит, впору бы на коленках ползать. Еды какой-то сварганил, покормить хочу, а он вдруг и завопит, Бог ты мой, как завопит, что меня мороз по коже продрал: «Калинушка, я помираю» Я к нему-то кинулся, говорю, что ты, Михайлушко, Господь с тобой, какие слова дурные баешь, пошто ты на себя смерть накликаешь, а смотрю, он уж совсем плох. Да тут его как корежить начало, так, бедного, и гнет, так и катает по постелям. Потом вдруг и скочил, стал платье с себя срывать, нагишом по нарам бегать да на стены кидается, по бревнам кулаками колотит. Я реву, его на нары укладываю и пособить с ним ничего не могу, такая у него вдруг сила взялась. Тут Мишка и стал кричать: «Осподи, жить-то хочу. Не хочу помирать. Врешь, Господи, я еще поживу, поживу...»
Тихо стало у костра, только слышно было, как не то сморкался, не то плакал Калина; сухо потрескивал костер, разбрасывая малиновые угли, да где-то погромыхивало над суземьем, и небо нет-нет да вспарывали белые сполохи. Вдруг в котле вскипела вода, выплеснулась в пламя, и кострище сердито зашипело, потянуло на мужиков горечью. А комар совсем одолил, знать, услыхал дождь, и на голове у Петра Чикина уже взялась откуда-то холстинка, которою он укрылся по самые глаза. А Калину теперь не остановить, прорвало запруду, и слова-то в самом горле стоят, ими задохнуться можно.
– Сгорстал он мою ладонь, да и не отпустил, так и помер, я и глаза не успел ему закрыть. Значит, пригласил меня за собой; и мертвый, а не отпускает. Едва руку-то свою достал. Теперь, умом-то думаю, мой черед. Хотел домовище сколотить, а сил нет, подле покойника привалился, вроде бы в беспамятье ушел, не знаю, сколько спал, но только от страха очнулся. Привиделось во сне, будто Мишуха мне глаза ладонью закрывает. Очнулся я, а он лежит подле, уж совсем заколел. Ну и поволок его в сени. Он хоть и высох от болезни, а костью тяжел. Три раза отдыхал я, пока до сеней дотащил и уложил за сальные бочки.
... На улицу-то выкатился, осподи, а там благодать. Вешний Никола пришел, по черным каменьям водица торопится, и солнышко уже не на корточках, а во весь рост выстало. Я не стерпел тут, закричал, как увидел такую благодать, и жить захотелось неистребимо. Ведь весной только глупы люди пропадают. И с трудом-то великим стрелил я гуся, потом супу наварил, навару попил, а мяса жевать не могу, совсем зубы во рту не держатся: сколько в силах, поглотал кусками, на том моя выть и закончилась.
А много ли человеку надо: горяченького внутрь спустил, и уж совсем другой вид. Потом травку стал собирать, на южных сторонах кислушка родилась, сырком жевал. Однажды в озерцо глянул, осподи, совсем дикий человек отразился, и себя я не признал, вот до какой степени дошел. Но знал по старинному поморскому правилу, что лежачего человека и мышь рушит, и все чего ли через силу да копошился. Камнями покойничков обложил, крест в изголовье поставил, карбасок направлять стал, а сам глаз с моря не снимаю, откуда товарищи должны прибежать. Так со дня на день жду, и опасение в голову пришло: не иначе случилось что. Парусок раскинул и побежал в Митюшихину губу. Слабость долит, прави?ло держать не могу – дремлю, а очнусь – когда парус всхлопает. Ой, не приведи Господь это богачество. Порато солоной хлеб, впополам со слезами. Не зря присловье ведется: хвали море, а сидя на берегу у моря, жди горя, а от воды беды.
На пустынное прибегище правлю я с Христовой молитвой, подумываю: мужики, знать, паруса подшивают да борта конопатят, в самый срок прибегу. А в Митюшихиной губе я промышливал, не один сезон стаивал, разволочную избу[28] лично перекрывал; только никто меня не встречает, и собака не взлает, и дымком с той стороны не потянет. Потом и карбас наш, промысловый, на глаза пался, на полуводе стоит, и прибой его по-худому треплет. Ну, думаю, однако, и здесь печаль.
На берег-то поднялся, нежилым веет, за избою кресты стоят, вроде бы их позапрошлым летом не было: вот, думаю, здесь ребяты успокоились. Дверь в сени закидана снегом, едва на брюхе прополз, словно веком здесь люди не живали, столь запущено все. В избе с потолка сосули висят; на постелях, с головой накрыт, лежит покойник, – знать, и сил уж не стало схоронить его. А за столешней я подкормщика своего нашел; стоит на коленях и молится. Ну, мыслю, хоть один живой, да на радостях-то его по плечу хлоп, а мужик-то и пал на бок. Знать, на поклоне ко Христу-спасителю и помер. И остался я тут совсем один.
Шесть раз на Матку плавал, всякого приходилось видеть – и худого и хорошего; и на ледине замерзал, и ошкуй-то рвал меня, метин наоставлял, и с карбасом вместе тонул, похлебал морского рассола, но экой беды не случалось, чтобы на острову одному пооставаться и всех своих товарищей схоронить... И стал я тут крепко винить себя, уж хотелось пасть и не вставать. А солнышко палит, снег ручьями скатывается, мои товарищи покойные все вытаяли, на каменьях лежат, и стал я их по новой в землю-матушку прятать без церковного благословления. Всех схоронил, а сам вот живу. Прибежала вскорости мезенская лодья, подобрала. И стал я по обеим слободам ходить, по вдовам-то, да объявлять, эх... – И замолчал Калина, сглотнул горький комок, сухими больными глазами обвел мужиков.
– Ну-ну, не кали себя. – ободрил Гришаня. – Раз погинули, дак своею смертью Знать, судьба. Они как бы на долгий отдых повалились чтобы потом когда ли опять встать. А тебя Господь не принял, и не виноватый ты нисколь.
– Да-а, – протянул Петра, посмотрел на небо, обложенное синим мраком. Оттуда редко накрапывало.
Глава вторая
К себе Петра вернулся уже впотемни. Зарядил дождь, еще мелконький, но сердитый, и в заречье погрохатывало, – знать, кончилось вёдро. У полога потоптался, освободился от лишней воды и, тяжело пыхтя, волоча животом по земле, прополз в полог. Три девки спали посередке: Евстолья, Манька и Таиска (малюха, а тоже на сенокос навязалась); в другом углу Павла Шумова с упырем своим. Глянул в тот угол, вроде бы показалось в теми, как остро зыркнули шальные Яшкины глаза. «Ой, надо было кнутом ожечь хорошенько, ой, память бы осталась. Матке спасибо скажи», – мысленно пригрозил, широко заваливаясь на оленью одевальницу. Свободно вздохнул и размягченно зевнул до слезы в глазах: «Ох-хо-хо».
– Петра Афанасьич, может, чайку? – вдруг подала голос Павла.
– Лежи давай. Кто на ночь чаи пьет, глупа баба, – нарочито сердито окрикнул Петра, в душе чувствуя к Павле жалостливую доброту. Еще подумал: не баба, колода, что вширь, что вверх. «Господи, где у меня глазищи-то были, на такую-то березовую ступу позарился». Так подумал, а в душе ласковость ворохнулась, захотелось приласкать бабу, но вспомнил нынешнее утро, сердито опрокинулся.
– И то правда, Петра Афанасьич, – запоздало и робко откликнулась Павла, – наверное, все это время вглядывалась в Петрину сторону, но ничего не рассмотрела и тоже стала укладываться, чтобы укурнуть до рассвета хоть одним глазком... «Нет, Петра Афанасьич, вы не прогадали, что попросили меня в помощь, я за двух мужиков вывезу, я на работу порато лютая. Только жеребеночка-то дайте, как обещали, и заживем мы с Яшенькой, как бары, с коровушкой своей да с карюшкой, чего нам тогда больше и нать. Своего-то счастья не дадено, так от чужого хоть кроху урвать».
Прижала к себе плотнее сына, словно боялась утерять его, тот тихо и тепло сопел в щеку Павле, и бабе было щекотно и радостно от Яшкиного дыхания. Спит чертоломина, убегался. Вот тоже своенравный какой. И нать было ему в ту пору по нужде иттить, а может, и следил за маткой, экий чертенок, всю напугал. И по сю пору гак и знобит, как в пролубь окунули. Ой, Петра Афанасьич, грех-то какой творим. Люди-то прознают, мне тогда в монастырь иттить, до самого смертного часу грехи замаливать.
Вспомнилось утро, суматошное и грешное. Осподи, думала, прибьет Яшку, столь диким стал Петра, дак и то сказать, напугал – хуже некуда, откуда только черт его вынес. Да Бог милостив, милостив Бог-от, все устроилось, опять тихо-мирно все. А ты-то, кобыла стоеросова, хороша тоже, на старости лет сбеленилась, одной науки мало, еще от тех розог рубцы на спине не заплыли, какой белены объелась, Паш-ка-а? И ничего поделать с собой не могу, ничего. Вот бы сей миг окликнул тихохонько – эй, Павла, подь-ко сюда, и пошла бы, как покорная собачонка. Знать, судьба такая моя. Охо-хо-нюшки... Прости рабу свою, не дай по миру пойти с покаянием, вовек буду молить живота твоего.
Повернулась на другой бок, а сон нейдет. Какие-то мысли грешные лезут и представляется черт знает что, стыд один. Утром у варницы стояла, она ведь раноставка, ей черт какой-то спать не дает. Еще заря не проклюнулась, а уж за водой сбегала да выть заварила, чтобы по первому солнцу всех поднимать. И он-то, Петра Афанасьич, таков же, от одного дерева коренье: еще вода в котле не вскипела, выполз сердитый, мятый весь. Да и то сказать, ломит за хорошую лошадь, по копне мечет, у него и устали-то нет, дал Господь Августе мужика, как за каменной стеной живет. Ей ли бы не радоваться, дак попрекает еще – толстой, мол, да брюхатой, а сама-то, прости Господи, расплылась сама себя шире.
Прислушивалась Павла, что за спиной Петра Афанасьич творит, и сердце обмирало. Вот на реку сбродил, фырчал там, будто тюлень, за версту слыхать, потом вернулся, встал подле, но молчит: последнее время все будто чужой. Ну и слава Богу, что чужой, доколе грешить. Смешно началось, дак пусть хоть не срамно кончится. Набаловался мужик, насытился, своя-то баба теперь скуснее будет.
А она-то, а она-то, срамина, волосье седое на голове, глянуть страшно на экую образину, а еще чужих мужиков улещает, – кляла себя Павла, мешала мутовкой кулеш, а сердце постанывало от неясной обиды: почто Петра Афанасьич и словом-то с нею не перемолвится.
– Петра Афанасьич, каково спалось? – не выдержала, спросила. Тыльной стороной руки отерла мокрый лоб, лицо едва обжарилось на солнце, и над носом вперебор вылупились мелкие веснушки, бровки льняные выцвели, распушились над радостными глазами. Глядит Павла на Петру Афанасьича, и люб он ей, ой как люб, и не видит она его выпученных кошачьих глаз, ни безбрового обгорелого лица, ни его круглого, необхватного брюха, едва прикрытого рубахой.
– А снилось, будто всю ночь с бабой на лавке катался...
– Ой ли, ой ли, а с кем это? – ревниво спросила и в сторонку от варницы ступила, словно бы зазывала мужика. А утро желтое, все высвеченное солнцем, комар скатился в болотины, и на холмушке легко дышится, вольно под легким шелоником.
– Вот тебе и ой ли, – вспыхнули зеленые Петрины глаза, и любопытный интерес пробудился в них. Подумывалось: заманивает баба, ишь разохотилась как, небось жжет все – и водой не залить. «Тут-то бы мне поостеречься надо, в такое-то время все беды следом льнут. А, один грех замаливать...» Пошел к копнушке, уже не глядя на бабу, запустил руку по самый локоть, ощутил шершавый жар, клок длинного грубого сена вытянул, нюхнул жадно широким растяпистым носом.
– Посмотри-ко сенцо-то, – крикнул Павле.
Та приставила ладонь к глазам, чтобы разглядеть мужика.
– Гли-ко, гли-ко, сенцо-то...
– Да не время глядеть-то, Петра Афанасьич, – все поняла Павла, а еще упиралась. – Кулеш подгорит, и девки вот-вот встанут, – договорила уже шепотом, уговаривая себя опомниться.
– Да ты подойди только, эка ты, – уже сердился Петра, нетерпеливо переминаясь за высокой копнушкой, из-за которой торчала его большая редковолосая голова.
– Иду-иду, вот пристал, – ворчливо откликнулась Павла, со страхом оглядываясь на полог. Ведь чуяла сердцем, какое сенцо идет смотреть, казнила себя, а ноги будто сами собой несли ее к копнушке...
– Охо-хо-нюшки, – еще простонала Павла, досматривая минувшее утро, но тут усталость взяла свое, и, не слыша себя, ушла в сон баба. По другую сторону, будто ломовая лошадь, тяжело всхрапнул Петра Афанасьич, тоненько, по-синичьи, засмеялась Тайка, а в туго натянутый верх полога упрямо барабанил дождь, и особенно глубоко, до маеты в костях спалось людям в такие ночи.
И только Яшка не спал и редко мигал, рассматривая в сумерках материно размякшее лицо. Он слышал, как пришел Петра Афанасьевич, как чесал обширное свое брюхо, как спрашивала его мать, и все ожидал, что вот-вот мамка встанет и выйдет из полога, и потому быстренько смекал, как ему тогда поступить. Сейчас, вспоминая увиденное утром, он маялся душой, уже смутно догадываясь, что между мамкой и Петрой есть что-то запретное, и ему, недоростку, это знать не велено. Еще тем несчастным утром он, заспанный, не в силах продрать глаза, выскочил за полог по нужде, глянул кругом, нет ли возле матери, куда-то девалась; и в пологе пусто, одни девки разметались, храпят, коровы, из ружья не пробудишь. Только пристыл за пологом, вдруг услыхал за спиной шорохи и вскрики, догадался, что шумят за ближней копешкой, и тут же на плохое подумал, не с мамкой ли что случилось, – может, давят ее. Стремглав кинулся за копешку, на ходу надергивая портки, и сразу в глаза бросилась взлохмаченная материна голова, а поверху Петра Чикин, ихний хозяин, и он вроде бы мамку душит. Яшка с разбегу вскочил на Петрину спину, схватил за шиворот, дернул на себя и закричал: «Не бей мамку, ирод, не бей мамку».
А дальше Яшка совсем смутно помнил: кажется, Петра ущучил его своей клешней, больно прижал к себе, мать, с растерянными и перепуганными глазами, лежала, откинувшись на копешку, и дрожала, не в силах сказать слова. «Ах ты, сколотыш», – хрипло шептал Петра, и Яшка вплотную увидал его зеленые страшные глаза. Извиваясь лягушонком на толстом Петрином колене, он умудрился прокусить мужику палец, и пока Петра ревел от боли, Яшка бросился прочь куда глаза глядят, ближе к речке, а может, и утонуть там. В такой растерянности он мчался к воде, слыша сзади глухой настигающий топот, и тут на глаза попали лошади... Но Донька помешал. Не Донькин бы голос, Яшка ни за что бы не свалился с гнедухи, его тут и подпорой не сшибить. Он бы показал этому брюхану, как мамку бить. Но почему же она не плакала, не звала Яшку на помощь? Наверное, рот зажимал ей, иначе бы мамка кричала.
Пристально вгляделся в материно лицо, показалось, что оно улыбалось во сне. «Мамка, почему у всех есть тятьки, а наш пропал?» – вдруг захотелось спросить Яшке, ведь ему так тяжело жить без отца. И он приготовился растолкать мать и посреди ночи устроить допрос, но Павла неожиданно отпустила парнишку и мягко засмеялась. Яшка никогда еще не слыхал, чтобы так тепло смеялась его мать, она обычно молчала, или плакала, или устало грозилась, и потому мальчишка даже поднялся на колени, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но в пологе стало совсем темно, мерно бренчал дождь, с луга доносило сыростью, и Яшка ничего необыкновенною не разглядел в смутно белеющем лице матери. Мальчишка поежился, укладываясь потеплее в оленьей полости, но из памяти не уходило минувшее утро, и, не в силах успокоиться, он грозился в темноту: «Я те покажу, как мамку бить. Дай-ко только вырасти».
Но упорно не спалось, и он высвободился из окутки, тихо скользнул в самый угол, отвернул низ полога, где был тайный лаз, и, вглядываясь в серый дождливый полумрак, подумал: «Убежать, што ли? Вот реву-то будет». Он еще протянул ладошку навстречу дождю, мокрая трава скользнула по руке. Яшка вздрогнул и утянул руку обратно. Потом, нюхая набухшую влагой холстину, полежал подле, но с воли доносило сыростью, и оттого вскоре стало зябко и тоскливо. И мальчишка залег обратно в одеяла, прижался плотнее к мамке, просунув ей под мышку руку, быстро согрелся от потного родного тепла и, слушая вполуха балаганные шорохи, тревожно уснул.
Пробудился Яшка позже всех – растолкала мать: «Вставай, засоня, выть проспишь». Яшка приподнял голову, сразу посмотрел в дальний угол, подозрительно поглядывая за Петрой, но тот уже сидел, поджав калачом ноги, пластал у груди каравай и не обращал внимания на разбойника. Яшка сразу успокоился, сердито сказал матери:
– Могла бы и раньше поднять.
– Да жалко ведь. Так сладко спал...
– А сена-то кто ставить будет? – взросло спросил Яшка, оглядывая девок.
Евстолья, плосколицая, с мышиной косичкой по спине, въедливо хихикнула: «Работничек-то, девки, гли-ко». А Петра Афанасьевич только глянул исподлобья в Яшкину сторону, хмыкнул, но промолчал.
– Какие сегодня сена. Уж сиди давай, – откликнулась Павла. – Дожжа-то навалило, осподи. Необоримая сила. – И она быстро выскочила из полога, притащила котел с вытью. Петра довольно оглядел Павлу: словно шьет баба, минутки без дела не усидит.
– Ты-то давай садись. Не служанка, бат, да и мы не господа. Могли бы девки сшевельнуть задницу, – неожиданно сказал Петра, и девки все, от Евстольи до Тайки, разом повернулись к тятьке и глянули на него любопытно... Экое чудо, экое чудо, такого с тятькой не случалось, он и с мамкой-то по-людски не говорил. И Павла смутилась, по-девичьи закраснела лицом.
– Вы-то ешьте, а я уж после. Много ли мне нать.
– Я что велел? – прикрикнул несердито Петра, и Павла, радуясь всем сердцем этой ласковости, подчинилась просьбе.
– Ну ладно, разве что с крайчику примостюсь.
Петра первый погрузил ложку в житнюю кашу, все покрестили лбы и тоже потянулись к котлу, но старались мясо не забирать, на то будет своя команда. Да и Петра зорко присматривал за дочерними ложками и при случае сразу охаживал по лбу, да так, что слезы выскакивали из глаз дробью, и после долго не хотелось мяса. И словно играя над хозяином, Яшка дерзко заискал ложкой в кулеше и подобрал там кусище и медленно поволок к себе. Девки запнулись. Тайка тоненько пискнула, все взглянули на тятьку... Ой, достанется нынче Яшке, ну и поделом ему, охальнику, пусть не перечит. Девкам проходу не дает, все одни проказы. Тайка даже зажмурилась, словно своим лбом чуяла, как звонко прилипнет сейчас ложка к Яшкиной голове. Но Петра Афанасьич поперхнулся, сурово глянул в Яшкину сторону, сначала хотел, видно, окрикнуть, но сдержался. И Яшка победно оглядел девок и еще плотнее умостился на согнутых ногах, но, странное дело, только мяса ему сразу расхотелось, да и не ахти какое мясо – летошняя солонина с душком, едва зубы берут. Все смолчали, за вытью грех языком молоть, но в Яшку нынче словно бес шальной вселился. И сказал он Петре Афанасьичу разбойно, кругля непросветные глаза:
– Ты мотри, мамку мою больше не колоти...
– Не будет, не будет он меня трогать, – вздрогнув, торопливо откликнулась Павла и пугливо глянула на Петру Афанасьевича.
А тот неожиданно подался к котлу, побрякал ложкой по медным стенкам и сказал: «Волочи». И все потянулись за мясом, возя ложкой по дну, и сразу забыли про Яшку.
Под утро балаган пролило – и место сухого не найти: накинули на плечи кто армяк, кто одевальницу мехом внутрь, сидели скучные и злые, как вороны. А дождь монотонно кропил с набухших небес, и казалось, краю-конца ему не будет. Петра Афанасьевич и тут заделье себе нашел, лапти с подборами вязал, глубокие, в косой стежок; такие мокроступы, что в каждую две Яшкины ноги влезут вместе с цыпками и мозолями на пятках. Девки, укрывшись оленьей полостью, хихикали, щекотали друг дружку под мышками, порой высовывали мокрые потрескавшиеся ноги. Павлу, ту и дождь не усадил, то и дело елозила на коленках из полога да обратно, пестрядинная рубаха почернела от сырости, бедра, обтянутые крашениной, мокро блестели, и с облизанной дождем головы текли на спину ручьи. Такова Павлина забота: пускай на улице и мокрядь несусветная, но и живот – не амбар, пустым не закроешь, все чего-то требует туда затолкать, хоть и век не работай, лежмя лежи, а значит, и выть готовь ко сроку – ко времени.
Яшка поскучал, к девкам нынче не лез, свяжись только с ними – заревут, руготня подымется, спасу не будет; тут вспомнил о Доньке, в самую бы пору навестить его. Еще дедов коричневый кафтан, как раз Яшке до пят, запахнул потуже, затянулся шерстяным пояском.
– Ты куда сряжаессе? – остановила мать. – Эка неволя была в такую погодушку бежать.
– Пусть охолонет. А то горячий больно, – подал голос Петра, и холодная усмешка потревожила зелень глаз. И уже вдогон крикнул: – Коней понаведай, работник, как бы не забрели куда.
– У балагана будь. Экий несговорный растет, – добавила мать. И, уже выползая из полога, Яшка еще слышал, как говорил Петра Афанасьич: «Секчи парня надо».
– На-ко, выкуси, – высунул Яшка в сторону балагана язык. – Своих нарожай, тогда и секи.
Он поежился, когда тугая капля, скатившись с березового листа, упала за шиворот, потоптался на скользкой блестящей отаве, привыкая к прохладе; пальцы сразу закраснели, низы портов почернели от влаги, и вода собралась под ступнями крохотной прозрачной лужицей. Было тихо, ветер не шевельнул листа на деревьях, трава, еще не взятая горбушей, поседела; редкие, будто свинцовые дождины лениво летели с обложного неба, и легкий парок вставал над загустевшей рекой. Костер едва курился, и от него горько воняло сырым углем. Яшка плюнул на головни, побежал к воде, нарочито твердо ступая подошвами, и тогда меж пальцев пырскали дождевые струи. Он выскочил на берег, на то самое место, куда вымчала его вчера напуганная лошадь, но грязь уже заплыла от долгого дождя, толстые листья куги распрямились и встали со дна на красных жилистых стеблях, и ни одного-то своего следочка не отыскал Яшка. И ему стало так грустно, словно отказали в самом желанном. «Вот вырасту и убегу, все одно куда. Ужо погоди», – беззлобно погрозил Яшка в сторону своего балагана; над которым путался лохматый костровой дымок.
Противный берег речушки был смутно виден.
– Донька-а, где-ка ты? – сипло крикнул Яшка, проседая ногами в тягучий ил. – Донь-ка, – позвал он еще раз.
Напротив, за серой пеленой дождя, показался приятель и заполошно замахал руками. «Уж не мог сам навестить, тяпа, – бормотал Яшка, снимая с кола веревочную петлю и сталкивая лодку на приглубое место. – Все-то ему няньки нать, ведь мужик уже».
Он быстро протолкнул осиновку через быстрину, а Донька, ожидая, переминался на берегу. Отросшие волосы косицами сползали на уши, тонкая шея робко выглядывала из просторного мятого балахона, но голубые глаза под белесыми ресницами сияли неподдельной радостью и проливали на Яшку потоки восторга от негаданной встречи. И, глядя на Донькино лицо, Яшка тоже расцвел, почувствовал себя взрослым и сильным, но крикнул нарочито строго:
– Ну, здорово, воша-богоша. Че мнешься? Ползи давай в лодку-то... К ханзинской избе хошь?
Донька растерянно оглянулся, заметался нерешительно по берегу.
– Лезь давай. Трусишь, да? Так и скажи.
– Да, трус, тебе-то хорошо... Ты, Яша, погоди. – И, махая просторными рукавами балахона, Донька взбежал на взгорок, крикнул оттуда: – Мам-ка, я до Яшки поехал.
– Я ужо покажу Яшку, – закричала от варницы Тина, отыскивая прут помягче. А сын не знал, на что решиться, то на мать взглядывал, то на Яшку, нетерпеливо зовущео с лодки, и вдруг, словно в омут кинулся, махнул на все рукой, подхватил лапти – и в лодку. Осиновка качнулась с борта на борт, у Доньки сердце обмерло, а желтоволосая Тина на берегу запричитала в испуге:
– Вернись, Донюшка, Богом прошу. Вернись, пальцем не трону.
– Ма, чего ты. Я не маленький ведь...
– Боюсь я воды, вернись, Донюшка.
– Ма-ма, на тот берег, ну? – жалобно упрашивал Донька, а в душе и не подумывал возвращаться. Яшка торопился, словно нагоняли их, наворачивал шестом, взмок весь, под носом растеплило, такая дюля над губой нависла – страх. А Донька еще раз обернулся с неясной тоской в душе, но матери на берегу не виделось, и у балагана не мельтешили люди. И, успокаиваясь, он вдруг похвастал:
– А у нас татка с морю пришел...
– Эка невидаль, – сплюнул Яшка, скрывая зависть.
– Знал бы ты... страхов-то, сказывал, натерпелся, – уже готов был доложить Донька, но приятель сухо оборвал:
– А я еще и не то могу. Мне бы только вырасти. Я ничего не боюсь. Петре Афанасьичу палец-то хам! А он: ы-ы..
– Он вчерась гостился до нас, дак сказывал, ой-ой.
– Чего сказывал-то? – уже с интересом спросил Яшка и подумал: «Жалился небось, глотина. Живую кукушку съел.. Другой раз носырю прокушу, коли мамку бить будет». – Ну чего сказывал-то?
– И не скажу, пошто дразниссе...
– Ну и отвяжись, привязка, – сурово оборвал Яшка. Уж очень ему хотелось съездить Доньке по шее, чтобы тог не задавался. Но тут ткнулись в берег. Яшка молча вытянул осиновку на зеленый мысок и, не оглядываясь, помчался к ольшанику. Донька тоже поспешил следом, но балахон путался в ногах и мешал бежать. Духота стояла, недальняя туча отливала багровым светом, и по ту сторону речки угрюмо погромыхивало. Пока-то Донька снимал балахон, Яшка уже пропал, только вздрагивали неожиданно вершинки кустов да потрескивали сучья под ногой убегающего приятеля. И вдруг Доньку остановила промоина, доверху залитая болотной водой, глубина ее чудилась страшной, а дальние истоки, где можно бы обойти, поросли перезревшей осотой и терялись в калтусине – луговом седуне.
– Яшка-а, где-ка ты? – позвал Донька со слезой в голосе.
Страх щекотнул спину, Донька обернулся и увидел лишь тугие красные дудки с пахучими цветами да черное небо поверх. А впереди неожиданный ручей, морщинистые стволы ольшаника и легкий голубой просвет меж деревьев. Примятая кочка еще вздрагивала: значит, Яшка перебирался здесь. Донька снова попытался ступить в воду, но не достал дна. А тихо-то кругом, до жути тихо; не шелохнутся жирные узловатые дудки, целый лес падрениц, а впереди желанная лужица света, которую еще не затмила громыхающая туча.
«А, будь что будет», решился Донька, кинул балахон по ту сторону ручья; теперь уж поневоле придется прыгать, зажмурился и толкнулся от зыбкой кочки. Мысленно-то он уже представил, что ему наверняка не допрыгнуть до той стороны, и он должен схватиться вон за тот сук, чтобы не захлебнуться, – и действительно, Донька плюхнул в самую середину промоины, далеко не долетев даже до спасительной ветки, и стал отчаянно возиться в воде, страшась встать.
– Тяпа ты, тяпа, – сказал Яшка, неожиданно взявшийся откуда-то. – Экий ты недоделок. Вставай давай, доколе будешь в луже валяться?
А Донька таращил помутневшие глаза, да и Яшка ли стоит над головой, а не тот лесной лешак, который только что таился за деревом? А Яшка почему-то пошел через ручьевину, закатав порточины на колена, у той стороны, где, по Донькиному разумению, была жуткая глубина, шагнул чуть в сторону, потоптался, нахалюга, попрыгал на живых кочках, строя Доньке рожи, и вернулся обратно тем же путем. Эту дорогу Яшка знал хорошо, еще когда сено косил здесь, и решил пострашить приятеля.
– Ва, бояка. Баба в штанах, хуже Тайки Чикиной, – дразнил он Доньку.
Но тот надулся, глотал соленых жуков, которые сами рождались на глазах, выжимал порты, скручивая наподобие вехтя. Яшка лез помочь, но Донька отталкивал его локтем, отворачивая мокрое лицо в сторону. Они вышли на запущенные навины, которые уже давно никто не пахал, и когда завиднелась на опушке матерого леса серая изба, похожая на зарод сена, то присмирели оба, часто оглядывались, вспомнив людские наговоры, будто здесь пугают мертвяки.
Мальчишкам было до жути интересно, и никакой черт не мог бы их остановить сейчас на полдороге. Но когда миновали вонный амбар[29] , а дверь тихохонько скрипнула, подавшись от сквозняков, то оба встрепенулись, готовые наддать к реке, а сердчишки испуганно ворохнулись в ребра.
– Пу-гат, – тихо прошелестел Донька, уже забыв все смертные обиды и хватая дружка за рукав.
– Не-ка, – отчаянно возразил Яшка, но побледнел лицом и тут же стал задорить себя, заорал во все горло: – Я не боюсь тебя, леший.
«Бу-бу-бу», – заворчало что-то в амбаре и тут же стихло.
– Эко диво, да мы сами кого хошь напугаем, – сказал Яшка и подмигнул черным захолодевшим глазом. И Донька подумал, ответно подмаргивая: «Во разбойник-то, тать лесная, – и сразу заново припомнил вчерашний разговор. – Все, значит, правда», – сказал он сам себе, невольно сторонясь и пугаясь приятеля.
Изба была ставлена высоко, рублена на года, и старость едва хватила необхватные лиственничные дерева. Дверь хранил поржавевший амбарный замок наподобие секиры, волоковые окна закрыты изнутри, чтобы не мог каждый беспутный бродяга пакостить в доме. Но сразу было видно, что давно уже никто не бывает подле, да и кого потянет в такую глушь, кроме тати или разнесчастного человека.
Яшка мигом обежал избу вокруг, будто охотничья собака, смекая, как бы удобнее забраться в дом: подергал хлебные дверцы – плотно закрыты на щеколду изнутри; замок на двери – тоже не под силу; волоковые окна – задвинуты досками. Тогда взбежал по взвозу к поветным воротам, но кожаный ремешок был выдернут, потоптался подле и надавил на ворота плечом. Они, видно, сидели неплотно на деревянных пятках и, сухо скрипнув, подались. Яшка в щель подцепил щеколду палкой и откинул ее. Ворота раскрылись неохотно, с повети дохнуло застоялым холодом и плесенью. Страшно было идти по скрипучим плахам. А Яшка, находальник этакий, еще пугал порой: неожиданно оборачивался и хрипел Доньке в лицо.
В избе стоял мрак, но Яшка на ощупь, будто жил здесь, вдоль печи пробрался к передней стене и отдернул волочильную доску. Тут белая вспышка ударила в глаза, дом словно встряхнуло, и гром прокатился по крыше.
– Пугат, баба Ханзина пугат, – опасливо сказал Донька, пригибаясь к полу.
– Чего пугат?.. Илья Пророк едет, когда ли будет, – откликнулся Яшка, и Донька снова втайне позавидовал его храбрости.
Мальчишки огляделись: изба была большая, с осадистой печью в левом углу, с бахромой черной сажи на потолочных плахах и с толстыми лавками по передней и боковой стенам. Полати закрывала короткая занавеска из крашенины, и потому думалось, что там кто-то есть.
– Яш-ка, а где-ка убили-то? – решившись наконец, спросил Донька.
– Здеся и убили. Брюхан сказывал, что подле двери, – деловито ответил Яшка, протирая жесткой пяткой пыльные плахи около порога.
– Дак ты знашь про то? – намекнул Донька, пугаясь досказать вслух.
– Чего знашь? – переспросил Яшка, не отрывая от пола глаз.
– Что твой тятька убил бабу Ханзину да девку Варвару...
– Ты очумел? Ты что это, ворзя? Я ведь сколотыш. В рыло захотел?
– Дак тебя не ветром надуло?! – не отступался Донька. – Без тятьки никак нельзя.
– Не-ка, не-не, – вяло бормотал Яшка, высунув головенку в волоковое оконце. – Я сколотыш, все так говорят. Я ничей, правда?
– Вчера Петра Афанасьич сказывал, чей ты, – тянул Донька, уже не в силах умолкнуть.
– Не ври-и, – тонко по-щенячьи завыл Яшка, узкие плечи задрожали, и мальчишка еще дальше потянулся в волоковое оконце, словно хотел вывалиться вон. – Не ври-и, чего врешь. В рыло захотел, да-а? Получишь... А брюхана убью, пошто он мамку мою колотит. Я ему сделаю чего ли.
– Ну буде, буде, – утешал Донька, устыдившись своей радости, потянул приятеля за полу кафтана. Парню было стыдно показывать слезы, и он упирался, хватался руками за бревна, но Донька настойчиво тянул за широкий подол, все больше жалея Яшку. – Ну буде, буде, может, и врет он. Всамделе врет. Он ведь кукушку живьем съел, с него станется. – И вдруг предложил: – Ну хочешь, давай покрестосоваемся? Будем крестовыми братьями.
Яшка прислушался, перестал всхлипывать, а Донька, уже испытывая к другу жалостливую нежность и сам готовый заплакать, снял через голову крест на кожаном засаленном ремешке.
– Ну давай, ну чего ты... На меня говорил, а сам-то плакса, вэ-э. Плакса, рева-корова.
Яшка замотал головой, рукавом кафтана пробовал смахнуть слезы, но они лились неудержимо, оставляя грязные борозды, а нижняя закушенная губа некрасиво дергалась. Сначала Донька подставил свою рыжую голову, а ростом он был повыше. Потом пришел Яшкин черед подставлять лобастую голову, и Донька, продевая шнурок, долго пугался в крученых смолевых волосах и в оттопыренных прозрачных ушах.
– Навеки? – торжественно спросил Донька.
– Аха, – согласился Яшка.
И тут словно провалилось небо от долгого громового раската, и оказалось, что изба сразу осела на два нижних венца в землю.
– Свят, свят, осподи, спаси и помилуй, – шептал помертвелыми губами Донька, пряча оробевшую голову и не в силах отвести взгляда от волокового оконца. В крошечном проеме меж бревен он увидал, как в ослепительном солнечном свете шла, нет, плыла над землей простоволосая баба и белая холщовая рубаха легко вздувалась в ногах.
– Свят, свят, изыди, сотона, – крестил Донька волоковое оконце, и в голубых гуманных глазах стоял такой помертвелый ужас, что Яшка, только взглянув в лицо приятелю, тоже заразился страхом, боясь оглянуться.
– Бежим, бежим, – вяло шептал Донька, крестясь и отступая к дверям, и вдруг заорал истошно: – Покоенка идет!
Страх подхватил мальчишек и лишил разума. Они вынеслись из дома, забыв затворить поветные ворога, и прямо через навины и обкошенные пожни вымчали к речке, и только тут первым остыл Яшка.
– Ты чего, тово? – задыхаясь, покрутил пальцем у виска.
– Баба Ханзина шла. Вот тe крест...
– Ври-ко боле, – не верил Яшка.
– Ей-Бог, идет, а сама земли не задиет, и рыжее волосье вкруг головы помелом.
– Да ну тебя, вечно ты чего ли. И меня-то напугал. Хуже девки, ей-Богу, – – недовольно скрипел Яшка, заговаривая свою слабость.
– Да ладно, чего ты. Ой, мамка-то где ли ищет меня. – спохватился Донька. – И тятька трепки хорошей задаст.
Они быстро стянули стружок в воду, Яшка вытолкнул его на стремнину, путаясь шестом в жирных зарослях куги. Донька крутил шеей, ему хотелось поскорее вынырнуть из-за поворота, чтобы разглядеть варницу, серый полог, похожий на развалистую копну, и тогда успокоиться.
– Хватит крутиться. Не на земли ведь, – укорливо сказал Яшка. – Мамкино охвостье. Бат, не век за бабий подол держаться будешь.
– Тебе-то хорошо, тебе тятька не задаст...
– Окстись, чего мелешь, окрысился Яшка, и опять в его сердце заворочалась обида.
Они замолчали, Яшка пыхтел, ворочая шестом, в воздухе стояла духотиша, и во все небо клубилась свинцовая туча, и хотя она гремела жерновами где-то на Лебяжьих озерах, но уже ни капли дождя не выжала из себя. У Доньки болела шея, глядючи назад, и когда он встретил глазами свой берег, то поначалу ахнул. «Осподи, чего там деется?» – потому как столб белого пламени стоял над их пологом и с черного неба падали на землю горящие птицы.
– Гони, чего глаза вылупил. – крикнул он Яшке и, уже не боясь воды, встал на вертком носу стружка, выглядывая людей. Но было пустынно на берегу, и только громадное смолевое дерево полыхало безмолвно и страшно от комля до вершины, и горящие сучья летели пониклыми птицами и ударялись в подножье, рассыпая красные искры.
– Мати, матушка, где, как ты? – позвал Донька пересохлыми губами и, уж не в силах ждать более, неловко вывалился из долбленки и побежал к берегу.
– Воно они, воно, – закричал Яшка, замахиваясь рукой в сторону от горушки, где спиной к реке в самом берегу стоял на коленях мужик.
Глава третья
– Теменище-го на воде, необоримая сила нашла, – уныло молвил Гришаня Богошков, заползая в полог. – Откуль столько ли дожжа подняло.
И снова взялся за кочедык[30] , неловко шевеля закостеневшими в козонках сухими пальцами; уж такой рукодельный Гришаня, что в каждую свободную минутку то вершу из прутьев вяжет, то лапти плетет. А Калина смолчал, только бросил на брата косой взгляд. Он лежал на овчинном одеяле, раскинув широко руки, порой гладил побитую сединой бороду и задумчиво и покойно глазел в полотнище полога, о которое мерно и беззаботно колотился дождь. И в уставшей душе тихо меркло пережитое, и тело наливалось блаженной ноющей истомой, казалось, век бы не сдвинулся с места. «Осподи, да будь благословенна жизнь».
– И откуда столько дожжа нагнало, – снова горестно молвил Гришаня, вспоминая мокнущее сено.
– Жара была, вот и воспарило с земли, – откликнулся наконец многодумный брат.
– Кажись, наставили сенов.
– Да...
– Петра-то не с добром приходил, – вдруг напомнил Гришаня, откладывая лапоть в сторону. – Взглядом так и прожигает.
– Пес собачий, – откликнулся Калина.
– Может, и пес, а в гору пойдет. Крутой на работу... Сказывали, еще как в дом-то к бабе своей вошел после венца, голову в потолок наставил и на всю избу, голоса не схоронил:
– «Я иду, зверь лапист и горд горластый, волк зубастый: я есть волк, а вы есть овцы мои».
– Врут чего ли, поди...
– Да нет, такое не соврут. А силу наберет, вот те Бог. Он, вишь, сколь горласт, он ведь изо рта кусок вырвет. Сам-то брюхо набьет, потом и баба за стол садится, а он с кровати и выглядывает, сколько кусков Гутька съест. За вторым-то потянется, а Петра уже и орет: пошто много жорешь...
– Ну и Господь с ним.
– Да как не Господь-то...
Они замолчали, уже почему-то расстроенные, в худых душах. Где-то вдали громыхнуло, вся мокрая влезла желтоволосая Тина, повойник выжала у входа, стоя на коленях, виновато глядела на мужика.
– Ну отступись, бродить буде тебе, – добрым голосом попросил Калина. – Иди, посиди подле. Ты бы творожку нам наклала поись. Соскучился я по домашней выти.
И только Тина вернулась в полог с берестяным туесом и стала выкладывать творог в деревянную миску, как нетерпеливый гул пошел по земле, словно бы западали с неба огромные камни-булыги величиной с хорошую избу. Белые молнии сновали вокруг, и намокший черный полог казался сшитым из прозрачного рыбьего пузыря, столь светло становилось вдруг.
– Осподи, осподи, – так с ложкой в руке и застыла желтоволосая Тина, потом словно бы очнулась, стала торопливо насыпать творог в миску и тут же молитвой к грому спасала себя: – Боже страшный, Боже чудный, живый в вышних, седяй на херувимах, ходяй в громе, обладая молоньей, призывая воду морскую и проливая ея на лицо всея земли...
– Такого нынче еще не прикатывало. Вот дак Илья Пророк, – перебил деверь, подсаживаясь ближе к миске, и свою баскую ложку в алых цветах потянул из онучи. – На такой колеснице он сейгоду не катывался, кажись, а?
– Что-то не упомню, – поддакнул Калина.
Тина беспонятливо и ошалело смотрела на мужиков.
– Осподи, а Донюшка-то... Боже страшный, Боже чудный! Сам казни врага своего, диавола, всегда, ныне и присно и во веки веков... Нет, не могу боле, душа тоскнет и оторопь берет. Боюсь я грому, ой, боюсь, и Донюшка малой где-то. Ну прибежит, выпорю как сидорову козу. Давно не секла. Пойду гляну, где-ка он, находальник, мучитель мой.
– Постой, куда же ты? – пробовал остановить Калина, но жонка отмахнулась, выскочила вон, и мужик тоже невольно полез следом, вслух ругая Тину и пугаясь чего-то неведомого.
А небо колыхалось, словно живое, похожее на гневливое море, грава почернела, деревья поникли, омытые влагОЙ.
Калина сам себе покачался ничтожным червем под этой огненно бурлящей тучей, и невольная оторопь охватила все ею существо.
– Вернись-ко, Тинушка, – закричал Калина вослед жонке, но та уже ничего не слыхала, подбегая к горушке, где стояла одинокая, с редкими корявыми суками понизу сосна, на которой полоскалось в дождь всякое тряпошное бабье обзаведение. С холмушки и правда было видно куда лучше, и та, противная сторона реки, богатые травой наволоки смотрелись как бы под самой ногой. Но казалось, что именно там, над сосной, особенно яро кипела туча, завиваясь черными струями в косматой вершине, и две розовые прогалины, словно два ненавистных глаза, зорко выглядывали оттуда на землю. И будто лучина вспыхнула, как шелестя озарилось поначалу небо: это из смертного глаза метнулась змея-медянка, зашипела, достигая земли, и ужалила одинокое дерево, подпирающее небеса.
И сосна ойкнула, а может, то вскричала желтоволосая Тина, вздрогнуло дерево всем своим жилистым вековым телом, но устояло, и тут же малиновая головка змеи любопытно выглянула из белой расщелины ствола. И Калина Богошков увидел, как, раскинув руки, саженей пять летела к самому подножью горушки его желтоволосая Тина, и голько легла она, распластавшись о землю, как гром грянул от края до края безмерной тайболы, комариной Руси.
И словно бы насытилась гроза своею жертвой, взял Илья Пророк себе в наложницы Тину и укатил на колеснице в родовой замок, и уже где-то далеко на краю земли сыпались искры-молнии от его кованых колес. Но что ему в его грозном, жестоком величии до ничтожного земляного червя, распятого нынче в своем горе, а может, удаляясь и держа властными десницами душу земной женщины, он еще озирался назад и вниз и жалел, что не может похитить и бренную остывающую оболочку ее, в которую была одета прекрасная душа. Кто знает, о чем думает зло, круша свою жертву, но говорят, что оно всегда недовольно собою, ибо власть его не равна желанию...
А Калина Богошков, еще не понявший горя, подбежал к Тине, пробовал поднять ее налитое смертной тяжестью тело, путаясь раскоряченными пальцами в ячменных разметавшихся волосах.
– Тина, Тина, осподи, что с тобой? – спрашивал он тупо, вытирая грязной ладонью холодеющее лицо жены. – Тина, что с тобой? – снова вскричал Калина и стал рвать рубашку на груди жены и бессмысленно подумал, что ни разу вот не видел свою бабу голой, проживши с нею пятнадцать лет. Уж так заведено в деревне, что берешь бабу за себя в юбке до пят, строишь детей в потемках, а если помрет жена раньше тебя, так обмоют и обрядят в саван и уложат в домовище соседки. Так ведется в деревне испокон веков, и не нами заведено это.
Молния ужалила Тину под левую титьку, еще тугую и налитую бабьей нерастраченной силой, и тело с левого бока посинело, будто долго и жестоко пинали его ногой.
– В землю, в землю ее, чего сидишь-то, – закричал Гришаня, толкнул брата в плечо, подхватил Тину под плечи и поволок. – Берись за ноги-то, чего... У реки, у реки надо копать, там земля мякше.
Сбегал за топором, стал отчаянно рубить землю, постоянно оглядываясь назад, на безмолвную Тину. «Растелеши ее, растелеши совсем-то. О Господи, с ума сошел». Пришлось самому с невестки стягивать юбки, пока Калина, стоя на коленях, по-собачьи выгребал глину.
– Молонья-то и уйдет, в матушку – сыру землю убежит. Эк ее, сердешную, садануло, – все говорил Гришаня, потому как молчать было куда страшнее, потом уложили Тину в мелкую канавку и забросали сверху, по самое лицо, мокрой землей. Сели рядом, грязные как черти, и с надеждой смотрели на жонку. Вот устало откроет она глаза, улыбнется и скажет: «Ну чего вы, мужики, затосковали». Порой Калина принимался дуть жене в рот, а ее холодные губы обжигали его губы.
– Матушка – сыра земля молонью вытягат. Выманит ее, выманит, – утешал Гришаня.
Тут и прибежал Донька, беспонятливо посмотрел на материно белое лицо в потеках грязи.
– Матушка, ты чего? – спросил он, ожидая ответа.
– Вот и пробегал свою мамку, – сказал Гришаня и споткнулся, и сразу все поняли, что рыжеволосая Тина умерла. Стали отрывать ее, обмыли речной водой, завернули в овчинное одеяло.
– Матушка, ты совсем-то не помирай, – умолял Донька, глотая слезы. Он еще не мог понять толком, что случилось. Будто бы сейчас все и было: он заскакивает в стружок, следом бежит матушка и кричит: «Воротись, сынок, Богом прошу, воротись», – а он просит: «Мама, спусти, я ненадолышко», – и лодку уже уносит вода; и Доньке долго видно, как мать грозит ему с берегу кулаком. И вот мамки нет, она лежит закутанная в овчину, и оттуда только выбиваются длинные потускневшие волосы, которые Донька так любил, бывало, расчесывать костяным изукрашенным гребнем.
– Жарко, спешить надо, – деловито сказал Гришаня, и Калина, не сронивший ни слезинки, словно бы закаменевший с горя, согласился:
– Отправлюсь я. И Доньку заберу, пусть мать спровадит...
Он занес жонку в карбас, от братневой помощи отказался, положил осторожно на телдоса[31] , отогнул край овчинного одеяла и посмотрел в лицо с печатью страдания в углах побелевших губ: лежит Тина будто живая, только серой пылью хватило застывшие веки, и волосы утеряли прежний медовый цвет. Поцеловал Калина покойницу в лоб и сказал:
– Уж ты прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось. Ой, знатье бы, дак, – закрыл лицо одеялом, но дикими глазами все не мог оторваться от белой потрескавшейся овчины, под которой осталась жена.
– Жарко, спешить надо, – напомнил сзади Гришаня и, как больного, поддерживая под локоть, помог Калине забраться в карбас, шест вложил в покрытые шрамами руки и, забродя по пояс в воду, столкнул карбас на самую быстерь и еще долго стоял, сутулясь, и посылал вдогон православные кресты: – Ну с Богом, хрещеные...
Донька поревел еще и перестал. Он сидел в носу карбаса, не отрываясь смотрел в текучую воду и думал с беспокойством, что вот мамки не стало и как теперь они будут жить. Но в душе почему-то не пропадало ощущение, что матушка умерла ненадолго и невзаправду: Донька и татушка немного поживут одни, а потом маменька вернется. И потому он сидел отвернувшись, но слыша позади любой шорох: глухо покашливал отец, словно бы сдерживал рыдание, шумно перекатывалась под кормой вода, но каждый раз Донька невольно вздрагивал, когда тятька говорил тоскующе одни и те же слова:
– Уж ты прости меня, Тинушка, что так у нас все приключилось. Ой, знатье бы, дак...
Вспоминал Калина прежние совместные годы, и по всему выходило, что вроде бы еще не живали они толком, а лишь примеривались. Повезло Калине с бабой, ой как повезло: по любви сошлись они, по любви. С дядей своим Клавдей Богошковым плотничал у чернотропов в Лобане. А был Калина для Клавди за сына, и даже любее: своих детей Бог не дал, а этот парнишка столь уважительный да послушливый, привязался к дядьке с малых лет, и домой его в поречные Кельи к родителю-батюшке не затянешь на поводу. Да и то правда, брат Иванко все в морях убивается, детишек накопил полную лавку, и потому Клавдя племянника от себя и не гнал, да и сам от доброй души сердце свое грел. Порой убежит Калина на посиделки, а Клавдя своей старухе и говорит: «Послал Бог нам сынка, сподобил, и тебе изустное слово даю, пусть хозяином после смерти моей будет».
В тот год они в Лобане две избы рубили и надолго зажились в той деревне. Где-то в белый вечер и поймал Калина взглядом рыжую девку с глазами из синего неба, сразу и сохнуть по ней стал. На посиделки придет, полный фартук ей пряников медовых насыплет да орехов кедровых – для молодых зубов. Улыбнется Калина, хрящеватый нос на сторону уведет, каждому смеяться хочется.
– От тебя обжечься можно, – скажет. – Волосье полымем горит.
– Уж не один сгорел, – ответит она и глаза не потупит. – Воно Степа Окладников стоит, как головешка черный.
Все и хохочут, зубы скалят, а у печи, обвалившись плечом, стоит Степка, черный как ворон, только белками голубыми пялится. Насупился парень, словно «мавр из-за моря Хвалынского». Уж не раз приставал к девке: «Поди за меня, сватов нашлю». А Тинка только посмешки строит: «Дай мне в девках-то нажиться. Потом уж боле не приведется». Вот и водила парня за нос: и «да» не говорила, и от себя не отталкивала.
В самую неподходящую пору для Степки привелся в Лобане подмастерье из Дорогой Горы: из себя сухонек, волосы русые в колечко и глазастый, будто вилами тычет, а уж топора из рук не выпустит, неровня чернотропам. Те дом сварагулят, хоть стой, хоть падай, а у Богошковых избы рождаются с курицами да с гривастым конем на охлупне, да с резными полотенцами, и волоковые оконца фигурной доской обведут. А свои-то парни – вешалины – слова доброго сказать не могут, только косяки плечами подпирают.
У наезжего молодца и язык ловко пришит:
– Эй, девки, отгадайте, орехов насыплю, которая смекалистей: повыше коленца, пониже пупенца, болтается поленце. Что такое?
Девки сразу на худое думают, краснеют, за прялицами прячутся.
– У, охальник... Сразу видно, что чужой. У наших парней на такое язык не поворотится.
Парни смелеют:
– Мы ему сейчас рыло начистим.
– Ну полно, вот ума-то... Ножны ведь. Будто никто ножа не нашивал.
– И взаправду. А мы уж на плохое подумали, – галдят девки, а сами рады слушать. – Еще загани, еще.
– Черен, да не ворон, не конь и не кобыла, не бык и не корова, шесть ног без копыт. Че это?
– Степка Окладников у ободверины, – говорит Тинка. – Так ли, девки?
– Уж воистину... Без ободверья не устоит.
– Да ну вас, полоротые. – отмахнется Степка, звериным взглядом окинет Калину и на заулок выметется, но там дождется девок.
С посиделок идут вместе, никоторый не уступит: Степка пыхтит, так и кажется, что с правого плеча даст сопернику в ухо, а Калина вослед, будто не слышит вражины, кричит:
– В ящечках плашечки, белы камешки, сини денежки...
А Степка рядом чуть ли не в бок тычет локтем и шипит: «Ты у меня ножа схлопочешь ужо».
И пошли по Лобану слухи: Тинка Сафонова с огнем играет, двух «парней захороводила и никоторому согласья не дает. Степка Окладников ножом грозился: квадратный парень, что в рост, то и в плечах, быка завалит, а думает долго.
Стали выборные гадать, как бы от беды уйти. Вот и собрались однажды, будто случайно, у питейного дома и старшину сюда залучили и писаря, спорщиков позвали. Стали всем миром вслух думать:
– Если вы добром не можете разминуться, так, может, жребий кинем, которому девку брать?
– А што, и жребий, – мотнул головой Степка.
– Ты чего, голову в лесу забыл? – посмеялся над соперником Калина. – Дело-то не велико, а суд порато большой, – сказал всем.
Кому-то не понравилось, одернули парня:
– Мало говори, больше услышишь.
– Остер на язык-то. Уедет, оставит девку с приданым.
– Нынче все это порато просто. Не успешь повернуться, уже готово – проверились на весь предмет...
– А которо и лишне скажут, – вдруг сказал ветхий старичок, и мир замолчал. – Девушка не травка – не вырастет без славки.
– Уж так, уж так, – закивали согласно.
– Парень-то дело сказал. Сами беду на палец мотаем. А по мне, дак девку-то постегать надо.
И тут Степка озверел, переступил косолапыми ногами, и тяжелые глаза выкатились из толстых век.
– Я кому-то постегаю. Кто пальцем тронет, ножом порешу.
Невольно замолчали все, и мудрый, с мохнатым лицом старик смущенно закашлялся, но упорно заговорил снова ангельским голоском:
– В девке беда вся. Сама она, стерва, не знает, чего хочет. Квашня скисла, через край бродит. А в ней, в девке-то, с самого рожденья баба сидит. Уж такое поперечное племя. Ведь им любо, как из-за них-то драка идет, у них тут ликованье в самом сердце. Постегать надо девку.
– Не дам тронуть, – артачился Степка, – я ин с эдаких лет вместях.
И Калина притих, видя, что дело зашло далеко. А старичок-советник свое ведет:
– У меня жеребеночек был, с руки выкармливал, он ли у меня не знал ласки. По десятку раз на день-то приду к нему. Выпоил, выходил, стал мой жеребеночек жеребцом. Сел я на него – объездить задумал, а он ведь скинул меня...
И Степка, услышав такие слова, вдруг кинулся бежать, загребая косолапыми ногами пыль, и холщовая рубаха пузырем надулась на спине.
– За ножом побежал, – опасливо сказал кто-то.
– Не, Степка такого не сотворит, – ответил старик. И порешили назавтра высечь девку на деревенском сходе, чтобы другим неповадно было.
И Калина поспешил в избу, где на постое жили, к дяде своему за советом.
– Вези самоходкой в Дорогую, выкради девку от позора, – сказал дядя, подумавши недолго. – В подугорье наш карбасок, в самой потемни и побегайте. Поутру в Афанасьевской будете. Там обвенчают вас, молви только батюшке, что родитель у невесты старообрядец. Православные-то попы порато как ненавидят их.
Поклонился Калина в пояс и сказал дрогнувшим голосом:
– За тату вы мне, дядя Клавдя. До смерти не забуду вашей доброты.
И сделал все, как дядька советовал, увез Тину «самоходкой». В чем была девка, в том и ушла из дому, да еще и радешенька: может, битья прилюдного испугалась иль без парня милого жизни своей не мыслила. И рано поутру в деревне Афанасьевской повенчал их приходской батюшка, спросил только:
– По доброму согласию иль по насилию?
– По любви, батюшка, по любви, – ответили жених с невестой.
Без отдыха столкались вниз по реке и другим вечером уже в Дорогой Горе были. Еще больше почернел, засутулился Калина Богошков; всю-то дорогу вымолчал, только вздыхал протяжно, не в силах сдержать сердечной болезни, думал тоскливо: «И за что же напасть такая на богошковский род? Господь многомудрый, пошто ты под самый корень изводишь нас, за какие грехи? Где доброта твоя? По какому разумению творишь ты ее, Господи, пресветлый и пречистый».
Зашел в дом, и дом показался сиротским. Баб соседских призвал в помощь, сундук открыл великоустюжской работы, распечатал холста беленого тонкого трубу, попросил смертельную рубаху сшить: ведь не мыслила помирать Тина, в самых бабьих соковых годах была, только бы жить ей без печали, а вот поди, многих старых старух, трухлявых сыроежек обогнала, поспешила лечь в сыру землю.
Сходил Калина к Егору Немушко, попросил свежего теса на домовище, вспомнил старое плотничье ремесло, еще не забыла рука топора, и срубил бабе своей, желтоволосой Тине, последнее жилье без окон. Вот уж воистину правы старые люди: «Человек на земле живет, яко трава растет. Всяко слово человеческо, яко цвет цветет: ввечеру человек во беседу сидит, а поутру человек во гробу лежит».
Домовище на спине заволок, сгорбился, словно сам лечь в него норовил; бабы кинулись, помогли на скамейки поставить, а уж дальше Калина глядеть не мог, схватил сына в охапку и на крыльцо. Уже август-жнивень стоял, дождиком наносило с реки, и у единственной на деревне березы лист понизу зажелтел: знать, ранним снегам быть. А из открытых дверей вопли неслись, и на душе подавно ненастье рождалось, да такое, что жить не хотелось: «Ой, да не убойся ты, желанная, тебе сделали да дом-хоромину без дверей и без окошек, и без скрипучей-то полаточки, и без тесовой-то кроваточки, и без жаркой кирпичной печеньки».
Проводить верховку желтоволосую приволоклись старухи с клюками да деды, обабки болотные, с большими желтыми ушами, похожими на пергаментную бумагу; еще дьяк пришел, покадил, навонял сладким дымом; да подьячий поспешил за деньгу кормовую почитать над усопшей; волостной старшина навестил, в черном кафтане с белой овчинной оторочкой по подолу. Пусто в Дорогой Горе, всех вымела страда из деревни на морские промысла, на лесные навины да на богатые травой наволоки.
Нехорошим духом потянуло от покойницы, потому не мешкали, в свежую могилу повезли: нести-то было некому, едва мужики нашлись, чтобы в могилу спустить домовище на полотенцах. Бабка Соломонея, общая плакальщица, завыла на весь жальник: «Охти мнечушки тошнехонько! Ой не убойся, да наша желанная, уж ты прекрасного-то кладбища, ты глубокою могилочки».
Калина медную монету в могилу бросил, купил желтоволосой Тине последнее и навечное место, задобрил старых покойников, которые без платы место не дают. Теперь не будут они тревожить подземельную насельницу, не станут гнать вон из могилы каждую ночь, чтобы шла она под окна родимого дома и просила купить место. Исполнил Калина родовой обычай, и бабы-староверки истово закивали головами. Потом забренчала тяжелая глина о домовище. Донька забился, запричитал, словно сердце у него вынули, и многих от такого крика слеза прошибла.
– Бедный парничок. Ведь без отца полсироты, а без матери и вовсе сирота, – зашептались, утирая оборчатые губы концами черных платов.
– И мужик-то осиротился. Сам с морю едва вышел, и тут же бабу схоронил...
– Как не осиротился. Каку ли бабу найдет, а уж все не мати для мальца будет.
– Не мати, не мати. Чистюля была покоенка, уж полы-то вышоркает, стены вышоркает. Я. бывало, говорю: Тинка, ты до дыр протрешь, охолонись!
– Она уж така была, рукодельня...
И потекли черным жидким ручейком меж усатых ячменей, смуглых едва, не налитых солнцем и медной зрелостью. Бывало-то, шла здесь на жнивье Тина, и спелые волосы ее терялись в хлебах.
Часть четвертая
Как росли – не видели, а выросли – только руками развели.
Глава первая
Гоголем въехал мужик в Дорогую Гору. Вороной жеребец высекал подковами искристый снег, выгибал коромыслом шею, сдерживая огневой запал; а в расписных пошевнях, одетый в овчинную шубу с лисьей оторочкой да в лисью жаркую шапку, громоздился Петра Афанасьич. Он ворочался в возке, опруживал его на один полоз, оглядывался назад, где на привязи бежала гнедая кобыла с широкой, как поветные ворота, грудью и горбоносой волосатой мордой, обметанной куржаком. Она порой набегала на пошевни, и тогда испуганно вздрагивали доски задка.
— Потише ты, холера, – радостно окрикивал кобылу Петра Афанасьич, не тая довольной улыбки. Веселый возвращался он с Никольской ярмарки, будто и не было позади длинной дороги от Пинеги. Да и как не радоваться, если такую кобылу взял задаром, ну, в крайнем, задешево, и до cего часа оторопь берет от удачи.
... Хозяин, с Верколы мужик, уже успел приложиться к чарке, хвалился громко: моя кобыла сто пятьдесят пудов бегом потянет. Ну и цену заломил, сказать страшно, сорок рублей. Откуда такие деньги возьмешь, хоть и стоит кобыла этих денег, ой стоит. Толпятся крестьяне, кто в зубы смотрит гнедухе, кто в храп тычет, и Петра быстренько кругом обежал, четвертями обмерил, даже под хвост заглянул и в пахи.
– Брешешь как сивый мерин, – стали подначивать мужики, – у нее в коленках не косье, а хрящи.
– И живот-то опущен, будто рожать собралась...
– И на глаз кривая...
– Постыдитесь, мужики, чего мелете, – огрызался пинежанин.
А Петра сразу смекнул, разыгрывают мужика, значит, кто-то торгует, цену сбивает, водки горланам пообещал. А Петра хоть разорвись: и денег таких жаль, но и кобылу в чужие руки отдавать и того страшнее. Выбился из круга, обежал глазами толпу, приметил мужичонку с постным лицом и осоловелыми глазами, – знать, похмелья ищет. За рукав дернул, потянул в сторону.
– Как тебя по батюшке? – спросил нетерпеливо, словно за пятки жгли.
– Афоня...
– В мужичках Афонях да в голубых конях – мало толку бывает. Ну да леший с ним, бывает, повезет. Выпить хочешь?
– А неужто и дашь, – живой интерес мелькнул в светлых глазах. – Рупь серебром?
– Рупь – рупь, – поморщился Петра, но согласился. – Ты за мной послеживай. Только в кабак войду, не мешкая поди за мной следом. Меня Петра Афанасьич кличут и мы дружки, понял?
– Угу, не впервой.
– Вот и ладно... Подсядешь за столик, будто знакомый, и спросишь, чего, мол, торгуешь, а я отвечу: кобылу торгую. А ты спросишь: а не ту ли кобылу, что в грудях, как поветные ворота? Я отвечу: ту самую, уж рядка-матка была, литки пропиваем. А ты и крикни на весь кабак, мол, ну и дурачина ты, Петра Афанасьич, да у кобылы же глаза тоскнут, у нее животный червь. Так и скажи, понял?
– Ну и хитрован ты, Петра Афанасьич, – завистливо выдохнул Афоня. – А ну, если я сейчас и подведу тебя?
– А кто слышал? Мы с тобой... И рубля не получишь, а под зад от меня спокойно заработаешь...
– Ну-ну, – опасливо отодвинулся Афоня. – Голова-то трещит, ой-ой. Ну, Бог с тобой, поди торгуй скорее.
Петра вернулся в торжище, а там уже на сани мешки таскали, прямо с весов, отмерили сто пятьдесят пудов, и хозяин, весь бледный, – довели, однако, мужика, – бегал вокруг саней, подтыкал груз.
– Купили, что ль? – остановил его Петра.
– Да ну их... Говорят, вру. Это я-то вру? Век не вирал, вот те Христос. Она и двести пудов бегом, чертова сила.
А Петре стало так жаль кобылу, словно из его стойла на базар привели. Долго ли животину запалить.
– Сколько просишь-то?
– Сорок...
– Ошалел? Это пять коров купить. Побойся Бога, двадцать дам.
Пинежанин словно споткнулся, очумело вытаращил светло-голубые глаза, и в них родилось сомнение.
– Ладно, уговорил. Тридцать пять.
– Тридцать.
– Отодвинься, чего встал, – заорал вдруг пинежанин. – Хватит, хватит наваливать. Что, сдурели? – кинулся к саням, стал сбрасывать груз в стоптанный снег, перемешанный мочой и навозом.
– Да мы мешочек лишнего и накинули.
– На вас бы мешочек...
«Загубят лошадь, – тоскливо подумал Петра и оглянулся, почувствовав на себе взгляд. Позади стоял тот мужичонка с постным лицом. – С места погонят застылую и сорвут».
– Эй, хозяин, беру, – закричал поспешно.
– Ну и слава те Богу, не кобылка – золото. Ты глянь-ко на нее, и глаз карий. Тридцать пять?
– Тридцать и покопытное с меня...
– Живьем съел, да куда денешься, – неожиданно легко согласился пинежанин. – Рядка-матка, на чем рядишь, на том едешь.
Схватились правыми руками в локтях, потом помолились в сторону церкви, Петра лисью шапку снял в задаток, взял повод лошади в полу шубы и повел вокруг себя три раза, приговаривая: «Как старому хозяину служила, так и мне послужи. Вот тебе, хозяйнушко, мохнатый зверь на богатый двор: пой, корми, рукавичкой гладь».
Потом пошли в кабак покопытное пить да чай с калачами. По две чарки опрокинули, стали друг друга сватовьями звать.
– Ты пошто продал-то кобылу? – спросил Петра.
– Дак сена-то жорет прорву, а ныне сенов мало заготовили, моя бережина вся чисто выгорела.
– Ну давай еще по чарочке, – пригласил Петра, а сам на дверь выглядывает, откуда должен появиться мужичонок, и просмотрел, как тот у стола вырос.
– Петра Афанасьич. какими судьбами? – бросился обнимать. Перегаром разило и застарелой грязью, но поцеловались троекратно.
– Афонюшко, товарищок мой, вот и свиделись... А я тут лошадь сторговал, – сразу поспешил Петра к делу.
– Да ну, каку лошадь-ту?
– Кобылка грудаста, сто пятьдесят пуд налетом тащит, – хвастнул Петра, налил мужичонке чарку, тот благодарно глянул выцветшими глазами и выдернул водку разом, не сморгнув.
– Да что за кобыла-то? – спросил посвежевшим голосом. – Это не та, грудаста? Дурачина ты, Петра Афанасьич, – заорал на весь кабак пронзительно тонким голосом. – Да у нее же червь в животе.
– Врет он, ты что? – расслабленно от выпитой водки спросил пинежанин. – Ты что, харя, кобылу славишь?
– Моего товарища харей называешь да гнилу кобылу с рук сбываешь? – грозно спросил Петра. – Давай шапку, сговора не будет. – Выхватил шапку, пошел к дверям. – Обманщик, честных людей обкрадывать.
Пинежанин огляделся, все на него уставились, пальцем в глаза тычут: ославили мужика и кобылу его в грязь сронили, кто теперь купит. Побежал за Петрой, ухватился за цветной кушак:
– А сговор-то забыл, крест православный забыл?
– Поди прочь-ту, бесстыдник, – вышел Петра на крыльцо.
Пинежанин следом, пристыл за спиной, а Петра Афанасьич сторожко слушает, как пьяно дышит мужик. И вдруг побоялся переиграть, степенно оглянулся, лицом обиженный, на голову выше пинежанина, в груди широкий, в купецкой богатой шубе, отороченной лисьим подчеревком, а в зеленых глазах стужа.
– Ну как же ты, а? Не-хо-ро-шо...
– Да я...
– Знамо, что ты. Но за-ради креста православного лишь. Бери пятнадцать рублев, и с миром.
– За таку-то кобылу? Да ты што, сдурел? – Пи-нежанин туда-сюда, хотел было возмутиться, потом махнул рукой. Если обратно кобылу гнать, так кормить нечем, с сенами нынче худо, а если со стороны корм прикупать, опять где деньгу возьмешь. Глянул на Петру со слезой во взоре:
– Ограбил ты меня, креста на тебе нету. Давай деньги...
На том и разошлись. Довольный вернулся Петра Афанасьич в свой двор, с десятой по счету лошадью в поводу. Пустынно в стойле, все лошади в обозе, в Питер ушли с товаром: как-то зять Михейко птицу продаст? Снял шапку, вдохнул запрелый навозный дух, и сердце сразу возрадовалось. Поклонился во все четыре угла. «Вот тебе, хозяин, мохнатый зверь. Мою гнедую кобылу люби, пой да корми». Без дворового хозяина ни один дом добра не наживет.
В избу вошел, скривился, подумал: давно бы пора новую ставить, как у здешнего купчишки с верхнего околотка Веньки Попова; в два жила, да светелкой по боку, да с пятью красными окнами: хватит зверьем жить. Девки все за рукодельем, которая шерсть прядет, другая ткет на кроснах, и меньшая рукавички вяжет. Разом всполошились, покраснели, поклонились в пояс:
– С добрым возвращеньицем, батюшка, да с прибавленьицем.
Хмыкнул Петра, руки растопырил, подбежала меньшая, Тайка, потянула шубу с плеча. Распечатал дорожный короб, насыпал девке за ласку полный подол сибирских орехов-гнидок, щелкай, белянка, на здоровье. Евстолье кинул кусок парчи:
– Сшей себе шугай[32] , может, какой ли мужичонок подберет.
– Ой, полно тебе, батюшко, вечно ты так, – закраснела, отвела ненавистные глаза.
Не дал Бог девке красоты, а природа своего просит. Уж третий год клянчит на Покров себе мужика: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком», а жених-то на среднюю, на Маньку круглоносую, угадал. Доколе, сказал Петра, двум девкам невеститься. Хватит, на даровом харче насиделись, – и взял в дом приемыша из Няфты. Не красавец парень, все лицо тараканы обсидели: рыжее от веснушек, но плечами Бог не обидел, и грамота в голове есть. Манька было фуркала, слезно причитала, но Петра девку и слушать не стал, а выстегал ременной плетью до кровавых рубцов.
Столько и ерепенилась Манька, стала мягче шелковой травы.
Посмотрел Петра на среднюю дочь, а та и глазом не ведет: сидит за полотнами, будто и нет ее. Позвал, нехотя оглянулась, а в лице обида. Кинул ей трубу сукна:
– Кафтан сшей, неча неряхой сидеть...
Сукно раскатилось по полу, и пришлось подняться Маньке из-за станка, сразу живот обтянуло косоклиным сарафаном.
– С грузом тебя, – поздравил, ощупав взглядом. – Скорехонько сообразили. Только парня тащи, а то вон прогоню... Мати-то где?
– Эво я, – откликнулась Августа за заборкой. Вышла в темном костыче, один шерстяной носок скатился с ноги в опорок. – С добрым возвращеньицем, Петра Афанасьич...
– Могла бы и встретить. – Оглядел жену Петра и скривился. – Эк тебя развезло, корова. Поменьше жри-то...
– Болесь у меня, батюшко.
– Ну ладно, ладно, – смягчился Петра.
– Каково съездил, батюшко? – решилась спросить баба, услышав ласковость в голосе. Ведь у Петры так: что не по нем, живо кулаком в глаз, а там разбирайся. Бывало, в молодых-то летах и дня не хаживала без синяка. А нынче присмирел чуток, может, старость чует? Тоже боров, прости Господи, и одышка-то его не берет. Так сторожко думала Августа, жадно оглядывая столешню, где грудой навалены пряники медовые, да калачи городские, да жамки сахарные и желтые глызы сахара. Потом и на девок покосилась, не грызут ли чего. Им только дозволь, живо все подметут.
Ой, знал Петра Афанасьич: если бы понадобилась собака добро сторожить, то лучше Августы ему не сыскать. У нее меж пальцев не протечет, она из козульки каравай выпечет.
Крепко цеплялась Августа за хозяйскую квашню и девок до хлеба не допускала, чтобы большухой в избе оставаться среди бабьего племени. И как ни натужно было тащить на себе весь дом (много ли девки-то делают, каждая для себя норовит), но с первыми петухами часа в три ночи подымется, печь истопит, выть сварит и скотину обиходит. Не надо Августе из чужих рук смотреть на кусок, от своего хлеба отщипнет.
– Эк добра-то навез опять, сколько денег по-пустому вывалил, – недовольно заборшала Августа, быстренько убрала и пряники медовые, и конфеты, и калачи городские. Мало ли кто в гости почтенный зайдет, угостить надо, похвастать житьем-богачеством. А пока пусть полежат в шкафу. И если покопаться в Августиных припасах, то много добра можно найти там еще с прошлых ярмарок: пряники загусели[33] , стали тверже камня, и когда расщедрится мать, кинет девкам по кругляшу, у тех и зуб неймет. Они матери жалуются, а та и радехонька:
– Вот и хорошо, надольше хватит, если помалу сосать. А то на вас не напахать, эки прожоры.
Идет Петра по Дорогой Горе в шубе нагольной обыденной, в беличьей шапке с длинными завязками и в черных базарных катанках до колена. Катанки новехоньки, тверды, как вяленая треска, и не гнутся, а потому идет Петра вперевалку на чужих деревянных ногах.
А дорога так сочно скрипит под ногами, снега пронзительно-голубые, пересыпчатые, больно смотреть на них; словно бы легким дымом заволокло небо, и над студеным суземьем разлилось багровое пожарище. Далеко слышны одинокие шаги Петры Афанасьича, бухают в ответ заиндевелые избы, осевшие в снега по самое верхнее жило, оконца задвинуты волочильными досками, и кажется, что повымерла Дорогая Гора. Далеко в подугорье на заречье уходит голубая дорога, и в самом конце ее скребется с возом сена похожая на собаку лошаденка... Осподи, простору-то сколько. Уж там, за Кумжею, не Расея-матушка, там шальная комариная тайбола. Ой, дико место, темная сторона, зазря земля гибнет. Эх, жизнь, чем дальше, тем трудней. Как-то зятелко в Петербурге птицу нынче продаст, три воза на Пинежской ярмарке взяли дичи, рябчика стреляного да чухаря. Может, и зря доверился, на такие деньги товару. А ну как объедут, тамошним купезам пальца в рот не клади, руку откусят. Ой ловки... Ободрал намерзшие ледышки с усов и бороды, пальцы сразу ожгло морозом, едва отошли в овчинных рукавицах. Еще постоял, глядя в заречную сторону, где небо было мглистым и уже по-вечернему зоревым: нынче светлого дня с воробьиный скок. Морозы-то жмут: из озер, поди, всю воду съели. Рыбе-то воздуха ой как нужны, вода с морозу преет. Рыба сейгод в пролубь сама пойдет, только качай ее. Может, и наведать Сояльское озерко и гнедую кобылу спробовать. Всего-то пятнадцать верст, эко диво. В чащине озерко-то, навряд ли кто прознал его. А што, засиделся я, ей-Богу, засиделся, скоро и дышать не замогу. Уж я ли не ломил работы, осподи, сколько переробил, другому и не снилось эстолько, ночами не сыпывал, а какая-то дикая толщина прет. И с чего бы это?
И тут услыхал легкие разбежистые шаги и, еще не оглянувшись, уже знал, что спешит Калина Богошков: только он в Дорогой Горе так ходит, по-птичьи. С той сенокосной поры, когда схоронил мужик бабу, вроде бы и не бычились более, но и при встречах шапок не ломали и долгих разговоров не вели. Оглянулся Петра Чикин будто случайно, да и негоже спиною к встречному стоять. Уж совсем рядом шел вприскочку Калина Богошков, только малица завивалась в ногах.
– Куда, как на пожар? – окликнул Петра.
– Не на пожар, а дело есть, – невольно остановился Калина, пристально глянул из-под пыжиковой шапки.
– Без дела не живем, – согласился Петра, затеивая пустяковый разговор. – Вдовеешь все?
– Как сухое дерево...
– Бабу бы нать, сыну мати. Еще успешь новых народить. – В зеленых Петриных глазах родился интерес.
– Да как бы не нать-то, дак. Ну ладно, пошел. – И, не попрощавшись, Калина свернул за угол в сторону питейного дома. А Петра Афанасьич еще потоптался в одиночестве, слегка обиженный коротким разговором, и неожиданно подумал: «А чем не жених моей Евстолье? Сопрела девка, ой сопрела. Ей бы в такие годы ребят тетешкать, а она как сыч на лесине. Вот и боршит все, скрипит, будто худое дерево. И это не по ней, и то не по ней. Столько лет над сундуками кряхтела, каждую ягодину продаст, сколько шерсти напрядет – все на людей, все на людей, каждую копейку в сундук упехает. И постели-то новые, и подушечки-то пуховые, а одеяльницы овчинные... Девки-то пустоголовые все на горку, задницей потрясти, кавалера выглядеть, а она не-е, она уж не такая...»
Горделивая грусть тронула сердце Петра Афанасьича: да и как тут не грустить, своя кровь, свои заделки. А и Калина – мужик в соку, пусть бородат, да тороват, из своей борозды не выпадет, и парничок растет услужливый, дай Бог, прильнут друг к другу. А изба-то дядькина еще, во всю деревню отличная, с петухами и узорными полотенцами, с красными оконцами по переду. Жених, как о давно решенном подумал Петра Афанасьич и стал мозговать, с какого бока подступиться к Калине, как ловчее спеленать его, ведь что не по нему, живехонько вспыхнет...
Хлопнул с досады по шубе, опомнился, понял, что вслух сам с собою беседу вел. Зябко передернул плечами, остыл, мороз и под овчины забрался; шевельнул пальцами в рукавице, наследил там липкие пряники. Как пошел, с собой захватил, дай, думаю, своего Петрухича[34] угощу перед Рождеством. С узелком по деревне как-то и смутно идти, каждый встречный-поперечный глазеть будет (не подумал, что дивный мороз), потому в одну рукавицу орехов-гнидок насыпал, в другую – пряников расписных. Жонка за спиной стояла, чуть слышно гнусила, голос поднять побаивалась: «Опять своему сколотышу? Андели-андели, блуд творят и греха не скроют. Вот времечко пришло». А Петра только оглянулся, зыркнул зелеными глазищами и словно заморозил бабу: ушла в запечье, осеняя себя крестами, но и оттуда украдкой да следила за мужиком, считала пряники. А как вышел в заулок, тут уж не пожалела бранных слов, искостила Петру Афанасьича всякими поносными словами. Девки за прялицами только краснели да повторяли: «Матушка, ты што. Господь с тобой». Августа запричитала у себя за заборкой: «У-у-у, мне дак не даст корочки хлеба зажевать, вечно укорит, а ей-то, сучке, пряники печатные носит. Ой, девки, скоро все добро уволочит от нас, с чем оставит? И словечушка-то ему доброго сказать нельзя, сразу в зубы да сразу по зубам. Разо-ри-тель несчастный, живоглот. Ведь кукушку живую съел».
– От жадности съел-то, быват, – откликнулась от прялицы Манька, люто невзлюбившая отца. – Пряники пе-чат-ные, – передразнила она мать, нисколько не боясь ее. – Вон добра-то накопили, тысячами ворочает. А она – пряни-ки печатные, дура.
– А тебе-то чего я худого сделала? – оборотила свой гнев на дочь. – Ты тоже хороша, сучка. Думаешь, и не знаю, как с Митюхой Верстой в овине лежала. Бесстыдница, тоже хороша, неча сказать. Кулебяку-то без рыбы испекли, пустую.
– Замолчи! – прикрикнула Манька.
Остальные девки молчали, ждали, которая осилит, к той и пристать. У Маньки мужик, она в силе ныне, может и побороть мать, отнять у нее квашню: хозяйкой станет... А и то сказать, вовсе изжадилась мать, в погребице эстолько добра гниет, масла коровьего бураки, куда все копит? Но Евстолья не удержалась, для приличия упрекнула Маньку:
– Ну хватит, помолчи, людей стыдно, – сказала и сама не рада стала, что ввязалась, потому как из ветра родилась буря.
– Ей людей стыдно. Гли-ка, девки, ей людей стыдно, – взъелась Манька. – Кто на тебя позарится, сивую ворону.
– Замолчи...
– Я тебе замолчу.
– Замолчи, трясоголовая... Я плоха, да девушка. А ты стелька сапожная: готова перед каждым расстелиться. Думаешь, не знаем, чей грех Михейко-то покрыл?
– Замолчи, корова яловая, – пригрозила Манька.
– Сама молчи, Митюхина подстилка...
И что тут началось: прялицы полетели на пол, вцепились девки в волосы, стали возить друг друга по полу, тузить, куда придет рука, пинать ногами до синяков. Наконец Евстолья взяла верх, распялила Маньку на полу, юбки ей на голову закатала и давай по голой заднице шерстяным поясом охаживать. А мать за ситцевую занавеску спряталась, ухват из подпечья выхватила, качается от страха: «Осподи, и что еще деется на белом свете? Нарожали детей на свою шею...»
Только Петре Афанасьичу было невдомек, что война в его доме идет: при нем дышать-то боялись, не то слово громкое сказать. В эту самую минуту поднялся он на взвоз к Павле Шумовой, дернул за сыромятный ремешок, и поветные ворота легко распахнулись на деревянных пятниках. Сразу увидел гроб торчком и легко вздрогнул: каждый раз, как видел его, оторопь брала. В другом углу было сметано сено внавал, до самой подволоки, и от него выметнулся парнишка без портков, в одной рубашонке по колена (в такой-то мороз) и в растоптанных материных валенках.
– Клавдя, сынок, погоди. Я тебе што ли принес, – закричал Петра.
Но тот и не оглянулся, перед самым носом дверью хлопнул, только слышно было, как пронзительно вопил в избе: «Мамка, там хозяйнушко рогатый». – «Не ври-ко, чего мелешь?» – «Вот те крест, слышь, скребется?»
Не успел Петра дверную скобу нашарить, улыбаясь чему-то в темноте, как дверь сама открылась, на пороге Яшка с ухватом стоит.
– Фу-ты, хуже черта, – буркнул Яшка сердито, убежал в шолнушу[35] , слышно было, как швырнул ухват в подпечек.
Сумрак застоялся в избе, волоковые оконца закрыты наглухо, и свет от лучины едва разбавлял темь. У самого порога за перегородкой шумно дышала корова. Павла сидела за столом, с краешка, подле уже примостился Клавдя, болтал ногами, что-то хлебал из миски, тут же вышел из шолнуши Яшка, сумрачный сел за стол.
– Кого это Бог принес? Проходи, добрый человек, – сказала приветливо Павла, вглядываясь в полумрак. – Яшка, ну-ко поднови лучину.
– Здорово-те вечеряли, – смущенно откликнулся с порога Петра.
Павла сразу узнала его низкий, простуженный голос, выметнулась из застолья.
– Осподи, Петра Афанасьич, спаситель наш. Да какими судьбами?
– Шел мимо, думаю, дай загляну. Не чужие, бат.
– Скинывайте шубу-то, Петра Афанасьич, – засуетилась около Павла, потянула за рукав. – Уж простите, что не признала. Садитесь, отведайте творожку постного. Вам творожок-то порато как по душе будет.
– Хлеб да соль, – поклонился Петра в передний угол.
– Едим да свой, а ты подальше стой, а если волосы крепки, дак за стол садись, – откликнулся Яшка, не сводя с гостя черные непрозрачные глаза. Но не успела довольная усмешка раздвинуть губы, как подскочила мать и треснула деревянным пальцем по лбу.
– Чего мелешь-то, пустозвон? – закричала на Яшку. – А ну, бери Клавдю, и подите на печь.
– Все не так, чего не скажи. Придут тут всякие, дак, – сдерживая слезы, бурчал Яшка. – Иди давай, пивная голова. Вон головизна-то, вся в Петрухича, – дал подзатыльника Клавде.
Слышно было, как шумно они умащивались на горячих кирпичах, тонко гундосил Клавдя, плаксиво отбояривался от брата.
И вдруг Яшка нарочно громко спросил:
– Слышь, Петрухич, отгани загадку.
– Ну...
– Сидит бочка, в бочке пиво: что за диво?
– А бочка не сидит...
– Ну все одно, – нетерпеливо подгонял Яшка.
– Не знаю.
– Заугольник...
– Чего мелешь там, – крикнула испуганно мать, думала: вот сейчас прогневается мужик, уйдет без доброго слова, и тогда Павле и соплюхам ее сплошная смерть. – Думай пустой головой, чего творишь. Уж вы простите, Петра Афанасьич, не держите на него зла. Вся спозорилась, откуда и слова экие берет.
– Да полноте, – отмахнулся Петра, в душе решая больше не заходить сюда. – Порода уж така, отцова порода.
– Верю всякому зверю, погожу – ежу, – не отступался Яшка.
Мать сдернула с ноги опорок, кинула на печь:
– Заткнись...
Наконец Яшка угомонился, перебрался на полати, свесил кудрявую нечесаную голову, уставился ночными глазами в Петру.
Тот сидел молчаливый, цедил сквозь пальцы редкую сивую бороду, рассыпал ее по кафтану.
– Тяжело тебе с има, – вздохнул тяжко, оглядывая Павлу: и подумал внезапно, что с годами баба словно бы молодеет, иль, может, сумерки да живое пламя лучины красили ее? Щеки круглые, плотные, пальцем не продавить, глаза тоже округлились под короткими бровками, и зуба ни одного не растеряла. А уж вроде бы отцвела, отжила в вековухах без мужней ласки, без хозяйского догляда.
– Тяжело тебе с има, – еще раз повторил Петра, испытывая вдруг к бабе забытое желание, и тут же тайно упрекнул себя: «Осподи, чего тебе, жеребец эдакий, надо еще. В твоих ли годах грешить. За спасение души молиться надо».
– Как не тяжело-то. Они жилы мои на кулак вымотают, неслухи, – согласилась Павла.
– Да, с разговорами-то... Ну-ко, Петрухич, иди сюда, я тебе гостинец дам, – поманил Петра сына.
А того дважды звать не надо, скатился с печи, чуть ноги не сломал, подбежал, острые зубы ощерил и зеленые в мелкую крапинку глаза уставил нахально:
– Больше дай-ко...
– Вот тоже мужик, никакой совести, – пробовала устыдить Павла.
– Да малой еще... Пойдем ко мне жить? – Петра насыпал Клавде в подол орехов, пряники отдал Павле. – Гостинцем тут...
– Откупиться хошь? – вдруг подозрительно спросил с полатей Яшка.
– Господь с тобой, дитя, какие слова говоришь, – удивленно споткнулся Петра, а сердце у него больно кольнуло.
На полатях сумерки были еще гуще. Яшкино лицо расплывалось, и видны только его смородиновые глаза и широкие отвислые губы. И в какой-то миг показалось Петре Афанасьичу, что лежит там разбойник Степка Рочев...
– Слышь, Павла, отдай-ко мне сына, а? – вроде бы в шутку предложил Петра, но от Павлы не скрылся тот интерес, с каким посмотрел он на Клавдю.
– Ты што, ты што, – замахала она руками, побледнела и сникла на лавке.
– Да пошутил я, ну ладно... разговоров не оберешься, – вяло засмеялся Петра, но Павлино сердце уже тревожно зашлось, ведь ей ли не знать мужика.
– Которого сына-то? – еще хотела оборотить все в шутку.
– Петрухича, свово. Наследник будет...
– Не бывать курице петухом, а Петрухичу богачом, – опять поддел с полатей Яшка.
– Языкан ты, ой языкан, – перевел разговор Петра.
– Уж какой есть, не обратно и лезть, – не отставал Яшка.
– Воистину...
Тут пальнуло в углах, мороз садил избу, и невольно все притихли, прислушались, что делается на улице: по угору проехали розвальни, визжали на раскате полозья, тявкнула собачонка, захлебнулась морозным воздухом, и опять все стихло.
– Садит морозина...
– Палом палит...
– Лед-то, поди, саженный, рыба без воздуху тоскует. Ее нынче руками брать. А што, а? Да ведь и то... Слышь, языкан, собирайся. Рыбы матери привезешь, – вдруг сказал Петра как о давно решенном и невольно глянул вверх, на полати, откуда свешивалась злая кудрявая голова.
– Да куда он, – ответила за Яшку мать и тут же засуетилась: – Ой, Петра Афанасьич, радетель вы наш. Уж не заморозь там сынка-то. Не знаю, как отблагодарить. Возьми, возьми парня-то, а я уж отроблю. Он услужливый, он только на язык дерзкой, правда, Яшенька?
Яшка промолчал, уполз в дальний угол полатей, заворочался в окутках, в старом тряпье, и вдруг на пол полетели засохшие порты, холщовые онучи, балахон из крашенины...
Собирались выехать другим днем, да морозы попридержали, до самого Рождества палом палили, даже дерева не брало кованое железо: топоры крошились по самый обух, – это ли не диво. Но в самое Рождество сникла стужа, обложило небо от кромки до кромки черной слоистой тучей – самое время трогаться.
Когда съезжали со двора, выскочила из дверей Тайка, гибкая, будто ивовый прут, льняная коса выбилась из-под плата. Закричала, становясь на полоз и толкаясь катанком о снег:
– Татушка, дай подъехать...
– Поди, поди прочь, – оглянулся Петра Афанасьич, легко стегнул ременкой, но девку не достал. – Не моли худа на дорогу.
– Ну, татушка, жалко, да? – стала канючить Тайка, обежала кругом, а лошадь еще не набрала шага, фыркала в лицо девке, словно не знала, как поступить, и остановилась совсем, сонно хрупая сено.
– Во невеста-то растет. Ты слышь, Яшка, про тебя растет...
– Больно надо, холера – не девка, – откликнулся парнишка и потупился, а Тайка одной ногой уже встала на оглоблю, по-мужичьи махнула на кобылью холку у самой дуги, впилась пятками в лошадь. И тут-то Яшка не утерпел, показал себя.
– Эй, не натри, рожать не заможешь...
– Замолчи, губастик-головастик, – сердито огрызнулась Тайка, зло сверкнула зелеными кошачьими глазами, но селась уже по-бабьи – ноги на одну сторону: поставила катанцы на оглоблю.
– А ну слазь, чего выдумываешь? – вдруг закричал Петра. – Вожжой захотела? Разве девке можно верхом?
– Ну, татушка, чего ты...
Петра сделал вид, что собирается подняться, и Тайка, услышав сердцем отцов гнев, испуганно прянула вниз, зацепилась одной ногой за оглоблю и головою упала в снег: юбки задрались, ой грех-от.
– Чего нашла-то, на двоих делим? – насмешливо спросил Яшка, но тут Петра Афанасьич хмуро поторопил кобылу кнутом, пристывшие розвальни дернуло, и молодая лошадиная нерастраченная сила быстро повлекла их в подугорье, но парень еще успел показать Тайке язык и состроить из пальцев кикимору.
Верст пять до Голого холма ехали накатанной дорогой, Петра Афанасьич то и дело по-совиному крутил головой, вспоминал примету. Высохшую сосну с развилкой посередке едва разглядели: за эти годы она как бы осела, обросла по стволу зеленым мхом, затерялась среди молодого ольшаника. Раньше тут сбегала торная тропа на соседние Синюхины озера, и даже лошадью забирались в суземье, но сейгод лес стоял в снегу по самую поясницу. Тихая жила тайбола, настороженная; черный, обтаявший за эту ночь ельник уходил куда-то круто вниз, и ни один птичий или звериный шорох не наплывал из тоскливой глубины.
– Осподи, не дай напозориться, – сказал Петра вслух, но подумал: попреть придется, к утру бы попасть. От тайных мыслей повеселел даже, вспомнил себя молодым и лютым на работу. Тяжелые одежды сразу скинул в розвальни, чтобы понапрасну не потеть: надели лыжи-кунды и стали торить лыжню. Пятнадцать верст маеты впереди и все снегом-плывуном, зыбучим, готовым утопить с головой. И как заведенные закрутились мужик и парнишка взад-вперед, торя для кобылы путик.
Еще впотемни бились как проклятые, отдыха не знали, позади себя оставили распадок: если мороз падет, снег закипит-заплавится, обратно легче будет ехать. Когда уже на ощупь пошли, Петра кобылу распряг, ее жалко стало – не себя, обтер попонкой, сверху оленье одеяло набросил, в зубы сена охапку кинул. Уж потом только отоптал под елью снег, сушину свалил, как-то еще видел в кромешной тьме, вот лешак-то, а может, снег давал отблеск; разделал сушину на два длинных чурака, высек на одном паз, на другом – стружкой нашерстил, накатил стенкой бревешки – вот и нодья готова. Будет костер жить до утра, и никакой мороз не пробьет, и жарко станет, как в бане хорошей, хоть верхнюю одежду до белья-рубахи снимай. Трутоношу из-за пазухи вынул, из кожаного мешочка добыл железное кованое кресало да кремень, на берестяный трут пошептал что-то, сплюнул в сторону, потом сказал громко: «Царь-огонь, достанься: не табак курить – каши варить». Скребанул кресалом раз-другой, высек в трут крохотную искру, раздул ее до белого огня, сунул берестяное кольцо, а от него уже затрещала сушина, и желтое радостное пламя раздвинуло темноту. А Яшке было все безразлично, так умотался он, выгорел весь за длинный походный день, кажется, что и слова человеческого сказать не в силах: вот упал бы сейчас в розвальни, сверху овчинным одеялом запахнулся – и пропади все пропадом до самого рассвета. Но как тут ляжешь, если сам хозяин вершил работу, словно усталь его не брала: и сквозь распухшие сонные веки смотрел Яшка тупо, как Петра Афанасьич приспособил над огнем рогульку, повесил медный котел, быстро растопил воды, понес лошади; слышно было, как насвистывал, позывал кобылу на питье, а гнедуха фырчала впотемни, шумно цедила воду, и в животе у нее гулко екало.
А Яшка, еще недавно весь потный, стал вдруг быстро остывать, спину охватил озноб, но лень было шевельнуться, чтобы взять из саней шубу и накинуть поверх. А Петра то вырастал из темноты, будто волосатое привидение с белыми водянистыми глазами, то сидел на корточках возле костра, заново набивал снегом котел, кряхтел, подгребая хворост на нодью, и от его согнутого тела валилась на снег уродливая тень. Пламя выхватывало из тьмы несколько черных стволов и задыхалось, отражаясь от мрака, как от стены. Яшка смотрел в ровно гудящий огонь (еще подумал: к морозу, не иначе), глаза у него слипались, и парнишка не знал, уже спит ли он или грезит, а налитые усталостью ноги истомно ныли и еще порывались куда-то идти, ширкая лыжами.
– Эй, Яшка, чай пить, – совсем рядом раздался голос. Яшка беспонятливо открыл глаза, перед ним стояла оловянная дымящаяся кружка, а Петра Афанасьич, наклонившись, совал в руку кусок рыбной кулебяки. – Эк, парень, как тебя вымяло.
Петра сел на чурбан, ноги у него тоже поламывало, шумно фыркал чаем, порой глядел на парня, как тот лениво цедит из кружки сквозь зубы, сонно ломает кулебяку и не столько ест, сколько сыплет на снег. Вдруг шумно захрипела кобыла, встала на дыбки. Серая тень скользнула в полумраке, куда едва хватал свет костра, туго обвалилась с ветви на ветвь снежная кухта, и вслед за этим всплеском раскатился такой высокий и тоскливый вой, что Яшка вспотел от неожиданного страха и проснулся окончательно. Тут же другой волк отозвался за спиной, кобыла всхрапывала пугливо, прядала ушами и глядела на людей малиновыми от пламени глазами. Петра Афанасьич вскочил, запалил от нодьи смолистый, обвешанный моховой бородою сук и кинулся навстречу бесшумным теням, размахивая и расплескивая огнем. Волки отбегали неохотно, по-собачьи становились у ближних деревьев, и жутким зеленым светом горели глаза под тяжелыми лбами.
Хоть и жаль было тратить огневой припас, но пришлось доставать кремневку. Яшка мысленно торопил Петру, а мужик медленно снимал с замка кожаный чехол, потом забил в ствол пулю, насыпал наконец на полку меру пороха из коровьего рога и еще долго не стрелял, выцеливая самого нахального и крупного зверя, который вел всю стаю. И тут один волк вырос из темноты саженях в пяти, не больше, и нескольких хороших прыжков хватило бы ему до горла кобылы.
И пришлось Петре стрелять. Было видно, как зверь опрокинулся на спину, будто мешали ему надоедливые блохи, потом перекатился на брюхо и потащился во тьму, загребая снег передними лапами; еще раздалось в ночи сварливое жестокое рычание и чавканье, это волки раздирали своего собрата, наедались горячим мясом.
– Ты ложись в сани-то, поспи, – сказал Петра, остывая от возбужденья, когда затих ближний лес и понурился.
– Не-ка, – отказался Яшка. – Какой тут сон, если только закрой глаза – и голову начисто отгрызут.
– Ложись, говорю, экий ты несговорчивый, – настаивал мужик.
Пришлось смириться и лечь, внутренне напрягаясь душою и давая себе слово даже не дремать. И чего уж никак не ожидал Яшка, Петра Афанасьич накрыл его овчинным одеялом и подтыкал с боков. Волна расслабленного тепла и спокоя нахлынула на парнишку, и он уже почти с любовью подглядывал, как сидит на корточках возле нодьи хозяин и греет над пламенем лопатистые черные руки с длинными железными ногтями и порой бьет себя по коленям, смахивая искры.
– Видать, к морозу, – сказал Петра, показывая пальцем на звезду, нависшую над светлеющей тайболой и похожую на остывший уголь. И, помолчав, спросил: – Яшка, ты пошто от меня рыло воротишь?
Яшка смолчал, притворился спящим, а может, и спал уже, еще не зная о том: он вроде бы хотел даже сказать что-то, но губы словно склеились и не разжать их, а Петрины слова не трогали и наплывали, как сквозь воду.
– Люди добра не понимают. Если поглядеть по рассуждению, так я, может, до вас расположение имею. Знать, Богом до вас приставлен. Осподи, ангеле мой, хранителе мой, сохрани душу мою, скрепи сердце мое...
Но мороз миновал, сырая хмарь нависла над тайгой. Совсем замаялись, когда к полудню с матюгами и Божьей милостью добрались до нагорных боров: там и снегу было не в пример меньше, ветрами сдувало его в подножья, да и лес стоял чистый, и свежий воздух ходил по горе. Внизу петляла таежная речка, вровень с берегами забитая снегом, и туда спускаться поопасались: можно захлебнуться в заносах. Наконец Петра разыскал на соснах заплывшие коричневые затеси; сползли с холма, трудно продрались через мелкий березняк и оказались возле небольшого озерца, – на дальней стороне его клубился ивняк, наискосок к нему стелилась по снегу лиса-огневка, наверное, доставала куропатку, а еще дальше, в мутном просвете, виднелось другое озеро.
Все было так знакомо и близко Петре, будто вчера он промышлял здесь, и в душе его родилось удовольствие и беспокойство. Мужик начал спешить, торопил Яшку, чтобы тот поскорее распрягал кобылу да обиходил ее, а сам деревянной лопатой разгребал лесовую избушку, лабазный верх которой едва виднелся подле громадного выворотня. Снег здесь, на открытом месте, уже слежался, и Петра нарезал его высокими кирпичами, складывал подле, и получалось у него что-то вроде сеней. Потом топором зацепил примерзшую дверцу.
В избушке ничего не изменилось: в углу крохотный камелек из черных голышов-каменьев, у стены широкий из плах примост, и посередке вместо стола – необхватный пень. Старый еловый лапник выкидали вон, наломали свежего, закрыли мороженый пол, заволокли весь походный скарб, ползали на коленках, словно малые дети: только так можно жить в лесной избушке. Яшке было смешно глядеть, как кряхтит, напрягаясь, Петра Афанасьич, широкий, как избяная печь; кафтан-шойданник задрался на спину, и брюхо провисло к земле, будто у тяжелой коровы. Мужик пыхтел, но так и не присел на место, пока не перетаскали все. Потом поели чего Бог послал – ржаного каравая краюху да холодной трески, запили квасом из туеса. Петра Афанасьич прилег и, глядя в низкий накат, по-хозяйски подумал, что пора бы и новую поставить зимовку. Эту еще с отцом рубили в один день, дождь непроходной лил, спасались: вот и стены не пазили, не мшили и крышу крыли лабазом, наскоро накатали тонких бревнышек да лапником закидали. Вроде бы и смехом делали, а стоит и стоит, ничего ей не делается, ведь и отца уже пятый год как нет в живых.
Наверное, надышали: в зимовке вдруг запахло ожившей хвоей, из дальних углов потянуло весенней прелью, грибами. Петре неожиданно взгрустнулось, он скосил глаза в угол, хотел еще что-то сказать Яшке, и с этой грустью в душе и с открытым ртом заснул и так тяжко и громово всхрапнул, что мелкой пылью посеял через крышу снег. Яшке тоже стало сонно, и он только собирался перекатиться через хозяина к стене, как Петра Афанасьич уже открыл глаза, почесал живот: «Вот и слава Богу, обманул сон-батюшку. Пойдем, оглядимся, што к чему...»
Насунули лыжи, скатились на озерину. По той стороне опять прошла лиса, не пугливо скрылась в ивняке, и тут же, голгоча крыльями, поднялась стая куропаток и упала за первым мыском.
– Не родись богатый, а родись кудрявый, слышь, Яшка? – весело сказал Петра, обегая взглядом посмурневший лес и пологие бережины, примечая на снежных увалах звериную жировку.
– Ты-то уж кудрявист, – насмешливо согласился Яшка. – Волосина за волосиной торопится с дубиной.
– Языкан, тебе слова лишнего не скажи... Побалуемся, а? – спросил, не обидясь. – Поте-е-шимся нонь на глупой рыбалке. Тут ведь дикие места, тут уж не Расея-матушка, а дикость одна, даже зверь человека не чуял уж годков пять.
Яшка промолчал, но душою загорелся весь, даже кончики пальцев на руках щемило от восторга, когда видел частое узорочье следов: куньи пробежки, мелкий горносталев скок, неторопливые лисьи ходы – вот сейчас бы рванул в суземье и расставил кляпцы, навесил удавки.
– Лошадь-то запарил, а вот чего достанем, один Бог знает, – бормотал Петра, высматривая какие-то свои приметы: то колесил от бережины до бережины, – знать, выглядывал приглубые места, то начинал отгребать снег лопатой. – Рыбалка-то глупа, да повезенка. Тут уж как повезет: можно за двое ден столько рыбы взять, сколько и неводом двадцати человекам не огрести будет... Глупа рыбалка, да без головы никак. Срок рыбе знать надо, когда заскучает она без воздухов, тогда ее и бери.
По старым приметам он нашел приглубое место; вдвоем скидали в сторону снег, целое затулье получилось – выше человечьего роста. Петра Афанасьич пешней постукал о лед, побежали первые паутинки, будто треснула оконная слюда.
– До рубахи скинывайся. Аршина два лед-от... Осподи, пошли удачу. Да лоб-то окрести, нехристь.
– Чего пристал, сам-то каков, – огрызнулся Яшка, но мужик смолчал. Стоял лицом на восток с непокрытой головой, крестился мелко:
– Святые апостолы, Петр, Павел, Андрей Первозванный. Верховные апостолы, первые рыболовы, помолитесь со всеми святыми угодниками Пресвятой Госпоже Богородице. Есть на святом престоле ключи золотые: возьмите эти ключи и отоприте темный погреб рабу Божьему Петре, пригоните мелкой и крупной рыбы рабу Божьему Петре...
Прав был мужик: воздух навис густой, застойный. Раза три взмахнул Яшка железной пешней и взмок, пришлось сбросить балахон. Петра Афанасьич колотился в одних белых портах да в белой же рубахе до колен; медный крест на гайтане выбился поверх ворота, борода пепельная рассыпалась. Он бил пешней тяжело, хукая всей грудью, приседая в коленках, рыхлые щеки побагровели и налились кровью. Что-то медвежье виделось в покатых плечах и крутом загривке и косолапых ножищах. Пешня звенела, готовая надломиться в держаке, ледяные осколки стреляли в небо, и Яшке, шедшему следом, приходилось прятать лицо.
– Вот как, да ишо воно как, – бормотал Петра на каждый удар.
– Зачем такую-то майну[36] долбим? Быват, не на лодке и плавать, – зажалобился Яшка.
– Впервой, што ли?
– Ну да...
– Тогда помолчи, прости осподи. Слушай, сказать тебе сказку? – остановился Петра, уставил на парнишку зеленые хмельные глаза, будто с перепою мужик. – Связать тебя в вязку, бросить под лавку, лежать тебе три дня, и съедят тебя мухи с комарами.
– Я бы тебе тоже сказанул, да не по нраву буде...
– А ты речист, это мы слыхали, – согласился Петра.
– Донька Богошков и поболе моего знает, – похвастал Яшка.
– Ты тоже голован. Сколотыш, а бойкий, весь в татку. Расти скорей, за Тайку отдам, – сказал Петра Афана-сьич и осекся... Дурья башка, чего втемяшилось, намолю, ей-Богу, намолю недоброе. Молча казнил себя Петра и уже зло шумнул на парня:
– Ну, хватит прохлаждаться. Не на госьбы, долбарь хренов. – И удивился вслух, отставил пешню, оглядев Яшку с ног до головы: – Одно диво, пошто я твои пакости терплю? Ведь сопленос, прости Господи, давно ли портки стал носить, а вот терплю.
Яшка что-то хотел возразить, но Петра Афанасьич, суровый и надутый, не дал и слова сказать:
– Помолчи нито, хоть раз загунь...
И опять пошел по кругу, выламывая пешней добрые краюхи льда, порой брался за лопату и выбрасывал крошево через затулье, но уже далеко заглубились: майна была Яшке по плечи, аршина два вглубь, и лед с тихим шорохом порой скатывался обратно. Вскоре Петра прогнал парнишку и стал уже осторожно, вполсилы прикладываться пешней, и когда железное копье провалилось и в середину майны пролилась рыжая, дурно пахнущая вода, мужик спешно выбрался наверх.
– Киснет вода-то, ой киснет. Воздуха пробьются подо льды, и тогда рыбы, што дети малые, любопытные сделаются. Осподи, благослови удачу. – Петра сбивал на затылок вязаный колпак и, стоя на четвереньках, высматривал что-то в неторопливой воде. Вдруг схватил сак и вытащил маленькую сорожку, подцепил ее железными ногтями под жабры. Рыба вяло поднимала хвост, а Петра для видимости пущей стегал ее пальцем и приговаривал: – Пошли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли дядю, пошли бабку с дедкой и всех свояков до десятого колена. – И бросил обратно в майну, а рыба-сорога, вильнув хвостом, ушла на глубину.
– Теперь гостей жди... Ну, пошли, солнце на самый обед стоит-маревит, знатье нам дает, что поесть пора, – распорядился Петра.
– Это уж так. Работают-работают, да и едят, – по-взрослому рассудил Яшка. Парнишка, совсем ребенок еще, а голову несет высоко, куда там, мужика из себя строит. Но под носом растеплило, и Яшка невольно заширкал рукавом.
Сытная еда свалила малого, и Петра один навестил майну озерную, а там, осподи, сила небесная, вода кипит от рыбы. И снизу в узкую сквозную дыру прут и прут одна за другой головастые щуки, черные озерные окуни и красноглазые сороги: уж так им захотелось глянуть на белый свет. И щукам, вечно голодным, с зубами-острогами, теперь не до окуней: наглотались они свежего воздуха, походя проглотили по паре рыбешек, прочистили жабры, и теперь бы в свое удовольствие обратно в озеро, даже в самую красную пахучую воду, но не добраться до нее, потому как узкая сквозная прорубь, раза в два потолще пешни, уже не принимает их. Рыба саму себя имала.
Вот и облукавил Петра водяного хозяина: это уж редкая удача, чего там скрывать, и мало кто решается на такой промысел. Но ведь повезло: вот уже воистину, где живется, там и петух кладется.
В первый же день начерпали из майны два воза рыбы, решили пока погодить, дать себе отдых и потешиться охотой. Наутро Петра ушел на боры пострелять птицу, может, и белку взять, а Яшка на той стороне озера, где постоянно жировал куропоть, насторожил на звериных тропах три кляпца – деревянных капкана. Дымом обкурил их еще в зимовке. И рукавицы-исподки, вязанные с одним пакулем для толстого пальца, тоже обдымил, чтобы ловушка человеком не пахла. Затаил капканы в лесу и след свой замел, но сразу не ушел, в кустах посидел осторожно: все чудилось Яшке, что вот-вот выкурнет рыжая собака-лисовин и пойдет мести хвостом, а тут и прижмет ее кляпец острыми шипами. Прибегут лисы-сиводушки, вот и будет матушке для шубы опушье богатое. Приеду и скажу, пусть шьет, неча дурнее всех ходить. Осподи, дай рабу твоему Яшке Шумову всякого зверя...
Зверя лесного облукавить одного азарта мало, – навык нужен. Мимо кляпцев шел Петра Афанасьич, ухмыльнулся только, за версту зверь стороной обежит. Принес с охоты лисовина косорылого да двух белок, жалел очень, что не прихватил с собою кляпцы или петли волосяные на куну: хитрый зверь, его на ружье не возьмешь, без собаки из норы не выманишь. И у парнишки отбирать капканы засовестился, пусть побалуется.
А Яшке всю ночь не спалось, маялся парень, то и дело выползал будто по нужде, старался усмотреть что-то во тьме. Луна прорезалась робко, не больше рысьего ноготка, но снег под ее светом был особенно искрист и холоден. Тускло блестели ближние стволы сосен: к морозу большому покрылись тонкой корочкой изморози, но дальше в прогалах дышала и настороженно шевелилась страшная темь, сразу становилось как-то не по себе, и, намерзнув, Яшка уползал обратно, заваливался к бревенчатой нахолодевшей стене и будто слышал, как мечется в кляпцах лиса, обгрызает зубами деревянный лучок. И не уследил Яшка, как заснул и проспал все на свете.
Поутру вышел мужик из зимовки, глянь, у майны, у самой проруби лиса распласталась по снегу, словно бы рыбу караулит. Петра сразу в избушку, за ружье, ноги в лыжи сунул, дай, думаю, в угон возьму зверя по свежему следу, а лиса бежит и вроде бы хвостом ширкает позади себя, бьет в нетерпении. Жахнул из кремневки по зверю – лежит; вот удача, радовался Петра, подбегая, а лиса кляпышем к деревянной колоде за голову прижата, а он-то, дурило, хорош тоже, заряд спортил. На глупого зверь-то, на глупого, досадовал мужик; а хороша, ой хороша огневка-сиводушка, хвост распластала на целый аршин. Но не взял, грех чужой капкан грабить, хотя какой чужой-то, ежели размыслить, на моих хлебах парнишко, от одного котла кормимся... А душа у Петры Афанасьича уже стонет от зависти, невольно поспешил, против воли побежал через ивняки, в густой ельник, где вчера еще одну ловушку видел. И там зверь, вот на глупого удача – грызет себе куница лапу, – видно, только что угодила, не успела сбежать. Сразу распахнула черный роток, мелкие зубы ощерила, в глазах злости, как в медведе-шатуне. Петра верхоньку – мохнатую рукавицу – сунул в пасть рыжей кошке, а второй голой рукой за шею прихватил, только хрумкнул позвонок, и глаза остекленели у зверушки: хороша куна-белогрудка, редкая такая уловится.
Заново насторожил капкан, теперь будто свой уже, на звериный ход поставил: хватит Яшке баловством заниматься. У майны на озере лису подобрал; до берега не докатился, Яшка навстречу, шальной, ничего толком не видит.
– Куда разбежался-то, эй? – окрикнул Петра. И Яшка словно споткнулся. – На, уловил чего. На глупого зверь, – кинул парню лису, чуть не заревел слезами от собственной доброты и будто прочитал Яшкино желание. – Мамке на шубейку... Еще промыслишь – и богатое опушье, больно богатое.
– А ты как думал: малой, дак кривой? – растаял Яшка, засмеялся блаженно. – Мамке, я уж мамке... Ты, Петра Афанасьич, донеси до избы, а я сбегону. – Поправил ножны на поясе, встряхнулся, как воробей, затягивая потуже кожаную опояску на балахоне.
– Ты куда направился? – Петра понял, что таиться поздно. – Вот, кунка. Хоро-о-ша... На глупого удача.
– Да ну... Ну-ко, дай, – протянул руку Яшка.
Но Петра только встряхнул куницу перед носом и убрал за спину.
– Моя будет, – твердо сказал мужик. – Из моего котла ешь, – и замолчал. На оперханном от морозов и ветров лице зеленые глаза стали тяжелыми. В зимовке также молча ошкурил куну чулком, распялил, подвесил к потолку.
– Отдай куну-то, ворюга, – ныл Яшка, не решаясь подойти ближе.
– Загунь! Я тебе покажу ворюгу, осподи, прости раба твоего. Я тебе шкуру сейчас сдеру и распялю, сволочи такой, сколотыш поганый. Может, еще убьешь меня из-за зверюшки? Да подавись ты ею, только чтобы глаз мой тебя не видел тут, куда хочешь девайся...
– Ну и давай, все одно ворюга, – не отставал Яшка, но отполз ближе к выходу, и весьма вовремя: тяжелый катанок просвистел около носа.
– На, подавись... Еще хочешь?
– Чего дерессе, мамке скажу, – хитро заревел Яшка, и большие прозрачные уши его встали торчком. – Си-ро-ту ведь забижаешь, побойся Бога.
– Ему куну жалко, вишь ли, зверюшку погану жалко благодетелю своему. Нет бы сам поднес да в ножки упал, на, Петра Афанасьич, ты мне заместо отца, – успокаиваясь, бормотал мужик. – Ну-ко, готовь выть, да штобы у меня... Больше ни слова торчком, а то забью. Хватит чичкаться.
По тону его Яшка понял, что гроза миновала, но ему до смертельной обиды было жаль рыжей зверюшки, которая распяленно висела над Петрой и хвостом едва не доставала до его лица...
Яшка выскочил вон, чтобы воздуха свежего хватить, и что-то приглянулись лыжи-кунды. Стоят подле, воткнуты в снег торчком. У Петры самоходки широкие, подбиты камусами-шкурами с лосиных ног, с ремнями из нерпы: таким лыжам износу не будет. Мозолят лыжи глаза Яшкины, плюнул на них, обратно в зимник уполз, уху снял с камелька. Хотел позвать хозяина есть, а тот в обе свистульки заливает.
«На охоту ведь собирался, – подумал парнишка. – Порато хорошо охотиться с чужих-то ловушек. Пусть-ко попреет». Оглядываясь на спящего мужика, выполз из зимовки, обе лыжи надрезал, шкуру по ворсу загладил. Вернулся, не глядя разбудил Петру, так же молча котел поставил на чурбан, раза два хлебнул, положил ложку в сторону. И Петра ни слова не сказал, собрался, пороховницу через плечо перекинул, мешочек с пулями пристегнул к поясу. Яшка следом выполз, горносталькой смотрит на мужика: вдруг заметит Петра, тогда-то ой-ой...
Что будет потом, Яшка пока не думал, а только подглядывал сквозь хищный прищур глаз и наливался холодным пугливым восторгом. Но Петра сердито бросил кунды, вдел ноги в ремни, поправил сбившуюся на живот пороховницу и целиной, нетронутым хрустящим снегом, пошел к щелье на ту сторону речки.
И только глядя в напряженную ходьбой Петрину спину, Яшка спохватился, какую беду натворил, хотел крикнуть вослед, упредить мужика, но горячка еще не прошла и злость упрямо держала сиротскую душу... «Пусть, пусть попорхается куропаткой, – мстительно думал Яшка, провожая взглядом хозяина, – а мы поглядим, во весело как будет. Полверсты, не боле, пройдет – воротится, злостью-то захлебнется, глотана...»
Как вспугнутый глухарь, Яшка полез в зимовку, кулебяку рыбную сунул за пазуху да полкаравашка ячменного ситника, туда же смахнул звериные шкуры, потуже затянулся кожаной опояской, еще сгоряча выскочил из зимовки. Услыхал надсадистые хрипы, подумал, что с лошадью плохо, нет, стоит, жует из торбы овес. И вдруг в прогале меж деревьями показался лось не лось, медведь не медведь, но какой-то зверина дикий. Догадался Яшка, что Петра далеко не ушел, подвели его лыжи, вот сейчас и барахтается в снегу.
Стало парню так тошнехонько, что в животе засосало и горло будто арканом сдавило... Осподи, пронеси, пошутил ведь я. Ну, побаловал, с кем не бывает. А Петра уж совсем рядом, закидана снегом его пепельная борода, безбровое щекастое лицо готово брызнуть кровью, – так гневен мужик. Было из сил выбился, сел в снег, потом встал, хватаясь за дерево, не кричал, хрипел:
– Ну погоди, тать безродная. Он шутить задумал, сколотыш вонькой.
Мужик задыхался от злобы и напряжения, напирал грудью на рыхлый снег и почти плыл в нем. И в этом хриплом голосе, задушенном нестерпимой злостью, Яшка услышал такой гнев, что устрашился его, видя себя уже распяленным на этих деревьях и застывшим, с исклеванными вороньем глазами. И, боря страх, Яшка закричал против своей воли, уж такая у парня натура:
– Эй, глот, кукушку живьем съел. Вэ-э, кукушку живьем съел. Вот-вот, потряси-ко пузо-то хорошенько...
И бросился в лес, не теряя, однако, торной лыжни, заплакал, тоскливо озираясь вокруг: «Злыдень несчастный, я еще тебе покажу». Оглядываясь, увидел, как следом по тропе идет Петра, машет кулаками, – видно, сорвал голос и хрипит что-то нераздельное. И понял тут Яшка окончательно, что в зимовку ему возврата нет...
Глава вторая
Года не хлеб – сами родятся, да только вкус от них горький. Недолго от чужого счастья щипала Павла крохи, но с того сладкого греха еще один рот появился в избе – Клавдя безродный. Головастый, нос тяпушкой, вылитый Петра Чикин. Сидит за столом, глаза болотные насупит, нажористое дитя растет, никак-то его не прокормить. Будто кукушонок разевает рот, лупит по столешне кулачонками и вопит:
– Ись хочу...
– Да загунь ты, ненаеда. Давно ли ел-то, осподи, как с полатей подняла, целую кринку молока смолотил, – ворчит Павла, оглядывая посторонним взглядом избу.
Из пятника, круглой дыры в стене, достала деревянный чурбачок, чтобы дым выкатывал вон. Двери распахнула, наставила поддверки, чтобы мороз не валил низом, иначе избу век не натопишь... Осподи, надо бы на реку сбегать, проруби пешней подновить, небось схватило стужей. Яшкино то дело, уж которую зиму наблюдает за майнами, прорубями, пролубником он на деревне, людишек да скот водой обеспечивает. Каждый воскресный день идет по Дорогой Горе, колотит в избы батогом, кричит: «Пролубнику... Крива рука просит, пряма подает, кто подаст, тот хороший князь, а кто не подаст – подпорожна грязь». Наподают хлеба, да калачей, да шанег полную берестяную корзину – на всю неделю еда. Нынче самой Павле пришла нужда идти по Дорогой Горе, стучать в стены батогом, да у нее уж так не получится, не знает она красного словца, язык-то у нее не так прилажен, да и стыд мучает. Словно бы старица-нищенка милостыню просит. А она ведь из хорошей семьи, когда-то и Шумовы сыто жили, масло коровье в избе не выводилось и в мясе птичьем или скотском нужды не знали. А не дал только Бог счастья: не зажились парни в отцовском доме – кто в леса подался, кто в Питер на приработки, да там и помер от чахотки, кто свое хозяйство повел, вот и рухнул шумовский род. Остались старик Захарий да девка его Павла.
Еще первое время хорохорился, меньшего сына из рекрутов выкупил, триста рублей серебром отдал: в долги вошел на три года, а он, Мишка-то, хвостом вертанул, а где сейчас – ни слуху ни духу. Гонористый был Захарий, и, может, через свой характер обрезал он Павлину жизнь. Было девке шестнадцать годков, посватались в первый раз, а Захарий наотрез: «Уж не отдам девку, она мала еще, глупа, не на то я растил ее, чтобы сразу из дому сбывать. Пусть поживет-потешится». Правда, уж какое тешенье девке, если весь дом на ее плечах. Но, как говорят, суженого конем не объедешь, да и отцу не расчет девку в доме квасить. Через год посватался Тимоня Заречный, косоротый парень, но из богатой семьи: знать, работница запонадобилась, а Павла уж тогда в кости была широка, сарафаны лопались.
Пришел Тимоня Заречный со сватами, еще на пороге нос на сторону завернул: душной запах в избе. Заметил Захарий кислое лицо жениха, насупился в душе, но виду не показал. Зарученье своим ходом двинулось, сват жениха нахваливает: парень-то красавец и дом от богачества ломится. Уж не по одной чарке опрокинули, Богу помолились, перед образами свечи зажгли, икону сняли, чтобы благословить, и спросил тут Захарий у жениховых родителей: «Любо ли наше дитя?»
– А не любо бы, дак и не брали бы, – учтиво сказали старики.
Только Тимоня опять губы скривил и фыркнул:
– На рожу, правда, не то чтобы писаная...
Может, хмель охватил Захария, да и не мог он такого стерпеть, чтобы его дочь-то прилюдно поносили, схватил Тимоню за шиворот да хорошенько тряхнул, выпнул за порог.
– Ах ты морда косорылая, уродина криворотая, – заорал, – нашу девку хулить? Нету у нас невесты для вас.
– Уж не такой товар и хранить, – заикнулся было женихов родитель. Но ему и слова больше не дали сказать, под руки вывели невестины дружки. А на дворе поезжане заворотки у саней подрубили, вожжи у лошадей обрезали, супони ополовинили; в розвальни животину не запрячь, кое-как кушаками от праздничных кафтанов подвязали оглобли и долой со двора.
Опозорил Захарий жениха, а Павла во хлеву пряталась, слезы лила, словно бы чуяла свою беду, свою постылую судьбу. С того раза больше не наезжали к Шумовым сваты, и Захарий не однажды себя казнил за норов и гнев, винился перед дочерью.
... Печь прогорела, лишний дым из жилья выкатился, осел на потолке жирной бахромой. Павла поддверок выставила к стене, дверь прихлопнула плотнее, иначе избу не натопишь, пятник в стене заткнула. Выхватила на шесток чугун с гречневой кашей, наклала половником в миску, двинула сыну.
– На, жори, ненаеда. Гречнева-то каша – мать наша, а хлеб аржаной – отец наш родной. Как доживать зиму будем? Опять к Петре Афанасьичу на поклон идти. Не батька бы твой, дак помирать нам, слышь?
– Угу, – давился кашей Клавдя, черпал ложку с горкой, наворачивал – торопился, роняя изо рта на рубашонку.
– Не давись, нехристь, не отыму. Сколь ты нажористый. Каков в работе будешь только. А я поробила на Петрино пузо. Осподи, эстолько бы на себя поробить, дак разбогатела бы, кажись. С Прокопьева дня и до Покрова как ломовая лошадь... Ой, где-то Яшенька наш?
– Рыбы привезет, ести будем.
– Наварим ужо ухи из свежины, – согласилась Павла.
– Ма, дай титьку почукать...
– Помолчи, третий год пошел, какая тебе титька. Всю начисто мать-то высосал.
– Дай титьки, – заревел Клавдя, пролез в подстолье, стал рыться в материных юбках.
– Замолчи, ишь чего выдумал. Полезай на полати. Живьем готов съесть. Уж Яшка такой не был.
В загородке застучала копытцами телушка, стала подниматься, вся черная, с медового цвета глазами. Поднялась, затеребила корову слюнявой мордочкой, отыскивая вымя. Корова блаженно мыкнула, топыря широкий зад, зачесалась об угол. Павла сразу о сыне забыла, сбегала на поветь, притащила своей красавице плетеную кошелку мелкого сенца, кинула в ясли. Корова сонно захрупала сеном, кося на хозяйку ленивые глаза, и с бархатно-пепельных губ тянулась густая слюна.
– Пестронюшка ты моя, кормилица. Откуда экого черта выгуляла, с кем спроказила? – Павла пробовала приласкать телушку черную, без единой светлой пролысинки, но та упырилась, деловито тыкалась в тугое материнское вымя, скользя задними копытцами, порой отпрядывала, боясь собственной тени, и тогда в стороны прыскали тонкие струйки молока. Клавдя по-звериному ползал на коленках подле, заглядывал, как сосет Чернавушка. Павла отпихивала сына ногой, не дай Бог, наступит корова.
– Помяни Господи царя Давида, матери Елены до цернавина житья... Клавка, поди прочь. Весь измазюкался, сейчас схлопочешь уже. – Выставила сына из загородки, но тот упрямо лез обратно. – Посмотри, на кого ты похож-то?.. Как белая березонька стоит, вовеки не колыхнется, так бы теляти моя жила веки повеки.
Вдруг засмеялась Павла, вспомнила, как Пестронюшку первый раз выдаивала. Осподи, будто вчера и случилось, как принесла телушечку от Петры Чикина. За бабу Васеню отблагодарил. Спасибо, Петра Афанасьич, спаситель ты наш... Осподи, дай доброго промыслу мужику, где-то и Яшенька с им на морозе колеет.
И не заметили, как выросла Пестронюшка, доброй коровой стала. Павла тогда бабу Соломонею позвала, у нее заговор сильный. Нашептала бабка на миску с водой: «Осподи, Боже благослови! Как основана земля на трех китах, на трех китицах, как с места земля не сшевелится, так бы любимая Пестронюшка с места не шевелилась. Не дай ей, Господи, ни ножного ляганья, ни хвостового маханья, ни рогового боданья. Стой горой, а дой рекой, озеро сметаны, река молока, ключ и замок словам моим».
Обмыла Павла коровье вымя заговорной водой, на скамеечку села, от радости даже заплакала, Боже праведный, дожила до красного дня: благодать ныне с коровкой-то. И молоко шипучее поскакало, забилось в подойнике, пеной накрылось. Отдоила Павла, намерилась встать, а Пестронюшка, какая муха ее укусила только, лягнула прямо в подойник и выбила из рук. Молоко пролилось, Павла в навоз спиною бряк: ой, горя-то было, ой, слез-то пролилось тогда. Баба Соломонея вон из дому, подальше от греха, недели две не появлялась на глаза и на людях Павлу винила: мол, сама недомыслила, не с того ручья водицы взяла.
Но удачный пал заговор: нет смирнее коровушки на всей Дорогой Горе, чем Павлина Пестронюшка, и нет дойнее ее и на живот круглее. Идет с поскотины, так вымя, будто ушат хороший, по траве волочится, и молоко брызжет. Духмяное у Пестронюшки молоко... «Ой, что это я? – спохватилась Павла. – Уже день-деньской, а я, будто палагушка дырявая, в безделье сижу. Люди-то добрые засмеют, вот, скажут, Павлуха-то Шумова в грязи заросла, а еще мужиками правит». Да пропади они все пропадом, совсем боле смешат люди: без копейки, задаром и шага не ступят. Бабу в полицейские соцкие выбрали, да какой из нее соцкий, прости Господи. Павлу, кричат, в соцкие, она баба здоровая, любого мужика усмирит, и хозяйства никакого. Орут, а каждый во свой двор смотрит, на общественные работы и силком не выгонишь. Рестанта-то в Мезень везешь, а у самой поджилки трясутся: ведь как ни здоровущая баба, а все одно баба, и маленький мужичонко – да востер. Лесом-то везешь, осподи, думаешь, сзади колонет чем, а дома и корова не доена, и малы дети не обряжены: осиротеют, дак кто их оприютит, по миру пойдут кусочки просить. У казенки-то кто задерется, нет бы мужикам разнять, дак глазеют да смешки строят, а до крови дойдет, бегут к Павлухе Шумовой, – она начальство, пусть и разнимает.
А ведь Петру Афанасьича хотели в соцкие, сама слышала, как писарь мужиков подговаривал. А Петре что: у него нынче и убыток в прибыток, четверть вина мужикам наобещал да выпоил, вот и остался в стороне. А у нее уж нет таких денег, чтобы от горланов отвязаться, а им бы только покричать.
Засобиралась Павла, что-то в волостное правление звали, посыльный прибегал, не убили ли кого: опять воровские следы охранять. Кроме Павлы тут некому, а когда Павлины дети с голодухи ноют, тут все в стороны морды воротят, никто не спросит: Павлуха, тебе, может, чем помочь? Ироды окаянные.
Павла надела шубу-пятишовку, синим сукном крытую, еще из девичьего приданого шуба, уж сколько лет носит, а новой не завела; натянула оленью шапку-поморку с завязками до пояса, батог в углу захватила, свой полицейский знак, прикрикнула на Клавдю: «Дома сиди, катанцы здря не трепли».
Пошла из дома, а душа что-то ноет. Брюзжала, путаясь в сугробах... Поротую бабу в соцкие выбрали. Есть ли у мира нашего разум? Ой-ой-ой. Наверно, опять рестанта везти, а если рестанта, то где подводу брать? У Петрухичей была, у Пимокатов лошадь в город ушла, Колюбаки на Канине наваги достают... А понеси леший эту должность. Были бы деньги, дак две бы четверти вина поставила, пусть бы опились, только не выбирали в соцкие. Ой-ой, кто это? Не Яшка ли, обормотина, откуль он? Заколел весь, и под носом-то намерзло, пешней не отдолбить...
Павла даже споткнулась, разинула рот, поджидая на тропе сына. Яшкина овчинная шапка едва из-за сугробов видать, осподи, ребенок еще, четырнадцатый годик на Рождество пошел.
– Яшка, ты откуль, пошто не на рыбе?
А Яшка зверино глянул на мать, с лица весь черный, щеки в пятнах, поморожены, пимы на ногах разбиты, онучи из передов вылезают, примотаны веревками, чтобы не вывалились. Глянул на мать и промолчал: редкое слово теперь скажет, как появился на свет Клавдя. Тому-то проходу не дает, совсем парня затуркал. А матери обоих жаль.
– Натворил чего, находальник? Куда тебя мать спровадила, на озера?
– Загунь, чего разнылась, – круто отрезал Яшка.
– Ну-ну, – сразу завиноватилась Павла. – Ой, што это я, глупа баба. Ты ведь заколел совсем. Пойдем скорее в избу, я тебя обихожу, баньку затоплю. – Схватила сына за армяк, поволокла в дом.
В избе Клавка подкатился навстречу, наставил зеленые пятнистые глаза.
– Ой, Яша пришел, Яша пришел, рыбу принес, свежу уху варить будем.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – огрызнулся Яшка, пнул Клавдю, тот повалился на пол, нарошно рев поднял, егозя рубахой под носом.
– Ну, слава Богу, началось опять светопреставление, – почему-то обрадованно сказала Павла. – Уж миру промеж вас нету. Вот детиши-то ой-ой.
Глава третья
Донька сидел на низком еловом чурбачке посреди избы, и когда Яшка вошел, то с улицы, пока не пригляделся, не сразу и узнал приятеля, – так переменился парень. Был на Донате кожаный фартук до пят, рубаха из крашенины распахнута, плечи под нею прямые и острые, но руки лежат на коленях совсем мужичьи: распяленные, в рубцах, с толстыми обкусанными ногтями и набухшими козонками.
– Осподи, ты ли? Какими ветрами? – ласково приветил Донька. – Проходи да садись, нечего ободверины подпирать. Я даве же у матери твоей был, про тебя спрашивал, сказывала, на рыбе ты... Ну чего уставился, сколотна сирота?
– Не зови ты меня эдак, – хмуро попросил Яшка, потом еще раз пристально вгляделся в Доньку, совсем не признал он названого брата. Волосы на голове огрубели и окрасились медью, глаза загустели, совсем мало стало в них голубизны, и на носу густо выметались веснушки. – Был я и на рыбе, да весь вышел. Где татушка твой?
– На озерах с дядей Гришаней неводят. Уж месяц, считай, сидят.
– А-а-а, ну да. – И Яшка невесело рассмеялся, отвесив нижнюю распухшую губу. – А я Петре Живоглоту устроил хорошее веселье. Попомнит меня...
– За што ты его травишь-то, Яшка? Он ведь злопамятный. В кой ли раз приникнет насовсем.
– Пусть-ко спробует. Я как от него удрал, пятнадцать верст тайболой, да в одинку...
– Да ну? – Донька даже работу отставил, перебрал в ладонях добрую полудюжину резцов.
– Вот те и ну. Вон щеки-то у меня до кости сгнили.
– Отчаянный ты, – согласился Донька и склонился над утицей-солоницей, выбирая крючковатым резцом лишнее дерево. Яшка, уже раздражаясь, глядел на крестового брата... А как спешил к нему, немного и дома высидел, сразу сюда, думал, все расскажу Доньке, посмеемся, а после вместях и рванем из Дорогой Горы. Уж не стоит и начинать, вдруг решил, только зря время тянуть.
– Солонку с двумя утицами хочу сробить. Не знаю, правда, во што выльется. – Донька подвинул к себе поближе сальницы, льняной фитилек в глиняной плошке качнулся, затрещал. – Скорей бы Благовещенье, што ль, дак и свет бы загасили. Нонешней весной к Егорке Немушке в подмастерья иду.
Пригляделся внимательней к Яшке, увидел его черные щеки с водянистыми пузырями, злой опущенный рот и растерянные глаза.
– Ты чего букой-то?..
Но Яшка, отмалчиваясь, пошел к двери, устало ширкая катанцами, нагольная шуба еще с дедова плеча обремкалась по подолу, обвисла, как на пугале огородном. Что-то плохо гонит в рост Яшку Шумова.
– Чего мало сидел-то? – окликнул в спину Донька. – Посиди, дак вместях и поедим.
– В другой раз когда ли, – глухо отказался Яшка, побаиваясь остаться: вот засидится, разговорится с Донькой, и охота отпадет бежать.
... Уже завечерело, синей тихой мглой покрылись улицы. Мороз опал, и было уже терпимо идти с открытым лицом: не так ныли щеки. Мимо чикинской избы два раза кругом обежал Яшка, собаки знали его и ластились к ногам. На подворье было тихо, значит, Петра еще где-то в тайболе убивается и зять с обозом не вернулся.
Дома Яшка сказал матери, сильно жалея душой, готовый уткнуться в подол и зареветь:
– В Няфту с утра пойду к дединке[37] Анне.
– И я с тобой, – заверещал Клавдя, но встал поодаль, уж больно скор на расправу Яшка.
– Соплюха еще...
– Какая дединка Анна, звала, што ли? Чего опять надумал? – всполошилась Павла, не зная уж с какого бока подступиться к сыну. Злой стал парнишка, словами говорит, а будто палкой стегает, и за волосье не надерешь, что ли сотворит с собой. Вот упырь растет.
– У дединки Анны ружье так же стоит, взаймы возьму полесовать, – городил Яшка, но все рядом с правдой, – ведь у тетки Анны от покойного мужика ружье пылится, про это и мать хорошо знает.
– Како тебе ружжо, еще застрельнешь себя, – запричитала Павла, все принимая за чистую монету.
– А это што тебе, баба-яга? – сбегал в сени, притащил и бросил перед матерью шкуры.
– И вправду, ой, золотко ты у меня, – встряхнула лису, та вспыхнула, огненно затрещала, потом накинула мех на плечо, приклонилась щекой, призакрыв глаза. – Исусе, благодать-то, бывало, и не перечтешь, братовья-то как нанесут из леса. И куничка тут. Ты, парень, не стащил где? – всмотрелась в Яшку, а у того смородиновые глаза сияют, как мокрые ягоды. Радостен парнишка, что угодил матери.
– Скажешь, как в лужу сядешь. Носи, матерь, на здоровье...
– И мине, и мине, – вертелся подле Клавдя, жадно тараща крапчатые глаза.
– Поди прочь-ту, Петрухич вонькой, – сказал почти ненавистно, сразу вспомнив Петру. Окинул взглядом избу, и все так показалось в ней родимым, что в горле защипало. И глухо, сдерживая слезу, добавил: – Поди, уродина.
– Ты хоть раз-то поласковей, Яшенька, – попросила Павла.
– Подите вы все в... Ненавижу... – вдруг в голос завыл Яшка, кинулся на полати, забился в старые окутки и затих.
– Сходи, сходи в Няфту, – стала уговаривать Павла. – Дединке Анне большой привет. Я тебе тут в пестерек соберу подорожничков.
Как стемнело, Яшка молча ушел, бродил по деревне; в самую полночь, проклиная скрипучий снег, тенью вырос у Петриного вонного амбара на высоких столбах. По лесенке подобрался к дверце, пробовал деревянным аншпугом сорвать замок, но тут всполошились собаки, заскрипели ворота, кто-то бежал на крыльцо, мигнул свет; Яшка прыгнул в снег и сугробами выбрел на угор, скатился вниз к реке, оттуда санной дорогой убежал домой.
А с первыми петухами был уже на ногах, быстренько собрался, мать суетилась подле в одной исподней юбке да в ватной душегрее, все наговаривала шепотом: не долго гостись да осторожней в дороге будь. А как прощались, может, в последний раз приклонился Яшка лбом к материному горячему плечу и, подавляя в себе жалость и слезы, даже позволил поцеловать себя. И сразу посуровел, оборвал жестко: «Ну, хватит мокрядь разводить. В гости, чай, еду, а не на каторгу». А Павла словно что слышала сердцем, подавляла в себе ноющую тоску, благословляла сына: «Осподи, дай Яшеньке шелковую уступчивую дорогу да оборони от злых татей, от лихих супостатов».
– Может, проводить тебя? – спохватилась, крикнула вдогон, живо накинула шубу, кинулась следом через темную поветь, выскочила на взвоз, а Яшки уж и нет нигде, словно провалился парень. Постояла, поохала, «быстро умелся, лешак», слышно было, как хлопнула щеколда, прошлепали валенки пустынной поветью, и только потом Яшка вылез из-под взвоза, отряхнулся от снега и потопал в Мезень.
Еще спала Дорогая Гора, будто вымерла в морозной сумеречности, ни одного огонька, ни одного светлого пятнышка, и даже колотушка караульщика не тревожила эти утренние часы. А внизу, у подножья деревеньки, куда хватал глаз, лежала беспросветная темь лесов да зыбь снегов, и только дальняя закраина неба тускло желтела, как шкура дворовой собаки. Именно там и лежала Мезень, где был однажды Яшка вместе с матерью и откуда идут обозы по всей Руси, и, говорят, даже на Питер... Вот и побежал Яшка, благослови его осподи, дай уступчивую дороженьку, побежал, как мечталось-мыслилось когда-то, словно решил уйти от судьбы своей иль найти ее в разбойной шайке, каких немало бродит ныне по темной матушке-Руси, а может, осесть в петербургском третьеразрядном трактиришке и заработать там золотую серьгу в ухо и посмертный сифилис от такой же безродной девки. Кто знает, кто знает...
До Мезени Яшка добрался на попутных, повезло парню, в городе покрутился день, назвался сиротой, притворно плакал, напросился в обоз до Архангельского, клятвенно заверяя, что тетка у него в Соломбале, вдова адмиралтейского плотника Коковкина. Но пустым не ринешься в дальнюю дорогу, и накануне, перед тем как пойти обозом, попал Яшка в дом купца Артемия Антипина (каким-то боком свояка, в тот приезд с матерью чаи у него пили с городскими калачами). Когда все спали в доме, забрался нижними воротами, откинув щеколду, поднялся во второе жило – в летние горницы – и взял из сундуков восемь аршин гранитура алого, два конца китайки черной замшевой, четырнадцать аршин пестряди синей да пять аршин тику волнистого красного, да полушубок суконный, серо-немецкий, совик, кафтан зеленого сукна, двух соболей, перчатки замшевые, шитые золотом, штаны плисовые да шапку бобровую мерлушчатую.
Смелость нашла на парня безрассудная, бродил по обеим горницам, как по своей избе, светил горящей лучиной, смотрелся в огромные зеркала в черной оправе, посидел на гнутых венских стульях, еще пошарил, не побоялся, за божницей и нашел там медных денег два рубля да один золотой. Нагрузился Яшка, теми же воротами вышел, а нести тяжело, запыхался, до верхнего конца Мезени поднялся, стороной миновал рогатку с караульщиком и мешок с добром в снег закопал, а взял с собой только то, что в пестерь влезло: два платка шелковых, совик белый, кафтан зеленого сукна, двух соболей и перчатки, шитые золотом. А утром сел в середину обоза на уголок саней с мерзлой навагой, надвинул на овчинный треух олений куколь краденого белого совика и задремал под накатистый скрип полозьев. Порой у горушек его окликивали возницы, Яшка торопливо спрыгивал и поднимался рядом с санями. В начале дороги было чуть грустно, а более всего страшновато от ожидаемой погони, потом пошли совсем чужие деревни; Яшка осмелел, на первом же постоялом дворе он стал как бы своим парнем, тоже соседился к чашке с тюрей из водки и ржаных крох, и даже пару раз потянулся к ней с ложкой и проглотил что-то противно-горькое, а потом лежал на полатях и сверху глазел на возчиков счастливыми осоловелыми глазами. И жизнь для Яшки виделась противу прежнего совсем иной и необыкновенной, и не хватало в ней только матери и приятеля Доньки...
Глава четвертая
И стал Донька Богошков у Егора Немушки подмастерьем. Калина подивился, откуда у сына старанье к топорной работе, потом вспомнил свою молодость и сказал: «Поди, воля твоя... У топора – не у моря, проживешь без горя».
И вот дней за десять до Аграфены-купальницы собрались они кокоры рубить. Решили подняться по Кулою верст на десять, а оттуда еще по Нерюге-речке обойти стороной широкие рады-болотины с чахлым ельником и попасть на горные боры. День стоял погожий, июньский, весна ожила, уже березы распушились листом и родился на солнечных приречных местах овод-нуда; мужики сушили на вешалах поплавни, латали в неводах прорехи; тут же дымились костры и по всей деревне наносило кипящей смолой и пареным вереском.
Когда солнце прошло через полудень и в реке стала заживать вода, когда смоленые челны качнула народившаяся волна, взяли пожитки и пошли красной арешниковой тропой вниз. Тут-то и обнаружил Донька с удивлением, что обогнал в длину Егора Немушку и уже сверху вниз с некоторым превосходством глянул на его рябоватое лицо, словно бы покрытое густой ржавчиной, на рыжие клочковатые брови и нос утушкой, политый крупными шадринами, на постоянную овчинную шапку с одним заткнутым ухом. Егор Немушко думал свою думу, жевал постные губы, шевелил сухими плечами и что-то гундосил под нос, но ступал мужик кривыми стоптанными ногами надежно, и подштанники вздувались над кожаными броднями белыми пузырями. Мужик и парнишка шли бок о бок и поразительно похожи были, если глянуть со стороны: оба рукастые, с непомерно широкими коричневыми кистями, чуть сутулые, с прямыми костистыми плечами, и казалось, что это разбухшие руки тянут вперед и не дают распрямиться.
Бросили на дно стружка берестяные пестери с подорожниками да кабаты, остались в легких набойных рубахах в синюю клетку. Немушко сел по-птичьи на заднюю скамейку и столкнул шестом лодку. Девки на круглых речных камнях лупили вальками белье, заткнув подолы сарафанов, и звонкие шлепки разносились далеко в прозрачном воздухе. Донька загляделся и внутренне подивился, как ладно и легко получается у них работа, и вдруг поймал себя на том, что внимательнее, чем обычно, смотрит на белые девичьи ноги. Тут одна портомойщица разогнулась и крикнула на всю реку: «Эй, Донька, рот-то открыл, поймашь ворону». – «Тоже мясо», – неловко отшутился парень и поспешил отвернуться от всеобщего рассмотрения.
А река, наполнившись водой, словно усмирила жажду и дышала ровно, тихо выплескиваясь на травянистые бережины; чайки успокоенно вскрикивали, насытившись рыбой, и только изредка, перестав опираться на воздух, падали плашмя в коричневую воду и прокалывали ее острогами клювов. День потускнел, посерели луга, тихие плесы нарумянились от молодой зари, и река стояла над головами живым серебряным столбом.
Деревня откачнулась, пропали амбары и овины; казалось, отделились и плыли в пустынном небе черные мельницы, и легко струилась под их клетями молодая трава. Потом и они отстали, самый берег обступили осины, дрожали оловянными листьями, в хвощах плескалась сорожья мелочь, и вода, наливаясь прозрачным светом, несла все медленнее черный стружок. Немушко толкался из-за плеча, порой взглядывал на Доньку серебристыми глазами, видел его припухшие нецелованные губы, редкий рыжеватый пух усов и чему-то улыбался понятливо сухими губами, но не отворяя рта. Донька ловил эти мягкие взгляды и тоже готовно улыбался, почти любя немого мужика с клочковатыми бровями и кривым ртом, и был даже рад, что он безголосый, и потому можно молчать и переживать что-то свое, непохожее на прежнее состояние. Донька не знал, что с ним, но душа у него трепетала и хотелось одинокой тишины. От этой грустной радости ему было хорошо, и обвалившись на переднем сиденье, парнишка пропустил ладонь в упругую воду и слушал, как бьются меж пальцев прохладные живые струи.
Но вот берега сошлись ближе, и правый, рудяной, обметанный зеленой щетиной сосняков, навис над левым, вода неожиданно потемнела и стала торопливо колотиться в скулы стружка; Немушке было трудно толкаться одному, и они пошли вверх уже в два шеста. И, потея с каждой верстой, Донька скоро забыл сладостное наваждение, но, неслышно для него, легкая радость словно бы из самой души проливалась в его распяленные на шесте руки и умножала их силу.
Донька вспомнил, что в этих местах он бывал еще с дядей Гришаней в эту же пору, когда береза оделась листом и на припеках уже надоедливо голосил овод-нуда. Помнится, они тогда тоже миновали хмурую ёру с длинными болотными травами и корявой мелкой березой; обошли и сырые рады – болотины, белые от морошечного цвета, и нашли сухие боровинки, где береза чиста телом, валили ее и снимали берестяные одежды – дупле на туеса и короба, драли шелковистое скользкое бересто и впрок – на лапти. Донька отыскал взглядом старое огнище, еще не поросшее травами, но Егор Немушко не остановился и здесь. Они свернули в боковую речку Нерюгу и толкались еще всю ночь, пока не зашли лодкой в такую тайболу, где вершины деревьев смыкались над самыми головами и глухари не боялись людей.
Здесь лес почти не знал топора и заслонял собою небо. Здесь и в самый жаркий день стояла прохлада, пахло прелью и грибницей; и только в крошечных распадках, поросших дурманным багульником, жили потайные коричневые ручейки, и если копнуть в мшистых берегах, то найдешь белый крупитчатый песок. Донька заметил, что Егоровы глаза потемнели и в них поселилась тревога, утиный нос подрагивал, зверино вынюхивая запахи, – и вскоре парнишка почувствовал, как и сам также подергивает носом и зорко осматривается. Тайга имела какую-то неодолимую власть, и в Донькиной душе с радостью поселилась та же тревога, которая владела и мастером. Немушко мычал, делал руками знаки, подзывал парня, показывал ему желтые иглы, стукал обушком топора по стволу огромной сосны, и дерево отзывалось глухо на этот удар. Немушко плевался, и Донька понимал, что дерево больное и дряблое и нет нужды копаться под ним.
Но порой дерево звенело, и мужик снимал мох лопатой, потом становился на колени и руками обнажал толстые родовые корни, которые питали ствол. Немушко радостно мычал, если находил два могучих черных корня; ведь от их сочной спелости зависела крепость карбаса иль парусной шняки, и Донька, невольно подчиняясь этой радости, тоже по-собачьи рылся в торфе и песке, нюхая прелые запахи влажной земли.
Неделю рубили они кокоры для средних, носовых и кормовых упругов, а потом, шалея от таежного гнуса, выволакивали их на речную бережину, где хватало солнца, чтобы коренья подвялились и утеряли каменную тяжесть...
Будто новым человеком вернулся Донька в деревню. Постоял на угоре, поджидая Егора Немушку, но тот возился у стружка и махнул рукой парню, мол, не жди, поди, но Донька еще потоптался на бережине, слушая босыми ногами ее прохладную ласковость. Сегодня берег пустел, только легкий ветер раскачивал на вешалах семужьи невода: бабы страдали на пожнях, мужики вели заделье во дворах, готовились к ночным ловам.
Еще помедлил Донька и, минуя церковь, вышел на площадь, выбитую лошадями и сейчас от жары звеневшую под ногами. У самого кабака малые ребята играли в «сухую треску». Когда-то всей ордой лупили, рвали волосы (такая уж это забава, казалось, от нее и поныне стонут Донькины волосы), но вот парельщик, начинавший игру, вырвался из сутолоки, поправляя ворот рубашки, и все разом откатились от мальчишки, настороженно замолкнув. Парельщик бросил к ногам изрядно измочаленную метелку, поддернул повыше порты, зыркая глазами, в кого бы пнуть березовым голиком и тем самым избавиться от битья. По большой редковолосой голове Донька узнал Клавдю Петрухича и окликнул его. Клавдя обернулся, пятнистые глаза были упрямы, под носом засохла кровь, ворот рубашки располосован до пупа, – видно, что мальца лупили без жалости.
– Поди прочь-ту, Ворзя, – огрызнулся Клавдя, скаля мелкие неровные зубы.
– Про Яшку-то слыхать чего, Петрухич? – снова спросил Донька, но Клавдя только нетерпеливо тряхнул покатым плечиком, топыря лобастую голову и выцеливая недруга.
Донька усмехнулся. Стыдно связываться с мальцом, заревет еще, побежит жаловаться матери, и, заворачивая за угол Петриной избы, Донька слышал, как вопила и стенала площадь.
Он шел и вспоминал Яшку: куда запропастился парень, что наделал с собой? Как сквозь землю провалился и в Няфту к тетке не приходил, не видали там Яшку. А Павла-то по Дорогой Горе бродит, глаза пустые, опомниться никак не может: в чужую избу войдет, видно, что-то спросить хочет, а сама как встанет под воронцом, молча и час и два выстоит, пока кто-нибудь не спросит: «Тебе что, Павла?» А баба только тяжко вздохнет и, опираясь на батог, пойдет прочь.
Ой, знать, не зря заходил тогда Яшка, смутный был, темный. Говорят, Петру Афанасьича до дикого состояния довел, едва мужик из тайги вышел, уж и рыбе не рад был. Хорошо морозы пали, и мокрый снег прихватил настом, а то бы пропадай заживо вместе с кобылой. А людям не жалится, смолчал: уж что там приключилось меж има, один Бог знает...
Отца Донька застал дома; он сидел не один, на печи лежал дядя Гришаня, а в красном углу гостила ядреная баба с мужичьими плечами, разодетая в малиновый сарафан и белую рубаху льняного полотна с расшитыми по подолу красными петухами. Баская у бабы Ульянки рубаха, потому и сарафан она заткнула за шерстяной пояс с золотыми кистями, чтобы покрасоваться узорчатым подолом. Калина сидел смущенный, часто оглаживал седую бороду и глаза не поднимал, изредка стучал по столешне сухими пальцами. Он невнимательно глянул на сына, видно, хотел что-то сказать, но баба Ульянка опередила мужика и зачастила:
– Вот и сынок Донюшко, сколь большой да сколь велик-то, андели-андели, а сколь смирен-то, как белояровая овечушка. Каким сыном осподь сподобил. Ведь и он большой, и ему забота нать. А ты-то, Гришаня, чего молчишь, замолви словечко.
– Мое дело стариковское. Да по мне как бы не нать бабу. Без бабы не жизнь, туг ты верно молвила, – откликнулся Гришаня.
Донька сидел на приступке, шевелил распухшими от болотной воды, словно бы неживыми пальцами и туманно прислушивался к маетному разговору. По смутным лицам Донька понял, что речь идет об отце, и вроде бы его заманивают свататься...
... Нет-нет, сразу в душе вскинулся Донька, после мамки никого не нать, чтобы и не пахло тут бабой. Заведет свои порядки, начнет голос подымать, в большухи полезет. А они и одни сладко живут, чего надо состряпают да поедят, и слава Богу.
– Попробуй, сыщи бабу-то по душе. После прежней не каждая рядом встанет, – вслух подумал дядя Гришаня.
– А поискать, дак, быват, и найдется, – не отступала баба Ульянка, играла черными широкими бровями, словно бы и на себя намекала, мол, гляньте только, сколь я дородная и сколько во мне еще бабьей силы. Что и говорить, сама цветом цветет, а мужик зачах, ветром качает.
– Вон Евстолья Петрина чем не девка? И богата, и лопатины[38] сундуки полны, и в разговоре уважлива, и домовита, а уж по хозяйству-то – как шьет, и в руках все горит.
– А не молода-а? – спросил дядя Гришаня, спустился с печи, подсаживаясь к сватье.
– Дак и жених не старик. Бороду подровнять, за молодого сойдет. Чего вдоветь, бабу из могилы не подымешь. Не-е, оттудова еще веком никто не возвращался.
– Но Петрину девку не возьму, – вдруг наотрез отказался Калина.
– А чего так, и неуж опять чего заспорили? Дак девка тут при каком боке?
– Петрину девку в избу не заведу...
И у Доньки от сердца отлегло. «Не надо нам, татушка, экой коровы, – молил он отца, – ведь зла она и жадна, вся в родителя. И полорота, вечно мухи в рот залетают, и жрет-то много, и пола не подметет, пока не прикажут, и после киселя мутовку облизывает».
– Не лежит у меня к Петре душа, – повторил Калина, когда сватья Ульянка ушла прочь.
– А не с ним и жить...
– И то верно, – задумчиво откликнулся Калина: надо бы в дом хозяйку, трое мужиков без присмотра, корова по-худому обряжена, изба запущена, пожни только исполу убираем. Тяжко без бабы: руки есть, голова есть, ноги есть, а словно бы сердца нет. Может, и глянуть одним глазом на Евстолью, что за девка? Загнездилась, запарилась, парни стороной обходят, и неужели столь страшна? Глянуть надо...
Ужинали молча: хлебали свежее молоко, заедали калачами, потом рано завалились спать, завтра до петухов и вставать нужно. Аграфена-купальница, канун Иванова дня, баню топить надо, завтра по всей Дорогой Горе бани, на вениках гаданье, в реке омовенье, целый день подле воды. В какой-то год эдак бабка Васеня потонула. Нагадала житье, веник-то всплыл, а сама вот, видишь как... Осподи, преподобный Моисей Угрин, ослобони от соблазна, от блудныя страсти избавь.
Калина открывал глаза, было светло как днем, из полой двери наносило легкой прохладой. Сон не шел, хоть запирай глаза, и душа растревожена, хочется бродить и что-то работать. Слышно, как ворочается на полатях сын, натужно кашляет, – знать, простыл в суземье; в легких размытых сумерках хорошо виден строгий лик брата на печи. Ой как неможется Калине, трудно ему жить в сиротском одиночестве на пятом десятке. Порой поднимет голову, видит напротив кровать, застеленную ситцевым одеялом, – уже который год пуста кровать, как не стало на свете желтоволосой Тины. Спит Калина на узкой деревянной лавке с подзорами, подле двери.
И захотелось Калине увидеть жену-покоенку. Будто бы вся в памяти, даже помнится касание ее легких рук и ржаной запах огнистых волос, и что-то упругое и податливое под ладонью; и шорох ее юбок на сонном рассвете, когда Тина обряжается у печи, а Калина еще потягивается на кровати, ждет, когда баба присядет подле на лоскутное одеяло и легко потреплет за бороду... Будто вся в памяти Тина, но не может ее вспомнить Калина Богошков: ни глаз ее, ни улыбки, ни упругого скуластого лица. Бог ты мой, пропала жонка из памяти, будто пятнадцати годков вместе не жили. Грех-то, грех-то, дьявол мутит душу. И сон-то нейдет...
Поднялся, душа тосковала, в устье печи поставил лучинки накрест, чтобы не залетела в трубу ведьма, снова лег на лавку, скрестив на груди руки; откуда-то взялись комары, загундосили над ухом... Боже мой, житья нет. Душно-то как. Снова забормотал, будто во сне: «На церкве крест, на престоле Божьем крест, крестом крещуся, крестом гражуся...»
... А что, возьму и женюсь! Донька мне не указ, скоро свою бабу в дом заведет – и вовсе осиротею тогда. А я не старик, не-е, какой старик на пятом десятке, да у нас с молодой-то бабой еще парни пойдут, как грибы. Завтра и гляну украдкой, как да что: не с лица воду и пить. Молодую-то возьмешь, да ежели баскую, начнет подолами трясти, пока на промысле сидишь. Леший, он рядом вьется, ему бы только баб блазнить да на худое поманывать. Завтра и гляну... Комаров-то напустили, чертова гнуса. Опять навалились морока. Нет, не уснуть.
Так и промаялся Калина до первых петухов. Услышал, как зачивкали в застрехе воробьи, радуясь молодой заре, потом затрубили на всю деревню коровы, защелкал кнутом пастух-поводырь, сбирая свою паству, тут и солнце благословенное пробилось сквозь стекло, пролилось на полу.
И опять о чем-то беспокойно думал Калина, улыбался странным мыслям, когда топил баню. В каменице дрова уже прогорели, угли стали мохнатыми, едва просвечивали янтарем. Натаскал воды полную кадцу, старался не шуметь, чтобы не растревожить хозяина-баннушку; потом долго стоял на угоре и невольно косил глазом туда, где совсем недалеко была баня Петры Чикина. Там тоже кто-то бродил, смутно белел лицом, не различить: но угору тянуло горьким березовым дымом, уже людно было у Курьи, но все больше толкалось бабье племя: кто бельишко простирывал спешно, кто таскал на коромыслах воду – рано проснулась нынче Дорогая Гора.
Вся деревня рассыпалась на берегу: верхний околоток вдоль Курьи-притока, нижний околоток в устье Кулоя, где мелкие волны сбивались в толкунец и два течения, встречаясь, завивались воронками и рыли омута. Там и утонула когда-то баба Васеня, утащила ее водяница-лешачиха, истерзала всю и выбросила аж у самого моря, тридцать верст протащив по дну.
Воздух был тих и еще не накален солнцем, плыли в небе белоярые облака; над Дорогой Горой катились малиновые звоны, бабы заходили в воду все в белом, в длинных до пят рубахах, завязанных под горлом; у самого берега, где и воды-то под щиколотку, быстро приседали, пугливо охали и спешили обратно, проваливаясь в тягучую няшу.
Богошковы разом бросили охвостья в убывающую воду, веники закрутило и понесло неторопливо на Кулой (значит, жить сейгод), а мимо все плыли и плыли пучки березовых прутьев, похожие на мертвых птиц. Калина тоже зашел в Курью, в белой рубахе до колен и застиранных мятых подштанниках, крест выбился из-под ворота и болтался на груди. Вода была еще холодна, торопливо плеснул на лицо, вздрогнул, поворотясь на восток, совершил молитву, а потом будто случайно оказался подле Чикиных. Петра был тих и задумчив, и, перебрасываясь необязательными словами, Калина украдкой выглядывал Евстолью. Она стояла невдали, широкая в кости, с тощенькой косицей на спине, в длинной грубой рубахе с кумачовыми наплечниками, и младшая, Тайка, казалась перед нею дочерью. Тайка егозилась вокруг, на что-то подбивала Евстолью, но сестра отмахивалась. Она смотрелась простенькой и блеклой, эта засидевшаяся девка, но в неярком грустном лице Калина разглядел вдруг что-то так похожее на свою покойную мать и близкое одинокому сердцу, что был удивлен: а Евстолья, поймав случайно его взгляд, улыбнулась заискивающе и потом еще оборачивалась и выглядывала исподлобья сухощекое лицо Калины, по самые глаза покрытое седой бородой.
А за утренней вытью, запивая житнюю кашу молоком, Калина, будто между прочим, сказал: «Плохо без бабы-то. Вон, чугуники заростили, веком будет не отскоблить».
– Дак что, не мужская работа с чугуниками пе?таться, – согласился старший брат.
– И сена убирать как, не пойму...
Донька бросил ложку на столетию, выскочил из избы.
– Ты бы сходил, а? – попросил Калина брата, глядя в косящатое оконце на сына.
– Пошто не сходить-то, схожу, – быстро согласился Гришаня.
– Я говорю, к Петре Чикину сходи, – повторил Калина, сердясь.
– А я об чем?
Они глянули друг на друга и рассмеялись. Под вечер, когда потускнело небо, обтер Гришаня Богошков икону Божией Матери чистым полотенцем и трижды прочел подход: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, стану я раб Божий благословясь...» – а Калина достал из подпечка деревянную лопату, на которой хлебы садят, да той лопатой легонько брата по заднице двинул, чтобы невеста не отказала, и пока ходил Гришаня, сватал, Калина по избе от окна да к двери стол волочил.
Пришел Гришаня к Петре Чикину, тот сидит в застолье один, брагу пьет, ближние и слова не вымолвят, боятся громко вздохнуть.
– Хлеб да соль. – помолился Гришаня истинным крестом, знал он норов хозяина, старой веры человека.
– Милости просим с нами хлеба ись, – пригласил Петра и тут же вскричал: – А ну, девки, для гостя посуду... Русак-дурак, пьет с горя и радости; что русскому здоро-вье, то немцу смерть.
– Я к тебе, Петра, с делом...
– После, после, – отмахнулся хозяин, расстегнул оловянные пуговки сатиновой рубахи, поверх жилет из городского сукна: жарко было, потел, но не снимал, форс выдерживал.
– Да решить бы сейчас...
Евстолья принесла полуштоф с водкой, оловянные рюмки, Петра разлил себе и гостю, рука волосатая до самых козонков дрожала, а зеленые с придурью глаза трезвехоньки...
– Рюмочку винца да стаканчик пивца – куда хорошо...
– Слыхал, дом ставить норовишь? У меня брат-то мастеровой, Калина-то Богошков. Он ведь с Клавдей, дядей своим, баские дома рубил, отличные от протчих. А нынь свободен он, свободен. – Гришаня рюмку осушил, у него и голос родился, с Петрой разговаривал, но с Евстольи глаз не спускал: а ничего будет баба, думал, что в плечах, что в заднице. Еще настроит рекрутов, и глаза вроде не злы.
– Ну, дак берешь?
– Сговоримся, почто нет...
– Спасибо за хлеб-соль. Бог напитал, да никто не видал, – пошел к порогу. – Слышь, Петра, проводи-ко.
Вышли в сени, двери затворили.
– Петра Афанасьич, я к тебе за девкой пришел. Отдай Евстолью за Калину моего.
– А что у меня большуха-то скажет, переговорить надо...
Пошли обратно в избу.
– Слышь, Августа Антиповна, отдай девку-то свою за брата моего Калину.
– Да котору? – всплеснула руками Августа. – Ты садись, посиди-ко, Григорей Иванович, батюшко родимый, у меня вроде ни одной девки свободной нету. Манька продана, не сегодня-завтра опорознится, Тайка еще мала-малехонька, разве Евстолью? Дак мы ее не гоним, пускай погуляет в девушках, – укатилась за ситцевую занавеску, там мисками гремела, снаряжала стол и в голос выла.
– Ты поило, Антиповна, ревешь? – спросил Гришаня. – Ведь это век на веке так делают, не у вас одних. Кабы ты отдавала за табашника или мотыгу какого, а то наш Калина и вина-то не пьет, и табаку не курит, и сам не старик, и хозяйство полным-полно, а уж лучше кормщика по всему Зимнему берегу не сыщешь ни в Койде, ни в Зимней Золотице. Уж на што люди близ моря живут, а завсе к нашему Калине на поклон ходят, просят, сплавай, мол, своди наших мужиков за Матку.
А хозяйка будто и не слыхала Гришаню, причитала: «Только ты одна у меня на свете ох-ти, ох-ти, как тошнехонько мне».
– Ну, хватит реветь-то, – вдруг сурово окрикнул Петра. – Мужика-то не похулим, Калина нашей девки стоит.
Августа сразу затихла, покорно откликнулась:
– Как хошь, отдавай...
А Евстолью никто не спросил: спряталась девка на печи в темный закуток, ни жива ни мертва, и вроде бы за старого неохота идти, и дома оставаться – нет большей казни.
Еще посидел Гришаня, уже нахороше расстались, ушел довольнехонек, что Калину не подвел. Тут и завыла-запричитала Евстолья, с печи спустилась, в переднем углу качается да ревет: «Ты не отдавай меня, татушка, ты не посылай меня, любезный батюшка, за старого, за нелюбимого...»
А средняя сестра рядом сидит за прялицей и нехорошо подговаривает:
– Реви-реви пуще. Ей нынче и старый нехорош. В экий-то дом дивья идти, хозяйкой будешь, а тут вечно в подневольницах у скупого батюшки.
– Загунь, чертово семя, – прикрикнул Петра. – Мужик не лупит, дак у меня рука хорошо подымется.
– Вот-вот, всегда так, – скривилась Манька. – И слова-то доброго не услышишь.
Тайка пожалела сестру, затосковала, самой думно стало. И завыли все разом, умылись слезами.
А через неделю и рукобитье справили, Евстолья мужних родственников подарками обнесла; сама одета богато: в бархатный штоф, да атласную душегрею, да шелковый сарафан, да в белую рубаху с длинными рукавами, а на голове повязка с занавесью из бисера. Потом встала посреди избы, и навстречу из-за стола жених вышел, чтобы прилюдно целовать. Борода у Калины коротко подбита, волосы на голове на две стороны пивом с солью смазаны, рубаха на плечах кумачовая, поверх кафтан из синего покупного сукна, на ногах сапоги черные с подковами, и кисти цветного кушака по коленям бьют. Взял Евстолью за косу, другою рукой плат на лице поднял, глянул в глаза – в них радость. Поцеловал троекратно, а девки-подруги на всю избу плачут, заливаются, как заведено: «Пристыдил да прибесчестил чужой сын отеческий девицу красную при компании, при собрании людей добрых».
А как в церковь ехать, пришли дружки жениховы, принесли башмаки подвенечные да всякие сладости, наказали невесте: «Девица, душа красная, зарученный наш князь приказал тебе мыться белешенько, ходить хорошенько, гордость и спесь подальше спрячь, девьи поступки дома оставляй, низки поклоны с собой припасай. У нашего князя горница нова, в новой горнице есть кровать тесова, на кровати тесовой есть перина пухова, а над периной пуховой есть спичка дубова, на спичке дубовой висит плетка шелкова о трех долгих концах. Первый конец долог, второй долог, третий до вашего брата очень ловок – где хвостнет, тут и кровь брызнет».
И справили свадьбу, и все бы ладом, все бы хорошо; но только из церкви после венчанья вышли, и подружки на паперти распущенные волосы в две косы заплели, потом и по телегам расселись, а лошади ну фыркать, колокольцами-шаркунцами звенят трусливо, зубами скалят, из оглобель рвутся. Донька-то сбоку стоял, в кармане у него от медвежьей шкуры кусок спрятан; кобыла чует медвежий запах, ее и с места не сдвинуть.
В толпе сразу заахали, запричитали – ой, к беде, ой, к несчастью, колдун вежливый, охранитель свадебный, с ног сбился, людей прочь от лошадей гонит, а на Доньку ему и грех подумать. Парень в душе зло веселился, по толпе шальными глазами бегал, отца стороной обходил и не утерпел, в его лицо глянул – и поразился: мертвецки бледное оно, с испугом в очах, а мачеха Евстолья рядом белее льняной скатерти.
Смутился Донька, пожалел отца, ушел в толпу, оттуда берегом за деревню убежал, упал в копну, заплакал. Искали его свадебщики, дядя Гришаня аукал: не нашли. Заснул под копной Донька и увидел во сне мать свою. Будто он с Яшкой на челне плывет, а мамка с берега вслед кричит, как птица гагара: «Донюшка, воротись, Богом прошу».
Глава пятая
Еще на прошлой масленой вошли Чикины в новый дом в два жила да с огромным двором, а по всему переду красные окна со стеклянными окончинами и с резными узорчатыми ставенками. Перед тем как войти-поселиться, сходил Петра Афанасьич в старую избу, раскланялся во все четыре угла: «Хозяйнушко-господин, пойдем в новый дом, на богатый двор, на житье-бытье, на богачество».
Потом в новую избу образ внесли, следом черного петуха пустили с белым помороженным гребнем, бабкиного любимца, стали глядеть, куда побежит. Потоптался петух у порога, надулся, облегчился жидким и затопал когтистыми лапами в передний угол: и сразу все вздохнули, ну, слава Богу, доброе житье будет...
И вот год минул с той поры, нынче снова мясопустная неделя, а завтра начнется беспорточная, масленая, когда, ой, не грех последнюю юбочку заложить, а маслену проводить.
Сидит Тайка у красного окна и белую косу туго плетет. Встала бы нынче из могилы баба Васеня, не узнала бы девку: куда-то и рахитичный животик подевался, и титешки налились упруго, и шея из низкого ворота плавно выросла, а глаза будто два лесных фонаря – за березовой весенней зеленью легкий хмельной свет. Ой, девка, что тебя томит, почему оставила глаза на крохотных желтых стеколках, что едва протаяли от ледяной навеси, а в углах окна еще прочно живет колкая заморозь. Глядит девка на улицу, уж ничего-то за спиною не слышит, щемит у нее глаза от голубых крупитчатых снегов: солнце половодьем залило улицу, и кажется, что не сегодня-завтра весна; столько на воле тепла, так расшалились воробьи на коричневой от навоза дороге, не пугаясь лошадиных копыт. Отчего-то хмельно Тайке, и лишь сегодня утром на переносье проступили три рыжие веснушки. Помылась девка теплой творожной сывороткой и еще белее стала, и только на тугих щеках проступил такой прозрачный, такой легкий румянец, словно Тайку неожиданно кто обворожил и покинул в стыдливой растерянности.
Напротив Петриного дома узкая дорога в глубоком овраге меж отвесных сугробов, и только дальний краешек ее виден из окна, притрушенный легкой сенной наушной. А за дорогой большой заулок, желтый от свежих опилок; рядом изба Егорки Немушки. Видно Тайке из окна, как на стерлюги – на высокие деревянные скамейки – закатывают мужики обледенелые комлистые бревна, и под старенькими армяками до предела напрягаются сутулые спины. Потом мужики отходят, хлопают верхоньками, машут руками, о чем-то спорят; и маленький в своем постоянном овчинном треухе и коричневой понитке Егорко Немушко, главный корабельный мастер, и его старинный сотоварищ по ремеслу Гриша Деуля, ноги которого не держат огромного мужичьего тела и кривы ныне, как кузнечные клещи. Егорко достает кожаный мешочек, набивает крохотную трубочку из верескового корня и сладко дымит, и Тайке видно, как жмурится его щербатое рыжее лицо, на котором, кажется, только и есть, что утиный нос и клочковатые брови. Третий их сотоварищ, Донька Богошков, лезет на стерлюги, топчется на бревнах, железные скобы загоняет обухом топора наотмашь, потом сбивает шерстяной колпак с веселой голубой кисточкой и что-то кричит, поворачивая лицо к Петриному дому, и Тайке чудится, что Донька видит ее и кричит нарочно, что-нибудь задиристо-нахальное. Он ведь такой, он ведь остер на язык и прилипчив, как смола: говорят, что и Калина-то в молодости был такой, да вот море дало укорот его веселому нраву. Нынче если и скажет что, так в час по чайной ложке.
Тайке видно, как Донька открывает рот, но слова не слышны, они как бы застывают на лету и ударяются в стены острыми ледяными осколками, и до уха доносится только звонкий отзвук его голоса, будто бьют ложкой по жестяному донцу сковороды. Парень там и остается, ныне он верховой пильщик, мажет длинный шнур осиновой головней и отбивает черту вдоль бревна; внизу становится Гриша Деуля, и они тянут полотно сквозь неподатливое дерево, часто останавливаются, и верховой бьет в пропил железный клин, чтобы не зажимало. Донька усердно тянет пилу по черте, и нет вроде бы ему устали, и только морозный пар идет от его плеч, и пот, прошибая насквозь полотно рубахи, остается на кафтане черными разводами.
Не усиделось Тайке, схватила чунку, поставила ушат, сунула черпак, берестяное ведро с держаком, побежала на реку за водой. Тропинка идет мимо пильщиков, Тайка клонит голову, прячет глаза под низко напущенный платок, но около мужиков медлит, едва переставляя ноги, словно бы ей тяжело тянуть чунки по дороге, усыпанной свежими опилками. И кажется Тайке, что сверху смотрит на нее Донька Богошков, и сердце шалеет от мыслей, что он смотрит, а охальник Гриша Деуля даже остановился, раскорячил ноги, готов цапнуть за шубейку и смутил девку совсем:
– Ой краля, ой королева... Эй, Донька, ты не зевай...
Тайка напрягается всей спиной, медлит завернуть за угол дома, хочется ей слышать, что ответит рыжий парень, но Донька только равнодушно отругивается: «Не скаль зубы-то, тяни давай», – и замолкает, а у девки сразу больно и гулко падает сердце, и она черпает из проруби льдистую воду и, не замечая, плачет от досады. А за спиной только вжик-вжик... На крыльцо выскочишь, а через улицу вжик-вжик. Утром из амбара бежишь с миской муки, а во дворе у Егорки Немушки вжик-вжик. Хоть бы свалился с бревна, черт окаянный, да шею сломал, думает Тайка. Ну погоди, я тебе еще дам укорот, повьесся вокруг меня, как дым возле пламени; шелковою травой прильнешь к ногам, а я зимнею вьюгой тебя заморожу; ты птицей-кречетом на белую лебедушку, а я обернусь камнем синим горючим.
Гулкой лесенкой забежала наверх в холодную горенку: там зеркало поясное норвежской работы, в переднем углу образа черные, досюльные, одни глаза и видать только; вдоль стены сундуки устюжские, покрыты светлым прорезным железом; под окном стол на точеных балясинах, тут отцовы книги молитвенные с медными застежками в дощатых переплетах, обтянутых кожей. Ставенки прикрыты, едва мерцает неживым светом лампада; у преподобного Николы глаза живые и скорбные, призакрыты тяжелыми коричневыми веками.
Вспомнилось, как гадала в прошлое Рождество, не сказавши родителям, как убежала в верхнее жило, в настуженную горенку, когда отец спустился в избу, отмолившись, а потом все легли спать и задули сальницу. В исподней рубахе и своекатаных валенках на босу ногу, на плечах внакидку отцова шуба овчинная до пят, поднялась тихонько, в руках лучина, из повети наплывает мрак и глушит едва живой ее свет.
Образа из горенки вынесла, сдвинула два стола близехонько, на них зеркала установила, боялась толком вздохнуть, чтобы не свалились на пол, тогда беда, набегут снизу. А может, боялась вздохнуть от страха: от морозного шороха стен, от скрипучего потолка (все казалось, что ходит там домовой-хозяин), от зыбкого пламени восковых свеч. От этой жути сердце колотилось в ребра, обливалось кровью и от каждого шума гулко летело вниз. Скинула на пол шубу, осталась в одной сорочке до пят, уже и холод не брал, только странная легкая дрожь колотила всю и не было сил унять ее.
Умостилась меж двух зеркал, видела только что-то встревоженное, смертельно бледное, пламя свеч колыхалось, и в этом текучем свете мерцали совсем черные ее глаза. Загадала Тайка на жениха ровно в полночь, крепилась, смотрела в подвижные тени, а бабы сказывали, что едва посильное для души это гаданье, и не одна девка лишилась не только разума, но и жизни. Старалась не думать о страшном, сжимала зябнущие руки, а видела себя уже лежащей навзничь у этого столика с точеными балясинами, и мохнатое, что-то невиданное ранее душит ее когтистыми лапами и черным клювом целует неистово ее помертвевшие губы. Осподи, страх-то какой...
Но Тайкины глаза не отрывались от зеркал, от их сумеречной глубины, где вот-вот покажется тень суженого, который возьмет девку в жены, а может, придет покойник в белом саване иль из призрачной заводи само собой всплывет домовище с откинутой крышей. И вдруг ей стало душно от ожидания. Что-то и где-то рождалось помимо Тайки и решалось за нее, а ей нужно было только усидеть меж холодных зеркал, затуманенных ее дыханием, и ждать свою судьбу; так бедная рогатая скотина жалобно смотрит на топор мясника и, не зная о своей смерти, уже каким-то чудом слышит ее, и тяжелые бирюзовые глаза готовы выкатиться от мольбы и страха.
Тайка не отрывалась от зеркал, и ей казалось, что все колдовское рождается именно в их холодном омуте. Еще она слышала, как мягко шлепнула щеколда, скрипнули ворота, забухали на повети медленные шаги, потом в зеркале как-то навыворот открылась дверь в горенку, колыхнулось пламя свечи – и в неровном зыбком свете показалось длинное морщинистое лицо с опущенным к самым губам носом. И помертвелая Тайка подумала только: вот и суженый пришел, осподи, сколько страхолюдный он. Она готова была иль упасть в обморок, или мчаться куда сломя голову, а этого-то делать и нельзя, потому что тогда несчастной быть до конца жизни или вскорости мертвою. Но покоряясь своей судьбе, почти лишаясь сознания, решилась подробнее рассмотреть смутный человеческий лик, запомнить его, сравнить с местными деревенскими ухажерами и обходить его отныне стороной.
Потом ей подумалось, что это лицо мало похоже на привидение, и Тайка быстро оглянулась, осенила себя крестами, «чур-чур, изыди, сотона», и чуть не опрокинула зеркала, когда в двери увидела Доньку Богошкова, который заплутал в новом доме, разыскивая хозяина, и сейчас растерянно моргал в полумраке...
Посидела еще на сундуке, болтая ногами и маетно переживая ту полночь, и вдруг услыхала внизу истошный крик. Это мать ее потеряла. Вздохнула потерянно и пошла в избу.
Бабы еще накануне масленой с ног сбились. Надо хозяина ублажить, гостей ладом приветить, а будут родичи из заречных деревень, все по мужней линии, и даже из самой Мезени кое-кто из мещан обещались. Еще намедни пекли кулебяки с семгой и палтосиной, да колобки воложные рассыпные из крутого житнего теста на молоке, да расстегаи с пшенной начинкой, да шаньги поливные и крупяные, с творогом, ягодами – брусницей моченой и морошкой толченой, олабыши да сочни, и только блины ржаные на сегодня оставили. Печь русская вчера прокалилась за день и за ночь не остыла, да и была ли ночь эта, трудно вспомнить, потому как угли на загнетке и в полуночь малиново жили, и как гаркнул первый петух, так и Августа ткнула берестяной виток в жар и заново печь раздула.
А еще сварили говяжьи щи, мясо кусками да горсть засыпки – овсяной муки; да жарково баранье; да солонину с квасом и тертой редькой; да студень из телячьих ног, тот уж загодя сварен, дрожит в деревянных мисках, весь в кольцах жира, так и просится под нож; еще времени хватило кишки бычьи с крупой зажарить и саламату сготовить – житнюю кашу с говяжьим салом. И еще чего-то было; рыбы дорогие, пелядь и омуль, ягоды моченые, грибы под сметаной, пряники медовые и калачи городские – все трудно припомнить, потому что три стола, покрытые льняными скатертями, приткнуты друг к другу от красного угла до самого порога вдоль половиц, и двухсаженное застолье забито всякой едой, которую, конечно, к вечеру подметут вчистую; и будут гости пьяно и сыто искать и рыгать, хлопая по тугим животам, и тут же, объевшись, засыпать, порой свалившись под лавку и обняв сапог соседа.
Два ведра водки у хозяйки за занавесом, и у турка – бревна печного, где висит рукомойник, – еще бочка с пивом, уже загуселым, покрытым легкой овсяной плесенью. И вот зашумел заулок, из церкви Петра явился с гостями, тут и еще подъехали следом, сутолока поднялась, будто скончание мира, мыли руки, вытирали льняными расшитыми рушниками, долго молились перед святыми образами, кто и ниц падал на холщовую подстилку, потом садились на лавки, ревниво оглядывая богатый стол; и голодные рты полнились вкусной слюной от золотистых бараньих ляжек, от кругов студня и кулебяк, истекающих семужьим жиром. Сели все по чину, по званию, по богачеству; с одной стороны мужики в красном углу, под самыми образами, с другой – их жены, а в самом низу, у порога, кто победнее. Тут и дочь Манька приткнулась с рыжим своим дитем, обсиженным веснушками. И что повелось тогда, что тут закрутилось, Бог ты мой, рвали руками мясо и чавкали бессловесно, и жир стекал на праздничные кумачовые рубахи, запивали пивом прямо из медных братин, и оловянные стаканы не пустели от горячего вина.
Августа угорела, потчуя, и Евстолья с ног сбилась, помогая матери, а гости заморили червячка, отвалились от стола, загудели, как жирные осенние мухи, что-то кричали через стол друг дружке, слыша только себя, потом разом повалили вон из дома, чтобы пройтись по Дорогой Горе, растрясти животы и снова за стол, а Петра скорее в стойло, запрягать вороного жеребца в расписную кошеву с медвежьей полостью.
А Тайка пораньше сбежала на улицу: у нее свои заботы. На голове у девки плат кашемировый, белая коса в три шелковые ленты мечется на груди, шубейка легкая оторочена мягкой овчинкой, на ногах катанки расписные. Навстречу хмельные парни идут стенкой, в праздничных полушубках с отворотами, пояса шерстяные с кистями до колена, шапки пыжиковые да лисьи на затылки заломлены; кто-то вьюном-вьюном, раскрутился под самыми ногами, а натуры не хватило, подвели коленки, и рылом в сугроб, а встать – ой ли-и-хо; лежит в снегу, раскинув руки, и пьяно смеется. А в небе солнце пушистое, первое такое о нынешней весне, тоже хмельное и яркое, больно на него глянуть, снег под ногами скрипит, как половицы в худой избе. Порой мимо ветром обдаст – гнедая пройдет, вся в лентах, храп в мыле, седок в пьяном кураже, сидит, накренив розвальни на один бок: раз-зой-дись... Откачнутся парни. Тайку в сугроб сдунет.
Еще Петры Чикина нет, он-то покажет вам хороший бег. Вон-вон, вымчал его вороной, расписывая сухими ногами кренделя, заломив острую морду, грудь повита мышцами, сияют медные бляхи на кожаной праздничной сбруе, и малиновым звоном поют тонкие колокольцы, отличные по всей деревне. Сам Петра в распашной шубе, под нею синий кафтан, борода разметалась по груди, сидит осоловелый, островерхая шапка на одном ухе... Но Тайку разглядел, словно споткнулся жеребец: «Садись, дочи, про-ка-чу». – «Потом, потом», – отмахнулась Тайка, ей не до лошадей пока. «Эй, воронко, грабют», – взревел отчаянно Петра, и уже не стало на улице ни вороного жеребца, ни Петры в расписном возке, и только розовое от солнца облако снега медленно оседает вдоль всей дороги да отряхиваются, вылезая из сугробов, парни и на чем свет стоит костят мужика, да еще где-то, то ли над снегами, то ли высоко в небе, под самым солнцем, чуть слышно догорает малиновый звон колокольцев.
Катится масленица колесом по Дорогой Горе, будто и дома вскачь пошли, гогот, гам, не поморская деревня, а татарская орда на своем языческом празднестве. Раз в году бывает на Руси, когда встает мужик с ног на голову и чувствует себя ловчее, когда ему море по колена, когда последний кафтан оставит в кабаке и последнюю овцу, насидевшись в зиму впроголодь, на пустоварных щах, зарежет, благословясь, и скормит гостю. Нынче ничего не жаль, нынче масленица...
И будто не было долгой завьюженной зимы, палящих морозов и тоскливых сумеречных вечеров, словно осталось и жить на свете всего лишь день – и надо его прогудеть так, чтобы и чертям стало тошно на том свете, а уж если и доведется помирать, так с хмельной и радостной душой и распахнутым в гоготе ртом.
А на деревенской площади базар не базар и торги вроде бы не ведутся, но грай там и смех, пестрые одежды, голубые живые тени на сугробах; в кабаке двери расхлябаны на петлях, не дают им закрыться, оттуда доносит сивухой и по?том, то и дело вываливаются пьяные мужики, задорятся, что-то голгочут, готовые подраться, тычут по зубам, по носу, куда хватает кулак, и кровь бруснично рдеет сначала на истоптанном, залитом мочой снегу, а потом становится коричнево-грязной. Мужиков разнимают, виснут на плечах, уводят за руки обратно в кабак, в сивушный туман.
Но главная радость маслениц – катище, высокая ледяная гора, обставленная елками: она залита с краю площади, напротив кабака, а зеркальный скат ее пересекает деревню и убегает еще далее вниз, в подгорье, на реку Кулой. И мчатся по сверкающей реке парни и девки: то на санях – кораблем, то на оленьих кожах, сразу человек по десять, лежат друг на дружке, и тут уж парням великое раздолье; тискают, мнут девок, хватают за всякие там места, а морозко задорит, ярит сердце, клюквенно красит лица, а в головах у девок туман, то ли от легкого пива, то ли от бешеного полета вниз, когда рот затыкает встречным ветром и будто проваливаешься в пропасть, уже закрыв глаза и отдавшись отчаянному восторгу, что поселился в душе.
И Тайку кто-то хватает за плечи, пробует тащить вверх, пьяно дыша перегаром, но она отбивается кулаками и локтями, не замечая даже, кто держит ее, а сама высматривает и не находит того, единственного, ради которого нынче косу заплела в три ленты, грустит и никнет вся. Тут на лошади подъехали молодые, еще не успевшие наскучить друг другу; их просят подняться на катище, где и санки для них приготовлены, и молодуха садится мужу на колени, обняв его за шею рукою, а подгулявшая холостежь не дает ускользнуть вниз, требует: целуй мужика прилюдно четвертак раз и не менее. А снизу уже кричат, не терпя отлагательства: «Будем рыжики солить на пост»; и молодица сразу пугается, прикладывается к губам, пропахшим вином, морозом и соленым потом, а парни стоят над головами и считают во весь голос – «раз-з», и вся площадь откликается – «раз-з». Попробуй откажись тут, и не только засмеют дерзко, но свое возьмут, «приморозят губы к губам»: приневолят пятьдесят раз отцеловаться да еще начнут приговаривать: мол, не нами принято, из века в век так идет.
И отпустили молодых, и те исчезли в подугорье, и только шорох железных полозьев остался позади, а они сами уже крохотные, почти на середине реки, и глядят на катище, похожее на черную ленту, и видят, как, подобно майским жукам, с воем и треском скользят вниз парни и девки. Тут не зевай, убегай с катища, а то поднимут с ног и сметут в снег, будешь выдирать снежную крупу из ослепших глаз.
А Донька был здесь, и Тайка только сейчас узнала его со спины, увидав острые прямые плечи в старенькой понитчине и белую баранью шапку, похожую на монашеский колпак: он спешил наверх, срываясь с ледяных ступенек длинными неловкими ногами. Парень, пожалуй, был выше и виднее всех, и Тайка даже удивилась втайне, что не нашла Доньку сразу, а может, и не заметила, как появился он.
Она поспешила следом, вернее, полетела наверх, откуда только прыть взялась, и нагнала парня на самом гузне, когда целая куча мала готова была сорваться вниз на толстой рогоже. Тайка упала сверху на Донькину спину, девку завалило на бок, и она ухватилась за его тонкую шею, прижимаясь холодными губами к рыжим неровным косичкам. Ей было смутно и счастливо, она и не заметила длинной визгливой дороги, и когда в самом подножье катища куча мала рассыпалась по снегу. Тайка словно позабыла отпустить парня и, лежа в сугробе, слепая от снежной пыли, чему-то улыбалась и медлила встать.
– Чего ты как кошка-то? – досадливо пробурчал Донька, выдираясь из кольца рук, и отвел в сторону глаза. – Петрухишнам только бы подолом трясти да мужиков имать, – добавил тише, намекая на мачеху.
– Ты, ты, больно надо, пугало рыжее, – крикнула Тайка, но крохотные белые бровки на заморозном лице почему-то испуганно дрогнули.
– Ну и отвяжись. Иль солнышко пригрело, дак зажгло?
– Зачем ты так-то, Доня? – вдруг жалобно спросила Тайка, и губы ее обидчиво посунулись.
– Спроси у архирея, за чем. За гумном иль за баней, где хошь-то? У-у, все вы, Петрухичи, мягко стелете, да бока болят. – И пошел Донька целиной, проваливаясь по колена в снег, а Тайка еще стояла сиротиной, и слезы смерзлись горошинами на гнутых ресницах и мешали смотреть.
А в избе Чикиных снова гости, пьют ром норвежский да чай из пузатого ведерного самовара; бабы орехи сибирские колют, сорят шелухою на пол. Мужикам с морозца-то как хорошо еще по оловянному стакашку пропустить под овсяные блины и молочный кисель да потом запить крепким, как деготь, чаем. Немного протрезвели, протрусились по Дорогой Горе, сейчас обсуждают, что увидели.
– У Тимы Хромого кобыла резвой пробежки, – сказал вдруг завистливый по натуре кум, всегда охочий досадить хозяину.
– А ну чего там. На глупого удача, – отмахнулся Петра, еще не отошедший от пьяной езды: сидит за столом, распустив живот и распялив на столешне локти, а будто все еще потряхивает вожжами, и его всего куда-то несет, не-се-ет, и в голове круженье-круженье.
– Уж не скажи, Петра Афанасьич, на гоньбе он хорош, – еще кто-то пристал к разговору, и остальные прислушались, навострили уши.
– А ну, на глупого удача, – снова отмахнулся Петра, еще хмельно улыбаясь, но зеленые глаза – будто копья под тяжелыми коричневыми веками. – У Тимы водовозная кляча, вот что у Тимы. У меня...
– У вас, Петра Афанасьич, не в сравненье будь...
– У меня вороной-то... Шея лебединая, пробежка – что у доброй молодушки, а ногами как начнет крендели писать. Бог ты мой-ой.
– У вас уж особь статья. До Хвалынского морю такого нету, а почитай и дале, – утешал кто-то, боясь Петриного гнева. Ведь разнесет все, если что не по его уму.
– А вы у Тимы... Морды поганые, вам бы щи лаптями хлебать.
Заорал, выскочил из-за стола, выбежал вон. Вскоре послышался перестук копыт, дверь распахнулась, сначала и не поняли гости, что к чему: в дверях показался хозяин, в поводу вороной жеребец, храпит, пена на бархатных губах, прядет острыми ушами и глаза розовые от испуга. Завел в избу, развернул задом, хвост вороному задрал: жеребец мелко дрожал крупом и косил бешеным глазом.
– Глядите, сколь вы хороши, – гулко хлопнул тяжелой ладонью по сытому крупу.
И кто-то из гостей в порыве любезных чувств поднялся с оловянным стакашком и гаркнул на все застолье: «Батюшко, Петра Афанасьич, за жеребчика!..»
Пузатый ведерный самовар исходил паром и сиял медным надраенным боком, Манька сидела подле, разливая по чашкам чай, а веснушчатый сын егозил на коленях, все хватался ручонками за мамкину грудь, когда вороной вздрогнул и наддал задними копытами в столешню. Кипящий самовар опрокинулся, и страшно закричали Манька и ее веснушчатый сын.
Петрин внук умер ночью. А Дорогая Гора не спала, крутилась колесом по ней масленая неделя. И так будет гудеть деревня до чистого понедельника, и вдруг очнется, замолкнет, и станет так тихо кругом, словно вымерли все разом, и тогда, покаявшись и настроив себя молитвой на долгий великий пост, вспомнят и Петриного веснушчатого внука и скажут: «Бог дал, Бог и взял».
Глава шестая
Три дня не больно долгий срок, а Доньке кажется, что отца целую вечность нет дома. Перед тем как уходить ему на зимнебережный Устьинский промысел, навестил Петра Чикин.
Евстолья не знала, как себя повести да как отцу родному угодить, – ведь первый раз у зятя в гостях; раньше только обещался, а все не бывал, все не бывал, словно обиду на сердце копил. Утиральником скамейку в переднем углу под образами обмахнула, и хотя по весне уже без света жили, с открытыми ставенками, но восковую свечу воткнула в тяжелый шандал и поставила посередке стола. А Петра будто и не видел дочерних хлопот, открыто переживал за сваренного кипятком внука, но мимо его взгляда не прошло, что Евстолья тяжелой стала, ходит утицей и с лица порыжела, – значит, слава Богу, живут ладом, раз наследника ждут; да и Калина тоже вроде бы рад гостю, от самого порога встретил и шубу помог скинуть.
Сидел Петра под образами, тяжело пыхал грудью, на рыхлых щеках синие прожилки, борода совсем посивела, долго на здоровье жаловался: мол, уж такой больней, такой больней, ноги по ночам стогнут, так чисто все жилы вытягат... Как не вытягат-то, соглашался Калина, на работе изломались, из воды всю жизнь не вылезали; у меня самого, как начнет крутить, стоном выстону.
– Сказывают, старшиной в бурсу[39] от Дорогой Горы да от Мезени? – будто между прочим спросил Петра.
– Да есть такое дело... Просят.
– Послужи обчеству. Обчество знает, кому артель доверить. Каково со зверем-то нынче? Виды-то каковы?..
– А Бог его знает. На месте виднее, – пожал плечами Калина.
– Я вот на море решил обратиться. Не знаю, одобряешь ли, нет, а только с извозу одни прогады да хлопоты. Сено нать, упряжь как на огне горит, харч подай, работников найми, да накорми, да напои, да и денежку выложи. Скоро без штанов буду, – стал плакаться Петра, бросил первый пробный камень, и пошли по воде круги.
– И от моря не больно выгода.
– Ну все же, повезет, дак...
– Разве тогда только. Да повезенка-то баба норовенка. С нею тоже слез хватишь, соплей на кулак намоташь.
– Тебе-то уж грех на судьбу жалиться, – возразил Петра.
– А не што и нажил...
– А я вот к морю оборотился, слыхал небось? – нарочито весело выкрикнул Петра.
– Чего-то было. Три лодки, сказывают, рядишь?
– Все, тут уж все. Коли не будет зверя, Христа ради пойдем. Ты бы, Калина, зятелко, подсказал, как да што...
– Ты быват свой: тут вырос да тут и оброс, – обошел просьбу Калина и тайно подумал: лисовин ты, ой лисовин, ты и хитрого обхитришь. Сколькой год собираешься с сумой христарадничать, а уж всю деревню под себя подмял.
– Помоги отцу-то, чего тебе стоит, – попросила Евстолья. Не бабье дело, а осмелела, вилась около стола, порой и ко краешку садилась, распялив на столешне плотные белые руки с желтыми мозольками на локтях. У отца бы так не посмела, там и глаз выше пола не подымала, а тут хозяйкой повела: хотел прикрикнуть Калина, но сдержался, глянул в замшелое лицо, пожалел: кого-то принесет, вот бы еще паренька, из того-то бы вырастил кормщика, раз Доньку упустил.
– Принеси косушку, – попросил Евстолью.
Та принесла хрустальные рюмки да графинчик зеленого стекла норвежской работы, да ладку с соленым сигом, да каравай ситного; тут же разрушила ножом хлеб на толстые куски, а на широкую плашку еще навалила кислой щуки, тускло голубеющей на изломе. Сразу по избе пошел вонькой душок – и захотелось есть. Потянулись первым делом за щукой, подлили в миску холодной водички, стали макать, сопели, думая каждый о своем. Смеркалось, и свеча оказалась кстати, роняла радужные круги на чисто выскобленную ножом столешню. Донька на приглашение мачехи пойти поесть чего ли смолчал, лежал на полатях сонный, и Калина несколько раз ловил на себе его чужой взгляд... Что-то с сыном, совсем зачужел, в глаза прямо не глянет. Не принимает мачеху, хоть ты убей его, и баба-то не знает, каким боком к нему пристать: только Донюшка да Донюшка. Уж и не хорошо бы, большой, ведь пора понимать, а все на ум-то детский. Осподи, пошто бы не жить миром. И Гришаня вот не заладил, что-то перечикнулись без него с Евстольей; снарядился и в Кельи убежал; как-то там один, никто не приглядит, все самому надо...
Сидел Калина светлый и какой-то молодой душой: в бане помылся, облачился в чистое исподнее, с Богом посоветовался, а сейчас всех родных перебирал, как бы винился перед ними: уж чего не по вас сделал, так простите. Был телом Калина еще здесь, в родной избе, а душой там, посреди бурсы своей; каково нынче будет, подумал. Порой до тысячи человек на Устьинский промысел сойдутся да как тронутся по льдам в голомень, в открытое-то море, будто войско какое спустилось. В деревнях-то осиротеет совсем, а на зимнебережной стороне словно торг какой, и будто все сами по себе, своей лодкой живут, и харч, и дрова свои, но шагу не шагнут без веления старшины: тут он вам и хозяин, тут он и голова, и светлый ум, и милость, и наказание. Захочет, и на берегу оставит, если провинишься своеволием своим иль пьянством, а то и повелит крепко наказать, и сами же мужики портки снимут и всыплют ослушнику, а тот еще и просить будет мир, чтобы простили его, грешника, да не оставили без промысла. Ой, труден Устьинский промысел, и не один человек порой оставит там свою головушку, и будешь ты навеки умный человек, коли вернулся домой живым да непомятым.
... Доверили, ишь ты, доверили, – значит, по нраву пришелся, коли на третью бурсу выбрали, да и то, если вспомнить, на хорошего зверя в прошлый год вывел. Разыскали, окружили тюленье стадо со всех сторон, да еще морские ветры пособили, сдавили ледины, что чистой воды ни слезиночки, ладошкой не зачерпнуть, – зверю-то и деваться некуда. Тут один взревел хитро так, чисто да тонко, другой пристал, третий заголосил, реву подняли, Бог ты мой, – это скликают друг друга, сказывают: други милые, сбивайтесь-ка в одну кучу, сообща-то наведем защиту, поднатужимся дружнее да, может, и продавим лед. Вот и лезут друг на дружку, вот и пыхтят, силу останнюю собирают, и запашина поднялась неимоверная, дохнуть нечем. Туг уж не зевай, не давай им лед проломить, лупи хвостягой, черемховой шишкастой палкой, да все по головам, по головам, упаси Боже по шее смазать: заголосит тюлень, кинется в сторону, метаться начнет, всего зверя разгонит, и никакими силами его тогда не остановить. Помчится к воде, как скороход, начнет упираться грудью да задними ластами подхватывать, никому не догнать.
Большое дело бывает на Устьинском промысле: однажды в сутки и поешь, хорошо если полфунта хлеба проглотишь, тут и еда в рот не лезет, одним жаром внутренним живешь. И тяжелее этого загребного промыслу ничего на свете нет: недели по четыре земли родимой не видишь, море кругом, одни льды. Под буйно-то завалишься спать, утром подниматься, а головы и оторвать не можешь, примерзло волосье к одеяльнице. Смертельный этот промысел, верьте Богу, и, осподи, счастлив тот человек, коли жив на берег вышел. А там дележ, каждому поровну и без обиды, на то она и бурса; и как удача пала, много денег архангельские купцы за харавину[40] дадут. А бывает и так, что проплаваешь в море четыре недели, хлеба все приешь, обутку прирвешь, сгоришь и пустой на берег выйдешь, а если еще шторм падет да раскинет сотню лодок, разнесет во все стороны, тут и совсем беда...
Калине захотелось просто полежать на кровати, заложив руки за голову, подремать с неясными мыслями, слушать, как ровно дышит рядом баба, настроить себя на долгий путь: ведь как-то еще все обернется, но гость не уходил, размеренно откушал всего черными разбитыми пальцами... «Со своими лошадьми возится, руки-то и запрели, – мелькнула у Калины мысль, невольно глянул на свои ладони, тоже словно порубленные сечкой, с желтыми кругами мозолей. – Не баре, не баре, чего уж там. Достается тоже Петре, на горбе своем хозяйство поднял», – неожиданно пожалел тестя.
– Пинежан-то я на свои хлеба нанял, чисто все по закромам подмел, как и жить, как и жить, – неожиданно вернулся к прежнему разговору Петра.
– Ну дак чего, если возможность есть. Пошто нет-то...
– Хлеба-то печеного на лодку одну семнадцать пуд да круп гречневых поболе пуда, да масла коровьего четырнадцать фунтов, да говядины поболе трех пуд, да рыбы морянки, да толокна... Осподи, неужто все съедят? Одно разорение, за что ни возьмись, то нать и другое нать, – жаловался Петра. – Как полагаешь, не лишку на семь-то человек?
– Какого тут лишку. Мужика кормить надо.
– Вот я и думаю так же. А еще каждому покрутчику совик за пять рублей да бахилы, осподи, сколь все дорого стало; да на каждую лодку по сажени однополенных дров да семь багров, да семь лямок, каждая в десять сажен, две винтовки с порохом да свинцом, да овчинное одеяло. Каждая-то лодка мне в сто рублей палась, а что еще получу, один Бог ведает. Своей рукой себя по миру пустил, осподи-осподи...
– Небось и тебе пять паев пойдет. Свое возьмешь, Петра Афанасьич, ты своего не упустишь, – покрутил пальцем Калина. – Мужикам на всех три пая...
– Не нами заведено, тут, дай Бог, на свое вывести, – вскинулся было Петра, загудел низким голосом, но сразу смял себя, приневолил, подсел поближе к зятю. – Ну, давай, поднимем посошок.
Стукнулись хрустальными рюмками, чистый звон пошел по избе, даже Донька встрепенулся на полатях, поднял голову.
– Андельский звон-то, богато живешь, зятелко.
– Всего и заведенья, в Норвеге соблазнился. Уж больно ясно поют.
– Вот и меж нами бы такой звон, а, зятелко? – неожиданно сравнил Петра, намекая на душевную близость. – А то все как кочерга с ухватом скребемся. Тяжелый ты человек...
– Уж какой есть.
– Не обижайся, я к слову примолвился. Богу благодарен, что моей девке такой мужик достался. И ты у меня, чтобы ух! – погрозил Евстолье.
– Да я и так, батюшка...
– Ну то-то, – снял с воронца шапку, Евстолья вилась около, помогала отцу надеть шубу, Петра кряхтел, плотнее насаживая овчину на покатые плечи, ни словом не обмолвился, зачем приходил. Но и не могло случиться, чтобы Петра Афанасьич ради простого любопытства заглянул.
– Дак я пошел, к нам милости просим. Мы по родне нынче не чужаки, – еще потоптался у порога, держась за дверную скобу, между прочим заметил: – Ты мои лодки-то отметь как ли, поближе к себе прижимай. Мало ли что... Я уж тебя после не обижу.
Вот и открылся тестюшка; до самого ухода таился, жалился, водочки распил, длинный разговор до самых потемок вел.
– У меня же бурса, а не твои лодки, Петра Афанасьич. Я там за всех ответчик. И добычу прилюдно делим, харавину лишнюю не накинешь...
– Я говорю в случае чего, шторм там иль што, дак прижимай...
– Для меня ведь каждый, Петра Афанасьич, как волос на голове. Какой ни рви, а все больно.
– Не то, не то баешь, – укорливо возразил Петра.
– Ты батюшке такие слова не говори, – вдруг вмешалась Евстолья. – Он на плохое не наставит.
– Поди, поди, – отмахнулся Калина.
– Как так поди, али я тебе не жена? – подняла неожиданно голос Евстолья.
– Эй ты, цыть, не твоего бабьего ума тут дело, – загорячился Калина, легонько отпихнул Евстолью в плечо, та притворно завыла, – материна повадка.
– Не любят оне меня, татушка, изводят, готовы живьем съесть.
– Ты што, ты што мелешь? – растерялся Калина, замахал руками.
– Вы тут девку мою не забижайте, – не к месту вмешался Петра, его бы дело теперь помалкивать, раз девку с плеч смахнул, но тут нарочно травил Калину, доводя до гнева. – Девка-то золота, эту девку только в передний угол посадить да молиться на нее.
– Вот и молись, – резко оборвал Калина, слыша, как все закипает у него внутри. Он глядел на Петру и вновь, как много лет назад, ненавидел это жидкое безбровое лицо с выпученными глазами.
– Но-но...
– Не понюгай, не запряг. Иди давай, иди от греха подальше, – засуетился Калина, по-петушиному подскакивая. Он был мелок перед громоздким тестем, почти на голову ниже его, но без боязни напирал грудью.
– Но-но, полегче, – отступал Петра, не ожидая такого оборота.
– Иди, иди давай, иль проводить?
– Ты, доченька, если шибко притеснять станут, дак поди в родной дом, – елейно предложил Петра. – Уж там тебя не ославят.
– А хоть нынче, скатертью дорожка, держать уж не станем, не-е, – раскипятился Калина, а Донька на полатях молчаливо подбадривал, веселясь душой: так ее, тятенька, гони ее, носырю, одни-то во славу заживем.
Но тут Евстолья почуяла беду, бабьим умом поняла, что в таком глухом гневе ссора далеко зайдет, тяжело повалилась на колени:
– Калинушка, богоданный муженек мой, не гони. Любой ты мой, единственный. – Душой сразу поникла, вспомнив, что ждет ее в отцовском доме, если придется уйти отсюда: тогда лучше сразу и в омут, где баба Васеня утонула.
– Да ну вас, – плюнул Петра и почти побежал вон, еще бормотал вслух: «Больно много на себя несешь, больно высоко себя ставишь. Да ужо поглядим-ко, каково...»
Калина сразу растерялся, увидев на лице бабы своей проливные слезы и распухший красный нос; бросился поднимать ее с пола, втайне больше всего жалея будущего сына, которому глупая жонка могла навредить, а когда Евстолья приникла набухшей грудью да зафыркала Калине в плечо, щекотно роняя слезы, он сразу и растерялся, жалость затопила душу, – и словно ребенок малый возле мамки, топтался нерешительно и робко гладил литые опущенные плечи:
– Ну Господь с тобой, Евстольюшка, да сорвалось с языка, будь оно неладно. Да и ты тоже хороша, не ко времени сунулась. Ну перестань же, ой разнюнилась, избу-то скоро затопишь. – Евстолья всхлипнула последний раз, широко улыбнулась сквозь слезы:
– Да, чего ты, все чего ли...
– Ну-ну. Господь с тобой.
Потом они лежали на кровати, Калина долго не мог уснуть, ширил глаза в темноту, рядом ровно дышала в плечо жена, и он чувствовал к Евстолье ровную тихую благодарность за то, что она лежит рядом и тепло сопит, и тут же назойливо бранил себя, что вот не сдержался и наговорил Бог знает что, и не мог толком объяснить, что к чему. А Петра про лодки свои заладил. Если каждый пойдет ко мне да все про себя просить станем, тут и бурса рухнет, запросто рухнет, а ведь артелью и держимся в море, без артели беда, ложись и помирай.
Так бестолково еще думал Калина, винил себя, что не сдержал гнев, тягуче вздыхал, и сон бежал от него.
И вот три дня минуло, как опустела Дорогая Гора. Добрая сотня мужиков ушла на зимнебережный промысел доставать тюленя, и с угора еще долго было видно, как по Кулою в сторону моря вился длинный обоз; мужики шли подле лошадей или цеплялись за передки розвальней, а в санях везли зверобойные лодки, многие сажени дров, без которых в зимнем море смерть, харч и всякий промысловый скарб. Ушли мужики, словно бы растворились в снежном безмолвии, и многим на деревне тогда стоскнулось...
А нынче Доньке Богошкову сон явился, стыдно самому вспомнить, ой грех-то: будто с тятькой вениками напарились, Донька ошалел и к протоке выскочил, а Курья почему-то уже по-весеннему растекалась, и кусты по берегу опушились легким листом. Подумал, вроде бы не ко времени лист на дереве, еще и пасхальных яиц не били, но в Курью нырнул с разгона и обратно в баньку... А там, осподи, уже и не тятька сидит на полке, а баба какая-то голая, и лицом-то отворотившись, словно бы стыд ее берет, красная от жара, мокрые волосы сосульками на плечах. Доньке бы вон из бани, а ноги приросли, будь они неладны, и еще почему-то спросил: «Тятька-то где?» А баба-то и позови: «Донюшка, потри-ко здесь», – и на грудь свою тычет: но лицо-то все сторонит, будто и вовсе без лица. И Доньку словно кто за руку и ведет, а баба тут лицо-то и покажи: Боже праведный, да то мачехи лицо, но только беззубое, в рытых шадринах[41] , и волосы не мокрыми сосульками, а седыми куропачьими крыльями, и на пальцах когти железные, и она этими когтями за шею, да и ну мять, ну давить ее: «Ой, любо как, ой, сладко...»
Проснулся Донька впотемни, овчинное одеяло сбилось на лицо, замоталось вокруг головы, едва освободился от потной овчины; вспомнил сон и сразу загорелся от стыда и смущенья, потом долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в низкий потолок. На кровати заворочалось Евстолья, зевнула «ох-хо-хонюшки», слышно было, как скрипнуло дерево, мачеха чесалась, сонно бормотала что-то, хотя и можно бы поспать ей, поваляться без мужика на кровати, а не спится вот, в три ночи уже словно кто глаза раскрывает и велит вставать.
Удивляясь чудному и страшному сну, Донька стал собираться на работы, а сам любопытно и тайно подглядывал за мачехой, за ее неуклюжей поступкой, удивляясь, за что ее только и отметил отец и что выглядел в ней близкого сердцу. Потом наскоро помакал вчерашней рыбы, запил квасом, горьковатым и протухшим; вспомнилось, какой квас настаивала мать, душистый, слегка кисловатый, и сразу взгрустнулось.
... За ночь на улице выстыло. Снег потончал, высох и сейчас скрипел, как подгорелый хлебный каравай, лужи тонко лопались, прыскали студеной водой, утренний воздух будоражил, пахнул дымами и свежестью, вызывал легкую и томительную жажду, и его хотелось пить, как матушкин квас. Подмороженной дорогой идти было весело и легко. Донька побежал, по-детски размахивая руками, вприскочку, и странные сны сами собой оставили его.
Парусник виделся издалека, он стоял на городках, словно большой белый зверь, вытягивающийся от сна.
Мужики хотели спустить шкуну на первую большую воду и потому за топоры брались спозаранок. Обычно у суденка толпились ребятишки, копаясь в носах, что-то гундосили неясное, стояли час и другой, потом неожиданно срывались с места, словно кто подстегивал их, и уносились оврагами в подугорье. Сейчас у городков было пусто, но уже с той стороны доносило дымом, из осадистой, сбитой из глины печи вырывался порою огонь, и розовые отсветы его на снегу виднелись от деревни. Порой там кто-то появлялся, скрывая собою малиновые отблески, и орудовал кочергой: наверное, Егорко Немушко всех опередил и сейчас готовил набои – бортовые доски. Тут из-за печи вышел и Гриша Деуля, прислонил ладонь к глазам, высматривая, кого там леший несет по угору, и по неловким шагам признал сразу Доньку-подручного и, конечно, что-то сказал руками Егорке Немушко, потому что они вдруг встали рядом, поджидая парня.
– Здорово ночевали! – крикнул радостно Донька.
– А што спать-то – слава Богу, – ответил Гриша Деуля, пожевал губами, вроде бы собирался еще что-то добавить, но только махнул рукой, и теперь, пожалуй, до второй выти будут здесь только молчанка и потная работа. Егорко еще помешал кочергой в печи, пламя загудело, лисьим хвостом сунулось из топки; в медном котле, обмазанном наглухо синей глиной, вода яро шевельнулась, захлопотала, толкаясь в брюхо котла, и пар потянулся в длинную деревянную трубу, поставленную на козлы.
Еще помедлили чуток, мастер сбил на затылок коричневый овчинный треух, открыл трубу и вытянул оттуда длинную сосновую доску с капельками смолы на желтых разопревших жилах; сразу замычал, багровея лицом. Тут заспешили, схватили доску в шесть рук, зажали в клещи, стали колотить клинья, напирая распаренный набой к сосновым тесаным кореньям, которые топорщились из киля, как ребра обглоданной нездешней рыбы. Доска была еще горячей, и пахучий жар ее пробивал кожаные рукавицы, а мастер что-то смекал, вглядываясь в набой; подгонял его циркулем, оставляя едва видимую черту, словно бы кроил кафтан: тут все творилось без слов, и не потому только, что мастер был нем, а просто не просились слова на язык, да и некогда говорить в жаркой работе. За годы мужики приросли друг к другу, как мясо пристает к костям, как любимая рубаха льнет к телу и сгорает от старости. Тут достаточно было кивка головы иль движения плеча Егора Немушки. И вот уже Донька сверлит напа?рией сквозную дыру, Гриша Деуля забивает нагель и расклинивает его с конопаткой, чтобы не сочилась вода, а потом дыру схватывают медными заклепками; и тягучие удары разносятся куда как далеко в весеннем просторном воздухе, толкаются в дома и, кажется, будят окончательно деревню, потому что оттуда с гиканьем сыплются пацаны; словно бы ожидали они это мгновение на задах изб, а сейчас вынеслись под косогор, обошли кольцом брюхатую шкуну и сразу замолчали, тараща светлые глаза.
А мужики уже скинули с плеч балахоны, остались в суровых рубахах до колен, кожаные пояски обжимают на лбу вспотевшие волосы, и некогда вытереть соленую влагу, капнувшую на глаза, потому что у корабельного мастера Егора Немушки нет усталости, а в его сухом, свитом из кореньев теле нет воды, и пока не кончатся в желобе доски, он так и будет крутиться, изредка гыкать и пузырить слюной тонкий белый рот.
Так доска на доску внахлест шили корпус, грудастый, как яйцо, с потеками серы и дегтя и бисером заклепок по бортовинам. К полудню солнце растеплило снега, на высоких рыжих буграх туманно парит просыхающая земля, запахло мягким деревом и набухшим льдом с реки; на той стороне таинственно посинела тайга, и ближние кусты ивняка вспыхнули желтым ослепительным сиянием, словно бы облитые парным молоком.
На дневную выть мужики пошли в деревню по своим избам, и среди троих Егорко Немушко выглядел совсем подростком: последнее время только сбелел волосами, как зимний заяц. Распрощались кивком головы, разошлись по околоткам. Донька миновал избу Павлы Шумовой и на взвозе увидел Клавдю Петрухича. Тот вихлялся на жердинах, стараясь порушить и без того дряхлое житье, а завидев Доньку, скатился вниз, широкий в груди не по летам, вылитый Петра Чикин, и в выпученных сорочьих глазах проявился дерзкий интерес.
– Эй, Петрухич, – крикнул Донька, – про Яшку ничего?
– Не-ка, – крутнул головой Клавдя и полез пальцем в нос.
Донька потоптался, решил повыспросить все у самой Павлы, – правда, в Дорогой Горе поговаривали, что баба нынче совсем плоха стала, с головой у нее нелады, больше сидит дома и редко выходит на деревню. Нашел он Павлу в избе: хозяйка понурилась в переднем углу, волоковые оконца наглухо забиты соломенными матами, душина стоит, дышать нечем: в светце неровно горит лучина, и в тусклом желтом свете выглядела Павла бабой-ягой. Как-то быстро ссохлась жонка, утеряла могучее тело, лицо обросло зеленым мохом, и жидкие волосы выцвели, будто зимняя трава. Баба встретила Доньку молча, каким-то неспокойным взглядом уставилась в лицо, и высохшие кривые пальцы непрестанно ползали по груди, словно Павла только что теребила от пера весеннюю птицу и сейчас обирала с фартука налипший пух.
– Во, завсе так, – прошептал за спиной Клавдя.
– Яшу не видали? – спросила Павла Шумова, быстро шагнула навстречу и застыла на середине избы, ожидая ответа.
– Я было сам того, сам хотел... – растерялся Донька.
– Яшу не видали? – быстро по-птичьи повторила Павла.
– Она завсе так, уж не знаю, как и жить боле, – сказал за спиной Клавдя.
Донька пожал плечами, грустно оглядел избу и, не зная чем помочь, пошел, а за спиной словно бы каркала хозяйка:
– Яшу не видали?..
Глава седьмая
В самый Георгиев день тронулся на Кулое лед, бабы и девки бегали на реку, плескали на лицо вешней водой-снеговицей, намывали красоту. Старики глядели на водополье с горы, подставляя лысые высохшие головы апрельскому солнцу, и говорили: «Ну, с Богом, батюшко Кулой... Уж Георгий с водой, то и Никола с травой, скоро скотину на волю пускать. Дожили опять до красной весны. А теперь и жить надо, куда денессе».
Вскоре дорогоры провожали своих лошадей со двора с иконой и зажженной свечой, потом согнали их за околицей в одно место. Пастух Сеня Тин, мужик с бабьим лицом, выдирал из каждой гривы по волосине, собирал в берестяной туес, чтобы лошади дружнее паслись и чтобы зверь над ними власти не имел. Мужики ходили следом, серьезно спрашивали: «Ну как, с бабой-то простился, не потянет боле? А то гли...» И Сеня Тин, не поведя бровью, отвечал: «Я в шалашик перебрался, в шалашике я». С нынешнего дня и до самой осени не знать пастуху своей бабы и жить с нею отдельно, чтобы не завязалась нечисть и не порушила стадо.
Вечером десятские бегали с батогами по деревне, стучали в подоконья, сзывали на сходку. Дорогая Гора нынче людная, мужики вернулись с Устьинского промысла с хорошей наживой, уже перемылись в банях, согнали усталость, отогрелись на печи и сейчас не упирались и охотно шли в мирскую избу, хотя в обычное время их и палкой не загнать, все какое-нибудь заделье сыщут, только бы не идти, и на все у них отговор: «А чего идти, путно бы што, а то время только убивать. Говорильня одна, и без нас решат».
Шли в мирскую избу угором, там рыжие холмушки подсохли, и сквозь сивые пласты прошлогодней травы ершилась зеленая молодь, по небу плыли редкие прозрачные облачка – Божьи барашки. Солнце уже садилось, и притихшая после половодья река ровно катилась, будто бы налитая медью. Около мирской избы дорогоры сбивались в кучки, толковали о том о сем; самые крикливые мужики вились около Петры Чикина, тот высился горой меж них. Около Калины Богошкова тоже кружит народ, но тут больше молчали, еще вспоминали промысел и ненастный взводень, когда уже набили тюленя и шли к берегу, но, слава Богу, слава Богу, все обошлось; и сейчас на душе было покойно от тихого благословенного вечера, от недавней удачи, от мягких неторопливых слов. Заходили в избу по зову старосты, кланялись иконам, клали свои шапки на полати и воронец, рассаживались по лавкам чинно по богатству и званью; свое место знали и свиное рыло в чужой огород не совали и дела не торопили.
Староста сидел за столом, добрый отечный человек с больным горлом, оттого с постоянным платком на шее; подле писарь чистил гусиное перо, смотрел на свет, тер его о коричневую понитчину, будто в нем и заключалась суть дела. Лицо писаря стало чужое и незнакомое деревне, словно и не бегал по Дорогой Горе Владимерко Попов еще сопливым, так и звали тогда – сопливый губан; потом как-то пристал к священнику мезенскому и выучился, говорят, большой грамоте. А косоглазый, ведь от роду косоглазый, смотри ты, и глаза не помешали. Но ловкий мужик, меж пальцев у него не протечет, из рук не выпадет, и сейчас будто в потолок смотрит, а косым глазом далеко видит, ой как далеко, и порой щурится, словно бы подмигивает кому. Круто знает свое дело Владимерко Попов. И когда староста заговорил тихим могильным голосом, все мужики на писаря глянули, словно он говорил речь.
– Миряне, срок-то на владение нашею запасной землей Иванкой Качеговым сейгод кончился. Арендные деньги с него получены сполна... Где ты, Иванушко, поди-ко сюды, пусть народ честной на тебя поглядит. – С лавки поднялся волосатый низкорослый мужик, встал у стола, и все мужики уперлись на него глазами, словно впервой видели его. – Он просит снова заарендовать землю – так, Иванушко?.. – и дает прежнюю цену восемь рублей за десятину, – скажу сразу, цена достойная. Отдать ли ему по-старому, иль кто хочет торговать, опричь его это дело? Нужно решить нынче нашим сходом, для того и сошлись, миряне. Решайте, братцы...
Мужики загудели тихо, но назойливо, будто гнус перед дождем, хвалили пашню, поднимали Иванку Качегова: мол, добрый мужик, не уронил землю, да и сам на ней поднялся, уж седьмой год арендует, а мир на него зла не держит, и вот, опять же, ведро водки ставит...
– Дак отдать, миряне? – взывал староста хрипло и каждый раз морщился и закрывал глаза, словно бы ему тяжело глядеть на мир: он сам с нетерпением ожидал нового схода, когда освободят от должности и можно будет отдохнуть от навязчивой докуки. В прошлом году насели навалом, давай да давай, ты человек праведный, да и урону для дома большого не будет, два сына дом хорошо ведут, поглавенствуй над Дорогой Горой. Навалились – и откупиться не мог, а нынче еще болезнь проклятая и навязалась, знать, простыл на озерном лове.
– Охочих никого нету, братцы?..
– Пусть владеет, чего там, – неровно загалдел мир, вглядываясь в большой угол, где сидели каяфы[42] , которые еще не уронили голос. Тут поднялся Петра Афанасьич, оглядел сход, и все притихли: один вспомнил, что сев на носу и придется опять же идти к Чикину на поклон, чтобы зерном помог; другой подумал, что хлеба призанял еще зимой, а отдавать будет нечем, хорошо бы Петра Афанасьич еще погодил с должком, третий был у Чикина в захребетниках, ходил за лошадями; кто-то покрутчиком плавал нынче на его хлебах, а плату еще не получил... Тут пришло на ум, как Петра однажды покупал у Мины Чуркина лошадь: хозяин просил семь рублей, сходная цена, а Петра четыре с полтиной предложил. До пятерки доторговались, на полтиннике споткнулись, больше не захотел уступать Мина, и так задешево отдавал, да вот деньги были позарез нужны: подати платить нечем. Встал полтинник между мужиками, ушел Петра, а на прощанье еще и посулил: «Ну погоди...»
Мина Чуркин свел лошадь на базар и продал ее там за двенадцать рублей, но эти деньги уже не принесли ему счастья. До самой смерти пакостил Петра: то из хлебных списков вычеркнул – и мир промолчал; потом предложил выбрать церковным старостой, а Мина заболел – и ему пришлось нанятому за себя платить по рублю в месяц. И тут мир молчал, словно забыл, что лет тринадцать назад грозились выгнать Петру Чикина из деревни и звали прилюдно не иначе как Петра Глот. Забывчива человечья память; словно никогда не ел Петра Чикин от жадности живой кукушки, этим на века опозорив родную деревню; будто всегда он был в высоких кожаных сапогах и в синем кафтане из базарного сукна с поясом в золотых кистях. Нынче сидели мужики, опустив головы, мяли в ладонях полы кафтанов, царапали слоистыми желтыми ногтями черные борозды на ладонях, но уши сторожко шевелились: что-то скажет каяф. И только середина лавки стала мутить воду:
– Хватит Иванке... Такую-то землю воля пахать. Не земля, пуховинка, по сту зерен в колосе-то дает... С земли и пошел. Другим тоже нать... каждый охоч до такой землицы. Ее хоть заместо меда на краюху мажи, такая землица сладкая да скусная.
Кричали горланы и помнили, что Петра Афанасьич еще до схода обещал два ведра водки, а он-то свое слово сдержит. Чикин прошел к столу, остановился подле Качегова, и стал тот совсем невиден.
– Ты уж попользовался, Иван Сидорович, – сказал Чикин. – По-Божески нать, а? Восемь с четвертаком за десятину даю...
Все охнули – такой цены за землю еще никто не давал. Но тут поднялся Калина Богошков, оправил на груди шелковую бороду. Лицо черное от вешнего солнца и морского ветра, с усохшими щеками: выжало море из мужика всю воду, оставило только жилы. Пошел зять на тестя с открытой грудью, говорил слова ясные, но всем показались они дерзкими, и мир потупил голову. Только косоглазый писарь глядел в потолок, и ехидная улыбка дрожала на тонких губах.
– Куда тебе с землей-то, Петра Афанасьич? – спросил Калина. – Грех мужика забижать, кусок ведь изо рта рвешь.
– Пока мир решает, зятелко, а не ты, – ласково откликнулся Петра, но в глазах его народился холод.
Поняли люди, что не простит теперь Петра Афанасьич своего зятя до самой смерти.
– Ты ханзинскими землями кой год владешь?
– А бери, Калинушка, коли любы... Хвощ да осоту за двадцать верст доставать кому охота. Ты бери...
– Мне-то не нать, а мужика не забижай.
– Он мужик, а я, значит, князь? Будто я не ломил, как медведь, иль своим горбом не наживал. А может, ты копейку ко мне в сундук ложил? Пошто молчишь-то? Иль я против мира што несу, а? Братцы миряне, неуж я не как прадеды наши, так остановите меня. Может, я что худого содеял, дак подскажите?
– По воле мира, Петра Афанасьич, – закричали горланы.
– Видите, Калина Иванович, зятелко дорогой. Стройте мир по образцу своему, по подобию и не предавайтесь зависти. Осподи... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, царя Соломона и всю премудрость его. Не нами сказано: шутки шути, но людьми не мути.
– Что скажет мир? – снова спросил староста, виновато оглядывая Калину. Потом добавил тихонько: – Тут ведь как мир скажет...
– Тоже восемь с четвертью даю, – крикнул Иванко Качегов, словно в студеную воду прыгнул с закрытыми глазами. – А больше не могу, как хошь.
– И я не могу, я деньги не печатаю, – сказал горестно Петра Афанасьич, и глаза его накрылись крупными коричневыми веками. Горестным было все его лицо, словно кто неправедно обидел мужика и покинул его в печали. Писарь косо глянул в толпу и простучал пальцами по столешне.
– За кого, миряне? Больше никто надбавить не может...
– За кого Бог, за того и добрые люди. Ну что ж, Иванко, отступайся, – веско сказал большой угол. – Напользовался, чего там. Да и ты, Петра Афанасьич, уважь мир, надбавь четвертачок.
Потом высыпали на волю, вздыхали облегченно, что все благополучно разрешилось: что и говорить, добрый мужик Иванко Качегов, но разве мало на деревне добрых печищан[43] , готовых утешить словом и сердцем, но Петра Афанасьич один, благодетель, он хоть и шкуру с живого снимает, а благодетель, и на него даже не грех помолиться. Возле изгороди десятский вился, в руках четвертная бутыль, кричал нетерпеливо, почти зло, мужикам: «Эй-эй, сюды...» – и показывал на сухой угорышек. Легли печищане близ изгороди на просохшие холмушки, как бы спрятались от баб своих, сразу по кругу пошел оловянный стакашек, опрокидывали водку залпом, закусывали рукавом кафтана, и глаза наливались живым неразумным блеском. Тут вышел из мирской избы Петра Афанасьич, немного растерянно оглянулся, словно решая, куда пойти, а ему уже махали от изгороди руками, зазывали к себе: «Благодетель вы наш, Петра Афанасьич, не побрезгуйте нашей кумпанией. Мы за вас горой...» Кто-то уже хлопал Петру по плечу, лез целоваться, кричал в ухо: «Мы-то ведь все панимам. Добро-то и скот понимат, так ли, Петра Афанасьич, а мы ведь человеки», – и неожиданно плакал горестно, искал взглядом стакашек, чтобы добавить внутрь зелья и осушить слезы.
Часть пятая
Души в ад не отдать – так и богатым никогда не бывать
Поморская поговоркаГлава первая
Не сдержали уговора корабельные мастера, не угодили суденком на вешнюю воду: Егорко Немушко руку потянул в плече, да столь сильно, что с неделю пришлось на печи лежать и оттирать коровьим маслом, но как поднялся на ноги, то уж дня-ночи мужики не знали. Обшили бортовины для крепости пареным вересковым корнем, проконопатили (от деревянной колотушки у Доньки пальцы скрючило), потом просмолили; настелили телдоса, чтобы упруги закрыть и вода под ногами не хлюпала. Поверх палубой накрыли, протянули стоячий да бегучий такелаж из чесаной пеньки и полотняными парусами одели мачты. Большая родилась шкуна, на четыре тысячи пуд, на такой не страшно будет и на Матку бежать, и на Грумант. Но как срядились да оглянулись вокруг, уже Петровщина приспела, самый конец июня.
Большие воды стояли, самая пора спустить шкуну в реку, дать ей большое плаванье. Люди глазели, примерялись, судили, как побежит посудина да будет ли устойчивой на волне, послушной руке и парусу: находились знатоки, цокали языком, вспоминали шкуны и шняки, на которых ходили на Матку, порой загорались и готовы были хоть сейчас столкнуть на воду и завесить парус. И только Егорко Немушко молчал, тянул свою вересковую трубочку, пуская дым в лица слишком разговорчивых мужиков, те плевались, особенно старой веры печищане, ругали Егорку: «Разве у табашника чего путного выйдет», – оскорбленно уходили в деревню, чтобы назавтра снова навестить и поцокать языком. Ведь не каждый день в Дорогой Горе рождались такие посудины на четыре тысячи пуд, да и эта еще отстоит на городках день-два и спустится рекой вниз, а там морем в Мезень, во владение Гриши Антипина, тамошнего купца. И когда ругались мужики зряшно, чтобы только разбавить скуку, Егорко по-своему переживал, не терпя посторонних взглядов, собирал клочковатые брови к самому утиному носу, показывая обидчику спину: мол, поди-ко ты, – медленно брякал деревянной ладонью по гулкой груди шкуны и касался ее волосатым ухом, словно что услышать мог. И Доньке было обидно за мастера, и он тоже быстро сердился, будто случайно толкал мужиков костистым плечом и бурчал: вот крутятся тут под ногами, дело вести мешают, а лучше бы шли по избам да путали бабам юбки. Неловкое суеверие немого мастера, налитое в тревожных серебристых глазах, передавалось и Доньке, и он тоже поджидал какого-то несчастья, когда они подрубят держаки и посудина скатится в Курью.
Вот почему спустили шкуну белой ночью, когда на востоке едва просыпалось державное солнце. Помолились златоглавому батюшке, отбив поясные поклоны; Немушко что-то гудел, кривил черный пустой рот и от солнечного света серебристые глаза его стали желтыми и ангельскими. Потом взяли в топоры бревна-держаки, корабль скрипнул днищем, словно не решаясь тронуться с городков, и, набирая ход, скатился в приливную воду. Задрожала река, смуглая от солнца волна косо пошла от берега к берегу и выплеснулась на кровавый камень-арешник. Что-то неуловимо прекрасное было в мягких обводах суденка, и у Доньки счастливо дрогнуло сердце. В челне вместе с Гришей Деулей подплыли к шкуне, где Егорко уже запускал паруса; быстро разобрали снасти, ветер тронул и надул белые полотна; туго забилась вода под смоляными бортовинами, и первая чайка, грустно икнув горлом, почти свалилась на мачту, потом испуганно зависла над нею, кося на мужиков черным немигающим глазом.
На полной воде шкуна скатилась в Кулой, и деревня бежала следом за суденком, еще черная в белой ночи, будто наглухо застегнутая и похожая на вдовицу-староверку. Донька стоял у бушприта, держась рукою за снасть, и ему вдруг мучительно захотелось плыть долго-долго; и он впервые почувствовал, как хорошо, наверное, идти сначала рекой, а потом морем, и волны будут завиваться под днищем, высоко вздымать шкуну, стараясь оторвать ее от гребней, а потом суденко начнет стремительно падать, и сердце пугливо и жутко-радостно замрет, как во сне. И Донька позавидовал отцу, что он может уплыть к дальним островам, и удивился его нерадостному, печальному лицу, с каким он обычно возвращался с моря и долго приходил в себя, отогреваясь баней и русской печью. Сидел на завалинке, как старик, шевелил тусклыми губами, и глаза его были мутные и сонные, как у хворого. Но почему у него, у Доньки, нет особой радости на душе, а только довольная усталость при виде своего первого топорного творенья, а еще вчера казалось: Бог ты мой, что будет, что будет, когда шкуна скатится с городков в реку и плавно качнется на высокой воде. Донька, наверное, встанет на голову, нет, пожалуй, он будет долго бродить по деревне с горки на горку, а мужики и бабы начнут тыкать в него пальцем и говорить, словно глухому: «Гли-ко, гли-ко, сколь паренек у Калины Богошкова боевой...»
Шкуну поставили чуть выше деревни, на глубоких яминах, где и в самые сухие годы хранились черные омуты. Егорка в хлюсты – корабельные ноздри – кинул якорь, тут же спустили на мачтах белые одежды, шкуну развернуло вдоль реки, и она стала похожа на большую морскую чайку, пронзенную двумя острогами. Посредине нее, на палубе, Гришка Деуля развернул холстинку, достали общий харч и стеклянный полуштоф водки; Егорко налил в точеную расписную чарку, обнес по кругу: каждый пил по трети, молясь на восток и благословляя солнце, ибо что может быть лучше на свете радостного солнца в радостный день. И под это молчание, под тягучее гиканье Немушки Донька тоже приложился к чарке, опрокинул водку в себя впервые в жизни и задохнулся слепо, потом пьяно ослаб, привалившись спиною к борту. Ему хотелось смеяться и плакать, потом он пополз на коленях вдоль палубы, щупая холодные заклепки и шероховатые смолистые доски, и все ему казалось чудным. А когда вернулся к трапезе, чарка уже снова ждала его, и Донька опять выпил, уже свободнее, потом повалился на спину, раскинув руки и вглядываясь в черные маковки мачт. Ветер поднялся, в хлюстах позванивала якорная цепь, что-то гундосил Егорка и Гришка Деуля, распалившись, рассказывал ему руками, хлопая себя по ляжкам и плечам. Донька глядел на них, как сквозь туман; под днищем плескала вода, палуба мерно качалась и будто уходила плавно вниз. И, счастливо улыбаясь, Донька уснул и видел себя в большой холщовой рубахе до пят; будто он разгребает щепу, а она наплывает на него, смолистая и колкая, готовая утопить под собой. Парень отчаянно перекатился на живот, и его вытошнило.
Проснулись они ошалелые от водки и солнца, едва продрали опухшие глаза и поднялись над бортами: деревня была белой от жары, на горе толпился народ, что-то кричал и махал руками.
Нынче Петровщина, большой на деревне праздник, когда девки-хваленки идут на смотренье. И Тайке дозволено впервые похвалиться прилюдно большим нарядом, который до времени поджидал девку: не от бабки-матери, как в других семьях, дошел он, а отец справил любимой дочери. Распахнула темный сундук, крытый узорным железом, в прохладной глубине ее девическое приданое, которое уже не раз перебрала да примерила темными зимними вечерами при свете лучины, когда в призрачных сумерках особенно тяжелы шелка и бархаты и зачарованно льются нитки жемчугов в потные от волнения ладони.
Вилась Тайка перед зеркалом в летней избе, не знала, с какого бока приступить к нарядам, хотя уж как торопилась, и сердце почему-то спешило, колотилось, и не унять его: словно исполнения тайного желания ждала сегодня девка, и оттого так не терпелось ей выскочить за деревню в общий круг. Тут зашла Манька, всплеснула по-бабьи руками: «Осподи, ты еще в одной исподней рубахе? Танька Корешиха давно уж торопилась мимо окон, и Санька Тиуниха. Все подруги в кругу, а она-то, осподи...»
Некрасивой в замужестве стала Манька, желтые пятаки под глазами, губы злые посунулись вниз; правда, после гибели сына поуспокоилась, перестала о хахале думать, да и с отцом вроде бы поближе. Нынче не повышал Петра перед Манькой голоса, задабривал ее подарками, оттого и носила баба голову высоко, мамку из большух вытеснила, завладела родительской квашней, а мать сразу голос потеряла, стала еще больше грузнуть, одолела ее водянка. Августа теперь все в своей светелке, спустится вниз только на выть и не ест, пока не подадут, а как пойдет по гостям, только и плачет: «Ой, деточки родимые до чего довели. Не могу я боле, не-е. Скорей бы нито и помереть». Когда при Маньке так же заплакала, дочь только съежила злые губы, прикрикнула: «Ну и помирай, чего ждешь-то».
– Ну как я? – крутилась Тайка в новых выступках с подковками да медными гвоздочками: подошвы дробно постукивали, словно орехи кололи.
– Красива ты, Тайка, – грустно откликнулась сестра.
– Ври-ко, ври-ко, – зарделась Тайка, вглядываясь в таинственную глубину зеркала, откуда выглядывали на нее тревожные глаза, налитые зеленым светом, и маленькие пересохшие губы.
– Ну страшна тогда, страшна, как бабка Лампеишна, – притворно сказала Манька. Оправила сестре толстую косу, шелковую рубаху с кумачовыми наплечниками одернула. Был на Тайке бархатный малиновый штоф до самых выступок, хотела шугай атласный с оторочкой из беличьего меха накинуть, да Манька остановила, мол, куда ты экий груз натягиваешь, ведь сопрешь вся, жарина-то несусветная. Примерила тогда девка коротенку[44] из парчи с шитыми золотом цветами, и сама своей красоте подивилась тайно, вздохнула и по детскому пламени щек добавила румянами: совсем боярышней стала. Пойдет деревней за околицу, и старые старухи будут глаза на ней оставлять да переспрашивать: «Андели, да чья это косата-голубушка, сколь красовита она да наряжуща». А Тайке взгрустнулось, не хочется ей на себя смотреть: если бы Донюшку выглядеть, и неуж не придет желанный, не глянет на мою красу девичью. Вспомнилось, как недавно к Евстолье бегала, у порога прут от свежего веника положила тайно, долго сидела, какие-то пустяковые разговоры вела, томилась, ждала, когда Донька придет. А заслышала стук ворот на повети, всполошилась, и сердце не унять. Вот почто так случается с девками красными, подскажите, люди добрые: еще только ворота скрипнули, а душа жаворонком затрепетала. Парень вошел, уж на него более глянуть не могла; побоялась выдать любовь свою глазами, почти побежала за порог, чтобы Евстолья не опередила, а иначе вся присуха пропадет. На другой день баня была, у отца выпросилась: «Пусти меня, батюшко, в первый жар ненадолго, что-то поясницу выломило, дай попариться своей меньшей дочери. В баню заскочила, нагнала пару, прут от веника бросила на полок, сама на полу сидит да приговаривает: „Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божий Донька Богошков“.
– А не пойду никуда, ни-ку-да не пой-ду-у, – вдруг завыла Тайка, и детские губы обиженно потекли вниз. Стала срывать с себя душегрею да шелковые платы с плеч, а девичью повязку на голове из малинового штофа с завесью из бисера не трогает, ждет, когда сестрица остановит ее да уговаривать будет.
– И не ходи, – хитро согласилась Манька. – Пусть Танька Корешиха твоего парня перебьет.
– Нету у меня никакого парня...
– Знаем, по ком сердце тоскнет. Сами из девок бабами стали. Ой, Тайка, сколь красивяща ты да баска, – вдруг всхлипнула сестра, у нее тоже подкатила горесть к самому сердцу, вспомнила вдруг любимого дружка, с которым разлучила судьба. Ой, как жить тогда не хотелось Маньке, и день летний казался темнее студеной ночи... Но взяла себя большуха в руки, рукавом осушила слезы, и еще злее и тверже стали губы, и сердито блеснули глаза. – Поди, поди, чего ерепениссе...
Хлопнула дверью, спускаясь по лестнице, кляла себя, что уронила гордость перед меньшой сестрой, а большухе не пристало выказывать свои слабости.
Тайка сразу поняла, что уговаривать ее никто не станет, туда-сюда толкнулась, жарко стало в большом наряде, решила только прохладиться да одним глазом глянуть, что делается на улице. А на деревне желтая пыль вьется, придорожная трава потускнела, в свете улицы далеко видна пестрая толпа, и оттуда льется сдержанный человечий гул, словно вышла из берегов река и потекла по взгоркам. Солнце палило, звенели у дома большие черные мухи, от просохших стен пахло смолой и терпким жаром. Над тайболой среди бела дня выстелились дымные сумерки, там словно кто-то великанский беззвучно стрелял из ружья, и витые сполохи неожиданно рождались, высвечивая кромку неба. Оттуда шла гроза, но в этом безветрии она дотянется, может быть, к вечеру иль вообще пройдет стороной, но воздух напрягся, загустел, и у Тайки сразу прилипла к спине шелковая рубаха с вышитыми намышниками. Кто-то промчался мимо, шелестя сарафаном, и только со спины Тайка узнала Пинку Верховку. Из самого бедного дома девка, и та нынче в большом наряде – небось кто на гулянку дал из милости, а потом Пинка за этот наряд отработает на поле иль полы вышоркает. Но уж если Пинка на круг летит, то Тайке просто грех не быть там, тем более впервые в жизни, когда на кузьминки шестнадцать годков стукнуло. Теперь уж не девчонка она, которую каждый мог коленкой пониже спины поддать или косу на руку навертеть от баловства и дикости, нынче Тайка – девица-хваленка: ее сватьи могут высматривать да парням-женихам нахваливать. Вот отчего все дорогорские девки в круг спешат, чтобы там повыхаживаться и себя перед народом добрым в самых лучших видах показать.
Тут уж не стерпела Тайка, подхватила подолы, и только пыль завилась под выступками: ей бы горделиво пройтись околотком мимо старых старух, которым нынче тяжко даже за околицу выползти, вот и торчат посреди улицы, как трухлявые сыроежки, поджав морщинистые губы и сцепив пергаментные руки на груди. «Ой, кто така скороходовна? Андели, да это не Тайка Заугольщица. Словно кто настегал крапивой». – «У них завсе таки девки неурядливы да неуступчивы», – шелестел вдогон другой голос. А Тайке что эти пересуды, она, не слыша земли, летела за деревню и обидчиво думала: «Ну и пусть не глядит, больно надо, вешало стоеросово. Идет, за землю запинается, голова на шее, как репа. Вон Тимоха Тиун мимо не пройдет, чтобы не ущипнуть, говорят, сватов ладит. И не откажу, пойду за него. А ты локти будешь кусать, а поздно, ан нет, придется Пинку Верховку брать, у нее и наряды-то чужи, да и в бане по месяцам не моется, моды уж такой нету...»
Только у крайней избы замедлила шаг, пробовала унять сердце, а робостью застлало глаза, и куда только смелость и речистость девались. Подле Курьи-протоки бабы, мужики, едва протолкалась сквозь потные тела, от мужиков несло хмельным перегаром, пихалась Тайка острыми локтями, не жалея шелковых рукавов, и в этой куче осмелела и уже смогла глянуть на круг, который вели девки-хваленки да молодухи. У всех глаза стыдливо опущены долу, губы скромно поджаты, на щеках румяна, и зоревой огонь пробивается сквозь промытую сывороткой с яйцами кожу; поступочка ровная, поставь на плечи стакашек с водой – капли не выльют, а от алых платов, от жемчуга и бархата больно глазам: каждая девка цветом цветет, рада из самой себя прорасти.
Тут и на Тайку взгляды оборотили, зашептались: «Это не Тайка Заугольщица, Петры Афанасьича девка? Сам-от где, хозяин?» А сам стоял на пригорке вместе с каяфом Тиуном, рядом и сын Тимоха, косоплечий парень в кумачовой рубахе. Сразу выглядел Петра девку свою, от сердца отлегло, думал на плохое, не случилось ли что ненароком. Круг вьется уж поболе часу, а Тайки нет и нет, словно водой смыло. Обрадовался, но виду не показал, посмотрел сбоку на постное Тиуново лицо – начетника с бородавкой под правым глазом, между прочим заметил: «Воно и моя девка прискочила...» А сзади льстиво: «У Тайки Чикиной наряд от всех отличный, глаз бы с этого наряда не сымала». – «Дак у самого-то, слава Богу, мошна, последнюю дочь не уронит, бат, не позволит в ремках на люди выйти».
Евстолья тоже подле отца хлопотала, жалась к его широкому жаркому боку и, чтобы улестить Петру за мужнюю провинность, нашептывала: «Ой-ой, сумеет ли Тайка выступить, сумеет ли гунушки сделать?»
– Не каркай, – сурово одернул Петра, ожидая тайно, что скажет Тиун. Он Петры Афанасьича побогаче, у него и слово весомее. Оттого ждал похвальбы, что приценивал свою девку за Тимоху отдать.
– Баска у тебя меньшая, королева, – суховато сказал Тиун и как бы сразу просватал своего парня за Тайку: ведь кому не охота женить сына на богатой королевишне.
А Тайка вошла в круг, скромно поджала губы, очи опустила долу, недаром перед зеркалом вечерами красовалась, и словно век свой хоровод водила; встала Тайка не в охвостье, где бедные девки вышагивали, а в голову, вслед за Санькой Тиунихой, здесь отныне ее место по богачеству и благочестию. Первая из чикинского рода так высоко вышла: Евстолья, бывало, с заднего конца крутилась, Манька в серединку попала, а Тайка уже круг повела. Ей по отцу честь.
Ни слова, ни песни в кругу: не положено. Тут деревенское смотренье, всеобщее любованье и выбиранье идет и час, и два, до самого паужна, а потом, когда девки разбегутся, бабы начнут сплетни, помоют девичьи косточки вдосталь, припомнят, за каким углом видели в охапку с парнем да какую копну примяла с ухажером.
А Тайка скорехонько приобыкла, сначала еще на выступки поглядывала, как бы не оскользнуться на вытертой траве да как бы не наступить на малиновый штоф Саньки Тиунихи, но вскоре осмелела, опять завспоминала Доньку: неужто в избе сидит и даже на круг не придет, чтобы девку-хваленку себе в жены высмотреть? Так подумала только и Доньку увидала, голубые глаза его радостные и потерянные. И тут небо раскололось, не углядели люди, как навалилась черная туча, первые капли скатились тяжело, будто градины, а следом пошел такой ливень, такой ливень... Но девки-хваленки не растерялись, юбки на головы, заскочили на гумно, там вся чинность пропала, стали хохотать, отряхиваться, словно мокрые курицы; и в сумерках парни подступили ближе, пробовали щупать хороводниц, порой получая по мокрым щекам увесистые гостинцы.
Доньке с похмелья было стыдно являться в дом на глаза отцу, а тот и слова бранного не скажет, но молчанье его будет хуже ругани. Вышел на берег, сонно прошел угором, в свою баню скользнул и на прохладном полке уснул. Сколько спал, не помнил, только очнулся – показалось, будто ночь белая, тишина лилась из сажных углов и где-то тонко позвенивало. Смутно провел рукой по лицу и не почувствовал его, что-то хотел вспомнить – и не мог, сполз с полка, задевая рыжими волосами черный потолок, голова закружилась, и повлекло Доньку на ватных ногах, как дитя малое, на боковую. Зачем пересиливал себя – не знал, но только спустился из бани к реке и долго стоял на коленках, купая лохматую голову в мелкой зацветшей воде, потом рубаху и порты замыл, но Доньке все еще казалось, что от него за версту тянет хмельным перегаром. Фу, мерзость какая, думал он, веком не задену, и как только люди пьют, из кабака за уши не оттянешь. Поднялся весь мокрый и пошел берегом, будто по пеньковому канату, натянутому через овраг.
Солнце пекло, а Доньке поначалу было знобко, пока не прошел угар. За деревней увидал толпу и только тут вспомнил, что нынче Петровщина, а значит, девки-хваленки выставляют себя напоказ; сейчас небось расщепериваются, лицо строят постное да скромное, расставляют силки для простодушных парней, а те небось и тают, словно апрельский снег под солнцем, и в мыслях один Бог знает, что бродит греховное. А его, Доньку, на эту удочку не поймать, еще не родилась та, которая окрутит.
В толпе Доньку помяли, потискали в спину и в грудь, но голова его была над людьми, и казалось, что все солнце полилось на его рыжие волосы, а в глазах рябило от цветастой девичьей лопатины. Может, от душной предгрозовой поры иль от этого странного одиночества посреди толпы, но только парень загрустил, разжалобился, в груди подташнивало и зыбко кружилась голова. Как в детстве, Доньке захотелось участия, и, напрягая ослабшие веки, чтобы лучше видеть, он с какой-то жадностью стал вглядываться в хоровод, словно вспомнил, что ему девятнадцать скоро; и любопытство зажглось в глазах. И в шелестящей шелково-бархатной волне он постепенно выделил лица; они поначалу были туманны и бледны в кумаче лент и повязок, потом некоторые стали останавливать его взгляд неожиданным поворотом головы или лукавством взгляда. И тут... Говорят, это и есть судьба, а иначе чем объяснить, что Донька, затурканный работой и вином, не проспал безмятежно в тихой прохладе баньки до белесого вечера, а очнулся вдруг и, пересиливая себя, потянулся берегом реки, как по пеньковому канату, через овраг, и что-то непонятное томило его и влекло за крайние избы, где волнами ходил тревожный и счастливый гул. Может, это и есть судьба? Кто знает, кто знает, но тут Донька внезапно увидел Тайкины печально недоступные глаза и словно проснулся...
После паужна – легкой дневной выти – малые ребята помчались по деревне, расхлестывая мутные ливневые лужи, и зазывали на вечеринку девок, а молодцов не приглашали, обходили стороной: те должны как бы сами по духу узнать.
Евстолья, уже совсем грузная, порыжелая, сидела на лавке, вила кудель, часто потирала под грудью и мучительно морщилась. Калина плел лапти-мокроступы; Донька сидел у красного косящатого оконца и тосковал.
– Вы чего воровски-то спустили шкуну? – вдруг спросил отец. – Веком такого не бывало, сколько себя помню. С придурью Егорка-то?
– Спроси у него...
– А ты чего такой? – подозрительно спросил Калина.
– Какой уж есть...
– Но-но...
– Отстань, чего к парню привязался, ты не слушай его, Донюшка, – по-матерински заступилась Евстолья, и Донька впервые благодарно улыбнулся ей. – Ты поди куда ли, парень...
– Воровски тоже... От ведь, ну и ну, – качал головой Калина. – Будто каждый день шкуны строят. Дак что Егорко, что Гришка Деуля – одна ягода. Бывало, так не поступали.
– На бывало-то мох вырос, – грубо возразил Донька и осекся, с тоской ожидая грозы.
– Ты бы, Донюшка, поел че. Ровно святым воздухом живешь, – опять спасительно заступилась Евстолья. – С ночи ушел, а когда явился.
– Донюшка, Донюшка, чичкаешься тут перед ним, – передразнил Калина, – а он больно хорошо на пьянство встает.
– Осподи, чего на парня валишь...
– А ты помолчи, не стрекоти, – оборвал Калина. – Говорю, дак знаю. Егорку-то Немушку едва в избу заволокли. Так и не потонули. Тоже задумали пьянку середь воды учинять.
– Ну и ладно, чего тебе, – снова огрызнулся Донька, досадуя на себя.
Евстолья напряглась, не зная, как унять ссору, но все неожиданно обошлось мирно. Калина глянул сыну в глаза, увидал в них растерянную мольбу и сухо посоветовал:
– Ты поди куда ли подальше от греха...
Донька торопливо, чувствуя в душе томительное беспокойство, нарядился в кумачовую рубаху и плисовые штаны, выскользнул из дома. На улице солнечно парило, и в желтых лужах купались желтые воробьи. В верхнем конце за ручьем гомонили парни, значит, у Марфы-заручьевской нынче вечеринка. Уж с год, наверное, Донька не бывал на игрищах, да и не особо тянуло его туда; вечерами сидел в избе в длинном кожаном фартуке и резал из дерева поделки. А нынче зачем-то шел и робел в душе – и оттого напустил вид независимый и голову держал высоко. Желтые цветики-плешивцы еще не обсохли, на толстых резных листьях дрожала студенисто вода, Донька ширкал сапогами и сбивал солнечные шляпы. Кожаные переда намокли и радостно засияли.
Около Марфиной избы на притоптанной лужайке возились парни – боролись попарно, хватая друг дружку за ворот рубахи, норовили повалить соперника подножкой на мокрую траву. Тимоха Тиун, косоплечий, жилистый, с маленьким девчоночьим ртом парень, весь запотел: наверное, только что барахтался и кого-то положил на лопатки, а сейчас бахвалился, и белая слюна азарта пузырилась на губах.
– Я, бывало, Сеньку Кибасника кинул...
– Бывало, баба с похмелья хомут съедала, а поутру встала и дровень не стало. А он – бывало, – неожиданно для всех поддел Донька, еще на подходе расслышав громкую похвальбу.
Парни довольно засмеялись, а Донька хмуро встал напротив и давай раскачиваться на длинных ногах, зло темнея глазами. Ему захотелось, чтобы Тимоха кинулся на него, и тогда бесшабашно почесать кулаки, вытереть этому хвастуну сопли под вздернутым носом. И Тимоха, будто обиженный петух, пошел навстречу, встряхивая русые кудри, скаля мелкие зубы: красив и задирист Тиун и словно сплетен из вязкого верескового корня. Его подножкой не бросить и через себя не кинуть за пояс, кошкой встанет, а если бить, так только в носырю, в круглые черные ноздри, и чтобы юшкой залился. Так подумал Донька, и руки его, распяленные от топора, с деревянными мозолями, так похожие на тяжелые весла, жадно шевельнулись: никак не знал парень в себе такой сладкой злости, от которой скрипят зубы. Но он ждал внешне равнодушный, и только голубые глаза налились свинцовым блеском.
– Эй, Дюля, я тебе сопатку набок исделаю, – стращал Тимоха, вроде бы отступаясь от драки, но ноги ступали по-рысьи, искали боевую опору... – Ой, хитер-бобер, собрался на кривой дороге объехать.
– Тимоха на горке кишки продает: почем кишки, по три денежки, – еще травил Донька.
И Тиун распрямился, словно кто кинул его вперед, правой ногой нацелил в живот, но и Донька, слава Богу, в детстве не раз точил кулаки, откачнулся в сторону, и еще Тимоха не коснулся травы, он выбросил вперед длинную руку, целя в черные ноздри, но угодил своей кувалдой в лоб парню. Тиун опрокинулся на спину, тупо моргал, соображая, ибо всю память и горячку вышибло из головы.
– Тимоха, чего нашел? Чур, на двоих, – скалились парни; тут выскочили на взвоз девки, зазвали ухажеров, и им сразу стало скучно смотреть на петухов, да и драка не получилась, потому все повалили в избу, и Донька следом отправился, потирая кулак. Злости уже не было, и радости от победы тоже не было, только непонятная горячка не покидала душу. Тимоха плелся следом, скулил от обиды, ему хотелось подраться, но и сзади не по деревенским правилам нападать.
– Ты чего, трусишь, да? – ныл он. – Так нечестно... в морду хошь? Получишь. Сопатку надвое раскрою.
– Ну ужо, ну чего ты, после побьешь, я тебе подставлюсь, – басил Донька. – Давай мировую, а? Злой я нынче, а с чего злой?
– Да, чего, лезет тоже. Я оногдысь Сеньку Кибасника как бросил...
В избе вдоль стен стояли лавки, полы с дресвой вымыты, еще не затоптаны, и стены вышорканы голиком: парни в складчину рядили избу под вечеринку, и хозяйка постаралась, чтобы угодить молодым. Девки уже гуляли веревочкой: ходили круто, взявшись за руки, только сарафаны вились, путали по избе узорочье: «Уж я улочкой шла да переулочком шла, клубок ниточек нашла-а, клубок катится да нитка тянется...»
Парни вошли, сразу девок похватали, сбили хоровод, сыпали в подолы орехи сибирские да пряники медовые; все по лавкам расселись, кавалеры на колени припали к ним, а Тимоха Тиун к Тайке уже льнул чертом: что-то шептал в ухо, почти касаясь губами в крутой белый завиток, и со стороны видно было, как хитрая рука его, небрежно скользнув с плеча, хваталась за грудь. Тайка игриво отбивалась, косила на парня круглый зеленый глаз и, заваливая голову назад, тонко смеялась и в длинном смехе всхлипывала, словно не хватало ей воздуха. Но тут же сиротливо тянула длинную гибкую шею, мельком бросала взгляд по избе и дальше, в полую дверь, где в сумерках еще толпились парни и неторопливо переступали порог.
А Донька только вошел в избу, как сразу увидел Тайку и около нее Тимоху, втайне подивился, когда его обошел Тиун, вроде бы все сзади скулил, и тут же пожалел, что не смазал ему по носу и не пустил юшку: сейчас бы небось сидел у реки и замывал свои шелка-бархаты.
Напустил Донька в глаза хмельной туман, закричал с порога, на ходу околесицу плел: «Калина да малина: красная рубашка – Гришкина Палашка; по задворкам бегать, нюхать, то Артюхина Анюта; черная рубашка – Спирихина Параха; не ткана и не пряха – Тиунова Санаха; рваная ширинка – Петрухишна Таиска».
Всех девок перебирать стал вдоль по лавкам, для каждой складное слово нашлось и будто колкое, да не обидное. Хваленки сначала ужимались и краснели: «Вечно пристыдит, верста рыжая...» – потом захотелось и над подружками посмеяться, стали Доньку упрашивать, схватили за рукава, облипли, посадили на скамью; парень не заметил, как рядом Тайка очутилась, сама руку на плечо закинула, и сразу спина от волнения захолодела. Подумал растерянно: слепой хорек, где раньше глаза были, чуть такую девку не проворонил.
– Ну, погодите, ой, оржанухи, задавите комара, ему с комарихой и в баню боле не ходить и спинку не помыть... Дайте мне по деревне пройтись. С какого конца, с верхнего или нижнего?
– С заручья, с Иванки Коробочки, – заверещали девки.
Донька глаза прикрыл, волосы нарошно взлохматил на голове, стал гнусавым голосом причитать, советы мужикам давать, как с бабами своими управляться:
– Ивану – коромысло, жена его не корыстна; Александру – палку, жена его бахвалка; Прокопью плеть, жена его блеть...
– Ой, страмной, ой, Донька, страмной...
– А чего страмной, слова из песни не выкинешь, а характера на другую колодку не перешьешь. Разве не распутна? Ну ты поди прочь-ту, все ноги мне обступал, – вдруг загорячился Донька. Это Тимоха Тиун перед самым носом трется и нет-нет да сопернику топнет по ноге не жалеючи.
Не стерпел более, оттолкнул Тимоху, тот было чуть не растянулся подле печки, но устоял, приткнулся к бревну, где рукомойник висит, стал оттуда зло выглядывать и Тайку пальцем подманивать, мол, пойдем отсюда на лужок, за баньки. А Тайка, словно серьга в ухе, возле Доньки, на его губы смотрит, стыд весь растеряла, такое на нее нашло любовное состояние.
– Ну про кого дале-то?
– Федюхе-то Креневу чего сулишь?..
– А Федюхе-то Креневу – лопата, жонка у него горбата; а Никифору – ремень, жена его лень; Ефиму – топорище, жена – ворище. Ну хватит, хватит боле, – взмолился Донька, – уморили вы меня, девки, да и парни уже косо глядят.
– Давай в короли играть, – крикнула Тайка.
Сразу все сгрудились, на Тайкину ладонь руки свои стопой сложили, потом нижние по громкому счету стали выбираться наверх, и тут уж кому повезет, кому удача выпадет: перва, друга, третья... нижня, задня, верхня, краля, король. Тайка своею ладонью всех придавила, ей и счастье: она королева, она и правит. Сразу хвастливо голову закинула назад, белые бровки насуровила, только короны девке не хватает.
– Эй, Мишка Костин, тебе чего нать?
– Чего прикажешь, моя королева, – поклонился Мишка Костин в пояс.
– Коли так, целуй Саньку Тиуниху три раза, да покрепше и в губы.
Санька надулась, у нее кавалер подле, но и ослушаться нельзя, с вечеринки прогонят и на всю деревню осмеют; а Мишка, толстогубый, прыщавый, утерся рукавом рубахи, важно завыступывал под веселый галдеж, на Санькиного-то ухажера косится, как тот кулаки мозолит. И все разом считают и кричат: «Ой, сладко, да не торопитесь, не на пожар».
– А Степке Закелейному потолок пупом достать, – велит Тайка, а глазами все на Доньку светит и тайно спрашивает: ну какова я, люба ли тебе?
– Рехнулась? – подступил Степка.
Но все закричали: «Лезь, давай лезь». И смирился парень, уж такова игра в короли. Полез на полати в сажный угол да там стал крючиться, чтобы потолок животом достать, тут и глядельщики нашлись, наблюдают, чтобы все исполнено было.
– А Тимохе Тиуну сорок сороков воды привезти...
Скривился Тимоха, хохотнул, скрывая досаду, а пострадавшие ранее уже кончили дуться, довольнехоньки, рады над парнем потешиться. Пришлось Тимохе сорок раз лбом бороздить по стене, да так, чтобы скрип тележный раздавался...
– А Доньке што? Его-то напоследок оставила. Ты ему, что ли, покрепше, Таиска. Вон какой пень-от, – советовали девки.
– И не пожалеете, ой, злодейки, – отшучивался Донька.
– Вас пожалей, дак век порозной не будешь.
– Доньке че? – спросила Тайка задумчиво, словно решаясь на что-то. – Пусть меня до самого дому проводит, чтобы собаки шальные не покусали.
– Ну, легкота парню, ну и красота. И ты, Таиска, не боисся? Он ведь вон какой... Тимоха, ты чего зеваешь, проспал девку-то?
– Эй, парни, где Тиун? Тиуна нету...
– Побежал караульщиком, поцалуи считать...
Вечер был влажен и тих, легко серебрилась река, словно бы полная с краями рыбьей мелочью, и дома за ручьем, где жила Тайка, осели темно и грустно. Порой налетал теплый ветер, и тогда пахло цветами с ближних пожен. Торопливо, словно ожидали погоню, спустились к воде, на каменистые отмели, покрытые тонкой зеленой тиной. Шли молча, Тайка чуть впереди, и шелковая рубаха при свете луны блестела. Донька спотыкался, пинал ногой розовые плитки арешника, и слова вязли на языке. Он хотел бы догнать Тайку и обнять ее, бормотать что-то бестолковое и нежное, но куда-то подевались прежняя веселость и недавняя нахальная дерзость, когда слово цеплялось за слово, и был похож сейчас Донька на каторжника с колодками на ногах.
– Тая, – вдруг окликнул слабо, как больной, и усмехнулся над собой, решив окончательно, что сейчас подойдет и обнимет девку.
– Чего? – быстро обернулась Тайка, словно споткнулась.
– Да так, ничего...
– А-а...
Подождала, пошли рядом, порой Донька касался ладонью ее руки и вздрагивал.
– Хорошо, да? Тихо так.
– Угу...
– Вы чего с Тимохой-то не поделили? – подняла на Доньку глаза, полные тревожного ожидания.
– Да так, чего он...
– Ты жалеешь, что со мной пошел, да? – спросила робко, едва коснувшись пальцами Донькиной руки.
– Да не, да ты што?
– Небось думаешь, вот навязалась, дура. Липнет, как смола.
– Придумаешь тоже.
– Я все вижу...
– Брось, давай. Может, обратно, Тая?
– Тихо, отец...
– Где, где?
– Тихо, тебе говорю, – и вдруг приникла, опала всем телом на Донькину грудь, и вздрогнул парень, затаив смущенное дыхание, и никогда в жизни еще днем ранее не подумал бы, что в его сердце живет столько грустной нежности. А может, она родилась сейчас и вот пролилась через край, – и сразу запершило в горле, словно от жажды, и губы пересохли от волнения.
– Да не шевелись ты, – шепнула Тайка. – От какой...
И пришлось невольно обхватить девку за плечи.
– Тайка, ты чего там? – вдруг закричали совсем рядом. И в черном растворе двери Донька разглядел Петру Афанасьича. – Бесстыдница, при отце с парнями жмется.
– Ой-ой, – пугливо простонала Тайка и отпихнула парня от себя. – Поди, поди, Донюшка.
И побежала к избе.
– Ты чего, тятя? Я же с Нюркой Лампеишной прощалась, – доносился с крылечка ее смущенный и торопливый голос. – Ты чего меня на всю деревню славишь?
– Я тебе покажу Нюрку, слава Богу, еще не ослеп. Выдеру как сидорову козу, – пригрозил Петра и тяжелой ладонью огрел девку пониже спины.
– Ты чего дерессе-то?..
– Я тебе подерусь. Завтра еще поговорим.
Потом скрипнула дверь, сердито свалилась щеколда, и Донька остался один.
Глава вторая
Евстолья разрешилась легко. Плавала с Калиной за семгой, спускалась на карбасе вниз по реке. Мужик выбирал поплавь, а жонка едва шевелила весла мелкими гребками, только чтобы удержать лодку на стрежне. И когда пудовая семга, этакая колотуха, вывалилась из сетей на дощатый настил и упруго разогнулась хвостом, роняя серебристую чешую, Евстолья довольно засмеялась, даже отставила весло, чтобы потрогать черную прохладную спину; и не успел Калина усыпить семгу колотушкой, как она круто кинулась к борту, но угодила Евстолье в ноги. Баба от неожиданности ойкнула, свалилась на спину со скамейки, и тут разрешилась, растерянно взглядывая на Калину снизу.
Через три дня Евстолья уже вертелась по дому, а через неделю срядилась на сенную страду, и Калина удержать не мог ее.
Евстолья сходила к родителям, договорилась попадать вверх по Кумже вместе с Манькой: та шла за большуху, да вместе с ней Тайка и еще три бабы – захребетницы по найму. Поднимались вверх на двух карбасах, впрягшись в лямки, и теперь уже Донька шел по топкому берегу, проваливаясь по колена в коричневую болотину, поросшую жестким осотом и хвощом, и живым столбом висел над головой гнус. Плечи болели от лямки, но Доньке идти было весело, потому что на карбасе была Тайка, и он часто оборачивался, порой кричал что-то шумное и смеялся первым, а Тайка, отставляя шест, переспрашивала, и понарошку сердилась, и обещала поколотить парня...
Вставали перед солнцем, по свежей росе валили горбушами траву; Евстолья снималась, когда слышала плач сына, тетешкала его, бесстыдно оголяя грудь, которой бы свободно хватило выкормить двух парней, потом опять бралась за косу и шла жадно первым прокосом, валила траву саженями и не знала устали. А Донька не ведал, что с ним творится, он опал лицом, и глаза тревожно блестели, и он часто оглядывался, чувствуя на себе взгляд, и видел Тайку. Она отбивала полотно, звонко чикая оселком по гнутому лезвию, и ее глаза, как две птицы, выглядывали из белого гнезда. Девка хранила лицо от палящего солнца и сенной трухи и потому куталась в плат по самые брови, страдала от духоты, но терпела. На людях они заговаривали редко и колко, словно чужие, что Евстолье не нравилось, и она часто повторяла пасынку: «Хватит тебе собачиться, и чего не поделили?..» И оттого, что никто не знал об их счастье, ожидание встречи было пугливо-тревожным, а свидание – томительным и хмельным.
... Будто случайно они оказались в одном зароде, потом, смущенно оглядываясь, зарылись в сено, и так славно было им сидеть молча и слушать, как собственное сердце туманит голову. Да еще пахло кашками, корянкой и пучками; от этих запахов можно было совсем опьянеть, голова кружилась, и сенные паутины щекотали пятки и липли к потному лицу. Влюбленные ходили рядом с грехом, желали его и боялись: в сумерках было тревожно и маетно, а у Тайки руки до плеч голые, сарафанишко на колени сбился, и парень нет-нет да щекой до плеча тронет и ожгется, тронет и отпрянет, как конь от студеной воды.
Сумерки от сенной паутины желтые, похожи на ситцевую занавеску, и сквозь это прозрачное покрывало видно, как тянулись к огнищу бабы, сгорбленные и серые лицом; им сейчас уже ничего не желанно, а только бы упасть плашмя, закатив глаза, и даже сил не достает отмахнуть с лица комара, налитого студенистой кровью. Евстолья шла последней, тетешкала ребенка, что-то гулькала над ним; на ходу высвободила тяжелую титьку, похожую на ком белой глины, и, жамкая ее черной ладонью, сунула в рот сыну. Все это так хорошо было видно из тайного схорона, что Донька крякнул и смущенно отвернулся, опять нечаянно обжигаясь щекою о Тайкино плечо, и так застыл, боясь снова шевельнуться и нарушить томительное молчание. Они жили во власти дня, и словно бы боялись перейти ту границу, за которой все желанно и страшно.
– Тай-ка-а, – закричала обеспокоенно Манька.
– Небось по смородину лазает...
– Кака к лешему смородина на середке июля. Эй, Евстоха, парня своего не видала?
– Сказывал, по рыбу пошел, – равнодушно откликнулась Евстолья, занятая сыном, а Манька еще крутила головой, озирая темнеющие кусты, и обеспокоенно вздыхала: «Ку-да ее черт унес? Ну погоди, стерва, кобыла неезжена, я тебе мягко место выправлю...» Наконец лапти захлюпали по калтусинке – лесному болотцу, потом и бабьи головы в белых платах медленно сплыли под горушку.
Тайка испугалась сестриных угроз и вроде бы порывалась идти следом.
– Надо бы нагонить, – тихо сказала и будто случайно окунула теплую от волнения ладонь в рыжие Донькины волосы, и так замерла, едва шевеля пальцами.
– Угу, – эхом откликнулся парень, призакрыв глаза, и уже плотнее привалился к Тайке, ощущая ее горячий бок через нагретый ситец, потом отчаянно и понарошку зевнул, словно бы готовый уснуть.
– Ругатца будет, отцу скажет, – тоскливо повторила Тайка, и ее влажная ладонь скользнула по Донькиному лицу. Парень затих, сердце у него больно толкалось в ребра, и становилось нестерпимо душно.
– Угу, – эхом откликнулся Донька, и голос его задрожал.
– Доня?..
– Угу...
– Чего ты, как сыч, угу да угу. Где дак смелой. Экий ты...
– Угу, – снова повторил Донька, растерявший все слова, но тут словно что стронулось в душе иль горячка овладела, только стал он беспамятным, нервно рассмеялся и все повадки мужиковые родились. Опрокинул Тайку, от томления свело спину, хотелось плакать и бесконечно целовать, и он тыкался сухими губами неловко и больно, а девка замирала, ожидая самого страшного, и боялась себя потерять, потому часто дрожала и бормотала глухо и торопливо: «Ну буде, Донюшка, съешь ведь». Потом неожиданно вырвалась из тяжелых Донькиных рук, выкатилась на колкую отаву растерянная и немного злая, а говорила незнакомо и утомленно, как баба: «Робенок, ей-Богу, робенок. Всю обслюнявил, облизал...»
И Доньке стало неловко и стыдно от этих неожиданных слов, что-то необыкновенное в его душе споткнулось и замерло, и он мучительно покраснел и отвернулся, словно солнце ослепило глаза и было больно глядеть на белый свет. Потом они пошли к огнищу рядом друг с другом, готовые повздорить: Тайка еще пыталась заговорить, потом обиделась сразу, приготовилась зареветь слезно, не понимая, что случилось с Донькой, а парень, шаркая ногами по волглой отаве, медлил шаги – и неловкость рождалась в душе. Он казнил себя и мучился, что вот обидел Тайку, и уже не знал, за что обиделся сам.
– Тайка, – почти жалобно позвал он девку. И та, словно ожидала, когда позовет Донька, быстро обернулась. – Тая, пойдем со мной по вершу...
– Ты что, Донюшка, – откликнулась Тайка, – уж не по времени. Манька мне хорошу трепку задаст.
– Дак ты не маленька...
– Уж и не знаю... Не-не, Донюшка, сбегони один. А то как вместе-то придем, и страшно ведь.
Так и стояли они поодаль друг от друга. Тайка на пологом скате холмушки, тоненькая, вся в белом, облитая холодным лунным светом, и казалась призрачным видением: словно спохватится сейчас и тихо отшагнет в сторону и растворится в голубой вечерней траве, как легкий туман; и только едва-едва колыхнут тяжелые намокшие листы деревьев, печальный ветер родится над нагретой землей и длинно вздохнет, и тогда так больно станет душе и так одиноко, что захочется обиженно, по-детски плакать.
– Пойдем, Тая, – уже упорно настаивал Донька, душа его сжалась в суеверном испуге, и ему почудилось, вот уйдет девка, и тут обязательно случится злое, и им никогда уже не увидеться.
– Ну пойдем, чего тебе.
Что-то волнующее и особенно близкое услышала Тайка в Донькином голосе, потому что не стала больше упрямиться, и они побежали к реке, как два любящих зверя, сшибая ногами росу. Подол у сарафана намок и вязал Тайке колени, потому она бежала неуклюже, путалась в траве, и Донька почти волочил ее за руку, слыша ее прерывистое дыхание; порой они проваливались в травянистые луговые норы и охали радостно.
Потом Донька смотрел вершу, свитую из ивовых прутьев, а девка сидела на берегу, полная любви, и, чувствуя ее взгляд, он быстро оборачивался и открыто, по-мальчишечьи улыбался, горделиво потряхивая рыбиной, уцепив за жабры, а потом липкие от чешуи и слизи руки вытирал о порты, и в этом движении опять было что-то детское, и Тайка, замирая вся, думала: «Осподи, робенок, чистый робенок. Беда мне с ним». И ей захотелось по-матерински пожурить парня, мол, что ты делаешь да как можно о порты руки вытирать, все засалил, но она вовремя спохватилась и только радостно и тонко рассмеялась.
– Ты чего, Тая? – смущенно окликнул Донька.
– Да так, ничего...
Река налилась белым серебром, тайга почернела, надвинулась и стала совсем рядом, слышалось ее прерывистое мокрое дыхание; на плесе кидалась рыба, и от ее всплесков шли светлые круги, над головой упрямо ныли комары, ошалело толклись в лицо. Но Тайка будто не замечала их, машинально отмахивалась, глядела на низкую большую луну, похожую на круглое оконце в огромной пустынной стене, закрытое легкой желтой занавесью. Там шевелились две синие тени, словно у окна стояли он и она, что-то шептали друг другу томительное, едва касаясь кончиков пальцев, и от их дыхания едва вздымался легкий занавес.
– Донька, иди, ну, хватит...
– Ужо ты погоди.
– Донь, ты видишь, на луне-то я да ты. Взаболь мы, и ты меня за руку держишь.
– Окстись, Тая, че говоришь. Ты знаешь, кто там?
– Мы там, Донюшка, мы.
– Каин там, мне батя сказывал... Ну идем, поздно уже, – перебил себя Донька и потянул Тайку за руку.
– Не-не, на луне живут, кто любит.
– А я говорю – Каин. Он было Авеля убил, и это месяц уследил и пожаловался солнцу. А Каин-то узнал, что его проследили, решил отомстить, полез наверх с ведром смолы, да месяц и вымазал... А был ведь как солнце, а может, и пуще светил. Ну месяц-то и рассердился, что его так высмолили, подхватил Каина и с собой в небеса утащил. С той поры Каин там и стоит с помазом да ведром смолы. Ты погляди пуще... Вон кисть, ведро смолы, а ноги-то на расширь. Барахтался, не иначе. А солнце после этого раздружилось с месяцем, разбежались они по разным сторонам и стали дежурить в разное время: солнце по дням, а месяц – ночами только.
– А почему разбежались-то? Это нехорошо, Донюшка, правда? Значит, не по дружбе жили. Смоль не пондравилась, гли-ко...
– Загордилось, вот и разбежались.
– Да-а, любил бы, дак отмыл. И ты небось тоже сбежишь, как набалуесся?
– Угу...
– Я тогда пообижусь. Не... я с тобой чего ли поделаю.
– Ну што ты, голубица моя, – осторожно привлек Тайку к себе, прислонился лицом к волосам, от них тонко пахло речной свежестью. Сразу запершило в горле от нежности. – Ну што ты, Таюшка. Кабы знала, ой как люба мне... Кабы знала. Не откажешь, коли сватов на Покров пошлю?
– Ой, Донюшка! Да как же я откажу... Я во сне-то каждый Божий день тебя вижу.
Они неожиданно вышли к костру, в светлое пламя его, и бабы разом повернули навстречу головы. Манька поднялась, шагнула навстречу, видно, хотела сказать что-то нехорошее, потому что тонкие губы ее зло дрожали, но споткнулась о Донькины потемневшие глаза и молча ушла в полог.
Вернулись с покосов, Манька нажаловалась отцу, выдала меньшую сестру. Петра Афанасьич пожевал губами, но кричать не стал, совсем редко повышал он нынче голос.
– А ты куда смотрела? Не могла поближе держаться? – спросил тускло и сразу махнул рукой, когда заметил, что Манька собралась возразить что-то. – Ну ладно, поди-поди, чего уж, прозевала, дак.
Так сказал Петра Афанасьич и своих истинных намерений не выдал. И с Тайкой об ухажере не заговаривал: зачем дразнить девку раньше времени и повод давать для мыслей. Нашлет Тиун сватов, за Тимоху пойдет Тайка и перечить не будет, а пока пусть покрутит, в этом ничего зазорного нет, только и пожить беспечально молодой девке, пока в родительском доме. Лишь бы в подоле не принесла. И когда убегала девка на вечеринки, иногда намекал, придерживая за подол сарафана:
– Ты, Тайка, смотри аккуратнее будь...
– Да вы што, батюшка?
– Я-то ничего. Мы люди истинной веры, на это дело не особо строги, но и не попускай себя больно. Ведь все бабы из девок.
– Да не думаете ли...
– Тебе думать-то, тебе. Я только говорю, смотри поаккуратнее следи за собой. Распечататься-то долго ли.
– Да с чего вы взяли, осподи, будто я...
– А на шее-то чьи губы остались?
... От Петры Афанасьича Тайке не скрыться, словно в воду глядел мужик. Вчера Донька целовал, и снова страшно стало Тайке, что не устоять ей от соблазна: забрались в баньку, подальше от чужих глаз, миловались, а потом едва опомнилась, вырвалась в худых душах и долго приходила в себя на угоре, чувствуя за собой смущенное покашливание Доньки.
– Донюшка, больше не надо так, – сказала глухо, не поднимая глаз.
– Чего не надо-то? – повышая голос, спросил парень, скрывая свою растерянность. Ему хотелось домой, и он не знал сейчас, любит ли Тайку: глухое безразличие владело им, похожее на злость.
– Я прошу, не надо. Вот поженимся, дак. Немного уж осталось.
– Не любишь ты меня, – раздраженно сказал Донька, ему захотелось, чтобы девка заплакала сейчас, чтобы ей было больно и она мучительно страдала. И потому упрямо порывался встать и уйти, но не уходил, мучился в темноте.
– Донюшка, осподи, я ли не люблю тебя. Но грех-то какой...
– Любила бы, дак не така и была, – грубо откликнулся Донька, и собственный голос показался ему противным.
– Ну кака така-то, Донюшка? Ты договаривай, – взмолилась Тайка, не понимая, что такое находит на парня, когда он становится совсем чужим, а голос – сухим и нехорошим. Готовая заплакать, она еще пробовала погладить парня по голове, но Донька увернулся и стал в стороне, едва различимый в августовской темноте.
– Я ли тебя не люблю. Я по тебе с ума сошла, если хошь знать, когда ты еще в Рождество в горенку к нам заскочил, вот. И что я в тебе, рыжем, нашла? Мучишь меня только...
– Ну ладно, пошел я.
– Ну поди, поди совсем. Не любишь ты меня, вот, – горько всхлипнула Тайка и побежала угором к дому, и слышно было, как вылетали из-под кожаных выступок мелкие камешки и, шурша, скатывались с угора. И тут Доньку словно перевернуло всего, он бросился следом, догнал Тайку, остановил за плечи, чувствуя в ладонях их знобкую дрожь, и словно против воли погладил Тайку по влажным волосам. Тут волна нежности и тепла поднялась в его душе, и, снова внезапно хмелея от тонкого запаха девичьего тела и влажных волос, Донька впился губами в шею, и Тайка вскрикнула от боли. Потом они еще долго стояли около избы, но расстались молча и грустно, и Тайка долго плакала в горенке и металась в постели. Ночью пошел дождь, он лил нудно и долго, ветер пробивался меж косяков, нанося сырость. Осень вошла в горенку и поселилась в душе. Утром Тайка встала с кругами под глазами, Петра Афанасьич сразу усмотрел перемену в дочери и, даже на время забыв свои торговые дела, решил вмешаться в эту любовь.
На той же неделе забегали по Дорогой Горе десятские, зазывали – заколачивали мужиков на мировой сход: надо было от четырех околотков выбрать рекрутов на военную службу. Обычно галдеж тут был, доходило и до мордобоя, и старосте перепадало кулаком, а после задира винился, ставил ведро водки, обиду запивали вином и тут же мирились. Рекрутиться никому не хотелось, да и мужики из последних сил упирались, чтобы только парня своего не отдать на воинскую повинность: ведь с работником нужно распрощаться надолго, может, и навсегда, а если и придет отставник, то уже усталый и отвыкший от земли, от крестьянской работы, забытый семьей и женой, много пьет и дебоширит. Обычно выбирали навалухой, всем скопом наваливались на того, кто победнее, сулили ему деньгами помочь и хлебом, золотые горы обещали, чтобы только отправил сосед своего сына в солдаты; а как только отгуляли-отпьянствовали новобранцы свое, пошалили на деревне и их увозят в Мезень, тут сразу и забыли о своих обещаниях и тайком ухмылялись, радые, что надули соседа и сына своего спасли. Староверы, те оборонялись своей общиной, они друг за друга стояли горой, ибо служить в армии они считали богопротивным делом, сразу собирали триста рублей и откупали в уездной канцелярии белый билет.
Еще накануне, перед сходкой, обошел Петра Афанасьич самых рьяных горлопанов, кому обещал с хлебом помочь, кому снасть новую справить. Перед каяфом ломили шапки и звали хозяином, а он долго крестил лоб, порой становился на колени, клонясь головой до самого пола, и тогда святое благочестие жило в его лице. Засиживался Петра недолго, говорили о самых пустяковых вещах, потом будто между прочим разговор переходил на завтрашнюю сходку, и сразу прикидывали, кому нынче идти в рекруты, и разводили руками, печаля лицо: «Куда денесся, надо верой-правдой, надо послужить царю-батюшке». И когда перебирали в уме избы в верхнем околотке, то не забывали и Калину Богошкова, у которого нынче два сына, один – от молодой жены, еще совсем малой, тому не рекрутиться, а вот старшему – двадцатый год с лета пошел. И тут Петра Афанасьич делал постное лицо и замечал, вспоминая Бога при каждом слове, что все мы живем на миру и миру служить обязаны животом своим, и жаль, конечно, до слез жаль, что у зятелка такой прилежный парень вырос, но и, кроме него, пожалуй, больше некому рекрутиться в верхнем околотке, и если угодно будет Богу и деревня заявит Доньку Богошкова на службу, то он, Петра Афанасьич, хотя и родственник, но завтра возражать не будет.
И на мировом сходе горланы знали, кого кричать. Калина Богошков еще пробовал вразумлять сельчан, но куда-то весь давний почет и уважение к нему подевались, словно другие люди толпились в избе, а не те, кого он не раз водил на морской промысел. Его слушали с чужими лицами, почти зло, и каждый в душе боялся, что вдруг мужику повезет и он выкрутится, освободит сына от службы, стоит только одно защитное слово сказать тестю, и тогда кому-то другому придется страдать. Мужики невольно взглядывали в красный угол, где первым на лавке сидел каяф Чикин, но тот молчал, и это придавало мужикам смелости и желчного раздражения. Какая-то ненависть овладела толпой, Калину не слушали и заставили замолчать, а когда писарь занес Доньку Богошкова в рекруты от верхнего околотка, сразу облегченно вздохнули уже с веселыми лицами, стыдясь в душе недавней злобы. И, обгоняя на улице Калину Богошкова, мяли в руке шапку, виноватясь, забыв недавнюю ненависть, и от души жалели печищанина: «Вот ведь беда-то, Калина Иванович, догнала. Вы уж на нас сердца не держите, судьба, знать, куда от нее».
Но Калина отходил молча, и, глядя в его сутулую спину, вспоминали Чикина, его холодные глаза и добавляли: «Не, он так не оставит, ну куда против пойдешь. Голову-то пониже бы держал, дак и не сронил бы...»
А за вечерней вытью Петра Афанасьич, весело поглядывая на дочь, собравшуюся на посиделки, объявил вдруг: «Поди, попрощайся, доченька, с миленком-то, ему в солдаты нынче иттить», – и облегченно вздохнул.
Дома Калина Богошков сказал сыну:
– Тебя в солдаты берут.
Донька опешил, но, скрывая растерянность за тусклой улыбкой и еще не придавая нужного значения отцовым словам, откликнулся:
– Ну и порато хорошо, на даровые хлеба хоть.
– Дурак...
– Какой уж есть.
Спохватился, натянул кафтан – и долой из дома, на угор, где должна ждать Тайка. А Калина долго сидел на лавке, растопырив колени, совсем седой и сгорбленный, борода уже не курчавилась, как, бывало, в молодости, а текла ровно, просвечивая на груди. «Единого сына забрали», – думал тоскливо, и дальше этого мысль не шла, словно застряла в голове деревянная спица и торчит там, покалывая и разжигая тоску. «Единого сына забрали. Во как», – шептал Калина и тупо смотрел, как бродит по избе Евстолья, еще больше раздобревшая и сразу расцветшая после родов. Он следил за бабой и почему-то ненавидел ее, вспоминая сразу, что она из того проклятого чикинского рода, с которым странно связалась судьба Богошковых; и этому толстому глоту зачем-то понадобилось именно Калину подсечь под самый корень, отнять у него большее, чем руки иль ноги, а саму душу, вернее, жизнь. Последние годы Калина как-то сторонился сына, особенно после свадьбы, но, редко заговаривая с Донькой, постоянно наблюдал за ним и радовался, что у него вымахал такой мастеровой, такой красивый парень. Вот скоро бабу приведет в дом, а там поспеют внуки, ведь он, Калина, еще не стар, еще дождется внуков, а может, и правнуков, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить только: они будут тоже с голубыми глазами, как у Доньки, а вернее, как у желтоволосой Тины, и значит, покойная жонка будет постоянно жить здесь неслышно до самого последнего часа Калины Богошкова, и, закрывая смертные усталые веки, он еще приласкает взглядом внучатовые головы и в хлебной спелости волос и в сухих голубоглазых лицах разглядит продолжение себя и успокоится сразу, унося в памяти их светлые отражения. Тогда и помирать будет куда легче, и вроде бы и не помирать даже, а просто засыпать, ложиться на долгий-долгий отдых, чтобы дать покой изработанному, безгрудому телу.
И вот у Калины внезапно отбирали его надежды, и он поначалу растерялся... На даровые хлеба хоть. Дурачина... Там тебе покажут даровые хлеба, дак волком взвоешь. Все выжмут, вытопчут, и благодари Господа, чтобы вернулся в дом живым. А то еще придется насидеться у порога калекой, а отца-батюшки уж на свете не будет, и никто тебе глотка воды не подаст без попрека, горбушки хлеба без ругани, и, устав брать из руки, запьешь горькую и пойдешь по деревне собирать Христа ради, и где-нибудь падешь на тайбольской дороге, да там и стопчут встречным конем иль приморозит в осенней луже, и схоронят тебя без креста-покаяния. Даровые хлеба... Дурак. В потолок вымахал, а ума не нажил.
Тут заплакал в зыбке Сенька, заревел густо, раскидывая окутки.
– Потетешкай, заревелся ведь, – крикнул Евстолье.
– Мог бы и не кричать, не глухая, бат...
– Вы все не глухие, а ребенок хоть задавись, – чуть руку не поднял на бабу, но сдержался, повалился на место, незряче вгляделся в потолок.
– Может, еще обойдется? – робко подсказала Евстолья, сына закатила мужику на грудь, стараясь успокоить Калину. – Подергай, сынушка, татку за бороду. Вот сколь длинна, скоро заместо веника сойдет.
– Отстань, не приставай. Не береди парня, опять всю ночь спать не будет.
Но Евстолья не отступала:
– Может, откупимся?
– Купило не выросло...
– Сколько ли я дам. У меня в загашнике есть приданые, – привязалась Евстолья, готовая расстелиться перед мужем, чтобы был светел лицом и спокоен. – Татушке паду в колени, попрошу.
– Глупа, ума Бог не дал, – зло закричал Калина. – Иди-иди отсюдова. У татушки выпрошу, – закривлялся, поднимаясь с кровати. – Я его видеть не хочу, я бы о его жирную морду ж... свою вытер, – зло вопил Калина, брызгал слюной, казалось, сейчас вскочит, свалит Евстолью на пол и начнет лупить до синяков, а потом выкинет вон.
– Чего ты меня-а? – заплакала Евстолья. – Я как лучше для него, а он все собакой. Закоим женился, если рыжую покоенку забыть не можешь?
– Загунь, Евстолья, – тихо, бледнея лицом, сказал Калина и натянулся, как струна.
И этого дрожащего голоса, больше чем крика, испугалась баба, сразу подхватила ребенка, убежала к зыбке, там заныла, запела сквозь слезы: «Житье мое, житье, житье горькое, житье, ты житье мое беда, муж старик, я молода. Ему надобны полати, мне охота бы гуляти, погулять бы с молодым, не со старым, со седым...»
Калина снова лег на место[45] , чувствуя, как дрожит все его тело: давно не случалось с ним такое. Постепенно неистовый гнев отпускал душу, вспомнил о Евстолье, мельком подумал, уже казня себя, что зря все-таки взъелся на бабу, тут ее вины нет, – и потому смущённо закашлялся, повернулся лицом к жене, разглядывая ее в подвижных сумерках. Будто сквозь воду дошла до его сознания песня, показалось вдруг смешно, как со слезами выпевает жена, и невольно улыбнулся. Остывая, перебил Евстолью:
– Не то, жонка молодая, поешь. Ты лучше эдак: жена мужа любила, в тюрьме место купила, дорого дала. Она мужа извела: уж ты муж-муженек, вот те вечный уголок. Того больше не имею. Одну ручку протяни, меня младую вспомяни.
И опять помирились. Тем и хороша Евстолья, что отходчива, зла не таит, не в батюшку Петра Афанасьича натурой. Быстро уснула, а Калина, запрокинув руки под голову, долго и смутно думал, как вызволить сына от рекрутчины... Билет в земской канцелярии стоит триста рублей серебром, тут уж ни убавить, ни прибавить, ни копейки не скосят. Ну, рублей сто разве наскребу в загашнике. Сколько денег бывало, а все как-то тряс не по делу, такое бы знатье, дак ни одной копейки зря на сторону не пустил. Но где подзанять, где выкрутиться? К Петре и думать не моги, не-е, век потом себе не простишь, Калина Иванович, до самой смерти... Вот зверя выкормили всей деревней. Бывало, кукушку живьем съел: с перьем-то, говорит, куда сытнее, да и возиться не надо, чистить да жарить там, а за полчаса-то, говорит, столько делов наворочу, ой-ой, сколько сена в зарод скидаю. Смеялись, глотом звали, за человека-то никто не считал, а нынче всю деревню сожрал, а порато притворяется: больней я, все-то болит. А кишки на кулак мотать у людей, тут он не больней – мотает да еще потягивает, чтобы злее было, а мужики только кряхтят да стонут, но землю лизать готовы, как куском-то поманит... Куда бы мы без вас, Петра Афанасьич, благодетель наш, совсем бы мы с голоду пропали, по миру пошли... За кусок-то хлеба, осподи, родителя готовы под монастырь подвести. Ну и хорошо, пускай едет на горбе да еще понюгает, а ты пятки-то обними, чтобы крепче сидел, не свалился, упаси Боже, живот не стряхнул, Христа пой да по-собачьи ему пятки лижи, вот сладко-то будет, уж так сладко. А глот красно говорит и сулит много: мастер он обещать, он распишет, когда в работу берет – рай обещает. Да ну его, ей-Богу, привязался, тьфу-тьфу...
Тут хлопнула дверь, пламя сальничка вздрогнуло, в туманном свете появился Донька, быстро сбросил кафтан на лавку, полез на полати, мимоходом задул на засторонке светильник.
Стало непроглядно черно, и в глазах у Калины родились цветные круги. Он еще долго маялся, толкал локтем Евстолью, когда она всхрапывала, слушал, как ворочается на полатях сын и протяжно скрипят под его тяжелым телом доски. Захотелось встать, перебраться к Доньке на полати, в теплую пыльную темь, и молча полежать рядом. И Калине уже снилось, как ощупью крадется он темной избой, спотыкается о лохань, потом окликает сына: «Доня, Донюшка, где-ко ты», – а с приступка вдруг спрыгивает тощий черный кот и трется о босые ноги, и зеленые глаза горят бесовским светом. И вдруг оказалось, что не изба это, а длинный каменистый угор, и сын стоит на самом верху, еще маленький, в длинной до пят холщовой рубахе, похожей на смертную, в которой в гроб кладут, и, раздирая пальцы, Калина будто бы ползет снизу от реки вверх до красной осыпи, а ноги оскальзывают, и руки больно кровоточат, и он срывается с откоса и летит в пустоту...
А утром, когда Донька ушел на поветь шить лодку, Калина спросил вдруг у Евстольи:
– А откуда он эстолько денег возьмет?
И жена поняла с полуслова, о чем идет речь, сразу заторопилась, глотая воздух:
– Да ты только в ножки пади, Калинушка. Гордыню смири разок хоть, за-ради сына нашего, неужли не поступишься, не склонишь голову и отдашь Донюшку в неволю, на чужую сторону. А нет, дак я сама побегу, травой шелковой лягу, вехтем паду, чтобы ноги об меня вытер...
– Ну хватит, хватит, вот распелась.
Однако кафтан накинул на плечи, бормотнул вроде того, что пойду погоду погляжу, какова, да надо бы карбас из воды доставать, как бы не заморозить, и ушел крыльцом, чтобы не видеть на повети тоскующие глаза сына.
Петра Афанасьича увидал на заулке и почему-то обрадовался, что увидел именно на улице и не надо заходить в избу и еще от порога говорить какие-то приветные слова. Подошел к сосновым заворам, облокотился на жердину, молча смотрел, как Петра выводит по двору вороного жеребца, пока Чикин не заметил зятя.
– Чего там-то пристыл, заходи, Калина Иванович, не чужой, бат, – весело пригласил Петра, словно и не было вчерашней сходки. – Ты все стороной нас обходишь, стороной.
– Да не, зря это, – неловко возразил Калина, а на душе у него было сумрачно и тяжело, и, чтобы не тянуть волынку, он сухо досказал: – Дело у меня. Вино после будем пить.
Петра внимательней глянул на зятя, на коричневые мешки под глазами, на плоские щеки в сухих морщинах, сразу понял, зачем навестил его Калина, и душою возрадовался, уже зная, что откажет гостю в его просьбе. Но вида не выказал, а наоборот, веселье согнал с лица.
– Ежели дело, дак не во дворе и решать...
– Ничего, мы не баре, – грубо оборвал Калина, начисто забыв все наставления жены быть помягче голосом и приветливей лицом, а при нужде и в ноги пасть.
– Ты ведь слыхал, что сына моего рекрутят.
– Да как не слыхал-то, зятелко. Мир решил, миру виднее. Все под Богом, все под Богом, осподи, – обмахнул лоб истинным крестом, повернувшись лицом на восток.
– Мне бы денег, Петра...
– Ну что ты, какие у меня деньги. Рублишко-другой разве.
– Мне бы денег, Петра, – тупо повторил Калина, вглядываясь в безбровое лицо, похожее на кусок сырого мяса.
– Нынче все плохо. И купезы за хлеб дикие деньги содрали. Догола раздели, паразиты. Тут уж на глупого удача...
– Дак чего, это так, – как бы со стороны услышал Калина свой покорный глухой голос и удивился ему, потом сонно повернулся и пошел прочь.
– Ты не обидься...
– Да не-не...
Петра глядел в спину зятя, провожая его до угла глазами, и внезапно подумал, что где-то он проворонил, недокрутил безволосой своей головой, и с досады даже ударил себя по лбу, привязал жеребца к ограде и поспешил следом, надеясь догнать Калину на угоре.
– Погоди, эй, Калина Иванович, – закричал Петра, утеряв всю степенность. Богошков остановился, молча подождал тестя. – До завтрева подожди ты. Может, у кого ли перехвачу.
Калина покорно пожал плечами, так же молча повернулся и, загребая ногами, пошел прочь, прямо по осенним лужам, хрупающим молодым ледком, кафтан сбился и неловко висел на одном плече, как перебитое крыло, и только этого одного сиротского вида хватило бы Петре Афанасьичу, чтобы возрадоваться душой и еще раз подняться над людьми. Но он не глядел вослед, а тоже торопливо поспешил в дом, шевеля губами, собрав их в белую щепоть, и что-то считал, прикидывал в уме, а может, и убеждал себя...
Тайку он нашел в горенке. Девка мыла полы, подоткнув за пояс юбки, и когда испуганно распрямилась и смахнула тыльной стороной опавшие на лоб волосы, Петра, заглядевшись на лицо, словно впервые заметил, как заневестилась его дочь, и даже засмущался, хмыкнул в нос, стараясь не видеть свободно дышащую грудь в просторном вырезе рубахи. И Тайка, поймав этот взгляд, покраснела, спросила неловко:
– Ну, чего тебе. Помыть-то не дашь...
Сказала грубо, как давнему приятелю иль брату, и Петра заметил про себя, что дочь впервые так разговаривает с ним, но сердиться и указывать не стал, сделал вид, что не заметил вольности, и показал на лавку подле себя:
– Тайка, ты отцу своему добра хошь?
– Ага, – тупо согласилась девка, еще не понимая, к чему ведет отец.
– А Доньке своему тоже добра хошь?
– Ой, татушка, благослови нас. – Зашлось сердце от радости, и девка готова пасть на колени.
– Добра-то, говорю, хошь? – досадливо повторил Петра Афанасьич, не зная, как выбраться на прямую дорогу.
– Ага...
– Так откажи ему нынче ж... Триста рублей с кровью отдаю... Выкуплю его из лекрутов, а вас обкрадываю, видит Бог, но как не помочь ближнему. Но если обманешь иль что затеешь, как загнивший палец отрублю напрочь. Больно будет, но отсеку. Не крути со мной, ой, девка, не крути.
– Да-да, татушка, – покорно соглашалась Тайка.
– Обманешь или надумаешь самоходкой уйти, деньги в сей миг стребую, по миру пущу Богошковых. – И заговорил ласковым шепотом, оглаживая узкие Тайкины плечи: – Ты подумай, доченька, получше. Ведь в том дому и сестра твоя единокровная живет. Неужели ее оставишь в горе и пустишь по миру, и любовь твоя тогда омрачится злом. Осподи, направь дочь твою Таисию на добро да пусть правда и вера твои дойдут до заблудшего сердца и ублажат его... Нынче же скажешь свое слово.
– Да-да, татушка.
– Я ведь вам всем добра хочу, осподи.
– Да-да, татушка.
Дождь лил сиротский, обложной, тихо скребся в стены, и оттого на сердце становилось еще горше. Стекла на окончинах затемнились, – значит, на улице поздний вечер, а Тайка никак не могла решиться выйти на угор, где за чикинским амбаром мокнул, поджидая ее, Донька. Девка тупо глядела в противоположную стену мокрыми глазами, и по опухшему лицу тихо и безвольно ползли слезы. Тайка глотала их, порой размазывала грязной ладонью, а слезы все не кончались. Порой Тайка вскакивала, словно собиралась убежать из дому навсегда, спешно выкидывала на пол свою лопатину из сундука, потом обратно укладывала сарафаны и юбки, и тогда горькие рыданья сотрясали ее тело.
«... Донюшка, родненький мой, как же так, – бессвязно думала Тайка. – Почему же так. Любый ты мой, сбежим куда ли, сбежим, и все, а кто нас в тайболе добудет, да ни одна собака не сыщет в глухомани, будем жить как взаперти, и чего еще нам надо, лишь бы двоим быть... Нет-нет, а ну как догонят, изловят, закуют тогда Донюшку в колодки, поведут, как рестанта-разбойника, по Дорогой Горе на позору, на посмеяние, упехают в дальние земли – и больше никогда, ни-ког-да... не увидеть его. А как ослушаюсь татушки мово, грех-то какой, осподи, до конца лет моих нам счастливо не живать, да и олекрутят тебя, оденут в солдатскую шинельку, и где ли найдет тебя чужая пуля, и никто знать тогда не будет; а мне-то сладше разве станет, коли тебя изувечат, а ты звать меня станешь и не дозовешься и тут погибнешь, и дождями тебя замоет, снегами белыми засыплет, вороны выклюют глазоньки ясные, волки серые, беспутные растащат тебя по кустышкам. А я поседею, ожидамши тебя, посивею, руки посохнут, стану такая горбатенька, будто бабушка Соломонея, а после и с ума посхожу и, как Павлушка Шумова, буду ходить под окнами, безумно выспрашивать: „Не видали где ли моего Донюшку?“
Не хочу зла тебе, любый мой, видит Бог, не хо-чу-у, лучше пускай я в старых девушках век свой проживу да издали на тебя, на твое счастие поглядывать буду украдкой, чем своима руками в могилке тебя закопать. Осподи, знать, не судьба нам двоима быть, друг друга приласкивать. Одна мне дорога – в омут головой, где баба Васеня потонула; ба-буш-ка, и пошто ты внучку свою любимую осиротила, нету тебя рядышком, некому сказать слова любезного, сердечного...»
И вдруг Тайка встрепенулась, накинула кафтан, побежала вниз по лесенке, словно кто гнался за нею сердитый; гремя выступками, выскочила на крыльцо, а темь – хоть глаза выколи, и дождь холодно брызнул по лицу, смешался со слезами, привел девку в себя... Осподи, как я раньше-то не подумала. Донюшка, где-ко ты? Ничего ему не скажу, вроде ничего и не случилось, а то парень порато горячий, вспыхнет, побежит к нам в избу да натворит чего ли. Ой, лишь бы Доню на глазах оставить, чтобы знать, что он тут, рядышком, а там-то, до Рождества Христова, я еще уговорю батюшку, не может такого быть, чтобы любимую дочь не пожалел. На колени паду, слезами умоюсь, а выпрошу милость, пусть с Донюшкой не разлучает. Ведь не зверь какой, сам баял, что добра мне хочет, а про Тимоху так, пустое вел, чтобы меня испытать, а я не-е... Как я сразу-то не подумала, ой, девка, глупа, не нами сказано, у бабы ума с куриное яйцо. Чего-то слезы лила, всяких глупостей надумала, парня живьем хоронила, всего заморозила, сейчас небось фушкает за амбаром, недовольничает и в глаза сразу не глянет, не приголубит.
Доньку она едва разглядела, он стоял, прижавшись к бревенчатой стене, и лицо смутно отсвечивало, будто чужое.
– Ну, чего ты? – спросил недовольно и сразу отвернулся и замолчал.
А Тайка, чтобы не выдать слез своих, не ответила, прижалась к Донькиной груди, просунув ладони к нему за пазуху, и сразу услышала, как тяжело и беспокойно бьется его сердце. А внизу, под горой, шумела река, дождь усилился, пробивал насквозь, грусть съедала Тайку, и она уже боялась за себя, что если задержится еще, не уйти ей будет домой.
– Доня, я на минутку. Отец-то денег добыл?
– Не-ка, – буркнул Донька, и девка поняла сразу, что прошла у парня обида. Подумала тайно: ну и хорошо, ну и слава Богу, не навек прощаемся, сейчас самое время убежать, чтобы разговор не тянуть, а тогда будет не скрыться ей, все выскажет, не утаит. Заторопилась, дрожа вся, потянулась к Доньке, обхватила за мокрую шею, сухой нитки на парне нет, поцеловала протяжно, прикусив губу до крови, чтобы память была, словно в последний раз виделись.
– Ну, мне некогда, – крикнула сквозь слезы и прямо по лужам побежала в дом.
– Тая, Таиса, – запоздало позвал Донька.
Но она не остановилась, не дождалась парня, а быстро залетела на крыльцо, словно гнался за нею злодей, захлопнула дверь на щеколду, еще стояла по ту сторону, прижавшись лицом к стене, и плакала, плакала.
И когда в горенку поднялся отец, Тайка так и лежала на постели в мокром сарафане и даже не шевельнулась, когда Петра присел рядом, глубоко продавив место.
– Сказала? – только и спросил.
Тайка молча кивнула головой.
– Ну и хорошо, ну и ладно. Завтра деньги сполна получит Калина, ста три рублей, – мягко говорил Петра Афанасьич, радуясь удаче и скрывая ее. – Может, теперь наконец к нам породственнее будет. А то все волчится, ей-Богу. А я всем только добра хочу, чтобы все по-хорошему было, по-людски. И тебя не неволю, не-е... А мог бы приказом, я ли тебе не отец, а по-доброму нать. Вот и хорошо, уж как хорошо-то. Ангеле мой, хранитель мой, сохрани душу мою, скрепи сердце мое.
– Та-туш-ка, – вдруг завыла Тайка, упала отцу в колени, плечи ее тряслись.
– Ну буде, буде, Бог с тобой, дитя мое. Все образуется...
А наутро Калина Богошков получил деньги и, глядя в участливые Петрины глаза, понял вдруг, как прочно, а может и до самой смерти, связал он себя с этим непонятным человеком.
Глава третья
Рекруты кутили, деревню перевернули вверх дном, им нынче все вольности положены: они ходили из дома в дом, им подавали деньгами и вином, потом срядили мирские подводы, и парней отвезли в Мезень. Павла Шумова, наткнувшись на гульбище, сначала бестолково и раздраженно глядела в красные хмельные лица парней, и вдруг в туманной голове родилась сначала крохотная беспокойная мысль, которая вскоре разрослась, полонила смятенное сознание и стала единственной. Теперь Павла думала, что и ее Яшеньку поставили под красную шапку, небось где дорогой захватили, увезли тайком, забрили лоб, и ее сынок страдает в серой казенной шинельке, под саблями, под пулями и весточки домой не может дать.
И што это не царь-батюшка такое сотворил, а устроили слуги неверные, без его умысла. И Павла, бестолково обряжаясь по хозяйству, уже видела себя в большой светлой горнице, а кругом иконы в серебряных окладах, много горящих свеч в золотых подсвечниках (вот денег-то где не жалеют, зряшно палят, попусту); кто-то радостно пел, отчего замирало сердце (наверное, в другой горенке пели, может, и сама матушка-государыня); а посреди горницы на высоком примосте, крытом бархатом, золотое кресло, и в нем государь, лучезарный, сравнимый только с батюшкой-солнышком; кудерышки-то русые разобраны волосок к волоску, и в голубых глазах такой Божественный свет, что слезы заполнили Павлу, и она как дура (вот нашла время) заревела, глотая слезы, и поползла к примосту, как червь поганый. И вдруг услыхала смиренный, усталый голос: «Встань, сестра моя», – и сквозь влажный туман увидела, как ворохнулся государь и показал на место подле себя, и Павла робко притулилась сбоку, порой нечаянно касаясь парчи и бархата, и пугалась, а от государя наносило чем-то Божественным, вроде бы малиной ягодой иль смородой. И вдруг у них на коленях оказался золотой поднос со всякими нездешними плодами, и Павла неловко откусывала, боясь показать корявые ладони с черными твердыми ногтями, и вскоре от нездешних плодов набило во рту оскомину (то ли дело щуки кислой помакать, любо-дорого), и баба не знала, как поступить: то ли в карман огрызок сунуть украдкой, но еще подумает государь-батюшка, что она воровка, то ли обратно на поднос положить, но опять же неудобно, словно брезгует она царским угощением...
И не успела Павла спросить у царя о Яшеньке, как перебил ее Клавдя:
– Эй, глупа, скоро ли ись-то?
Очнулась баба, трески отварной наклала в чашку, сунула сыну под нос, а сама улыбалась и что-то соображала туманной головой.
– Ты поживи денек-от один, – попросила Павла, собирая узелок. Положила туда соли щепотку да краюхи житние, что вчера Христа ради выпросила, ложку деревянную, баскую.
– Далеко ли с хлебами-то собралась?
– К царю-батюшке, сынок...
– От глупа-то...
– Об Яшеньке все выспрошу, уж кому и знать, коли не ему. На вышине сидит. Добегу, а вечор и обрат.
– От глупа-то, он, бат, воно где сидит...
– Я скорехонько, – не слушала Павла сына. Накинула обтерханную шубейку с обгрызенным собаками подолом, белый холщовый плат повязала на голову; поверх его – черный в горошек, тот уже натуго затянула под костистым подбородком; еще один кашемировый с кистями, сложила вдвое; да покрылась набойчатым пестрядинным с цветной каймой; а под конец укуталась по самые глаза шерстяной шалью и длинные концы ее стянула узлом на спине. Теперь хоть в ухо кричи – не услышит. Прихватила батожок, потопталась у порога. Клавдя уже подчистил рыбу, сейчас лениво поглядывал на мать сорочьими глазами; вот дурная, опять в десять платов упряталась, и лошади не услышит, как стопчут старую.
– Ты плохих-то кусков не бери, – наставлял он, думая, что мать побираться пошла. – Деньгами проси, с гроша-то не обеднеют, глоты.
– Спрошу, спрошу у царя-батюшки, – качала головой Павла.
– У, глупа, – досадливо огрызнулся Клавдя и отвернулся к окончине, крытой бычьим пузырем, сквозь который тускло сочился грязный свет.
– Долго задержусь, дак поешь, Клавдеюшко, не голодай, – мягко и смиренно добавила Павла.
Она не пошла деревней, а сразу водоносной тропинкой спустилась под гору и бойко направилась вдоль реки и радовалась тихо, что мудро поступила, миновав стороной людные улицы, а то бы каждый, завидев с узелком в руке и обкатанным батожком, назойливо стал выспрашивать, мол, куда Павлуша двинулась да по какой нужде, а так она всех обхитрила.
Река перед Покровом была еще полой, открытой, но почернела, стояли скользкие обманчивые забереги, и уже выпал плотный молодой снег; он сочно хрустел под ногой, и от него было светло и щемило глаза. Красные веки у Павлы набухли, – она и так в последнее время жаловалась на глаза, и сейчас снежной белизной подбило их, наползла слеза и слепила старую. Но это не беда, эко диво, что щемит глаза, взяла и смахнула слезу варегой, дохнула глубже настоявшимся предзимним воздухом – и сразу счастливо стало и молодо, только в душе неясно, – и запоздало пожалела, что в коты не поддела шерстяных чулок, а идти нужно сначала до Соялы, а там до царя-батюшки совсем близко, рукой подать; так Петенбурги, ходовые люди, бывало, сказывали.
Бежать твердой дорогой было легко, Павла разогрелась, в больной голове ее все перепуталось, и она снова увидела себя в царской горенке подле государя-батюшки, на коленях у нее золотой поднос со всякими чужеземными плодами, от которых у Павлы сводит во рту. «Ну по какой нужде, сестрица?» – спросил государь и мягкой ладошкой в перстнях погладил черную бабью руку, – наверное, чтобы осмелела она и проще себя вела. «Сынок, Яшка, у меня пропал, батюшко. Сказывали мне люди добрые, что слуги твои поставили его под красную шапку. Не гневайся, свет батюшко, вели ослобонить Яшку, как кормилец он наш и заступа».
И нахмурился государь, тень пробежала по лицу, пристукнул он посохом, велел кричать слуг и звать главного воинского начальника...
Тут сзади громко всхрапнула лошадь, на мерзлой дороге встряхнулась телега, и Павла, наверное душой услыхав догонный стук колес, торопливо нырнула в нагой осинник, миновала его и задышливо остановилась, с улыбкой подглядывая за дорогой, пока-то миновала телега, а потом оправила шаль и, опираясь на батожок, пошла просторным светлым бором. Мох, присыпанный хрустким снегом, мягко пружинил, ногам идти было ловко, а душе радостно от затаенных снежных шорохов и прозрачного воздуха. Павле чудилось, что она так и идет вдоль дороги, оглядываясь назад, видела за собой одинокую цепочку шагов, уже присыпанных серой пылью сумерек. Потом она обогнула одну горушку и другую; боясь замочить ноги, долго искала брод через ручьевину и не заметила, как сосняк отшатнулся и влажно и сумрачно дохнуло в лицо суземье. Но не встрепенулась, не вскрикнула бабья душа, словно кто раскачивал ее и какие-то знакомые виденья, прожитые Павлой давным-давно, еще в детстве, снова вставали в туманной голове.
Павла притомилась, ей захотелось есть. Почти на ощупь, виня свои больные глаза, она раскинула тряпицу, посолила краюху солью и, громко чавкая беззубым ртом, сладко ела и улыбалась. От долгой ходьбы у нее постанывала спина, и Павла легко привалилась к дереву, чтобы отдохнуть чуть. Она закрыла томящиеся от снега глаза и опять увидела себя в царской горнице в золотом кресле... Государь-батюшка созвал верных слуг, весь разогрелся от гнева, привели самого главного военного начальника в красном кафтане с золотыми пуговицами и в козловых сапогах с пряжками. Царь и велел отрубить виновную голову, а главный военный начальник плакал: «Вы сами изволили приказать...» И государь тоже растерянно кричал: «Врешь, пройдоха, ничего я не изволил», – и больно жал Павлину руку. «Господь с ним, батюшко, не бери на себя великий грех, – рассудила Павла, жалея главного военного барина в красном кафтане с золотыми пуговицами и в козловых сапогах. – У него тоже небось детки есть, и жонка ждет. А постанови-ка Яшеньку моего сюда доставить, уж так глянуть хочется».
И царь странно так оглядел Павлу и показал на парня, что ступил тут же за порог в горенку, а она торопливо, еще не видя лица, протянула руки: «Ну иди к матушке-то, сынок. Ну слава Богу, ну и свиделись». А сын стоял в черном проеме двери, и Павле стало обидно, что Яшка не спешит к ней поручкаться. Она заплакала, и от слез все тихо меркло перед ней и угасало, и, уже ничего не видя, она шептала еще удивленно: «И неуж не признал? Христос с тобой...»
А в суземье[46] сначала с тихим шелестом посыпал снег, потом разошелся, густо навалился на землю и быстро скрыл под собою потерянную женщину.
... Ненасытного, ненаедного, ненажористого Клавдю Шумова взял к себе в дом Петра Чикин...
Три года пропадал Яшка, и где только судьба его не носила: работал в Архангельске шкивидором[47] – надоело; пешком добежал до Петербурга, в стольном городе чуть в воровской притон не угодил, едва отвязался. Потом устроился судомойкой в трактир, почти год провел в мокром тумане и чаду; завел себе плисовые полосатые штаны, сапоги вытяжные на высоких каблуках, серебряную серьгу в левом ухе и старую бабу, которая его кормила и спала с ним. А душа у Яшки тосковала, ему было душно в сером грязном городе и противно от грязной бабы, и когда Яшка обнимал ее, то старался не глядеть в равнодушное пористое лицо и жирные плечи, от которых пахло потом и квашеной капустой. Однажды он пробовал разыскать воровской притон, но деревянный домишко был зашит досками крест-накрест: оказалось, веселых ребят подмели, а если кто и уцелел, то перебрался на другую фатеру, – и тогда Яшке нестерпимо захотелось домой, в леса, где так просторно и легко дышать. Теперь часто вспоминалась мать, ее тихое доброе лицо, и в эти дни к бабе Яшка не приходил, скитался по улицам с влажными глазами, и вся прежняя жизнь ему казалась райской.
А под осень он не сдержался и побежал домой. В дороге где Христа ради попросит, где возьмет легкой рукой, а в Холмогорах попался, когда потащил с веревки белье, тут его обложили во дворах, как зверя, и с гиканьем, с матюгами схватили, и если бы Яшка был свой, местный парень, то его тут же бы так изрядно намяли, что век бы не захотел брать воровски, а потом бы целый день водили по улицам с крадеными рубахами и исподниками, но этим бы и обошлось. Но тут вор был чужой, потому здорово бить не посмели, – правда, кулаками постегали в те места, где следы не остаются, и отвели в земскую расправу. После дознания Яшку распяли на скамейке и прилюдно всыпали десяток плетей, а через неделю повезли в Мезень, где за старую кражу всыпали еще пятнадцать плетей и отпустили до очередного и последнего проступка, когда уже обуют парня в колодки и зашлют в край полуночный.
Вышел Яшка на волю злой, не знал, как в Дорогую Гору убраться. Навстречу попадались мужики, сторонились: у парня черный взгляд исподлобья, жестокий взгляд, голова без шапки, отросшие волосы в тяжелых завитках; борода смолевая кудрявится, нос тонкий, хрящеватый, и в толстых красных губах злая ухмылка. Мельком глянешь, будто тать разбойная, а присмотришься ближе да уловишь тонкий покрой сухого лица, широкие сросшиеся брови над печально-угрюмыми глазами – и тогда увидишь, как красив парень. Да и во всем поджаром теле было что-то волчье и ухватистое, останавливающее посторонний взгляд.
Шел Яшка и не знал куда приткнуться, думал постоялый двор навестить, может, там кто из печищан стоит, безразлично бросал угрюмые взгляды и вдруг узнал во встречном парне с младенчески светлым лицом Тиму Коновалова: вроде бы годы прошли, а у Тимы по-прежнему румяное лицо, осыпанное белым легким пухом, похожее на твердую молодую волнуху. Ой встреча, ну и встреча...
– Эй, Коновал, куда без хлебов? – окликнул Яшка нахально, ноги растопырил посреди дороги, теперь его не минуешь.
Тима рассеянно взглянул, сначала испуг родился на лице, потом удивление и легкая радость.
– Осподи, да ты ли?.. Яшка, какими судьбами, не с того ли свету, а тебя схоронили, ей-Богу, схоронили. Ну-ко ущипни меня, – частил Тима. – С того свету, батюшка ты мой. – Тима восторженно сиял, и что-то коровье и прозрачное было в его глазах.
– Ну, хватит, эк тебя разобрало, – досадливо, но в душе довольно оборвал Яшка. – Не знаю, как домой попасть. Как там у нас-то. Новости сказывай...
– Ой, батюшка ты мой, а я еще по лету убыл, уж совсем от дому отвык, в приказчики тут норовлю, батюшка ты мой. А я на посидки, на супрядки побег в Кузнецову слободу, ой-ой-ой, ну никак не подумаешь, что это Яшка, жив-здоров. Может, со мной? Там девки, батюшка ты мой, поцелуют, обожгут...
– Пожрать бы...
– Это мы сей миг сообразим, у меня в трактире-то дядюшка по матери сидит. Чего ты раньше не сказал, батюшка ты мой.
В трактире Яшка съел кусок жареного мяса в подливе, запил косушкой водки, и бесшабашное веселье родилось в душе: захотелось куда-то пойти и набедокурить. На вечеринке все оказалось чужое, да Яшка и отвык от игры в прятки и в шепотки, ему казалось смешным и глупым, как парни сидят у девок на коленях и стараются нахально, когда гасят свечи, поцеловать или заползти рукою за пазуху девице, и от одного прикосновения млеют, шалеют, таращат глаза и шумно вздыхают.
Но он упорно стоял у печи, нахально таращился и не уходил из избы. Все невольно оглядывались на чужака, потом около пристал один парень, подошел другой, завязалась хвастливая беседа о том, как однажды они побили кого-то, а другой, что с ним, трусливо сбежал, а такой же был на морду нахальный, как и этот, губан. Но Яшка, будто глухой, все так же молчал, и это еще больше задевало ребят. Они стали заводиться всерьез, кричали Тимке Коновалу: «Эй, чего приятель твой лыбится, мы ему сейчас наломаем». Но Яшка и на эти угрозы не отвечал, и только взгляд его темнел. Ему было скучно здесь и тоскливо, он был удачлив и ловок в борьбе и мог всем пятерым сразу накостылять в шеи, но хотелось как-то особенно удивить сопляков, которые не знали жизни, а корчили из себя королей. И Яшка, надумав что-то особенно страшное, шепнул ближнему парню: «А хошь, покойника сюда приволоку из часовни?»
– Чего, чего он, ты нам скажи, – пристали остальные.
– Да он смеется над нами...
– Я сказал, что покойника сюда приволоку с часовни, – чуть громче, чтобы не расслышали девки, повторил Яшка, холодея от легкого страха, от своих слов и от восторга. – От напугаем хваленок.
– Слабо... Исподники-то не протекут? На что бьемся?
– Меня за волосянку драть. Каждый может навозить, пока рука не устанет. Ежели вы проиграете, с вас по шапке.
И отправился Яшка, насвистывая сквозь зубы; снег легко отсвечивал, черными холмушками стояли избы, слышно было, как сзади хрупали шаги: это парни наблюдали, как бы не струсил чужак и не сбежал. За Кузнецовой слободой лежали пашни, чуть слева в полуверсте за мелколесьем прятался погост, около него часовенка – врата в рай, похожая в ночи на зыбкую копну. Печалью и скорбью веяло с побуженных в темноту полей, и лишь в Окладниковой слободе подмаргивал редкий огонек, словно высекали кресалом искру; а может, только чудилось глазам, которые напряженно распахнулись, и от этих дальних тусклых огней одиночество усиливалось. Даже человек не робкого десятка без нужды не рискнет, пожалуй, идти ночью меж слободами да мимо погоста, где, говорят, баловали покойники: вставали из могил и пугали добрых людей загробным раскатистым смехом, от которого едва выдерживало сердце.
Но Яшка не чувствовал душою ничего, кроме веселой злости, он уже забыл напутствия в нижней земской расправе, когда его выпускали на волю. Яшка хмельно летел по дороге, словно жил последний день, и ни одно доброе предостережение не толкнулось в сердце, да тем более что сзади шли соглядатаи, и это подстегивало на безумство. А может, втайне от себя он надеялся, что нынче часовня пуста и этим он освободит себя от греха? Кто знает, кто знает...
Но он осторожно распахнул часовню, снежный рассеянный свет скользнул в темноту и выявил гроб. И, не давая себе задуматься, слыша сзади замолкнувшие шаги (это парни остановились поодаль), только тревожно усмехнулся и сразу переступил порог. Он нагнулся над домовищем, покойник казался спящим и совсем не страшным, а в голове как-то посторонне сверкнула мысль, что не дай Бог, если это окажется баба, а не мужик; бабу тащить на себе будет уж больно зазорно. Яшка откинул портяной покров, нащупал длинный халат, – значит, мужик лежал в домовище; присел, руки покойного закинул себе на плечи, не чувствуя их смертельного холода сквозь шерстяные вареги, потом легко поднялся. Седок оказался совсем сух и бесплотен, наверное, старик, и нести его было легко.
Парни, что стояли поодаль, отступили с переметенной дороги, шли молчаливо, но у самой слободы нагнали, – видно, вернулся к ним разум или побоялись Божьего гнева.
– Волоки обратно, – закричали Яшке в затылок.
– А... воробьи соломенные, гнус амбарный, переселись? – торжествующе откинулся Яшка, не оборачиваясь. Ему казалось, что он проиграл кому-то в рюхи и вот тащит победителя на закорках; порой даже приседал и встряхивался, чтобы тот, кто наверху, плотнее уселся на спине, и только ноги покойного все мешали, волочились по снегу, – видно, был мужик в свое время велик ростом.
– Волоки обратно, – кричали соглядатаи. Они вспомнили, что будет и утро и день, когда девки разнесут историю по слободам, дойдет слух и до городничего, до тяжких расспросов, и многим будет не миновать батогов и плетей. Провожающих было трое, и они уже негласно сговорились, что ни одна живая душа не узнает о случившемся.
– Бери шапки, только волоки в обрат, еще и денег дадим...
– Эй, трусоваты, гляжу, а выхвалялись-то, прости Господи, – уже вяло отругивался Яшка. Он устал, хмель покидал его беспутную голову, и веселая злость на весь мир пропала. И парень повернул в часовню, путано размышляя, что вот завтра вернется в деревню, мать будет канючить и выть, в каждом углу нищета; и Клавдия Петрухич станет путаться под ногами, строить каверзы, – и надо будет думать, где добыть кусок хлеба, ибо все заботы лягут на его плечи; а через год, конечно, поставят под красную шапку, забреют лоб, и тогда прощай свобода, забудься вольница. Зря, зря возмечтал он о Дорогой Горе: был же сытый угол в стольном городе и дородная баба под боком, еще и не старая, едва за тридцать. Но тут же тошнота подкатила, вспоминал ее жирные волосы, пористое лицо и мясистые плечи. Сплюнул только от мысли о ней, и сразу родной дом показался желанным. Посторонние запахи стали неожиданно мутить Яшку, он понял, что это натягивает от покойника. Захотелось скорее отвязаться от него, и Яшка побежал, путаясь на дороге: было бродно и суетно спешить по свежему снегу, ноги разъезжались и постоянно кренило набок.
Но Яшка старался думать о постороннем, и холодная усмешка застыла на обмерзших губах. Только в душе копилось пронзительное нетерпение, мысль о покойнике заполнила Яшку, хмель улетучился, и все стало казаться диким и нелепым. С этим, уже брезгливым нетерпением, он забежал в часовню, нагнулся над гробом, чтобы скинуть покойника, а сбросить не может, так прочно вцепился тот руками в Яшкину шею. Пока парень носил по морозу, покойник застыл, руки его скрючились на шее проказника, но Яшка уже не мог спокойно обдумать все, нетерпение вылилось в ужас, и, отдирая твердые, как оглобли, руки, он закричал, вернее, дико завыл, почти лишаясь разума.
Яшка слышал, как топотали за часовней ноги, это удирали попутчики. Помертвелый, собрав всю волю, разнял руки покойного, едва выбрался из часовни, упал в снег, и его вытошнило. Сколько еще лежал Яшка в снегу, он не знал, но только мороз привел в чувство, и, стоя на коленях, обратился парень к низкому могильно-черному небу: «Боже, прости меня, пощади глупую голову, не оставь сына своего неразумного. Бо-же...»
Пошатываясь, забыв об уговоре, побрел к Окладниковой слободе; на околице оглянулся, заслышав одинокие шаги, почудилось, что догоняет его тот потревоженный мертвец, и снова вскрикнул, бледнея и замирая от ужаса. Но это оказался Тима Коновал, он только что бежал с посиделок. Он был весел и жил своей любовью, а потому ему было не до Яшки. Мельком глянув на парня, предложил переночевать у себя, благо место на полатях всегда найдется. Яшка молча поплелся следом, и ноги подкашивались от слабости. Уже совсем светало, красное солнце просыпалось, снег заалел, захлопали промерзшие ворота в избах: Окладникова слобода оживала.
Дома раздевались молча, и когда Яшка сбросил овчинный треух, Тима нечаянно глянул на приятеля и ошалело вскрикнул: «Эй, паря, што с тобой? Батюшка ты мой..»
Яшкина голова белела, как крыло куроптя.
В Дорогой Горе сразу не признали Яшку, ведь он вернулся с того света, откуда еще никто не приходил. Неузнанный, он прошел деревней и оказался возле своей избы. Яшка подходил к дому с замирающим сердцем и все ожидал, вот сейчас выскочит на крылечко мать, охнет, всплеснет руками и начнет чураться, осеняя себя крестами; потом будет долго всматриваться в лицо, а узнав, тихо заплачет и с этими долгими слезами поведет Яшку в избу, станет раздевать и кормить, поставит на стол немудрящую выть, а может, чем побогаче разжились за эти годы, кто его знает, сядет рядом, будет глядеть сквозь слезы и улыбаться. И от таких непривычных представлений Яшка еще более заторопился, но возле своей избы вроде бы споткнулся, может, смутило, что крохотные оконца задвинуты волочильными досками, а на дверях висит замок. Еще боясь подумать на плохое, утешил себя, что мать, наверное, где-то в работе, а Клавдя Петрухич летает на улице. Через поветь зашел в избу, повеяло запустением и холодом, торопливо отдернул волочильную доску, и в оконце ворвался желтый морозный пар, подсвеченный изнутри солнцем. По старой памяти сразу разыскал окончину, крытую бычьим пузырем, вставил в проем, потом огляделся и по длинным паутинам понял, что уже давно никто не живет в избе. Пахло плесенью и затхлой сыростью, печь была холодна, как январская земля. Бесприютный и ошалелый Яшка сел под образа, тоскливо глядел на покривившийся поставец в углу, на изрубленные ножом лавки вдоль стен, на подпечье, завешенное паутинами, и парню захотелось завыть. Потом одолела усталость от пережитого накануне. Яшка неловко повалился на лавку, подложив под голову кулак, и сразу провалился в темный лихорадочный сон. Ему привиделось, будто он тащит покойника через снежную пашню, кругом темно, мертвяк сидит на его плечах и погоняет: «А ну, живая сила, наддай, еще наддай!» И вот Яшка будто не бежит уже, а легко вскидывается над снегами и с замиранием в груди еще пытается двигать ногами, но чувствует, как немо и студено вдруг становится вокруг, а морозные воздухи стремительно разбиваются о лицо. Он понял, что летит и кто-то невидимый нашептывает в ухо: «Продал душу дьяволу. Про-о-дал...» – «Нет, нет», – закричал Яшка, пытаясь сбросить мертвяка с плеч, и почувствовал, как напряглось сердце, готовое лопнуть. Заставил себя проснуться, сел на лавке, качая мутной головой, долго припоминал, где находится, еще подумал: «Знать, нечистая сила обжилась в нашей избе». Торопливо перекрестился, сплюнул через левое плечо троекратно и пошел из родного крова.
Он появился около Петриного дома, словно за руку кто его вел туда. Попал во двор, увидел добрый десяток саней с поднятыми в небо оглоблями; у стены богатые пошевни с расписным задком, крытые медвежьей шкурой, – знать, хозяин собрался куда-то ехать. Тут распахнулись ворота, работник вывел вороного жеребца; напрягаясь спиной, стал заводить вороного в оглобли, заломил к спине его крутую красивую шею, сразу желтая пена вспухла на вздернутых железными удилами губах, и глаза налились бешенством. Но мужик не робел, пятил жеребца в оглобли, запрягал его в легкие санки на железных кованых полозьях; уставясь кривой ногой в клеши, затягивал натужно хомут, и бубенцы под крашеной дугой уже нескладно звенели, словно настраивались к далекой дороге. И Яшка вдруг услышал, как вместе с перезвоном колокольчика проснулась в нем давняя тоска по лошадям, и сухие ноздри его дрогнули, втягивая звериный запах пота.
Яшка еще топтался в нерешительности у крыльца, когда брякнуло дверное кольцо, и показался наверху хозяин в лисьей богатой шубе, крытой синим городским сукном, и в лисьей же шапке. Он зорко оглядел двор, сразу приметил постороннего и закричал зычно, хлопая по катанку витой плетью:
– Эй. Васька, остолоп, слепой, што ли? Гони прочь парня, чего бродит.
Петра Афанасьич стал тяжело спускаться по скрипучим ступеням, а работник сразу кинулся на Яшку, норовя ухватить за шиворот, но не мог достать и оттого пыхтел и сердился:
– Ну, пшел, пшел прочь, тать разбойная.
Яшка воли рукам не дал, хотя и растерялся поначалу такой встрече и, отступая к заворам, закричал на весь двор:
– Люди добрые, да што это деется на белом свете? Честного человека взашей гонят. Да я к уездному исправнику пойду, – притворно вопил Яшка, украдкой наблюдая за Чикиным. Тот, видно было, растерялся, пошел через двор, сурово помахивая плетью.
– Ну чего орешь, ну чего разорался? Как резаный вопит и вопит, – забунчал под нос Петра Афанасьич. – Ну че тебе, што ты на моем дворе отираешься? Иль забыл чего?.. Да отступись, Васька, от него, поди своим делом лучше займись.
А Яшка тут же шагнул навстречу, скинул с белой кудрявой головы овчинный треух, склонился поясным поклоном:
– Аль не признали, батюшка Петра Афанасьич, благодетель наш?
В болотных Петриных глазах сначала мелькнуло любопытство, потом тревога:
– Чур-чур... Изыди, сотона...
– Да уж чего сотониться. Это ж я, Шумов Яшка, пришел виниться перед вами. – Упал на колени парень, тая на губах злую ухмылку.
– И взаболь ты. На глупого удача. Эко диво, а бывает, ну что тут такого. Набегался и явился, – растерянно говорил Петра, прикрыв глаза тяжелыми коричневыми веками. Сразу вспомнилась та давняя история, и он не знал, как поступить сейчас: иль выгнать парня взашей, а может, и простить его... Хотя, ежели по совести, согрешил ты тогда, Петра Афанасьич, ох согрешил. На куничку позарился, сироту изобидел. Бог не простит тебе, ой не простит. Но с малого и начинал, тогда и кунька при деле была, это нынче рыжий зять весь Канин обвеял, сколько опять пушнины наторговал. И семги на Кулое порато хорошо взяли. А тогда и кунька... Пришел, как к отцу родному пришел, в ноги пал, – знать, вину-т чует.
– Ну ты, подымись, хватит тебе в ногах валяться, – мягко сказал Петра Афанасьич, потом коротко засмеялся, а может, в горле так булькнуло. – Ну ты, паря, ловко меня тогда. Ой ловко... Попался бы мне, решил бы на месте. Осподи, не оставил ты грешного в беде, не дал окровенить мне руки и пасть в грехе. Напозорился я тогда в леси-то, как зверина пропащая вылез...
– Простите меня, глупый был, – винился Яшка, не смея взглянуть на богатея.
– Да уж как не глупый-то. И мати вот вишь как. Эй, дурня, дурня, – уже прощая, со слезой на глазах от собственной доброты, Петра хлопнул Яшку по плечу.
– Дурак был, сейчас бы дак...
– Чего делать-то будешь?
– Лошадей люблю, батюшка Петра Афанасьич.
– Помню, помню...
– Вы теперь в вышине числитесь. Бог вас за доброту возносит, – льстил Яшка, уже ничего не испытывая к Петре Афанасьичу, кроме почтения, и удивляясь своим детским обидам: как глуп был.
– Хитрец ты, Яшка, и лукав не в меру.
– За што вы меня так, батюшка Петра Афанасьич? – взмолился Яшка.
– Ну буде, буде. Дак, чего делать норовишь?
– К лошадям бы мне...
– Пакостник ты большой. Опять чего ли учудишь, Христос с тобой?
– Другой я, Петра Афанасьич. Поглядите вы на мою седую голову, а ведь мне осьмнадцать. А как старый старик. Уже так настрадался, – всхлипывал Яшка, а в сердце уже клубился гнев, и жестокие мысли рождались в голове: «Ну, погоди, мяса кусок, дай только мне опериться, все попомню». Но все унижения сдержал, опять повалился в хрупкий мерзлый снег, залитый конской мочой, стукнулся головой о лошадиные калышки.
– Встань, встань, застудишься. На што мне будешь больней-то...
– Батюшка, Петра Афанасьич...
– Ладно, ладно, о деньгах после. Вечером возвернусь, дак. Скажи Маньке, пусть накормит. – Петра Афанасьич опрокинулся в возок, тронул жеребца, а Яшка кинулся наперерез, к заворам, спешно выдернул сосновые жердины, закрывающие выезд, и почтительно вытянулся, когда хозяин миновал его.
Глава четвертая
В стороне Дорогая Гора от большого тракта на Пинегу, а оттуда на Москву и в сам Питер, запряталась она за тремя болотами, за тремя борами в низовьях Кулоя. Отсюда, куда ни скачи, только мокрые рады вперемежку с косоклинными горушками, поросшими иль строевой сосной, иль бородатой елью. А чем севернее, тем скуднее почва и ниже лес, корявый и однобокий, с рахитичными ветвями и зеленой плесенью по стволу, а потом и эти деревья выродятся – и на самом морском берегу останутся только ползучий вереск и цветные под осень мхи. Безлюдье кругом и дикость, редкие деревушки открываются за поворотом реки, как наваждение какое-то; и теплому запаху изб и мычанью коров поначалу не веришь, а когда ступаешь на берег неверной ногой от надоедного качанья на реке, то готов и заплакать радостно. А люди чего, люди живут, растут, как трава, и ложатся в землю под смертной косой, как на долгий отдых, но в домовище укрыться не спешат, колготятся, радуются и страдают, ворочают тяжелую голодную землю, а прокляв ее, убегают в море на промысел, чтобы, настрадавшись и хлебнув досыта соленого рассола, опять вернуться на глины и мхи и ковырять их сохой до изнеможения и сладко нюхать земные густые запахи и радоваться душой, что есть на свете земля. Так и живут дорогоры, раздвояясь душой, живут как Бог на душу положил, растут, будто деревья, поначалу наливаясь соками, потом тихо дряхлеют и под конец ложатся на погост мудро и светло: «Бог дал, Бог взял». И нет душевных страданий от близкой кончины, уходят, как на долгий отдых, с туманной верой, что даст еще Господь, и вернутся обратно, а потому загодя готовятся к смертному часу: еще за много лет до погоста шьют саван, и частенько домовище, сбитое из тяжелых лиственных плах, поджидает на повети, никого не страшит своим мрачным присутствием, и столь же обыденно оно в доме, как хлеб на столе иль корова в хлеву.
Может, кто порой и спросит себя туманно, поддавшись странной душевной болезни, от которой всегда грустно: «Для чего живешь, человече, для еды-питья, для продолжения рода?» – но, тут же испугавшись, очистит себя крестом и молитвой, чтобы отвязалась нечистая сила и не смущала дух. И ответит человек сам себе, полагая эти речения единой правдой: «Живу, чтобы жить. А как же не жить, коли я живу. А ежели настанет мой черед, то куда денессе... Супротив воли Божьей не поднимешься».
Словно морская волна набегает человечество на землю, полоняет ее и в какой-то означенный срок оставляет на ней лишь крохотные жальники, так похожие на серые заплески на морском берегу.
«... Но нет-нет, кроме покорности и покоя, что-то же есть еще в человеке; чем-то рождены и поселены кем-то в душе его пороки, слабости. Какие-то постоянные смуты тревожат человека, заставляют его хитрить и облукавливать ближнего; очищаться перед Богом и снова грешить уже с новой страстью. Какой ловкий бес постоянно точит душу и не дает жить в покое, руководит в зле, и даже постоянное знание неотвратимости смерти не отпугивает от дурных намерений, и ад становится пугалом только для юродивых и детей, когда настанет время согрешить и нет силы противиться злу. Почему при виде страданий поверженного недруга становится порой так легко и благостно, словно ты совершил величайший подвиг во имя добрых заповедей Христа? Отчего зло, а не добро приносит порой человеку столько приятных мгновений, от которых еще больше хочется жить и быть вечным, хочется предать душу диаволу, а совесть посчитать выдумкой пустынных отшельников, только чтобы не скрыться под травой забвения? Отчего человек умирает с именем Христа на устах, а живет по заповедям диавола? А может, Христос и диавол един в двух лицах? Но кто же такой Христос, как не кучер души нашей, наших соблазнов и прихотей. И значит, прихоть, желание наше – превыше всего, и даже самый ничтожный червь на земле живет ради нее, может и не помышляя об этом...»
С такой мыслью уездный землемер капитан Сумароков угрюмо въехал в Дорогую Гору, закиданную снегами по самые брови, так что крыши едва виднелись за сугробами. Перед глазами покачивалась спина возницы, порой он вздергивал плечами, наверное, собирался достать плетью заиндевелый круп лошади, но или не решался, или со сном боролся мужик.
«... Вот я разве не исполняю чью-то прихоть? – снова спросил себя землемер. – Осподи, куда бы добро, сидеть нынче вечером у исправника, сыграть в вист и потом, быть может, напиться по-скотски, а тут, как последняя тварь, тащись по вонючим деревням, схватишь опять несварение желудка, будешь мучиться и говорить мужикам пустые слова, которые так не нужны им, прости Господи, да и поймут ли они чего, но, однако, будут терпеть и есть тебя глазами».
– Эй, братец, грешил ли ты когда? – вдруг наклонился Сумароков вперед и крикнул в спину возницы.
– Чего-с изволите, барин?
– Грешил ли когда, ну это, с бабой там или что... – Сумароков, отходя от мыслей, игриво покрутил рукой.
Мужик тоже заулыбался всем лицом:
– А чего, барин, не бывало. Всяко бывало. Не согрешишь, не покаесся. Согрешишь, да и отмолишь...
– Ну ладно, ладно, – недовольно отмахнулся Сумароков, обегая погрустневшим взглядом избы и снова погружаясь в раздумья. Он любил, капитан Сумароков, в долгих своих разъездах по уезду вот так неспешно поразмышлять, строить всякие там планы об устройстве государства Российского, досадовать иль приходить в восторг от неожиданных мыслей. Уж пятый год Сумароков жил в Мезени, страдал от одиночества и дикости местных туземцев, их варварского обхождения, потому тосковал и тихо запивал...
– Боже, Боже, – шептал он, облокачиваясь на спинку саней. – Вот и этот жалкий туземец, поправ добродетели и молитвы, с таким чистосердечием говорит о грехе, и своих прихотях, и нищих дурацких утехах. Но чтобы творить их, надо иметь власть, какую угодно, но власть, над душой, над телом, над ближним своим, чем угодно, но владеть, владеть, ибо только власть дает настоящие прихоти, которые все исполняют, и это доставляет истинный смысл жизни.
Господи, куда как далеко занесло вас, уездный землемер капитан Сумароков. А впрочем, у мужика, этого грязного туземца, говорят, потомка вольных новгородцев, тоже есть своя власть над бабой, дочерьми, и небось он в своей семье царек, творит, чего левая нога хочет, и бабы дрожат перед ним, когда хозяин разразится грозой.
И так везде, везде, везде... Дикий край, конец земли, с ума сойти можно.
– Куда прикажете, барин? – робко побеспокоил возница. – Может, старосту кликнуть, так мы счас...
– Ну-ну, быстренько только.
Вскоре пришел староста, внушительный, с окладистой бородой и маленькими свинцовыми глазками под тяжелым бугристым лбом. Появился степенно, но на подходе шапку снял, склонился в поясном поклоне, ничего не спросил, так с непокрытой головой присел на облучок, показав вознице, куда править лошадь; и еще кобыла не остановилась, побежал к новой избе в два жила и красными окнами по переду, так же споро вернулся:
– С дороги отдохнуть изволите, ваше благородие, так вам здесь и чаек сварят и лошадей снарядят...
– Ну поди, поди, братец, – устало отмахнулся Сумароков – ему хотелось сесть, вытянув ноги, выпить водки и помолчать.
На крыльце показался сам хозяин, лысый, с красным нездоровым румянцем на отекшем лице, и, словно только что заметив гостя, стал торопливо спускаться вниз: «Милости просим, не погнушайтесь, проходите, будем рады. Осподи, какой гость пожаловал».
Вскоре они уже сидели за столом в светлой горнице: было прохладно и пустынно в ней, от цветных половиков доносило чистотой и свежестью; вдоль стен богатые сундуки, крытые резным железом и со многими потайными замками; на дубовой кровати пуховые перины с горой подушек; напротив комод с завитушками и поверх него зеркало в черной оправе. Землемер, окинув взглядом горницу, приятно удивился и даже повеселел и еще более возрадовался, заметив на покрытом столе зеленый лафитничек, осетровую копченую спинку, миску черной икры и всякие прочие заедки[48] , которые больше по сердцу деревенской девке-молодице, чем гостю, заехавшему с мороза.
– Садитесь с нами хлеб-соль ись. Чем богаты, тем рады...
– Эк, братец, по-барски живешь, – до скрипа потирая тонкие сухие руки, воскликнул землемер Сумароков и подумал, что жизнь в общем-то не плохая штука, черт побери, и жить с умом можно даже в медвежьей глуши.
– Ну что вы, ваше благородие. Тянемся едва, чем Бог пошлет. Его милостью живем.
– Это так, но Бога не гневи, братец, – погрозил притворно Сумароков, и они понятливо рассмеялись, сразу опрокинули по рюмке водки. Тут Тайка внесла миску с наваристыми щами, прошелестела мимо широкими белыми рукавами, коснувшись щеки Сумарокова прохладным упругим шелком.
– Эй ты, раззява, – прикрикнул Петра Афанасьич. – Вы уж простите ее, растяпу.
– Как можно, да у вас красавица дочь, – воскликнул Сумароков, приглядевшись к девице. Он сразу заметил и ее великоватый лоб, и упрямо вздернутую верхнюю губу, и упругие щеки, пожалуй, слишком полноватые на ее лице, но глаза смутили землемера своей свежестью и прозрачной глубиной. «Хороша туземка, – подумал Сумароков. – И волосы, Боже мой, какие белые волосы у этой девки, кажется, что голове тяжко носить такую копну волос. Бывает вот, прорастет царский цветок в такой глуши, потом обломает его грязный, немытый мужик, запряжет в работу, и лицом вылиняет, поблекнет, глаза потухнут, веки сморщатся и нависнут над ними. Но ведь какая девка, что-то в ней есть. Есть что-то!»
– Давай за невесту вашу, братец...
– Ну что вы, ваше благородие, как можно. А ну поди прочь, – прикрикнул Петра Афанасьич на Тайку, но осанисто и горделиво посмотрел вослед.
Они опять опрокинули по рюмке. Сумароков пил медленно, мелкими глотками, по-женски оттопырив мизинец, и костистый подбородок некрасиво двигался. Не медля, они выпили еще по одной, просто так, с мороза, потом с устатку; Петра, несмотря на плохое здоровье, только наливался багровым румянцем, но не пропускал.
С каждой рюмкой он становился сановитее, дороднее как-то, а гость, напротив, уже распахнул мундир, показал белую батистовую рубаху и тонкую шею с острым кадыком.
– Скажите, мы ведь люди глупы, темны, что там на свете-то белом деется? У меня зятелко, Михейко-рыжий, часто в Петенбург ходит, а окромя торговли ничего опять же не смыслит. А мне и хочется знать, – ласково спросил Петра Афанасьич.
– Живут, везде живут, – отмахнулся Сумароков.
– Ну как не жить-то, живут, – глубокомысленно согласился Петра Афанасьич.
– Во Франции вот короля выгнали.
– Ой-ой, – изумился Петра, – да как же они так...
– Свободомыслие, да-с, братец. И давненько. И опять же у них культура. Они там лягушек едят, а мы нос на сторону. Погань, кричим, нечисть. Европа, одно слово.
– Турки, они такие...
– Какие турки, дикий ты человек. Французы проживают в той стороне да немцы.
– Может, и хранцузы, а все одно турки и басурманы. Мы не знаем про их и знать не хотим, – неожиданно сурово возразил Петра Афанасьич и, не убоявшись гостя, осенил себя истинным крестом. – Антихристовы дети, еретики. У них и понимание-то басурманское, своего государя-батюшку эдак.
– А они вот решились, да.
– Слава те осподи, у нас все тихо. Благодать у нас. Мы до этого не допустим. Да и как можно батюшку-государя выгнать.
– Мы-то не допустим. Поелику с Богом живем и с верой в государя, – согласился Сумароков и поспешил перевести разговор на другое. – Ну а вы здесь как, не обижают? Старшина там, староста, может, с уезда кто, дак ты, братец, скажи. Мы того, знаешь...
– Премного благодарен, ваше благородие. Живем мы тут тихо, мирно, греха не ведем.
– Так уже не ведете, ой ли?
– Нет, нет, греха у нас не ведется. И случается, кто против миру возвысится, голос подымет, дак мы того быстро окрутим и глотку заткнем. Мы ведь тут как братья Христовы живем, друг о дружке приткнулись, вот и тепло нам, – раскатисто захохотал Петра Афанасьич, но из щелок глаза выглядывали проницательно и холодно.
Землемер случайно поймал этот взгляд и подумал весело: «Вот где волчище...»
– Так, значит, в миру живете. А в Совполье жалобятся...
– Ежели неправедность где, правеж надобно навести. Это так... А у нас мир, – вздохнул Петра Афанасьич и кротко улыбнулся. – Кто придет ко мне, в ноги падет, последним поделюсь. Боже правый, ослобони от греха и соблазна, дай пожить в миру и согласии. А в Совполье они завсе поперечны, у них веком ладу не было. Не прикажете ли, ваше благородие, приготовить отправление? – спросил Петра, раздумывая, кого бы послать в дорогу.
Васька бы, тот, правда, посмирней, шалости не допустит, но и вид не тот, а Яшка опять же в больших городах бывал, обхождение хорошее знает, да и послушный нынь, куда с добром.
– Вели закладывать. Хочу засветло в Соялу попасть.
– Как прикажете, – послушно склонился Петра Афанасьич и крикнул в избу: – Эй, Тайка, вели Яшке сюда идти.
Яшка появился вскоре, словно за порогом сидел и наблюдал разговор; вошел, тряхнул седыми кудрями, и серебряная серьга полумесяцем легко сверкнула. Встал у порога, послушно опустил глаза, ожидая разговор. «Подобрал молодцов, – туманно подумал Сумароков. – И серьга в ухе. Молодой, а из тех...» Землемер не слушал, как вполголоса говорил хозяин с работником, в голове от выпитого стало призрачно, захотелось прилечь и соснуть.
На посошок еще выпил две рюмки, уже один, и вдруг заметил, что куда-то неожиданно подевался хозяин. В избе послышался громкий раздраженный крик, кто-то запричитал; Сумароков встал и, пьяно пошатываясь, вышел из горницы.
– Что случилось, что случилось, братец? – спросил лениво землемер, все плыло перед глазами и хотелось прочь из избы.
– Да так, пустяки, ваше благородие, – сердито, ломая натуру, откликнулся Петра Афанасьич. У порога, обвалившись на ободверину, стояла девка, и плечи ее жалобно вздрагивали.
– Пошла прочь, дрянь такая. И никуда ты не поедешь, сучья дочь, и думать не смей.
– Ну зачем вы так? Ай-яй-яй. Никакого обхождения, – мягко возвысил голос Сумароков, наливаясь благородным негодованием и чуточку трезвея даже.
– Обхождения?.. Плети ей хорошей нать, да чтоб до крови сбрызнуло. И не думай, не спущу, – смирял норов Петра Афанасьич. Не гость бы в доме, уж давно бы задрал подол да и всыпал бы хорошенько, чтобы неделю на лавку не села, а в лежку лежала. Ишь как заговорила, голос на родного отца возвысила, к тетке ей в Соялу захотелось ни с того ни с сего. Еще и утром не помышляла. Небось с Богошковым сговорено да самоходкой норовят убежать. Потом доставай ее, обвенчается да на колени падет, прости, скажет, батюшка. И простишь ведь... Нет-нет, не посмеет сестру родную по миру пустить.
Тайка повернула зареванное лицо, по-детски возила ладонью над верхней губой: «Да, не спустишь тебе... Все одно поеду. Я ведь ничего на дурно-то не помышляю. По-е-ду».
И опять заревела с новой силой.
– Да спустите вы ее, братец, – попросил Сумароков, испытывая к девке тайное влечение. Он уже думал, как поедут вместе в одном возке, девка будет лежать рядом – и от этой близости будет не то чтобы радостно, но, по крайней мере, не так скучно и легче скоротать дорогу.
– Да я бы что, ваше благородие. Тетка у нее в Сояле... Ну ладно, собирайся, но чтобы ни-ни. Через неделю домой вертайся, – милостиво согласился Петра Афанасьич.
– А я уже собратая, как есть готовая, – ожила Тайка, сразу и слезы высохли. – Ты, татушка, на плохое не смей и думать. Я знаю, на чего ты подумаешь.
– Ну-ну, не стрекоти...
Гость с хозяином прошли в горенку, еще выпили на посошок, потом всеми выкатили во двор: Сумароков, как медведь в своем дорожном тулупе, опрокинулся в возок, Яшка сел на передок, подогнув под себя ноги и расправляя вожжи, а Тайка с дорожным узелком в руке приткнулась последней, где нашлось место. Лошадь тронулась, и Петра Афанасьич, что никогда не случалось с ним в обыкновение, даже вышел из двора на улицу и долго смотрел вослед, как медленно опускается в подугорье возок, еще крикнул запоздало: «Кобылу-то шибко не гони», – и трезво повернул к дому. Он поднимался на крыльцо нерешительно, готов был поспешить назад и вернуть Тайку, потому что новые сомнения появились в душе, и Петра Афанасьич уже клял себя, что поддался на уговоры. Вот и сваты были после Покрова, Тайка уперлась, не пойду за Тимоху Тиуна. Сказала: если отдашь насильно, иль утопну, иль в кельи уйду, стану Христовой невестой.
Пробовал грозить, мол, излуплю как Сидорову козу, в светелке запру, есть-пить не дам и даже в гневе раза два стеганул кулаком, но не в лицо: побоялся, что люди приметят.
Так и не получилось со смотринами, не спустилась Тайка из горенки, не показалась сватам, просидела там взаперти и на уговоры не вышла, пришлось отложить рукобитье до Рождества. Может, тогда опомнится девка. А тут вдруг в Соялу приспичило...
А в это время гнедая кобыла ровно бежала по лесной дороге, порой всхрапывала, трясла головой, норовя прибавить шаг, но слышала строгие руки и смирялась. Возок покачивало, от морозного воздуха лишний пьяный угар выветривался в голове землемера, он порой пристально вглядывался в упругое лицо спутницы и думал с томительным желанием: «А туземка хороша, ей-Богу, хороша». Он даже пробовал заигрывать с ней, брал неловко за плечи, но девка робко морщилась, не смела прогневить барина и осторожно освобождалась от объятий, еще не понимая намерений землемера. Тайка думала о суженом, представляла его рядом, и душа ее замирала... Нет-нет, Исусе, помоги в добром умысле, сохрани в тайне наше желание. Только бы глупостей не натворить, батюшке вида не выказывать, что дочь его замышляет, а не то разнесет. Ой-ой, что тогда будет, страшно подумать даже, лучше сразу в омут головой. Скорей бы Рождество, Донька к тому сроку обещался денег промыслить и долг возвернуть. Часу бы тогда не усидела, ни минутки не промедлила, никакие запоры бы не удержали в отцовских хоромах, в чем есть ушла бы самоходкой – и не догнать ее тогда никаким злым угонщикам.
И Донюшка, милый мой, видно в смуте страшной, проходу не дает, все где ли перехватит тайком на улице, да так больно обнимет, истосковался весь. А ей-то, осподи, легко разве, каждый день через страх живет...
Землемер пытался понастойчивее обнять Тайку, но, занятая такими суматошными раздумьями, от которых сердце то поднималось ввысь, то падало, девка разгоряченно стряхнула с плеча чужую надоедную руку и закричала, забыв осторожность: «Эй, Яшка, слышь-ко? Я кабыть верхом сяду, и барину будет спокойней, стесняю его».
Яшка остановил лошадь, ухмыльнулся, поглядел исподлобья на барина, но смолчал: не его тут дело вмешиваться, мало ли чего его благородию запонадобится, а Тайка мигом заползла на кобылу, поставила ноги в катанках на оглоблю, вцепилась рукою за дугу. В другое бы время она душою веселилась, что едет верхом, нет для девки лучшего удовольствия, но в деревне не прокатишься на лошади, бабы-староверки заплюют, на улице не покажешься.
Но сейчас Тайка чувствовала настойчивый упрашивающий взгляд, и сердце ее растерянно колотилось. Она даже боялась оглянуться назад, чтобы не встретить хмельные глаза землемера.
Девка рассердила Сумарокова, ее неприступность распалила воображение, и он уже отчетливо представлял, как обладает девкой посреди дороги, а доселе с ним еще не случалось подобного, варварского и звериного, а оттого, быть может, еще более прелестного наслаждения; и от одних только чувственных мыслей Сумароков захмелел больше, чем от вина. Он знал уже, что это возможно: только стоит захотеть, и никто не вправе ослушаться, ибо здесь, на краю света, он властелин, он государь и даже выше, потому как всегда тут, рядом, во плоти и крови, – и эта туземка должна быть рада, когда его благородие обратит на нее свое внимание.
Но словно бы Сумарокову не хотелось, чтобы все свершилось так быстро, а может, добрые чувства останавливали его, кто знает, но только он еще как-то пытался подавить в себе скотское желание: фи, любить прилюдно эту грязную девку, да чтобы кто-то посторонний наблюдал, нет-нет...
И сам себе признавался землемер, что именно это скотство притягательно, в нем какая-то свежесть и необыкновенность чувств. Сумароков откидывался назад, кутался в дорожный тулуп, чтобы только не глядеть на девку, неловко сидящую на лошади, что-то бормотал; а потом, только чтобы оправдать свое благородство, ведь Боже мой, как невоспитанно, что женский пол едет на морозе верхом на лошади да в таком неудобстве, он позвал Тайку глуховатым голосом, в котором едва сдерживалось нетерпение:
– Сударыня, вы закоченеете там...
Тайка словно ожидала этих слов, быстро обернулась, нарочито громко отозвалась:
– Не-не, ваше благородие, мне так даже любее.
– А я говорю, закоченеете и вы меня не стесняете, ей-Богу, – настаивал Сумароков, чувствуя в себе желание грубо заорать, даже приказать, и пусть только ослушается кто. – Останови лошадь, – внятно и холодно попросил возницу. – Я говорю, сударыня, что вы меня не стесняете...
– Нет-нет, мне здесь хорошо, – закричала Тайка, толкая лошадь за дугу. – Но-но, миленькая... Яшенька, поезжай, голубчик, чего встал? – Девку бил испуг.
– Неси ее сюда, – так же холодно сказал Сумароков и пожевал тонкими губами.
Яшка глянул исподлобья, но опять смолчал. Он уже знал, что хочет от девки землемер, в какое-то мгновение решил заступиться за Тайку, – но раздумал. Еще бы месяц назад, когда Яшка ничего на свете не боялся и был самим собой, он бы накричал на барина, а может, и скинул в снег, оставив посреди таежной дороги, а там будь что будет, но теперь парень дорожил собой и своей свободой и потому сразу решил: лучше не связываться с ним, а ну его к Богу в рай, еще по мордам надает да в каторгу упекет, доказывай, что ты не арап. А ведь упекет, запросто упрячет, наговорит исправнику, что хотели убить, ограбить, и поверят, как не поверить барину...
Яшка слез с саней лениво, подошел к лошади, стал стягивать Тайку; та упиралась, хваталась за дугу, кричала на весь лес:
– Не пойду я. Не задей, сколотыш, не задей.
«Сволочь, сама виновата, – зло думал Яшка, путаясь в девичьих юбках и тоже хмелея от потасовки и близкого женского тела. – Никто не велел ехать, сколь настырная, вся в батюшку – глота, хоть впоперечку лягу, да только по мне быть».
И все же стащил Тайку с лошади, понес на руках в повозку:
– Ну чего упыришься, дура? Там же мягче ехать, а он тебя не задиет. Он не такой дурак, чтобы прилюдно. Больно ты ему нужна. Ну не противься.
– Ты не позволишь, Яшенька, правда? – сквозь слезы доверчиво спросила Тайка. – Ну спусти меня, спусти. Ой, боюся я.
Землемер велел Яшке сесть на лошадь верхом, сам стал уговаривать Тайку, пробовал вытереть слезы:
– Ну что ты, голубушка, испугалась. Я против тебя дурного не замышляю. Ну вот и хорошо, ну и ладно. – Он еще что-то невнятно бормотал, пробовал расстегнуть у девки шубу.
Тайка растерянно глянула в плавающие мутные глаза землемера, отпихнула от себя его благородие, вывалилась из саней и побежала по дороге обратно к дому.
– Лошадь останови, дурень, – закричал Сумароков. – Догони и волоки сюда...
И снова Яшка не посмел ослушаться, поспешил за Тайкой, а она, услыхав погоню, уже безумная от страха, бросилась прочь от дороги, в лес, глубоко проваливаясь в снега. Яшка шально глядел в спину девке и чувствовал к ней безмерную злость, а Сумароков все кричал:
– Дурень, волоки сюда...
С этой глухой злостью Яшка догнал Тайку, приволок и бросил в возок. Сам забрался на лошадь верхом и с каким-то тупым наслаждением слушал, как тоскливо упрашивает Тайка:
– Яшенька, оборони меня от насильника. Христом-Богом прошу.
Версты с две ехали ступью, и Яшка не смел оглянуться, потом услыхал раздирающий душу крик, и снова злое удовольствие шевельнулось в нем.
В Соялу приехали затемно, остановились на квартире у крестьянина Пахома Пахова. Здесь Сумароков решил заночевать, он устал от девки и от длинной дороги и хотелось водки. Сам хозяин, мертвецки пьяный, спал на полатях, а его баба слезла с печи, сразу запалила свет, стала хлопотать с едой. Тайка, глухая ко всему, убежала за загородку, тупо прислушивалась к себе и каждый раз вздрагивала от мужских шагов, которые, казалось, приближались к ней. Душа у Тайки высохла и слезы пропали, она была в ознобе и невидяще смотрела вокруг, не зная куда забиться, чтобы исчезнуть насовсем. Зашла хозяйка, и Тайка стала упрашивать чуть ли не на коленях, а баба пуще ее дрожала от страха, – диво ли, сам землемер на постое, и едва разбирала, что говорит девка.
– Хозяюшка, спусти меня как ли, Христом-Богом прошу. Барин меня снасильничал. Ой, как мне, девке позорной, жить ныне...
– Ничего, ты пореви, – утешала баба. – А спустить тебя не могу, барин нас и вовсе живота лишит. Ты уж как ли перетерпи, Господь с тобой. Бабье-то горе забывчиво, а тело заплывчиво.
Тут пришел Михайло Пахов, брат хозяина, принес бутылку водки, и Сумароков налил всем по стакашку. Тайка показалась из перегородки, встала у дверей; она уже ничего не видела толком и монотонно, как нищая, стала просить Михаилу Пахова, чтобы он увел ее отсюда. Но мужик только пожимал плечами и ухмылялся, не зная на что решиться, землемер сидел напротив злой и черный с лица; и Михайло думал только, как бы незаметней смыться отсюда, от греха подальше.
А к Сумарокову от вина пришла злость, ему хотелось кричать и кого-то бить, и когда Михаиле Пахов ушел, приказал Яшке принести из загородки девку. Яшка, уже хмельной, послушно принес Тайку и поставил посреди избы. Хозяйка, бледная от страха, направила в переднем углу под образами место и скорее заползла за печь, там крестилась и умоляла Бога, чтобы тот пронес несчастье мимо избы. Сумароков поил Яшку из колокольчика и тяжело смотрел на Тайку. А девка уже была не в себе, ее можно было четвертовать, измываться над ней, и она послушно бы подставляла свое тело, и только одного хотелось измученной душой, чтобы наконец оставили в покое и дали уснуть.
Яшка послушно пил из колокольчика, землемер сильно кренил над ним медную посудину, и парень чуть не заливался вином.
Потом землемер грозно прогнал Яшку, взял Тайку за косу, намотал ее на руку и, больно заламывая девке голову, повел под образа...
Яшка во дворе зарылся в сено и сразу тяжело и пьяно уснул; беспамятно храпел на полатях хозяин; свесив голову, не смея уснуть, сторожко наблюдала за барином баба, и, пугая ее, гулко и неожиданно садилась от мороза изба.
Глава пятая
Если бы весна была на дворе, не привез бы Яшка девку обратно в родимый дом, кинулась бы она в омут, и все бы страдания разом кончились. Но зима стояла на самом переломе, мороз палил, лес тихо позванивал обледеневший, когда ехали суземьем и порой задевали широкими обводами саней придорожный ольшаник. Тайка лежала, укутавшись в шубу, и не слышно было ее, не видно, словно везли покойника. Яшка уже пришел наутро в себя и, проводив землемера в Совполье, выслушав его грозные наставления, стал крепко думать, как бы выпутаться из беды. Ему было жаль Тайку, он вспомнил, как носил девку на руках, и в душе вместо вины рождалось почему-то легкое смущение.
В полдень въехали во двор. Яшка уже приготовился обороняться, ожидал, как сейчас выскочит из сеней хозяин и начнет матерно лаять и собачиться. Но, видно, самого где-то не было в доме, ушел по делам в деревню, потому что встретила Августа; едва сошла с крыльца: совсем опухла баба от водянки и с трудом переставляла ноги, волосы растрепались и выбивались на желтое рыхлое лицо седыми прядями.
– Что-то скоро нагостилась? – спросила Августа у дочери, но Тайка не ответила, с посторонним взглядом прошла мимо, каменно поднялась по ступенькам в сени, мать проводила девку взглядом и пожала плечами.
– Что с ней? Прошла как удивленная[49] . С матерью нынче и не здоровкаются...
– Барин ее снасилил, – угрюмо сказал Яшка, не показывая лица из-за лошади. Так ему было ловчее говорить.
– Как снасилил? Полно тебе молоть-то ерунду.
– Кабы ерунду молоть, – хрипло сказал Яшка, и Августа почему-то сразу уверилась, что говорят истинную правду, да и этим ведь не шутят, припомнила меловое лицо дочери, всплеснула руками, натужно дыша, поспешила, как могла, в избу.
– Как же это, а? Что же это на свете белом деется? Доченька ты моя, красавушка ненаглядная, – сразу больно резануло сердце, и почувствовала Августа, как близка ей и любима дочь.
Она нашла Тайку в горенке. Дочь лежала пластом на кровати, тупо глядела в потолок и не шевельнулась, когда мать переступила порог. На белом лице зеленые глаза казались черными.
– Ты не лежи молчком, ты поплачь, осподи, – робко подсела подле, стала гладить льняные дочерние волосы, еще не решалась спросить о главном, да и не было уже нужды спрашивать...
«Ой грех-от, ой грех-от, – думала, как теперь жить девке. – Ой, чуяла я беду, уж так сердце стогнуло, когда из светелки смотрела на дочь. А тот-то, басурман, развалился, прости Господи, как беременная баба, не шевельнулся. Ой, тятька, тятька, где-то бродишь по деревне, а не знаешь еще нашей беды, на свою голову привечал-поил нехристя окаянного, а он надругался, набесчетил нашу красавушку. Знатье бы такое, заранее бы отвел беду от ворот, на амбарный замок запер горенку, чтобы нечистая сила не поманывала девку. Она, она, проклятая, смутила душу...»
– Ты поплачь, поплачь, доченька. – Августа стала раздевать девку, увидала рубаху в крови, ахнула, уже слезно запричитала, потом одела дочь во все чистое, посадила под образа, голову гребнем убрала, заплела в косу ленту алую, расчесывала Тайке волосы, а сама была словно глупая. Дочь сидела ровнехонько, только в горле у нее, будто у лебедушки, что-то булькнет и затихнет, и грудь колыхнется шумно, – знать, давит ее рыданье, а слеза прорваться не может.
– Ой уж обидно, доченька, как не обидно во молодости опозоренной быть. Теперь уж подавно худая слава ляжет, да и каждый озорник будет попрекать да радоваться. Ты поплачь, доченька, пореви...
А Тайка молчала, глазами каменными смотрела на дверь, и на покусанных опухших губах проступала пузырьками кровь.
– Ты ведь у нас разумница, ты у нас красавица, ой, бабы Васени нету на тебя глянуть, вот бы возрадовалась, – сказала Августа, и тут Тайка всхлипнула, ударилась головой о столешню, потом откачнулась да затылком о стену, да потом опять о столешню, да смеяться стала, да икать и кричать громко, с лица совсем помертвела, подтаяла, а часа через два тут же за столом и уснула, будто в омут провалилась. Августа спохватилась, едва до бабы Соломонеи дошла. Бабка, уже совсем древняя, а Бог не прибрал ее, поспешила к Чикиным, долго шамкала, жевала собственный язык, и нижняя челюсть убегала к самому носу. Сдувала с крынки воду да плакун-травой трогала Тайкин живот и шептала:
– Осподи Иисусе Христе сыне Божий, помилуй мя грешную. От злодея все, нагонил он по злости скорбь. Начнет голубушку-касатушку скорбь мучить. За душу-то она трогает, сердечушко надрывает... Августа, а не померла ли в Дорогой Горе какая Тайка – Таисья? Уж не с нее ли икота[50] перескочила?
Стали вспоминать, кого нынче на жальник снесли, но вроде бы Таисьи не помирали.
– Злодейское, знать, дело...
– Как не злодейское-то, – эхом откликнулась Августа и язык прикусила сразу, опомнилась: проскажись только, старуха мигом разнесет худую славу по всей деревне. Осподи, хоть бы родитель скорее в родной дом вернулся, и неужели не чует он сердцем беды, леший его носит где-то...
– Ты, Августа, небось помнишь Матрену, с икотой ходила? Когда Матренка-то померла, то икота из нее выскочила и прилетела птичкой к Юрьевым: у них, вишь ли, тоже была девка Матрена. Икота оборотилась в мышь и долго, знать, под крылечушком сидела, все хотела в бабу попасть. А лонись, о прошлом годе, несла Матренка с матерью ушат воды да на крыльце оскользнулась да пала, да на беду свою лешакнулась, а икота тут и была. Вошла, окаянная, в Матрену да ну как мучить. Да столь ее, бедную, и поныне надрывает, как почнет трясти – и трое мужиков не удержат, так к потолку и бросает, так под потолок и мечет, вот сколь она, зараза, сильна да нравна. Откуда только дика сила берется. Да еще того ей нать да другого не нать. Порой Матренка-то-себя за мужика выдает да под окна к девкам ходит, а порой за ворону себя числит, в лужу посреди улицы утыкнется, руками хлопает да каркает...
– Упаси Боже, чтобы с Тайкой эка беда приключилась, – испугалась Августа, трогая Тайкин лоб.
В жар бросило девку, и розовая крупная испарина проступила на лице. И тут подсмотрела случайно Августа, что сам хозяин идет улицей, сразу захлопотала, заторопилась, стала знахарку выпроваживать: «Ты, баушка, вечерком заходи, навести девку-то. Я уж тебя в обиде не оставлю».
А только Петра Афанасьич занес ноги в избу, выхватила из-под лавки дочернюю позорную рубаху, замахала под носом:
– Вот тебе, вот тебе, – а сама плачет, по желтому лицу слезы горохом. – Басурман-то привечаешь, а они пакостят, на позор перед всей деревней выставили.
– Загунь, колода пуста, че это? – возвысил голос Петра Афанасьич.
– Че-че, и неуж не видишь?
– Говори толком-то, не мельтеши...
– Да толком... Тут скажешь толком, ведь барин-то, что гостевал намедни, Тайку нашу изнасилил. Над красавушкой голубушкой надругался...
– Вот она, беда-то. Сердцем чуял, – тоскливо прошептал Петра Афанасьич, растерянно сел на лавку, но тут же безумство захлестнуло его, лицо побагровело и стало страшным.
– Убью его... Где он, сколотыш? Это он, он все, пакостник, зло наше.
– Осподи, опомнись, опомнись, не бери зла на душу, – захлопотала Августа.
– Сгинь, сгинь, нечистая. Яш-ка-а! – заорал на весь громадный двор, покачиваясь, пошел к порогу, как раненый зверь. Никогда не думал Петра Афанасьич, что так может болеть душа. – А он-то, фендрик, головастик, как гость хороший сидел тут. И его убью, всех... нынче же. Яш-ка-а, сколотыш, не прячься, все одно разыщу, под землей раскопаю.
Яшка вошел неожиданно, кафтан на нем распахнут, руки на груди; слушал терпеливо, как орет хозяин. Петра Афанасьич подступался, махал руками, все норовил стегнуть кулаком парня, но встречал такой пронзительный взгляд, такая глубина была в посветлевших Яшкиных глазах, что невольно спотыкался мужик, захлебывался словами, потом одышка взяла, упал на лавку, торопливо забегал руками по рубахе, отыскивая пуговицы. Яшка все так же стоял недвижно у порога, только ссутулился больше, разжал онемевшие кулаки и глаза потухли, потемнели, погасли в них пронзительные огни.
– Не уберег, эх ты, а я-то... А может, ты? – прошептал тихо и горестно: две гордости, две похвальбы было у Петры Афанасьича – лошади и меньшая девка Тайка, и вот радость сердечную своей рукой подкосил, сам, выходит, под корень подрубил дочь-красавушку.
– Батюшка, Петра Афанасьич, прошу не казнить, прошу выслушать, – с печалью в голосе начал Яшка. – Застращал он меня, каторгой застращал.
– И не заступился, чего не заступился? За хозяйскую дочь жизни своей должно не зажалеть.
– Барин ведь, спробуй на барина руку поднять, – покорно оправдывался Яшка, потом стал рассказывать, как случилось все, а Петра Афанасьич слушал, обвалившись спиной к стене, и, закрыв глаза, представлял, как он нынче же поедет в Мезень, зайдет в земскую канцелярию и прилюдно убьет нехристя, как собаку убьет, а там пусть делают с ним что хотят... Всевышний, зришь ли ты сию несправедливость? Праведный, подвигни меня на безумство во имя добра.
– Я тебя видеть не хочу. А его поеду и в гроб уложу, – как давно решенное, спокойно сказал Петра Афанасьич, прислушиваясь к своему голосу.
– Убить-то эко диво. А после вас в колодки закуют и в Сибирь-матушку на страданье...
– Вон, вон, – вяло прикрикнул хозяин.
– Я-то уйду, – бормотал Яшка. – Меня, сироту, каждый изобидеть может. А мне вас всех жаль. – Замедлил шаги у порога, ждал спиной, когда остановит хозяин.
– А, убежать задумал? Я все вижу, от меня не сокрыться вам. Ну-ко сядь, сядь на лавку, – грозно приказал Петра Афанасьич, и в голосе мужика Яшка услыхал задумчивое сомнение. – Убить-то что, это ты верно сказал, сколотыш. А потом из-за нехристя страдай. Упекут, куда и ворон не залетает, истин Бог, упекут, а было бы за кого, тьфу, прости Господи... И девке вдруг загорелось, приспичило об эту пору. Не нами сказано, что у бабы ум-от в заднице. И ничем, осподи, неужели ничем нельзя было помогчи? Всю ли правду ты мне выложил?
– Как есть на духу...
– Ума не приложу, как поступить.
– Может, вам в Соялу стоило бы съездить самим да порасспросить.
– Он в Совполье поднялся? Да, да... назад ежели, то верхней дорогой...
– А то начнут звонить, разведут по деревне, сояльцам только на язык попади.
– Как нехорошо, как нехорошо все случилось. И обратно не вернешь. Кабы обратно повернуть...
– За потраву-то штраф полагается.
– За потраву-то да, там другой резон... Ах ты, басурман, на что он меня толкает, – запоздало возвысил голос Петра Афанасьич. – Ну и собака, ну и собака. Тут Господне Провидение, ох ты, осподи и прости. Как чуял я, будто душой слышал, когда наговаривал: расти, Яшка, за Тайку отдам.
– Как скажете...
– Ты что, сколотыш, и взаболь подумал? Да лучше своими руками утоплю...
– Как прикажете, Петра Афанасьич, только не с руки вам это, – намекнул Яшка, глянул в красное безбровое лицо хозяина, и в глазах его родился прежний пронзительный свет.
– Ну ступай, сотона. Ступай же прочь, диавол...
А Тайку взяла лихорадка и не отпускала. Пришлось бабку Соломонею еще не раз в дом звать. Та двенадцать иродовых дочерей вспоминала и нашла болезнь от четвертой – знобеи. В чашку с квасом соли щепотку бросила да три уголька, на сторону подула и ножом чертила кресты да нечаянно тем квасом сбрызнула на Тайку и ложку кваса сквозь зубы влила, а остальное повелела со взвоза на четыре стороны наотмашку выплеснуть; лицо девке обтереть спинкой рубашки да поить настоем из черной травки по ложке до пяти раз в день, а как лучше будет, то давать заварки тысячелистника из муравленого горшка.
Тайка еще в себя не пришла, когда Петра Афанасьич собрался, не мешкая, в Мезень, а перед тем в молельне творил заговор трижды, в воду, да в воск, да в белый плат, да в маленький кусочек хлебца: «Плюнь, помни и помяни, а сохни по мне, раб Божий Сумароков, все начальные и чиновные люди, и судьи праведные, смирны и кротки, и милостивы будьте. Аминь». Потом водою той умылся, воск положил ко кресту, хлебец съел, а платом утерся. Еще плохо иль хорошо, но написал собственноручно две жалобы в воеводскую канцелярию на уездного землемера капитана Сумарокова; одну запечатал хлебным мякишем и отдал Яшке, а вторую в кафтан положил. Тут только Петра Афанасьич почувствовал себя сохранным от злых сил и нечестивых козней и ранним утром выехал в Мезень.
Ему ни с кем не хотелось встречаться, чтобы не расплескивать свою душу по мелочам, чтобы не выдать себя в случайном разговоре, а потому, противу обыкновения, по гостям не ходил, чаи-вина не распивал в купеческих семьях, а оставил коня на постоялом дворе и сразу ушел в город. Даже на самое плохое настроился, может, и на смерть, а потому Яшке, перед тем как уйти, строго наказывал постоялый двор не покидать, поджидать хозяина до полуночи, и если он не вернется, то заночевать и наутро самолично отнести письмо в воеводскую канцелярию.
Петра Афанасьич выследил землемера на квартире; Сумароков ужинал в благостном расположении духа. Перед тем как войти в избу, мужик ухватился за скобу, чтобы окончательно укрепить натуру, и прошептал: «Вставайте, волки и медведи, и все мелкие звери, лев-зверь сам к вам идет». И Сумароков действительно растерянно приподнялся, когда увидел в дверях покорную и робкую фигуру Петры Афанасьича.
– Как вы здесь очутились? – спросил он, заикаясь, и серебряная вилка чуть не выпала из руки. – Вас никто не остановил? Глаша, Глаша! – закричал Сумароков. Дверь открылась, просунулось простоволосое чернявое лицо.
– Вы меня звали, Никита Северьянович?
– Ты что это, голубушка... Проходят тут всякие, натопчут, тебе же убирать. – Сумароков приходил в себя.
– Я в лавку за постным маслом, на минуточку, думаю, – женщина смерила удивленным взглядом громоздкую фигуру Петры Афанасьича и снова жалобно и молча спросила глазами Сумарокова, мол, как поступить прикажете.
– Поди, поди. Следующий раз, сударыня, только чтоб... Так что вам угодно, милостивый сударь, и кто вы?
– И не признали, ваше благородие? – дурашливо посмотрел Петра Афанасьич. Он чувствовал, как нутро его наполнялось восторгом, даже кончики пальцев пронзительно заныли и во рту стало кисло от слюны. Такое случалось с ним, когда в молодости, бывало, хаживал с рогатиной на медведя, и так же пусто и холодно становилось в груди, и ладони потели на шероховатом держаке рогатины.
– И не знавал, – чувствуя нелепость своих слов, холодно сказал Сумароков и тут же подумал: «Ах, Господи, как глупо все. И угораздило же меня спьяну...» Острый кадык шевельнулся на тонкой шее, землемер сглотнул липкую слюну.
«Как птенчика бы его, ей-Богу, хряп... и все, – подумал Петра Афанасьич, заметив, как прокатился на шее у Сумарокова кадык. – Душить бы их всех...» Но невольная просительная улыбка родилась на опущенных губах. И иначе нельзя, тут не медведь, на рогатину не подымешь.
– Так и не признали? Может, с горя меня угораздило перемениться? От ты, а? Думал, зайду к Никите Северьяновичу, отгощу. У нас уж в Поморье так заведено, – льстиво балагурил мужик. По лицу Сумарокова он уже видел свой верх и даже втайне удивился тому, с какой легкостью все получилось. Но ловушку Петра Афанасьич захлопнуть не спешил, решил покуражиться:
– Меня вы можете и не знать, это уж как вам угодно, ваше благородие. Но только стыдно, милостивый государь, ой стыдно. Чай, вино давно ли пили, осетровой спинкой да семужьим балычком закусывали, ну, да это Бог с им, печеному-вареному недолог век. Ежели забыли, ваша воля, не обо мне тут речь.
– Мне некогда, не ко времени вы, братец, пришли, – напомнил Сумароков, протягивая руку для прощания, но столь же быстро отдернул ее, просушил ладонь полотенцем. – Если дело ко мне, прошу в служебное время. – И сам прошел к двери, торопливо распахнул ее.
– Как прикажете, ваше благородие, – гнул спину Петра Афанасьич, стараясь казаться перед землемером не столь высоким, и даже умудрился заглянуть в лицу Сумарокову снизу вверх. – Мы люди темны, глупы, на краю света живем.
– Пришли, напугали, разве можно подобно татю вторгаться?
– Как прикажете, барин... Но тут, если не затруднит особо, не погнушайтесь моими каракулями. Мы ведь люди дики, аки звери сокрылись от мира. – Петра Афанасьич достал из-за пазухи письмо, протянул Сумарокову. Тот быстро пробежал глазами, помрачнел, душевное волнение легло на лицо.
– Боже, как глупо все случилось, – воскликнул Сумароков, невольно и жалобно скривился, вспоминая тот проклятый вечер. – Сможете ли вы простить меня, братец? – А в голове мелькнуло: «Кликнуть бы драгуна, дать плетей этому наглому туземцу да бросить в кутузку, обвинить в дерзости и неуважении к чину. Нет-нет, туземец не так прост...» – Ах, как глупо все, черт смутил меня, демоновы чары. Так сможете ли вы простить меня?
– Как не простить-то, ваше благородие. Мы люди дики, на краю света живем. Мы вас, барин, не можем не простить. Только девка-то моя в плохом состоянии, горячка с нею, вот как.
– Может, я чем помогу ей? – торопливо напомнил Сумароков, только чтобы быстрее закончить постыдный разговор.
– Об том и речь, ваше благородие. Девка-то плоха, да ежели и встанет на ноги, только кто ее таку позорну замуж возьмет. Об том и речь. Другой бы на арапа, за грудки стал хватать, а вы не... Потому как барин с понятием.
– Какую цену даете? Ну-ну, и закончим, ради Бога, этот разговор.
– Дочи больна, замуж ее не выпихнуть, чем-то и возместить надо. На две тыщи я решил смелость взять...
– Ты что, пьяный, сейчас драгуна крикну! – вспыхнул Сумароков.
– Это уж как вам пожелается. Мы люди глупы, темны. Но от двух тыщ я не отступлюсь. И вам не резон... Чего уж хорошего в Сибири, сошлют, куда ворон не залетает.
– Нет, нет. Но две тысячи, да помилуй Бог. Это ж годовое жалованье. И стыдно, мужик, дочерью своей торговать. – Сумароков пробежался к дивану, обратно, и на лице его видимо боролись два желания: ему до омерзения противно было глядеть на краснорожего мужика и в то же время хотелось скорее покончить с неприятностями, пока они не получили огласки.
– Как вам угодно. Тогда пошел я...
– Нет, нет. Мы же не решили, братец. Может, водочки выпьем, а? На брудершафт. – Быстро выглянул за дверь, потом подмигнул Петре Афанасьичу. – Бабы, они прелюбопытный народ. А потом разнесут...
– Бабы, они такие, ведьмы они, одно слово. А насчет водочки, премного благодарен. Пора мне, пора, да и вас стеснил.
– Пустяки, о чем речь. Ах, как неприятно. Где мне достать таких денег? И никак?..
– Я еще по-Божески, ваше благородие, – почти шепотом ответил Петра Афанасьич, наслаждаясь растерянностью землемера... «Ах ты, гнида, – думал он, – пакостить, так великий умелец. И до чего слабый народец, прости Господи». – Другой бы на весь Божий свет крик поднял, а я не-е. Я понимание имею. По-людски нать.
«И ничего придумать нельзя. Уже по деревням смотался, ох негодяй, и показания снял. Ворон, истинный Бог, ворон. Девкой своей, как мороженым мясом на базаре, торгует... Драгуна кликнуть? Нет, нет, только не это. Шум подымется, завтра вся Мезень узнает; позор, Господи, до самого губернатора дойдет, считай, и выше, до государя-батюшки. Ах ты Боже мой. Глупец я, чурбан, дундук, из-за бабьей юбки такое... В Сибирь, пожалуй, не сошлют, это обойдется, но разжалуют, как пить дать – разжалуют. Ой, кобель паршивый, своей бабы мало, ведь Глашка под боком. Загорелось? Бери сколько хочешь» – так суматошливо думал Сумароков, бросаясь в крайности, и ничего не мог придумать. И все же решился:
– Тысячу серебром, остальное ассигнациями...
– Как вам будет угодно, – согласился Петра Афанасьич, чувствуя неожиданную усталость. «С вонючей овцы хоть шерсти клок».
Только перед масленой Тайка поднялась на ноги, но ничто ее теперь не радовало: она могла часами сидеть на лавке под образами, тупо уставившись на дверь, пока кто-нибудь не окликал ее, и тогда она вздрагивала, через силу вставала, бродила по избе с потухшими глазами – и смотреть на нее нельзя было без слез. И когда Петра Афанасьич объявил дочери о своем решении обвенчать ее с Яшкой, Тайка не стала отмахиваться, не завыла слезно на весь дом, а тихо, будто через силу, ответила: «Как вам угодно, батюшка».
Со свадьбой не мешкали, сыграли ее без шума-грома, и вся Дорогая Гора дивилась причуде Петры Афанасьича. А Яшка вместе с молодой женой получил в приданое ее богатые сундуки, трех лошадей и пятьсот рублей ассигнациями на первое обзаведение. Вот уж воистину: не было счастья, так несчастье помогло.
Часть шестая
Щука хитра, а не съесть ей ерша с хвоста
Народная поговоркаГлава первая
Решили пойти на Матку на вешнего Николу, под конец мая. Долго Петра Афанасьич зятя уламывал на новой шкуне за кормщика сходить, но Калина Богошков упрямился, годы свои считал и на болезни кивал, уж больно не хотелось ему идти нынче на Новую Землю: год казался несчастливым, а значит, иль море потопит, иль ошкуй заломает, иль цинга-злодейка съест. Но однажды напомнил Петра Афанасьич о большом долге, все медлил, а тут сурово напомнил. Оглядел Калина свою избу, махнул рукой и согласился. От любого, самого нищего купчишки бы с радостью побежал на Матку, считай, уж лет пять там не был, а от Петры Афанасьича уходил на промысел с усталостью и раздражением, как невольник. А как дал согласие, сразу стал разговаривать с тестем небрежно и сквозь зубы:
– На ровных паях пойдем, плотной котляной[51] , дак ты своих-то работных готовь, как полагается по старинному обычаю, не жмись, не скупись. Едем недель на двенадцать, значит, клади муки оржаной на брата пудов семь, пуда полтора житней муки, да трески соленой, сам знаешь, наш мезенский мужик без трески никуда не пойдет, да солонины пуда два, фунтов десять масла коровьего и столько же постного, ведь без масла никакая каша не живет. Да клади на себя ушат молока кислого или творогу, это уж как душа твоя желат, фунта два гороху на постные дни; да не забудь меду красного – без киселя в постные дни совсем скучно, как ни мудри. Опять же морошки бери из расчета бочку на всех: без морошки цинга-старуха одолеет насмерть, это уж как есть, в баню не ходи, а смерть на Новой Земле не человечья, без покаяния мрут, без попа. Да не позабудь оленью постель взять, да одеяло овчинное, ведь тоже Божий человек, не нехристь какая, чтобы на холоду дрогнуть. Ну, а дальше пойдет снасть всякая под рыбу и зверя, ружья, порох. А как судно-то твое, дак обряди его по-морскому, ведь путик у нас дальний, хорошо бы до Матки в две недели уложиться... На Троицу крайний срок выбегать надо отсюдова, пока солнце длинное.
Наконец собрались, шкуну вывели на приглубое место, загрузили, только бы паруса поднимать, а ветер замешкался, пропал, это уж самая настоящая беда. Но в деревню не возвращались, хотя и рядом она, крыши видать. Яшка сидел на берегу хмурый, плевался в воду, порывался бежать в избу, где оставалась молодая жена... Прощались с Тайкой холодно, хотел обнять ее, а она отпрянула, ушла за загородку и оттуда выпроводила холодными словами: «Поди давай, опоздашь ведь. Ваши-то все под угор сошли». – «Тая, за што ты меня обидишь? Я ли тебя не люблю». Злость поднималась в душе, хотелось схватить бабу за волосы и хорошенько навозить, чтобы знала, кто в доме большак. Но только представлял, как взглянет на него Тайка огромными пустыми глазами, и сердце сразу холодело, и опускались руки... Называется, женился он. На деревне узнают, засмеют, уж который месяц вместе живут, а еще своей бабой не разговелся. Как после свадьбы остались одни, пробовал приласкать, а она побелела, закричала, а он еще подумал: перебесится и успокоится, потому смелее ухватил молодуху за волосы, к себе потянул, да и не рад был, ей-Богу, не рад. Вцепилась Тайка зубами в руку, ногтями лицо распахала, на следующее утро Яшке стыдно было на люди показаться... «Ты тут блюди. Узнаю, что сблудила, убью», – добавил Яшка, уходя. Но Тайка промолчала.
И сейчас, вспоминая проводины, Яшка наливался ревностью и злобой, ему чудилось, что не успел он вынести ноги за порог, как Тайка убежала к своему хахалю; и небось сейчас они милуются с Донькой и всякие такие вещи делают, до которых она не допускает Яшку. Но вслед за этим на него вдруг наваливалась такая слезливая жалость, хоть криком кричи, и Яшка понимал, что любит Тайку; хотелось убежать, упасть перед ней на колени, просить прощенья, приласкать, и казалось, что стоит поцеловать ее, как она сразу образумится, улыбнется ответно и приникнет к груди.
Но уйти в Дорогую Гору нельзя, что ты сейчас ни воображай, потому как всем правит кормщик, и стоит только ослушаться его, как тут же тебя изругают и выгонят вон. А воздух, черт бы его побери, был сух и недвижен. Ждали ветра у самого среза воды, потом и полдничать время пришло, костер запалили, в медном казане сварили артельное хлебово. Только Калине Богошкову не елось не пилось, он все убегал на лайды[52] , забродил в тинистую зацветшую воду, слюнявил палец, искал ветер. Пусто; даже в сырых местах, где обычно живут сквозняки, сейчас было до горечи сухо и от болотной воды несло кислой духотой.
Вернулся Калина мрачный, да и как тут было не темнеть лицом, если каждый день у промышленника на счету, время промысловое идет, да и кормежка тратится. Пришел к костру и объявил артельщикам:
– Будем плешивых рубить[53] , иначе ветра нам не дождаться. – Взял палку, нож из складней вытащил, котляна обсела его кругом, по обеим сторонам самые речистые баюнки-матюгалыцики, мастера своего дела. Стали вспоминать плешивых по окрестным деревням. Сорок мужиков нужно набрать.
– Прошка Юрьев из Ручьев...
– Не, я в прошлом годе видел его, копна волосьев. Разве только баба выдрала.
– Может, и баба выдрала, только неделю назад виделся на стане, голова у него как коленка голая.
– А, так-перетак, пивная бочка, пустое брюхо на кол навесим. Дуй в парус пуще, дохлая тресковая голова.
– Он заводной мужик, его тронь – да не остановишь. Его, пожалуй, во главы поставим, он других поведет.
– А Петра Чикин...
– Хозяина, ты што, сдурел?
– А што, лысый, дак. У него башка гладкая, как кобылья попа, на ней только орехи-гниды щелкать.
– А Сенька Лизун.
– Петрован Ефимкин хвастался намедни, во, мол, дожил до чести, можно и в баню до самой могилы не ходить. Никакая зараза не расплодится.
Стали мужики костить-ругать, чтобы сильнее разозлить его: злые плешаки дуют долго и истово. Так перебрали по деревням всех плешивых, тридцать девять набралось, а на сороковом заколодило, хоть ты лопни. Наконец, после долгих перепалок, вспомнили маленького горбатого ненца из-под Койды, с головою, как вяленое березовое полено.
– Калина Иванович, – спросил Яшка, – пойдет ли в счет нехристь-самоедина узкоглазая? Вдруг дуть воспротивится, он и других-то плешаков мутить будет.
– У него баба наша, майденьска родом. Она его за жизь-ту так отлупцевала катанцем по башке, что и лысина с этой лупцовки пошла. Порато он пить любит, попивает винцо-то, через то и бой меж има идет. Ничего, в торбу под самую завязку пусть лезет.
Сделал кормщик последнюю метку, потом ножом полоснул себя по руке, кровью смазал зарубыши, бахилы повыше подтянул и, оскальзываясь на подводных камнях-лудах, стал забродить в реку. А мужики на берегу завопили что было сил: «Запад да шалоник – пора потянуть. Сорок плешей, все сосчитанные, пересчитанные, – шалоникова плешь наперед пошла».
Тут Калина встал к реке задом, нагнулся и палку с зарубышами плешивых спустил по течению меж ног. А сам, черпая пригоршнями воду, стал плескаться и кричать: «Дуй, ветер-шалоник!», и котляна на берегу запела: «Западу, шалонику – каши наварю и блинов напеку, а востоку и обеднику – спину оголю. У запада, шалоника – жена хороша, у востока, у обедника – жена померла».
Ночь отоспали у костра, а утром кормщику и палец слюнявить не надо. Хмурые рваные облака мчались над самой водой, нанося на берег секучую влагу; ветер, нарастая, бежал по темной реке, задирал белые гребешки, а там, ближе к устью, уже родилась игровая волна – толкунец. В казенке на шкуне вдруг запел вторую зорю долговязый кормщиковый петух: после каждого хриплого вскрика он шумно хлопал крыльями и долбил в палубу клювом.
Дослушав петуха, поставили мужики косой парус, и побежало суденко кипящей широкой водой. Ветер нарастал и бился в тугом полотнище: знать, добро старались, дули в парус сорок мезенских плешивых.
... Проводил Донька отцову шкуну и совсем тревожно зажил. Раза два видел случайно Тайку, старался идти рядом с ней, не боясь чужих взглядов и наговоров, спрашивал нерешительно:
– Тая, как же так, а?
– Не надо, Доня...
– Ты скажи хоть, что случилось?
– Не надо, люди смотрят. Что скажут... Венчанная я жена.
Спотыкался Донька, смотрел в любимое лицо и не узнавал его: мертвое оно и недвижное, губы поблекли разом и посунулись. Жалость душила Доньку, и он едва сдерживал себя, чтобы не обнять Тайку посреди улицы. Но жалость мешалась с невыносимой обидой, и парень холодно спрашивал:
– Ты не любила меня, да?
– Да, да, да... Только отстань от меня. Не любила, – почти с наслаждением кричала Тайка, но тут же испуганно озиралась, забегала в дом и для надежности запирала дверь на засов. Подавив в душе неясные воспоминания, тупо сидела на лавке, уронив в подол потрескавшиеся от воды руки; потом начинала бродить по избе до самых сумерек, все находя какое-то дело, а когда бычьи пузыри в оконцах тускнели, закрывала их волочильными досками, забиралась на полати и долго лежала в душной темноте с открытыми глазами. Порой в груди просыпались рыдания, они подступали к самому горлу, душили Тайку, и казалось, что сейчас заплачет она и будет долго и освобожденно рыдать, но горький комок растворялся, а глаза оставались сухими. Иногда заходила Евстолья, шарила взглядом по избе, спрашивала смиренно: не грустно ли молодухе без мужика да не страшно ли ночевать одной в избе, может, ей, Евстолье, приходить на ночь сюда, вдвоем-то все веселее будет. Но Тайка отмалчивалась, порой не выдерживала, зло кричала: «Нет, нет, нет...» Ей не хотелось никого видеть, особенно родичей, и Тайка облегченно вздыхала, когда сестра обиженно уходила.
А Донька старался заглушить себя работой. Когда зори целовались, покидал избу, шел на угор, зло вырубал из осиновых колод днища для зверобойных лодок, так что рукоять тесла нагревалась от ладоней. Потом палил костер, он казался бесцветным в летней белой ночи: легко дрожал дым, дрожала река, покрытая молочным туманом; на той стороне деревья стояли по самую поясницу в розовой пелене и, казалось, плыли в воздухе синими косяками. У Доньки тоже начинало рябить в глазах, он утомленно вздрагивал и вдруг понимал, что уже спит. Обычно он через силу поднимался, заставлял себя шевелиться, потому что такая одурь не рождала в голове мыслей и для него была хороша. Заливал осиновую колоду речной водой, потом калил на костре серые камни до золотого свечения и клещами кидал эти булыги в желоб. Вода взрывалась, исходила морошечным паром, осина отмякала, становилась податливой, и тогда Донька ставил распорки и разводил днище до нужных размеров.
Одну зверобойную лодку он уже сработал, осталось только приладить к днищу два крена-полоза. А пришивают их молодой елкой-чащинником, которую в густом бору выгнало в рост. Донька парил тонкие стволы и несколько вечеров вил, как веревку: такая винтовая ель никогда не сломается и простоит дольше полоза.
Сегодня парень и хотел этим заняться, просверлил напарьей первые отверстия, просунул через полоз витую ель, а натянуть – не хватило силы: приступила неожиданная слабость. Облокотился на заднее уножье[54] , да так и заснул. Пришла Евстолья звать пасынка на утреннюю выть, а Донька лежит в лодке будто покойник, даже бабу-то всю перепугал своим видом. Едва пробудила парня.
Встал Донька хмурый, взлохмаченный, за последние недели совсем дошел парень, только и остались на лице литые скулы да круглые глаза. Молча ушел к реке, там нехотя плеснул на щеки пригоршню воды, так, одна видимость, только костровую сажу по лицу размазал, еще постоял на берегу, и свежая утренняя прохлада пробудила его. Вдруг вздрогнул Донька и подумал, что нынче должно что-то случиться.
С этим чувством он завтракал, и Евстолья радовалась его посветлевшим глазам; потом как зверь работал, только рукоять киянки – деревянной колотушки, за которую натягивал еловую веревку, – дрожала, готовая сломаться. Работал, будто кто гнался за ним иль обет дал перед Христом-Богом; до полудня пот со лба не стряхнул, рубаха на спине взмокла. А душа по-прежнему дрожала: что-то должно случиться.
Часто озирался на Яшкин дом, караулил Тайку. И будто кто в спину толкнул, оглянулся – она за водой пошла. Черный плат на голове по самые брови повязан, руки распялены на коромысле, как на кресте. Издали приметила Доньку, растерялась, словно черный кот дорогу перебежал, засуетилась, но другого пути к реке нет, только здесь мосточек, откуда воду берут. Вот и направилась в Донькину сторону, как невольница, а у парня сердце дрожит: что-то будет.
Искал ее глаза – не высмотрел. Но только прошла мимо, тут и дернул черт парня за язык, шепнул Донька вослед девке: «Жди, приду нынче». А может, ветер прошелестел иль красный камень-арешник осыпался с горы, потому что даже Донька вздрогнул, услыхав эти слова, вроде не сам и выронил их. Тайкины плечи слабо колыхнулись, но не обернулась девка, и когда обратно шла – не взглянула, только поднималась в гору уже неловко, вроде бы в чужих одеждах была.
Никогда так нетерпеливо еще не жил Донька, как сегодня, и, чтобы поторопить ночь, даже пораньше завалился на полати, сказавшись больным. Евстолья захлопотала, мол, ой, да как же это, не прохватило ли у реки, там такие сквозняки гуляют, и может, баньку истопить, жаром всю хворь-простуду выгонит. Но Донька отказался, какая на ночь глядя баня, ложись давай спать-то, до утра переможется, а там видно будет. Затих на полатях, притворился спящим. Евстолья сразу отступилась от пасынка, уложила в зыбке сына, еще долго гундосила перед образами с причитаньями и мокрыми всхлипами, а Донька досадовал, всю мачеху приругал, что угомону на нее нет, бродит и бродит по избе, как корова, и сон-то ее не берет. И будто услыхала Евстолья Донькину досаду, повалилась на место, еще недолго что-то бормотала «осподи, осподи» и сразу захрапела мучительно и тяжко, словно били ее во сне.
Донька переждал еще немного, потом тихо скользнул с полатей, крадучись, босиком, вышел на улицу и, будто сговорившись с Донькой, ни одна петля на воротах не скрипнула, не выдала парня.
На улице было тихо и тускло, белая ночь еще не умерла, и утро не народилось, небо пустынно серело, полное покоя и бесконечной глубины. Деревня спала, она стояла на взгорках россыпью синих валунов; от шероховатых стен доносило еще не угасшим теплом, земля отдыхала, и пыль на дорогах свернулась желтыми пузырьками. Хоронясь за избами, Донька быстро проскочил околоток, огляделся перед Яшкиной избой и, не чувствуя за собой никакого греха, торопливо постучал в боковую окончину. Приложил ухо к стене, и словно бы услыхал, как задышала, шевельнулась изба: где-то в глубине пронеслись едва уловимые шорохи и растворились: наверное, там кто-то стоял посреди пола босой, в исподней рубахе и ждал, когда снова постучат – позовут.
Донька метнулся вдоль стены к небольшой двери и рубчатым кованым кольцом постучал сначала робко, сдерживая сердце от гулкого разбега, но изба таинственно молчала, и только казалось, что в теплой пустоте кто-то длинно и тонко воет: это кровь шумела в Донькиных ушах. Парень переждал, но снова постучал, уже требовательно и зло, чувствуя в себе нетерпение, похожее на гнев. Если бы вся Дорогая Гора сейчас с интересом и любопытством столпилась позади него, и это бы не остановило Доньку.
Где-то далеко открылась дверь, прошелестели шаги, потом осмелели и уже зашлепали по половицам гулко, остановились у двери. Тайкин голос робко спросил:
– Кто там?
– Это я...
– Кто я? Леший носит среди ночи.
– Это я, Донька...
– Ну чего тебе? – сухо и безразлично спросила Тайка, и голос ее из-за двери показался холодным, чужим.
– Пусти, мне надо што ли сказать тебе. Пусти, Богом прошу.
– Ты што, сдурел? Че люди скажут. Поди, поди давай, домой-то.
– Тая, Тасенька, Таисья...
– Ну што тебе? – Голос за дверью дрогнул.
– Я тебя так люблю, мне без тебя вовсе не житье, – взмолился Донька, касаясь пересохшими губами теплых дверей.
– Зачем ты меня изводишь? За што ты меня мучашь, скажи на милость. Уйди, Христа ради прошу. – Слышно было, как снова в глубину захлопали босые ноги, душа у Доньки взметнулась вверх и остановилась под самым горлом. Задыхаясь, он крикнул, не сдерживая голоса:
– Не уходи, Тая! – и забрякал ногою в дверь.
– Ой, што ты со мной делаешь. Деревню всю подымешь. И нисколько тебе меня не жаль, выходит. О себе только думать. Поди, Донюшка, не трави себя, – ласково, с такой грустной нежностью сказала Тайка, что парню захотелось вынести плечом дверь и подхватить любимую на руки.
– Отвори, Тая, касатка, голубушка, солнышко ты мое незаходимое, – тупо бормотал Донька, царапая ногтями дверное кольцо. Он чувствовал, как Тайкин голос наполнился слезами.
– Обвенчана я, продана. Где ты ране-то был? Пошто меня не увез, не умыкнул.
– Где-где, будто к вам попадешь. Отец-то, как сыч, караулил тебя. А я-то, осподи, где Яшку поймаю, все выспрошу про тебя, весточку прошу передать, а он-то, чего про тебя...
– Христос с ним, Донюшка. Бог ему судья...
– Он-то и баял, что ты от меня отвернулась и видеть боле не хочешь.
– Поди, поди прочь, – закричала Тайка. – Я буду верной женой. Все, разминулись наши путики.
– И будто бы смеялась надо мной, – упрямо продолжал Донька. – Как он сказанет такое, у меня сердце-то и...
– Што ты, Донюшка, поклеп это. Осподи, да и не было веком такого разговора. Да я ли тебя не любила. Ну да Бог с ним. Уходи, Христом прошу. – Тайка зарыдала, и вдруг за дверями что-то загремело, словно свалился на тесовые плахи человек, потом раздался тонкий равнодушный смех, и волосы на Донькиной голове встрепенулись от страха.
– Тая, што с тобой? Отопри, говорю тебе, отопри, – забрякал Донька в дверь, где-то в ответ заполошно подняла голос собака; от хриплого лая парень очнулся, забежал на взвоз, как вор просунул прут в щель ворот, приподнял щеколду и проник на поветь.
Тайка беспамятно лежала около двери, порой какая-то странная сила встряхивала ее беспомощное тело, и тогда голова гулко опускалась на тесовые плахи. Девка была сейчас вне жизни, она летала в черном гудящем пространстве на демоновых крыльях и не видела и не слышала, как осторожно взял ее Донька на руки и, целуя помертвелые губы, понес в избу...
И когда под самое утро пасынок вернулся в дом, Евстолья встретила его испуганно и настороженно.
Глава вторая
На десятый день собственным радением да с Божьим благословением добежали до каменистого островка близ Новой Земли, родового промыслового владения Богошковых.
На острове были разволочная изба, ледник, баня и полдюжины покосившихся черных крестов, около которых мужики и постояли молча, обнажив головы. Изба срублена у крохотного озерца с пресной водой: там, внизу, наверное, били неутомимые родники, потому жгучая влага не иссыхала меж черных базальтовых камней, а обросшая по берегу белесым болотным пухом и ржавым пятнистым мхом, казалась особенно студеной и светлой. Кормщик Калина Богошков первым делом зачерпнул прозрачной холодянки и ковш обнес по кругу. «Вот мы и дома», – молвил он, не утирая влагу, и она крупно, будто роса, задрожала на его толстых светлых усах.
Потом отставил в сторону обломок весла, открутил с пробоя толстую пеньковую веревку – не от людей было закрыто, а от ушкуйника-находальника. Медведь побывал, наверное, здесь под самую весну, потому как на линялом снегу в тени за избой виднелись круглые когтистые следы, сивая шерсть колыхалась на углах избы, – знать, чесался зверь, и белесые чирки от жестких лап остались на потемнелых стенах...
Сыростью пахнуло в избе: легкий покров пыли лежал на деревянных нарах и на печке-каменице; давно не гретый чистым пламенем воздух застоялся, и черная сажа длинными хлопьями свисала с потолка. Пол подгнил и прогибался, под ногами хлюпала ржавая вода. В волоковое окошечко падали предвечерние слепящие потоки солнца и застревали на столешне, не в силах пробиться далее.
Первый вечер с берега перетаскивали снасти, еду и одежды, кололи в низине под головастой базальтовой скалой прозрачный лед и забивали ледник. Калина помогал мужикам развешивать сети, осматривал их, где нитку обрезал ножом, где ячею убирал; отколупнул от поплавка кусок бересты – все это собрал в котел, развел под ним костерок и стал тем дымом окуривать снасти, чтобы жирный голец ловился.
Солнце, будто привязанное, не скатывалось с высокого холодного неба, и там, где купалось его слепящее отражение, из бирюзовой толщи воды вставал столб белого пламени. Море казалось густым, оно едва колыхалось в своих маревых таинственных пределах, ленивые волны набегали на берег и откатывались с тихим шелестом, так похожим на трепет листвы.
Вдали проплыл айсберг, в лучах солнца он был ослепительно бел: он шуршал и тихо гудел, над ним вставали бледные дымки. Он плыл, как большой праздничный дом, в котором затапливали печи, и следом за ним, круто прогибаясь в воздухе, играли белухи. Калина покружил по острову: он был тих и по-кладбищенски печален. Груды камней беспорядочно и неряшливо навалены, и меж них проклевывались желтые колокольцы первоцвета да сивый болотный пух. Если б не горьковатый запах дыма, который сеялся над островом, то могло бы показаться, что кормщик здесь один. Калине вдруг стало неожиданно легко, словно бы сам Господь Бог скостил с его плеч добрый десяток лет, и мужику подумалось, что в этой благостной тишине он мог бы, пожалуй, остаться насовсем.
А утром, только запел долговязый петух первую зорю, Калина повел Яшку и Сеню Верховского наблюдать свою старинную вотчину. Было начало июля, канун Прокофьева дня, ночью дождя не было, но висел густой холодный туман, под утро он опустился ниже, и черный остров совсем замок. Вскоре туман осел, и небо вверху оказалось тускло-серым, с легким матовым блеском. Какой-то ровный гул шел накатом, и когда замирал он, наступала благословенная неземная тишина. Калина присел, расслышав крики, по-мальчишески крутнулся на пятках:
– Во, словно быки. Они завсе так. Нам на радость кожа ревит.
Переждали туман и пошли на тягучий шум прямиком через остров одному кормщику ведомыми путиками, и моржовый рев становился все шире и плотнее.
Небо стало льдистым и бесплотным, солнце залегло за лохматым белесым облаком, и холодный сквозняк, будто открыли громадные ворота, тянул из бесцветной пустоты, все – и море, и дали – было чисто, но воздух по-июльски не дрожал от тепла, а фиолетовые горы на Матке, которые сегодня виделись словно рядом, плоско стояли в горизонте. Вдруг с пустынного неба редко замусорило снегом, соленый ветер-полуночник родил хлесткий град.
– Опять все не слава Богу, – бормотал Калина, оскальзываясь бахилами на каменистой корге[55] ; вышли на самый берег, потом обогнули скалу под птичьим базаром, где во множестве гомонили, хохотали и вскрикивали люрики и гагары, тупики и моевки, тулупаны и поморники. Все пело, рождалось и страдало неистово и нетерпеливо. Но если птичий грай был похож на перебранку ветра в дымнике, то моржи ворчали басовито, и казалось, будто зимний шквалистый побережник бьется накатом в бревенчатые стены, и тогда перед этой неистовой силой все меркнет, тухнет, гаснет: лучина пронзительно вспыхивает в светце и пускает горелую вонь, а бабы крестятся и шепчут одними губами, пугаясь заледенелых оконцев: «Осподи, помилуй и сохрани».
Моржи лежали совсем рядом, и от них несло такой душиной, хоть в бегство обращайся. Рыжие морские чудовища лениво катались по каменной площадке, порой вздымались всей громадой на задних ластах-катарах, и тогда под щетиной усов угрозливо блестели косо расставленные клыки-тинки. Крайнему моржу не спалось, он то чесался, то поднимался, шевеля вздернутым носом, а маленькие глаза налиты кровью, будто от пьянства, и морошечной желтизны тинки врозь пошли – настоящий разбойник. Но, видно, не учуял зверь страшных запахов, усмирила его покойная тишина, и он опять распластался по черному камню. А из воды, нагулявшись вдоволь, выходили новые моржи. Они хватались за край берега клыками, выползали, и если не было места, то своими тинками приподнимали лежащих и перекатывали дальше, а сами ложились на их место. Только молодые моржата то и дело взбулькивали в море и карабкались обратно, сердя друг друга и задирая, и тогда глухо бренчали их короткие клыки, и на всю жизнь оставались на каменной кости светлые зарубы.
Кормщика залежка веселила и радовала: «Как люди, ей-бо, как люди», – шептал Калина и сам был светлый, словно после причастия. Очнувшись, он оттянул мужиков, и все пошли обратно в разволочную избу готовить кутила, ремни, сети, карбасок.
Первого моржа решили брать по стародавнему обычаю: на кутило задумал встать сам Калина, и никто ему не перечил. С ним должны были ехать еще двое: Михайло Гренадер и Яшка Шумов. Утром, когда петух сыграл побудку, кормщик сел на нарах, пошарил на груди под рубахой, достал кожаную рукописную книжицу:
«Аще кто в путь пойдет, сон Богородицы при себе носит, тому человеку на всяком месте милосердие Божие, путь ему чист и корыстен, ни гад, ни змей телеси его не уязвит...»
Калина прочитал сон Богородицы, стал одеваться по-походному в собачьи чулки-липты, а поверх смазанные бахилы натянул, подвязал их под коленом.
– Эй, находальники-разбойники, – закричал весело, – хватит вылеживаться. Пойдем на моржа!
Яшка намотал ремень из моржовой кожи сажен на пятьдесят, взвалил на плечо баклажку ведер на десять, обитую вплоть, ряд к ряду, железными обручами, чтобы зверь не разбил ее клыками. Михайло Гренадер взял моржовку, стародавнее ружье с восьмигранным стволом, литым на Кимже доморощенными мастерами, а Калина Богошков нес кутило – остро заточенное копье с хищной зазубриной на конце.
Утренний холод заставил вздрогнуть, усохший мерзлый мох скрипел под ногами; небо было низким и печальным, и, хотя ветер поддувал слабо, кудлатые тучи спешно пролетали к югу. На Севере-батюшке каждый час – перемена, как ни день, так новое настроение, не гляди, что на дворе июль, самый радостный для души месяц: порой такая поносуха навалится, таким снегом обложит, что ни зги, ни свету белого не видать. Вода у берега шипела и тяжело раздавалась под карбаском, когда его снимали с каменистой корги. Калина сразу вскочил в суденко, а Яшка и Михайло Гренадер протолкнули карбас дальше, сквозь пупырчато-белый прибой, заходя броднями по самые завязки. Море качалось черное, и когда Яшка окунул весла и подтолкнул карбасок вдоль прибоя, то вода стекала с гнутой лопасти лениво, и дерево сразу седело и становилось светлым. Яшка греб резко и еще спросонья зло, но с каждым движением все жарче становилось плечам, голова под шапкой стала мокрой, руки отмякли, но ладони твердели и становились сухими и скользкими. От этого маетного качания пропадали куда-то и стылость души, и раздражение, и еще неосознанный азарт просыпался во всем теле.
Сквозь чаечий стон и журавлиный клекот прорезался тяжелый басовитый шум, и Калина вздрогнул, будто моржи лежали рядом, за его спиной, а треух стянул с головы и положил рядом, на уножье, – наверное, чтобы лучше слышать. Нетерпение рождалось в надломленной спине и обвисших плечах.
– Не дончи веслами-то, не на базар едем, – привычно подсказал кормщик, хотя весла ложились в волну туго и не звончали водой. Калина вглядывался в прорастающий мыс (за ним и была звериная лежка), а сам тем временем то обласкивал кутило, чиркая задубелым пальцем по кусачей зазубрине, то ворошил на колене моток моржового ремня, привязывал его к окованной железом баклажке; рядом, на бортовину положил березовую пешню с железным наконечником.
Яшка сделал карбасок совсем неслышным, казалось, что суденко застыло в тягучей воде, а может, подводными струями его даже относило обратно, так осторожно греб на залежку веселыцик. Ведь к зверю нужно так себя привести, чтобы он лежал перед тобой как на ладони и чтобы сторож не поднял пугливую усатую голову, не прянул на ласты и не заревел трубно.
Утес обогнули, и сразу ударил в лицо студеный побережник, а от моржовой душины стало трудно дышать. Зверь постанывал и кряхтел во сне, морщил толстую, как бревно, шею и кричал, может, своей подруге, а может, сладким сновидениям. Калина продвинулся на нос карбаса, кутило подрагивало в отпотевшей ладони и волновалось, – казалось, что в самую первую азартную охоту идет мужик. Такое уж это ремесло, что на каждого моржа идешь, как на первого. Вот он перед тобой, спит, как малое дитя скорчилось; все тело в толстых складках волосатых, но не торопись бросать кутило, отскочит оно от кожи-тертухи, словно от гранита. А есть в зашейке у моржа отверстие с медную монету, туда и норови угодить. На то человеку и хитрость дана, чтобы облукавить любую силу.
Яшка наддал веслами, чтобы проскочить прибой, тут уж не стереглись; Калина всем телом прилип к бортовине, наливаясь мышцами, и заорал нечеловечьим голосом: «Тпру-тпру». Словно лошадь остановил. Моржи заголосили, заметались по каменной постели, взбулькали в воду, но те, остальные, не нужны были, а метил Калина только в своего, крайнего, которого выглядел в лихом разбойном азарте.
И когда тот, Богом данный зверь спросонья раскинулся на камне и складки от испуга разбежались на необхватном теле, тогда и метнул кормщик кутило прямо в зашеек. Морж вскричал громово, хватал короткими ластами пустой воздух и грозил косо расставленными клыками, отыскивая разбойника. Яшка рывком вынес карбасок на прибойной волне подальше в море, на глубины, ибо зазеваешься – и пой тогда отходную: морж скакнет в суденко и начнет веселиться. Он до сна охочий и человеческого духа боится, но если насолишь ему, гневен морской хозяин, словно буян подвыпивший.
Михайло Гренадер быстро выметал трос вместе с баклажкой, а зверь еще долго искал глубины, чтобы уйти от постоянной нетерпимой боли. Ему жгло тело, соль попадала в рану и раздражала. Морж пробовал уйти еще глубже, там, где студенее вода, и охладить, успокоить душу, но что-то неотвязно держало зверя и не пускало ближе ко дну. Тогда морж выметнулся наверх, где небо сливалось с морем, и своим звериным умом понял и отыскал обидчика и стал топить баклажку могучими клыками. Но бочонок словно смеялся и отзывался на удары глухим железным кряком. От злости и боли терялась сила, и морж все реже колотил тинками окованную баклажку.
И когда зверь стал чаще выставать из воды, пришла пора брать его на затин, а тут уж робеть нельзя и размышлять не время. Михайло Гренадер готовил ружье, а Яшка снова подал карбасок к каменистой корге, и еще не ткнулся тот в берег, как Калина птицей вымахнул на отмелое место, всадил пешню в камень, но она звякнула железом и соскользнула. Тогда торопливо подал ее в крохотную расщелинку и надавил грудью. Руки гладко обжимали накатанную березовую рукоять, плечи наливались усталостью, а ремень гудел и вырывал из рук пешню: ведь на другом конце хвоста, сажен за пятьдесят от Калины, рвался на свободу неистовый морж. Он ходил колесом, делая круги, то проваливался в глубины, но останавливала баклажка, то вылетал из воды, и тогда Калина быстро накручивал ремень на пешню, прижимая зверя к себе. Вот и до баклажки достал кормщик, считай, что зверь в руках, взят на затин; слава Богу, разговелись, размочили промысел... Но киснуть нельзя, зверь хитер, Богом данный зверь.
– Стреляй, чего вылупился? – крикнул Калина Гренадеру. Кормщик почувствовал, что устал, годы не те, спина в пояснице хрустела и немела, и даже втайне пожалел мужик, что по-молодецки ввязался в рисковое дело. Хотелось на все плюнуть, откинуть с пешни ладони и лечь на спину; но брал задор, а задор был сильнее человека. Калина крепился, выпехивая языком жаркую спекшуюся слюну.
– Стреляй, чего глядишь? – снова крикнул, но уже нетерпеливо и зло.
Гренадер похмыкал, выбирая ногами опору, он хорошо знал свое дело, упирался в телдоса, прилаживал ружьишко к плечу, притирался к прикладу щекой. Гренадер высматривал моржа, чтобы пульнуть его ловчее, взять на раз, стрелить в зашеек, где кость тоньше, потому как на висках не пробьешь ее, расплющится пуля. А тогда нет зверя лютее, там и до беды недалеко.
– Мы верняком, мы сейчас зануздаем.
Словно небо раскололось, покатился выстрел, плюнула фузея огнем и пороховой гарью, толкнула Гренадера в плечо, ободрала щеку, и мужик оступился, чуть не опрокинулся в море. Пуля, наверное, вошла в голову, потому что морж обмяк, заленивел, и тут Калина посчитал, что зверя кончили, а сейчас волоки его на берег, как сальную бочку.
И он на какой-то миг ослабил ремень, не выбрал на пешню слабину, но тут оглушенный морж рванулся с последней предсмертной мукой, ступня у Калины скользнула по мокрому камню и попала в ременную петлю. Кормщик еще пробовал выстоять, напирая на пешню, но острие поддалось в расщелине, ладони соскочили с рукояти, и, падая на спину, Калина ощутил, как хрупнула в ременной петле нога, а его самого неумолимо тянет в прибойную студеную воду. Раздирая в кровь пальцы, он пробовал ухватиться за скользкие голыши, но они уплывали из ладоней, и голова билась о замытый придонный камень.
«Вот и отмолился. Прощевайте все, люди добрые», – запоздало подумал Калина, тяжко выталкиваясь из воды и ловя резкий, какой-то пустой воздух, от которого только саднело в груди и не было сил им надышаться.
Пока мужики растерянно суетились и гребли в море, зверь кончился от смертельной раны и всплыл, развалисто покачиваясь на волне. И тут же запузырилась оленья малка, и кормщик, прозрачный и смертельно бледный лицом, с великим трудом выгребся на поверхность. Его тут же подхватили и втянули в карбас. Кормщик был, наверное, без памяти, хотя глаза, казалось, подсматривали за Яшкой и Гренадером. Правая, почти начисто снятая придонным камнем бровь вздрагивала, и было видно, как в живом мясе бьется заголившийся нерв. От виска через лоб и всю щеку шел глубокий царапыш, он вздулся и посинел от холода, но кровь не шла. Все разглядели мужики, когда испуганно гребли к разволочной избе, не забыв однако, приторочить к корме убитого зверя. А море ожило и закипело, пронзительно вопили чайки, срывая с сивых длинных гребней ошметки пены. Ветер-полуночник все мчался к канской земле и строгал, строгал длинные волны, а вода меж них, в глубоких живых яминах была студена даже на глаз.
Мужики, как могли, обиходили кормщика, перевязали его, выпрямили порванную ногу, подложили сухой лучины и натуго обмотали холстиной. Кормщик лежал беспамятный, не просил есть-пить, сбивал на сторону овчинное одеяло, которым загрузили его с головой. Линялый короткохвостовый петух бродил по кормщику длинными желтыми ногами и клевал несильно по овчине, словно поднимал хозяина.
Калина очнулся через неделю. Все было перед ним в призрачном тумане, лица мужиков, обступивших его, колебались, становились чужими, порой пропадали совсем, и он видел у порога только костлявую старуху с косой: она улыбалась скуластым сухим лицом и звала: «Ну поди, поди ко мне, голубчик ты мой». Калина понимал, что это стоит смерть на пороге, но не пугался ее, а принимал с тихим смирением, а потому покорно шептал: «Сейчас, ужо погоди. Сейчас приду».
Вдруг туман растворился, и Калина это понял так, что Бог ему дает маленькую передышку, чтобы проститься с товарищами.
– Наробился, знать, – сказал он ясным тихим голосом, и мужики сдвинулись еще ближе. – Теперь отдохну, на долгий отдых повалюся.
– Погоди помирать-то, еще успеешь...
– Не, не, дайте сказать. Душа чует... Живите с миром, Господь с вами. Не возвышайте себя. Все кончится, все прахом изыдет, осподи... Живите с миром. Простите, ежели чем согрешил. Знать, не придется увидеть жонку, а как встретите... скажите... низко кланяюсь и целую остатний раз. А деткам посылаю родителево благословение на всех цветущих летах... Сейчас иду... Зовет смертушка-то. Осподи, темь-то какая. Солнышка бы.
Кормщик опустил голубые одрябшие веки, на переносице скопилась влага, бессильно пролилась через край.
– Осподи, солнышко-то какое... Зреть не можно. – вдруг прошептал Калина, вздрогнул всем телом, глаза открылись, и свет от сальницы не утонул в стеклянной неживой глубине.
На другой день кормщика Калину Богошкова схоронили в тяжелой каменистой земле и на кресте высекли:
«Здесь Дорогой Горы деревни крестьянин Калина Богошков от несчастливого промыслу на долгий отдых повалился летом 1838 года».
Глава третья
Выследила Евстолья, куда бегает по ночам пасынок, пометалась туда-сюда и рассказала отцу. Петра Афанасьич пришел к Тайке будто бы навестить да расспросить, не надо ли чего по хозяйству, вот он собирается нынче же на Маргаритинскую ярмарку в Архангельское, так привез бы. От него не укрылось, что Тайка переменилась, робкий румянец родился на похудевшем лице, а в глазах проглядывала настороженная радость.
Разговора у них не получилось, Тайка отмалчивалась, часто скрывалась за ситцевой занавеской и подолгу задерживалась там, словно не хотела видеть отца. И, глядя в смутную тень на занавеске, Петра Афанасьич наконец сказал:
– По деревне-то о тебе худо говорят.
– Ну и пускай говорят, – тень на занавеске застыла. А Петра Афанасьич подумал: «Вот стерва-то, и не скрывает даже греха».
– Как пускай, нашу фамилию порочишь.
– Во как заговорил, – сухо рассмеялась Тайка. – Сначала дочи продал за постылого, а теперь...
– Но-но, – грозно возвысил голос Петра.
– Чего но-то? – появилась Тайка, белая в лице и вся взъерошенная. – Чего но-то? Еще указывает тут мне.
– Яшка вернется, тебе голову отвернет.
– Не твоя собачья забота...
– Во как ты с батюшкой заговорила.
– С тобой иначе нельзя...
– Да я тебе сейчас за волосье-то выволочу, я тебе таких тяпух по голой заднице надаю, веком не забудешь, – зло закричал Петра Афанасьич. – Она еще на батюшку родного голос поднимает, стерва, распутна девка, дьявольское семя. Да я тебя...
– Только посмей, ирод, насильник, – тонко взвыла Тайка, не помня себя выхватила из подпечка рогач, наставила Петре Афанасьичу в лицо. – Я тебе глазища-то все напрочь высажу. Зверина...
– Ноги моей больше не будет у вас.
– Вот и хорошо, вот и славу Богу.
– Прокляну...
– Хуже не будет...
– Тьфу, нечистая, – зло хлопнул дверью.
А Тайка упала на место, досыта выревелась, сразу полегчало; с нетерпением стала поджидать Доньку. Тот пришел в сумерках, раздевался у порога, как муж, как хозяин, в шерстяных носках мягко, по-кошачьи ступая, подкрался к Тайке:
– Урр, я волчище-коготище, я тебя съем.
Тайка лежала на кровати, прикрыв лицо ладонями, слышала, как раздевался Донька, и не поспешила радостно к порогу, чтобы помочь стянуть бахилы с уставших ног, а потом как бы намертво прижаться к его груди, пропахшей смолой и костровым дымом.
– Что с тобой, Тасенька? – стал разнимать руки, чтобы взглянуть в глаза, почувствовал, что ладони мокрые, – значит, опять плакала.
– Ревушка-коровушка...
– Да, тебе хорошо. Сам рева.
– Чего стряслось опять?
– Отец приходил, грозился...
– Эко диво...
– Да, диво, – отняла от лица ладони, нос покраснел, опух от слез, и глаза оплывшие, водянистые, ресницы слиплись. – Не гляди на меня, на эку. Страшна небось.
– Красавушка ты, Богом данная...
– Набалуессе, да и бросишь.
– Какие речи баешь, Тасенька...
– А как далее-то жить начнем? Скоро ведь Яшка с морю вертается. Ты подумал о том?
– Бог не выдаст, свинья не съест...
– Поди ты прочь-ту, все бы тебе одни шуточки, – обиделась Тайка. – Мне без тебя в омут, боле некуда. Грех творим. Простится ли Богом?
– Не думай о том. Бог с нами.
– Грех-то какой. А може, и не грех-то? Постылому продали, как скотину бессловесную.
– Ты не бери в голову, Тая. Нам бы до зимы провернуться где, до первых обозов, а там ищи-свищи.
– Што опять надумал? – с надеждой спросила Тайка. – Ой, я-то, глупа баба, парня всего заморила. Небось есть хочешь?
– Да какая еда середь ночи, – засмеялся Донька.
– А и то правда. У меня нынче перепуталось. Да и на улице все сболталось, белые ночи, дак.
– Бежать нам, один путь...
– Я уж кисточкой золоченой на твоем кушаке, Донюшка. Мне без тебя не помыслить...
– До санного пути где бы переждать. Ведь в диком месте живем.
– А к дяди-то чего не хошь? В Кельях места хватит, – робко напомнила Тайка. А когда и молчала, то будто всей душой подталкивала Доньку: ну думай, ищи заветное местечко, где забудут нас люди, не будут смеяться и нахально лупить глаза. Да только есть ли в мире такое место, чтобы быть свободным.
– В диком месте живем, на краю света. Куда Яшка кинется, конечно, в Кельи прибежит.
– И неуж ты боисся? Да я сама его тогда, как худу собаку...
– Крови не хочу, Таюшка. Люди ведь...
– А его можно, вот те Христос. Зверь он, Донюшка, чистый зверь, – неловко замахала руками Тайка, побелела лицом, стала светлее льняного утиральника. – Ты, Донюшка, только послушай, чего он мелет по пьяному делу. Дай мне, говорит, только на ноги встать, каждый нам в ножки падет. Я и батюшку, говорит, Петру Афанасьича за пояс заткну и по миру пущу, разве только в слуги и возьму. Силу, говорит, такую в себе имею.
– Да брось... Пустое мелет, – отмахнулся Донька.
– Ведь крестовый брат тебе...
– Он первый нарушил клятву... Слышь, я все тут хотел расспросить. Чего с тобой тогда приключилось-то?
– Когда? – испуганно встрепенулась Тайка, не в силах скрыть растерянность.
– Тут люди чего-то болтают...
– Люди болтают, а ты не слушай. Простыла и заболела. Ты не слушай, чего болтают. – Тайка отодвинулась, глаза ее потускнели и стали слепыми от слез.
В худых душах отъезжал Петра Афанасьич в Архангельск на Маргаритинскую ярмарку, но пока морем шли, обнесло, обвеяло мужика соленым свежаком, выбило дурное из головы. А как зашел в Двину, увидал, что под морскими посудинами и воды чистой с горстку не видать, многолюдно и под гостиными дворами, сразу душой возрадовался, и это веселье не покидало Петру Афанасьича до конца торгов. Только в последний день ярмарки оставил конопатого зятя Михейку в лавке доторговывать мелочь, да и мутило от тресковой запашины, от грязи и людской толчеи. Эх, старость, старость: раньше от таких густых запахов, от неутомимого прибоя голосов, замирающего лишь в осенней потемени, еще больше пьянел Петра Афанасьич, наливался жадным, зорким весельем и куда как ловко подхватывал скользкую удачу, которой, бывало, не просочиться сквозь его расплющенные чугунные пальцы. А ныне притомился мужик, вроде бы угорел от всеобщего азарта, как-то опустел душой, и веселье вдруг покинуло его в самый последний день, хотя вроде бы видимых причин для этого не было: удачно распродал пушнину да семгу молодого посола; и кожаный мешочек с деньгами, надежно спрятанный под кафтан, тяжело и ловко прильнул к животу. Так чего ж тебе еще, Петра Афанасьич, дорогорский властелин? Что гнетет тебя, не возрадует, и не заскочишь ты, как бывало прежде, в питейный дом и, сторожко озираясь, не обмоешь удачу?
Какие-то неясные предчувствия с раннего утра взбудоражили мужика. Всю ночь он убегал от кого-то и, наверное, убежал, потому как под самое утро приснилось, что грызет он коровью кость, высасывает из нее жирный мозг, и тут больно сломился зуб, прямо выплюнул его Петра Афанасьич на стол, потом качал в ладони и очень жалел: «Ох ты, осподи, ну как же так».
Не к добру такой сон, явно не к добру, быть нынче же несчастью, – может, из близких кто помрет иль еще кто приключится. Наверное, ощущение этого сна и помешало Петре Афанасьичу с прежним удовольствием вести торговлю. Кто его знает, но только обычно презрительно-равнодушный к толпе, нынче он пристально вглядывался в ярмарку, в гудящую толпу, которая была похожа на штормовое озеро, и его высокая волна то набегала на рыбные и мясные ряды, то обтекала обозы с глиняной посудой, то спокойно бурлила у лавок с мехами и тонкими сукнами. Порой Петре Афанасьичу чудилось, что за ним кто-то упорно и прилипчиво наблюдает, он упорно крутил головой, но видел только серое людское месиво.
И не вытерпел, покинул Петра Афанасьич свой прилавок на конопатого зятя Михейку, пошел мимо гудящих лавок по тягучей, разбитой тысячами ног грязи. Невообразимый гам был похож на длинный несмолкающий стон, в котором смешались и человечьи запальные голоса, и ржание еще не запроданных лошадей, и мык недоеных коров, хлопанье о дощатые столы палтосиных и тресковых туш, и жирное гудение запоздалых осенних мух. и пьяная похвальба около грязных кабаков, плотно окруживших ярмарку, чтобы, упаси Боже, не вынес шенкурский иль онежский мужик мимо целовальника лишнюю деньгу.
Этот гуд еще долго сопровождал Петру Афанасьича, но уже похожий на рокот пчелы-медуницы. Мужик поднялся до Немецкой слободы, здесь берег был пустынен, редкий человек пробегал мимо и скрывался в подворотне, здесь и Двина была свободна от скопища кораблей и по-осеннему черна. Побережник дул с реки и ронял с берез бронзовые листы. Угар у Петры Афанасьича прошел, но тоска, беспричинная и животная, не оставляла его, порой снова мучило беспокойство, казалось, кто-то упорно следит. Сразу вспоминатись разговоры о городских ворах, беспокойных и дерзких (какого-то купчишку раздели у себя во дворе, у другого обманом взяли целый обоз рыбы и увели вместе с лошадьми, третьему проломили кистенем голову), и Петра Афанасьич часто подхватывал бок, где под кафтаном покоился мешочек с серебром.
Подумал: не вернуться ли на квартиру к Акишину, где был на постое, и не оставить ли там мошну, но тут же себя осмеял: да кто середь бела дня кинется на доброго человека, долго ли полицейского кликнуть, сразу обратают, да и у самого в кармане цепочка с гирькой полуфунтовой, двоих свободно окручу, нечего и делать. Посмеялся Петра Афанасьич над своими страхами, решил вернуться в лавку; поглядывал на немецкие дома и невольно примерялся к нажитой за последние годы казне... А чем черт не шутит, отгрохаю себе домишко в Архангельске, развернусь на широкую ногу, с Норвегой сторгуюсь, а там и дальше пойду в заморские страны, в один ряд с большим купечеством встану и к самому губернатору, а то и к царю-батюшке буду зван. С деньгами-то я кругом сила, с деньгами-то я на земле заместо Господа Бога. Исусе, прости за богохульство, в дикой тайболе одичал, мохом подзарос. В деревне молодого зятя оставлю за себя, проворный парень, и умом Бог не обидел, правда, сволота порядочная, этого от него не отымешь, каково меня окрутил, а? Самого Петру Афанасьича Чикина вокруг пальца обвел, по кривой объехал; далеко пойдет разбойник, с ним ухо востро держи, за ним глаз и глаз нужен... А сам сюда. Я бы им показал, я бы пустил всей этой шушере пыль в глаза, они бы у меня, как творог в кулаке, сывороткой стять стали.
В таких мечтаниях шел Пегра Афанасьич и внезапно около питейного дома едва не упал, споткнулся о батог, чуть не растянулся на всеобщее посмешище. Хотел разделать неловкого мужичонку, но вовремя сдержался, ведь на нищего да увечного грех лешакаться. Бог удачи не пришлет.
– Батог-от пошто людям добрым в ноги пехаешь? Убиться можно, – буркнул Петра Афанасьич, роясь в кармане.
– А он у меня заместо собачки. Вы ведь все на небо пялитесь, к раю примеряетесь, а наш брат тута, на земле. Клади грош, будешь мужик хорош, ежели не дурак, то дашь пятак, а коли не глуп, то воздашь Божьей сиротке рупь... Войной калечен, живого места нету. Возвертаюсь в родные домы, чтобы и помереть там.
– Добро выманиваешь, – усмехнулся Петра Афанасьич. – А нам рубли-то больно трудно даются.
– Дак садись рядком. Откуда пошел, туда и вернесся.
Бродяжка сидел у питейного дома прямо на земле, подвернув под себя босые ноги, рубаха сгорела на нем от пота и грязи, и сквозь лохмотья проглядывало крепкое потное тело. Петра Афанасьич вроде бы услышал знакомый хрипловатый голос («чур-чур меня»), взглянул пристальней на смуглое впалое лицо, на седые редкие кудри, сквозь которые просвечивала розовая кожа, на черные влажные глаза и плоские неопрятные губы.
– Вот и свиделись, Петра Афанасьич, – прямо и насмешливо сказал бродяжка.
– И неуж?
– А вот и неуж... Осподи, разнесло-то вас, как бабу на сносях, – захихикал бродяжка, стыдливо прикрыв беззубый рот ладонью.
– Сколько минуло? Девятнадцать небось...
– Двадцатый под весну пошел с той поры.
– Вот оно как. Сбежал?
– Не-не, – покрутил пальцем бродяжка. – Вольный я, на жительство попадаю в родные домы. Как грошик медный.
– Вот оно как? – Петра Афанасьич топтался возле бродяжки, еще не решаясь назвать его по имени-фамилии, словно боялся ошибиться и тем самым вызволить прошлое из дальних глубин памяти. Подумал тоскливо: «Вот и сон в руку, как цыганка нагадала». – Рочев? Каторжанец?
– Он самый вроде бы...
– Все такой же...
– Небось жалешь, что поп, когда крестил меня, дак не утопил?
– Господь с тобой, живи. Каждой твари свое назначение. Как пробираешься-то? – торопливо добавил Петра Афанасьич и стал рыться в кафтане, отыскивая рубль, чтобы отделаться от невольной встречи, да и скорее на квартиру, а с утра пораньше поднять на карбасе парус.
– А так и живу... Денежки есть, так и калачики ешь, а денежек нет, так и поколачивай в плешь. С вас-то не возьму. Не сумлевайтесь, ваше благородие, не возьму, – хитро сощурился Степка Рочев, потом, подумав, звонко щелкнул себя по кадыку и кивнул головой на кабак: – Разве только угостишь? За-ради встречи.
– Не-не, – отмахнулся Петра Афанасьич. – Нельзя и не потребляю. Как торговлю ведешь, пива-вина в рот не берешь, а если пьешь, так нагишом с базара пойдешь.
– С косушечки на двоих не развалимся...
– Не-не, и не упрашивай.
– Прежде вы такой вроде и не были?
– Прежде-то были годы пореже, а ныне порато часты.
– И уж никак? – пристально взглянул бродяжка, и злость в его голосе заставила насторожиться Петру Афанасьича.
Подумал, что сразу надо было кончать разговор, а вот помедлил, застоялся, значит, слабость свою показал и страх свой обнаружил: хотя время давнее, время туманное, да и ничего не было. Но пакость устроить может, назовет шишей, и до ниточки оберут, голым оставят, не спросят отца-родителя и лоб не перекрестят... Ой, сон-то в руку пался. Вот и убыток прямой: уйдешь – неладно будет, и останешься – до греха недалеко.
– Да уж и не знай как... Больней я, в нутре-то так и все скворчит, жжет в нутре-то, – завыкручивался Петра Афанасьич.
– Посидели бы, как-никак земляки, – уже вяло и безо всякого интереса настаивал Степка.
– У меня и лавка-то не закрыта...
– Конопатый зятек приберет...
– Уж и это знаете?
– А как не знать-то, бат не без глаз.
– Вот беда-то...
– Никакой беды. Посидим, косушечку пропустим.
– Ну разве чуть-чуть, и не боле, – нехотя уступил Петра Афанасьич, понял умом, что кабак стороной не обойти.
В питейном доме было густо от мужиков, пахло сивухой, потом и кислой рыбой. Присели в уголке длинного стола. Степка быстро очистил место, сдвинул деревянные пивные кружки под локоть соседу, тот косо поглядел, но смолчал. Половой принес полуштоф водки и оловянные стакашки: сначала пили быстро, словно на пожар спешили, заедали вяленым палтосиным боком и баранками с солью.
– Ну и разговелись, вот и ладом. Ну как там у нас? – спросил Степка.
– А ничего, живут, – хотел сказать о сыне, но почему-то смолчал.
– На вышине числишься?
– Да так, поторговываю. Бога не гневим.
– А хитро мы тогда, а?
– О чем баешь-то, в ум не возьму? – А сердце невольно екнуло, не забыл, сволочь, ой, не забыл.
– Все о том же.
– Чего надо, скажи, а на кривом коне не подъезжай.
– А испугался-то. Глядишь, как волк на бердану, – сказал Степка и засмеялся отрывисто, словно всхлипывал. – Ну ты, а? Во гусь...
– Не гусь я. У меня вся деревня в поклоне, – обиделся Петра Афанасьич.
– Нахапал деньжонок?
– Да не, так, по мелочи. У нас ведь, сам знашь, нищета. С хлеба на квас...
– А ведь с моих денег-то пошел. И на вышину поднялся. Должок-то возверни.
– Ты про што? – строил наивно-удивленное лицо Петра Афанасьич и тут же сказал сам себе, что признаваться не надо. Мало ли что этот каторжанец к нему в розвальни прятал, а он, Петра Афанасьич, ничего по дурику не находил, денег не искивал, на глупого удача, а ежели что и было в розвальнях, дак и вывалилось в снег. То и хорошо, то и довольно, что потерялись, потому как Петре Афанасьичу разбойничьих грабленых денег не надо, он такой грех на душу не положит. Не находил ничего, вот и последний сказ.
– С моих денег-то пошел. Возверни должок, вот и квиты. Мне тоже заживаться надо.
– Ты чего под меня копаешь? Сейчас полицейского кликну. Он тебе быстро шею намылит. Ишь, сколь ловкий, – возвысил голос Петра Афанасьич и снова подумал: «Кукиш тебе, дулю хорошую в нос, каторжанец вшивый. Ничего от меня не отломится, не на того напал. – Сунул руку в карман, нащупал цепочку с полуфунтовой гирькой, железо быстро нагрелось в горячей ладони и стало потным. – Порато хорошо по башке-то беспутной ляжет».
– Ну уж сразу и полицейского. Я чего, я молчу, ваше благородие. Так его, так его, каторжанца, в шею его, в шею. Вы теперь на вышине числитесь, вы нынче все можете, – угодливо успокаивал Степка Рочев, незаметно кому-то подмигивая. – Ну пошутил я. Не было ничего. Большой да богатой не живег виноватой.
– Все могу, ты это верно подметил, – грозно сказал Петра Афанасьич и вдруг ловко поднялся от стула и направился прочь из кабака.
– Куда, куда, Петра Афанасьич?
– А живот что-то...
– Это бывает. Ну и ладно, ну и слава Богу. Свиделся опять с родным человеком. Должок-то не возвернешь?
– Ты опять. Да я тебе, шиш воровской...
– Вру, вру. А то бы и помогли, с одних ведь краев. Что вам стоит?
Но Петра Афанасьич уже скрылся за дверью, и Степка Рочев, не скрывая злости и презрения, крикнул на весь питейный дом:
– Как-кая сволочь, а? И ведь знал я, что отнекается. – И тихонько добавил дружкам, которые собрались возле:
– Идите, причешите... Без шума только, без крови штоб.
«Слава те осподи, свещу большую поставлю Матери-Угоднице за счастливое избавление, – успокаивал себя Петра Афанасьич, убедившись, что Степка Рочев остался в кабаке. – Вот сколь в жизни криво да неугодливо. И веком бы не подумал, что шиш разбойный станет мне сватом. – И сам удивился своей мысли и чуть не расхохотался. – Надо же, а? Послал Бог родственничка, хоть самому в ту же пору в тати лесные идти. Ух, развернулся бы, а? Кистенем по башке трах купезе тороватому, а потом ищи-свищи. За одну ночь великий бы капитал нажил. Не надо бы и пересаживаться в работе».
И гут же воровато оглянулся Петра Афанасьич, скользнул рукой в карман, где лежала цепочка с полуфунтовой гирькой, наткнулся на отпотевшее железо, вздрогнул и пришел в себя: «Осподи, тьфу, прости за наваждение».
Уже смеркалось, ярмарка растекалась, гудела тише и умиротворенней; чавкала грязь под ногами, голодно ржали лошади, скрипели телеги, фонарщик уже зажег сальную плошку под слюдяным колпаком, и желтый тусклый свет отразился в лужах. Петра Афанасьич поерзал нахолодевшими плечами, но в лавку возвращаться раздумал совсем: там конопатый зять управится сам, – решил судьбу не дразнить и топать на квартиру.
Тут посыпал мелкий дождь, Буянова улица сразу окунулась в мрак, в домах зажгли свечи и сальницы, оттого на дождливой воле стало еще темней. Петра Афанасьич вздрогнул, показалось, что на него кто-то навязчиво смотрит, и, оскальзываясь высокими каблуками на мокрых тесинах, поспешил тротуаром. Акишин жил недалеко, но в конце этой улицы фонарей не ставили, и когда Петра Афанасьич заслышал позади себя тяжелые быстрые шаги, то почему-то сразу вспомнил сон, выпавший зуб и неожиданную встречу со Степкой Рочевым. «Натворил, сволочь», – подумал безразлично и, наливаясь страхом, побежал прямиком через улицу к узкому заулку, в глубине которого и стоял домик Акишина. Уже пробились во тьме желтые длинные окна, покрытые цветными занавесками; в горенке, наверное, ходила хозяйка, и ее голубая тень очень отчетливо была видна. Сзади шаги приблизились вплотную, Петра Афанасьич намотал цепочку на кулак, и когда мокрый храп горячо опахнул затылок, не глядя, наотмашь стегнул полуфунтовой гирькой. Раздался сдавленный хрип, кто-то громоздкий свалился позади, и Петра Афанасьич уже облегченно вздохнул, слыша в себе запоздалую бурную дрожь. Нервно отворил калитку, почувствовал себя в полной безопасности и, сразу слабея, прошептал: «Слава те осподи, пронесло». Но тут кто-то темный и широкий надвинулся из глубины двора, и Петра Афанасьич даже не успел толком сообразить, кто это мог бы быть, еще подумал мельком и с надеждой на хозяина Акишина и окликнул: «Это ты?» – как тупой короткий удар сквозь пуховую шляпу достиг головы и оглушил мужика. Он только беспамятно ойкнул и уже не слышал, как быстро обшарили его ловкие руки, обрезали мошну с серебром, сняли кафтан и сапоги вытяжные на высоких каблуках.
Петра Афанасьич очнулся у забора в глубокой канаве. Лил нудный дождь, вода быстро скопилась и чуть не залила мужика. Он вылез из канавы и, привалившись к изгороди, тупо смотрел на окна, от которых на черную землю падал неяркий свет. Но тут скрипнула калитка, и Петре Афанасьичу разом припомнилось все. Он посторонне подумал, что пришли добивать его, и по-звериному, на коленках пополз в глубину двора, прочь от светлых окон. «Кто здесе-ка?» – осторожно крикнули в темноту, и по голосу Петра Афанасьич узнал конопатого зятя Михейку. Сразу в горле икнуло, и он заревел пронзительным слезным голосом: «Михею-шко-о, ограбили... Подчистую раздели...»
Глава четвертая
– Куда ты меня, Донюшка?
– Молчи...
Промозглая осенняя ночь. Деревня рано ушла на покой, потушила огни, словно бы затаилась до утра, и только где-то в верхнем околотке тоскливо выла голодная собака, забытая хозяином. Оскальзываясь на глинистой тропе, почти на ощупь снесли в карбасок мешок муки, бочонок рыбы, оленьи постели и все необходимое платье; Тайка дрожала от волнения, часто всплакивала и беззвучно глотала слезы. А Донька спешил, все спеклось в душе, и суеверно казалось, что за ними следит кто-то чужой и злой, устроил за вонными амбарами засаду и сейчас поднимает деревню. Еще покидая избу и прислушиваясь к ровному дыханию мачехи, он каким-то новым, настороженным чувством уловил, что Евстолья не спит, она притворяется, а значит, что-то и подозревает. За последнюю неделю мачеха ни разу не заговорила с Донькой и глядела на него испуганно и недовольно. Еще на взвозе, сам не зная почему, Донька затаился и тут же услыхал, как в избе хлопнула дверь, послышались на повети торопливые шаги; Евстолья пробежала мимо, хлопая чунями, быстрехонько слетала на угор, и парню было слышно, как она раздраженно бурчала: «Куда подевался-то... грех-от какой, небось опять к Тайке побег. И стыд-то глаза не выест». Баба еще долго стояла на взвозе, вглядываясь в мокрую темноту, куталась в плат и натужно кашляла, и Доньке тоже захотелось кашлянуть, и он едва сдерживался, заткнув рот кулаком.
– Кто тут есть? – спросила в темноту Евстолья, наверное что-то подозревая. – Мерещится, поди, – успокоила себя. – Ох те мнечушки... Чего творят. Блуд творят, ну придет Яшка, он задаст, отвернет сестренице голову.
Вот почему так осторожничал Донька, ему хотелось без лишней мороки покинуть деревню: только бы до первых морозов, до зимней дороги дотянуть, а там в Расеи-матушке ищи его. Порыскает Яшка по тайболе, смирит свою боль, да и успокоится, возьмет себе в бабы другую девку и заживет на славу. Нет, Донька не боялся крестового брата, он никого не боялся сейчас, но умом понимал и другое, что, если судьба столкнет ныне лицом к лицу, кулаками тут не обойдется, даже и к гадалке не ходи. Одному из них придется лечь в погост, вернее, не просто одному из них, а именно Яшке Шумову; и Доньке было страшно подумать, что по его вине прольется кровь крестового брата и оборвется жизнь, пусть даже самая ничтожная и злая, и тогда его счастье омрачится кровью, и постоянное чувство вины будет навещать длинными ночами до самого последнего дня. Нет-нет, только не кровь: и если столкнет судьба, упадет Донька перед крестовым братом на колени, взмолится убить обоих или простить, ведь Яшка живой человек, неужели он не поймет сердцем, не увидит даже самыми слепыми глазами нашу любовь... А пока дальше в тайгу, чтобы и ворон жестокий не донес весть.
Был прилив, пришлая высокая вода с моря быстро донесла карбасок до устья Кумжи; Донька сидел на корме и греб веслом осторожно, чтобы не наткнуться на придонный камень и не обвернуть посудину. В устье, на самом сулое[56] , поднялась волна-толкунец, громко захлопала в днище, казалось, что бабы лупят вальками белье; карбасок стало валить с борта на борт, и Донька поспешил пристать к берегу и тут переждать рассвета. Вылезли на гору, сели, прижавшись плотнее, накрылись балахоном, а сверху без устали полоскал дождь.
Донька провел ладонью по Тайкиному лицу, оно было мокрым и холодным.
– Ты чего ревешь-то, Тасенька?
– Да страшно ведь. Если б девушкой я была, а то баба венчана. Шутка ли. В нашей деревне еще веком такого не бывало, – всхлипнула Тайка и, чего уж никак не ожидал Донька, добавила вдруг: – А может, не поедем, Донюшка, а?
– Ты што, раздумала?
– А может, как ли обойдется...
– Чего как ли, чего как ли? Ты думаешь своей головой? Сидит, мелет ерунду, – закипел Донька.
– Да, ерунду. И не кричи, и не кричи, – заревела Тайка в голос. – Мамушки более никогда не увижу и к бабе Васене на могилку не сходить.
– Ну и вертайся, чего расселась? – напряженно сказал Донька, едва сдерживаясь.
Ночь была свинцово-темной, дождь пролился под кабат, намочил кафтан, и только сейчас парень почувствовал, как замерз. Он подумал, что и Тайке, наверное, не сладко, и где-то в глубине души мелькнуло сожаление об утраченном тепле и покое, и даже появилась слабая мысль: а не вернуться ли обрат но и все предоставить судьбе. Горькое безразличие овладевало Донькой, и, уже влекомый им, он вроде бы с надеждой спросил:
– Ну, чего сидишь-то? Обратно отвезти? Спокой-дорогой...
– Ты што, Донюшка, шутишь? А ты-то куда...
– Куда ли подамся. Расея-матушка велика.
– Ты чего надумал, скажи. Скажи, скажи, – тревожно повторяла Тайка. – Нет, ты скажи: чего надумал?
– Ты што, Господь с тобой, – откликнулся Донька и невольно покраснел от дальних туманных мыслей.
– Ты гляди, Донюшка. Мне ведь без тебя прямое не житье. Ты это знаешь... Осподи, замерзла-то как, удержу нет.
Донька плотнее прижал к себе Тайку, и они какое-то время сидели не ворохнувшись. Внизу под ногами шумела река, слепо хлестала в берега, хлопала волною в днище карбаса, над головой, чуть в стороне, скрипели на ветру ольшаники, и этот ровный гул ветра и реки только усиливал тягостное одиночество. Словно бы люди отторгли этих двух несчастных и заперли за собой двери, чтобы никогда больше не отворять их. Снова полил дождь, надо было немедленно встать и что-то делать, двигаться, просто кричать во всю глотку, а иначе от этой черной грусти можно незаметно задремать, а к утру закоченеть.
Небо на востоке заметно посветлело, стал виден край набухшей тучи. Река как бы отодвинулась от берегов, выгнулась от осеннего паводка и своим ровным гулом напоминала о дороге. Донька встряхнулся от безразличия и сонной лени, спустился к карбаску, разглядел в утренней сумеречности совсем чужую Дорогую Гору и только сейчас окончательно понял, что в деревню им возврата нет. Даже если бы Яшку Шумова повергла в своей толще морская пучина или задрал его зверь – обратно уж не вернуться, люди не примут Доньку и Тайку: они станут коситься и обходить стороной, строить мелкие постоянные пакости, пока не заставят иль совсем убраться прочь из деревни, или не свезут на погост. Наверное, и Тайка поняла окончательно, что с Дорогой Горой надо распрощаться, ибо теперь не плакала, а торопила Доньку. Они спешно оттолкнулись от берега и в два шеста стали подниматься вверх по Кумже, не давая себе роздыха.
Поклажи у них было немного, и они довольно быстро поднялись до ханзинских расчисток. Когда проходили мимо Богошковых пожен, за толпой молодых сосенок на горушке Донька с великим трудом разглядел сгоревшее дерево, похожее на черный корявый палец.
И Донька с поразительной подробностью вспомнил тот давний день и удивился своей памяти. С неловким чувством страха и грусти он еще долго оборачивался и всматривался в черный осколок дерева, в пологую бережину, опушенную желтыми ивняками, в мрачный нахохлившийся лес. Они зашли карбаском в набухшую ручьевину, ту самую, через которую когда-то в жаркое лето прыгал, набравшись смелости, Донька Богошков. Ивняки переплелись ржавыми слизкими ветвями, приходилось раздирать их руками и сечь топором и с великим трудом проталкивать карбасок, но зато уж никто не мог бы разглядеть его с реки. Мясистые хвощи на берегу почернели, побитые морозом, и скользкой грязью налипали на подошвы, дудки-падреницы уже не пахли, они пожелтели и, ломаясь, мокро хлюпали.
– Я боюся, – с дрожью в голосе вдруг сказала Тайка. Она вспомнила эти места, старое ханзинское жилье, где и по эту пору все бродят и бродят неприкаянные безвинные бабьи души. – Пугат здесе-ка. Я думала, ты к дяде Гришане...
– К Гришане тебе. В Кельи-то Яшка первым делом кинется.
– Злодейское место. Тут непременно беде быть, – с дрожью в голосе шептала Тайка, озираясь кругом.
А дождь все канючил, сыпал и сыпал, мелкий, как пыль, и назойливый, будто летняя мошка, – от такого дождя не было спасения и сухой нитки на теле. От стылости и мокроты Донька раздражался быстро, ему хотелось поскорее добраться до любого жилья, чтобы отогреться и спокойно вздохнуть.
– Не каркай давай. Веришь бабьим сказкам... И кости-то, поди, давно сгнили.
– А сам-то че сказывал, забыл?
– А я понарошке придумал, чтобы Яшку тогда напугать. Он все хвастал: ничего не боюся, ничего не боюся. – И Донька сразу вспомнил тот давний день, яркую вспышку молнии и простоволосую бабу, плывущую над землей, а потом душный бег к реке, полыхающий на том берегу высокий костер, и мать, лежащую в земле, уже с закоченевшим белым лицом, и сутулую спину отца. – Это я понарошке. Видала бы, как он мчался, вот умора-то. Что жеребец хороший, – упрямо повторил Донька, чтобы прогнать печальные воспоминания.
– А незачем было и сказывать. Теперь я боюся.
– Ну, ну, со мной-то нечего бояться.
Наконец они выбрались из ивняков на край пожни, а отсюда до ханзинского жилья рукой подать. Изба стояла подле березовой вымокшей рощи и, осыпанная желтой вялой листвой, казалась еще более мрачной и неприютной. Крыша вонного амбара уже провалилась, и котда проходили мимо, взлетели из застрехи запоздалые дикие голуби. Тайка невольно схватила Доньку за руку:
– Не пойду я...
– Таюшка, голубушка ты моя. Раз такое дело, положись на меня.
У Доньки на плечах лежал мешок с мукой да ружье висело за спиной, а тащить груз было далеконько, и поясница уже ныла от тяжести, да еще Тайка повисла на руке, и, больше не уговаривая, он пошел сразу на взвоз ханзинского двора, как к себе в избу. Плахи на скате одряхлели, покрылись зелеными лишаями и опасливо покряхтывали: дом без присмотра доживал свое; и видно, пройдет не так уж много лет, и поначалу провалится крыша, проглянут стропила, потом опадет поветь и прогнется передок избы, а там ветер раскатит трухлявое жилье, дождь замоет его, и дикий бурьян возьмет свое – сгладит вровень с землей.
– А когда-то, сказывают, богатое житье было. И все прахом пошло. Все прахом. Наживали, старались, – равнодушно сказал Донька.
– Все во власти Господней, – откликнулась Тайка.
– Один злыдень, а что натворил...
– Вдвоем, сказывают, были.
– Кто знает, кто знает. Нам бы до санной дороги только дотянуть.
Донька скинул в угол повети, где было еще сухо, мешок с мукой и пошел впереди Тайки в избу. Потом они так и стояли посреди жилья, не закрыв двери. Донька осмотрелся и подумал, что вроде бы не тронуло время избу, все на своих местах: и длинный стол, и поставец, и лавки вдоль стен, и тот же темный образок в переднем углу, засиженный мухами.
– Батюшко-хозяинушко, пусти нас на житье на бытье, на богачество, – робко попросила Тайка. – Осподи, дела-то здесь сколько. – У нее сразу закипела душа, зачесались, затосковались по работе руки, она уже прикидывала взглядом, с чего начать да что убрать в первую очередь.
– Вот и у нас изба, – сказал Донька, присаживаясь на лавку. – Ну, хозяюшка, сейчас печь истопим, выть сварим, да и на боковую пора.
– Осподи, хоть бы жить нам дали. Малешенько нам и нать-то, спокоя дорогого. Оставили бы нас, да и позабыли здесе-ка, – не отвечая Доньке, тоскливо вскрикнула Тайка и, чтобы прогнать вспыхнувшую печаль, быстро приникла к Доньке, прижавшись к его губам, и тут же отпрянула, затормошила: – А ну, поди, поди, наломай мне веник. Надо хоть пол прибрать чуток.
... Вот так они и зажили.
А через неделю утренники пошли, деревья за ночь обмерзали и утрами льдисто отсвечивали, лист облетел и почернел на земле, а дальнее опушье пожни вечерами густо обсаживали гуси, о чем-то птичьем мирно говорили, и с первой зарей поднимались на крыло, выстраиваясь в косяки. Донька спал допоздна, и впервые ему так хорошо жилось, и только порой, будто вне Донькиного сознания, вспыхивала и разрасталась мучительная тоска: все казалось, что сейчас каблуком забренчат в ворота и появится ОН, и тогда... Но о том, что случится после, как-то не хотелось додумывать. Донька только крепче зажмуривал глаза и плотнее прижимался к Тайке длинным костистым телом. Ранним утром он не слышал, а скорее, чувствовал во сне, как соскальзывала с кровати Тайка, и, не отрывая глаз и словно бы не просыпаясь вовсе, видел до мельчайших подробностей все: и как она одевается, спешно проталкивая через голову юбку, зябко вздрагивает, растирает руки и охает, потом перед Казанской Божьей Матерью шепчет: «Осподи, Матушка дорогая, обнеси мимо нас слезы и беды»; с лучиной в руке быстро уходит на двор и скоро возвращается, и за нею следом скользят длинные черные тени. А вот и дрова потрескивают в печи, горький березовый дым стелется под потолком, порой его прозрачная пелена опускается ниже и щекочет Донькины ноздри, парню хочется чихнуть, но он сдерживает себя и по-прежнему не просыпается окончательно. Тайка лезет на печь за квашней, оттуда ласково, будто сквозняк прошелся, зовет шепотом: «Донюшка», – и тут парень как бы совсем выплывает из теплого маетного омута, и уже все шорохи и запахи не где-то вне его, а будто внутри его и тонким эхом отзываются в душе. От постелей пахнет зверем и спелым Тайкиным телом, кислый запах выбродившего теста мешается с горьковатым запахом сухой полыни и богородской травки, которую Тайка заваривает вместо чая. Порой безо всяких усилий Донька вновь коротко засыпает и видит столь же короткие ласковые сны, а потом так же легко отворяет глаза, чтобы увидеть Тайку. Она стоит в длинной холщовой рубахе до пят, юбка подоткнута за пояс, рукава закатаны до локтей. Тайка хлестко и сильно мнет тесто, шлепает его ладонями и раскидывает по деревянным чашкам.
«Тая, Тася, Таисья, жена дорогая, единственная перед Богом и людьми», – думает с тревожной радостью, еще не веря своему счастью, и нежданные слезы щиплют глаза...
И тут Донька просыпается окончательно, потому что жена (не девка, не полюбовница, а жена дорогая, и только так, до самой могилы) бросила в него верхоньку. Пришлось вставать, а пока плескал на лицо из рукомойника, Тая уже хлебы из печи достала, накрыла утиральником, чтобы оттаяли чуть, да рыбу приволокла. Взял Донька каравай в две руки, запах от хлеба дрожжевой: вдохнул голова закружилась, хотел разломить и раздумал. Заново всмотрелся в Тайку и словно впервые увидел ее, тихой ласковой ладонью коснулся упругой бледной щеки – вздрогнуло сердце.
– Да ты у меня, Тайка, одуванец, как облачко пуховое, ей-Богу, – сказал растерянно. – Ты ангелица...
– Да будет тебе ерунду молоть, – шутливо отмахнулась Тая, а от любви сердце зашлось. Она сидела на скамье, разомлевшая от работы, на белом, словно подтаявшем лице проступил слабый румянец, белые невесомые волосы вспыхивали при свете лучины и наливались морошечным светом, а в глазах совсем темная зелень.
– Осподи, как хороша ты у меня, – снова сказал Донька.
– Куда там, ряба да конопата, – опять отмахнулась Тайка.
– Кака ты золота да пригожа, – в третий раз сказал Донька и теплым караваем погладил по Тайкиным волосам. – Скажи, любая моему сердцу, что тебе надобно: денег, жита иль нарядов?
– Не надо мне ни жита – своего закрома, ни денег – в комоде лежат, ни нарядов – своих сундуки гниют, еще не надевано, не нашивано.
– Тогда отдаваю себя в мужевья, согласна?
– Да, Донюшка, да...
– Так целуй же князя, – встал Донька, голова под самую притолоку, губы раздвинулись в невольной улыбке.
Тайка потянулась на цыпочках, едва до подбородка достала пересохшими губами, заголосила, притворствуя:
– Ой и насрамил ты меня, набесчестил, погубил ты мою девью красу...
И вдруг потускнела вся, села на лавку, глаза затуманились, и, скрывая лицо, потянулась к караваю, отщипнула кроху, стала задумчиво жевать, мыслями уже не в этой избе.
– Что с тобой, Тая? – встревожился Донька, притянул к себе.
– Осподи, Донюшка, сразу бы эдак-то жить...
– Батюшку своего благодари. Он с тебя небось слово какое-то взял? Ты сейчас хоть расскажи толком, что с тобою приключилось... Ведь все как-то сразу, диким образом. И к тебе не подступись, и о тебе ни слуху ни духу. Только одно известие, что помирает Тайка и сваты Тиуновы от нее отступились. Мачеха сбегает до вас, а вернется – только и скажет: худа девка, порато худа. Я к вашим воротам ткнусь, не пущают, как собаку паршивую гонят взашей, – мол, неча делать. Вот те и родственник... Как повернулось, а? И веком бы не подумал. А умом, однако, посчитал: нет, не зря Петра Афанасьич батюшке денег одолжил, этот глот и копейку задаром из рук не выпустит, а тут, нате, сразу триста рублей серебром. Это ж дики деньги. Скажи только: он с тебя слово взял?
– Я хотела как лучше. Только бы от рекрутчины ослобонить.
– Глупа, лучше бы в солдаты. Чего наделала, чего натворила? – растерянно, поддавшись первому порыву, забормотал Донька. – Лучше бы под красну шапку, чем так...
– Сам глупый. Чего мелешь? Окстись... Забрили бы, дак и вовсе нам не видаться.
– Самоходкой бы ушла, – совсем перестал соображать Донька.
– Куда, на кудыкину гору? Коли тебя забреют.
– Вот оно как, ах, боров жирный, ах, глот окаянный. Будто карася плохого поймал, вздел на крючок. Ах ты Боже мой.
– Я бы ни за кого, вот те крест, Донюшка, не пошла. Я думала, деньги вернем, а там и побежим. Там-то мне удержу не было. Да, вишь, вот как все приключилось. Ну ладно, что было, то быльем поросло. Давай ешь, и по дому чего ли поделай, – ушла Тайка от разговора, но куда денешься от воспоминаний, если они постоянно в тебе и жгут душу. Да еще любимый пристал, травит, мучает своими расспросами. – Ну ешь, ешь, Донюшка. Единственный ты у меня, до самой гробовой доски. Мало тебе этого, да? Если хошь знать, я мужика к себе ни разу не допустила. Вот... – и спохватилась, прикусила язык, всполошилась в уме: «Осподи, что наделала, что натворила, и кто за язык тянул. Сейчас ведь привяжется. А может...»
Но в Доньку вселился бес: парень чувствовал, что Тайка чего-то утаивает, может, очень страшное, чего, наверное, даже лучше не ведать бы, но этот окаянный бес. тормошил, не отставал: «Ты поспрашивай, Донька, ты это дело так не оставляй. Мало ли чего, а? Разве что может быть в тайности промеж вас?» – «А может, зачем? Придет время, сама распахнется», – слабо сопротивлялся Донька. «А ежели она таит такое, – точил душу бес, – ну такое, сам знаешь что...»
Последние Тайкины слова невольно застряли в Донькиной голове и вывернулись своей изнанкой – парень смутился и покраснел.
– А пошто тогда ты это...
Тайка поняла, о чем спрашивает Донька, и смертельно побледнела.
– Ты про што?
– Ну, сама знаешь...
– Не надо, Доня, Богом прошу. Осподи, какой глупый день.
– Ты скажи, откройся – и легче станет, – почти умолял Донька, и уже злость, чем-то похожая на ненависть, родилась в тайниках души. – Ты пошто не скажешь? Значит, не любишь?
– Ну зачем тебе? Зачем ты травишь меня. За мою любовь?
– А я тебя умоляю.
Донька вспыхнул, схватил Тайку за плечи и больно притянул к себе, всматриваясь в ее растерянные глаза.
– Я не знаю, как и сказать, Донюшка, – уже вяло, теряя разум, говорила Тайка.
– Ну-ну...
– Язык не поворачивается на такое.
– Ну, ну, – холодея от жутких предчувствий, мучительно настаивал Донька. – Ведь тебя отец хотел за Тиуна отдать. Так пошто он тебя продал Яшке. За што, не молчи только... Тасенька, прошу, только не молчи.
– Ты не разлюбишь меня, Доня? Ты меня не разлюбишь, правда? Ну скажи «нет».
– Нет, нет. За што тебя разлюбить-то. Ты ведь для меня чище солнышка.
– Меня землемер изнасилил... А отец-то и продал потом Яшке, чтобы позор мой сокрыть, – тупо улыбаясь, не в силах согнать с каменного лица эту глупую улыбку, сказала Тайка. Глаза ее расширились, и в них появился ужас. Она словно бы заново видела зимнюю дорогу, пьяное лицо землемера, его острые губы и жадные руки.
– Ты чего, как же это? – невольно почужел и холодно отодвинулся Донька.
– Не надо было, ой, зачем и сказала...
– Ну-ну.
– Поехала с попутьем к тетушке в Соялу. А землемер-то у нас гостился. С пьяным-то и поехала. А он и обсрамил меня, надругался над моей девьей красой... Ты меня не разлюбишь, Донюшка? Не разлюбишь? Нет, нет, – вдруг закричала Тайка, потом засмеялась, потерянно ойкнула, и тоскливая улыбка, странная в эту минуту улыбка, снова родилась на лице. – Ой, неможу что-то, Донюшка, – глуповато забормотала Тайка, опрокидываясь спиной к стене. – Вот будто маленькие человечки во мне раздор начинают. Вон тому, рыжему икотику, орехов-меледы захотелось, а малышке хроменькому, что у меня в колене сидит, – свечки топленой, а косматому черному драчуну – моченой морошки. Осподи, как я вас помирю, как ублаготворю.
Сала топленого в рот сунула и тут же выплюнула: «Не хочет, Донюшка-то. О-о-о». Тайка скатилась с лавки, лицо у нее напряглось, глаза округлились. Ее затрясло, и нелепый крик вырвался из груди.
– Мы не туда попали, мы не туда попали.
Донька обнимал Тайку, но тело ее корчилось и рвалось из рук, словно страшная невидимая сила переполнила Тайку и сейчас изливалась через край. Не знал, не ведал Донька, что летала ныне Тайка в черном пространстве страха. Она пугливо смотрела круглыми глазами и тянулась к Доньке: но были слепы глаза и мертвы руки.
– Доня, мне страшно, не уходи. Где ты, Донюшка? – раздался тонкий звенящий голос, но мог поклясться парень, что Тайкины губы не растворились, и ничто не шевельнулось в этот миг на плоском больном лице.
– Ты ужо, Таиса, Таисюшка, голубушка моя. Не блазни ты себя, не вводи в ман греховный. – Донька опустился на пол, положил Тайкину голову к себе на колени. Мягкие белые волосы текли меж пальцев, как вода, и что-то ненадежное и смутное было в этом прикосновении.
Доньке чудилось, что его любовь уплывает от него, как тундровая мара. В последний раз донесся призрачный голос: «Разлучили разлучники», – тело вздрогнуло и разом увяло. Тайка стала мучительно широко зевать и закрыла глаза.
День для Доньки прошел маетно, а ночь была мучительной и бесконечно длинной, словно парень прежде выспался уже на весь свой век. Тайке стало лучше, она под вечер пришла в себя, слабо улыбнулась и сразу же забылась вновь, но дышала теперь ровно и спокойно, и Донька даже боялся шевельнуться, чтобы не потревожить ее сон. Он так и лежал до утра с открытыми глазами, отупевший от бессонницы. В стене мирно шуршал дождь, потом где-то протекла крыша, и вода, капля за каплей, стала дончать о пол. Надо было бы встать да подставить посудину, но страшно было шевельнуть рукой-ногой. В Доньке и тогда, в час разговора, и нынче не родилась безумная, жестокая ярость; он не точил свою душу упреками и не решал, как лучше поступить: в его душе все созрело как бы само собой, как рождается внутри тела дыхание, и только однажды, под самое утро, он вдруг с жалостью и страданием подумал о Тайке, куда денется она и что будет с нею, если то самое случится. И тогда Донька осторожно повернулся на бок, лицом к Тайке, и в утренней зыбкой темноте захотел разглядеть жену, как бы попрощаться с ней, но увидел только смутное белое пятно, да еще ровное дыхание щекотно теплило его плечо. Тут вспомнился Яшка, его печальный черный взгляд, и Донька с удивлением подумал, что, пожалуй, и нынче бы не посмел убить крестового брата, потому как бескрайней ненависти к нему так и не услышал в себе, а чувствовал только болезненную жалость к его одиночеству.
Рядом вздохнула Тайка, сразу же тихо соскользнула с постели, словно и не болела, пошарила в загнетке живой уголек и раздула лучину.
– Тая, ты куда? – тихо позвал Донька.
– А, не спишь? – вяло откликнулась Тайка. – Печь топить да выть сготовить.
– Полежи еще. Не семеро по лавкам, – попросил Донька.
– Не, не...
– Тогда и я поднимусь.
– Тебе-то зачем?
– Дела...
Тайка стряпала еду, Донька стал собираться в дорогу, о вчерашнем они не заговаривали и в глаза друг другу не глядели.
– Ты куда? – наконец спросила Тайка.
– К дяде Гришане. Навещу... Насчет лошади надо и про дорогу вызнать...
– А я?..
– Чего ты...
– Я-то куда?
– Я быстрехонько смотаюсь, одна нога здесь, другая там.
– Вместе бы веселее, – жалобно попросила Тайка. – Боюся чего-то. Да и сам вишь, какова я.
– Вдвоем мешкотно. Я ведь прямиком до Келий.
– А Яшка как придет, чего тогда?
– Ты не открывай. Сиди на запоре. Ружье тебе оставлю. Заместо меня на кровати повалишь, – пробовал улыбнуться Донька. Он собрался быстро, по-охотничьи, не забыл огниво в кожаном мешочке и запасные сухие онучи, зачем-то поскреб о ноготь широкое лезвие ножа, и сухое лицо вздрогнуло от тайных чувств.
Он и прощался скоро и торопливо, словно боялся разжалобиться: рывком прижал Тайку к себе, коснулся ее сухих, обветренных губ, сразу отвернулся и шагнул к дверям.
– Доня, ты быстро? А лучше не ходи совсем.
– Ну, ну, ты брось. – Он замялся у порога, не решаясь перешагнуть в темноту повети. – Не провожай, не надо. Да еще... – Донька что-то прикинул в уме. – Дня через два дядя Гришаня придет, дак ты его слушайся.
– Донюшка, чего задумал, скажи? – вскрикнула Тайка, рванулась к порогу.
– Осподи, чего-чего... Ничего не задумал. Может, Дорогую Гору навещу, дак задержусь. А может, и не пойду, дак вместях с дядей Гришаней в обрат. Ворота поветные на засов запри, в избе сиди, тут всего хватит. Ну, и чтобы мне не реветь. Я что сказал? – шутливо возвысил голос Донька, прощальным взглядом окинул Тайку, словно знал, что не видать более ее, и сердце отзывчиво и горестно дрогнуло.
Глава пятая
Яшка встретил свой дом пустым и холодным, но еще подумал, что, может, Тайка ушла на время к матери, и сбегал туда. Петра Афанасьич долго и нудно гугнил, глотая слова, как его ограбили в Архангельске, разорили вчистую, но о дочери смолчал, и Яшка, не в силах добиться от Чикиных ничего толкового, бросился к Богошковым, где только и могла еще схорониться жена. Яшке думалось, что Тайка спряталась от него, не в силах простить прошлого, и он со страхом понимал, как невыносимо будет ему, если Тайка уйдет от него, – но, нет-нет, только не это, – и неожиданно находил в душе удивительные добрые слова, которых вроде бы и не знал раньше, а нынче выскажет Тайке, и тут же отчаянный гнев горьким комом подкатывал в горло, так что трудно было дышать, и мужик, скрипя зубами, бубнил: «Ну, стервь, найду ежели, голову напрочь отсажу». Так ласковые слова мешались в Яшке с самой похабной руганью, и когда он заскочил в избу к Богошковым, то ошалел от длинного тоскливого воя – это причитала по покойному Калине молодая вдова:
– Ой да закатилось мое красно солнышко...
– Заткнись, колода пуста. Тайка где? – крикнул с порога, обвел бешеными глазами избу, пробежал за загородку, заглянул на печь и на полати – жены нигде не было, но еще думалось, что Тайка где-то здесь.
– Осиротели мы безвременно без князя нашего, без защитника, – вопила Евстолья, но подняла зареванное, опухшее лицо.
– Тайка где, гугня? – закричал снова Яшка в самое ухо бабе, та тупо посмотрела мужику в рот, скривилась, махнула рукой на дверь, а сын на лавке подумал, что мамку собираются бить, и густо заревел.
– Да загунь ты... Тайка не знаешь где?
Евстолья вдруг перестала причитать, просушила передником глаза и одернула Яшку:
– А ты не ори, не глухая, бат. Парня-то всего напугал, леший тебя принес тоже.
– Ну, баба, доведешь, кажись. Круть-верть, круть-верть, нелюди какие-то. Ничего толком не скажут.
– А ты не покрикивай, – словно и не ревела только что, сухим голосом сказала Евстолья. – Твоя баба с моим пащенком намылилась.
– Эй, ври, да не захлебывайся, – испуганно одернул Яшка.
– Умелись... Стыда-то ныне совсем нет, свальный грех кругом, осподи. Хоть и сестреница мне, а на заступу не стану. Ты только в море, а она подолом трясти.
Яшка притих, словно по голове топором колонули, осел на лавку, ссутулился, скреб отросшими черными ногтями седую голову, будто никуда не торопился, будто не он минуту назад огнем полыхал посреди избы.
– Ну-ну. Вот оно как. Мужик, значится, в море, а она стелькой, – бормотал он.
– Мешок муки уволок пащенок-то, да бочонок рыбы соленой, да оленью постель, – который уже раз вспоминала Евстолья, особенно жалея мешок ржаной муки. – Уволок ведь целый мешок. Как и стыда хватило...
– Загунь, чего пожалела-то? – окрикнул Яшка. – Я тебе десять откуплю, скажи только, где Тайка.
– Ночью сбегли-то. Аки тати лесные сокрылись. На карбаске ушли, то уж по реке, знать. Такой карбасок-то хороший, недавно и ладил Донька. От глупой, от неразумной, батюшки-то нету теперь, он бы причесал ему задницу хорошенько. О-о-о, – завыла опять Евстолья, поняв, что Калина больше никогда не вернется с холодного острова, а значит, отныне век свой одной куковать, ведь кто позарится на вдову, слава Богу, молодых девок полно. Тут Яшка уразумел, что ничего ему более не добиться от Евстольи, и снова убежал к себе в избу. Первый запальный гнев у него прошел, и Яшка смог соображать ловким своим умом; сразу осмотрел весь дом, припомнив, что взяла с собой Тайка. Сначала предположил, что в Кельях сокрылись беглецы, у Гришани Богошкова, но тогда зачем столько муки и рыбы взяли, – ведь мужик не из нищих, прокормил бы родича с беглой девкой; и в Соялу они не поднялись, так кругом людно, каждый приметит, сарафанная почта уж давно бы в Дорогую Гору весть принесла, но и в той стороне никто не видал Доньку Богошкова. Значит, спрятались где-то в тайбольской избе, чтобы переждать распуту, а как встанут реки да наладится дорога, тогда и уйдут в Расею-матушку.
Перебрал Яшка в памяти тайбольские охотничьи да заброшенные избы, дальние от людей, где редко человек бывает без крайней нужды, и почему-то пала его дума на бывшее ханзинское жилье. По Кумже двадцать верст рекой ни одного жилья, а дней через десять заледенится вода, и лодкой к ним не попасть – будут жить полюбовники как у Христа за пазухой до снегов, до морозов.
На Кумже были забереги и вода загустела, когда Яшка на легком стружке лихорадочно поднялся вверх до ханзинского жилья. Мужик подгорел весь, под толстыми черными бровями глаза округлились, щеки запали и густо обросли мохом. Яшка сидел на заднем уножье, как зоркая сова, зыркал по сторонам глазищами, и ничто не могло сокрыться от его ищущего настороженного взгляда. Порою он с горечью думал, куда дальше кинется на поиски Тайки, коли там не найдет; но если беглые в ханзинской избе, если только там они... Яшка часто нагибался, гладил ладонью захолодевший ствол ружья, которое постоянно лежало подле, и тогда легкий озноб волнения тревожил спину. Яшка знал, кого он ищет и что хочет он, и злобный азарт, родившийся в душе, походил на охотничий скрад зверя. Мужик сутки уже ничего не ел, он только изредка нагибался через корму и пил прямо из реки, будто лось, густую морозную воду.
Яшка хотел пристать у пологой бережины и вытянуть туда стружок, но впереди заметил промоину, обросшую ивняком, полную сейчас осенней большой воды. Он вспомнил, что если этой ручьевиной подняться вверх, то ханзинская изба будет совсем рядом. И только Яшка свернул в ручей, как сразу понял, что здесь кто-то недавно плыл, потому как береговая осота примята и ветки ивняка порой посечены топором и еще не успели потемнеть на срезе. Он сразу же лихорадочно заработал веслом и вскоре нашел то место, где, наверное, стояла лодка, но сейчас ее на месте не было, и глубокий след на травянистой бережине залила вода.
Яшка решил, что Донька сбежал, почуяв опасность, и чуть волосы на голове не рвал от досады. Если они всплыли вверх, а оттуда тропой на Кельи, то, пожалуй, можно их достать, только бы не устроили ему западню... Кончат из ружья да мохом присыплют, там ищи его в тайболе. Никто и не знает, куда Яшка умчался из деревни, никому ведь и не сказался.
Лохматые тучи неслись над самой головой, едва не сбивая шапку, но пространство меж ними льдисто светилось; скоро должен прийти большой снег. Задерживаться нельзя, река со дня на день могла встать, а без варева и когда весь зверь затаился в ожидании перемен, здесь сплошная гибель. Яшка это понимал, но какое-то неясное предчувствие, которое часто навещает человека во время поиска, тревожило его. Он так и сидел в корме, усталый и разбитый, и все подталкивал стружок шестом, чтобы не отнесло его вниз, но и на берег не вылезал, а безразлично вглядывался в примятую осоку и гнилые черные хвощи, на которых остались вдавлины от сапог, залитые дождем. Одни были длинные и глубокие – медвежьи, это косолапил Донька, – другие маленькие и несмелые, словно шел лосенок.
И все же Яшка вылез на берег, вытянул стружок, еще потоптался, свой разбитый бродень приложил к маленькому острому следу и, подавленный усталостью и нахлынувшей печалью, заплакал. Он ревел в голос, как ребенок, и слезы горошинами скатывались в грязную кудрявую бороду. «Дрянь такая... Сука. Вернись, не трону. Не могу я без тебя, Тасенька... Не Тасенька, а стерва она, вот», – словно пьяный причитал Яшка и, не вытирая с лица слезы, стал продираться через кусты к ханзинскому дому.
Он не понимал, что его вело туда, словно бы кто невидимый тянул за руку, а Яшка упирался, поминутно оглядывался назад, где в кустах остался его стружок... Но он не знал, что вот так же когда-то его отец, Степка Рочев, шел к ханзинской избе, мучимый страхом и голодом. Он зашел во двор, полный скота, на него пахнуло из дверей запахом теплого жилья и еды, сразу засосало в животе, в котором уж много дней не было ничего, кроме ягод и грибов. Степка переступил порог и увидел настороженный взгляд плотной курносой бабы и любопытное круглое лицо за ее спиной. И он удивился тому, что обитал в постоянном страхе, а эти бабы не испугались его; он промерз у таежного костра, а они живут в тепле; он уж который день не потреблял, кроме лешевой еды, а они рыгают от сытости. И, чувствуя свои страдания, беглый матроз как-то сразу наполнился ненавистью к плотной курносой бабе и ее приплоду, потому как, оторванный от земли, он уже давно забыл соль крестьянского пота на губах и тяжесть мужичьей неродящей земли. В матрозах Степка Рочев помнил только ощущение сладкой воли, но свобода оказалась грязной, холодной и нищей. Он брал каравай из бабьих натруженных рук и наполнялся ко вдове великой злобой даже за то, что она не боится его; за то, что она знала любовь и рожала, а он никогда не будет любить и никого после него не будет; за то, что она, закрыв на засов двери, повалится на горячую печь, а он, как зверь дикий, под еловый выворотень. И ярость заглушила разум... А ведь мог бы Степка Рочев быть в жизни добрым мужиком, настроить кучу сыновей и оставить свой род и свой характер на долгие веки, если бы волею злой судьбы не пала на него рекрутчина. Надели на него красную шапку, забрили лоб, и сразу захотел Степка Рочев свободы, о которой никогда и не думал, потому что он жил в ней, и наполнился мужик звериной жестокостью, о которой не знал, но которая за одно лето и одну осень разрослась и выплеснулась через край...
Ничего этого не знал Яшка. Он зашел на поветь, просунул прутик в щель и, как бывало в детстве, пробовал откинуть щеколду и пройти в избу. И щеколда откинулась легко, но ворота не распахнулись. Яшка нажал плечом на створки, но что-то их держало надежно, и тогда он понял, что в избе кто-то есть. И, наполняясь восторгом и новой яростью, он что было мочи забарабанил броднем в ворота, пока не устала нога. И нисколько не удивился, когда услышал в глубине повети посторонние звуки, кто-то робко остановился у ворот и, наверное, слушал.
– Эй, Тайка, открывай...
– Кто там? – спросила Тайка.
– Донька, выходи, убью, – захмелел от гнева Яшка. – Выходи, ворзя, клятвопреступник. У крестового брата бабу увел. Стыдись... Сейчас ворота разнесу, коли не выйдешь. Дрожишь, хуже зайца. А пакостить-то он герой, тут он мастер. Я тебе покажу, как чужих баб... Тайка, отопри. Ну, стервь ты, однако, – еще долго изливался Яшка.
– Яшенька, я тебя Господом Богом умоляю. Оставь ты нас в покое.
– Сейчас оставлю... Где этот-то?
– Не тронь ты его, Яшенька. Я на колени паду перед тобой. У нас и ребенок будет с Доней. Ну куда я тебе с чужим-то нужна буду, – глухо уговаривала через дверь Тайка, полная ужаса.
– Тая, ну кликни его. Не трону я, вот те крест...
– Да как позову, коли нету его, – просказалась Тайка.
– Как нету...
– На охоту побег, с часу на час вот будет.
– Тая?
– Ну...
– Чего ты натворила. Я ли тебя не люблю? Воротись ко мне. Люблю я тебя, пальцем не задию.
– Не, не, Яшенька. Не мил ты мне. И попомни, какой грех на твоей душе.
– Так что я мог поделать тогда. Меня бы в каторгу, и все...
– Не, не, Яшенька. Поди с Богом. Умоляю, оставь нас. Найдешь ты бабу получше меня, заживешь на славу. А куда я тебе, порченая да славленая, да и с приплодом, – уговаривала Тайка, всячески черня себя.
– Отвори, стерва. Слыхано ли дело – от мужика бегать. Пошто и шла...
– Неуж и не знаешь пошто. Как скотину продали. Так мне тогда хоть в пролубь головой, хоть за тебя. Все одно...
– Ну, Тасенька.
– Поди, Яша, с миром. Оставь нас. – Тайка повернулась и пошла в избу, слушая, как грохочет, сотрясается изба под Яшкиным напором. Села на лавку и стала причитать: нет-нет, он так меня не оставит. Осподи, Донюшка, ведь говорила, не езди, не оставляй одну, не послушался, укатил, так-то любишь, значит. И я тоже хороша, на глупом месте выросла, зачем было даве молоть да старое ворошить. Как бы худа не натворил, чует мое сердечушко. И пошто не сказала, пошто не открылась, что ребеночка жду. Уж который день тошнит, который раз подташнивает. А тут еще зверь этот напал, совсем напугал меня. Он ведь такой находальник: через ворота не попадет, дак через крышу пролезет.
Тайка запалила сальничек, поставила на загнеток, а душа так болит: знает она, что добром все это не кончится. Не такой человек Яшка Шумов, чтобы миром отступиться, своего он не оставит, хоть и век ему это не нужно будет. Но пора было валиться спать, да только какой тут сон, если ворог у избы. Еще раз обошла дом, проверила все запоры; глупенькая, ей бы спуститься в старые хлевы да подергать в овечнике дверцу, а она скорее заскочила в избу, прислушалась: тихо было в доме, и только в деревянной трубе выл ветер. Непогодило на улице, сиверко спустился на землю, и в такой вечер, да в одиночестве, одна тоска жить. Обнадежила себя: может, совсем ушел Яшка, смирился да и поплыл прочь. Нет, нет, такого не может быть, и не надейся, Таисьюшка.
С каким-то недоверием взяла в руки ружье, осмотрела его, забила в ствол круглую свинцовую пулю, как учил Донька, насыпала на полочку свежего пороха меру, – может, старый подмок, да и мало ли что может случиться, а береженого сам Бог бережет. Легла на место и ружье подле себя положила. Долго вглядывалась в смутный свет сальницы, от кровати входная дверь казалась черной и как бы раскрытой настежь, хотя точно помнила, что закрыла на крючок. Так и сумерничала, or каждого шороха пугливо поднимала голову, сердце сразу замирало и перехватывало горло. Потом опять укладывалась, сквозь прищур глаз смотрела в желтое пламя сальника и в какой-то миг, умаявшись от ожидания, уснула.
Тайка очнулась от того напряжения, в котором жила ее душа. Она просто открыла глаза, и в сумерках ей показалось, что входная дверь колыхнулась. Тайка села на постели, схватила ружье и взвела курок. Дверь приподнялась и медленно, звякнув крючком, распахнулась. Яшка, наверное, думал, что застанет Тайку спящей, и потому оторопел, когда увидел ее блестящие лихорадочные глаза и ружье, наставленное почти в упор. Его словно бы сдуло к стене, и он притворно захихикал:
– Ловко, эк ты...
– Не подходи. – с дрожью в голосе, не слыша себя, сказала Тайка. Она чувствовала, как внутри ее снова шевельнулась болезнь, эти странные икотики-человечки начали сердиться и травить душу; горло сдавила невидимая рука и стало трудно дышать.
– И стрелишь? Будто и умеешь, – Яшка хотел свести разговор на шутку. – И всамделе одна... Ну побаловались – и хватит. Пойдем давай домой. – И он шагнул от порога.
– Не подходи, Господи, – прошептала Тайка. Она почувствовала, как озноб пробежал по спине, судорогой свело колени и вздрогнуло, наливаясь тяжестью, ружье.
– Будто и стрелишь. Грех-то, а? Тая, ну пойдем, – сказал Яшка и, распахнув для объятия руки, шагнул навстречу.
– Господь простит...
Выстрел хлестнул Яшку в грудь, прошил насквозь и откинул к стене...
Наверное, в это мгновение пугливо вздрогнула душа и у Доньки Богошкова. Он только что распрощался с дядей Гришаней и нырнул в суземы на знакомую тропу, которая обрывалась у деревни Николы, а оттуда до Мезени верст десять, никак не более, считай, что совсем рядом.
...
Донат Богошков шел к землемеру.
1974 г.
Книга 2 Беловодье
Часть первая
Глава первая
В тюремный замок его привезли в канун Рождества, когда встали дороги.
Попали в город в то самое предвечернее время, когда зимний день кротеет, гаснет на глазах и фонарщик, вытерев усы от тресковой подливы и откланявшись домочадцам, с кряхтеньем подневольного человека обряжается в каждодневную справу и с лесенкой тащится на Ломоносовскую площадь, чтобы оживить первые фонари.
Донат, завернутый в тулуп, лежал на дне пошевней, как оковалок мерзлого сала, и унтер, не давая арестанту помереть, часто оборачивался и незлобиво хлестал кнутовищем: «Эй ты... жив ли, злодей?» А кто знает, жив ли? Все вроде бы при месте; несколько пудов плоти, обернутой кожей, еще чувствуют холод и жесткое днище саней, но душа, которая обычно живит утробу, была в сонной памороке[57] , откуда так близко и желанно до смерти, да и окаменевшее сердце билось без воли, через раз. Может, тряская дорога и не давала умереть, да выводил из забытья дурной поскок худо подкованной лошади. И только дважды Донат оживился: когда в распах двери из белой харчевни мещанской вдовы Маремьяны Миловановой поманило кулебякой с палтосиной; тогда живот дал знать, затомились изголодавшиеся черева; и когда с Троицкого прошпекта мимо архангельского собора свернули к городовой таможне и сквозь нагиб дерева Александровского сада попались в глаза высокие стрельчатые окна, полные жаркого золотого свечения. Тут снова пробудился Донат, и сердце его больно стоскнуло. Запоздалый богомолец отпахнул дверь, оттуда, из жаркого, натопленного придела, выкатился густой бас протодиакона Ксенофонта.
Сам-то громоздкий парень лежал немо и безгласно, лишь лиловый глаз сиротски и безнадежно подглядывал из-за окоченевшего ворота тулупа, но сердце жалобно выдало смуту и вскрикнуло, застонало по-голубиному.
– Ревешь, что ли, злодей? Проняло небось, – встрепенулся унтер. Близкое чужое страдание несколько утешило его и скрасило будущую пустую дорогу. Варнаку что, ему постеля, ему харчи, голодным не кинут, его в тепло да под охрану, а тут вон обратная попажа[58] какая, почитай, на край света. Полицейский горько пожалел себя и невольно вздохнул. – Реви, реви, проказник. Вот ужо, тамотки, ты погоди... Там тебе бачины намнут, охальнику. Небо с овчинку покажется. Но ты ничего, слышь, ты крепись. Ты не поддавайся, молодой еще, шерсти много нарастет.
Донат не отозвался, слова сыпались бесплотно, как снег. Миновали гауптвахту, чиркнули отлетом саней за угол саженной заиндевевшей стены, возле столба с ящиком для доброхотных подаяний остановились. Сопроводитель остановил лошадь у тюремного замка, попросился в ворота караулки. Их скоро впустили, и осталась позади воля, размах окоченевшей реки, сизая покать предночного неба с редкими огнями потерявшихся изб. Ничего не видел Донат, но все это отметилось в душе невольно и само собой. Унтер отдал подорожную, стянул с Доната тулуп, валенки и шапку, чтобы вернуть в уездную полицию, и ушел. Парня посадили на скамью и при свече овечьими ножницами обкорнали половину головы. Из глубины тюремного замка, из своей квартиры, пришел тюремный смотритель Волков, невысоконького росточка, в растоптанных валенках и широком бухарском халате. Большеголовый, он долго ходил вокруг арестанта и повторял жалостливым голоском: «Голуб-чи-ик, ой голуб-чи-ик». Доната еще более выпрямило, будто аршин проглотил, но внутри на эти слова отозвалось и затосковало. Смотритель сел за стол, зажгли перед ним еще одну свечу в медном шандале. Тонкими восковыми пальцами Волков скоро пролистнул дело.
– Кудрявый у вас писарь, кудрявый. Он что, у вас пьяница там? Слыхал, на Мезени все пьяницы, – скороговоркой спросил смотритель, путаясь в словах.
Волков был из бывших кантонистов, в свое время получил добрую выучку на царского писаря, после отличился в кампании двенадцатого года, но с той поры особенно любил глядеть за писарской рукой.
Доната раздели, тюремный фельдшер осмотрел наружно, нет ли побоев иль иной любострастной пакости. Волков сам обошел новичка, потыкал в ребрину холодным острым пальцем.
– Не из скопцов? – спросил вдруг, но Донат и тут промолчал; слова доносились издалека, сквозь снежную глухую пелену и не вызывали ни робости, ни иного ответного чувства.
Он слышал, как фельдшер серьезно ответил:
– Да не-е, все при месте.
Караульщики засмеялись, но тут же осеклись. В больших детских глазах смотрителя мелькнул тот упреждающий грозовой просверк, коего боятся люди, хорошо знающие эту примету. Смотритель вернулся за стол, ему подали свечу, и, подняв ее в руке, он пристально рассмотрел высохшее лицо с проваленными щеками и отметил немую посторонность взгляда.
– Голуб-чи-ик, голуб-чи-ик, как же ты, а? Ну, ничего, у нас тебе хорошо будет... Верно, братцы?
– А что, худа не сотворим. Только пусть не балует, малец.
Низко склонясь над тюремною книгой, облизывая от усердья наморщенные губы, смотритель вывел военнопи-сарским рондо гордый строй высоких буквиц, начисто лишенных каких-либо поросячьих хвостиков: «Донат Калинов Богошков из деревни Дорогой Горы, крестьянский сын, росту 2 арш. 9 вершк. Волосы русые, густые, брови черные, густые, одна от другой отстающие, глаза серые, большие, слегка навыкате, нос прямой, длинный, тупой внизу, широкий, рот большой, зубы малые, частые, белые, здоровые, подбородок продолговатый, с ложбинкою; лицо большое, продолговатое, чистое, лоб высокий и широкий. Особые приметы: на правой ноге вершка на два выше пятки беловатый, почти круглый шрам с копейку; на левой ноге выше пятки шрам около двух вершков». Смотритель присыпал письмо из песочницы, перо тщательно вытер тряпицей, положил в футлярец и спрятал в кармане бухарского халата.
– Ну, голубчик, прощай, – со слезой в голосе сказал смотритель. – Да веди себя пристойно.
И снова Донат смолчал, тупо озирая высокую каменную стену, и широкую скамью за столом, и темные сальные пятна, вытертые на штукатурке затылками в долгие ночные бдения. Надзиратель теплым коридором отвел новичка в цейхгауз, где выдал шапку, рукавицы кожаные с варегами, баранью шубу, коты, онучи суконные, мешок, рубаху, исподники, брюки с ремнем и пряжкою, армяк, суконное одеяло, простынь и покрывальницу. Деревянной витой лестницей поднялись в башню, сторож отпер камеру и, посветивши фонарем, показал на лежанку:
– Устраивайся, с Богом.
Дверь мягко подтолкнула в спину, скрежетнул запор, и темь обступила, объяла парня и поглотила его. Тоска сердечная, до сей поры вроде бы забытая, полонила с такой глубокой разрывной силою, что Донат, не сдержавшись, невольно сдавленно заскулил: «Ы-ы-ы». Парень завыл не столько от страха перед грядущим, сколько от отвращения к себе, от стыда за душевную свою слабость, что вот не мог сотворить задуманное, слюни распустил, и теперь жизнь предстоящая казалась насмешкою. «Байбак, раздевулье, полудурок, кого пожалел?» Бился затылком о стену, но становилось не легче от того, а все маетнее и больнее. Осатаневшее сердце, так и не отмякшее за долгое сидение в мезенской арестантской, по-прежнему саднило и истекало кровью. Вот кричать бы так, кричать долго, пока не задохнуться: «Тая, прос-ти-и-и. Ы-ы-ы».
Но что это такое? Вопль сердечный, гулко отдаваясь в сводах башни, вроде бы разбавлялся иным голосом, иные слова, оттолкнувшись от невидного потолка, возвращались к тесаным плитам лещадного[59] пола.
Донат вздрогнул на очередном вое и, устыдившись своей слабости, словно бы кто зоркий подглядывал со стороны, открыл глаза и уже осмысленно вгляделся в глубину камеры. Оказывается, не так и темно было в келье: в зарешеченное открытое оконце прокрадывался зыбкий, мятущийся свет от коридорного ночника, и у противоположной стены совершенно ясно увиделся человек, до того плоский, что его можно было принять за тень от прежнего, давно умершего сидельца. Арестант стоял лицом к стене, напряженно вытянувшись, бесплотно, почти не дыша.
Постоянно оглядываясь на соседа, Донат расправил тюфяк, набитый соломою, и упал в сон. Он очнулся от всхлипа и плача, от бестолковой говори. Сосед метался по ночной камере, изогнутая тень то преломлялась под куполом, то пласталась по полу, повторяя немыслимые извивы неистового тела.
– Отстань, не приемлю, – вопил арестант, – не приемлю ни в нашем, ни в будущем веке!
Порой он кидался к двери, наверное, с намерением позвать кого-нибудь на помощь, и Доната поразило, с какой легкостью, почти не касаясь ногами лещадных плит, пересекал камеру; но у решетчатого оконца он замирал, опадал грудью, загораживая и вовсе скудный коридорный свет, потом отпрядывал назад к ложу своему и, скорчившись в постели, кричал:
– Изыди, беси, изыди! Прочь, прочь, супостат!
Донат вскочил, пробовал поймать сожителя, но тот как бы просачивался сквозь пальцы, и, не на шутку испугавшись, парень принялся стучать в дверь, обитую жестью. Эхо разносилось глухо, спотыкаясь об извив коридора. Где-то караульщики играли в карты и распивали косушку зелена вина, занятые ночной утехой, а тут два страдальца боялись друг друга и не могли дозваться. Когда, наплакавшись и жалко затихнув, уснул больной, тревожный человек и Донат начал забываться, овладев собою, вдруг запоздало явился ночной страж, постукал о решетку тесаком и спросил с укоризною беспричинно обиженного человека:
– Ты, сволочь... Эй ты, сволочь?
Было непонятно, к кому он обращался в камере. Острое лицо соседа, запрокинутое назад, казалось мертвым, и Донат так решил, что караульщик строжит его:
– Тебе, тебе говорю, мышь ты лабазная!
– Я, что ли? – отозвался Донат.
– Ну так чего ж, и ты сволочь. Чего орешь-то? Людей не видал?
– Да с умалишенным-то поспи. Тебя бы с умалишенным.
– Я тебе покажу малишенного, – лениво, но грозно перебил караульщик. – Я, если захочу, и с покойником тебя положу... Молодой ишо, а чего захотел. Ты не бойся. Он, можно сказать, мать свою убил, – прошептал сторож, приклонившись к окну и вытянув губы трубочкой. Он так прошептал, словно и сам боялся злодея, замкнутого в темницу.
Но тот, оказывается, не спал и все слышал, встрепенулся вдруг и снова пронзительно, с ненавистью закричал:
– Не убивал я, не убивал. Он врет все, врет, врет. Убивать грех.
Страж плюнул, фонарь у входа запалил пуще, подлив жиру, и ушел.
Сосед дышал ровно, еще что-то бормотал угасающе, потом голос его ушел в стены, в купол, пророс сквозь камень, и там, под сводами, в скрещениях каменных арок, еще долго что-то шуршало и сыпалось, гнездились твари невидимые и нежить. Сосед издал фистулу, Донат приподнялся на локоть и увидел вроде бы мертвое, далеко назад запрокинутое лицо. Видел ли он сейчас в тревожном сне мать свою, распластанную на печи, со спущенными нитяными чулками, грузную, простоволосую, мертво глядящую в потолок, где словно бы запечатлелось бессмысленное и жестокое лицо сына.
Дарью Насонову, вдову акцизного чиновника, нашли на печи окоченевшей, с порубленной головой: возле приступка стоял топор. Сына же ее, заподозрив неладное, отыскали на берегу моря у карбаса, возле соседней деревни Ковды. Был Андрей Насонов одет в старое пальто серого сукна, на голове теплая суконная шапка без козырька, обшитая синим галуном, на шее два женских платка, один – гарусный, другой – бумажный; подштанники холщовые, полосатые, закатанные по колена, ноги, несмотря на сентябрь, босые и уже синие от холода, под мышкою, однако, теплое одеяло, где завернута была икона старого письма. Пономаря-расстригу вернули в карбасе в Нюхчю, в родной дом, привели к покойной матери для следствия, но он упорно отказывался признать вину.
И лишь однажды, в порыве любви и жалости, когда Дарью Насонову хоронили на погосте и уже покрыли домовину крышей, Андрей вдруг похватился на колени, запричитал и тут же заговорил, запризнавался, будто, когда маменька спала на печи, к ней вдруг залез черный монах в колпаке и стал приставать, и он, Андрей Насонов, этого монаха ударил топором по голове, чтобы тот отстал от матушки. Но когда следователь попросил повторить, Андрей Насонов заперся, и никакие допросы с пристрастием, ни свидетельства печищан не могли уличить его; даже на исповеди он клялся всеми святыми, что руки его чисты, не обагрены родною кровью.
Глава вторая
Донька проснулся от распевного торжественного голоса, словно бы подле службу вели. Грустно было, и не хотелось разлеплять глаза: веки набухли, натекли от сырости, что скопилась, не пролившись, в маетном сне. Что за смысл жить теперь, куда приведет жизнь эта каторжанская? Заклеймят, прикуют к тачке, и солнца более не видать.
Донька скосил глаза: в высокое зарешеченное оконце скудно попадал зимний утренний свет; плесенью мазало по нагим стенам; уныло и скудно было в этой подневольной келье. И уже раскаялся, что глаза открыл, ибо снова душа содрогнулась, замлела. Когда при уездной полиции сидел, ловчее было, да и жил как бы во сне. Стены бревенчатые, как в доме своем, и, опять же, голоса людские слышны. Вот словно бы встань, отряхнись, толкнись в дверь – и ты на воле.
Сосед по камере стоял на коленях и высоко возносил голос, при каждом поминании Бога отбивая поклон. Расслышал скрип дерева и, прервав молитву, оглянулся, сказал грубовато:
– Молись, грешник, убийца рода человечьего.
– Лихо, да и молитвы забыл...
– Я напомню. Не ленись, встреть утро. Жива душа-то, жива, братец...
Насонов встал, отряхнул колена. Был он тонок, и серая холщовая рубаха висела как на сухом коле, бледное лицо испито тайной немощью, но черные глаза кротки, чисты и печальны. И хоть бы малый намек на ночные буйства, на душевную неукротимую болезнь. Будто грядущий день, едва народившийся в застиранных серых пеленах, излечил человека от смуты и обновил кровь. А так и есть, наверное? Кто из живой твари не пугается ночи? Какие только призраки не являются к нам в ночные часы и не хозяинуют в сонной душе, совершенно переиначивая время настоящее и прошлое. Донат с любопытством разглядывал соседа, несколько робея перед ним и чувствуя в нем тайную силу человека, отмеченного особой печатью.
– Барин, что ли? – поинтересовался Донька, глядя на длинные узкие руки, нервно лежащие на острых коленях: сквозь белую кожу просвечивали вялые голубые жилы.
– Сын Божий, – кротко улыбнулся Насонов. Толстые, неряшливые губы приоткрылись, показав кривоватые зубы, отчего лицо неприятно преобразилось.
Он вдруг замкнулся, потускнел лицом, призакрыл глаза, и в них появилось то отсутствующее выражение, которое обычно настораживает постороннего человека. Тут явился тюремный сторож, приказал вынести парашу и идти на кухню за вытью. Расстрига-пономарь навряд ли и видел и слышал караульщика, и, привыкший к послушанию, Донат покорно вытащил деревянную лохань во двор.
Высокие каменные стены, сложенные из необхватных валунов, окружили его, как бы изгибались внутрь колодца, отчего небо виделось невзрачной полыньей, не вызывающей желаний. Арестанты выбегали, стуча котами по зальдившейся, натоптанной тропе, плескали в лицо снегом и, словно тени, растворялись во мраке камня. Слышался смех и рассыпчатый мат, кто-то прихватил в коридоре бабу, и она заверещала, не скрывая в дурашливом вопле нечаянной и скорой женской радости. Живое – живым, куда деться.
– Черт губастый, плешивый каторжанец. Пообрываю руки-ти, – заливисто вскричала прижатая бабенка, не успевшая скрыться в женской камере.
Казенный дом ожил, задышал, скидывая с себя мертвое оцепенение.
Тюремщик принес в котле выть, а Донату особую алюминиевую мису под номером «тридцать три», раскидал по посудам жидкой гречишной каши и взглянул на бывшего пономаря с тем особым пристрастием и недоверием, как глядят на строптивых людей, любящих устроить пакость. Насонов же чашку свою поместил меж высоких колен, ел неторопливо, с ленцой, словно бы чрево худо принимало пищу. А не доевши более половины, накрошил туда остатки хлеба, перемешал все руками и выплеснул за печь. Вот откуда в камере вонь, вот откуда кислая душнина. «Возьмите, делюсь, но не приемлю. Каждый живет по своему разуму, по своему пути. Отриньте, насытившись, и не приемлю вас, бесовские орды».
Вернулся надзиратель, сразу заглянул за печь, вскричал не то с угрозой, не то с радостью, что все повторилось и его, караульщика, предположения оправдались:
– Опять бесов кормил, сорочий сын?
– Кормил. Дал отступного, чтобы замириться.
– Я тебя сейчас солененьким поугощаю, я тебе трещиной по затыльнику наезжу. В секретную хочешь, сорочий сын?
Широкое волосатое лицо надзирателя странно улыбалось, слегка перекосившись, но в узко поставленных глазах не виделось той обыкновенной злости, которую вызывает поперечный, неуживчивый человек.
– Меня трогать нельзя. Я Божий человек! – торопливо воскликнул Насонов, уже покоряясь предстоящей выволочке.
Донат с любопытством вглядывался в эту новую, странную для него жизнь, как-то забывши на время о своем несчастном положении: ему казалось, что двое вздорных приятелей затеяли постоянную безобидную игру.
– Я в сношения с батюшкой-царем войду, я устрою тебе препорцию сквозь зеленую рощу, харя ты мужицкая.
– Да ты еще угрожать? Я при должности и при бляхе. А ты рванина арестантская!
– Не смей так глаголать, не смей! – взвизгнул Насонов, потеряв былую кротость. – Как ни плох я, как ни злодей, но я из благородного звания.
– Я тебе покажу, ваше благородие, как с бесами бороться. Я сейчас тебя пареной репой наугощаю, – прекратил надзиратель словесную перепалку, в которой явно терпел крах в силу своего мужичьего происхождения; но как отставной унтер-офицер, еще не забывший воинскую выправку, он живо прихватил Насонова за шиворот, пронес через камеру, установил на четвереньки и ткнул лицом в лужу. – Худо тебя, расстрига, учили духовному званию, – бормотал он. – Вот тебе и репа пареная, вот и квас с редькой, и капуста со свиньей. Хля-бай, хля-бай, говорю. Да чтоб дочиста.
Утомленный, но довольный собою, надзиратель покинул камеру, и Насонов тут же поднялся, утерся подолом рубахи: на лице его не было и тени гнева, а, напротив, какая-то умильная тихость сошла на него.
– А ты, парень, убил кого? Как тебя звать-то? – Насонов не получил ответа, да и не особо добивался, занятый собою. – Убивать нельзя, ты смотри, не-не. Убивать – грех великий. Избави мя от крови. Убить человека каким-либо тяжелым орудием, камнем или дубиною, равно зарезать его ножом или зарубить топором – грешно, ибо пролитие крови наблюдается тут. А лишить человека жизни, – при этом Насонов усмехнулся и вздел в потолок палец, – например удавить, вовсе не грешно, как ты ни толкуй. На меня клевещут, говорят, ты убил мать свою. Да возможно ли поднять руку с топором на родившую мя и опустить на седую главу? А удавить не грешно, не-е, и я жалею, что не удостоился сам лишить жизни мать свою, ибо она получила бы тогда отпущение всех грехов и стала бы воистину праведной.
Утечь бы, раствориться сквозь соломенный тюфяк, сквозь лещадные плиты, сквозь заколелую землю, улечься там и утихнуть. И Тайке воля: поживет сколько-то одна, утишится, смирится, обратно вернется в семью, детей наставят. Прости, Тая, что кинул тебя, прости, что пал духом. Квелый, слабый человечишко, тюфяк. А как поступить было? Убить нельзя и не убить нельзя. Только вошел на высокое крыльцо, толкнулся в дом, где землемер квартировал, а он сам на пороге лицом к лицу, в ситцевом халате, в руке чубук. И так убить захотелось, таким скотиньим показалось безмятежное, улыбчивое лицо, что рука вроде бы отвалилась, не смогла за голенище сунуться, где нож таился. Только и крикнул: «Распетушье, распетушье!» Да полноте, кричал ли? Хриплым петушиным голосишком выпехнул, едва сам расслышал свой противный, слабый скрип. А он-то, майор Сумароков, поднялся на дыбы, да ни слова лишнего и сразу чубуком ореховым по голове и раз, и другой по переносью и кожу живую содрал. Тут двое десятских подскочили, скрутили под руки, и лишь однажды изловчился Донька, когда ломали, гнули спину: по детородному месту достал ногою майора Сумарокова. С такою неутоленною злостью пнул, так осквернил безмятежно стоящего человека, сосущего чубук, что тот поначалу согнулся вдвое, переломился, а после и упал на затоптанный пол, как на плаху, сронив редеющую намытую голову. Полицейские растерялись, приотпустили парня, и еще не раз бы достал Донька тяжелой ногою под боки, кабы не валялся Сумароков хуже пропадины: а падшего человека, как и собаку, не бьют, не валяют. Только плюнул в скулящее, скорчившееся, расхристанное бессилое тело, да тут и подхватили десятские, больно завернули руки, наклали по вые, так что голова загудела, и впихнули в арестантскую. А разве ж так хотелось? Такой ли понималась, полагалась месть? Что-то иное мыслилось, пока бежал из суземья до Мезени, пока в трактире сидел, отогреваясь чаем с баранками, и дожидался светлого морозного дня, когда ничто не сокроется от догляда в пакостном человеке и душа его трепещущая будет как на ладони. Да нет же, ни о чем не думалось, ни о чем не помышлялось: ноги сами несли, а голова была в тумане, душа в памороке, и только кожей голени словно бы постоянно слышал нахолодевшее жало ножа. Ведь так полагалось, что более не видать Тайки, потому и простился с нею душою, как бы на смерть ушел. Чужую жизнь возьмет и свою тут же отдаст. А как случится-то – на одного Бога полагал да на случай. Что говорить, что! Не с пустой же головою бежал. Сколько всего пронеслось в голове, да вот не запомнилось, это верно. И мать, наверное, не раз встала в памяти, и отца помянул, просил у того прощения. Но вот все забылось, все: туман один. Черный весь, кожа лафтаками[60] сползла с лица, мясо заголилось на щеках – таким и явился на квартиру землемера, сам страшнее лешевика...
«Но не во мне ли грех?» – впервые подумалось с ясностью необыкновенной, так что душа повернулась и заныла. Не пожелай жены искреннего твоего... Нет, не отымал жены ближнего. Это у него, Доната Богошкова, осквернили любовь, единственную и навечную. Не быть больше на миру радости утешной, не свидеться мне с тобою, Тая, не восхититься, не утешиться. Во мраке пребываю я, и некуда больше падать: скотина я последняя. Увлек тебя, замутил, соблазнил, наобещал и кинул. И ниоткуда помощи тебе, как перст ты одна на заледенелой дороге. Отныне каждый надсмеется и заденет больным словом, и нет у тебя заступы, нет надеи, нет затулья, нет крепости, за которой бы затаилась, нет стены, куда бы заступила от чужого догляда. Коли можешь когда, прости, Тая, Тася, Таисья. Таюш-ка-а, прос-ти-и...
И сам не слышал Донат, как заплакал, слеза давножданная пролилась, ожгла щеку, насквозь проточила соломенную подушку, прободала лещадный пол и ушла в землю. Сколько еще плакать придется? Сколько плакалось до него? Скопится там, в мерзлой темени, озерцо невысыхающей очистительной влаги. Вот где живая-то вода. Испить бы ее и излечиться. А там хоть на плаху, голову напрочь... Простонал Донат едва слышно, резко повернулся на спину, разлепил мокрые глаза и устыдился своей слабости.
– Откройся, брат, что с тобою? – услышал жалостливый просительный голос. Склонилось иссохшее лицо с редкой бородою, разномастной на щеках. Черные глаза казались звериными. – Облегчи душу, брат мой.
Но отвечать Донату не пришлось: открылась камера и привели нового постояльца. Он поклонился поясно и надолго, с видимой тревогой и скорбью застыл у порога, словно бы опасаясь проходить. Наверное, ждал, что вот кликнут и позовут обратно.
С его морщинистого, бледно-желтого лица, слегка шадроватого, не сходила растерянная полуулыбка обманутого невольного человека. Пришелец озирался, как бы подстерегая насмешку иль злой умысел. «Мир сему дому», – сказал он и отряхнул ладонью седую округлую бороду. Но чем долее привыкал гость, тем ровнее становился взгляд: хотя, казалось, чего обнадеживающего могли найти его сталистые, вприщурку глаза? Высокие, покрытые штукатуркой, оббитые людьми и сыростью стены, двое полатей для собратьев по камере и широкое чрево печи, топящейся из коридора. У арестанта, видимо, было свое особое намерение, иначе зачем бы с такою пристрастностью разглядывать будущее пристанище? Тюфяк, набитый соломою, он бросил подле печи, не брезгуя грязью и будто не заметив параши и вони в ближнем углу, потом обошел камеру, отыскивая гвоздик или какую-то выбоинку, но ни полочки, ни штыря, ни спицы не нашел он на гладкой стене: захочешь ежели удавиться, то смекалка нужна особая, хотя, ежели сказать, желающий смерти и крови найдет их, не сходя с постели. Металлической расческой, оказавшейся в арестантском армяке, новичок навертел в стене дырку, воткнул туда спичку, потом из-за пазухи добыл иконку старого письма, обмотал ниткой, повесил и принялся молиться. То был бывший соловецкий сиделец Алексей Старков.
Во все то время, пока устраивался пришелец и пока молился, а стоял он на коленях не менее часа, арестанты пристально наблюдали, каждый, наверное, соображая о своем. В ужну Насонов растерялся, долго скреб ложкою в миске, но пищи так и не принял: душа его страдала, а лицо покрылось болезненной бледностью. Насонов так взмок вдруг, что пот заструился по впалым щекам, впору подбирать полотенцем. Он с жалобой и тоскою взглядывал в запечный угол и все же переборол себя.
– К поморскому согласию склонен? – спросил Старков.
– Не склонен, а верую, еретик, – неожиданно грубо отозвался Насонов, сейчас особенно ненавидя соседа: ему страшно было валиться в постелю, уходить во мрак.
– Всем спать, всем спать, – прокричал караульщик, и раскатисто прокатился по коридорам требовательный голос.
– Замолчи, амбарная сучка, – раздалось в ответ где-то глубоко внизу, как бы под землею, и так же глухо засмеялись камеры.
Беглый священник сложил руки крестом на груди и легко, бесплотно откатился в сон. Донат же маялся на ложе и с сердечной судорогой ждал ночи, когда вскинется бешено Насонов и завьется по камере.
Старков увидел, что больной плачет, не стыдясь слез. Он тут же подсел на кровать, поднеся руку свою к губам Насонова, и тот вдруг, не поколебавшись, поцеловал ее и приложил к груди, не отпуская более. И так, не отымая руки, Старков принял исповедь.
– Отец, я убил беса в монашеском колпаке. Он хотел соблазнить мою мать, и я зарубил его топором. – Насонов говорил хотя и болезненным, тихим голосом, не подымая и не опуская его, но взгляд его был чистым и здравым, а слова ясны и полны законченного смысла. Ничто не выдавало той недавней душевной болезни, что мучила Насонова ночью.
– Может, привиделось тебе? – усомнился Старков.
– Нет-нет, матери я не убивал. Меня подозревают, но я вовсе в том не виноват. Я в то время не был дома, а на рыбной ловле и, возвращаясь в деревню, не доходя верст двух, вдруг был схвачен... Отец, они меня схватили и привели, они мне объявили, что я убил свою мать... Вот беса я хватил топором, и теперь они меня окружают каждую ночь. Я знаю того антихриста, я видел его, он живет в Керети под обличьем крестьянина Федора Пономарева... Смотрите, отец, он поставил мне антихристову печать, он заклеймил меня. – Тут Насонов с испугом поднял голос, глаза заблестели со страхом и тревогою. Он порывисто, насколько позволяли силы, заголил руку. Но ничего Старков не усмотрел на бледной, вялой коже. – Посмотрите, вот она, черная печать.
– Успокойся... Ничего не вижу. Немощная рука, забывшая труд, и немытая кожа. Жилы твои забиты дурной кровью, вот и все, что я вижу.
– Как, вы не видите? Вы не видите эту черную печать? Мы все окольцованы черной печатью, мы жить не можем, двигаться, любить, дышать без нее. Кругом антихристова печать, вглядитесь, отец. И на вас та же печать еретика и антихриста... От Никона она, Петруши-царя и поныне, поныне царствует. Все заперли, все закрыли, колесо печати катится по России-матери, огромное колесо, и мы подавлены, запечатаны им... Сколько бумаг, чиновного люду, полицейских будок. Стена печатей. Без печати шагу не ступить, сразу ты бродяга, вор, тать, сразу умыкнут, запрячут в каторгу, сошлют в Сибирь. И нету тебя, нету, как и не было...
– Это не антихрист завладел нами, а власть, – попробовал образумить Старков.
– И власть антихристова. Все под властью, все-е...
– Ты стариков-филипповцев наслушался, сын мой... Но нам-то грешно нынешних тихих царей признавать антихристами.
– Тихие?.. А пошто вы здесь? За какую кару? Иль убивец? Потому и угодили сюда, отец, что без пачпорта шатались. А что есть вид на жительство, как не печать антихристова, особым родом внушенная, чтобы вовсе опутать нас, оковать, отградить друг от друга, от свободы, от наших желаний. Чтобы не могли мы жить сами по себе, как Бог научал...
– Но чтобы и сохранить нас вживе, чтобы сохранить. Иначе рассыплется все, и человек пойдет на человека, и потекут реки крови, и погинет Русь... Вот вы глаголете: Никон-антихрист. Мученик Аввакум, которого мытарили двадцать восемь лет и наконец сожгли, он учил, что антихриста еще нет. И Никон не последний антихрист, а так, шиш антихристов, изник из земли нашей.
– Бес ты, бес, и ничего в тебе русского, ничего святого. Изыди от меня, пока не плюнул в бесовскую рожу.
Но и тут не вспылил Старков, но только напрягся весь, и волосы, подбитые кружком, как бы вздыбились. Отошел к печи и уже издали продолжал с настойчивой, неколебимой силой:
– Сам ты еретик, и вера твоя беспоповская самая ни на есть еретическая. И вдвойне ты еретик, что в никонианской церкви служил, в колоколы зазывал прихожан к врагам своим, смущая душу, а сам крестился дланью. И втройне ты еретик, что, отвергая по вере своей жену, однако женат был. А много ли надо, чтобы рухнуть душе? И вот рассыпалась она от блуда, ибо нельзя верить во много вер сразу. Отсюда и бесы в тебе, ибо ты самый безверный человек, и крест тебе не подмога. А бесы чуют слабую душу, чу-ют.
Но Насонов, отвернувшись к стене, смолчал, не желая более тратить слов на еретика. Лишь под вечер, когда навестил надзиратель, расстрига-пономарь попросился в тюремную больницу. А через неделю в башне затеяли ремонт, и сидельцев перевели в общую камеру.
Глава третья
Два ката было в тюремном замке, и вдруг оба запросились с бессрочной должности.
Илья Лазарев, крестьянин из Пурнемы, был замешан в убийстве крестьянской девки Авдотьи Егоровой. Приговоренный когда-то к восьмидесяти ударам розгой, арестантской роте и ссылке в Восточную Сибирь, испугался лечь под розги, битым быть, и с такой робости пошел в палачи. Восемнадцать лет отслужил заплечных дел мастером и вот сдал ныне: сухая чахотка точит грудь, ломота в ногах, в глазах студень, видит от близорукости не далее четверти аршина. От плохого зрения не раз, случалось, попадал розгою не по тем частям тела, куда полагалось, за что и сам бит неоднократно по распоряжению полицмейстера Шепетковского. Какая гроза от палача, какой ужас? Ныне одна жалость при виде заплечного мастера Ильи Лазарева: волос с головы пропал, щеки к зубам присохли, серые, как овечья шерсть, плечи согнуло. Волочится по тюремным коридорам как тень иль долго стоит в тени и смотрит куда-то вдаль. Кажется, плюнь на такого – упадет и растает в тюремном камне. Одного мгновения однажды убоялся – лечь на скамью и вынести первый ожог плетью; а там вой, рычи, кляни матом, расслабься киселем. Эка невидаль – восемьдесят розог для сильного человека; да никто от них на веку не умирал. А тут запечатал себя, как в монастырь, без конвойного ни на шаг из замка: идешь на базар, чтоб сайку крупитчатую пятикопеечную взять иль трещочки фунтик, а сзади часовой волочится, дозорит. Если жена Акулина когда навестит, так в палаческой намилуешься, как наплачешься. Собачья жизнь. Пока в катах состоял, пока иго то носил, народились сыновья Санаха, Петруха, Никишка да две девки. Его ли, Ильи Лазарева, они иль чужие пестуны, пойми: меньшой-то, Феньке, полтора годика, а волосы как пламень. Нет, не нашего она роду-племени, не лазаревского.
Наверное, сырые стены выпили все здоровье, ибо кашель трясет. Иной раз не знаешь, как ночь осилить, тут и к Богу не обратись: он кату не подмога. А утром, болен ты или на смертном одре, придет смотритель Волков, и коли неловко вскочишь, слегка замедлишь, то и по щекам налупит, отправит в секретную суток на трое, где ни кровати, ни постели, но горсть соломы на каменном полу. А куда жаловаться, где воспримут душевно, что и кат – человек? Да мало что без повода упрячет в карцер, так и обзовет прилюдно: «Животное, скотина!» А ты улыбайся, ты не скаль зубы, а то и в зубы получишь, ты глаза не пяль в гневе, ибо и в глаза наплюет смотритель. Садись, милый, на дроги, арестанта вези на торговую: черные дроги в светлом летнем городе, и рубаха твоя алая, будто кровью напитана. И камнем-то в тебя кинут, и крикнут не раз: «Палач едет, палач». И младенец навзрыд забьется, завидев тебя.
А и у тебя сердце, палач, у тебя своих пятеро, хочется и меньшенькую Феньку на коленях потешкать, хоть и явно не от него она, не от Ильи Лазарева. А отвлекись чуть в раздумьях, разжалобись, рука-то и ослабнет, в ней будто червь зародится, и заноет она от кисти до плеча, и на глаза набежит непрошеная слеза. Расползется тогда, возопит подневольное тело, разложенное на эшафоте, превратится в одну зиящую рану, и от крови чужой вдруг вздрогнет каменное сердце и кипяток ожгет его. Как ни трави себя, как ни суровь норов, но жалость душевную не избыть: не знаешь, не чуешь, как и когда вдруг выкажет себя. И свистнет розга, но уже не с той силой, ожгет – но уже не туда, пониже поясницы: ах, промашка, будь она неладна, и сразу отзовется ошибка в палаческом теле. Ловит мгновенье полицмейстер Шепетковский, неукоснителен в службе. После казни уже Илью Лазарева ведут в полицию, и там раскладут беднягу на лавке, сядут двое на голову и ноги, а третий – отходит беднягу без жалости. Если сосчитать, сколько снес палач по ошибке на своей спине, то, знать, куда более превысил он свое прежнее наказание. Вдесятеро, может быть, иль куда более.
Тюремный врач Страшнов освидетельствовал и нашел, что Лазарев к службе ката негож. Восемнадцать лет отбыл в заплечных мастерах и копейки не нажил; выбросят ныне, как старую утварь, и жалость ни в ком не ворохнется. А был указ от тридцать второго года, что «палачей, поступающих из преступников по добровольному их на то согласию, назначать на сию должность бессрочно, но если кто окажется неспособным к дальнейшему отправлению своей должности по старости иль болезни, то распределять в 60-верстном расстоянии от губернского города для пропитания посильными трудами, и если есть родственники, то отдавать на попечение».
Вернулся Лазарев в Пурнему, на свою родину, благо она рядом. Жена на порог не пустила, сбежалась с другим, и для народу он как чудище. Как жить, где найти пропитанье? Ноги не носят, глаза худо видят, грудь ломит. И возопил Илья к Богу, взмолился в полицию, чтобы отправили его в Соловецкую обитель. Хорошо еще, архимандрит снизошел, глядя на жалобный вид бывшего ката, и не отправил в острог под караульный надзор, а постриг в монахи...
Помощником Лазарева был Александр Спиридонов, парень молодой. Ночью взломал замок и украл у вдовы Марфы Бобровой денег и разного добра на девяносто рублей. Присужден к восьмидесяти пяти ударам, отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на полтора года с последующей ссылкой. Устрашился дороги дальней в неизвестный край: помыслилось, что покинет отчие пределы и уже никогда не бывать тут. Так все жутко нарисовалось, что напросился в ученики ката. Глаза дерзкие, волосы дыбом и грудь колесом. И уже здесь, в тюремном замке, стакнулся с крестьянской девкой Марьей Неплюевой, влюбился, можно сказать: маленькая, кроткая белянка, с тонким, прозрачным голосишком – Божий одуванец, и только: дунь покрепче – и взлетит, сердешная, как серебристая пуховинка. С виду перо лебяжье, а внутри – кремень, сама неуступчивость: пыталась мачеха ее в крендель свить, тогда дом подожгла. Получила Марья вечную высылку в Сибирь и сейчас покорно дожидалась ее, готовилась к долгому пути. А тут вот палач на глаза попался. Парень видный, чего грешить, но решил на дешевинку девку прищучить: дороги ей не давал, то в коридоре прижмет, то во дворе облапит, будто понарошке повалит в сугроб и сразу рукой в потайки лезет – и по-лошадиному: хо-хо. А руки длинные, по колени, лешевой силы руки. Не они ли и смутили? Есть на кого опереться. В затулье за такой силой и душа ровнее. А что бабе надо, как не мирной жизни?
– Я бы, может, по тебе симпатию поимела, – призналась однажды девка, – да ты палач, а палачи кровью пахнут.
– Да какой я палач? Я маляр, я кровельщик, у меня топор из рук не выпадет, я все могу. Поди, Марья, за меня. Я и деньги умею делать. – Вроде бы в шутку добавил и расхохотался: – Как плетью жигану, так и рупь.
Но на той же неделе подал Спиридонов прошение господину начальнику губернии: «Благость и милосердие, являемые вами ко всем несчастным, дали дерзновение и мне прибегнуть к милостивому покровительству вашего превосходительства, всепокорнейше прошу о следующем: я возымел намерение принять себе в жены содержащуюся в здешнем замке арестантку, крестьянскую девку Марью Неплюеву, которая по решению дела ее следует в сибирские пределы на вольное поселение. Явите милость разрешить вступить мне с нею в законный брак, она на таковой изъявила согласие... Вашего превосходительства имею счастье быть раб палач Александр Спиридонов».
Но арестанту в просьбе отказали. Он запил, ушел без конвоя на рынок, оттуда в кабак, здесь попался на глаза дежурному унтер-офицеру, был обыскан, и в кармане обнаружилась фальшивая оловянная монета. Палач долго запирался, но еще более навлек на себя подозрение тем, что в камере был найден порошок едкого свойства, о котором Санкт-Петербургский монетный двор отозвался, что «подобное вещество употребляется при расплавлении металлов». Но Спиридонов упорствовал, показывал, что тряпица с порошком не его, а забыта Лазаревым, а монету он нашел затоптанную в тюремном дворе. Лишь после упорного допроса сознался, что он якобы получил монеты от неизвестного торговца рыбой в сдачу из трехрублевого билета, а пользовался ими, не зная будто бы, что они фальшивые. Но следствию открылось, что он, Спиридонов, ходил на рынок утром, когда не рассветало еще, когда в сумраке легко одурачить ближнего, обвести наезжего мужика вокруг пальца и сбыть тому оловянный рубль за серебряный. Спиридонову удалось объегорить холмогорского рыбака Никитина, через неделю Спиридонов мечтал нажиться на торговце Маркове, но тот по причине всегдашней подозрительности взял монету на зуб и, почуяв ее фальшь, сразу завопил на все торжище. Палач, не мешкая, выхватил монету из его рук и кинулся прочь, оставив там замешкавшегося конвойного солдата. С той поры, наверное, и послеживали за катом, пока тот не попался. Да и было ли чего, был ли умысел? Может, и был, да не успел разгореться... Баловался, когда из болванки вырезал форму: руки тосковали, дела хотели, нож с радостью и терпеньем впивался в дерево, вил кружева. А охота пуще неволи... Плеть да розги пальцы крючили, убивали прежнее умение к ремеслу. И так случилось, что из дурости, из игры – прибыток, неожиданный, а оттого еще более радостный... Но те, кто с мошною, разве мало дурачат нашего брата, чтобы кошель разбухал, чтобы кожаная киса грузно билась о коленку, греясь о причинное место, чтобы кованый сундук беременел от деньги.
В общем, поел селедок на дармовщину, на том и кончился промысел Спиридонова. Правда, большего доказать не смогли, ушел палач от каторги, но остался в сильнейшем подозрении. Наказали его при полиции сорока пятью розгами, а смотритель Волков отхлестал его по щекам да зуб выбил и кинул ката на неделю в секретную на хлеб да воду. Тогда в большую печаль от своей скотской жизни упал палач и, выйдя из одиночки, подал вице-губернатору Гринбергу новое прошение:
«Ваше высокородие, прибегаю к стопам ног ваших и умоляю вас, воззрите милосердным оком вашим на мое хворое бедственное положение, которое претерпеваю два года шесть месяцев, имею иго на себе палача. А как от долгого содержания в тюремном замке лишился здоровия своего, даже временно имею замешательство рассудка в себе. Но как угодно вам, исполнять я более не могу оной должности, которую занимаю по оно время. Из повиновения и власти законов не выхожу, а чему я по закону принадлежу, прошу привести в исполнение, удалить от занимаемой должности. А что вам угодно исполнять впредь, я исполнять не могу оной должности палача...»
Как ни жалобься, как ни изводи прошениями губернскую канцелярию и тюремный комитет, но замок без палача не стоит, а жизнь арестантская вроде бы теряет всякий законченный смысл. По всем уездным полицейским управлениям разослали срочные бумаги с требованием подыскать вольного мещанина на должность ката, но желающих иметь четыреста рублей в год ассигнациями да кормовых денег пять копеек серебром в день – не нашлось. И тюремные сидельцы на отказ пошли, видимо не желая душу свою томить. Ведь с какою жалостью ни бей страдальца, но всегда капля мученической крови брызнет тебе в лицо, и тот след не стереть до скончания жизни. И куда бы ты после ни делся, куда бы ни пошел, а все будут оборачиваться, плевать вослед, и тыкать пальцем, и шептать: «Кат, кат», пугаясь громко крикнуть. Какой-то ужас, непонятную зачумленность несет на себе человек, решившийся вступить в заплечные мастера. Он окружен той стеной недоверия и душевного страха, кою не разрушить самыми добрыми намерениями, самым честным взглядом и ласковой улыбкой: в глазах палача настаивается та темная вода, похожая на крутящий омут, которой остерегается всякое живое существо. Ведь как бы ни провинился человек, он всегда полагает наказание неправедным; значит, и служба ката неправедна и зла, из каких бы намерений она ни проистекала и чья бы власть ни стояла за его спиною.
... Степка Рочев вошел в камеру, как в избу родительскую после недолгой отлучки. Весело обвел взглядом каждого сидельца, дескать, вот я, орелики, встречайте долгожданного, и, напрягши грудь, хрипловато выкрикнул:
– Здорово, братцы!
Полдень был, и каждый, управившись с тюремными работами, сейчас в ожидании обеда вел свое заделье, коротая время и тяготясь неволей. Никто вроде бы, кроме Доната Богошкова, не откликнулся, но каждый поднял глаза, и в каждом взгляде, если не был он больной иль безразличный, читалось: «Давай, давай, соколик, покрикивай. А там мы посмотрим, что ты за птица». Свой рогожный мешок с арестантской одеждой он кинул посреди камеры, мельком глянул на свою пустую койку, где валялся тощий комковатый тюфяк, набитый соломою, прошел к Донатову месту и нахально, широко сел возле, как-то сразу оттеснив хозяина на край постели.
– Старших уважать надо, – строго сказал Степка и назидательно вздел палец в потолок. – Скучно живете, господа хорошие! Что-то веселья не вижу.
– Уж какое тут веселье, – нехотя откликнулся кто-то. – День да ночь, сутки прочь. Скорей бы уж, что ли, гнали до места.
Степка уже вознамерился было возлечь на постель: стянул коты, размотал суконные онучи, показал широкие стоптанные ноги с уродливо разбухшими пальцами: худо зажившие ступни кровоточили и были покрыты пятнами трупного цвета.
– Чей такой? – спросил Донат, слегка подавленный дерзостью новичка.
В нем уже поднималась глухая волна темного бешенства, ибо с малых лет он ненавидел нагловатых, куражливых, беспричинно веселых людей. Это как зазывистый чертополох под окнами, от которого, однако, одна маета. Но вот эти обездоленные больные ноги обескуражили парня, и он не знал сейчас, как повести себя, чтобы не уронить достоинство, но и новоявленного постояльца одернуть. Вишь, ловкой кочет: сначала вторгся в избу, влез на печь, а теперь из дому прочь гонит.
– По пачпорту – Королев, по имени Иван-непомнящий. А зови меня просто: Король. Не похож али обличьем негож, деревня косорылая? Видишь, отец пришел в неволю. Старшего, отелепыш[61] , обязан уважать. Иль худо учили, так я поучу.
– Ты, слышь, ты не обзывайся, – угрюмо остановил Донат.
– Вы слышьте, ха-ха. Робя, вы слышьте? Этот младенчик что-то вякнул. Ну поди сюда, я тебе сопельки вытру.
Камера присмирела, ждала грозы: всякого тут скопилось народу, и некоторые хорошо знали тюремные нравы. Пришел жестокий, своенравный гулеван, который ежели своего не получит, то и за шило примется.
– Может, ты по званью и король, а по виду кислый опарыш, – отозвался Донат. Нашла коса на камень, и полетели искры.
Степка медленно опустил с кровати ноги, его неширокие костлявые плечи загорбатились, налились той отзывистой силой, которая тут же ударит в кулаки. Но и Донат – парень не промах, не шаньга дижинная, которую всякий о стенку размазать может, коли того пожелает: у него тело сбито молотами, а руки свиты из верескового коренья. Кабы ведал Степка, разгульный, норовистый человек, что не на того упал его взгляд. Ошибся Король, глядя на младые, зеленые годы. Степке бы на следующую койку позариться, где сутулился квелого вида арестантик, уже глаза зажмуривший от непонятного страха, до тоски душевной боящийся всякого дерзкого шуму. Глаза у Степки посоловели, он вроде бы худо стал видеть от гнева, и появилась в них та смутная неживая пелена, которая прорастает у людей бешеного нрава. Но что же тогда останавливало Степку? Какое предчувствие вязало руки? Он вдруг скрипнул зубами и стал приподниматься над кроватью. Все замерли.
– Ты поди давай, не пыжься, – неожиданно весело, с едва уловимой дрожью в голосе упредил Донат. – Поди скорей на свое место, а то родишь...
Камера зареготала. И Степка нехорошо засмеялся, оскалил пустой черный рот, обметанный седеющей кудрявой бородой. А Донату хоть бы страх на душу; слегка приоткинулся и нахально вперся в Степкино лицо неотвязчивым взглядом. Вот парень какой оказался, ну и парень: все дни молчал, слова не вытянешь, упырился[62] , закаменел, а тут неожиданно отмякло сердце, и, почуяв азарт, кинуло в голову буйную кровь. И стал, пусть на время, Донька прежним деревенским отчаюгой, коего ежели понесет, то ему и сам сатана – брат.
– И не боишься? – свистящим шепотом протянул Степка. В глазах его сквозь неживую пелену просверкивали молоньи, предвещавшие грозу, а в углах губ вспучилась белая пена.
– Боюся, ужас как боюся, – поднялся Донат, правою рукой схватившись за железную перекладину кровати. – Боюсь тебя убить. У меня рука чугунная...
Кто знает, куда бы занесло петухов, чья бы неуступчивая душа первой лопнула, кому бы кислую шерсть выбили в скорой потасовке, кабы не вмешался беглый поп Старков. Серый, как мышь, с кротким голубеющим взглядом, он вырос за спиною Доната:
– Ну, братия... Вспомним-ка вслух и пропустим сквозь душу, трепещущую в напрасном гневе: «Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи...»
– Поди прочь, рожа! – процедил Король, боясь отвлечься на долгие слова. Сказал, как камнем из пращи кинул, столько презрения было в голосе.
Но как ни калил себя, как ни вздымал сердечный пар, закрыв всякие, отдушины для смирения, и все же упустил время: пыл угас, и невольно смерил бродяга взглядом загрёбистые руки соперника, его грудь наковальней и уловил по веселому взгляду арестанта, что тому страсть как хочется нынче почесать кулаки. Король (отныне под этой кличкой потечет его жизнь) ничего не подумал, а только решил звериным чутьем человека, много пожившего в бегах и тягостях, что тут ему не отликовать победы; но и труса праздновать не хотелось, этим как бы зачеркивалась вся прошлая, небогатая страстями жизнь и все ее крохотные завоевания.
И Король легонько, однако с плохо прикрытой злобой ткнул Доната в плечо и с усмешкой сказал:
– Ну ладно, живи, косое рыло. Разрешаю!
И сразу заерничал, лицом заиграл, толстыми седеющими бровями и морщиноватым клейменым каторжным лбом, и синяя кожа наполовину обритой головы тоже собралась складками.
– Уж и пошутковать нельзя, экий дуболом. Нынче все строгие, ужас. Лучше бы пожалел. Пожалей давай! Пожалей! Я едва от смерти ушел. Помоги старику.
– Помоги, помоги. От поклона спина не переломится, – посоветовал сзади беглый поп. – Чти старшего, да долголетен будешь на земле.
Донат сходил во двор, набил мешок и подушку свежей соломой, заправил холщовой простынью и одеялом. Король, не высказывая особого удовольствия, с прежним грозным лицом возлег на постелю, задрал бороду в потолок, переживая обиду и придумывая отмщение. Так, наверное, решила вся камера. Душная, с тем смрадом плохо проветриваемого, забитого людьми жилища, который лишает всякого настроения жить у чистого душою человека, с захарканным полом, кишащая всякой потайной, желанной до крови тварью, она, однако, была мила Королю, в общем-то незлобивому, откровенно-веселому вору. Он так, для виду еще кочевряжился, а сам-то своим зорким доглядом уже давно обыскал камеру, нельзя ли что стырить, да к кому приткнуться при случае, и с кем карты раскинуть. Главное, чтоб поняли – хозяин пришел: не какой-то побирушник иль лакей, стянувший у своего барина червонец. Нет, явился атаман, коего ничем не пронять. Вдруг беглый поп Старков, желая утишить адскую душу бродяги, подсел в ногах, завел спасительный разговор, дескать, тюрьма представляется ему подобием ада. Как в темницах адовых сидят души грешников и дожидаются суда праведного, а еще более наказания, так и тут кто-то ждет отраду, пусть и малую, а кто и большего наказания. Вот его, Старкова, пусть и не нынче, но обязательно выпустят на волю, ибо он не кат, не душегуб, не убивец, а странник и спаситель, направленный по дорогам Руси волею Христа. Но вот ему, Королю, надобно немедля подумать о спасении души, чтобы не попасть на муки вечные. А там лихо, ой лихо расправляются с вашим братом: кого крюком под ребро, кого в смолу кипящую, иному каждый день голову станут отсекать на чурке. Так не лучше ли покаяться нынче же в грехах да тем и облегчить участь.
– Так покайся же, сын мой, – возгласил Старков и достал из-под тельной рубахи литой серебряный крест.
Король скосил блестящие глаза, полные мокрети, словно бы плакал вор, и с хриплой дрожью в голосе, запирая волнение, отозвался:
– А у меня грехов нет...
– И неужели тебе не надоело в тюрьме?
– Я тюрьмы не боюся. Чего ее бояться? Кормют, поют. Зиму перемогу, а там на волю.
– Ну, а после-то? Набегаешься когда... На том свете не убоишься муки вековечной за грехи свои?
– Разве воровать грех? В воре – как в море, а в дураке – как в пресном молоке. – На мгновение лишь приоткрылся Король, но тут же состроил постное лицо. – Ой, батюшка! Дураком-то боюся быть. Говорят, из дураков сатана себе тройку ездовую собирает. Коренником-то, сказывают, ты, беглый поп, тараканий лоб. А я с тобой в пристяжные не хочу.
– Вот и снова ты на пустое мелешь... А, однако, воровать страшный грех.
– Я думаю – не грех. Вот как хошь, а не грех. Я не раз исповедовался, но мне священник никогда не говорил, что воровать грех. Только спросит: за что сидишь? Отвечу: за кражу. А он скажет: завтра готовься причащаться.
– Ой худо, худо ты говоришь. Вот уж и знай: вора помиловать – доброго погубить.
Последние слова, видно, крайне задели вора: он вдруг вспыхнул, приподнялся на кровати:
– Тебя еще не секли? Дак вот, когда будут секчи, повторяй, дижинник волосатый: у вора одно горе – с попом говоря. А теперь поди прочь. Надоел ты мне хуже горькой редьки.
Старков, нимало не смутившись и не чувствуя себя в оскорблении, пошел в свой угол. Тот самый робкий человечишко, похожий на общипанную сову, что поместился возле Доната, штафирка, коллежский регистратор и беспробудный пьяница, укравший на опохмелку енотовую шубу у столоначальника, сейчас вовсе протрезвел и с тоскою и страхом думал о близкой субботе, когда его посадят на колымагу и отвезут на Торговую площадь, где кат Спиридонов испишет его спину. Страх-то Господний, ой страх: но чтобы нынче забыться, чтобы не биться в мыслях, позарез нужна косушка. Можно бы и к палачу наведаться, у того всегда в схороне отыщется полуштоф, но, во-первых, ни гроша ломаного за душою, а во-вторых, Спиридонов сам нынче во гневе и опале: нынче ему не перечь, ибо можно неловким словом да развязным языком усугубить будущее наказание. Никита Павловский, рыжий, как огнь, с красными же осоловелыми глазами и молочной белизны лицом, в прошлом месяце убивший целовальника на Онеге, размышлял, как бы ловчее оправдаться и очернить приятеля своего Гришу Попова, который сейчас лежал на койке, укрывшись с головою. Зубов, архангельский мещанин с бельмом на левом глазу, сейчас заново вползал в лавку купца Трифонова, и все у него выходило наилучшим образом. Донат Богошков избивал землемера Сумарокова, и ни капли жалости не отыскивалось на сердце. Король же, потерши зудевшие пятку о пятку, перекинулся в воспоминаниях на сожительницу свою, которая, наверное, уже схлестнулась с Ванькой Штырем. С этим горьким предположением Король слез с постели, расстелил одеяло на полу и кинул засаленную колоду карт. Бывший соловецкий сиделец Симагин, которого после шестилетней отсидки ссылали в Тобольск, встал позади Старкова на молитву. Вор же Зубов, скоро смекнув одиноким зорким глазом, подсел к Королю, и стали они играть в три листа и заводить дружбу.
Глава четвертая
Есть на миру люди, которые рвутся в острог, что в дом родной: и до того на него находит охота, в такую тоску он приходит от воли и от народа, окружающего его, что готов человек в петлю лезть да таких грехов натворить, чтобы тут же препроводили его в тюремный замок. Трудно нам распознать верно, норов ли то особый иль странная болезнь, неслышно овладевающая молодцом, однажды побывавшим в тюрьме. Вот как бы дурманной травки понюхал и испытал такой сладкий сон, в такие небывалые картины окунулся, что с той поры неотступно преследуют они и призывают к себе. Иные из бывалых каторжных, когда спрашивают их, отчего же так неотступно тянет в острог, отвечают неожиданно и без раздумий, не скрывая своего интереса: «Больно весело там, а с вами скушно». Так неужели скука жизни до такой степени овладевает человеком, что даже отравляющая душу несвобода бывает особо желанной...
А ведь, казалось бы, какое тут веселье, средь четырех стен? Хорошо еще, что зима разбавляет скучную, монотонную жизнь: то снег огребать – полдня на улице, грудь забита морозным воздухом, и поневоле забываешься тогда; иль дрова рубить – березовые звонкие поленья с хрустом разламываются под топором, и каждая жилка в теле тогда поет; иль печи топить, бездумно уставившись в зазывистое багровое чрево топки. Но вот вечер, дверь в камеру запахнута на засов, и неслышно вонь окружает, затхлый, липкий воздух окутывает, и опять прежние серые лица мозолят глаза. И вот царапает человек на штукатурке гвоздем, отмечает день прожитый, как бы поскорее прощается с гостем, гонит его прочь, не думая, что тем самым невольно торопит смерть себе; а тот час и день, когда наконец распахнут камеру и погонят по этапу в Сибирь, уже мыслится ему желанным, обещающим жизнь необыкновенную.
Для Доната камера была как мышеловка. Пока путался в отчаянных мыслях – дни коротались сами собой, плохо различимые, как вода в ночной реке, и жизнь тюремная протекала мимо глаза. Как бы в полусне, в памороке, в темени предосенней жил парень, худо запоминая приметы нынешнего состояния. Но однажды боль сердечная приутихла. Донат очнулся, разглядел вокруг себя искрящийся рождественский снег, голубой осколок неба над головою, угрюмую подозрительную ворону на крайнем куполе замка – и горло перехватило. Ворона заметила пристальный взгляд арестанта, грузно снялась и пропала за скатом крыши. А Донат промокнул рукавицею глаза и надолго впаялся взглядом в укосину крыши, где пропала птица. Тут кто-то прихватил лопатою в задники обутки, коты подались, и Донат взмахнул руками, едва удержавшись. По-звериному бы рыкнуть на мужичонку, что нарочно подсадил лопатою под пятки, да голос не поднялся. Из глаз Старкова свет неяркий льется; может, от неба такая ласковость во взоре. Разве отыщется человек, что плюнет в эти обволакивающие глаза? А беглый поп давно обхаживал парня, как бы за сыном своим присматривал, несчастным и кинутым всеми.
– Сыми камень с души, – едва слышно сказал Старков. Может, мерзлые губы мешали говорить внятно. Донат не обернулся, расслышав слова, но плечи его, покрытые овчиною, дрогнули... – Вижу, как томит тебя грех.
– Отстань, старик... Больному и златая кровать не поможет.
– Сердце-то заклинило. А ты выскажись, сыне... Душа в тебе страждет. Ты ее не купори, сыне, а то на плохое может выйти.
Донат махал лопатою, снег вздымался ворохами, и серебристая пыль, вспыхивая на полуденном солнце, поднятая морозным засиверком, отлетала прочь, как чья-то мирная успокоенная душа. От слов ли легче становилось иль от крови, мчащейся по крепким молодым жилам, но только наледь на глазах растеплилась. А может, он и не слышал нравоучений: ведь что значат слова? Они как махорный дым из сосульки, что раскадил сейчас Король. Вору блаженно, ему счастливо: воткнул лопату поглубже в забой, оперся спиною, по-лисьи зажмурил глаза. Но вприщур все видит, все примечает. Боже, райская жизнь!
Вот махорный чад виден, он вьется кольцами и раздражает горло, туманит голову: не случайно говорят старики, что табак – из чрева блудницы. А слова не видны, это как бы ничто, истекающее в небеса из одной души, но они неисповедимым образом попадают в другую душу и исцеляют ее. Есть, знать, те невидимые пути, которые соединяют воедино все доброрадное человечество. Донат рылся в снегу, пахал, как лось, оставляя провал, а Старков суетился за спиною, подчищал кромки коридора и сыпал, сыпал словами.
– Есть еще время, сыне, еще не все пропало.
Слова были сказаны с такой жалостью, так серебристо отозвались они над снегами, что Донат вздрогнул и сердце осеклось. Показалось, отец за спиною.
– Отец, помоги, – взмолился Донат. – Убить хочу. Такая душа нынче, как сито. Словно гвоздем насквозь протыкана. И кровища хлещет.
Старков не удивился.
– За что сел-то? – спросил.
– Землемера хотел убить.
– И что, сробел?
– Рука не взнялась. Пнул в причинное место, собаку. Под самый корень.
– Заповедь-то забыл? – Старков пожевал губами: лицо было голубоватое, худое, постное. – Ишь вот, ты его в родову... А вдруг убил? Семя его убил, детишек убил?
– Да ну? – искренне удивился Донат: совсем еще молод парень, недавно из отроков выпал. И задирался бы вроде, гнев напускал, супил разлатые густые брови, но губы-то вовсе детские, припухлые, и едва русый пух закустился. Неожиданный исход разговора смутил Доната, и он услышал в себе дальнее торжество, так необходимое смятенному сердцу. – Это ведь как ладно, ежели бы засохла пырка. Его бы, по-людски-то, за это место и повесить мало. Пусть виснет, собака.
– А вот зря...
– И ничего не зря! – напустился, побагровел лицом. – Если не пролить крови, то как наступит отмщенье?
– Ах, сыне, сыне... Безумье и на мудрого бывает. На больного разве подымется рука, а тем паче нога? Вот как бы ты, предположим, валялся немощный середка дороги, и каждый нет бы помочь, протянуть руку помощи, пинал бы тебя, как паршивую собаку... Молчи, молчи. И твою правду зрю. Вижу, обидели. Но и ты, опять же, погляди на себя: кому худо? Сидишь нынче в камере, как тать. Скоро закуют в железы и погонят. А обидчик твой – в благости. И душа твоя, говоришь, как сито. Видишь, одни убытки, одни потравы.
– Врешь, беглый поп, врешь! Потому ты и от церквы прочь, что там насквозь тебя видят! Может, ты аблакат у сатаны? Нынче много аблакатов развелось.
– Сыне, сыне... Я же за чистоту помыслов.
– Дурнина ежели взросла под окнами, ее взглядом не убьешь. Ее надо из поля вон.
– Добротою спасемся. А ты восприми на один лишь миг, что месть на месть пошла, зло на зло! Земля тогда задымится. Не того ли и хощет сам антихрист. Он гордыни человечей хощет.
Уже долгий пласт жизни отмерил Донат: от люльки до мягкой щетинки усов. За девятнадцать-то лет чего только и не прокрутилось перед его глазами, и уже непосильную тягость испытали его плечи, и долгие горем мучилось сердце. Рос пока – и каждая обида разрешалась просто: обидчику в зубы, скрутил его в калач, намял боки, излил душу, чтобы назавтра и простить же, не копя желчи в груди. Но вспомни, Донат Калинович, всякую ли обиду в кулаки возьмешь? Всякую ли злость выместишь зуботычиной? А если старший покусился на тебя, к примеру, хошь Петра Чикин, Тайкин отец? А если и деревня от тебя отвернулась с радостью, не взяла на поруки? Может, и прав беглый поп? Вот уж как ловок старик, какими вкрадчивыми словами выстелил... Ах, душа, душа, ты же мягче воска: едва поднесли огоньку, подтеплили с краю – и потекло, разжижило сердце. И смутно пока, ой как далеко забрезжили мысли о прощении. Но Тайкино-то лицо перед очию, зареванное, вспухшее, заломленное назад.
– Нельзя так, врешь, попишко! – вспыхнул снова, залился краской. – Коли меня бы обидели, я бы еще ладно... Но коли друга сердешного. И-эх! – взмахнул рукою, вонзил лопату, пошел прочь, в камере бросился на койку.
Думал, долго думал, с головою уйдя в одеяло. И в какой-то миг осенило, и своя сердечная смута стала понятной. «Ведь не все же смирные. Кто-то норовистый, не захочет. Не все парны. Вот он на смирных-то и сядет, и поедет. Ведь на смирных и едут: ногами шею оплетут – и едут. Да и мало что едут, дак всяким худым словом обзываются. И тогда выходит, что ты вовсе скотина: всем хорош и всем гож. А ежели на меня сядут, выходит, и я вези? Э не-е. Не на того напали. Дай срок воли дождаться».
С одной стороны от Доната жил штафирка, коллежский регистратор, которому вышло наказанье в тридцать пять розог, и он с тайным трепетом поджидал его. Подходил к каждому и со слезами на глазах вопрошал: «Братцы, перенесу ли позор?» С другой стороны, ближе к дверям, занимал койку Петр Симагин. Симагин был молчалив и необычайно бледен; глаза туманные, смутные, как закопченное стекло; он постоянно дергал головою, старался подглядеть за плечо; наверное, виделось, как гонятся за ним и настигают. На работы его не слали, и Симагин, ежели не гулял по двору в одиночестве, заложив руки за спину, то сосредоточенно сидел на койке и углубленно думал. Никто не пробовал его задирать или выведать что о прошлой жизни, видно, туманные, словно бы пустые глаза, глядящие сквозь, отпугивали любого охочего до насмешки человека. Симагин, однако, ни словами, ни поведением своим не выказывал слабости духа: он, наверное, собрал себя воедино, чтобы более уже не расслабляться и все перенесть, что уготовано судьбой. И хотя за все время он ни разу ни с кем не завел разговора, но часто, без особой причины в деле иль беседе, каждый невольно оборачивался в ту сторону, где находился безмолвный преступник, словно бы искал поддержки и совета...
Донат и Симагин долго были в камере одни, пока прочие сожители вели повседневную работу, но и тут меж ними не затеялось ни слова, ни полслова. Явился Старков, подсел к парню, часто нагибался, пытался в куколе одеяла разглядеть Донатово лицо.
– Будущая кровь мучит, – осторожно начал беглый поп. – Она еще не пролилась, но уже отзывается. Не убий, сыне...
И тут Симагин впервые разверз уста: голос был сухой, скрипучий, слова отрывистые и ударяли, как розгой.
– Врешь же, отец! Разве на свете сотворено два Адама? Разве был Адам-господин и Адам-раб? Хоть чистого вьюношу не сбивай с пути живого! Не сбивай!
– Я не сбиваю, но я лечу. Я же духовник. Ты говоришь: все пошли от Адама. И верно, все дети Божии, все мы стадо Христово. Но как деревья в лесу разные, так и дети пошли разной дорогой. Бог велел ограничить богатство, но он не велел отнимать его совсем, чтобы богатые имели возможность помогать бедным.
– Его не будущая кровь мучит, – ткнул Симагин перстом в сторону Доната. – Его мучит непролитая кровь, которой надлежало пролиться. Но вот прольется кровь, и какой же цветок вырастет на ней? Вырастет дерево счастья. Доколе же терпеть, доколе! – неожиданно вскричал Симагин и вскочил, заметался по камере.
Только сейчас понималось, как мучит его неволя, как жаль ему несбывшихся надежд. Теперь осталось терпеть лишь. А сколько терпеть и готов ли он? Старков с жалостью смотрел на Симагина, наверное предвидя все его будущие душевные страдания. И если телесные муки еще можно перенесть неукротимому человеку, то сердечные – нестерпимы, коли нет смирения.
– Ежели без смирения, ежели кровь-то пролита, и неуж вы думаете всерьез, что она не отзовется? – с жалостью посмотрел Старков.
Донат лежал в одеяле, вроде бы невидимый, но словесный бой шел из-за него. Наверное, каждый хотел сейчас поднять парня и спросить: а ты-то как мыслишь? Но не поднимали, не взывали к арестанту, ибо каждый не мог до конца сказать: «Я прав!»
– И что же сулишь ты? – остановился Симагин и с неожиданной ненавистью взглянул на беглого попа. – Ты вот против нынешней церкви, а значит, и против властей, против царя. Ибо царь горою за антихристову церковь. Как-то у тебя странно, а? Значит, кого-то надо заключить в монастырь, сослать в Сибирь, кровь пролить. Как же без насилия обойдешься, старик? Как же без крови?
– Смирением лишь. Истинная вера с огнем повенчалась, но не покорилась. В смирении великая сила и необоримая. К нашим-то ревнителям, учителям нашим и с пушкой-то шли, и с увещеванием. А они – нет! Не хотим с шишами разговаривать. Летом семь тысяч двести первого года в пятницу двенадцатого августа в пудожском погосте вместе с соловецким иноком отцом Иосифом предали себя огню несколько тысяч истинных христиан. А могли бы в ружья, в колья... Вилы бы схватили. А вы задумывались, отчего наши деды на костер шли, но кровь чужую не лили? Их пепел нынче в наших сердцах. А насчет царя... Так стадо без пастуха не живет, паства без начетчика и учителя не стоит.
– Вот и хорошо, Старков! Тебя, отец родимый, в каторгу нынче! К тачке прикуют! Пой там Лазаря!
– И воспою... Может, я для страданий и живу на свете, чтобы их претерпеть до конца.. Мне вот тебя жалко. Ты-то вот без смиренья как перенесешь муки? Это ж тебе как в аду гореть.
– Меня ненависть держит. Доколь можно, чтобы человек над человеком-то измывался? Доколь? Когда очнетесь, православные! – возопил вдруг, схватился за голову. – И ты мой главный враг! Ты сатана! Ты душу мирскую превращаешь в снег, пепел, кисель, сон-траву. Смиренный же и продал нас, за тридцать сребреников продал! Крови не хотел – и продал.
– Это в тебе гордыня кричит... Ты сначала свою душу устрой. Тогда и к народу поди. Вот ты сейчас кричишь, желчь в голову ударила. С самим собою управиться не можешь. Но я стану молить Господа, чтобы дал он тебе силы выстоять.
«И у всех-то Бог: все под прикрытием Бога грешат и ради него страдают. За кем правда? – мучился Донат. – Если был Исус великим человеком и искупителем, разве бы потерпел он, чтобы из-за него страдали? Ведь нет большего мучения душе, когда знаешь, что из-за тебя несчастен человек. Что за радость, что за удовольствие Богу в этом?»
Донат и не заметил, как давно уже сидел на кровати, и в широко распахнутых глазах его полоскался ужас. Может, этот страх заметил Старков и прервал спор.
– Сыне, сыне, очнись, – позвал он осекшимся голосом.
Последний солнечный луч упал в крохотное зарешеченное оконце, все в этом столбе вспыхнуло, заиграло; но скоро солнце скатилось на запад и на месте золотого столба оказалась громоздкая печь с дымоходом. В коридоре топили, и там по стенам плясали багровые отражения пламени. Синие сумерки, похожие на кухонный чад, залили камеру. Кто-то у своей койки запалил свечечку.
– Что с тобой, сыне? – повторил Старков, уже пугаясь за арестанта.
Всяких на веку он видывал людей. Вот сидит человек, вроде бы при своем уме, ведет беседу, смеется, деликатен и остроумен, и вдруг, так же увидевши что-то, немеет и начисто теряет память. Сколько раз допытывался о видении и не мог получить вразумительного ответа. Вот и сейчас парень смолчал, сыро обвис, хоть выжимай, выкручивай его, как вехоть.
Но Старков все домогался ответа, и Донат устало сказал:
– Да так, поманилось. Два кочета клюют друг друга, аж перья летят.
Беглый поп усмехнулся и перестал домогаться.
Камера скоро заполнилась сидельцами, воздух загустел, хоть топором руби, настоялся мокрой овчиной, махоркой, едой. Внесли парашу. Лишь пропал Король. Ночной сторож отыскал его в палаческом житье уже пьяного и, особо не церемонясь, приволок в камеру. Нынче у Короля был удачливый день. Король хорошо покутил с тоскующим палачом Спиридоновым. Тот плакался на свое житье, что вот несет на себе иго ката лишь по глупости своей да по той причине, что некому сменить ныне.
– Дурень ты, дурень, – ругал Король палача, – тебе сам Господь в руки деньги сыплет.
И тут же пьяный не пьяный, но смекнул ходовой человек, что не дурно бы и ему, Королю, устроиться на хлебную должность. Спиридонов, не медля, нацарапал губернатору прошение и, растрогавшись, долго целовал сотоварища, обливая его слезами.
В таком вот праздничном настроении вернулся Король в камеру, вернее, втолкнули его в житье. Но арестант не обиделся на сторожа, а нагло оглядел сожителей, мечтая, с кем бы сыграть в ремешок. Король был сейчас в том наисчастливейшем состоянии духа, когда все ему братья, кроме ревизоров, коим страсть как хочется пристыдить, поучить распьянцовскую удалую голову. Вот над таким доходягой Король бы и покуражился: не от злобы повыхаживался бы, не от гнева или темени душевной, а так, чтобы и самому позабавиться и других потешить. Но упаси Боже супротивное сказать в эту минуту иль отпор дать... Тут пиши губерния.
– Эй, штафирка, – крикнул Король поначалу бывшему коллежскому регистратору, – готовь барашка в бумажке. Скоро сечь тебя буду. Такой приказ вышел.
Чиновник, укравший у столоначальника енотовую шубу, покорно проглотил намек и лишь жалостно, умоляюще пытался улыбнуться исподлобья. Дескать, все понимаем, мил человек, это шуточки-с; пусть и несмешные, коварные, но шуточки-с... Король милостиво похлопал чиновника по голове и пьяно, прилипчиво уставился на Симагина; но тот, занятый собою, не видел арестанта. С лица его, обращенного на крохотное зарешеченное оконце, не сходила смутная торжествующая полуусмешка. Старков же скоро уловил опасную маету вора и мягко попросил:
– Лег бы ты, сыне, на постелю да побратался бы с подушкой. Подушка – наилучша подружка.
Но что-то в голосе раскольника, видно, не понравилось Королю, и он сразу прицепился:
– Поп – тараканий лоб. Гли-ко, братцы, попа-то клопы искусали, – захохотал Король, намекая на шадроватое, желтое лицо Старкова.
– Уймись, сыне, – снова кротко попросил Старков. Глаза у вора побелели от бешенства.
– Святых и на нюх не выношу, – закричал, – от них вонько пахнет!
– Худо пахнут худые люди. А хорошие люди пахнут хорошо, – убежденно сказал кто-то из глубины камеры. Коварные слова, смутные, полные умысла.
– А я что говорю! А я!.. – торжествующе закричал Король.
Старков не отозвался более, замкнулся, не сводя глаз с клейменого и обреченно ожидая участи своей, но взгляд его пронзительно заголубел.
– Ну-ко сдвинься. – Король грубо отпихнул Доната в сторону, опустился подле священника и прихватил за плечи. – Вот сейчас пошшупаем у попа причинное место. У него, поди, не как у людей.
Камера притихла. Симагин не отрывал взгляда с зарешеченного оконца, но губы его закаменели и слились в голубую черту. У Старкова дыханье вроде пресеклось, так он бесплотно дышал, отдаваясь во власть вора. Король победно оглянулся на Доната, и тут власть его над обитателями камеры до обидного скоро кончилась. Донат как бы из ружья выстрелил – с такой неуловимой скоростью метнул кулак в беззащитный воровской лоб. Король, как скошенный, не ойкнув, пал плашмя поперек кровати, и скуластое смуглое лицо наполнилось мертвенной бледностью.
– Правда без крови не стоит, а, Старков? – Слова Симагина прозвучали жестоко и весело.
– Ну что ж ты, сынок? Что ты наделал? Видишь, сколь скора смерть и дешева.
– Да нешто он помер? – еще дрожа от горячки, воскликнул Донат. – Да я щелчка и отпустил. Нешто от щелчка помирают? – бормотал Донат. – Раз и перекрестил только... Все видели. Хлипкий, а лезет, варнак. А у меня рука смертного боя. Братцы, боюсь я ее.
Старков, не мешкая, расстегнул рубаху, приложил ухо к мохнатой груди Короля; сердце в груди спеклось, едва барахталось, с трудом перемогало внезапную запруду. Надо ж так, с одного тычка сгорел бывалый находальник-подорожник.
– Ох, пим дырявый, сам на рожон лез, – сокрушался беглый священник, жалея беспамятного. – Что ни говори, живая душа, не звериная. Пусть и шерстяная, моховая. Ах ты, беда: долго ли дух выпустить. Щелчка хватит.
Доната жалко, куда жальчее этого невинного еще парня: темный его путь станет беспросветным, и солнце засияет другим. Заклеймят, поставят неистираемый каленый знак, и не видать более желанной воли.
– Дави вору грудину, дави пуще, – спохватился Старков, боясь упустить время: разобрал у вора кудрявую седеющую бороду и, нашедши губами черный безмолвный рот, принялся дуть. Их дыхания смешались. Неужели не разжижалась, не ослабевала скверна, сгустившаяся в одиноком расхристанном сердце?
Глава пятая
Как, однако, трудно носить личину, если ты не сросся с нею и не отупел до той степени, когда душа твоя похожа на пятиалтынный. Ведь душа, если она не свыклась, не затупела, то едва ли навечно притерпится, ибо внутри ее негасимо искра шает[63] , готовая вот-вот нечаянно разгореться, потому и усилья постоянные нужны, надзор за собою. Носи в себе караульщика неустанного; уста затвори в оковы и мыслей своих не выдай нечаянным, неложным словом; глаза притуши, залей пустенькой водицей, чтобы не выдали они шалым блеском тайных твоих чувств; и во сне-то не забудься; и дерзким взмахом руки, капризом каким иль нечаянным поступком не предай и не выдай себя истинного. Ведь когда ты сам по себе, ты как трава под вешним солнцем, не придавленная гнетом; но у тебя же змей неусыпный внутри, и ты не потрафь ему, сосущему твою кровь и желчь.
Шесть лет высидел Симагин в соловецкой тюрьме, не раз подвергался увещеваниям архимандрита Досифея и вот на последнем году, кажется, утих, успокоился, вернулся в лоно прежней, не расхристанной мыслями, наивной души. И желтый цвет лица от долгого постничества, кажется, уже закрасил былую багровость щек, и волос, подбитый в кружок, обильно покрылся изморозью; и от долгого сидения в камнях кожа на руках просторно обвисла, покрылась ранней стариковской ржавчиной; ступням стало ходить тяжко, и сердце потускнело, замирилось с бренной жизнью. И однажды на шестом году заточенья вдруг ясно и озаренно сказалось себе: «О чем возмечтал, червь земляной? На что покусилось твое рабье сердце?» И в темени заточенья Симагин долго хохотал в одиночестве, и тоненько утекала прочь мучительная душевная боль, и голова прозрачно светлела.
И так успокоенно зажилось, когда смирился и написал настоятелю объяснение, дескать, «я же обещаюсь до исхода моей жизни при помощи Божией не верить впредь никаким сновидениям и прошу прощения, во-первых, у государя, во-вторых, у господ и всех властей, как духовных особ, равно и правителей государства». И, прощенный, отправился в ссылку в Тобольский приказ, пересек обратно Белое море, пристал к Соловецкому подворью, а там с кандальным перезвоном, неловко мостясь, уселся на высокие дроги и под конвоем проехал через Архангельск в тюремный замок. И тут душевная кротость вдруг показалась личиною, ибо в сердце вновь заселилось при виде людей странное беспокойство, и мысли о всеобщем братстве и любви вновь полонили Симагина.
Исповедь Симагина. «... Отцом мне назывался Иван, крепостной крестьянин княгини Александры Николаевны Лобановой, содержавший в селе харчевню и питейный дом. Мать же была бродящая солдатка, бывшая других господ, определилась в работницы к вышеупомянутому Ивану. Они начали жить так хорошо, что Бог дал им в короткое время одного сына и четырех дочерей... Но я, видит Бог, не Иванов сын и упомню, что приезжали из Сычевок судьи, делали мне допрос при свидетелях, чей я сын. Я сказал им: такой-то женщины. Да с кем ты прижит? Я им сказал: мать моя жила на большой дороге, и там идут и едут. Да где же твой отец? Я им говорил: когда я еще родился, то мать моя сказывала, что был какой-то Дорофей, которого отдали в солдаты. Почему же ты называешься Ивановичем? Потому что мать моя жила в работницах у Ивана.
Покусившийся на харчевню и питейный дом управитель Гамов при каждом месячном отчете бил нашего отца и мать нашу немилосердным образом, бил палками, розгами, батогами, кнутами. Добил Ивана до чахотки, после чего перевели его на оброк, но было поздно. Иван и года не пожил на оброке. И мы кричим и плачем, глядя на родителей своих, желая, чтобы жалостливыми воплями и слезами подвигнуть к жалости мучителя наших родителей. После смерти Ивана мать мою взяли в солдатский дом, меня отдали доучиваться в церковную азбуку, а сестру господин управитель за провинность отправил в рогатках в самую трудную и черную работу, и ежедневно положена была ей порция поутру и вечером по нескольку ударов батожьем и розгами. Сестра сбежала к тетке в другое село, и на допрос взяли мать мою. Взята была она в пытку и допрашиваема была разнообразными и мучительными пытками. На шее у нее были рогатки, на ногах взбиты колодки, и так же к дополнению на шее у нее была цепь с замком, и цепь вколочена была в большой деревянный называемый «стул» весом около пудов двух... Боги праведные... избавьте от этого мучительного Бога, который всем велел терпеть и мучиться! Владыка Всемогущий, когда ты пошлешь прекратить несчастное сие наследство, а ты, мучитель, доколе еще будешь путать род человеческий в своих сетях и еще будешь слепить, как лягушек болотных? Нет, время уже прекратить это мученье...
В одиннадцать лет отдали меня на ткацкую фабрику работать полотна. Я был уже за станком, работал пятичетвертное полотно, работа была непосильной. И через великое раченье и видимого страху на четырнадцатом году начал харкать кровью, но продолжал мое дело... меня же по глупому моему желанию выбрали в Петербург учиться поваренному искусству в кухню князя Андрея Николаевича Долгорукова. Тут счастье мне послужило: я начал хорошо понимать поваренную должность. Через год был отдан в поварскую службу к одному итальянцу по фамилии Деликати и мамзель Терези. Мамзель Тереза ежедневно избивала, а однажды до тех пор меня била, что укровенила всю переднюю комнату. Вышеупомянутый Деликати однажды вскочил из-за стола и хотел мне ножик вонзить в брюхо, а вслед и в спину. Я же от внезапного страху стоял как окаменелый, и его схватили его сотоварищи.
Затем у графа Панина я прослужил два года и был отправлен в Москву к высокопревосходительной старушке М. Я. Салтыковой. Тем временем князь Лобанов сделался нездоров, и я поехал с ним в Париж. В Париже пробыл три недели и обратно был отправлен морем в Петербург. Я получил там пашпорт и определился к князю Андрею Павловичу Гагарину. Прожил у него с год. Лобанов-Ростовский приехал в Москву, чтобы отправиться в поход в турецкую кампанию, и взял меня с собой. Были под городом Рущуком, под местечком Туртукаем, были и под Браилом, только немного опосля стояли в молдавской деревне, где князь поехал осматривать бригаду в лагерях и сделался нездоров ногами. Нам пришел приказ, чтобы ехали в Яссы. В Яссах князь получил дорожную. Мы ехали через Цицарию и прочие разные земли, приехали в Париж, остановились на улице Рю-Солезар. Тут, отдохнумши немного, князю заблагорассудилось отдать меня к одному кухмистру учиться сухих пирожных. Мне это слишком не понравилось, ибо я ожидал от него совсем другого и хотел было остаться там. А князь объявил поход в Россию. Я с ним немного погрубил и хотел было идти в полицию, но я вспомнил, что я уже никогда не буду должен возвратиться домой или на свою родину, пришел к своему князю и просил у него прощения за мой дерзкий проступок. Он обещался простить, когда я доеду в Россию. Я приехал в дилижансе преблагополучно, получил от братца его князя Алексея Яковлевича пашпорт и был долгое время без места и пролежал в Обуховской больнице месяца три в жестокой лихорадке.
С марта месяца сего 1830 года силился я слабым моим рассудком постигнуть начала или причины бедствий рода человеческого и в особенности страждущих от деспотизма. За какую мы веру и отечество должны кровь свою проливать. Это, верно, за то, что по возвращению с битвы за отечество вздыхать и рыдать, глядя на своих соотчичей, на ихнюю губительную жизнь, какую они терпят на барщине и от наложенного на них господином оброку. От непросвещения ли людей это происходит, или что законы Божеские и гражданские, обуздывая греховные страсти, были сему причиною? Что такое сильно впечатлелось в моем сердце, что я денно и нощно размышлял о сем предмете и искал таковых книг и сочинений, которые бы способствовали к моей цели. Но ни одной книги я не находил такой, чтобы с мнениями моими была сходна.
Обращаясь по знакомству с дворовыми людьми его сиятельства графа Румянцева официантом Григорием Ивановым и поваром Леонтием Дмитриевым, которыя, читая вместе со мною книги разных светских сочинений, заметили меня помешавшимся в разуме по той причине, что я спорил с ними о всех материях и заключал, что все книги исполнены пустяков. И когда я старался уверить и о себе, что я не сумашедший, то более утвердил в этом мнении...»
А однажды в полуночное время с Симагиным случилось необычайное. Вдруг затосковало, заугрюмело сердце, впору руки на себя наложить, и напала на душу такая смертная печаль, что повар заскрипел зубами и слеза сама собой пролилась на изголовье. Свеча в шандале доживала, но не было сил задуть огарыш, и при этом неживом скудном пламени свет казался белым, покойницким. Едва приподнял повар голову – и увидел на подушке кровавую слезу. Тут Симагина потянуло всего, закорежило, затомило, руки сами собой вознеслись над головою и сцепились в мертвый замок, так что захрустели козонки и странное тепло заструилось от холодных пяток вверх по телу, по натянутым, разом занывшим жилам, горячим варом налило грудь, запрудило ее, сердце пышкнуло и, наверное, вовсе остановилось: такое было чувство, что семя родящее вместо бабьего лона вдруг кинулось позвоночным столбом в черепную коробку, а там вспыхнуло отчаянным солнечным пламенем, так что голова словно бы раскололась и разлетелась вдребезги. И стало так хорошо, как случается редко с кем, хорошо ежели однажды в жизни. За такое-то мгновение и не жалко жизни всей, только бы испытать его, испить кипящую хмельную чашу. Потом свет рассыпался тысячами искр и увидел себя Симагин в самом своде небес. Сияла алмазная луна, утвержденная в диком камне, и был ему ниоткуда необыкновенный проникающий голос: «Здесь пребывает свет чистый и праведный».
Очнувшись, Симагин так понял сон свой, что для просвещения народного он сам может писать наставительные книги. Не мешкая, он утром же отправился в лавку, накупил серой дешевой бумаги в восьмую долю листа, гусиных перьев и чернил и с огромной страстью и внутренней необуянной дрожью принялся за труды. Две недели, не вылезая из-за стола и забыв про еду и сон, писал Симагин о свойствах и качествах человека.
Из письма Симагина к Николаю Первому. «... Пришли, государь, за мной. Да еще лучше при свидетелях, как-то: французах и наших соседях, а ваших родственниках – пруссаках, ибо они свет прежде нас увидали, и они здраво и хорошо могут об этом судить...
Хотел я, государь, выпустить в свет свои сочинения без отцовского ведома. Но счел за благо уведомить тебя, государь. Не думаю, чтобы счел ты сие за глупость. Добродетель права, а мщение виновато... А только ты, государь, на своих столбовых не надейся: никогда свету не увидишь. Я тебе писал и в прежнем своем письме, чтоб ты не брал их с собою в дорогу, что ты с ними одного разу не ступишь по пути истины и добродетели...»
И еще один сон. А привиделось Симагину, будто он на каменном острове, а вкруг его море. И будто бы не просто на острове, а в остроге большом иль тюрьме какой, забитой множеством невольников, скованных кандалами. Смотрит он в небольшое оконце, забранное решетками, и видит ровную тюремную площадь, а посреди молодое дерево, еще не покрытое листом. А подле него пень огромного дерева, срубленного чисто и ловко, и около этого пня лежит человек, положив голову на пень, и ужасным голосом просит: «Предайте меня смерти». И Симагин от этого ужасного рева и стона проснулся.
Из объяснения Симагина. «... Я не мог сдержаться от радости своего открытия „Нового света“ и поделился мыслями с другим официантом графа Румянцева Григорием Ивановым. И сказал ему с радостным восторгом: „Григорий Иванович! Да познаем самих себя, для чего мы произведены на свет! Для того ли, чтоб царствовать и веселиться или чтоб во всю жизнь страдать и мучиться? Я скажу: чтобы царствовать и веселиться! Ведь человек родится совсем не для того, чтобы он мучился или кто бы его мучил, а человек единственно для того родится, дабы он украшал природу и землю“. Однажды же Григорий ответил мне: „Тогда это может быть, когда здесь прольются кровавые реки, а иначе воля искуплена быть не может“. И называл меня сумашедшим.
Я с ним сношения прервал».
Из письма к Николаю Первому. «Я... писал к тебе об указании законов... И сказал, что ты не прежде их должен увидеть, как прошедши две немалотрудных дороги; они для умного, государь, совсем не трудны. Эти две дороги означают две картины твоего государства и в каком положении оно находится. Ваше государство находится не в дальнем расстоянии от большого несчастья...»
И еще один сон. А привиделось Симагину, будто он в тесном коридоре фабрики убил фабриканта пожилого, а другого, что гораздо моложе, взял за туловище и перебил ему ноги. И тот в мучении говорит Симагину: «Что же мне делать?» А Симагин сказал ему: «Ты должен умереть». И ушел, не оглядываясь, с надеждою, что тот непременно умрет.
Из письма к Николаю Первому. «... В этом озере рыбы хорошей водиться никак было не можно. Отчего же? Оттого – мутна от непросвещения. Отчего же красна и солона? Ведь это должно знать. Это же краска, которую братья наши достают у нас из носу, изо рту, из спины – вот какая это краска! Отчего же солона? Оттого, что естли об этом хорошенько подумаешь и погадаешь, сердце стеснится, слеза навернется. Сейчас узнаешь, отчего она солона. Итак, государь, как же должно рыбе радоваться такой хорошей воде? Ведь прыгает кверху, смотрит на плотину, скоро ли она обрушится: вот-вот пойдет гулять! А того, глупая, не подумает, что естли не приготовишь хорошей и ровной надежной лощины заблаговремя, то раскидает ее от большого стремления воды по лугам и болотам, и опять достанется в жертву цаплям и воронам, а иначе совсем обмелеет – и так может пропасть...
Естли я теперь по какому бы то ни было притеснению или пытке скажу, что я это учение выдумал, то я уверен, что Бог так без возмездия не оставит. Он или меня накажет, или того, кто к этому меня понуждал...
Я квартирую в доме графа Сиверса в Почтамтской улице, нанимаю квартиру у прачки. Номер дому – 186».
Из доклада Бенкендорфа. «... Симагин отвергает Христа Спасителя, предлагает уничтожение веры христианской, расстраивает все связи гражданские и проповедует свободу состояний. Мы находим в его бумагах новые катехизисы, наставления священникам, воззвания к народу и т.д.
Между тем полагая, что свободное обращение подобного человека между простолюдинами может подать повод к различным соблазнам, превратным толкам и вредным впечатлениям, осмеливаюсь испрашивать высочайшего вашего императорского величества повеления на помещение Симагина в какой-либо отдаленный монастырь под особое наблюдение местного духовного начальства, которому и поставить в обязанность обратить его благоразумными увещеваниями на спасительный путь религии».
Из воззвания Симагина. «Почувствуйте, мученики, к чему я себя подвергаю за ваше спасение. Да разрушится ваша окаменелая нечувствительность! Сжальтесь, несчастные, над самими собою! А о себе я вас не прошу. Знайте, Мученики, что я на то родился».
Глава шестая
Взъем с поскотины крутой, унавоженный, дорога врезалась в гору, как в проран меж крутых, голубых от снегов склонов, испятнанных сухими дудками чертополоха. Мерин поднатужился, уркая чревом, втащил пошевни в ущелье горы, и, словно в последний раз, как в приоткрытую дверь горницы, увиделся распах поречной долины, обметанной ивняками, угрюмая стена недальних настуженных ельников, только что с трудом выпустивших скитальцев, и желтая отсюда, змеистая дорога от Мезени на Петербург. И по этой пестрой витой опояске особенно сиротливо и ненадежно семенила напористая гнедая лошаденка, сунутая в розвальни: на санях грудились двое, рослых, в теле, один в башлыке, явно военного сословия, другой, с туго заведенными назад руками, был подневольным. Чуть бы подзадержаться Гришане Богошкову у росстани, и не миновать бы ему встречи с племяшом, Тайке с возлюбленным, а Яшке – с крестовым братом-супротивником. Но старик, согбенно взбирающийся в гору возле мерина, ухватясь за передок розвальней, ничего не видел, кроме унавоженного корыта дороги и вихлястых, сбитых долгим путем лошадиных ног. Тайка же тупо и безгласно пропустила взглядом напористую кобыленку, дверца в неоглядный простор тут же прощально захлопнулась, но ничего не запечатлелось в туманной, тусклой бабьей голове. Скрипуче подались ворота, деревня сразу обступила, поглотила, и низкое шерстяное небо, забывшее солнце, с головою накрыло скитальцев рогожным кулем. Постылый лежал возле, скрипел зубами во сне ли, наяву, мучился, сердешный, перемогался, вызволяясь из смерти, но каждый вздох и хрип недвижного, беспамятного мужа против желания отдавался в Тайкиной груди, словно два посторонних чужих тела были спеленаты одной вервью. И если один порывался куда-то, и другому становилось больно. Освободившись от рукавицы-мохнатушки, женщина нашаривала в покрывальнице пылающий лоб мужа и тешила, оглаживала его настуженной ладонью, сымая жар. Не девицей красной и не самокруткой, не вдовой и не послушницей, не бобылкой-старожилкой, но изменщицей-заугольщицей возвращалась Тайка из бегов: как бы из занебесной воли, вкусивши райского плода, испивши из гремящего ручья, вдруг была Таисия низринута на землю, как самая распоследняя грешница, обманом проникшая в рай.
Въехали во двор, Тая затворила ворота от любопытного глаза, Гришаня Богошков волоком на одеяльнице втянул больного в избу, вдвоем осторожно завалили страдальца на кровать. Старик сразу засобирался домой, распрощался, не глядя в лицо бабе, и тут же ушел, намереваясь засветло попасть в Мезень, чтобы вызнать о племяше. А Таисия встала посреди избы, как вешка придорожная: каждый ветер обнесет тебя, обдует, а ты смирись, держись стойко, упирайся, чтобы отметить обманчивую дорогу для запоздавшего путника. Для чего, для какой нужды уготована именно ей такая судьбина? Давно ли покинула хозяйка дом свой, а как бы в чужой вернулась, едва признавая его: да и полноте, был ли он когда своим, поглянулся ли когда сердцу, припал ли когда полюбовно к тоскующим бабьим рукам. Словно в посторонней охотничьей зимовейке жила всегда, лишь настолько прибирая житье, чтобы только вовсе не зарасти от грязи. Мати Пресвятая Богородица, дай вернуться в память, дай выстоять в разуме...
Сумеречными глазами, полыселыми от душевной боли, оглядела обзаведение, привыкая к нему, но взглядом каждый раз миновала чужое, непризнанное обличье мужа. Уголек угольком лежал на отсыревшем одеяле, и только мертвенно-бледная кожа лица светилась в полдневной настуженной избе. Не от знобеи, не от скорбута, не от червя животного, но от ее руки повалился человек и навряд ли встанет.
Паутиной заткало в углах, куржак в простенках, снегу, хладу надуло в подоконья, ледяная броня на окнах. К печи прикоснулась легко, по-бабьи и отпрянула, как от покойника. Не печь, но гроб занимал половину избы. И Тайкина мысль сразу наладилась: печь оживить, а там и дом задышит, и сердце ее оттает, и муж Богоданный почует тепло.
... Не из гнева же пальнула тогда, но от страха животного: как ситного каравашек пробила пулей, и выпала из Яшкиного тела всего одна кровинка не больше брусничной ягоды. Так почудилось вначале, что пала на холстинную рубаху запоздалая клюквина и покатилась. А после обнесло Тайку, выкинуло из памяти, и рыжий мужичок-икотик, что постоянно мучил под грудью, вдруг взял в полон, перевязал горло волосяной удавкой и поволок куда-то горами-долами, как худую падаль, чтобы бросить на росстани и забыть; но взвилась болезная подобно странной светящейся птице с длинным сиреневым хвостом, и долго плавала она в середке черной вихревой тучи, пока держали крылья...
А когда больно свалилась из вихоря наземь и очнулась у порога, то увидела скрюченного мужика: не в луже, но в море крови валялся Яшка Шумов, и от руды той, от горячей краски налились пламенем стены, и на потолке проступили багровые разводья, и густой печеночный цвет застил бабе глаза. Тая тупо окунула руки в присохшую кровищу, в комья печенки, мазнула себя нерешительно по белой льняной рубахе, от груди и ниже, где нарождалось дитя, и на покрове отпечатались пять дрожащих неведомых птичьих троп...
И вот лежит муж Богоданный на кровати, лицом изжелта-бел, как изветренная скотская кость, в подглазьях синие пятаки: и оттого, что так выхудал, нос еще более загнулся, и черные войлочные брови, сросшиеся на переносье, встали торчком, как у нажившегося старика; говорят, под такими бровями живет недобрый взор, оттуда выглядывает худая душа.
Только в заделье можно не засохнуть, только в работе можно избыть горе. И Донат нареченный словно выпал из памяти, хоть бы раз всплял в сердце, как добрый вестник: так далеко изгнала из души любимого, будто и век не ознавала. Только порою, как вопль, взметнется тоска, пронзит тело: кинул, бросил во темном лесу, как худую скотину. За что надсмеялся? Какого худа принесла, что придорожным камнем пригрузил меня и забыл? Ведь как просила, умоляла: «Донюшка, не езди! Душа чует, худому быть!» Дак как тать, как подорожник, полоснул взглядом острей ножа. Лучше б в реку кинул, да насовсем чтоб. И тут под грудью толк-толк: и заелозит, задышит, и пойдут два сердца вразнобой. Но не радостно телу, будто веригами окутана Таисия, и столь истомно ей, столь нелюбо и неласково, что впору насильно выпростаться, выбить, выжечь из себя давно ли еще желанный плод... Боже, хоть взглядом подскажи, замоли?м ли грех мой! Если упасть мне велено, так сделай так, чтобы не встать боле... Ведь был то не милой мне товарищ, а сотона-разлучник, змей подколодный. Дал будто яблока райского отведать, а как червей наелась, до того тошно мне. Крови-то на теле, кровищи, соскоблить ли, отмыться ли?
А с постели едва слышно, как шелест, как всхлип, будто со дна реки пузыри:
– Тая, Таисья... Подь-ка, суженая, благоверная.
Из земли сырой, из могилы голос. С такой-то раною, сквозной дырой разве может жить человек? Что за адская сила в мужике, из какого теста слеплен? И неуж на нем такое сильное благословение, что и пуля не берет. Как убить хотела, а не смогла.
Подошла, присела возле, а в лицо мужу страшно глянуть: вот как со смертью своей поздороваться. А рука его, потная, горячая, неслышно скользнула по одевальнице и ожгла Тайкину руку, как ножом полоснула. Вздрогнула женщина, вскрикнуть хотела, но пересилила неласковость, зажгла в глазах теплую свечечку.
– Прости, Яша, – сказала вдруг, переломив себя, насильно стараясь согреть голос.
А там-то и накатила такая жалость, от которой впору кричать иль захлебнуться слезами. Лишь робкий шажок сотворила, а там по трясине да сломя голову, пока вовсе не засосет. И не понять уже, себя ли жалела, свою незадавшуюся жизнь, иль этого чужого, при смерти лежащего мужика, на ком вины ежели, так на воробьиный коготок.
– Простишь ли, Яша? Иль убей сразу.
А он словно и не слышал, не чуял ее смертного, надсадного крика, иль, может, усладилась его душа и хотела лишь долгого покаяния. Яков лежал, призакрыв глаза, и только широкие черные ноздри нервно вздрагивали. Синь молока был белее, но на лице его блуждала какая-то дьявольская похотливая тень. Дождался праздничка, через смерть прошел, не дождался: знать, долговекий, недаром волос в носу черный и жесткий. Не сронить этого человека, не полонить.
Мысли блуждали тайные, давние, и, перемогая в себе дрожь, попросил Яшка смиренно:
– Ты приляг возле, согрей! Спасу нет, как холодно.
– Так не прощаешь, Яша?
– Два года обвенчаны, а как брат с сестрой. Дай хоть перед смертью пошшупать, – настаивал Яшка бесплотным голосом. – Экая ты баба, однако. Курица и есть, – пытался весело пошутить.
А чего ей валиться-то подле, коли всего высмотрела, когда у старухи с косой отбирала, мыла да обихаживала, как малое дитя: грудь-то широкая, как у жеребца-трехлетка, и тверже камня, и вся шерстью пестрой обметана. Коли копытца бы да рога нашарила, в волосье, то и признала бы дьяволенка. Всего напомнила, постылого, а хоть бы раз что грешное вспыхнуло, хоть бы одна телесная жилка вздрогнула.
– Не неволь, Яша! Дай срок, не неволь лишь, – сказала, вроде бы что наобещала.
И тут же охолонула, прикусила язык. Ведь словно бы клятву, обет какой иль зарок дала. Но и опомниться, впопятную пойти уж нельзя: жалость душит. Мать-Богородица из угла перстом указует. – Я худая кругом, я хуже злодея-супостата. Касаться-то меня, прокаженной, и то грех незамолимый. Ты, Яша, не прощай меня. Мати-Богородица простит – нет, а ты, Яшенька, не прощай. Ты казни меня, исказни худо-нахудо, чтобы вскорости засохнуть мне, как топтун-траве. Ты не привечай меня, не обласкивай, не припускай близко к сердцу. Вы?хожу я тебя, вымолю, как прощенье, а тогда бей ты меня кажин день без пропуску, чтобы шерсть от меня летела клочьями. Как мне жить-то дале, ка-ак! От крови-то мне не отмыться вовек, никакая байна не отмылит, никакой котко? не отлижет, никакая душегрея не высушит, ни одна повитуха не выбелит. Гони меня, Яша-а! Наизгон гони. На кой я тебе, если в убитой гордости диавол утеха, если порчена я да под грудью чужое семя растет. Спусти-и-и. Ну что тебе за счастие?
– Если долго ждешь – дождесси. И я дождался-а. Дерево-то корнем сильно.
И, чего уж никак не ожидала Тая, вдруг ущемил потной ладонью за бедро, сквозь пестрядинную юбку будто углем прожег, словно кляпцем звериным придавил, и, не дав опомниться, за рукав рубахи поддернул к себе. Вот тебе и болезный, вот тебе и ранетый, ведь кровища, как из гремучего ручья, хлестала. И охнуть не успела, как в Яншины руки, будто в тугой хомут, сунулась, да тут же и запряглась. По?том шибануло, прелым мясом. А муж вдруг притих, как в простыне, истаял, и тускло, мрело глядели в потолок смоляной темени глаза. Тайке бы забиться, завыламываться из постылых рук, а она вот и не связанная будто, а как в оковах: и сила куда-то подевалась.
– Мы с тобой по гроб, как Иван да Марья, – шептал немилый, обжигая щеку дыханьем, а изо рта запах могильный. – Ты к смерти – и я к смерти, – меж тем продолжал нашептывать Яшка. – Ты к жизни – и я к жизни. Я ведь сколотыш: вырос без отцов, без матин, без сестрин, без братнин. Как вешка на поле белом, – словно бы вымаливал жалости Яшка; но уже за молчанием учуял, что уломал Тайку, приручил, отныне можно веревки из нее вить.
И не болезнь удержала, не немощь неотвязная, не мокрота тошнотная в груди, но вот тихость, вялая бабья покорность подсказали: не спеши, торопливого коня кочка ссечет. И не полез к жонке за пазуху, не ожегся горячей шелковистой кожей, не приник к желанному телу, о котором столько мерещилось в ночах. «Есть Бог-то, есть!» – вскричал, в душе торжествуя, но тут же и замер, чтобы не спугнуть счастье, слегка приотпустил руки, выпуская птицу, а после и вовсе развел, раскинул по изголовью крестом: желтые, вялые, в каких-то проточинах, будто черви исползали. Так жилы бескровные запали.
И не снялась ведь Тайка, не вспрянула, а покорно осталась возле, касаясь налившейся грудью, и скошенный зеленоватый глаз в ранней паутине морщин готов был вылиться на подушку. Яков даже испугался, вскрикнул, остерегаясь новой беды: «Тая, Тасенька?» А она, как ошалелая, как опившаяся дурман-травой, вдруг приподнялась на локте и стала разглаживать рану на Яшкиной груди, едва затянутую младенческой пленкой, откуда еще сочилась сукровица. Какая ямина посреди груди, будто пику кованую втыкали, пытаясь пригвоздить лешака к земле. По всем приметам был не жилец, а вот вынянчила, выходила, у зори-зоряницы вымолила, попросила унять руду-рудяницу алой шелковой нитью. И вдруг, осмелясь, поцеловала губами самую-то боль, словно бы рану остудить намерилась, и как бы сердца коснулась, столь близко металось оно прямо под кожей, в сукровице, в самом распадке груди. И что-то шепнула, внезапно озарясь, выпела с ласковым зовом, наверное, чужое имя позвала, звонкое и особенное, как колокольный бой. Яшка смолчал, лишь скрипнул зубами и откинул к стене голову. Большей боли не могла бы причинить жена: будто каленым железом повернула в самой-то ране, где сердце обнажилось.
Ушла Тайка в красный угол, посторонними глазами оглядела родовое Шумово поместье. Словно палом прошлись, огнем выжгли долгую фамилию, и вот последний сын, случайно нажитый корешок, засыхал на постели, мукой великой мучился, но не желал умирать. А она-то, выходит, как змея подколодная, как Иродова дочь, тонкую нить своей рукой потянет, а не решится вовсе оборвать пряжу. Какой еще вины боялась, пред кем держала ответ? Ну, пусть грех на ней неизносимой кольчугой, не снять, не сносить его, но слезы ее, беды ее измерить ли какою мерой? За что она сердце-то свое половинит, душу своими руками вынимает на посмотрение? Ведь как умоляла: «Донюшка, не покидай. Худое чую». И ушел, делся, уплыл в осотраву. Хоть бы весточку, хоть бы знак дал. Проклясть бы, искоренить, выжить из памяти; но в утробе его отросток...
А этому, постылому, чего надо? Чего он-то домогается до ее сердца? Пошто ее на разрыв тянут, как завертку у саней?..
Муж истоне?л совсем, провалился под одеяльницей, как палый поздний лист, корежился в простынях, скрипел зубами. И самому бы себе не признался: жалости ждал, отзывчивого прикосновенья, робкого, ждущего тела. Где-то крестовый брат, что стал его кровным врагом? Последнюю бы кровь отдал, только бы Доньку изжить. А там хоть и самому в прах.
– Скрипи, скрипи зубами-то! – вдруг вспыхнула Тайка, вскрикнула в красном углу. Яшке головы не повернуть, чтоб взглядом пронзить, руки тяжелой не поднять, и на распухшем языке, гири хуже, нудный непроходимый веред[64] – ни сплюнуть, ни выматериться. – Тебе больно! А мне не больно, дьявола подручник? Как мяли меня да измывали меня, тут был ты смиренней топтун-травы. Паршивую взял-то, с проказой! Душа в чирьях, и утроба в чирьях.
– Мол-чи, – только и простонал.
А убить готов был, застегнуть на месте, столько жгучей надсады скопилось в груди, разом натуру повернуло. Была бы подле кованая палица, раскроил бы бабу надвое. А не можешь отбояриться – смирись, задави гордыню: хотя на чужой погляд в Яшке гордости с бородавку. И сейчас, подавив зло, не плакал он от тоски гремучей, но нещадно скрипел зубами, словно бы выкрошить хотел их.
Хорошо, ко времени пришел тесть. Явился Петра Чикин, не просясь, не стукнувши в ободверину, словно бы в коридоре подслушивал смертную ссору, и, улучив момент, когда тянуть более нельзя, явился как миротворец. Тайка и отца бы на отпор, ведь как худо расстались с осени: тогда чуть ли не ухватом прогнала батюшку. Но вошел Петра Чикин, будто не отлучался, с тихим подтаявшим лицом, вроде бы добрую весть нес. У порога на спицу накинул треух, поклонился поясно, сладко пропел:
– С пути-бываньица? Каково дорога легла?
Будто не знал ссоры-немилости, словно не ведал дочернего неприличия – ведь от мужа венчанного самокруткой сбежала да в тайге канула. Месяца три не видала Тайка отца, но как переменило его, выпило: борода неровная, трехцветная, лицо подсохло, глаза голые, как слепые, и на плешивой голове откуда-то взялась огромная белая бородавка. Долго ли пробыл Петра Чикин в избе, а все приметил: дочь вот простоволосая, как девка на выданье, повойник скинула, дрянь такая, и зять на кровати – пластом, синь молока бледней, а дух от него «порато чижолый, как от пропадины худой». Но вот сошлись-сбежались, и то слава Богу: вместе в избу воротились, может, собьются в кучку, обживутся. Сарафан на дочери в облипку, как с чужого плеча, пузо – ядром, видно, понесла от которого-то, не ветром же надуло. Ой как неладно, ой как горько: трех девок имел, и все неладно зажили. Горько было Петре и тошнехонько: мало что самого грызь съела, будто в черевах кто кишку крутит, так с дочерьми-то горюй. Не для себя надсаждался, житье подымал, для них, колобашек, не раз согрешил, с лешим сватался, а они вместо благодарности, ах ты... И с досады такой не сдержался Петра, указал дочери:
– Не срамилась бы! Голову-то покрой, срамница!
В прежние-то времена в трепет бы вошла девка, а нынче лишь брови насуровила, и глаза по-кошачьи загорелись, зрачки торчком. Злая стала, некрасивая, старая, лицо в ржавчине. Его ли это любимая дочь, тешоная-бажоная? Но смолчала Таисья, слова подходящего не нашлось. Два злодея собрались в избе, окружили, а ей-то как обороняться?
– Чего как барин? – спросил зятя.
– Да вот... Простыл где-то, – Яшка вымученно улыбнулся, а Тая взвилась:
– Это я стрельнула, я... Жаль не до смерти!
– Цыть, баба!.. В Сибирь захотела! – круто оборвал Петра. – Отцову голову позорить, срамница.
– Я хоть в Сибирь. Хоть головой в прорубь. – И вдруг повалилась с лавки, стукнулась лбом о пол, запричитала: – Батюшка-а посты-лый... и што ты со мною исделал. Кажинный день бей меня по пяти раз, да только к себе забери.
– Цыть!.. Поперек кровати лежала – не бивал, а сейчас и эх! И зря, и зря, сучье вымя! Знатьё бы дак. Спустил бы кислу шерсть, чтоб отцову седину не позорила. Цыть! – пристукнул ногою Петра, обрывая бабий рев, от которого и каменное сердце ворохнется, и хриповатый голос его невольно сдал. – Ах ты неладная. Ну что ты душу-то рвешь, беспутная, да на себя пустое городишь? Посмотри на себя, Таисья, на кого похожа. Что ты под колокольны звоны лезешь, дурья башка. Падешь, костей не собрать.
Отвернулся Петра Афанасьич от дочери, чтобы не выказать слабость. Тайка мешковато поднялась с пола, ушла в шолнушу, но выть кончила, наверное, подслушивала.
– Ты, парень, как хошь... А покрывай. Муж да жона – одна сотона, – тихо советовал тесть. – Это промеж вами. Как случилось-то?
– И сам не войду в толк. Настиг их в бывшем поместье Ханзина. Вора-то, вишь ты, не было, снялся, собака, о ту пору, а то бы одному из нас смерть. Тайку ночью хотел повязать, чтоб без шуму. А она и встренула. С ружьем, вишь ты, в обнимку лежала.
– Вор доигрался. В Архангельско свезли и навряд ли спустят. На царского слугу руку поднял. А за это по шерстке не гладят... Ты поднимайся скорей, – советовал Петра, – да за хозяйство круче берись. Все прахом пойдет.
Тесть собрался уходить, когда Яшка попросил склониться к изголовью.
– Боюся, как бы рук не наложила, – шепнул. – Ты б пришел на ночевую.
– Эк раскуражилась, дура. Привяжи ко кровати, никуда не денется.
– Кабы мог...
– Ну что ты за мужик, коли над бабой управы не сыщешь?
– Люблю дак, – вдруг открылся Яшка и вымученно улыбнулся, выдавая сказанное за шутку. – Пуще смерти, может. Как собака палку.
– Люблю, люблю, – передразнил Петра и ушел, но к вечеру вернулся.
Долго сидел за ужной, откушал водочки, дочь учил, как жить, и своей судьбой хвалился. Тайка молчала, была белее холстинки, но глаза лихорадочно блестели. В общем, засиделся Петра, а после сослался на поздний час да на нынешние страхи перед теменью, когда не знаешь, где тебя встретит тать подорожная и застегнет гирькой по виску; забрался мужик на печь, дав себе слово глядеть за дочерью, но косушка вина скоро ввергла в сон. Спал Петра тяжело, будто жернова ворочал, но Яшке страшно, ему ночь не в ночь. Затылком слышал, как стонала, всхлипывала Тая, как запалила лампадку и усердно молилась, просила прощенья. Раза два подходила к постели, но Яшка замыкал глаза и нарочито всхрапывал, сам каменея весь и боясь неисповедимой угрозы: все думалось, что в отчаянье таком и с дурной головы схватит Тайка косарь-лучинник и отсадит Яшке голову напрочь. Грудь полымем горела, но пугался Яшка не раны, но Тайкиной руки. Уже за полночь снялась жена с лавки, в одной рубахе скоро вышла за дверь. «Наверное, на двор», – подумал, но насторожился, ибо и поветные ворота чуть слышно скрипнули. «Зачем бы это?» – озаботился и с тревогою стал ждать, чуя худое. Время шло, а жена не возвращалась, и Яшка вскричал тестя. Вроде и тяжело спал Петра Афанасьич, но очнулся с первого окрика.
– Батя, поди ищи дочь, – сказал Яшка и заплакал, жалобно всхлипывая.
– Убери сопли-то, нюня.
Петра набросил полушубок и отправился искать: но разве впотьмах скоро наткнешься на человека, который решил затаиться? Обошел поветь, окрикивая дочь: сначала ласковыми словами хотел ублажить, после в худых душах заматерился, когда спичкой деревянной, где упряжь прежде висела, рассадил лоб и, наверное, до краски, ибо защипало и потекло. А мороз палил, Боже милостивый, в исподники сразу холоду набилось, и испитое тело скоро закоснело, затомилось. Попала бы Тайка в ту минуту, нещадно бы застегнул. За лучиной бы вернуться, запалить бы ощепок березовый, но уже тревога закралась в сердце, и постановил себе Петра: торопиться надо, душа велит торопиться. Не на волю же подалась? Чего бабе на улице делать середка ночи? Но ворота распахнул. Снег голубел, искрился слегка, луна была молодая, крохотная и светила младенчески робко. Подумалось: в такую ночь и умирать сладко: лег, глаза призакрыл – и не встал боле. Говорят, в снегу умирать желанно.
Другой бы, наверное, не подумал отыскивать страдалицу на задах, в огороде. Лишь отец мог понять дочь, ее умысел и пойти по наитью. Таисья лежала на снежной целине, слившись с нею, уже припудренная инеем, и лишь алые намышники на исподней рубахе выдали женщину. Как побитая, кинутая всеми собачонка, свернулась она клубком и не ворохнулась даже, когда, скрипя по насту, шумно явился Петра. Он поднял дочь на руки, подивившись ее заматерелости, и понес в дом, как чужую, незнаемую женщину. Что и куда подевалось от прежней Тайки, алой клюквины на белом снегу, которую он так любил, бывало, тетешкать на колене и подыгрывать ее радостному заполошному смеху.
Петра повалил Таисью на печь, укрыл тулупом: но дочь стала биться, срывать окутки. Скоро взялась она крутым огнем и впала в горячку.
За неделю до Рождества бабушка Соломонея приняла от нее мертвенького. Явился староста, засвидетельствовал: крохотный сморщенный кусок плоти, ничего пока человечьего. Завернули в холстинку, пошел Петра на огород, работнику не доверил. Смеяться, поди, будет, а то и пхнет просто в снег, а там растащат, разорвут собаки. Схоронить надо, предать земле, откуда попытался взрасти росток: проклюнул на свет полдневный, а сил не хватило укрепиться, подуло засиверком, и свернулась травина, скоро осыпалась прахом. Все из праха, и все в прах. Не на кладбище же нести, не долбить же мерзлую землю на жальнике, но и скотине не бросишь на потраву: суеверно и боязно.
Пошел Петра на зады избы на репища[65] , снег лопатой убрал, пробил пешней дырку, как дупло в закаменелом древесном теле, и укрыл нежившее тельце в землю. Внуком бы оно могло быть, бегать по земле, баловать и тешиться, за сохой бы встал, надеей, укрепой вырос бы и глаза бы закрыл матери старой, как пришла бы пора ложиться на погост. Все могло бы случиться, кабы не судьба, кабы Бог досмотрел и вдохнул дух в сморщенную багровую плоть.
Заровнял Петра могилку, скрыл снегами недозрелый плод, коий скатился с ветки до времени, подточенный скрытной плодожоркой.
И отчего-то заслезился Петра Афанасьич, – может, снегом подбило глаза? – но такое было чувство, словно себя схоронил. И смерть своя вдруг представилась совсем близко.
Но пока не настигла старуха с косой, дал себе Петра Афанасьич тайный обет, который надлежало вскорости исполнить.
Глава седьмая
Свищут ветры, седые клочья облаков разметая по небу, вьются зимними тоскливыми полями, вихорем встают над луговинами, заметая одинокие следы, тешатся над сиротливой лошаденкой, едва пробивающей след, путают ноги, заливают сырою водою заиндевелые ноздри, и оттого тужится, хрипит кобыленка, с трудом протаскивая розвальни.
Шепчет, шепчет сам себе зазяблый путник, а то и закричит то ли кобыленке, то ли духу своему на укрепу, а голосишко не толще посекшегося волоса; и подхватит его ветер, кинет в забои, в слепые снега – и пусто; ни ответа ни привета на весь мир. А зябко, а хладно, совик не спасает, в тобоках ноги стучат, как два песта, ничего уж в них живого, а в теле жилы стянуло, будто балалаечные струны: сейчас сбренькают и запоют. Тпру бы крикнуть, брюхо подвело, надо лошадку остановить, но губы не слушаются: заморозило губы, завязало язык, и что-то вроде стона вытянется из почернелой глотки.
Какое царство теней и стужи; кажется, насквозь окована земля и никогда уже ей не оттеплеть. И человечишке ничтожному нет спасу на сем миру, не укрыться от хлада, не сберечь бренную, жалкую плоть, едва прикрытую одежонкой. Так и кажется, как беспутных шальных тараканов сживет Морозко людей со свету и на расплод не оставит. Ан нет, не под силу это ему. Поморянину бы угол добро конопаченный, да каравашек ситного, чтоб не переводился, да на мясоед, коли удача, баранью похлебку досыта, да коли грош завелся, чтоб разговеться косушкой водки иль стаканом мадеры.
И вот он, Сочельник: снег шелестит, почти невесомый, он будто бы не спадает с небес, а подвешен на длинных нитях, и едва уловимым дуновением полдника раскачивает его, и нет этому движению конца. И тихо так, точно сама мать-земля за снежными полотнищами прислушивается к чреву своему, где идет пробужденье, где зреет-выспевает весна. И посту край, конец капустным щам и киселям, редька обрыдла, репа в горле стоит, так мясца захотелось, скоромного, смазать утробушку, что ссохлась, будто заячиное горлышко. Рожай, рожай, мать-земля пресветлая.
Вышел Петра на порог сеней с ложкой киселя, выплеснул на двор, сказал:
– Мороз, мороз! Приходи кисель есть. Мороз, мороз, не бей наш овес, лен да конопли в землю вколоти.
Не потерялся, не зазевался, не замедлил нос свой сунуть прохиндей Клавдя, нынешняя последняя надея и сердечная Петрина утеха. Если припомнить, от Павлы затеялся он когда-то как забава, без всякой надежды, азарту и умыслу, и смотри ты, на пустом месте зародился головастик, коему прозванье – сын. Нажористый, дьяволенок, за столом мечет пуще взрослого, характером – вьюн парнишко, на месте не усидит, часу лишнего на полатях не выспит, зря ноги не растянет, палкой не уложить, и упаси Боже, чтобы реветь, захлебываясь соплями.
Вот и сейчас сунулся:
– А это че, это че? Приманка иль обманка?
Все в деле, в заделье каком-то, такой ли оголец, все чего-то мудрствует, напрягает умишко, словно бы постоянное соображенье живет в человеке и не дает покоя. От такой породы обыкновенно иль широкой, деятельной натуры выходит человек, иль, напротив, атаман-разбойник лютых кровей, у кого в мирной жизни что-то не сладилось, и оттого душа как бражный лагун: не дай ходу хмельной силе, тут и затычку в потолок.
Уши у Клавди лопухами, прозрачные, и как бы сквозь светится тонкая кожица; такое чувство: вот заведи мальца в самую темень, их и там узришь; волосы мышиные, с зализом на макушке; один глаз светло-зеленый, другой – темно-серый; в общем, пестрый парнишко, с постоянно полуоткрытым от любопытства ртом.
– Закрой хлебало-то, – бывало, заметит Петра, осердясь, – ворона залетит.
– А я ее сырком съем...
– Ну ты и гаденыш! – поймет намек Петра.
И так весь разговор, по какому бы поводу ни завелся он. Будто бы игра старого с малым, но порой злая, и не раз уже испробовали Клавдины ягодицы деревянной каши.
– Ну, дак как каша наша? – спросит Петра, уже не сердясь.
– А каша в самую пору, маслица бы конопляного ленуть, – ответит сын, протирая рукавом набухшие, но непролившиеся глаза.
– В следующий раз разбавлю березовым соком, – пообещает Петра, намекая на березовую вицу.
– Только пожиже, а то скусно больно.
Ну что с таким арапчонком попишешь: рассмеешься только и руками разведешь. А в сердце досады ни на мизинец, но лишь непонятное теплое веселье, незнаемое ранее. Сын, так сын и есть: то тебе не девка-аржануха, житняя колобаха, у которой ум впоперечку, а чуть обнадейся, она тебе такую плепорцию устроит, что и в жизнь не расхлебать.
В Сочельник отмякло чуток, снегами отбило каленый мороз, попритушило, но все одно опасно лошадей к майне гнать, поить скотину из ледяного корыта: ненароком охолонут, прохватятся, будут черева тоскнуть. Потому захребетнику надо воду греть да кобылиц в денниках поить.
– Смотри мне, чтоб лошадей на застудить. Уши пообрываю! – кричит Петра с крыльца, намереваясь и сам быть в конюшне: для того серый холщовый кабат[66] натянул поверх меховой потянушки.
– Не впервой, бат, сам знаю, – отговаривается конюх.
А Клавдя рядом с отцом стоит, как приказчик, и пальцем грозит:
– Как чирьяк раздавлю, посмей-ко на худо!
– Петрухич вонькой... От горшка два вершка, а туда же морду воротит... квашня косорылая, – бурчит работник, но не настолько громко, чтоб услыхали: кто знает, куда жизнь повернет. А захребетник с хозяином не борись, норов свой смири и гнев утишь, ибо как поведешь себя, таково и счастье твое. Да и сейчас полегче, пока зима: лошади в обозе, на Канин ушли за навагою, там с аргишей[67] перегрузят на подводы дерюжные кули с рыбою и, пока дороги не растеплило, отправятся до Москвы и Питера, до тамошних торговых рядов. А ходу туда поболее месяца...
Утром в сутемках с фонарем ходил Петра в конюшни, сам корму надавал, сам и напоил. В полдень его снова туда тянет: тепло там, живым духом пахнет, хрустят сенами жеребые кобылицы, всхрапывает застоявшийся жеребчик в деннике, и глаза его сияют, как два полураскрывшихся росных цветка. Посоленную корочку сунет Воронку, и тот, будто младенец, едва коснувшись бархатной губой, сияя фарфоровыми нестершимися зубами, подберет горбушку с жестяной Петриной ладони; словно колонковой кистью мазнут вдруг по крестьянской душе, и станет вдруг отрадно и покойно. Жеребчика-то взял на Маргаритинской ярмарке по большой цене; долго обхаживал, глаза оставил, нездешних, невиданных кровей был Воронок. Головка маленькая, бараньего склада, шея лебяжья, глаза бирюзовые, с глубокой искрой, уши острые, ноги сухие, хвост трубой. Сон можно потерять, раз увидевши такого жеребчика. По зубам подсчитал: по седьмому году, лошадь в самых соках. Сам гнал, под Холмогорами едва от конокрадов ушел, под Пинегой только случаем от снегов заполошных оборонился, когда застала его в дороге поносуха, и двое суток высидел Петра в береговой расщелине у реки, топил в котле воду, выпаивал, отхаживал Воронка, чтобы не пропал. Черный жеребчик, смоляной, как темень ночная, со звездой на лбу, где белая шерсть слегка кудрявит. Разбирал то волосье, думал отыскать шрамы, ан нет – родовой талисман. Рождается же на свете такое чудо: выбросил на одном замахе восемьсот рублей, как от сердца оторвал кровоточащий кусок, наверное, впервые в жизни так забылся, так потерялся мужичонко, что и вся предстоящая жизнь не в жизнь, коли не будет подле такой животинки. Только провел по прямой, как столешня, спине, тут и отозвалось в груди, как бы умер от счастья, так перехватило горло. Нет, что ни говори, подобной радости не доставляют даже самые красивые и достойные люди, ибо они полны умысла и неясных желаний; и только лошадь, почуявшая однажды твою доброту, будет бесконечно тебе благодарна; ни зависти в ее сердце, ни свары, ни гордыни, ни злости, ни униженности. Она такая вот, какую ты хочешь видеть. Словно бы обнаженная душа к душе приникает, когда влажные, мягкие щекотные лошадиные губы касаются твоей руки, а дрожь атласной горячей кожи, струящаяся по упругому, подобранному телу, невольно переходит в тебя и укрепляет слабеющие жилы...
Лошадник Петра Афанасьич, записной лошадник, на сто верст в округе знакома всем его страсть, из-за коей он худо может причинить ближнему, коли заступить на дороге: мужик настолько любит лошадей, что готов весь мир превратить в поскотины, средь которых паслись бы табуны. Кабы не иные какие дела, кабы не гордыня человечья, поселился бы Петра Афанасьич в деннике, кинул бы в ларь с овсом овчину, сверху бы принакрылся одевальницей – и как бы хорошо тут дневать и ночевать под хрупы и вздохи, когда кисловатый слегка, напитанный лошажьим потом воздух струит в тебя, как живая вода, и обновляет тоскующие черева.
Прошелся Петра Афанасьич по стойлам, хотелось знать, как впервые поработал нынче припускной жеребец: масть-то у него дивная, стати королевские, хвост трубой, шея свечой, но каковы-то ядра, какова мощь. Хотя чего грешить – не сдался, особой слабости не выказал, по две садки на день, но ни разу понурой головы не увидал у него Петра: столько охоты в груди, столько ярости, столько огня. Не выплеснешь коли – сгореть можно. Приходилось жита молодого давать, чтобы охладить Воронка, притушить азарт боевой.
У какой кобылы крестец впал, брюхо опустилось – ту и на расстоянии видно, что не порожняя; к иной утробе, чтоб без ошибки, Петра ладонь прикладывал, там, где вымени быть, шевеленье слушал, ибо на седьмом месяце, коли есть жеребенок, он себя выкажет; в матери надоело лежать, сердешному, на волю просится. Нет, не сплоховал Воронок, не зря на лбу светлую звезду носит. Ни одна кобылица в холостых не осталась.
Сын Клавдя неотступно следом, руки за спиною, как большой, и, что Петра ни сделает, тут же и повторит; горбушку из кармана добудет, круто подсоленную, обласкает волосатую кобыленку-мезенку с прогнутой спиной, – знать, с молодых лет рано впрягли в работу, и поддала хребтина, – брюхо ей ощупает, готов ухом приложиться к утробе, где бьют токи иной жизни; и хвост-то подымет, не брезгуя нисколько, осмотрит, и ноги кобыльи проверит, не засели ли копыта наземом, не забились ли трухою. И тут же очистит, навоз из стойла выкидает, если работник не поспел, свежей ржаной соломы накидает, в колоду воды дольет... Ну оголец, глаза разные, а все видит, даже сам Петра эким не бывал. Да про Петру, пожалуй, иной сказ, он-то из самой лядащей захудалой семьи вышел, где впору было с зобенькой[68] ходить по миру; он-то заугольник, примак, он во чужой двор пришел, да только своим норовом и выбился в люди. «И у червяка этого моя порода? Смотри как выказалась! – изумится порою Петра, с неожиданным умилением для зачерствелого сердца оглядывая серую головенку сына. – Мать-то, бывало, корову доит, а Клавдя у ней под брюхом ползает и не боится, что наступит скотина. Все норовит к вымени припасть. Зазевайся баба, а он уже присосался».
Вот и нынче прижмется Кланька к вислобрюхой лисьей кобыленке, будто мать обнимет, и весь вздрагивает, от пяток до макушки, и полнится той радостью, которая выказывает душу, склонную ко всякой животине, лишь бы живым теплом от нее доносило. «Может, о матери скорбит, по матери томится?» – подумает Петра и неожиданно завиноватится отчего-то, смутно припоминая кулемистую, кроткую Павлу и в лошадиной вислогубой морде вдруг замечая что-то бабье, доброе и терпеливое. Все судороги жизни как бы проходят мимо таких существ и никак не запечатлеваются в простеньких серых глазах, окаймленных сивыми ресничками, будь то человек, лошадь иль корова. А вид-то один, что за вид: заплетенная рыжая челка (наверное, опять Кланька баловал), и толстая развалистая грива, опущенный живот с набухшими жилами, уставший рожать, и безвольно отпавшая губа, обнажающая пожелтевшие зубы... Может, за терпение и любил Петра лошадей? Иль за покорство? За отзывчивость, когда даже крохотная толика добра не пропадает втуне? Но упаси Боже ударить, ожечь плетью: когда и случится, так после же себя и исказнишь да поскорее ржаной горбушкой и покроешь лошадиную обиду. Ой, не выходил бы из этой дремы, тихости, сумрака, ибо здесь, в конюшне, он сам по себе, – не мужик-каяф с зачерствелым сердцем и лысой больной головой, из которой лезет проклятая шишка, похожая на костяной рог, но маленький дитешонок, еще не выпавший из гнезда, еще за пазухой у мамки-татки, когда позади все счастливо, а впереди лазорево и туманно, но не менее радостно и вольно. Что там мамка с таткой, они не указ, у них своя судьба, своя и упряжь: схлестнулись, везут, надрываясь, воз, да не той, поди, дорогой. Там мыслилось-то, так... Есть ли на миру (порато интересно знать) хоть один парнишонок, что не любил бы лошадей: то, поди, не робёнок, а камень-голыш с лаптем вместо сердца, когда все скрозь течет и ни одна кровинка не засвербит в груди. «Знать, все ребятенки одинаковы, коих даже напересчет не взять, – вдруг решил Петра, с теплой грустью присматриваясь к сыну. – Знать, все от рождения одним елеем мазаны. Сколько чертополоху лезет из души, сколько дурнины, сколько поганого пламени из утробы. Я-то агнец, не я ли один и сохранился в чистоте, – вдруг подумал о себе с гордостью. – Сколько через меня людей укрепу нашли на земле на матери, скольким корму дал, пропитанья, скольким род продлил. Я-то перед Господом не согрешил, чужого не взял, кровищи не пролил, в лености не пребывал, табачиной черева не опоганил, нищему в куске не отказал, не пожадничал – не позавидовал, на чужую жену не позарился, пашню попусту не заращивал, зверя зазря не губливал... Ну покопаться ежели, грешок-другой сыщется: не согрешишь – не покаешься, без стыда рожи не износишь».
Не сочинял, не врал перед собою, искренне верил Петра, смутно видя исход свой, себя проверял на слово и мысль. Ну, ежели и был, случился какой грех, так неужели работой каторжной не замолил? Килу ведь нажил, грызь сосет, и без опояски шагу не шагнуть.
Приуныл, задумался Петра, было такое чувство, что мысли покаянные лезут через темя, щекочут кожу, выпирают овчинный треух. Кланька беспонятливо глядел на отца, томился в безделье; он уже обежал пустующие стойла, а сейчас гнедой кобыле кулаком грозил шутки ради, лошадь задирала морду и несердито скалила еще молодые, нестершиеся зубы. Уши острые, назад завалены: злая кобыленка, злая, может и за нос хватить мальчонку, ульешься тогда слезами. Памятно Петре, когда мерин однажды куснул за щеку, непонятно за что осердясь, и летел мужик сажени полторы, а после долго лежал на земле, трудно приходя в себя, и не знал, смеяться ли ему иль гневаться. Ну пасть так пасть, хорошо, зубы оскользнули, и осталась на щеке лишь кровавая полоса.
– Ну ты, прохвост, не балуй! – остановил Петра сына и осмотрелся вдруг как чужой.
Позавидовал Кланьке, что тот молодой еще, сосунок-стригунок, и ой как долго ему летать луговинами приречными, трубой задрав хвост. А он, Петра, для чего убивался, на что мытарился, люди добрые, чтобы все по смерти оставить кому-то? Потому и колотился рыбою об лед, что хотел на вышине быть и перед народом прочим шапчонки не ломать, но чтоб каждый пал ему в колени иль смиренный взгляд уронил. Есть ли выше и сладостнее чувства видеть себя на высоте, когда каждое слово твое как перст указующий. Но вот вошла в тело грызь, присогнула плечи, повыпила телеса, вытончила жилы, высушила глаза, и киса кожаная, набитая деньгой, уже не подымает дух: такое нынче у Петры состояние, будто сам он готов каждому пасть в ноги, и уже дерзко и зорко, как прежде, не задрать головы. Был орелик – да сплыл, стал будто кукша вонючая. Взять да, почуяв близкую смерть, день ее и час, и пустить пал; ярый огнь все съест, подметет начисто. Иль ночью тайно войти с топором да и посечь все живое, развалить кобыльи мяса, залить жаркой кровью, да тут и кончиться самому. Ведь как худо, когда тебя не будет, а все прочее останется. И этот приемыш будет жировать, есть-пить, пальца не приложивши к нажитому. И Петра с плохо скрытой злобой прикрикнул на сына:
– Ремня захотел, черное мясо?
– А чего она уросит[69] ...
Тут в соседних яслях жеребец призывно заржал, вскрикнул гортанно, зазывно; он вскинул маленькую голову, блеснули в сумерках улыбчивые лазоревые яблоки глаз.
– Эх, брошу все к едрене-фене да махну в степя коньми торговать, – вдруг с тоскою воскликнул Петра. Столько нетерпенья и небывалой горести было в голосе, словно тут же и собирался мужик исполнить обещание: шапку об пол, да охлупью[70] на коня, и, турнув его пятками, вынестись на простор.
Но двенадцатилетний Клавдя холодно осадил отца:
– Степя тебе, степя... Там тебя каждый цыган объегорит. К коновязи приструнит за ноздри...
– Замолчи, гаденыш...
– Гады-то ползают, а я на своих двоих, – не отступал Кланька, входя в азарт. Может, полусумрак конюшен распалил? Парнишка вскарабкался на заборку и оттуда болтал пришивными катанками, словно бы играл над отцом.
– Застегну, – грозился лениво Петра, – перья повытряхну... пущу по Владимирке.
– Пымай сперва, ты пымай. А я отмашку дам, – смеялся Кланька и скалил зубы: восторг, похожий на хмель, вдруг овладел им. – Я нынче пест, а ты ступа. Пест ступу переест.
– Негодяй, змей подколодный! – Черная бешенина застила глаза. – Застегну, – вопил Петра Афанасьевич, и в нем на мгновение вдруг явилась та прежняя лютая сила, с какою он, бывало, ставил жеребцов на коленки, схвативши за удила.
С неожиданной прытью подскочил к обнахалившемуся сыну и, как шишку еловую, сдернул Кланьку за валенок. Тот, услышав близкую беду, однако, упрямо хохотал, но смех его звучал все натянутей и тоскливей, когда Петра супонью примотал его руки к столбу и сурово спустил штанишонки.
– Ярись, чего замолк-то?
– Всякому своя ж... мила. И неуж, батяня, лупцовки дашь?
– Молчи, сколотыш! Загунь, скотина худая...
– Бей, бей! – взвизгнул Кланька. – Чего сробел, бей наотмашь! Но ужо...
И вдруг, чего не ожидал Петра, завсхлипывал сын, залился горючими слезьми. У мужика и руки опустились: заднюшка жалкая, костлявая, мосолики выпирают, как у зайчонки. Один гонор, а тельцем-то как худой житный снопик. И сам Петра зажалел вдруг сына, чего прежде не бывало, но для острастки ожег парня чересседельником, с протягом проехался, так что прорезался и вспыхнул алый рубец.
– Ну и как, славно?
– Слав-но-о, слав-но-о. Лу-пи-и, ба-тя-ня-а! – давясь слезами, выл Клавдя. – Но ужо...
Ох, не в мать пался, не в мать. Та смиренна была, запряг – и поезжай, словечком не вскинется. А тут крапивное семя, что Яшка, то и младшой. Сейчас не приворожить, после покажут: ох, не пришлось бы наплакаться через них. И за этим Кланькиным тоскливым «но ужо» вдруг открылась Петре бездна грядущих несчастий. Не умереть так просто, не умереть, как бы не належаться пластом, горькою сиротиною, как бы не нахлебаться слез.
– Ты вот надо мной смеешься, а у меня, может, талан, – оправдываясь и виноватясь, сказал Петра. – Может, талан на коней. Какая жисть выходила, а я сжег через вас. Ты оглянись, сучий сын, живешь ведь как королевич. Какая жизнь досталась. А я тридцать лет спины не разгибал, пока-то выпрямился. Ан грызь – и все. Эх, Клаша, Клаша, кислый ты подчеревок, волчий малахай.
Но Кланька молчал, задумчиво уставясь в крохотный проем волокового оконца, куда струил морозный воздух. Вдруг нагнулся, подставил ягодицы гнедой кобыле, и та послушно, охотно стала зализывать ожог на пупырчатой коже. Кланька вроде бы забыл обиду, ежился и похохатывал от щекотки:
– Ой, чекотно, ой, чекотно!
– У меня талан, – тупо повторял Петра. – Ты не гали, ты не смейся, выродок... Лошадь-то не собака. Она повыше кума-свата и родного брата. Лошадь что баба, без изъяну не живет. Ты слушай, слушай, песий малахай, рыло не вороти, хитрого из себя не строй. На каждого хитрого свой хитрован козни строит. Плут на плуте стоит и плутом погоняет.
Повлекло Петру на словеса, потянуло: только смерть близкую чуя, вдруг так затомится человек, и потечет из него искреннее слово, кое не понять и не принять даже, столь неожиданно оно; просто человек распахнуться хочет наизнанку, устав от одежи, обнажиться на посмотрение, дескать, глядите, печищане, эвон я какой, и душа-то моя не вовсе протухла от кривой жизни, не похожа на гнилую баранью печенку, золотится в ней и светится, но коли что и вершил дурное, замывал ближнему зубы, прохиндейничал, то вовсе не от скотской моей натуры, но по великой нужде лишь и привычке дурной. С тем-то и открылся, братцы-миряне, чтобы память обо мне не потускнела, как забытая на наблюднике медь, чтоб не ушла в землю назьмом, но чтобы сияла в вашей будущей жизни как крохотный венчик лампады под образом Спаса. Смерть не минуешь, не объедешь, но только ужасно не хочется скрываться в жальнике с душою чернее смоляного навара...
– Нарожал баб, а что с них? – вдруг без явного повода сказал Петра. – Это как коровий послед прочь выкинуть. А ты мужик у меня, мужчина-простофиля, коваль. Ах ты Боже...
– Да, коваль тебе. У тебя покуешь. Руки-то отмотай, гугня лешева.
Только тут спохватился Петра, что сынище его разлюбезный, Павлин подарок, стоит прикованный к столбу. Освободил от привязи, штанишонки из пестряди сам натянул, завязал потуже гасник. Подумал: век прожил, а за дитею не ухаживал; росло на стороне, как семя чертополоха, а в нем, оказывается, таилась и его, Петрина, радость. Приобнял мужик Кланьку, залез рукою в армячину, нашел худенькое тельце, и вдруг запрудил дыханье живой горький ком. Едва проглонул – так взволновался.
– Бедолага ты мой, бедолага. Чего ж ты молчал?
– А сам че, слепой?
– Выходит, слепой, – заморгал Петра. – Талан, талан, распелся соловьем, – упрекнул себя. – А парня чуть не проморгал... Но и ты цыть, шшанок! Чтоб без натуры, понял?.. Ну и лихой же народ ныне пошел, скажу тебе, – протянул задумчиво Петра, вглядываясь в стойло, где мирно вздыхала кобыленка, с томлением и тревогой ожидая грядущего освобождения. – Не видал я более лихого народа, чем барышник. У него, знать, у собаки, искус такой – провести ближнего, навесить дюлю на нос, на его слезах возрадоваться. Без обману дня не прожить. Во народец, скажу! Думает, проклятый, ежели без пороку, без изъяну животинка, так чего ее продавать? Дескать, нет того антиреса. Ему антирес, собаке, а мужику слезы. Ему счастье так глаза ближнему задурить, чтоб тому медная полушка сошла за руль... Но и ты, покупщик, коли у тебя голова на плечах, а не кочан капустный, так ты пошевели умишком, тряхни норовом, верно? Так себя направь, чтобы не клюнуть сердцем на похвалебное слово. А он, барышник, мастер стелить, колокола лить, ой лихой же мастер. Повидывал я на веку всяких; такую паутину на уши навесят, так глаза умаслят, таким елеем задурят... Поддашься – и пропал ни за понюшку, верное дело. Во двор заведешь кобыленку, радый безумно покупке, дак будто от сна восстанешь. И вовсе, оказывается, не восемь годков твоей лошадишке, а все шашнадцать; волос седой над глазами повыдерган, чашки на зубах вытесаны в кузне долотом, и только сейчас ты разглядел рубцы, а на самом-то деле зубы уж давно съедены; в глазах туман, и едва Божья искра высекается, оттого и пуглива кобыленка, что не знает, бедная, куда брести ей; и ноги-то у нее в шишках и наростах, а барышник, долго не лукавствуя, перед тем как продать, провел ее по грязи; да и ленива-то она от старости, замордована, и только потому веселой виделась на базаре, что хозяин, перед тем как сбыть, хорошенько выходил ее кнутом... Вот как проснешься на своем подворье, так и заревешь дикими слезьми. И тогда, сколько ни казни себя, по всему выйдет, что ты глупый дурак на весь белый свет...
«Ой, сколько держивал лошадей, – подумал грустно Петра, внезапно замолкая. – Гнедых и вороных, горностаевых и чалых, сивых и чубарых, рыжих и саврасых, буланых и пегих, красных и лисьих... Но ни одна барышная душа не могла закогтить, ибо у меня на скотинешку четвероногую, будь она неладна, талан. Ведь бывало же, что барышник мне меринка с пороком сбудет и руки потирает, радостный, но не знает, собака, что я тот изъян сразу разглядел, но нашел иное, к чему бы прицепиться, да цену-то и сбил... Взять Лыску. У нее, у дьяволицы, уши назад. Может, характером нервная? А может, спотычливая, иль пуганая, иль хворь утробная. Но гляжу я таким порядком: глаза живые, искрят; ноздри сдавил – запала нет, ни сапа, ни мыта, из носа по-худому не течет. Барышник, он ведь как. Дрочит лошадь, не дает ей покоя, и чем ленивее она, тем больше горячит, голову задирает, вертит, ни минуты чтоб спокою... А ты лошаденку успокой, проедь, опустивши поводья, дай ей волю. Только тогда и узнаешь, горяча она иль ленива, каков у нее ход, хорош ли рот, не урослива ли, как удила принимает. А уж коли глаза у лошади печальны, то настращал ее барышник, напугал... А после и на поводу заставь пробежать рысью, погляди, не переливается ли она задом, не хромает ли да как голову несет. Слабая лошаденка да старая, та головы не держит, шею тянет, а ежели когда и подымет морду, так у нее сил нет держать, у сиротины. Она все как бы милостыни от тебя просит... Вот и я нынь, как худой мерин, в запале и мыте, и голову мою клонит: натерло хомутом, натерло. Прежде-то был как конь необкладенный, все горело во мне. А тут Петрухич, мною же обласканный, щенишко, на меня тявкает».
– Ты слышь, Кланька... Ты больше на меня голосу не подымай, – вдруг попросил Петра сына. – Ты к уваженью-то привыкай.
Глава восьмая
Маленькая рыбка лучше кислых штей.
Как отдавать за Калину Богошкова, сказал отец Евстолье: «Стерпится – слюбится». Ночь выплакала девка, думала, и часа не ужиться: экий старый да бородатый. Ляг с эким в постелю, так волосьми защекочет. Правда, и сама не первых соков, не цветочек аленький, уж старая дева, можно сказать, и не было в Дорогой Горе парня, который бы загляделся на девицу. На ней, скажут, черт горох молотил: вот и все разговоры. Где уж там до сватов. Некрасовитая была Евстолья, не зоревая, росою не мывалася на веку, по Рождество не гадывала, на Покров снежок не полола и в зеркало не глядывалась. Да и когда глядеться было, коли хозяйства – воротить не выворотить: с чугунами да ухватами наломаешься, около скотины убьешься, на поле пуп сронишь, на сеноставе жилы вытянешь. Старшей дочери в семье – не рай, орехами на закормят, конфетами не усластят, да ежели обличьем не писаная.
Это нынче поняла, не старый был Калина, а седатый, телом будто невидный, но жиловатый: шея, как кочедык березовый, твердая, на излом не шла и гнуться шибко не любила. Как за каменной стеной была за мужем-то, такому затулью-завитерью любая баба позавидует. Не сглазил ли кто? Не наложили ли прикос дурной? Мало ли завистливых людишек на миру, коим чужое счастье, что рыбья кость в горле. Вроде и самим от чужого горя не особый прибыток, но так и норовят пакость устроить, ибо от посторонней радости завидное сердце чернеет, сажей исходит. Не случайно говорится: нет хуже зависти, завистливый да жадный у черта в помощниках.
А он, Каменушка, взял да и пал на каменном острову: не навестить его, не приветить и могилку не обиходить. Вот когда поняла Евстолья: маленькая рыбка лучше кислых штей. И если оглянуться назад, то оказывается, и стерпелось, как говаривал батюшка, и слюбилось, раз сына вот нажили, Глеба. Сын в семье – это как самородок найти: едва из пуза вылез Богоданный, уже надивщик, можно сказать, четыре десятины землицы на душу выложь да подай. Растить бы сына и радоваться, но словно бы язва моровая пала на семью; и не просто рухнула она, источилась, но с бесчестьем. Еще Донька в арестантской сидел, а мир постановил уже изгнать парня из Дорогой Горы, а имение его передать по долговой записке Петре Афанасьевичу Чикину. Покойный Калина триста рублей забирал у Петры взаймы, чтобы выгородить сына от службы, но отдать сполна не пришлось; смерть не подождала, скосила косою. Насчитали всего имения богошковского на семьдесят шесть рублей да пять гривен, а остальной долг кто покроет? Не зря говорят: деньги в долг давать – что терять. Раз наследников более не осталось и не на кого расписать остальной долг, решено было родовые чищеницы и пожни отдать во владение Чикину. Лишь малый Глеб был помехою в сем деле, его-то наследства не лишишь? Но и тут Петра Афанасьевич на кривой обошел.
Явился однажды к дочери и без обиняков, будто брезгуя даже посидеть на лавке и с внуком поиграться, отрубил:
– Евстоха, доколь тебе захребетницей жить? Я уж стар, на меня ныне надея плоха. Ты слыхала, Евстоха, во мне червь. Ест и ест поедом, собака. Я-то его ну ублажать, чего ни запросит, а он меня на кулак, он меня ну мотать-выматывать. И смерть ко мне приходила во снах, как кошечка, во эка, – развел руки с аршин длиною. – Ну, может, чуток помене. И два рожка во лбу. И говорит мене, говорит: я смерть твоя. Ну, я и отвечаю смиренно: коли смерть, то погоди грызть. У меня дети не устроены, худо живут.
– Ой, папенька! – воскликнула Евстолья. – С коей стороны кошечка приходила к вам? Коли с правой, то к нажитку.
– Брось, дура, брось! Когда кошечка была к нажитку? Какое было, ты прожила. Не смогла удержать, просеяла сквозь пальцы, чего ж теперь?
– Ты по мне-то, батюшка, не болей. Я-то перебьюсь-перемаюсь. Богу, знать, угодно пострадать.
– Ну, Евстоха, тресковая голова. Я тебе, можно сказать, щасье принес в руки. Только крепко не обнимай, как объявлю. Здоровье у папеньки худо-нахудо. Так слушай: в Мезени есть домок, я откупил. Поезжай-ка ты, Евстоха, в тот домок, будешь жить-поживать да просвиры в церкви печь. Да и жизнь-то там не в пример: станешь с мезенскими барынями чаи-кофеи распивать да орехи шшолкать. Ну чего ж ты не радуешься, корова!
– Ой, батюшка-а! Как и высказать? Да пошто ты меня в землю заживо кладешь? И куды-то меня и го-ни-ишь? – завыла, запричитала, пробовала поймать отцову ладонь, оросить слезою, чтобы до сердца прожгло.
– Цыть, дура, тресковая головизна! – вскипел Петра. – Со временем в мещанское звание запишут. Это ж как манна с неба. А я от вас когда ли добра дождусь? Паду-то на койку, дождусь ли тогда из ваших рук хоть мусинки – каши житней похлебать? Воды не подадите, не што иное.
Как подкову ни мни – калачом не станет.
На трех лошадях Евстохино житье повезли: на первых санях рыжий зять, волосы кружком, лицо постное. Тешил зло на тестя, но невольно, обижаясь на все чикинское отродье, втихомолку ругал примак и Евстолью. На днях опять столкнулся с Петрой, зло сошлись грудь в грудь, дескать, давай делиться, вот и дом дочерний пустует. А Петра наотказ: есть, мол, да не про твою честь. Заробь, тогда и рот разевай, заугольник. Зачем было обижать? Нет бы тихо уладить дело, насулить что, наобещать золотые горы, а далее жизнь покажет, с кем ругаться, а с кем брататься. И не оттого раскричался Петра, что примак делиться захотел, но от бессилия своего вскипел: понял, что укатали сивку крутые горки, своими руками разросшееся житье не удержать, протечет сквозь пальцы, впустую рассыплется. Ах ты Боже! Добила жизнь, доконала: как средь бела поля с чужих саней слез. Впервые понял вдруг, что без подпорки не прожить; и как ни утешай себя ныне, но втайне-то понимаешь, что не хозяин ты, не большак. И оттого, что унижаться приходилось перед рыжим мосластым примаком, до дурноты разгневался Петра и не однажды пригрозил даже. А на зятя замахиваться что на мельницу о двух поставах дуть в безветерье: у него самого кулаки как две сохачьих лопатки. Кричал Петра, а будто жалости вымаливал:
– Почтения требую! Едино, что почтения! Коли заслужил человек – поклонись, пади в ножки, не возьми за стыд. Как-то норов надо отметить, верно сказать. Пошто ныне за стыд почтение-то отметить! Ты склонись, не переломишься, собака, килу не наживешь. Трудно картуз скинуть, повеличать! Да в глаза-то не гляди, не гляди, собака! Все так и норовят, чтоб глаза бесстыжие уставить, бельма-то свои собачьи. Ах ты пропадина. А ты в землю, в землю, да выю-то согни, от стыда еще ни один не пропадал. Стыд-то поперек красоты выведет, он куды выше любого талана. В ком стыд, в том и совесть. А ты молчи и грудь не выпячивай. Я еще кое-что смогу, смогу и салазки, и в трубу скакать.
Кричал на зятя, а видел всю жизнь свою окаянную: так полагал, что над всякой нероботью, над каждым тугоумным он в вышине, ибо чего достиг, трудно подумать. Каяф ныне, первый мужик на деревне. Из примака, из заугольника в первые каяфы заступил. С пустой-то головой разве возможно? Ой не повезло на зятьев. На меньшую, Тайку, была надея, с нею свои планы плановал, когда так полагал, что в самом Архангельске каменную лавку откроет на Торговой улице и в купеческую гильдию запишется. А то бери и выше – в престольную, в красавушку. У него ли не талан! Но Тайка, горемыка-горюха, отщепок запоздалый: как с тобой не заладилось, знать, черт сторожил, когда из мамки ты выпала. И не открестили тебя, не отмыли. И неуж на девятый день бабка Соломонея худо размыла родильницу, а я денег пожалел кинуть в кувшин, и оттого, видать, тоскнули у повитухи руки, и она в обиде навела на девку отказ. И рожалась не как все, мамку-то вымучила, как худую скотину, и выпала из родовы нежданно, когда через хомут протянули бабу: голова в волосье белом и глаза зеленей березового листа. По глазам-то его, Петрина. Ой, Тайка-Таиска, я ли тебя не величал, я ли тебя не баловал. Сама свою судьбу сыскала, а нынь как мне: «Татушка постылый». Спасибо, доченька, неизбывное спасибо за оплату... Может, в новом доме заживете по-людски? В новом-то доме стеколки цветные, в нем по утрам разные солнца светят, и вдруг твое солнце придет и загостится. Доколь в кушной избе жить, сажный дым глотать, волоковые оконца соломенными обвязками закрещивать. Поживи как барыня. Думал-то что? Ведь думал: внука принесешь, будто новой жизни схватишь, а там и потянет на ребятишек. Главное – начать. Ведь как хорошо, когда много обабков по лавкам: катаются, собаки, ревут наперебой: «Мамка, ись, мамка, ись!» Ведерный чугун с мусинкой на стол, пусть лопают. Грешная каша – сила, житняя похлебка – жизнь. Я-то бы команду наковал, кабы не жена-постница. С худой рожалкой попалась, с худой: будто казенник у ружья заело – и ни в какую...
Ты воспрянь, Таюшка, воспрянь, не рви душу. Не на Доньке же клин сошелся! Ты не чинись, смири гордыню. Вот оно без почтения-то как: одно худо. Пропало почтение к старшему – и жизни не сочинить. Послушалась бы, что старшие велят, – не случилось бы экой напасти... Если какая напасть на нас, если она поедом ест, то оглянись на себя и увидишь, как ты кругом виноват. Что и не послушлив был, и в гордыне сердце свое попустил, и возмечтался Бог знает о чем. Как воспротивился человек против смирной жизни, так, считай, язву на душе нажил. И будет она жечь, выжигать человека. Все беды кругом от нашего непослушания лишь.
Евстоха-то против отца ни словом, ни полсловом впоперечку, но все одно, не вышел Петра проводить дочь, не подтыкал под ноги меховую полость, щеки ее не оцарапал колючими усами, внука не осенил на дорогу благословением, ведь как-никак, но из отчего дома изгонял, не спросясь: надышал проталинку в окне да как в прорубь и подглядывал, уставясь на двор зеленым притушенным хворью глазом. Зять будто чуял Петрин догляд, постоянно косился на то окно, часто сплевывал и, что не водилось за ним ранее, без особой нужды бил лошадь по храпу. Правда, легонько, но хлопал, подтыкал мерина по атласным закуржавленным губам. Знал, собака, Петрину слабость, хорошо знал и тем самым словно бы намекал на что дурное. Но Петра стерпел и, когда сани тронулись, сам закрыл ворота подворья и уже по-хозяйски обошел чужое, ныне опустелое житье Калины Богошкова.
Со всех сторон, как мнилось Петре, окружала его людская худая зависть, и надо было обороняться от нее. Но чужую кознь в засаде не пересидишь, и, коли душа не может пребывать в тихости, надо настраивать ее на приступ.
Чужую кознь лишь своим умыслом притушить можно, ибо на тихом человеке злодей воду возит.
А если желание есть покуражиться, то и повод сыщется.
Зиму высидел Петра в Дорогой Горе как за семью запорами, барсучьим да медвежьим салом отваживался, но под Троицу Евстоху навестил. У нее застал соседку Прасковью Жукову по прозвищу «Коптелка», известную на Мезени сплетницу-переводницу. Лет двадцать назад ее били батогами, как подручницу Мишки Клобукова, покравшего из церкви серебряный ковчежец да серебряную же лжицу, два шелковых плата (литона) да из жестяной кружки доброхотный денежный сбор. Три же года тому за распутную жизнь с Федоткой Ванюковым и «за зарытие в землю на острове Брагине якобы мертворожденного ребенка» выдержана в тюрьме десять дён.
Разбитная бабенка; ей под сорок, а она мужиками вертит; на вид худорылая, тельцем как рюмочка, на правой щеке родимое пятно с голубиное яйцо, в шелковом платье немецкого покроя, на голове шелковый же плат повязан столь хитро кустышками, что надо лбом как бы два заячьих уха стоят. Шибко не пила, не ела, хорошо, если чашку чаю напусто приняла, а как захмелела – и в глазах сизый туманец. Петра даже поогляделся, не спрятала ли Евстоха кавалеров в горенке; да нет, куда ей, кособокой, тут же успокоил себя. В синем пестрядиннике да черном повойнике сидит на лавке будто кулема: разве кто позарится на эку красу. И даже рассердился-пообиделся на дочь, что она такая уродина, словно ее вина в том. А у Коптелки в ушах два дутых золотых колеса, а над висками два черных завитка, и она, греховодница, волос тот слюнявит да накручивает на палец и на Петру сорочьими глазами стреляет. Казалось бы, чего ей до Петры? Правда, и не старик летами, но лицом желт, и борода до пояса. С бабой своей не спит, это верно: уже по разным постелям валяются. За сорок мужику, – значит, веку жеребячьему конец, пора душу в чистоте хранить: так поморская вера велит. Покудесничал, полюбезничал, по бабьим юбкам пошарился, грехов натворил, а теперь замаливай, сердешный. В посту ныне Петра, в суровом посту, и женским духом его не опьянишь. Как от табаку, что выращен из чрева блудницы, отмахнулся, на версту не терпит дыму, так и от женского отродья наубег... Но не поглядела, собака, что у гостя борода до пояса и сединой побита, но в самую душу проникла, где черт ночует-блудит. Крохотный такой чертик, не более рукавицы, но мужику не дает должного сердечного мира.
Домой ведь собиралась Коптелка, но, как появился Петра Афанасьич, будто к стулу примерзла и все врала, лила колокола, молотила с три короба, сплетница-переводница. А все обиды были на Сумарокова: узнал тот через мещанина-кисереза, что Коптелка рубила в лесу без разрешения, и мало того, что отобрал дрова да посадил на трое суток в холодную, но ведь какой стыд, Петра Афанасьич, какая позора, миленький, повязал меня супостат на одну веревку с бабами-развратницами. Не сам вязал, конечно, дело, он ручек не опачкает, такой барин-антихрист, но повелел десятскому Минкину, а тот, злодей, нисколько не чинясь и не входя в мое одинокое положение, повязал меня на долгую веревку и водил по Мезени, как распоследнюю распрости Господи, которая под красным фонарем промышляет. Мстил, нарочно измывался, потому как она, Прасковья Миколавна, честная женщина, почти из благородных, и не далась ему, грязаве кушному. Вот как над ней, одинокой женщиной, силу свою выказывают. А трудно ли, великого ли труда стоит вдове горюшка причинить да обесчестить?..
Петра согласно кивал головою: да и как не пожалеть, хотя бы словесно, одинокую бабу, у коей нет притулья и защиты и любой, у кого сила да власть, может вдову беззащитную на позорные дроги кинуть и повезти на всеобщее обсмеяние, когда каждый, кто схочет, прилюдно пальцем ткнет и обзовет распаскудным словом. Разве тяжело на дармовщинку пожалеть? Ты сейчас пожалей, не скупись на доброе, ласковое слово, а после, когда-нибудь, отзовется и пригодится твоя недорогая доброта. И вот прижалел Петра Афанасьич легкомысленную вдовушку, о коей вести ой как далеко растеклись, но сам, однако, подумывал потаенно: «Чего глядишь, стерва, чего досматриваешь, кабыть чего я должон? Ох собака, ох Лиса Патрикеевна, не ровен час, посватать на себе хочешь? Ведь мужик если с деньгами, так его и девки любят».
Евстоха переменчивым взглядом из-за самовара на подругу выглядывала и вдруг утыкнула недобрым словом:
– Ты, Парасковьюшка, не печалуйся. Я для тебя-то дроги позорные без промедленья выдам.
Петра с недоумением взглянул на дочь, и та заторопилась объяснить:
– Ой, татушка, запамятовала. Дак знаешь чего? Открыли намедни торг с переторжкою, не согласится ли кто хранить палаческие дроги да эшафот. Холера бы их забрала. А у меня пустой сарай. Думаю, чего зазря месту пропадать? И согласилась хранить за десять рублей годовых. Как учил тятя: без гроша рупь не живет. А тут как на дороге нашла.
– Твоему сынку не привелось бы на тех дрогах-то ехать, – посулила Параня и обидчиво собрала губы.
– Дура, дак. Дурой рожона, так до смерти. На дороге-то что ежели найдешь, дак после вдесятеро потеряешь.
– Ой, татушка! Да за што гнев-то?
– Постегать бы тебя, да палки жалко. Зря ломать о деревянную ступу.
– Я и говорю, подруженька... Как бы твоему Глебушке не пришлось на позорной колымаге ехать, – повторила Прасковья, снова завивая прядку волос на палец и косясь на Петру.
Еще прошлым летом довела Ивана Шишова до того каленого состояния, что средь ночи полез мужик к Прасковье в окно в самом непотребном виде, а вдова с ним сражалась с ухватом, и в гневе побил Ивашка все окна у легкомысленной бабы. В каждом людском скопище сыщется не только дурак и юродивый, голова в высокой шапке и наипервейший лежебока, у которого бока к печи примерзнут, а он и не сдвинется, но и найдется та азартная бабенка, что станет подпускать своего подручного дьявола-любостая к самому каменному сердцу; и не столько из женского интереса какого, а чаще из любопытства, из игры, чтобы испытать свою прихотливую, непонятную силу. А тот, Ивашка Шишов, потому и оказался в обиде, что в двери бился-колотился – не открывают ему; полез в окно к любезной сударушке, прежде не раз допускавшей к себе, – а тут ни в какую: на отпор – и все, в глазах полымя драконово, в руках рогач сажный, на губах ни одного ласкового, обнадеживающего слова, до которых особенно была щедра Прасковеюшка. Знать, поздновато попадал Иван из кабака, припозднился, сердешный: не знал, не ведал он, что уже другая шапка висит в то самое время на можжевеловой спичке у порога. Хмельной мужичонко побаловался лишь, унял досаду и норов на чужих оконцах, и ему даже оправдываться не пришлось, лишь построжил становой пристав да и отпустил с миром. Но Прасковьюшке, когда дознание вышло, пришлось отсидеть месяц в Архангельском тюремном замке. Вот тогда-то и привезла она из губернии немецкое платье, чулки шелковые с подвязками, порошка нюхательного и черепаховую табакерку с вензелем на крышке. Не из прибытку какого любила Паранюшка многих мужиков, но из любопытства лишь да от скуки: уж очень хотелось узнать ей, как устроен этот странный народ и нет ли меж их, мужиков, какой-либо разницы. А они как на одну колодку кроены, грубы и заносчивы, чуть что не по ним, сразу в гнев, в морду норовят, и нет никакого тебе ласкового обхождения. Боже мой, Боже мой, какая скука... Кто знает, может, хотелось Прасковеюшке жизни иной, непохожей и такой особенной любви, от которой бы сердце истаяло бы вконец: даже и лопнет – леший с ним, для такого раза и сердца не жалко, лишь бы случай явился. Тем более что торопиться надо, поспешать, уходят зрелые, соковые годы. Может, втайне мечталось ей узнать барина-землемера, то и крутилась возле: какие у него ухоженные руки, какая детская шейка с намытой кожей, и белокурая челка, и кудрявые баки, и длинный чубук, оправленный медью, и долгий бухарский халат... А он, длинношеий, и глядеть-то не хотел, да мало того, еще в арестантскую засунул.
– Мужика с деньгами и девки любят, – внезапно сказала Паранька то, о чем Петра только подумал. – Ой, Петра Афанасьич, заворот ума. – Вспыхнула гостья, замалиновела, но простенькими серыми глазками нахально и зазывно сверк-сверк. Ох ты, протобестия.
– Если про меня, то пустое, – внезапно смутился Петра.
Его-то зазывными глазками не прошибить, подумал. Странное дело, вот далеко ли от Мезени Дорогая Гора, а будто уж вовсе иная земля, и тамошние народы вовсе другие. Взять, к примеру, чаев там или кофиев и в помине нету, или чтоб тебе чепец на голову, как прощеголенка, иль маркизетовое платье, хотя и у нас есть люди при деньгах, может, и более при деньгах сыщутся, чем мещане. Но не позволяют себе, не позволяют, и экого нахальства у баб наших не сыщется; разве что девка какая пустоголовая перед венцом побегает, перед кем и раскинется украдкою да парня в дом принесет. Это не диво. Тем более парня: это будто самородок найти. С парнем-то сколотным девка не засидится, живо замуж ускочит. Может, от отца родимого попадет шелопов, накидает батюшка горяченьких, заголив платье, исполосует уступившее заневестившееся тело. Но тут, на Мезени, вовсе иные манеры, тут и со старыми людьми говорят, глаз не опустивши долу. Как с ровней, будто и непочтенного возрасту. Ой ты Боже, ой Боже! Сам с собою порассуждал Петра и даже головою покачал. Знать, с заморских стран бесстыжие ветры. Шатается Русь, шатается. И прежней веры нет. Вроде бы от Параньки табачным духом несет. И неуж насмелилась?
Надо бы грозою напуститься на гостью, но отчего-то сердце словно взыграло. Потянет его и отпустит, потянет и отпустит. Знать, с дороги томит. А Прасковьюшка, эка тебе стерва, вдруг задрала шелковое платье, где-то в укромных местах порылась – стыдобушка-то, ой, – и достала черепаховую табакерку с вензелем, да нос укупорила табачищем, и ну давай чихать и давиться слезами. Евстоха будто бы брезгливо сморщилась, а глазенки-то мышиные горят, самой хочется запретного спробовать.
– Ой дерет, ой пронимает. Пуще вина. Как любушка целует. Мочи нет. Ну и забава! Ой забава, дак! – пристанывала Параня, а Евстоха отчего-то тоже вдруг принялась дурашливо, внагинку хохотать, да кланяться, да бить по коленам, и слезы в два ручья.
Ну не диво ли? Одна нюхает, но и другой сладко.
И снова не заругался Петра Афанасьич, не поднял голоса, не одернул пустосмешек, но отвернулся к окну.
Тут в окончину постучала молодая девка, по толстым губам так вовсе ребенок: лицо широкоскулое, клюквенной алости, глаза собачьи, преданные, с синей окалиной в белках. На животе зобенька берестяная накрыта холстиной. Христарадница, по милостыню пришла.
– Ну что тебе? – окрикнул Петра и открыл окно. Евстоха живо кончила смеяться, зачем-то руки отерла о костыч, скоро перегнулась через отца и подала краюху житника, со стола куски да грош залыселый.
– Это Никиты Тярина девка. Кимженска. По кусоцькам ходит, – пояснила, наблюдая, как тяжело, увалисто идет по улице христарадушка. – Вот мала годами, а как баба. Вот сколь ествяна.
И вдруг подумалось и сразу все сообразилось в Петриной голове: «Любостай-то мой падок на ягодку. Он норовит сорвать, не даст выспеть». И повеселел, залоснился лицом.
– Вот растет, проклятая, – пожаловался на шишку на голове, осторожно погладил ее.
– Лишний ум выходит, – польстила Прасковья.
– Какой там ум. Умны-ти по другой цене идут. Нас-то связками за грош.
– И не скажите, Петра Афанасьич, – не отступала гостья. – Ум, поди, он как квас. Портиться начнет и сразу пузыри дает.
– Да и то верно. Куда было тратить? – согласился Петра. – Прокисли мозги-ти, прокисли. В медвежьем углу живем, на краю света. С моим-то умом, конечное дело, ворочать бы капиталами большуханскими.
И тут же подумал: «Если страшишься плюнуть вражине в лицо, то постарайся, чтоб другие харконули». И внимательно, оценивая, с особой пристрастностью вгляделся в Парасковьино скоро меняющееся обличье: то туманцем скорбным омыто, то солнцем будто вызолочено, то луной-молодиком овеяно. Ой, переменчива баба, переменчива: оставил на ней знак свой антихрист, оставил. Вон он на щеке, будто голубиное яйцо. Вот век прожил, а не баловал, не игрался с вольной женщиной. У них, поди, все по-другому исполнено, они другую любовью знают, что хмельней зелена вина. Если бы не таили чего иного, разве бы тянуло мужиков? Вот Параньку возьми: ведь как ворона худа да черна, ни кожи ни рожи, а как приворотное зелье. Знать, иной скус. Вот ягоду рвешь, зеленицу, иль груделую[71] , иль спелую, – разный скус, уж не спутать. Так и малину с черницей не сравнить... С Павлой-то я, бывало, блудил, так то своя, деревенская: это как бы водицы испить, никакого хмеля, тем паче безумья. Поистратишься, да и забудешь... Десять лет терпел, бабы не знал. А тут дьяволица супротив, ведьма на помелище, так и мечет глазом-то. Тьфу-тьфу и помилуй.
Но вслух, однако, спросил, слегка морщась от боли:
– Ты вот, баба, слышь? Животы там шшупать ино чего, говорят, мастерица? А меня червь съел. И тоскнет нутро, и тоскнет. В баньку-то приди нынче, баба. Не пообижу. Ты приди, – не то просил, не то настаивал Петра.
– А поче не прийти, Петра Афанасьич. Мне ль кобениться? Мужик с деньгами, так и девки любят, – подмигнула Паранька.
– Деньгами здоровье не устроишь. Грызь черева ест.
– Попьешь травки изгон, и всякая дурь вон. Приду, искуситель, явлюся...
Следующим же днем и случилась банька, где состоялся меж ними сговор без чужих глаз.
Намытый и ублаженный Петра Афанасьич навестил Благовещенский собор и положил двести рублей ассигнациями на вечное свое поминовение. Загодя мужик расставался с душою, загодя пекся о ней.
Глава девятая
Господи, тоска-то! Положительно некуда себя деть, а впереди день. Воленс-ноленс, представишь, что ты мучной червь с мокрыми глазами, ничтожный белый подоенный выползок с красной головою. Да и как не червь-то, коли в пах пнул господина ничтожный раб, а сейчас желвак там и тянет, спасу нет. Убить бы мало, на месте стоптать! Так я же червь, у ног раба пресмыкался на торжество низменной души его. И все от самонадеянности вашей, разлюбезный Никита Северьянович. Чтоб не унизить себя, чтоб не пасть в глазах черни conditia sin? qua non[72] диштанцию соблюсти непременно надо. А я чубуком его, чубуком пронять хотел, руку поднял и тем унизился. Но куда слаже и потешнее, когда раб сечет раба: и в этом своя прелесть... И все эта дыра виною, она и самого-то благородного из благороднейших затопчет в грязь. Воленс-ноленс, в скотину вырождаешься, ибо желаний много, а где исполнить их, где возможно прельститься, возрадоваться и тем скоротать время. Сколь длинна, оказывается, жизнь и сколь никчемна она... И скука-то, Боже мой. И пойти некуда развлечься, кругом подлец на подлеце, негодяй на негодяе. Одно веселье нынче, что исправнику по шапке. Воистину судьба распоряжается особым образом, чтобы вовсе не сойти с ума в дикой туземной дыре... А разговоров-то, перетолков! Ай да Пушкарев, ай да исправничек. Заработал славы наш титулярный советник. Горек хлеб насущный, но горька и наша слава, коли приведется она... Но каков скотина оказался, каков скотина!
И манеры вроде бы, и лоск, мастак пыль в глаза пустить, и судит все. Однажды пари изволил заключить со мною: дескать, я, Никита Северьяныч Сумароков, уездный землемер, никуда без его дозволения не тронусь из Мезени. И выиграл пари: приказал гребцам, сукин сын, не везти меня. Иначе, кричит, в каталажку, сгною там. Ну а кто правит, тот и едет... Пришлось, однако, ставить прохвосту дюжину шампанского.
Но и тебя, исправник, сгубила жадность, жадность к добру не приведет. Ты бери взятки, бери, коли можешь, да и как без них проживешь, но ты не зарывайся, полет свой понимай да меру блюди. А главное, знай, на что тебе недоброхотное подаяние, кое ты, быть может, через слезу вырвешь.
Но, однако, какую грозу навел Пушкарев, какую смуту, ежели до Петербурга докатилось. Вот как ты хошь суди, скотина скотиной, но и смелости в нем не отберешь. Правда, не по уму, не по чести зарвался. Может, и не хватило-то таланту на гривенник иль того меньше, поддался – и разом все прахом. Но ты подумай, туземцы сколь предерзки. Два года тому отказались ехать под Мезень строить мост, дескать, тягостно, дорог нет, ни верховых, ни колесных, путь в семьсот верст неодолим; да скотский падеж случился на ту пору. Он-то хитер, Пушкарев, нашел способ в чужую мошну залезть: кто за семьсот верст поедет киселя хлебать, вот и откупались зыряне от дорожной повинности. Но тут заартачились и просимую сумму не выкладывают. Тогда исправник губернатору донос, так и так, мол, ижемцы производят противу власти бунт. Губернатор выставляет у архангельского собора триста человек войска с двумя пушками. Преосвященный отслужил молебен, и начался поход. Слава Богу, что государь прознал да остановил сие войско на Усть-Ваге, и приехал по следствию генерал Крузенштерн. Потом-то и открылось, кто не знал: не тридцать ли возов пушнины присвоил Пушкарев, а денег – несчетно. За непомерное лихоимство сослали исправника в Сибирь, а губернатору де Траверсэ подыскали иное доходное место...
«Вот она, матушка, прихоть наша: знать, превыше всего утеха; даже самый ничтожный червь, видать, живет на земле ради блаженств, может, и не подозревая о том. – Так размышлял Сумароков, возлегая на измятой постели, от коей еще не выветрился ночной дух, и, азартно раскуривши чубук, опустелым, скучающим взглядом провожал немыслимое дымное облако. – Вся беда наша в том, чго чувства, кои суждено испытать в утехах, весьма скоро притупляются по одной лишь причине – что не забываются они, не истираются из памяти. И воленс-ноленс, приходится изобретать что-то новенькое. Острота нужна, искус, приправка, горячительное, чтобы кровь живей бежала, а иначе сдохнешь от скуки. Но исправник-то сквалыга и какой-то черт, однако: налихоимничал, а распорядиться деньгами не мог. И оттого еще больше дурак».
– Графинюшка! – крикнул Сумароков, закидывая туфлю на туфлю и заслонясь пахучим дымом. – Гра-финюш-ка-а, вели подать мне рюмку пикадора.
За дверью засуетились, но долгонько никто не показывался, и Сумароков уже начал раздражаться, когда появилась экономка, особа из местных, лет двадцати пяти, недавно взятая в услужение мещанская дочь Глафира Крапивина. Она вошла в барскую крохотную спаленку, шумя великим множеством туго накрахмаленных юбок, и сразу запахло сыроватым заневестившимся телом; на девке было ситцевое немецкое платье из лавки Шевкуненко, низко декольтированное, откуда туго выпирали груди, на руках перчатки с обрезанными пальцами. Лицо у Глашеньки круглое, мясистое, с наивными серыми глазенками и туго приглаженными русыми волосами, намазанными мусатовскою помадой. Может, помадою так и запахло дурно и душно, что разом перебило запах чубука. На вытянутой руке, стараясь ловчее и поизящнее ступить, экономка поднесла серебряный поднос с конвертом и хрустальной рюмкой, наполненной французской ординарной водкой. Когда она ставила поднос, прикусивши от усердия клюквенно-яркую губу, Сумароков с невольной брезгливостью отметил ее неприятно пухлые пальцы с грязными ногтями.
– Графинюшка, ручки-то мыть надобно.
Девка сконфузилась и залилась краской.
– Ну Бог с тобой... Ступай! – приказал Сумароков. – Но я же требовал пикадора!
– Пикадору в лавку не завезено, – откликнулась Глаша, поддерживая непонятную для ее ума барскую игру...
То пикадору ему, то рокомору, то лупиньяку. Глупости одни, чтобы лишь ввести в краску порядошную девицу. Нет бы сказать: водки хочу. Сам, кроме водки, и знать ничего не хочет. А голову-то кружит, кружит, вот и грудя приказал наружу выставить. А сам-то, прости Господи, как раздевулье, ни парень, ни девка. А такой подтыкало, так со словами-то и лезет, в чужие дела суется. Все на смех ведь, чтобы на смех ее, Глашу, поднять.
«Сюда бы, на Мезень, эскадрон гусар кровь бабью разбавить. Закисли, одним словом. Пренеприятный, однако, народец», – подумал Сумароков, проводив взглядом шумно шелестящий крахмальный колокол, душно пахнущий мусатовской помадою, и, чтобы заглушить неприятный запах, погуще затянулся табачиной. Залпом выпил рюмку подслащенной водки, взял с подноса конверт, уже зная от кого, лениво достал письмо, но сразу не развернул, а понюхал на сгибе золотообрезную бумагу, ощущая легкое дуновенье розовой воды, которой было спрыснуто посланье. «Ах, Натали, Натали, – подумал Сумароков с легкою насмешливою грустью. – Какой куриоз, какое, однако, несчастье. От счастья нашего остался лишь запах пармезана. А все папенька».
«Ангел мой Никитушка, – писала дочь бывшего исправника Пушкарева. – Ты совсем забыл меня, чем заслужила такое невнимание, право, не знаю. Мне, кажется, я всем жертвовала, а ты посмеялся.
Ах, прости, прости, любезный! Разлучили нас с тобой, Не забудь меня в разлуке, Не пленися здесь другой.Хочу напомнить, что завтра мы с маменькой уезжаем отсюда насовсем. Желала бы в последний раз увидеться с тобою тайно. Но городок такой маленький, где бы нам уединиться? Прости, прости, что в отчаянии так неделикатна. Я решительно тебе не могу ничего сказать, кроме того, что Бог с тобой! Ты лишил меня покоя, теперь думаешь о другой! Почему вы нас избегаете, сударь? Неужели только оттого, что я так легкомысленно и безоглядно отдалась в вашу власть? Боже мой, Боже мой! Знать, мне за любовь останется одно страдание. Ангел Никитушка! Так как вы любите поцелуи, посылаю их в этой записке целую кучу. Распечатывайте осторожно, а то растеряете. Не теряю надежды еще увидеться с вами. Любящая вас Н. П... По прочтению записки непременно сожгите ее».
Что-то похожее на досаду, легкую горесть иль вину поначалу смутило Сумарокова, но, чтобы не разбираться в своих нынешних чувствах, он тут же решительно обиделся на девушку, столь откровенную и легкомысленную в своей переписке. Она сети вила, а он, Никита Северьянович, не угодил, и в этом, впрочем, своя прелесть. Куриоз, однако, какой куриоз... Несчастная девочка, прелестнейшее, шаловливое существо. Как из богемского стекла отлита, хрупкая, насквозь видна. Но, впрочем, все в прошлом, все в памяти. Скушно. Эта ее претензия возражать всему, скрывая глупость. Явная глупость ей бы более к лицу. Но ежели ножки взять, личико – все, однако, прелесть. И стоны эти сквозь стиснутые зубки. Еще не поцеловал, а уже стонет. Противно, однако.
С необыкновенным удовольствием, как бы освобождаясь от лишней памяти, Сумароков скомкал записку, набросанную изящным почерком прилежной гимназистки, и сжег ее, неотрывно сквозь прищур ресниц разглядывая пламя, в котором медленно прорисовывалась грудка пепла, похожая на гроб. Властно и решительно он распахнул окно и сдул золу во двор, поросший топтун-травой. Напротив, на втором этаже флигелька, тут же, будто по команде, распахнулось окно, и в проем вылез до пояса зять хозяина дома Ефим Окладников, рыжебородый, толстолицый мещанин с заспанными хмельными голубыми глазками. Он назойливо, с излишним любопытством заглядывал сверху в спальню землемера, словно бы что хотел уловить запретное, чтобы тут же разнести сплетню по Мезени, но ничего интересного не нашлось, и мужик тяжело и сочно зевнул, тут же перекрестивши рот. Сумароков раздраженно вспыхнул, захлопнул створку и задернул штору.
Ну как тут не киснуть, коли свежего порядошного человека съесть норовят: каждый полагает за фалду зацепить да чтобы этого порядошного раздеть, оголить на посмеяние. Смейтесь! – хочется воскликнуть, а я перемогу. Воленс-ноленс, я здесь, но дай Бог укрепы, разумного настроя сердцу моему, а час мой грядет. Господи, ну скоты какие. Что от силы моей толку, коли употребить я не в способностях. Была бы придирка, а слона раздуть мы сами не свои. Все стряпчий Сутович, скотина, видишь ли, я не одолжил ему по случаю проигрыша пятнадцать рублей. Ему отыграться хотелось: на чужом кармане много охотников отыграться, а после получи с него. Обиделся, состряпал дельце, скоренько устроил. Выходит, нынче безобразнику и морду не причеши? А я против горцев под пулями хаживал, головы не склонял, труса не праздновал. И вот он, бумагомарака, сочинитель гнилозубый, от которого мертвечиной несет, он полгода вынюхивал, собака. Он, выходит, выслеживал, аки цепной пес. И выкопал, водянка бы раздула, вынюхал. А ныне по службе рапорт. Анны лишился, теперь изволь раскланиваться да оправдываться, виноват, мол, ваше высокопревосходительство. Копию дела прислали из губернии, распишись, мол, и будь доволен монаршей милостью, что легко отделался. Из мухи же раздули, из мухи...
Сумароков заново перечитал копию дела; какой-то бездарный писака не пером водил, а топором рубил; пера-то ему не зачинить, а тоже в писаря лезет, скотина. Все на даровой хлеб, всем бы за стол да в столоначальники... На рыхлой, зернистой бумаге какого-то коричневого цвета, словно бы из елового корья вытесан лист, косые, худо поставленные слова едва читались, и эта манера неизвестного делопроизводителя тоже выводила Сумарокова из себя: «Еще в июне тридцать седьмого года, идя по Мезени в партикулярном платье с охотничьим ружьем, встретил он, Сумароков, инвалидного рядового Михайлова и за то, что он не отдал ему, Сумарокову, чести снятием фуражки, нанес по лицу удар, несмотря что Михайлов оправдывался, что его не узнал, и притом имел в одной руке мешок с хлебом, а другою по случаю хромоты опирался на костыль. Следствием же доказано, что Сумароков наносил Михайлову удары рукою и вырванным у того мешком не один раз, и от того битья Михайлов находился в больнице девять дней, и, следовательно, землемер Сумароков в несправедливом гневе нанес битье без вины и повода.
И потому постановлено оштрафовать в пользу казны десять рублей серебром и взыскать в пользу рядового годовой оклад его жалованья 2 руб. 25 коп. и на возврат в больницу общ. приз. 3 руб. 37 коп.».
Значит, нынче балбеса и в чувство не привесть? Дорого же обошелся мне каждый тычок, не по пяти ли рублев. Да этаких-то денег негодяй и весь с потрохами не стоит. Вот так о жизни невольно раздумаешься и впадешь в тоску, ибо кругом канальи, сатанинское племя, ни чести, ни благородства... Вот того же городничего взять. Пьяница, да-да, пьяница и без малейших нравственных понятий человек. Успел за два месяца всем надоесть до того, что перед ним закрывают двери даже канцелярские крысы, что, однако, не мешает ему, сколь скоро предосторожность эта забывается, прорываться в дом и просить водки... А казначей, вы смотрите, что за казначей, ежели даже в Мезени, на краю света, он успел прослыть за образец дурака.
Возьмите опять же доктора: он отроду не прописал здесь ни одного рецепта, потому что ни одной минуты не бывает трезв, если же когда это и случится, то тотчас же бежит за своим рецептом обратно и рвет его. И ходит себе наш эскулап по нашей единственной улице, окруженный мальчишками и провожаемый их криками: «Шарик! Шарик!»
Судья же предпочитает, наоборот, вечное сидение в своей конуре и сочинение своих судебных приговоров, из которых еще ни одно не было никогда утверждено ни уголовной, ни гражданской палатой... Из второстепенных чиновников выдается один дворянский заседатель, пойманный на краже штуки ситцу в лавке. Другой же чиновник уворовал совик и вынужден был возвратить. Третий, из земского суда, постоянно что-нибудь ворует, но тотчас же и возвращает, коль скоро к нему пристанут. Однажды при проверке казенной суммы спрятал в рукав ассигнацию и был уличен... Это ли та публика, кою можно ставить в пример благородному человеку? Вор на воре и каждый пройдоха, отъявленный плут. Бежать, стремглав бежать в Россию иль туда, на худой конец, где я сам себе голова.
Тут дверь приоткрылась и на цыпочках, как бы замыслив дурное, а может, и было такое намерение, потому что Сумароков вздрогнул от внезапного протяжного скрипа двери, прокралась известная на Мезени бойкая баба легкомысленного поведения Параня Коптелка. Она так внезапно явилась на куньих лапках и с такой тайностью, будто хотела внезапно застать Сумарокова спящим и учинить над ним худое.
– Вас кто просил? – нервно вскрикнул Сумароков, запахивая халат и как бы загораживаясь от непрошеной гостьи. – Прочь, прочь, и чтоб ноги тут не было. Вам прописано дважды на неделю в лазарете быть для проверки, а вы здесь?
– Ваше благополучие, в мыслях не держу дурного. Поклеп все, ваше почтение, милый баринок, – с нарочитой робостью и дрожью в голосе протянула Коптелка, потупила глаза долу и затеребила в руках цветастый шелковый плат.
– Прочь, прочь, не хочу и слушать...
– Иду мимо, думаю, скушно же ему. Молодой баринок, холостякует. – Коптелка понизила голос, оглянулась и свистящим шепотом добавила, странно ужимаясь, дергая плечами и подмигивая сорочьими глазами: – А кровя-то поют... Кровя-то играют. А вы пост блюдете. Ваше высокоблагородие, не угодно ли вам, ваша милость, молодую девочку. Она тут, недалече, возле городничего правления.
Сумароков неожиданно засмеялся, он вдруг понял, отчего с такою пристрастностью подглядывает нынче из флигеля Ефим Окладников; вот и сейчас, будто бы ненароком, мелькнула в окне его огненная рожа; да и сам хозяин Шевкуненко весь день толчется в коридоре, будто забыл там что и словно бы подслушивает иль строит какую каверзу. Сумароков снова засмеялся и кивнул головою на стену, за которой располагалась лавка купца Шевкуненко.
– Не он ли и подослал, любезная сводница?
– Нет-нет... Господом Богом клянуся, – неожиданно сробела Параскева, будто увидала пред собою человека в сатанинском образе; да и как не дьявол-то, Господи, ведь с полуслова все прочитал, все выведал, будто сквозь зрит. Глаза проваленные, как в пещерах, неотрывные и прилипчивые. Куда легче, если вовсе от них прочь. – Как зеркальце чиста, глядеться можно.
– А ведь он подослал! – снова засмеялся Сумароков.
– Батюшка, барин, заступничек наш! – взмолилась Паранька, круто играя голосом, но духу не теряла, хотя, чего говорить, руки у землемера цепкие. Норовист мужик, крутоватенек, живо в холодную сдаст, где не столь давно трое ден просидела, как в преисподней, считая грехи и молясь Пресвятой Богородице.
– А-а-а! – торжествующе потряс пальцем Сумароков, радый забаве, что вот разбавил скуку, можно вихлястой бабенке нагнать страху, подпустить перцу в укромное место. – Маруха, сводня! Это ты давеча выбранила письмоводителя Ставровского вонючим секретаришкой? Вот сейчас же под арест! Прочь, ведьма, пока на веревку не повязал да не выставил на потеху. – Сумароков для острастки даже ногою притопнул.
– Батюш-ка-а, свет наш лазоревый, цветочек Богоданный, – неожиданно завыла-запричитала Коптелка, залилась слезами, вдруг стала платье на груди рвать или только порывалась растелешить себя. – Хотите, платом шелковым расстелюся, вехотью под ваши ноги паду. Вытирайте ноги об меня, только не гоните прочь. Дайте коснуться личика белоснежного, волосиков льняных.
– Сдурела! Чего мелешь-то! – даже растерялся Сумароков.
Такого уж никак не мог предполагать, эк куда кинуло бабу, в какой-то вертеп заманивает. Надо ж так обескуражить, что ни слова, ни полслова не сказать. И Сумароков с любопытством, будто никогда ранее не видывал жонку, оглядел придирчиво, с неожиданной похотью смуглое нервное лицо, блестящие вороные волосы, завитые на висках.
– Да ты не хочешь ли меня заразить любострастною болезнию? Сознайся! – вдруг спохватился и скоро проговорил он, пытаясь издали рассмотреть тонкую склоненную шею с тяжелым пуком волос, зашпиленных на макушке.
Сумароков испугался не на шутку, и пришлая женщина показалась ему особенно тревожной и опасной.
– Ой, ваша свет-ло-ость... Наше благо-по-лу-чие...
– Ну ступай, ступай, – с брезгливостью, нетерпеливо прикрикнул землемер.
Но едва успела выйти непрошеная гостья, как и Сумароков скоренько собрался, натянул вытяжные сапоги, поверх сюртука – плащ на теплом подкладе, покрыл голову пуховой шляпой, не забыл и трость, чтобы отбояриваться от назойливых собак.
Скоро Троица грянет, русальный праздник на дворе, а смотри ты, никак не распогодится, на улицах лужи застоялись, и через улицу, полную жирной грязи, где телеги скрипят и ползут по самую ступицу, не перейти без сапог. Где-то теплом тешатся, где-то сады отцвели, а тут изо дня в день тянет мозглым холодом, словно бы никогда и не быть лету. Река вот недавно вышла, ныне вешница[73] гуляла во весь размах, и посейчас еще льды лежат на поскотине, как уснувшие коровы. Но небо вразлив, синь режет глаза, и, пожалуй, сознаться стоит, нигде так не пахнет весною, как здесь: светлый негасимый день посетил закраек Руси. Все блестит под солнцем, искрит, взор щемит от небесного сиянья: не отсюда ли и грусть сердечная? Из-под угорья, с заречья, тянет пряным запахом просыхающих бережин, первой щекотной травки, заливающей зелеными озерами долгие приречные луга, смольем с низин тянет, костровым дымом; а сзади, с болот, терпкий багульник наступает на Мезень, цветущие заозерные болотины своим душным настоем залили окраинный городишко: задохнуться можно от этого настоя. Так хмельно светит и пьяно пахнет лишь на краю света. И на что чужой человек для этих мест Сумароков, но и у него душа вдруг потянулась и заслезилась, и почувствовал он себя русским до самых глубоких корней. Он спохватился и вдруг споро пошел, пошел угором, заворачивая все влево, самым закрайком, глинистой, красной тропою, будто напитанной кровью: ему неожиданно захотелось быть там, где едва ощутимо вспыхивали кострища по всей длине мутного ручья, где мужики варили смолу и чинили распяленные на катках лодки и карбаса, напитывали бортовины паклей и варом. Ладил народ посуду, чтоб скоро сдвинуться вниз по реке на камбалу и селедку, а там и семгу жди с моря, свежиной запахнет на Мезени, и в каждом доме закипит щерба из семужьих черев, а бочки с нельмой и чиром, гольцом и семгой полезут по сходням в раньшины и шняки[74] , шкуны и лодьи и водою уйдут на Россию. Жаркие дни приступают к мезенским мещанам, и крутиться им ныне, не зная роздыху, до первых снежных мух.
Бабы, что шли навстречу, почтительно кланялись, мужики уступали дорогу: главный земляной человек шел по Мезени; вдруг какая муха укусит, он тебе так намежует, что после зубы клади на полку.
Думал-то, быть может, к Натали зайти, она сейчас, поди, на клавикордах играет. Вся-то Мезень с версту, где разгуляться? Три церкви, присутственный дом, шесть лавок да три кабака. Но отчего-то квартиру Пушкаревых стороной обошел, пересек площадь напротив Благовещенского собора и безо всякой нужды осмотрел городничее правление: сбоку его стояла гнедая кобыленка с водовозной бочкой – пожарная лошадь, и на этой кляче верхом, свесив ноги на одну сторону, сидела здоровенная краснощекая девка с наивными блекло-голубыми глазами и пухлым улыбчивым ртом. Увидала барина и осклабилась, но тут же и вроде бы застеснялась, надвинула черный плат на глаза. Кобыла взмахнула грязным хвостом, ударила девку по загорелым толстым ногам. Та задрала холщовую замызганную юбку и лениво обтерла ладонью икры, однако не сводя взгляда с Сумарокова. «Эка дрянь, однако, ну и чучело», – привычно подумал землемер, испытывая некоторое смущенье. И в то же время практическим умом своим предположил: «Лет пятнадцать, поди? В какую же цену Коптелка сватала мне ее, такую госпожу?»
Солнечный день ненадолго пробудил праздник в сумрачной душе, но скоро и неожиданно потух, и сердце Сумарокова опять затомилось: он вдруг снова возненавидел и этот городишко, и край света, выказывая этим полнейшее пренебрежение, и зачем-то стукнул по водовозной деревянной бочке тяжелой тростью – та издала пустой утробный звук, а девка белозубо и понимающе улыбнулась. Но Сумароков отвернулся и ушел, не сказав ни слова.
Дом Шевкуненко, где землемер стоял на квартире, был, пожалуй, самый выдающийся на Мезени, в два жила, хорошо ухоженный, с косящатыми окнами и резными наличниками, с огромным двором, средь бела дня обычно доступным. Сбоку помещалась лавка с красным и съестным товаром, куда вело затоптанное, незавидное крыльцо. Сумароков хотел увидеть купца и сказать ему что-нибудь грубое за его дерзости, но видимых причин не было придраться, и землемер миновал лавку, парадным ходом поднялся к себе. В обширных проходных сенях было две двери, одна – на квартиру землемера, другая – в покои купца. И не странно ли? Едва Сумароков успел войти в сени, как из хозяйской двери высунулась нахальная рожа. Это что – догляд, досмотр? Какие-то лазутчики кругом? Предерзостный, однако, чванливый народишко... Этот Михаила, что выглянул, купецкий сын, вдруг однажды барина вздумал поучать, дескать, это нехорошо заниматься рукоприкладством, это не по-Божьи. Бог, дескать, завещал всех любить... Ну, собака, а тростью по мордасам не хочешь? Мигом облагодетельствую, свинья, только облизывайся. Вот и получи по вые, схлопочи по зубам, а после поди-ка в полицейский участок на хлеб на воду, чтоб неповадно.
С тех пор и замкнулся купец, в глаза не смотрит: знать, не может простить обиды за сына своего. А кто он такой, чтобы не прощать? Купчишка третьей гильдии, тряпишник, гнусный бессермен, линялый подчеревок, а тоже, гляди ты, с амбицией, со своей гордостью. Откуда что и берется! Не он ли и подослал ныне Коптелку, чтобы подловить и ославить меня?
«И отчего я стал такой бранчливый? Что меня гложет? – вдруг подумал Сумароков о себе, с тревожной тоскою поджидая длинный вечер, который надобно прокоротать. – Прежний-то исправник, конечное дело, скотина порядошная, но с тем, бывало, водочки графинчик разопьешь да и засядешь за карты до петухов... Эх, а сердце-то как бы зубами кто рвет».
Сумароков рано повалился в постели, светлая вечерняя улица гомонила за окном под незаходящим благословенным солнцем; лешакался, вываливаясь из кабака, пьяный мужик; где-то на угорье девки песню вели, высоко-высоко посылали вослед прозрачным пуховым облакам; во флигеле хозяйский зять пошумливал, не тая чувств, учил молодую жену новой жизни, и не понять было, то ли плакала она иль смеялась меж поцелуев, и каждый чмок лопался, как дождевой пузырь, будто возле землемерова уха. И тут безо всякой причины встала в изножье та девка из Дорогой Горы, которую однажды взял в санях, посреди снежного болота, в каком-то пьяном сатанинском угаре поимел, бессмысленно и грязно. Как пасть можно, в какую преисподнюю скатиться, но и в этой отраве есть сладость своя. Сумароков озирал девку с любопытством, ее русальи волосы до пят, глаза что зеленее вешнего березового листа, но мертвые, тупые, глядящие сквозь. Белая льняная, до щиколоток рубаха вздымалась, отплывала к порогу, утягиваемая легким сквозняком, но сквозь тонкие пелена намечалась темная странная пустота. И только тут спохватился Сумароков, что перед ним наваждение, чары, кудесы, мара, и пытался вскрикнуть:
– Сгинь, сгинь, нечистая! – Но губы не послушались.
Опять странно знакомое обличье смутно засветилось в изножье. И Сумароков закрыл глаза, боясь его; но оно просочилось и сквозь плотно сомкнутые веки. Не знал землемер, что отныне судьба его жить с этой неистрачиваемой памятью до смертного исхода, и придет даже такое время в его жизни, когда, прежде чем уснуть, он каждый раз будет вызывать в свою ночь этот больной, овеянный зыбким светом образ.
Сумароков еще долго воевал с расхристанными мыслями, кои никак не собирались в одну кучу, а потому и сон бежал...
Чем же я отличен от арестанта, закованного в кандалы? Тем лишь, что могу вольно ступить за порог да к тому же несу тяжкий крест службы. Поднадзорный, каторжник ничего не может, но и я не смею того, чего хочу? Ежели я хочу, почто нельзя мне того, чего хочу я? Кто может воспретить мне получить то, чего хочет душа моя и трепещет? Если не могу совершить, чего хочу, тогда зачем я родился. Одно лишь страшно: веселья нету, веселья, а я возвеселиться хочу, чтобы дрызг, вразлет, чтобы – ах! – и в пепел. Иначе закоим жить? А тут прозябаешь, аки скотина, и службы не бросишь, тянешь лямку за-ради куска насущного, для пропитания. Вези, Никита Северьяныч, каторжный воз на краю света, посреди идолищей поганых, вези, пока не отправят на живодерню. А куда деваться, куда? Деревенька в тридцать душ заложена-перезаложена, староста – плут и ворина, мужики – пьяницы и лень на лени, с них ни натуры, ни денег. Воленс-ноленс, служи, аки червь. Но бабочка уже не вылупится из того червя. Тут поневоле отдашь душу дьяволу за ненадобностью последней... Господи, прости! Все меньше вспоминаю тебя, ибо не несешь мне ничего, кроме скудости и тоски...
Глава десятая
Саньке Тяриной, лупастой, наивной лампоженской девке, никто не давал ее юных лет, столь щекаста была она, зорева лицом и тельна: ну, девка на выданье, хоть сейчас ставь в большом наряде в хоровод средь заневестившихся хваленок на посмотрение ухажерам. Была она первой у бедного мужика, а следом полная лавка насыпана; вот и выпроводил Тярин дочь свою на прокорм в Мезень «по кусоцьки» христарадничать, ходить с зобенькой по миру за милостыней, благо, город большой и всегда найдется жалостливый человек с голубиной душою. Пуста у Саньки голова, ветер гуляет в ней, весь мир просвечивается сквозь ее умишко, как весеннее разливанное зарево, и остается лишь веселый сполох смутной, неопределенной радости. Весело кругом, ой весело, так благостно жить, душе туго и тесно оставаться в сырой почке, и она норовит распуститься, и оттого всегда улыбчивы ее молочной бледности глаза, и зубы постоянно просверкивают сквозь созревшие губы. Идет Санька по Мезени, как шальная, берестяная зобенька на животе прикрыта холстинкой, редко когда скажет она невнятное слово и тут же засмеется сама себе, и невольно каждый печищанин посмотрит вослед и чему-то непонятно позавидует.
Вот ее-то, Саньку Тярину, и приметила для своего умысла Коптелка. В канун Троицы заманила блаженную в дом, одела в кумачную рубаху да поношенный ситцевый сарафан и белый передник, не пожалела и нитяных чулок да кожаных башмаков, толстую гриву русой волосни упрятала под платок и новела к землемеру. Перед тем долго толковала, плотно накормив девку, дескать, барин ее в кухарки приглашает, работа сытная, без куска не останешься. Только с барином не строжись да шибко не упырничай, коли он тебя обхаживать почнет да особые знаки внимания выказывать. Это дело, дескать, благородное, высокопочтение без ласки не живет. А как он приставать почнет да на худое коли кинется, так ты не смолчи, а реви пуще, как медведица, люди-то и прискочат. Санька слушала, улыбаясь себе, и прозрачные глаза ее светились. Да что говорить, хоть и запоздалая весна, еще ледяные коровы на поскотине не вытаяли, но все же весна.
Напротив купецкого дома мужики толклись, говорили насчет промысла, тут и десятский полиции Иван Рогачев, служивший по приговору общества, озирал площадь. Как увидели мещане Коптелку, одетую в короткую малицу, но простоволосую, с вороньей вертлявой головою, приободрились сразу, засуетились, довольно скалились, и разговор переметнулся на баб.
– Куда, Коптелка, торописсе? – крикнули почти разом, словно бы каждому хотелось, чтобы его голос заметила и отличила эта разбитная жонка.
– Да вот... девчоночку землемер затребовал. На смотрины веду. В кухарки норовит взять. Приодень, говорит.
Она подмигнула сверкающим бесноватым глазом, дескать, не дураки, сами крутите на ус, что при чем, и торопливо провела Саньку на белое крыльцо. И только они скрылись за дверью, как тут же из лавки явился незваный купец и, подойдя к зевакам, спросил:
– Не видали, мужики, что за девушку провела Коптелка к землемеру?
– Да, поди, не наша, – доложился за всех десятский, кланяясь и снимая фуражку. – Поди, верховьска девка-то?
– Уж больно молода. Постарше не нашлося. И эх...
– Дак ему, поди, не для того дела?
– А на кой ишо. Бесстыдник. На блажную позарился. Бог-то не простит, поразит его громовой стрелой.
Купец нарочито говорил громко, чтобы далеко слышалось. Мещане развесили уши, довольные новостью, охали, глаза навострили на белое крыльцо, будто ожидали чуда. Коптелка тут же выскочила одна, с распаренным лицом, пробегая, сказала лишь: «Ничего не видела, ничего не знаю!» – и умчалась.
Сумароков только чаю со сливками выкушал, еще чубук утренний не выкурил, а уж по Мезени понеслось: «Землемер христарадницу лампоженьску снасилил». А молва людская – деготь, скоро не отмоешься, не отскоблишься. Зять купца Ефим Окладников понес по соседям новость.
– Интересно, – говорит, – дюже интересно. Это что ж, думаю, за азарт. Как бы на худое не вышло. В замочную-то скважину тырк-тырк. А многое ли увидишь. Он девку-то в боковуху, да и повалил, знать. Слышу невдолге крики, помогите, дескать. Ах ты прокудник, думаю. Дитешонок ведь, ишо титок настоящих не народилось. Дверь-то толкнул за ручку, а она закрыта. Да с тем и отступился.
Досужие люди принесли весть к Санькиному отцу Никите Тярину, тот скорее в Мезень да на фатеру, где стояла дочь; стал расспрашивать, девка и созналась. Никита заплакал и больно высек Саньку, а после отправился к Сумарокову и сказал:
– Осмелился к вашему высокоблагородию прийти и спросить, точно ли, что приводила Прасковья Жукова дочь мою Александру в кухарки к вам или для чего другого?
Не выслушав дикого гостя с его безумным наветом, вспыхнул Сумароков, избил мужика тростью по голове, пустил кровь да вытолкал в сени, где Тярин закричал истошно: «Караул!» Его услышал хозяин дома Еремей Шевкуненко, вышел в сени из своих покоев, да зять его Ефим Окладников с женою сунулся в двери. Землемер крикнул десятского, приказал отвести Тярина в арестантскую и держать там трое суток. Через три дня с ямщиком Тярина отвезли в волость, но он невдолге же подал уездному стряпчему объявление в том, что дочь его, Александру, насильно развратил землемер Сумароков.
И закрутилось дело.
Сумароков всех свидетелей отставил, подверг сомнению истинность показаний, потому что они показывали без клятвы.
– И неуж безумец я иль потерявший ум человек! Примите это во внимание, что я потомственный дворянин, однако чтоб так пасть в разврат. И ради иронии лишь, вот предположим, что попутал бес, совратил: так неуж средь бела дня покусился бы я на блаженную? И темени бы не дождался? Экая любовь сладострастная охватила меня, право дело! Может, я косой, хромой да горбатый, что ни одна девица из благородных не посмотрит на меня? Коли захочу, лишь свистнуть, право дело, сразу прилетят. К тому, однако же, говорю, ежели бы такое напряженье случаем в крови... Но одного не пойму, за што-о-о навет!
Следствие тянулось до осени. Прасковья Жукова упорно стояла на своем, не открывая тайны, да некуда было отступать бабе: в какую сторону ни осмелься, везде пропасть. А случилось же тогда так: поднявшись на парадное крыльцо и скрывшись в сенях, Санька вдруг зауросила, несгибаемо уперлась руками в двери, и как ни боролась с нею Коптелка, но совладать не могла.
– Ду-ра-а! – шипела Прасковья и щипала девку за полные плечи, да с выкрутом, до посиненья, и смуглое лицо ее перекосилось от бессилья и злости.
Санька же улыбалась широко, скаля белые лопатистые зубы, словно бы все загодя понимала и сейчас играла с Коптелкой, потешалась над ее затеей.
– А я не хочу – и все. Тёта Параня, я не хочу, – бормотала девка, горбом выгнув спину, а после и вовсе лбом подперла дверь, оббитую войлоком. И вдруг заплакала, шумно сморкаясь, пыхтела, как корова.
У Коптелки спина жаром облилась от страха. Вдруг невзначай кто войдет иль землемеру невтерпеж захочется выйти на двор, а как тогда объясниться?
– Дура, дура набитая, прости Господи, – шипела Коптелка и била девушку козонками пальцев по затылку, так что голова у той гудела. Но тут же и смирилась, сообразила: – Поди, глупая, в купецкие покои да сиди смирно, не выкуркивай, пока знака не дам. Носа-то не выказывай, горюшко ты мое.
Наверное, с час высидела Санька в купеческой горнице, чай пила с баранками, орехи-гнидки щелкала, не столько съела, сколько за пазуху напихала: приведется ли еще случай в эком удовольствии побыть, ну как в раю. А как уходить, получила Санька от хозяина семь трехкопеешников медных, чтоб вела себя по наущенью да как допрос будет, чтоб от слов своих не отступала.
Может, стряпчий что сообразил, разглядел тут умысел злой, иль худо столковались Петра Чикин и Еремей Шевкуненко, а может, наивная Санька где подвела, но только суда землемер миновал, лишь был оставлен в некотором подозрении. Получил Сумароков долгожданный четырехмесячный отпуск в Санкт-Петербург, откуда и отправлен был впоследствии уездным исправником в Березов; стало быть, оказался полнейшим властелином бескрайней российской окраины.
Прасковеюшку Жукову за прелюбодеяние и изветы отвезли в Холмогорский женский монастырь для наложения трехлетней епитимьи.
Санька вновь пошла по миру с зобенькой.
А Петра Чикин и тому был рад, что сжил Сумарокова с северных земель. Как не окажется его поблизости, так, может, и душа Тайкина отмякнет и очнется.
Глава одиннадцатая
В полуночь кто-то окликнул Тайку по имени.
Она вздрогнула, открыла глаза в непроглядную темь. С неясным шорохом и тонким звоном от продушины, захлопнутой на ночь деревянным пятником, пролетела неожиданная муха; шурша крыльями, она дважды билась о полати, наверное попадая на печь, и скоро затихла подле. Тайку удивила незваная ночная муха, взявшаяся невесть откуда под Новый год, и она стала ждать беды. Душа ее обмирала, боясь забыться во сне. Жонка обшарила свое незнакомое, чужое тело, дивясь ему, и подумала, что у нее противный огромный живот: наверное, все икотики собрались в утробе на мирской сход и сейчас норовят выйти на свободу. Муж храпел на кровати, задыхался; видно, кикимора нашарила его безмолвный рот и хотела задушить больного; говорят, в полуночь отходит прочь измаянная нагрешившая душа. О муже Тайка подумала, как о чужом странном пришельце, пущенном на ночлег, и тут же забыла его. С засторонка печи вдруг снова окликнули ясно и кротко:
– Та-я, Таись-я!
– Ну што тебе? – готовно отозвалась женщина, словно бы давно ожидая этого голоса.
Она склонила голову с печи, волосы от пота слиплись в колтун под повойником, плат ссохся и затвердел, и Тайка с отвращением сорвала его. От нервного движения окутка сползла с плеча, и сразу показалось нестерпимо студено в избе. У порога призрачно замерещилось, как бы сквозь стены просочился тайный голубоватый свет, заиграл длинный, под притолоку сполох, скоро загустел, и безобразная девка встала подле печи, противно чмокая по полу гусиными лапами: один глаз тусклый, с вывернутым веком, другой – горит бесовски, а по зеленым волосам, распластанным и похожим на совиное крыло, скачет к печному приступку жаба с лестницей на плече.
– Я тебе лестницу принесла на гору Сионскую. Нажилась ли ты?
– Ой и нажи-ла-ась, – счастливо выдохнула Тайка, понимая, что пришли гости по ее душу.
– На-жи-лась, – гулко вздохнула нахолодевшая изба.
– Ну дак и поцелуемся, – сказала безобразная девка, склоняясь над Тайкой. Губы зажгло, защипало, огнь заструился, и разом рот обметало белыми водяными пузырями.
– Пошли-и!.. – позвала гостья.
– Иду-у! – отозвалась Таисья.
И тут же возгорелась она, как пламя в печи, волосы затрещали от жара, и глаза накалились. Ох, Тайка, Тайка, ну зачем же ты поддалась марухе, зачем отозвалась на оклик и открыла послушно глаза? Ведь пришла за тобою лихоманка-огнея.
Отец навещал, часто плакал. «За грехи мне, за грехи!» – шептал, оглаживая беспамятное дочернее лицо, и Тайкины муки будто бы передавались его телу, так корежились и тосковали изношенные кости. Уж собирался Петра на потолок лезть да вырубать там лаз, чтобы свободнее и вольнее взлеталось бабьей душе, чтоб меньше мук испытала дочь перед исходом. Священник приходил, давал воды испить со креста, монотонно пел, встав в изножье, и лампадка в переднем углу трепетала, готовая угаснуть.
Слушал Петра святой наговор, но глаз с лампады не сводил, боялся, как бы не погас трепетный огонек.
Навещала бабушка Соломонея, совсем остаревшая и глухая травница, ведьма ведьмой, лицо спеклось в луковицу, и рот запал в морщинах, как бы зашитый наглухо. В таком-то теле, говорят, и помещается колдовская душа, что, ночами вылетая из дряблого тела, вихрем летит на шабаш на Лысую гору. Надевала ведунья на Тайкину шею обруч, поила вином, настоянным на золе, терла лицо и грудь противу сердца, трижды слизывала хворь с Тайкиного лица, с подбородка до лба и со щеки на щеку, и, сплевывая наземь пот, шептала:
– Зоря-зоряница, красная девица! Избавь рабу Божию Таисью от матухи, от знобухи, от летучки, от гнетучки, от всех двенадцати сестриц-трясавиц.
Пожелтела Тайка, как лютик в поле, как морошка зрелая на болотной кочке. Яшка уже вставал, ходить замог; вещунья выгоняла его прочь, распахивала на Тайке одевальницу: экое матерое большое тело, ныне желтое, как топленое коровье масло. Помнила ее махонькой, с веретенце, волосья на голове были густые, грубые, как у взрослой девки. Мучилась Густя, ох тяжело рожала Тайку, будто жерновом освободилась. И вот бабушка Соломонея ныне сама не больше рукавички-исподницы, скольким пуповину перевязала, скольким дитешонкам звезду зажгла на небесах, правда, своих-то ребятишек не имела и мужней ласки не знавала. Сиротой-сиротеей выжила век и на чужой перешла, чужой жизни прихватила. Такое нынче чувство, будто в новой деревне живет и давно повымерла та Дорогая Гора, в которой появилась Соломонеюшка на белый свет, на долгую дорогу. Вот как бы закроешь глаза, и в памяти лес людей от мала до велика, и все в разных обличьях, и средь знакомого народу светлое Тайкино лицо.
– Ах ты Боже, какая добрая тёта, – горевала травница. – Жить бы тебе да рожать. Из тебя бы детишки-то пошли как коврижки. – Щупала, наглаживала живот, сбрызгивала наговорною водою, легонько хвостала летошним веником, палыми пожухлыми листьями осыпала бабье тело. – Не помереть бы тебе да возродиться. Помоги, батюшка Сисиний, прогнал бы ты, святой отец, девиц-трясавиц, что идут на царьство русское род человеческий мучити, тело повреждати, кости ломати, в гроб загоняти... Дедко, дедко, – закричала вдруг в сени. – Слышь, отец родимый, Петра Афанасьич. Перекрещивал ли ты девку в нашу веру, в поморское согласие, иль антихристову церкву она исповедует? Как земле-то ее предашь? Ведь мучиться ей в геенне огненной, шакалы-ти будут грызть нещадно, и день-то ей, горемычной, покажется за тыщу лет. Ой, Петра-Петра, с наживой своей и сам-то убился, как лешачина, и девку попустил на худое. Подумай, на какие грехи-то спроваживаешь...
Муха откуда-то взялась, давай виться над Соломонеей.
– Вот она, иродова дочь... Сгинь, сгинь... Тьфу! Сгинь! – Замахала тряпочными ручонками, зашамкала. Да разве беззубым ртом скажешь нынче крепкое слово, чтобы сразу отшатнулся в страхе оборотень. – Петрованко, ну где-ка ты. Ах ты Господи, сколь увалень.
Вдвоем долго гонялись за трясуницей. Сунула старушонка муху в яичную скорлупу, запечатала воском, перевязала ниткой, подвесила в трубе.
– Вот как наша Таюшка-деушка мучится, так бы тебе, девице-трясунице, мучиться бы тыщу лет да один год, не зная покоя.
Тем же днем подговорила Соломонея баб. Причитала:
– Вот горит наша красавушка, аки огонь, а лежит, как столб повапленный[75] , и нету ей покоя сердешного.
На гремячем ручье начерпали ковшом пятиведерный ушат воды. Шесть баб несли ту емкую посудину с подугорья, две бабы вениками след заметали, а девятая, начетчица, по требнику читала. В избу вошли да, на восток помолившись, встали с изножья: шесть баб ушат подымали, две помогали опрокидывать и той водой прорубной, студеной до ломоты, из гремячего ручья окатили болезную, беспамятную Тайку, погрузили в купель, перекрестили в истинную веру. Вскинулась жонка под купелью, судорогой всю пронзило ее и перекосило, начало рвать и мучити, и корчити, а уж так страдалица зубами скрипела, ну больно слушать и непереносимо.
Но не смертным ведать судьбу. Не пришел Тайкин черед, не грянул. Ее, простоволосую и нагую, захлестнуло внезапным вихрем, закрутило и подъяло в клубящуюся темь, и сквозь просверки молний и сполохи огней она, оглушенная тяжкими небесными молотами, долго блуждала по преисподней, и глазам ее представлялись картины одна жутчее другой, отчего сердце каменело от страха. Мучительно искала средь этого содома, средь этого кающегося человечьего собора свою родненькую бабушку Васеню, и, не сыскавши ее, очень радовалась Таисья, что давний детский сон был не случаен. Тогда явственно причудилась баба Васеня в длинных золотистых пеленах с сияющим, умиротворенным лицом, и спросила ее маленькая Тайка:
– Баба, а тебе хорошо там?
– Ой как хорошо, внуча. Мы яблочки молодильные едим, живой водой запиваем да с серебряных горок кажинный день катаемся на салазках, аж дух запирает.
– Возьми меня к себе, баба, – запросилась Тайка.
– Поживи, поживи, внуча, на мати-сырой земле.
Долго, может, тыщу лет и один год, пробиралась Таисья сквозь тартары, все закоулки чистилищ высмотрела. «Ой как измаялась-то, ой боле мочи моей нету!» – хотела взмолиться она, но и тут с непонятным упорством пересилила себя и спросила кого-то невидимого и властного, чье дыхание непрестанно опаляло щеки, но леденило жилы:
– А мне-то что за казнь уготована, коли помру я?
– Гляди, дщерь! – прогремело.
И с лязгом пали засовы, заскрипели кованые ворота, пахнуло на Тайку смрадом немытого тела и бабьего скопища, и во чреве горы увидала Таисья нагих женщин, к грудям которых ненасытно присосались лютые змеи с огненными языками. И стон в пещере стоял непереносимый, и от великой боли изнемогала, сокрушалась бабья плоть.
– За что же их-то, несчастных?
– За прелюбодейство. И тебя ждет сие, и тебя не минет искупительная чаша!
– Боже! – в ужасе возопила несчастная. – И неуж столь черна душа моя?
Тайка вдруг увидала бабу Васеню: была она в лапоточках, обшитых белой холстинкой, и в долгой смертельной рубахе, но лицо ее было по-прежнему синим и одутловатым, засиженным мухами, как и в ту прощальную минуту, когда лежала в домовине.
– Ба-ба! – заплакала Тайка. – Тебя-то за што?
– За грехи, Таюшка. Нету утопленницам ходу, не-ту. Триста лет, поди, биться мне еще лбом о землю. Но это не в труд мне, а в радость. Ой, внуча, вну-ча, – вдруг вскричала баба Васеня, и мухи слетели с ее распухшего от воды лица. – Молись пуще – и спасешься. Вот откушай яблочка молодильного и сымет болезню, сы-ме-ет. А есть, Тая, монастырь во далекой земле, и идти туда год со днем. Поди туда пеши по заходу солнца, и жить тебе в келейке. Слышь меня, вну-ча!
– Чую, баушка, чую, родименькая, золотая ты моя, серебряная.
Ожила Тайка после крещенья в морозный солнечный день. Знать, печь худо топилась, дым закидывало в избу – баба закашлялась натужно и открыла непонимающие глаза. Радостный светлый день стоял на воле, солнце ломилось в оконца, и золотистый столб развалил избу пополам. Дверь всхлапывала часто, с потягом, кто-то бродил, надсадно кашлял, выбродившим тестом пахло одуряюще; кислый дрожжевой запах опары вошел в Тайку и всю разом разбередил. Она улыбнулась, с трудом размыкая почернелые губы, и длинно, жалобно застонала. Над глазами ее маячил близкий, хорошо прошорканный потолок с морошечным отливом, сейчас, овеянный солнечным светом, особенно заманчивый и живой; он светился сквозь волоконца дыма и казался иным, нерукотворным. И особенно странной казалась дыра, вырубленная в потолочинах, виднелся свежий скол, а еще далее черный гудящий мрак, полный вихрей и снежных мух. Тайка испугалась, думая, что это мерещится ей, и закрыла глаза.
Сноп света пробивал болезные веки, бередил глаза, в них невольно накапливалась водица, и вот первая тяжелая слезка выпала на щеку. Тайка снова вздрогнула и поняла, что она жива. Подошел Яшка, живой Богоданный муженек, лицо жесткое, острое, обметано черной кудрявистой бородой. Хотел сменить тряпицу на лбу, встретился с обнаженными, осмысленными глазами и вздрогнул.
– Ожила, жонка? Ожила, да? Ах ты, право! – захлопотал Богоданный. – Думали-то как: нажилась, мол. Богу душу. Вот помогчи хотели. Душе штоб легше. Лети-и, душа-то, ле-ти-и, бат, не жалко. Ох и мучилась. Ах, што я мелю, бестолочь.
Засуетился Яков, отпрянул от жены, наверное пугаясь ответного противного слова, забегал по избе, не зная, за что приняться: стряпал что-то, кулемесил по-мужски, неумело, прятал от Тайки лицо, тихо плакал, орошая тесто слезами. Ох и солона будет коврига, солоноват испечется каравашек. Думал что-то суматошное, беззлобное и тут же мысленно клялся, что все минувшее быльем поросло: заживем отныне дружно-мирно, детишек наставим, людей не насмешим. Доколь кудесить, доколь по миру волосьем трясти, уж коли баба замужняя, повойником повита. Прошлась, прокатилась по нам телега, плечи болят, а сердцу и пуще того больно. Но отнынь все: заживем по благословенью.
Бил, мял кулаками тесто, ворочал его, как кабанчика перед убоем, задыхался от дыма и слез, и улыбка сама собой ширила губы. Вдруг улыбался во весь рот и тут же строжил себя, тряс головою, и серебряная серьга в ухе моталась шально. Заморозив лицо, оглядывался, видел Тайкин прозрачный, испитый силуэт, источенный болезнью нос, пятнистый от обильно выпавшей росы. Дышало Таисьино тело, исходило по?том, и рубаха-исподница взмокла, хоть выжимай. Как маленькую обиходил жену, поил брусеницей да малиновым взваром, гладил такую крохотную ныне, исхудалую головенку, ну как дитя свое укачивал, и сердце заходилось жалостью. Сиротой вековечной жил, а сердце-то, оказывается, ждало ласки. Обихаживал Яков Таисью, помогал в самом житейском, в сухую рубаху облекал и будто заново вылеплял жену. А она покорно отдавалась, вяло, будто хлебный снопец никудышный, шаталась в его сильных руках и тут же валилась в постелю, строгая, с постным, отрешенным лицом.
И соки стронулись, и древо зазеленело. Скоро встала Тайка на ноги, но смотрела на жизнь словно бы из другого мира, иной земли. Нельзя сказать, чтобы сонная бродила, вела заделье; нет, изба сразу воспрянула, скот задышал, тепло вернулось в хоромы, муж зарозовел, и вскоре молодое сальце проложилось под засмуглевшей кожей. Но взглянешь в Тайкины глаза – а они слепые, глядят куда-то сквозь стены, но ежели на воле, то сквозь подсинелый морозный воздух, не то в поднебесье, не то за таежное половодье, где, сказывают, лежат иные земли. Наверное, чудилось Тайкиной душе, что она уже издержала то время, назначенное жить на миру, и хотелось ей взять батожок, за спину кошель берестяной да и пойти прочь той самой тропою, какой задевалась когда-то тетка Павла.
Однажды на ночевую легли вдвоем: муж привалился робко, а она не погнала, кто-то погрозил Таисье сверху сквозь вечернюю хмару, и жонка готовно смирилась. Она только заглубилась в постели, ужалась к самой стене, а Яшка, чуя силу, сразу хмельно накатился и взял бабу, как полонянку, но вкуса не почуял и жажды не утолил. Лежал, скрестив над головою руки, глядел в потолок хмуро, темно, не ублаженно. Крестовый брат Донька впервые померещился, щерится тонкими губами. Обиду, и ревность, и злость услышал Яков и скрипнул зубами. Как получилось тогда, что не настиг, не захлестнул обоих на березовом суку? Болтались бы нынче, и вороны выели глаза, песцы выгрызли бы пятки. Вот и хорошо, вот и сладко. Увидал такие картины, но содрогнулся, прильнул к жене, обшарил: худющая, экое мозглетье, а он, дурило, столько лет желал ее. Но ведь никакого товару. Еще раз судорожно обшарил, но и зло, и желанием досадить впился корявыми пальцами, сделал на глядкой коже крутой защип, будто узел завязал. Вот и нашла пора отмщенья, накатилась. Жена не шевельнулась, лишь тонко вскрикнула от внезапной боли, но тут же перемоглась, глубоко и горестно вздохнула. И то, что она не вскричала, не взмолилась, остервенило мужика до той самой крайности, когда и убить возможно. Худо помня себя, он заголил на Таисье исподницу и давай ее нахлестывать, приговаривая: «Вот тебе, любостайка», и до той поры полосовал ладонью, пока рука не онемела. Но и тут женщина не вскричала, но, тупо отстранившись, словно бы норовя слиться с бревенчатой стеною, спросила вдруг:
– Ответь мне, Яша. Вот ты бьешь меня. Дрянь я, и бить меня надо, а может, убить. Но ты-то... землемер-то меня насилия, и неуж тебе не жалко меня бы-ло! Ты пошто за меня не заступился-то, Яша-а?
Этих-то слов более всего и пугался Яков: он ждал их со дня на день, смирился с ними, давно и оправданье себе сыскал, но тут от них дыханье зашлось. Было-то все, оказывается, по-иному, совсем не так, как в приноровленной памяти улеглось: ведь не девку соседскую, но будущую жену на растленье отдал и муками ее насладился. Выжечь бы виденья, вытравить каленым железом. Но память не просеешь сквозь сито, вся она клубится в тебе и жжет. Ком в груди, непроходимый тугой желвак стоит в горле, и не сплюнуть его, не проглотнуть: железную спицу забили в грудину, и запрудило там, кусок ржанины не лезет. Какая дьявольская сила полонила, переполовинила человека. И чтоб смять, вытравить в себе ревностную надсаду, излиться от нее, Яков с присвистом сквозь выбитый зуб прошептал, запаливая себя:
– Молчи, сука!
И от этого вскрика снова загорелось в грудине. А ведь только что виниться хотел, жалобиться, чтобы прощеному быть. Но его ли прощать, какой такой грех свершил он? Нет-нет, она его подлее, она предала по своему хотенью, она Божье благословение осквернила, а должна бы в ножки пасть. И, уже полный мщенья, в бешеной тоскливой тьме видя грядущий путь свой, Яшка выкрикнул, не тая голоса, зазвенел накаленно:
– Мол-чи-и, дрянь! Тебе бы под мужиков стелиться! Похотью изошла, похотью. Ведь сама захотела с землемером-то, любостайка, сама норовила. А ну! Скажись!
– Ой, Яша, и что ж ты такое, Яша-а!
– Молчи! Пока не убил!
Ткнул кулаком в грудь, где изменное сердце билось, в живот – ведь из этой утробы вылился чужой послед, в губы – ведь этот рот миловал ненавистный человек. Привстал на коленях, навис над распластанной Таисьей и бил тяжело, молча, как на току молотил. Опомнился, когда жена пугающе тяжело вздохнула и замерла. Встал, запалил лучину, с пристрастностью оглядел жену. Принес утиральник, лохань, давай замывать лядащее, растерзанное тело. Светил лучиной, пламя выхватывало слепые нагие глаза, спекшийся почернелый рот, пенистые от сукровицы вереда. Обихаживал Таисью, и уже приглаживал ее с тоскою безвинно оскорбленного человека, и втайне радовался, что не забил до смерти. Хуже всего увидеть бы мертвую, тогда хоть сам в петлю. Жена не противилась, лежала покорная, светлела голубоватым, нездоровым телом, и ребра проступали под кожей, как кокоры у лодки.
С того вечера Таисья без синяков не хаживала: лицо желтое, глаза ввалились. Бабы осуждали Якова:
– Забьешь жену, ирод. Ее не жалеешь, себя хоть пожалей.
Приходил Петра Афанасьевич, сидел подолгу, горевал за дочь, ведь из такой болезни вызволили, а тут новая напасть. Не сдержавшись, остерегал:
– В Сибирь норовишь, зятелко?
– А мне че, и в Сибирях, быват, люди. В случай чего ежели, так себя вини, тестюшко. Через твой омман моя проклятущая жизнь.
– Не-не... я клятвы не переступал.
– За что же мне отраву такую подсунул? – намекал на жену. – Вот как есть, забью до смерти. Мне все одно!
– В Сибирь упеку! – грозился тесть.
– А я тебя топором по вые да и в реку, – шально вспыхивали Яшкины ночные глаза, и сочные толстые губы наливались кровью.
Но однажды не стерпела Таисья, взмолилась, разжала наконец онемевшие губы. Голос оказался глухой, утробный, нежилой:
– Чего тянешь-то, Яша? Убей сразу.
Яков посерел, внезапные слова подсекли, не сразу нашелся с ответом:
– Помучаю ишо, помучаю. Я из тебя жилы вытягну, на кулак намотаю.
– И неуж Христа не боисся?
– Боюся... Но Господь меня простит. Ты изменщица...
Разговор случился вечером, уж под самую Пасху. И света не запалили, а от лунного огарыша сквозь косящатые оконца разбавляло темень. Тайка лежала на кровати, Яков мостился на печи, и сверху лицо жены казалось русалочьим, голубым. Тяжело, угрозливо бормотал Яшка, но самому себе слова эти казались чужими, легкими, сказанными лишь для испуга, ибо засветилась перед взором иная, добрая жизнь, которой вдруг поверилось. И в Тайкиной душе на мгновенье прояснилась хмара, и она призналась:
– Ой, не могу боле жить, Яша. Сидит заноза в сердце. Яша-а... – вскричала, взвыла по-звериному. – Не могу, заноза в сердце. Заноза, вытащи мне.
Яков вздрогнул, волосы на голове поднялись, слова не говоря, спустился с печи, подсел в изножье. И за многие дни впервые сказал те слова, что многие годы носил в себе:
– Ну что ты, Тасенька. Любимая ты моя, ласточка!
– Яша-а... Заноза в сердце.
Тайка вдруг рванула сорочку, схватила груди и давай кромсать их неистовостью безумного человека.
– Иди ко мне, – вдруг позвала Тайка горячечно, едва ли что соображая. – Вынь занозу.
И она отдалась с таким желанием, с такой судорогой и смертельной мукой, что Яков без страха не мог в те минуты смотреть на ее искаженное страданием лицо, разверстый черный рот – и закрыл глаза. А жена вдруг обмякла и сквозь наступающее беспамятство прошептала:
– Ой, кажись, отпустило. Вышла заноза, вышла.
Таисья вскоре уснула, но Яков ночь не спал, сменяя на лбу тряпицу: жена была жаркая, потная, истончившаяся. При свете свечного осколыша казалась усопшей, и не хватало лишь одеть белые тряпочные ступни, чтобы возложить в домовину. И Яков так пожалел ее, с такой любовью обласкал усохшие щеки, что минувшие страданья показались странным виденьем, хмарой пьяного безумного человека. «Что за наваждение осилило нас и ввергло в смертный бой?» – подумал он и заплакал, и долго ревел, как младенец.
С той самой ночи более не задевал Яков жены своей. Переселилась она в горенку, стала нравом светлая, тихая, покорная, и зеленые глаза ее разбавились золотой водицей, как бы солнце оставило там свой луч. Мало куда выходила она из дому, разве что до лавки, а больше в подворье своем жила.
Но вот и весну наслало, ручьи потекли, трава полезла, росы упали. Пришло время репища копать. Пошла Тая на зады усадьбу подымать: земля волглая, пряная, тяжелая, живьем заселена. Красного шура уйма; толстый, жирный, ленивый, сквозь продырявил землю червь, как пулями пробил. «И тут, в земле, сколько живого зверья», – подумала Таисья с неожиданным умилением. И вспомнилось: «А где-то мой недоспелыш, мой недородыш? Летает его душа неприкаянная, и нет ему затулья, нет ему схорона, и гора Сионская не принимает его...» Вдруг кукушица за поскотиной на веретье вскинулась, где средь лысой поженки стоит одинокая сосенка, подняла голос и зачастила, завыкликивала: позовет и прислушается, отклику ждет. Нет большей печали, знать, как в кукушьем голосе, и зовет кукушица, как мать-печальница, вдова неутешная. С тяжелой душою вывернула Таисья холодный пласт, а вместе с ним и сверток: еще не зачернел, не загноился, словно бы кто клад схоронил от нечаянного взгляда. Как зачарованная подняла куль тряпочный. Ей бы кинуть: раз в земле-то – бросовое дело, а она уж все поняла. Тут кусок ее плоти, тут человечек незрелый, ее дитя недопетое, ее души краюха незарастимая, ведь не случайно ноет с упрямостью сердце, как бы червь его точит. И ни испуга, ни брезгливости в женщине. Пошла на межу, к пряслам, где прошлогодние житние снопы висли, села, вытянув ноги (так к выти готовятся на поле жницы, притомясь от поля и полдневной жары), развязала плат, готовясь к самому худому. А как развернула сверток, так и обмерла: не то куропатка ощипанная заморная лежала там, уж загусевшая, почернелая, как пропадина, не то засохлая змеистая рыбина, не то ягнячий выкидыш. Хоть бы что человечье, памятное, знакомое и родное. Ничего и не было, значит. А раз ничего не было, так стоит ли страдать? Вот во что вылилась ее любовь и Донькина – в зряшной плоти отломок. А меж тем что-то заставляло ее неотрывно смотреть на недозрелый плод. Она даже понюхала его, стронула пальцем, вроде бы желая увидеть внезапное шевеленье, вздрог и вскрик. Нет, не худо стало с памятью, и сердце не замутилось, но как бы зачарованная жила сейчас женщина!
– Ой ты нехрестеныш мой! – вскрикнула Таисья, пожалела мертвенького, как живого, запеленатого, сонного. И заторопилась, вскочила, побежала, часто озираясь: заползла под крыльцо, вырыла ямку поглубже, выскребла лучинников, выгребла пальцами, схоронила нероженное, нетленное дитя да сверху для верности накатила лиственничный чурбак. Теперь-то уж не насмелится никто подступиться к жилому порогу, где человечьим духом пахнет, не выкрадут боль и слезы Таисьиной утробушки.
Бросила Таисья копать репища; блины заварила, напекла горку, часть на подоконье оставила, остатки отнесла на могилу к бабе Васене, била там красные яйца, приговаривала:
– Русалка-царица, красная девица! Не загуби душки, не дай удавитца, а мы тебе кланяемся.
Посидела с краю погоста, где утопленницы лежат, глаза закрыла, хотела бабу Васеню живой увидеть – и не смогла. Стоит перед глазами синее напухшее лицо, и ползут по нему черные мухи.
– Господи, – взмолилась сухим, натянутым голосом, – есть ли на миру кто святее моей бабушки? Так чьи же грехи она отмаливает?
– Тво-и-и! – словно бы послышалось ей.
– И то правда... мои, – покорно согласилась Тая, не удивившись гласу. И так же покорно поднялась и вместо своей избы отправилась куда ноги понесли.
И оказалась она в зареченских лугах: вода хлюпала под ногами, вешняя снеговица еще таилась под щетинкой молодой зелени, ивняки обвеялись мелким листом, кулички-хлопотунчики под ногами путаются. И почудилась Таисье возня человечья, хотя ни души кругом, и будто бы голос младенца послышался над головою, ее дочери голос:
– Мамушка, мне так зябко и страшно здесе-ка. Мамушка, как мне нехрещеной-то быть? Я боюся!
Опомнилась, спохватилась Таисья, напрягла память и, боря головную нестерпимую боль, торопливо зачастила:
– Крещаю тебя, Марьюшка!
И от этих слов разверзлась в бедной Таисьиной головушке черная пропасть, красное полымя полыхнуло, и черепную коробку пробило сквозь, а длинные шелковистые волосы встали стоймя. И воздух зазвенел длинно и тонко, будто струна возле лопнула, ласково обвеяло прохладным крылом бабье лицо, и откуда-то будто опять донесся голосок:
– Прощай, мамушка!
И Таисья опомнилась. И почуяла она себя так легко, как лишь в детстве далеком живала, и не слышалось в сердце натянутой больной жилы, и утробушку словно бы кто помазал нежным куропачьим пером, обиходил свежим коровьим маслом – так облегчало, запело и восхитилось легкостью Таисьино тело. Очнулась она, огляделась вокруг и подивилась праздничному вешнему миру, полному голосов, тепла и света. Женщина еще прислушалась к груди, где прежде сидел рыжий злой икотик, к черевам, где прятался надоедный хромой мужичок, к левой титьке, которую кромсал бородатый черный карлик, перевязанный красным кушаком, – и не нашла никого. Так случилось, что боль болью поборола Таисья.
Глава двенадцатая
Сомлел Король от Донькиного удара; на один лишь вздох пресеклась его жизнь, только на мгновенье затмилась шалая голова, но душа-то, скоро очнувшись, тут же и заиграла. Лицедей Король, скоморох, оставивший по чужим изголовьям жесткую смоляную волосню и растерявший зубы на долгих каторжанских перегонах. Старков чистое неоскверненное дыханье отдавал Королю, дух, пахнущий сухой ромашкой и постной утробой, но арестанту хотелось сплюнуть и рожу утереть надоедному попишке. От него, от бродячего раскольника, находила угроза, от этой святой простоты исходила мука для вора, и вор, остерегая душу от корчей, пуще всех ненавидел Старкова. Ведь что получилось: это как бы стали крестовыми братьями, это как бы душами поделились. Как тут себя поведешь? Тошно Королю, ой тошно и мерзко от сухих, шероховатых постных стариковских губ.
В голове-то кружилось, дымилось от тычка, чуть черепушка не лопнула пополам, во Король крепился, зажимал в себе воздуха, смирял сердце, отдавался рукам раскольника, но уши держал торчком. Вдруг зажалеют, вдруг всплакнут лежунцы, мать их в кочерыжку. Но все молчали, никто, кроме Старкова, не прослезился над вором, и тот от досады и долго смиряемой ярости вдруг обхватил руками голову Старкова и вонзился зубами в нижнюю губу спасителя своего. Как бы острогой просадил, и кровью окрасились две пестрые бороды. Мычал Старков, мотая головою, и никто в камере в толк принять не мог, что случилось; но вот сжалился Король, а может, и захлебнулся чужою кровью, и, отпустивши объятья, закричал:
– Что, сю-ка, попался? Причастился кровушкой твоею!
С бледным, как опока, лицом Старков ушел в свой угол, не сказавши ни слова, ни полслова, стал на колени лицом к стене и долго сутулился там, отбивая поклоны, и слышно было, как стукалась его горящая от боли голова о лещадный истертый пол.
А камере как? Смеяться или плакать? Ибо в соседстве живут радостный смех и безумный плач. Кто-то откровенно захлебывался в смехе, кашлял и икал, радый забаве, иной, понурый, сутулился на своей кровати, как подорожная травка, лихорадочно потирая озябнувшие руки. А Король победно обводил взглядом сожителей, и его черные, с желтым отливом глаза сияли восторгом.
– Грянет ужо... Накатит наш день! Попишем кровью ужо-тка. Натешем осиновых кольев попам в зад! – кричал Король, озирая камеру, но накаленные глаза каждый раз возвращались к Донату и все щупали, обирали взглядом молодое поджарое тело, наверное, отыскивали для верного удара смертную жилу.
А Донат сидел как после внезапного ожога, и ком сердечный, заперший грудь, не проходил, не истаивал. Он и не замечал, как его мелко трясло и волосы стояли колтуном. Он не отпускал взглядом облитую кровью бороду Короля, и, может, от этой крови его позывало на тошноту. Знать бы, ведать Доньке, что перед ним скоморошничал и изгалялся отец крестового брата Яшки Шумова, то рука бы его, не дрогнув, снова взнялась для последнего смертного боя.
– Ты ведь убить меня мог? – вдруг успокоенно спросил Король и зачем-то подмигнул парню. На лбу синё налился желвак, как бараний молодой рог, и оттого что вор не видел вереда, но чуял лишь свою изворотливость и ловкость в каждом начатом деле, превращало сцену из обидной в комическую.
– Порвал губу-то, варнак, – отмякая, сказал Донат, уже не чувствуя жажды мщенья. – Ты ведь под преступленье мог меня подвесть.
– И убил бы?
– А у меня рука смертного боя, – вдруг по-детски прихвастнул Донат и засмеялся. – Ты поди, повинись. Понапрасну старика-то...
– Эй, поп, тараканий лоб. Слышь-ка! – подошел Король к Старкову, приобнял того за сутулые плечи, сам нарочно играя туловом и топыря зад: – Слышь, дедко. Ты, говорю, прости, как на духу, слышь? – Приклонялся, сдавливая плечи раскольника, дышал перегаром, но со стороны не видать было новой издевки и странного ненавистного воровского промысла. – Ты, поп, не молчи. Говори громче. Ну-ка!
– Бог простит, – шептал Старков, клонясь под клещатыми жадными пальцами, впившимися в ключицу. Такое было ощущенье, что вор собирался выдавить, вывернуть кость всем на посмотренье.
– Пуще, пуще! Не слышим...
– Бог простит...
– А сам-то простил ли?
– Несчастный ты... А на несчастных да потерянных разве можно держать зло? И не поравняюсь ли я тогда с лядащим грешным человечишкой? – Старков вознес голос, глаза его, обращенные в потолок, сияли кротостью.
Вор плюнул смиренному скитальцу в темя, тычком завалил старика на пол и удалился в свои владения с гордо вскинутой головою. Опустился на коврик, скрестив по-восточному босые шишковатые ноги, и как бы вовсе исчез за кроватью, и оттуда лишь выставлялся мерно раскачивающийся седой кочан волосни. «Предерзкий, однако, мужичонко», – наверное, каждый подумал в это мгновенье, но сердце ежели и ворохнулось в жалости, однако пожалело не беглого попа, но себя прежде – невольного и обделенного судьбою. Вернее будет сказать, что чувство некоторого удовольствия посетило многих и утешило, ибо рады были арестанты редкому представлению, украсившему их невзрачную, вонючую житуху. Ведь если и сохранилось в тебе что человеческое, то в этом общежитье, посреди скуки однообразных, тоскливых дней, все угаснет, скукожится, замрет; тут чужому горю невольно станешь рад, ибо каждая такая картина и подобная вот гнусная сценка, свара, раздор, зуботычина так свежо и неожиданно скрашивают и разбавляют скуку. Да разве есть на миру что-нибудь жесточее скуки, когда жизнь мыслится бесконечной и вовсе не нужной и нет сил продлить ее хотя бы на сутки...
Видно, нет большего одиночества для человека, чем в толпе и в людной клоповой камере. Ты видишь это огромное немое безглазое существо, обжимающее тебя и лишающее воли, и тебе стремительно хочется бежать в свою келью, судорожно замкнуться, и тишина, обступившая тебя, покажется чудесной и исцеляющей, и ты, перемогши день-другой, уже являешься вновь к людям, добрый и чуткий, чтобы вновь испытать отвращение. Но это из толпы можно ускользнуть, пока она не растерла тебя равнодушными ногами, но в камере тюремной вроде бы все заняты собою, шьют, порют, тачают, играют в карты, ссорятся и мирятся, давят блох, чешутся и зевают, предаются унизительным слабостям, но меж тем каждый добровольно и невольно надзирает за тобою, дозорит, ловит взглядом каждое твое движенье, учитывает каждую твою подспудную мысль, чудным образом выпытывая ее, и оттого существованье в каменном логове становится особенно невыносимым, а каждый сотоварищ превращается в ненавистного врага. И потому высылки иль каторги арестанты ждут как манны небесной: пусть тяжко будет, пусть непереносимо, прикуют к тачке, зашлют, куда и Макар телят не гонял, но это будет где-то и когда-то, а к тому времени, Бог даст, все может перемениться к лучшему.
«Лучше бы в хлеву средь скота жить, – размышлял Донат. – Скотина, та хоть греет. Приластишься, к брюшине притулишься – и тепло. Как на печи».
Симагин сутулился напротив, сложа ногу на ногу и пристально глядя на носок тюремного башмака. Еще в Соловках Симагин дал архимандриту Досифею обет послушания, за что был прощен, но вот нынче будто насквозь прожгло грудь каленым перстом. Хотелось говорить много, возвышенно и горячо, и от долгого бессловья язык терпко обложило горечью, будто объелся черемухой. Если бы кто присмотрелся сейчас к Симагину попристальнее, он бы заметил, как набухла спутанная грива, а обычно землистое, подсохшее лицо, редко знавшее вольный воздух, сейчас зарозовело и пошло бурыми пятнами. Жесткое было у Симагина лицо, словно бы постоянно сожигаемое изнутри, и даже нынешнее воодушевленье не смягчило его, а щетинка темных усов еще более подчеркивала каменность скошенных упрямых губ. Вот когда-то человек улыбнулся и улыбку забыл стереть с губ, хотя тяжелые, угрюмые глаза принакрыты постоянной мутной поволокой.
«Вот здесь мы, аки скоты, в дерьме и низости. Это мы, цветы благоуханные жизни, для радости сподобленные. – Симагин обласкивал взглядом стоптанную, белесую от старости чуню, но будто бы видел всех разом, страждущих в камере. – Ведь все равны один другому и подобны друг другу, как братья однокровные. А одни пребывают на вечном пиру, запились чужою кровью и только, чтобы продлить это блаженство, дерут этих несчастных розгами, палками, кнутьями, только что кожу живьем не сдирают. Так где же пребудет правда? Пора ее найти, ой по-ра-а... Пришло, однако, время сотворить Новый свет на земле и сыскать правду».
В соловецком сидении все прошлое казалось сном странным и пречудным, все измышленья – дурниной, проросшей в голове, а долгое писанье – болезнию; и как радовался, что вот излечился от наважденья и пухлые самосшитые тетради пропали в жандармском корпусе и не будет к ним возврата. Какое же это, оказывается, счастье жить с просторной прохладной грудью, когда вериги сомнений, натершие бедное сердце до кровавых мозолей, вдруг опали и стало возможным дышать безмятежно.
Но что за странную власть несут в себе люди даже самые бросовые, погибельщики, тати подорожные, бродяги и шатуны, шиши лесовые, ворье и домушники, расстриги и нежити; жалко вот их, до болезненного страдания жалко и хочется излечить. Страдальцы, мытари, не по доброй же воле искрутились они в рогозку.
Одноглазый вор Зубов долго слонялся по камере и нет-нет да искоса поглядывал на Короля, ожидая зова, оклика, милости и прощенья за молчание и измену, а не дождавшись приглашения, будто случайно оказался возле дружка.
– Больно звезданул-то? – спросил виноватым шепотом и робко, с некоторой униженностью опустился подле, стараясь не занимать истертый коврик.
Король молчал и деловито чесал шишковатые босые ноги, нижняя губа презрительно отвисла и выказывала полнейшее отвращение ко всему миру.
– Ты бы ему, падле, шмазь исделал, – заискивающе советовал Зубов, стараясь задобрить сотоварища. – Ты ему, падле конской, так не спущай. Ты пошшупай его, как он виться-то станет. Как дым на костре, – не отступал Зубов.
– Дай срок, – смилостивившись, отозвался Король. – Я ему глаз на причинное место натяну.
– Как из тюрьмы выйду, стану один воровать. Сам-то себя никогда не продашь, верно? – повысил голос Зубов, и вся камера невольно прислушалась. – Одному-то куда боле с руки. Чего хочу, то и ворочу.
– А я постоянно один ворую, – сухо, гордовато сказал Король. – Одному куда свычнее.
– И я бы один, да вот нет хорошего приемщика. Ты бы стал принимать, а я носить. Вот бы и зажили.
– Чего, и стану. Что хошь приноси.
– И по рукам. Как выйду из тюрьмы, стану один воровать и тебе носить. А чего лучше всего воровать и сходнее?
– Всего сходнее, кабыть, воровать чай. Я его много, приятель, ворую во время ярманки. Почитай, целыми яшшыками.
– А почем ты мне положишь, любезный? – настроился Зубов на деловой лад. Словно бы осталось ему встать да пойти в торговые ряды, присмотреться тайно, что где лежит, смекнувши хорошо, затырить, а дуван в карман: живи – не хочу.
– По кругу коли, так шестьдесят копеек за фунт. Только тебе, как другу.
– Дешево... Эдак мы никак не столкуемся. Если я одноглазый, то и вполцены? Не-не... воруй сам. Вот ты не поскупись да положи по семьдесят копеек за фунт, вот и стану носить.
– Дороже давать никак нельзя. Это себе в убыток да порядошным людям в насмешку...
Часа полтора еще тянулся ровный ленивый разговор, каждому не хотелось подымать голоса, но впусте молотили воздух, благо время шло: обсуждали два вора, как лучше обирать магазины и лавки, как сподручнее обмануть приказчика, обвести купца, оставить с носом торговца, чтобы и комар носу не подточил. На глазах у камеры строилась будущая компания и тут же рушилась, не причинивши никому убытку. Только беглый поп, бросив петь каноны, не стерпел более дерзкого сговора и бросился увещевать грешников:
– Отступитеся! Добывайте же хлеб насущный в поте лица своего.
Трудно было взывать к падшей расхристанной братии, душа Старкова еще невольно и смутно сочилась слезою, и порванная распухшая губа причиняла боль, и чтобы ловчее говорить, Старков приоглаживал пегую клочковатую бороду. Потому и слово выходило тухлое, неживое и слабо волновало, пробуждало сердце. На воле-то порою уж как смешон праведник, как надоеден, ибо постоянно дозорит за вашим сердцем, не дает насладиться жизнью и свободно окунуться в пороки. Потому нет-нет да и бросят вослед камнем. А тут, в камере, где каждый почти испытал искус падения и нашел в нем некую тайную прелесть, беглый раскольничий поп казался непонятным больным человеком, полным придури, коего слушали лишь от скуки и тюремного томленья, чтобы занять часы.
– Это не по нас, – оскалился Король. – По нас дак вот... Кто веселый уродился, тот и с горем не знаком. Аль нет?
– Скаль зубы-ти, скаль! А там-то сатана скажет: любил ты, паря, на белом свете по чужим кладовым шариться, а теперя, мои подручные, отведите-ка его в баньку огневую да положите на ложе огненное. Вот и поведут тебя черти, сукин сын, да и напарят горящими вениками, раскладут на раскаленном ложе да окунут в огненный колодезь. Больно хорошо?
Но не успел Король и рта раскрыть, как Симагин заговорил: начал потухше, глухо, но без сбоинки, как с листа читал, будто по писаному, такой ловкий мужичонко оказался и скорый на язык. Вроде бы дворовый человек, неоткуда и грамоте взяться, но не запнется на слове: знать, искусен в споре и поднаторел.
– Ты, Старков, скажи-ка лучше. А что Исус твой сказал нащет птиц?
– Он о людях пекся...
– Не знаешь... Так и скажи нам, дескать, простите, не знаю, – торжествующе поднял голос Симагин. – Ты вроде о народе печешься, если вкруговую обнять твои мысли и подойти всерьез. Но сулишь, однако, пещь огненную и все грозишь, грози-ишь. А ты, Старков, вызволенья от нужды на сей земле посули, ты не скупись, братец. А Исус нащет птиц небесныих сказал так: взгляните на птиц небесныих, кто питает их? Но эти, братья твои, падшие во грехе, разве не птицы ли?
– Давай, давай... воров возвеличим. Падших в ангелы призовем, – горько потряс Старков пальцем.
– И призовем. И последний станет первым.
– Последний, но раскаявшийся. Ты вот забрось промысел воровской да вериги одень, цепями окуй да в рубище оденься и поди по Руси, взывая радостно: братцы, исцелился я.
– Обман все, твой Христос. – Симагин поднялся с кровати, и глаза его, обычно оловянные, сонные, прояснились. Такие, наверное, прозрачные глаза были у Симагина в детстве, пока не познали душевных страданий. – Христос – обманщик: не беспокойтесь, говорит, что будете есть и пить, ни о том, во что облачено ваше тело. Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день позаботится сам о себе. А как те, кто капиталы скопили, кто шкуры ваши спустили, кто, кровь вашу выпив, развратные животы нынче лечат на теплых водах? Они пошто не каются, пошто они не боятся ада, где корчиться им и купаться в огненном колодезе. Кабы все было так, они бы уж давно, наверное, одели вериги и рабов своих пораспустили, отдавши землю. Да в ножки, кабыть, пали бы, дескать, простите, век молиться за вас станем, кормильцы дорогие. Дак нет же, мало того, что шкуры с нас живых снимают, дак взяли манер, должно быть, от Иосифовых братьев, которые продали брата своего Иосифа в Египет. Вот и господа, которые продают нашего брата, играют роль Июды... Бедные черви, по земле пресмыкающиеся! И неужель вы не чувствуете тягости вашего мучения... А оттого и не боятся господа, что все враки, а они, промотавши наш труд, над нами же и смеются, сочиняя такие враки. Молчи! Молчи! – грозно упредил Симагин, заметив нерешительное намерение Старкова перебить.
Неожиданно в камере потускнело, посерело, зарешеченное оконце завесило мрачным пологом, лица едва проступали в сутемках. И оттого, что надвинулась потемень, души особенно раскованно и желанно внимали каждому слову, находили его своим, необычным и желанным. Никто вроде бы не трогался со своих лежбищ, многие лежали на койках, прилепившись телом к истертому одеяльцу, но сердцу становилось невозможно и настолько тесно и маетно, что хотелось немедленно мщенья, огня, воли и крови.
Старков, бывший невдали от Симагина, даже в сумерках особым душевным зрением увидал, как исковеркалось судорогою изможденное, испепеленное лицо, и, невольно потупившись, сокрушенно пожалел сожителя: «Боже праведный, как тяжело, кабыть, гневному, растерянному человеку. К пропасти мчит и не ведает пути гибельного». Доната Богошкова слова захлестывали, и он словно бы выпрямлялся от необычности их: вот воскликни сейчас Симагин, дескать, поди за мной, вьюнош, и Донат не колеблясь, словно слепой и зачарованный, преданно пошел бы служить проповеднику.
– Ты вот скажи, Старков, нищей братии, чтобы она успокоилась. Скажи: ада нету, не-ту-у! Слышите меня? И рая нету! И все придумка, врака богатых развратников, чтобы лучше творить свои утехи. Они-то хитрые, они знают, что там ничего нету, а вы, дурачье, слушаетесь господ да мучаетесь покорно, как бараны бестолковые. Иль взять вон Евангелье. Оно повествует о чудесном Рождении Христа. Для чего же? А для того только, чтобы быть мучиму и распяту на кресте и чтобы весь род человеческий пострадал подобно ему. Только он мучился, может быть, двенадцать часов, а весь род человеческий должен мучиться 1829 лет и семь месяцев. Хорошо же он над нами подшутил! Мы носим на себе его крестное знамение только за то, что вывел он нас из одного заблужденья и ввергнул во вторую напасть, не меньше ужасную. И велел нам всем мучиться, то есть терпите, на том свете заплатят... А душа твоя, Старков, о которой ты так печешься, во время твоего издыхания останется в воздухе и превратится в ничто. Знайте же, братцы, что аду и раю нету, да никогда и не бывало, а истинный ад тут, на земле, и в нем мы ежечасно пребываем до самой кончины...
– Несчастный, замолкни! – возопил Старков. – Да как не поразит тебя гром небесный! Если бы все на миру истинно мечтали попасть в Царствие Небесное, то давно бы это царствие, этот рай устроился на земле. Вы сами не хотите этого рая, са-ми...
– Вот, вот... Жирные никогда не захотят сравняться с тощими. А значит, обман все и ересь. Слушайте, братцы, я вам несу новый свет. – Симагин захлебнулся, и весьма вовремя, ибо загремел ключ в двери и появился надзиратель, высоко вздымая фонарь над головою и подозрительно разглядывая камеру.
Что-то, видно, он уловил смущающее, разлитое в самом загустевшем воздухе, и, подсчитав наличие арестантов по головам, закричал придушенно:
– Пошто без света? Пошто впотемни без дозволенья?
– Безумец, – прошептал Старков, жалея новоявленного проповедника.
Вот, казалось, снизошла монаршья милость, простили человека, достали из соловецкого мешка и повезли в Сибирь на высылку. Худо-хорошо, но все-таки по-человечьи жить можно, дом завести, жену, там и дети пойдут. А он как с веревки сорвался, вон куда занесло, беднягу. А если донесут, если найдется суконное рыло, гугнивый наушник, захотевший подзаработать на ближнем? Поди, есть такой? Без наушника ни одна камера не живет.
– А ну, чтобы запалить! Да без дурачества мне! – командовал надзиратель.
– Гроши-денежки хороши. Нужды за-ради экономим, господин надзиратель, – угодливо отозвался Король. Чиркнул кресалом, запалил огарыш.
Камера ожила, наполнилась лохматыми тенями: они зашевелились, потянулись к потолку, к порогу, схлестнулись с тенью ночного сторожа.
– Чтоб без баловства. Не то живо в секретную! – прикрикнул беззлобно караульщик и захлопнул камеру.
– Ну и речист, бродяга. А коли пытать учнут?! – спросил Король.
Подкрался неслышно, будто хотел тайно ударить ножом, лицо его щерилось, из черного, спекшегося рта несло перегаром. Желвак на лбу при свете ночника выглядел уродливо темным, разросшимся.
– И пытать начнут, не отступлюся, – подтвердил Симагин, нерешительно отступая к стене и сливаясь со своей тенью.
Ему вдруг стало зябко и опустошенно, будто излил, выговорил всего себя.
– Слышь, Зубов! Тащи складничок, говоруна пытать будем. Проверим фраера на бойкость, – может, поддразнивал Король, или такое намерение имел, желая вернуть былую власть, или скоморошничал, думая продлить то невольное, разгульное настроение, что воцарилось в камере от симагинских речей.
Но Донат, особенно зоркий сейчас и благодарный Симагину, обрубил веселое настроение вора:
– Эй ты, гуня, заткнись. А то на уши наступлю.
– Ты, козлик молочный, канай отсюдова. Но, впрочем, младенец, я всегда готов выпить за ваш счет, за мое здоровье. Может, чокнемся?
– Давай чокнемся...
– Эй, братцы, отступитеся! И пошто вас мир-то неймет? – закричали из глубины камеры.
– Скушно-то как, Господи! – повел плечами Король и, нарочито широко зевнувши, кобениться, однако, бросил и отступил в свои владенья.
Глава тринадцатая
Остались же на сей день в камере сидельцы: отставной рядовой Лукьян Новиков, что обвинялся в намерении растлить девочку Балдышеву; Степан Логинов, судимый за противозаконный сбор денег по шесть копеек с крестьян за подводную провинность; отставной унтер-офицер Павлов, застреливший из ружья вдову Анну Митрофанову; Никита Павловский да Гриша Попов, сидящие по ограблению питейного дома; да Симагин, страдающий за вольные мысли и недозволенные письма к императору; Алексей Старков – противник никонианской церкви – и Донат Богошков, угодивший за дурное намерение на жизнь уездного землемера.
Пятеро были пороты тем самым катом Спиридоновым, который пытался делать фальшивые деньги, после влюбился в арестантку Марью Неплюеву и собирался взять в жены. Дозволения же обручиться с девкой Неплюевой ему не вышло, и Сашка Спиридонов, окончательно разочаровавшись в несчастной своей судьбе, захандрил и забросил палаческую должность. Он так запустил свое ремесло и так паршиво исполнил на площади заплечную работу (два раза промахнулся и ожег пониже ягодиц да пару раз шкуру вспорол кнутом), за что и сам в кордегардии был немедленно выхожен розгами и в своей тюремной комнатенке, затоптанной и заплеванной, стыдясь помощника Рюмина, долго плакал от пьяной злости, заливая слезами копеечный гербовый лист: «Прибегаю к стопам ног ваших, прошу и умоляю как милосердного начальника нашево воззрить милосердным оком на мою судьбу определенную всемогущим Богом за мое прегрешение. Я осмелился в третий раз прибегнуть к вам, но как к милосердному отцу, ближнему начальнику своему, и прошу обратить внимание ваше об увольнении от настоящей должности, занимаемой мною. Прошу вас, ваше высокородие, дабы отправить меня к следованию пути, куда я принадлежу по закону, потому как еще в сухое время дабы пройти неудобный трахт. Дороги, особенно в осеннее время, в здешней губернии худые, грязный чежолый путь. Но как товарищ мой Рюмин обязуется исполнять один оную должность ката до определения вновь на мое место другово палача, то ваше высокородие будьте столь милосердны, заставьте за вас вечно Бога молить дабы уволица от занимаемой мною должности и следовать куда я принадлежу».
Фанфарон был Степка Рочев, по прозвищу «Король», фанфарон и игрок с ребяческими замашками, вовсе недостойными для пахана, кое место напрасно тщился занять кудрявый седой бугенок с тавром на лбу; и потому зряшно он кобенился, выгибал грудь и строжил глаза: выпирала натура, выпирала, и не спрятать ее. Есть такая порода людей: и сердитый вроде бы, и покрикивает часто, и грозой грозит, норовя испепелить встречного-поперечного, но вот никто его не боится, никто не остерегается. Истинной злобы не народилось в Короле, той самой молчаливой злобы, которая неисповедимым образом передается другим и угнетающе страшит, стоит лишь взглянуть на побелевшее каменное лицо с напряженно сжатыми губами. Споткнешься об это лицо и в молчании вдруг услышишь, как скрипят, выкрашиваются зубы и кипит, готовое лопнуть и кинуться вразнос, атаманское сердце...
За месяц сидения после стычки впервые подошел Король к Донату и, не сымая с лица презрительной ухмылки, попросил:
– Дружок! Подкинь пятиалтынный на косушку! Душа просит.
– Откуда... От сырости?
– Ну гли, паря, гли. Скупого черти дерут.
– И были бы, дак не дал...
– А нет, так будут, – шепотом наобещал Король, еще не думая, что к чему, и тут же сладил в мыслях гнусненькое дельце.
Все ушли на утреннюю выть, а Король остался. Он после отправится, когда опустеет трапезная, пропахшая капустными штями, и повар Герасим устроит ему на сковороде телячьей обрези со свиными шкварками: вчера караульщик принес с рынка четыре фунта холмогорского мяса по пяти копеек за фунт да кулек кедровых орешков. За что такая честь душегубу? Ведь даже тут себе выгадал, устроил особый распорядок, столовался отдельно от прочих, параши не выносил, дров не таскал, печей в камерах не топил. Видно, чем-то взял смотрителя (не на испуг же?) и повара Герасима Тюрина, соломбальского лысого мещанина, купил иль улестил. А может, устрашил? Напугал своей странной, дикой выходкой появляться внезапно и вроде бы ниоткуда, при закрытых дверях? Настращал так, что бедный Герасим при виде Короля сразу с лица линял и худо с ним приключалось. Да и как не худо? Сами возьмите в толк: явится вот такой шиш лесовой средь кухонного чада, как тать полунощная, словно нежить сатанинская, сподручник дьявола, на неслышных шагах подберется, длинный поварской нож ловко украдет (куда бы ни прячь его) и давай точить его о край плиты за спиною Герасима. Три раза повар надзирателей кликал, и бить пытались, в секретную кидали на хлеб и воду, а Королю неймется. Снова: вжик-вжик...
Сидел Король, смекал умом, как бы лучше вылезти из неприятной истории. Край как не хотелось идти снова в каторгу, кормить вшей. Вот и замечталось Королю угодить в палачи, постегать людские казенные спины. Пока распутица, пока дороги раскисли, можно под крышей перетерпеть. А из кандалов, когда окуют, попробуй перекинуться, тут уж не до воли. Это здесь, в палачах, вроде бы и в тюремном замке, но опять же в своей каморе, сам себе хозяин и распорядитель, каждую неделю с конвойным можно и на базар наведаться иль посетить целовальника, опорожнить косушку. Тут ты вроде бы и с дозорным, но и сам по себе: на базаре народу как мух мясных, толкутся, орут, лавок да палаток сотни, да всяких посудин на Двине у прибегища тыщи. Долго ли затеряться маленькому человечку, а там, глядишь, и в Норвегу открытый путь иль куда далее: цеди рваным неводом воду, лови рыбу.
Как услышал Король, что пропали у повара деньги, сразу смекнул, чья работа. Явился Зубов в камеру под чертиком, знать, денег раздобыл, да и не один разговелся, в компании сидел. Долго шатался Король по коридору, приглядывался к зарешеченной двери, где помещалась женская больничная камера, двугривенный сунул надзирателю, чтобы не приставал, дозволил прохлаждаться в запретном месте. Все-таки дождался арестант сына Авдотьи Осетровой (что сидела в замке с четырьмя малыми детьми), насыпал пригоршню кедровых орехов, поинтересовался, как дела, расположил скоренько пятилетнего мальчишку, а парнишонок, радый, что с ним так запросто разговаривает такой матерый человечище, живо все выложил и про жизнь свою, и про мамку, что у нее вот нынче денег куча цельная появилась и теперь они, Осетровы, добро-хорошо заживут.
Эх, мальчонко-мальчонко, не душа у тебя, а ватный комочек, продутый ветром; да и то сказать, откуда взяться в сердчишке твоем хитрости и коварству, хотя и сидишь ты средь сомнительного люду и видишь то, запретное и ужасное, что и взрослые-то люди боятся знать, от чего обороняются вечерней молитвой, укладываясь спать, и шепчут: «Упаси Господи». Многое ты успел впитать, многое, и все-таки наивное простодушье не иссякло пока по младости лет. И сказал Король:
– Слушай, Санаха, ты мировой парень. Поди позови мамку. Дело есть.
Побежал мальчишка, позвал мамку, радый услужить. Посмотрел Король сурово и заморозил бабу, простоволосую, с припухшим, нездоровым лицом. Спросил только:
– У тебя деньги?
Она согласно кивнула головой, не сводя взгляда с лица Короля, потом покорно пошла в больничную камеру и принесла четырнадцать рублей с полтиною.
– Благодари Бога и меня, – не гася жестокой ухмылки, сказал Король. – А то б гореть тебе в геенне огненной. А деньги я верну повару.
И баба снова покорно кивнула головою, и пальцы ее, впившиеся в решетку, побелели.
– А теперь поди, – разрешил он, и баба вяло, неживо повернулась и, как усыпленная, пошла прочь.
Дверь камеры распахнулась, и в проеме Король увидел ровный ряд кроватей и двух девчонок с подоткнутыми холщовыми юбками, красных, распаренных, с вехтями в руках. Это были дочери Осетровой, двойняшки, они, наверное, мыли пол; уже сейчас, в своем малом возрасте, были они удивительно схожи с матерью этой припухлостью лица и глуповатыми распахнутыми глазенками. Они словно бы родились в камере и собирались здесь состариться, так чувствовали себя здесь уютно и домовито. Меньшая из них, увидев Короля, хихикнула, показала язык и, споро нагнувшись, плеснула в его сторону из лохани помойной водой.
Последним заявился в трапезную Король; его уже поджидала сковорода с телячьими вырезками, пузырились, пряно пахли золотистые шкварки. Ел арестант неторопливо, как господа кушают, вилкой и ножом управлялся ловко, с той деликатностью и манерностью, коей владеют благовоспитанные люди. Рот красный, сочный, жадный, но ел, однако, душегуб, как девица на выданье, за ухватками и привычками коей досматривает жених, отыскивающий в невесте скрытые пороки. Распорядился сполна, зачистил арестант увесистую сковороду, квасом запил, рыгнул и обругал повара между прочим:
– Полорото чудо, эх полорото...
– Чего так напустился на меня, Король? Это вместо благодарностиев-то, да? Вот тебе и здорово живешь, – решил обидеться Герасим.
– А вот так... Раззявь пасть-ту пошире, дак и не то еще стырят. Ядра обрежут да кисет пустой пришьют, а ты и не услышишь. И много взяли-то? – скучно спросил, без видимого интереса. А знать хотелось: не обманула ли баба Осетрова.
– Пятнадцать рублев взяли, паразиты. Весь наличный капиталец, да ишо, коли по правде, кисет кожаный, шитый стеклярусом. Ты пошто про кисет-то заговорил? – вдруг перебил повар объяснение, заподозрив в чем-то Короля.
– Полорото чудо, эх полорото. Я ли не друг тебе?
– Да и то верно...
Воистину простодыра Герасим, и тюремная служба не выветрила доверчивости. Ведь не зря же Король целыми днями торчит в коридоре, как на службе: притаится за углом, сольется со стеною и, как тень, едва очерченная скудным, рассеянным светом, дозорит за всеми. Идет мимо сторож, вздрогнет, плюнет в его сторону, вскрикнет, осердясь: «Пошел в камеру», руку вскинет, норовя дать взашей, но остережется. Лишь долго ворчит, гремя ключом в дверной скважине. Все видит, все знает Король; и не ускользнуло от его глаз, как подымался повар по лестнице наверх к смотрителю, и как возвращался оттуда, едва владея туловом, после мертвецки павши на деревянный диванец в углу кухни, и как скользнул туда Зубов, а после вынырнул, воровски озираясь, и, насвистывая песенку, бодро прошел в камору к палачам. А ему-то, Королю, какой смысл наведываться к Герасиму? Так нет же, посетил кухню, в сундучке порылся, но ничего годного не нашел, лишь подобрал походя со стола кисет, шитый стеклярусом, да долго крутил в руках нож, примерялся взглядом к лезвию...
– Ты бы пошарился у нас в камере. Глядишь, и нашлись бы, – вдруг посоветовал Король уже с порога.
– Дак шарились...
– Худо, знать. Ты не медли, не медли. По секрету ежели... Есть у нас длинный такой, с Мезени. Больно рожа воровская. Не в подушке ли он чего таит.
И скользнул в мрачный сырой коридор: горела сальница, пламя качалось от сквозняков, но душнину от звериного жиру не пробивал даже свежий воздух. Сначала собрался в палаческую, но раздумал, решил погодить, затаился в затулье. Сновали арестанты, носили дрова, грохотали беремями, затапливались первые печи, и веселые багровые отсветы стекали на сумеречный лещадный пол, заплесневелый в углах. Со стороны караулки вскорости же появились смотритель Волков, надзиратель и повар; они ненадолго скрылись в камере и тут же повели с собою мезенского долгого парня. Повар, задышливый и тучный, порой подскакивал сбоку и все норовил Донату кулаком в печень; арестант вскидывал норовисто голову, но молчал.
– Вот как хорошо. Уж больно как хорошо. Сто шишов ему, кулачному бойцу, – прошептал Король и отправился в палаческое житье.
Робко постучался Король в палаческую; старший кат Сашка Спиридонов валялся на месте, скулил от тоски, волосы на палец крутил да разглядывал, заведя глаза под лоб. Его подручный Рюмин, овладев вполне заплечным делом, был в отъезде на Онеге, отправлял должность, жег чью-то спину и метил лоб.
– Пойти бы зарезать кого? – мечтательно протянул Спиридонов, завидев гостя. – А тебя, братец, стричь пора. Вон каракулю наростил. Прямо затулье для вши.
– Лучше задницу для кнута готовь. Испишут нынь по первое число, – обещал Король, а сам мечтательно улыбался и в камеру не входил, но выглядывал в коридор, косился в жиденькие сумерки, где едва маячила фигура надзирателя. – В кордегардии есть умельцы. Ой распишут...
– А за что? – Спиридонов уселся, сбросил с кровати ноги.
– Найдется за што... С Зубовым намедни водку пил? Пил... На ворованные деньги глотку мочил. У Герасима Тюрина свистнул. Только ты молчок, слышь?
– Не хочу катом, не хо-чу-у, – вдруг завыл Спиридонов. – Мочи нету, рука сохнет. – Палач понарошке иль всамделе скрутился на постеле, голову зарыл в подушку, глухо, с придыхом тянул: – Не хочу ка-то-ом...
– Дурак... Хлебное место.
– Рука сохнет.
– Ты с Зубовым не вяжись. – Король еще раз выглянул в коридор и торопливо захлопнул дверь. – Это еще та паскуда. Он тебя под монастырь. Ты откажи ему, скажи – не хочу. Не хочу тебя в преемники – и точка. Да и сам посмотри, какой из него палач: его плетью перешибешь, это ж сопляк кривой, мозгляк. Там рука нужна, там норов, оттяжка... Ты меня научи: я смекалистый, живо в науку войду.
И, будто случайно, прихватил за щетинистый волос, плотнее надавил в затылок большую ушастую голову, готовый удушить ката. Тот лишь мычал, но не вырывался шибко, будто готов был сладко замереть тут же, и видно было, как побагровела, налилась жгутами шея. А Королю отчаянно и весело, звериное желание накатилось на душу, и так хотелось ущемить и напрочь перехватить чужую жизнь: вот еще дернется головенка, вздрогнут мозолистые коричневые пятки – и нету более на свете палача.
– Ты откажись от него, слышь? – вдруг рывком приподнял голову, заломил назад, так что скрипнули позвонки, и глаза, животные, равнодушные, налились кровью. – Откажись от Зубка, а то сломаю. У меня ведь скоро. И никто не узнает. Я и так могу, слышь?
Перекатил Спиридонова на спину, как бревно, как топляк замлелый; тяжелый кат, будто свинцом-оловом залит. Тот очумело водил глазами, трудно приходя в себя, еще не воспринимая случившегося: словно мечом небесным неожиданно ударило, покарало за грехи, попробуй очнись тут.
Глава четырнадцатая
И были Таисье сны один чуднее другого. Бабы приходили, судачили, им дивно было, что такая-то молодая жонка в веру ударилась.
– Во здравом ты уме али как? – приставали с расспросами. – Взабыль коли ты, девка, так за нас помолись.
Одна же спросила:
– Тайка, ты в неби-то летала, мужа мово там не встренула?
– Много народу всякого встренула, ой много, – задумчиво отвечала Таисья и замолкала, словно бы зажимала уста, чтобы не проговориться, не сказать лишнего: ведь как знать, не примут ли за блажную дуру, кою к цепи привязать да чтоб сидела в запечье, не показывая носу.
– Вишь ты, – рассуждали бабы. – Баешь, народу-то много. Дак и то. Куда им деваться.
С радостью душевной стала Таисья собираться из мира: из штуки отбельного холста сшила себе саван да ступни с завязками, белья пару пестрядинного да синий старушечий сарафан-костыч, черным повойником повязала голову, и губы, прежде цветком алым расцветшие, ныне потонели, увяли, заголубели, и две горькие складки оттянули рот подковкою. Но взгляд просветлел, и как в родник можно было глядеться и видеть всю кроткую, хрустальную глубину его. Первые дни, узнав, куда собирается жена, Яков грубо всхохатывал:
– Ну и поди, дура! Тебе, кочерыжке, в самый раз.
Кобенился у порога, вожжи перекидывал из руки в руку, будто жгли иль примерялся, как ловчее подступиться к бабе да ожечь сплеча, чтоб сквозь пробить рубашонку и вспахать льняной белизны тело. Ой, сколь желанно оно, сколь ненасытно: пил, а напиться не мог; вот как воды ключевой брал на язык, а заглотнуть вдоволь опасался, чтоб не обмануть горло студянкой, не заморозить его. Вот и пил вполглотка, лишь дразнил себя. Да потому и напиться-то еще не мог, что как колоду брал Тайку: вроде бы и поддавалась руке и к телу никла, но словно рыба квелая, хватившая на берегу воздуху. Режь ножом, пластай на звенья – будет лишь покорно взглядывать из-под тяжелых, напухших век, а глаза белые, сонные, снулые: каменья-голыши, облитые морской пеною, но не глаза. Ах ты, прости Господи. Валял и мял бабу, только что через коленку не гнул, так хотелось Яшке, чтобы вскричала, взвыла, прокляла; чтобы голос взвился, чтобы щеки заалели. Порою такая тоска горячая приступала, минувший год заново всплывал, что ненавидел Яшка бабу и брезговал ею, и тело казалось липким, неживым.
И вот засобиралась Таисья, а все не верилось Якову, думалось – игра, забава, чтобы растравить, распалить сердце, обновить душу, а тогда любовь, как перевертень, иное обличье примет.
Кобенился Яков, играл вожжами:
– От Господа-то брюхатеют, дак святыми опосля. Поди-поди, а я посмеюся.
– Христос с тобой, Яшенька, – вздымала брови Таисья. – Ты почто на худое рожен, голубчик?
– Голубчики-то в жеребцах ходят, а ты меня лошадью обкладенной сделала. Поди-поди, хоть руки мне развяжешь.
Темнел и без того ночной взгляд, диковатый, с проблесками коротких гневных молоний в глубине, а тут стал, как вар, черным. Татьбой бы такому человеку заняться, душегубством, самое время в зеленые братья пойти, а он вот от любви горел уж который год и от постылости своей исплакался нутром. Знать, постылым коли рожден, то сиротою и заморожен. Не выбиться из судьбы, не переиначить, как ни выкручивайся из кулька в рогожку, сколько себя ни обманывай.
И ведь счастье вроде бы пришло, житейское счастье – зажился, житьем обзавелся, женой вот, но все счастье какое-то однобокое, безрадостное, с червивинкой.
А у Таисьи нынче взор светлый, радостный, нет в глазах прежнего зеленого любостайного хмеля, подвигающего к соблазну, не тешатся похотью тайные мысли, не подвигают на грех и истому. Говорят в народе, что от такого кроткого детского взгляда не деться никуда самому скрытному, лукавому человеку, ибо самую-то черновинку, самое потаенное и коварное добудет из глубины, и, почуяв, что пронизал тебя бесхитростный кроткий взгляд, ты вдруг заалеешь лицом, готовый провалиться сквозь. И подумается тогда: какой же я, однако, черный, испепеленный человек и как только меня мати-земля носит.
Вот и схлестнулись глаза в глаза – и Яков не выдерживал жениной кротости, смирел, как покоренный трехлетний жеребчик, принявший в загубья железную затычку, и нутро его все сжималось, корчилось от скорби, и горло становилось деревянным. Но ведь он мужик, он хозяин, натуристый, своевольный, ему ль унижаться и падать ниц; а готов был, честное слово, готов был склонить выю, подол целовать, когда уж впрямь подошло, накатило к сердцу, когда понял разумом – все, уходит благоверная, покидает Таисьюшка. Не уезжает на ночевку к сородичам, не к соседке в гостевое застолье намерилась, не поклоны бить в приморский монастырь, прося за ближних, но собралась из дому навовсе. Вот шагнет за порог – и как не было, как приснилась в душном летнем сне в пологу. Ковырял крюковатым пальцем, будто сорина угодила в глаз, но себя стропалил, ожесточал, улыбка ехидная не покидала губ: дескать, давай, давай, касатушка. Дом-то кинешь, дак как бы в обрат не вертаться. Вернешься да поцелуешь дверной пробой, вот какие дела твои.
Закинула Таисья за плечи берестяной пестерек с нехитрым дорожным зажитком, осенилась раскольничьим знамением, мужу поклонилась в пояс:
– Прости-прощевай, Яшенька, коли что. Во скиты иду и обратно дороги не чую. Прощевай...
И не успела за порог ступить, отец явился, серый, как песец-крестоватик, весь высохший, испитый, не признать в нем прежнего, дородного и громогласного.
– Настропалилась? Уходишь?.. А может, унялась бы? Приневолило?.. Все-все... – спохватился, перебил себя отчего-то испуганно, хотя дочь молчала, смотрела сквозь, куда-то в пространство, и смутная полуулыбка жила на стершихся поникших губах.
– Прощай, татушка! – грустно ответила Таисья. – Вишь, Бог призвал.
– И поди, коли призвал, – поднял голос Петра. – Поди, поди! Молись за нас, грешных. Провиант, ежели что, деньги ли, так дай весть, – уже крикнул вдогон, выйдя на поветь. – Ах, доча, доча, – прошептал.
Как перст, стоял на взвозе, словно с жизнью простился навек, увидя край. Все бежал иноходью, ломил, как лошадь, дня-ночи не знал, за семерых робил, забывая поесть. Вот и глотом прозвали, что был столь зараженным на работы, – времени жалел на выть. Однажды кукушку живьем съел. И к чему копил, к чему? Любимую-то дочь не устроил, как есть продал и предал.
Качнулся Петра, маленькая гадючка под грудью ожгла, потянула, начала сосать нутро: ожила грызь, воспрянула. Еще сколько-то потешится, поиграется с мужиком, а однажды ночью и удавит.
А ведь сколько всего было в мыслях: какие прожекты, в какие-то только страны и не залетал в мечтаниях. Вот пока вперед смотришь – и времени нет, и исхода нет, и как наивный бессмертный человече намечаешь себе столько всяких трудов и забот; но вдруг оглянулся назад, а там – жуть.
Дочь, как ольховинка приречная, вся в черном. Уже батажок был готов заранее: из-под взвоза достала, поотряхнулась, привыкая к пестерьку, и заулком, по репищам пошла прямиком к реке. Странница шла, вечная скиталица, коих много на русских путях-перепутьях: вольется она в многострадальный ручеек, и понесет эту соломину куда как далеко путями неисповедимыми. И где бы ни водило ее, в какие бы басурманские земли ни заносило, как бы ни помышляла калика перехожая о Боге, но мыслями-то всегда будет неотступно в доме отеческом, на родимой земле. Только не оглядывайся, Таисья, настрой неспешный шаг, иди смиренно все далее, далее, пока не захватит, не поглотит лесное суземье. А там и остановись, и поплачь, коли придет охота. Не оглядывайся, доча, иначе не будет тебе пути.
Ведь оглянешься назад, а там – жуть. И сердце твое колыбнется в растерянности.
Прожита жизнь, прожита.
Посреди людей будто бы, и дом полон, а как перст одинок нынче Петра Афанасьич Чикин.
Оглянись, до-ча-а, оглянись! Одумайся, доча-а! Смирись, охолонь, заживи с мужем, дети пойдут, заселят лавки, весело станет в избе – и все дурное забудется. Будь проклят Донька, Калинов сын, и отец его будь проклят, пусть кости его на каменном острову растащат псецы.
Запнулась? Мелкий камешек попал под ступню? Нога в лодыжке вихнулась, приноравливаясь к заскорбевшим дорожным чуням? Иль что-то позвало из темного поветного нутра, где, затаившись, плакал Яшка? Иль нерожоное дитя, схороненное под порогом, окликнуло? Кто теперь охранит его, кто заступится?
Чуть замешкалась Таисья – и не оглянулась, вдоль городьбы прошла замежком, по-за репищами неловко перелезла, путаясь сарафаном в суковатых жердях; потом оправилась, присогнулась, привыкая к долгой ходьбе, и превратилась в черницу, в монашенку, в христарадницу, в коей уже трудно будет признать прежнюю белоголовую Тайку.
Спустилась к бережине, крикнула перевозу, на правый берег надо попадать, где желтым пояском взбегает на всхолмье песчаная дорога. Спит, поди, перевозчик-то, дремлет в избенке, прячась от паутов: полез на белый свет ошалелый овод, спасу от него нет, ни терпенья. Уже по-иному, с мягкостью в сердце подумала Таисья о всем живом и ползающем, что вились вокруг, обвеивая крылами восковое лицо и нестерпимо звеня.
– Э-эй, перевозу! – тонко позвала.
Огляделась, а на тебе: возле своего приколу и стоит, вот их, шумовский, стружок и весельцы, под задним уножьем деревянная плица, садись и поезжай. И только вознамерилась ногу через бортовину закинуть, как сзади топот. Не сдержался, не стерпел Яков в поветной темени, выскочил на волю, догнал супружницу. «Как через реку попадать, верно? Андрейко Косой, поди, дрыхнет, а бабе что, помирать? Засобиралась, дак не отступится». Так оправдался перед собою Яков, больной душе дал слабину, короткое утешенье. Но сажней за десять смирил бег, подошел степенно, суровя брови, столкнул стружок на быстерь. Греб резко, нервно, закидывая назад голову, порой запинался весельцом о струю, окатывал Таисью ворохом прозрачной натеплившейся воды. А она и не замечала вроде бы, устремив взгляд на противный, скоро надвигающийся берег. Стружок ткнулся в песчаную рёлку (сажени три не дошли до пристани), Тайка не удержалась, шатнулась вперед, в готовные мужние руки. Сразу не отпустил Яков, попридержал жену: не упиралась, не рвалась, но словно бы чужую бабу перехватил случаем; пахло от нее речной свежестью, ладаном и тем иноческим травным духом, коий скоро обретают много постящиеся и молящиеся.
– Может, вернешься? – вдруг не сдержался Яков, спросил надорванно, никак не мог отрешиться от надежды.
– Может, и вернусь, – легко согласилась Таисья, только чтобы утешить сиротею. Бездумно согласилась, но ничего не увиделось впереди. А на сердце ни зла прежнего, ни скорби, ни отвращенья к мужу, но жалко было его, как дитя свое, выношенное под грудью, когда покидаешь вдруг, не зная обратного пути. Ведь любил все-таки, и, знать, крепко любил, коли страдал и плакал, как лесной голубь, и все-все простил. – Похожу и вернусь, ладно? – смиренно повторила Таисья, словно бы спросилась согласья на отлучку, но душою-то знала наверняка, что уже никогда не увидит благоверного.
Застыл Яков, как дрын проглотил, лицом почернел и вовсе сдался: нашла натура на натуру, и вроде бы слабенькая, как стебель плешивца, бабешка одолела, пересилила своенравного, жиловатого мужика. А и что говорить, есть в бабе та тайная отрава, та пагуба, то колдовское зелье, что вливается в тебя неслышно и вяжет по рукам-ногам: все силен вроде был, а тут вдруг пал, и нет в тебе воли. Уж такое это существо. Где уж Якову с его надорванным любовью сердцем покорить Таисью, вернуть в постылый дом? Долго смотрел мужик вослед жене, как подымалась она на взгорок, трудно проволакивая ноги в серой мучнистой пыли, и вот словно бы размыло ее в июньском мареве, призавесило туманцем, и уже не благоверная супружница отшатнулась на запольки, к синей гаежной стене, куда вступал мезенский тракт, а черная собачонка покорно трусила в поисках изгон-травы. Встряхнул Яков головою – никого на дороге, пропала Таисья, как и не было..
Казалось бы, это Евстолье Чикиной по ее нескладной, неурядливой судьбине самое время служить Господу в монастыре иль скитской келье, а младшей сестрице положено продлевать род человеческий, чтобы не скудел он на земле на матери, ибо писаная лицом была девка от рожденья. Немногие пока знали Таисью в обличье, прежде редко выезжала она в мир, и разве кто из родственников, ежели случаем попадет в дороге, так выспрашивал, дескать, далеко ли, свет батьковна, срядилась в страдное время, да не стряслось ли в семье греха какого, да здоров ли сам-то, имея в виду большака, Петру Афанасьича. А Таисья и ответствует, потупив голову:
– В скиты вот иду, в кельи, за вас Бога молить иду.
Серьезно скажет, печальным, задумчивым голосом, а после подымет кроткие, сквозь глядящие глаза, от коих не скрыться; и если бы кто любопытный и захотел бы поначалу рассмеяться от неожиданного признанья, то, глядя в мирное, восковое от долгих постов лицо, тут же и погасит ненужную усмешку.
Ну а если прижмет Таисью голодом, когда корочку постную иль сухарик пососать самое время, вот и пристанет она ко крайней избе, коли случится в ту пору деревенька иль выселок какой.
Дошла Таисья до Мезени, странницей-черницей притулилась под косящатое сестрино окно и уже по привычке, гнусавя, затянула песню нищей братии. Евстолья дома привелась, окно-то готовно отпахнула, в руке колобаха житняя на коровьем масле да полпирога рыбного трескового. Вывесилась в окно, проем забила туловом, сама себя шире баба, лицо зоревое, надутое, в зеленоватых припухших глазенках умильная сытость: развезло Евстолью на добрых харчах. Нынь сама себе голова, вольная хозяйка, ни попрека, ни упрека: хочу – встану, хочу – лягу. А когда Калина погинул, думала попервости, до смерти уревется, не отойдет от дурной слезы, уже голову до темени зашибало: ведь молонья грозовая в самое сердце угодила, и как было тут не завянуть сиротине, да с малым дитешонком на руках.
Милостыньку-то сует Евстолья, видит из проема синий пестрядинный сарафан-костыч на узких девчоночьих плечах, на ногах башмачонки дорожные, заскорбелые, на голове черный плат шалашиком; но как ни туго затянуты, запеленуты волосы, но две белые кудерки выбиваются на виски. Что-то знакомое почудилось Евстолье, и уже со смутным сердцем спросила:
– Чья ты будешь, голубеюшка?
С интересом спросила: поди, с дальних земель бредет черница, много чего повидала. Не из семженских ли келий ходила по свету в арапские Палестины.
Но подняла странница голову – и охнула Евстолья:
– Да не ты ли, сестреница? Поди скорей в избу-то да сказывай, горемышная, куда намерилась в монашенском обличье? Не с дому ли ушла?
Не ответила Таисья, лишь кивнула головою: чего объясняться, по одеянию все видно...
За столом-то у самовара чего только нет, но Таисъя лишь отщипнула от рыбника постный окраек, пожевала задумчиво, как беззубая и глухая, и сказала вдруг:
– Ты вот Богу служишь, просвирня, а толстая, как порося. Грешишь, видать, много?
– А кто без греха-то? Без греха рожи не износишь, – растерянно хихикнула Евстолья, не зная, как себя повести. «Вот те и раз, – подумала она. – В кои веки свиделись, а сразу просвирней обозвала. С полюбовником-то бегала, дак не набегалась, и с мужем постылым не нажилась». Тайно выбранила гостью, но угодливой улыбки с лица не согнала. Хотя осердиться бы надо, вон как на сестреницу родную накинулась; но коли озлишься, то всегда при своих интересах и останешься. Да и опасно, ой как опасно сердиться. Как бы сквозь незримым пламенем прожигает Евстолью, и сразу тоска под сердцем. – Ты меня понапрасну не кори. Онамедни хоть в гроб ложись, а ныне встала да оклемалась – и опять как ягода. С сердцем-то прижмет – и катаюсь, оттого и лицом-то будто брусеница... А ты-то не к семжанам ли в кельи?
И снова Таисья молча кивнула, не сводя взгляда с порога, словно поджидала кого. Тут сын Евстохин прискочил с улицы, рыжеватенький, мордочка козья, клинышком, глазенки перламутровые, удивленные, вопрошающие. Впился в Таисью, мгновенным взором оценил пришлую и долго не сымал с гостьи взгляда, и Таисье под этим проникающим досмотром сразу захотелось исповедаться.
– Глебушка, это твоя тёта. Она в кельи намерилась, – сказала Евстолья. – Позвало, что ли? – спросила грустно, отчего-то пугаясь сестры.
– Аха... Позвало... Ты ведь помнишь, как прихватило меня? – тихо заговорила Таисья, не сводя взгляда с племяша. – Я в горячке-то было и память потеряла, нечто иное. И вот однажды лежу на кровати, а все видения. А пред тем, как повиделось, навещал татушка, читал житие преподобной Феодоры-мученицы, а я слушала, помнится, и думала: вот бы и мне увидеть, что на небе-то делается, – ой хорошо было бы. Я бы про все людям рассказала. Ведь кто ни бывает, а не слыхала я, чтобы кто назад-то ворачивался...
– Вот и я про то же...
– Ну да. Как-то под Паску в одну ночь, вижу, дверь в нашу избу отворилась, и вошла госпожа в белом платье, в чепчике с цветами и идет, идет прямо к моей кровати.
– Помстилось иль заправду?..
– Вот как тебя сейчас вижу. Сиянье такое, сиянье, как солнцем озарило все, вспыхнуло, аж глаза защемило, таково ярко стало. Я испугалась, а она и говорит: не бойся, дескать, я за тобой пришла. Я, говорит, мученица Феодора, пойдем со мной на небо, ты молила об этом. А правду коли сказать, я много молила, чтобы Бог-то взял на небо да и показал все... Тут вдруг потолок нашей избы разверзся, и мы полетели сквозь него на небо; большие белые крылья вдруг замахали у нас за плечами. Я оглянулась, а у нас на спине-то крылье...
– И неуж? Охте мне... Птичьи, перьевые, иль с полотна сурового?
– А кто знает, я и не приглядывалась. Вижу только, что крылье. С день-то мы летели времени, я смотрю, на земле люди уже махонькие такие, точно божьи коровки. Все ползут и ползут куда-то, словно нетерпеж бьет. Я спросила мученицу: много ли, дескать, верст мы пролетели? Верст, говорит, тысячу, раба Божия. Но чувствую я, однако, что мне все жарче становится, и солнышко делается к нам все ближе и ближе. Скинь, сказала мне мученица, твою земную одежду и оболокись в небесную! И, снявши с себя верхнее платье, она одела меня им, а сама осталась в другом платье, еще белее этого. Брось, говорит, земную одежду, да только посмотри, нет ли в карманах чего тяжелого, чтобы не убить кого на земли.
Я осмотрела карманы своего сарафана, а когда не нашла в них ничего тяжелого, то и бросила его на землю. Смотрю, он закружился, точно птица: вот иногда падает она, когда обожжет крылышки у солнца, залетевши высоко... Подойди ко мне, Глебушко, – вдруг отвлеклась Таисья, позвала племяша, а когда тот послушно приблизился, то зажала его тельце меж коленами и положила ладонь на рыжую маковку, будто и его посвящала в долгий путь. – Когда мы пролетели другой день, то я спросила мученицу: а теперь, мол, много ли верст мы поднялись от земли? Теперь уж, говорит, две тысячи верст.
Я посмотрела опять на землю, а там уж одне трубы на домах виднеются, а люди точно комары ползают-ползают по земле-то. На третий день мы подлетели совсем к солнышку. Смотрю я, а оно привешено, как сито к потолку, и не шелохнет, так это утверждено крепко. Палит, вижу, это солнышко, как пламя в печи, а мне совсем не жарко, и ветерок небесный так и порхает круг меня да продувает... А много ли теперь верст мы отлетели от земли, спросила я в третий раз мученицу. Теперь уж, говорит, мы поднялись на три тысячи верст и сейчас будем на небе. Пролетели мы тут вдруг синюю стену скрозь, земля с солнцем вовсе пропали, и мы очутились на небе.
– А что за стена? Деревянная? Из кругляка рублена иль из камня морского лещадного? И сколь толста? Поди, из каменья, чтобы небо-то нести на себе, – не вытерпела хозяйка.
– Дак будто пух, будто облако перьевое. Будто сквозь перину пуховую...
– Поди ж ты... Ну и ну, видано ли? Это ведь какую решимость надо! Тут смотришь коли, ведь шея заболит. Голова внаклонку, глянешь, а небо как зеркальце. А ты слетала, сеструха, не забоялась.
Евстоха побледнела от внутреннего восторга, и лицо ее, обычно зоревое, сейчас попритухло. Следом за Таисьей летела она на небо, и брал ее страх и восторг. Смотрела Евстоха на сестру, на постное желтоватое лицо и верила всему, что не вымолвит Таисья: по глазам понятно – не колоколит, не плетет небылиц, не дурит голову. А гостья, впервые доверив стороннему человеку свою тайну, по сестриным переживаниям видела впечатление и уже сама полностью уверилась, что да, слетала на небо, и не только слетала, как птица, но и в обрат вернулась. И ранее Таисья верила, что побывала в занебесье, но дальнее сомнение иль смущение, скорее всего, точило разум: а вдруг не в своем уме была, порчу какую испытала да на себя же навет навела. Разве мыслимо на небе побывать вживе? Слыхано ли сие дело? Скажи кому – засмеют. Но ведь не смеется Евстоха, каждое слово ловит: значит, была, как есть, была в райских владеньях и яблочка молодильного откушала.
– Может, одумалась бы, Тая? – вдруг жалостливо остерегла сестра. Отвернулась, слезу сронила, будто на смерть провожала Евстоха. – Ты така молода да така разова. В самом соку девка, тебе бы рожать, а ты яловая. Скитниц-перестарок и без тебя много, старых-то старух.
– Не-не... Дай срок, много будет! А пока мало! – твердо обронила Таисья. Уверилась она в себе, и что-то пророческое, властное прорезалось в голосе. Даже встала, как манатейная монахиня, и клюкою пристукнула об пол: легкий березовый батожок не издал особого грому, но трепету навел Таисьин голос. Глебко вздрогнул, не ожидая в тетке подобной перемены, испугался и заревел в голос.
Таисья мимоходом обжала влажную Глебкину головенку, ушастую, шелковую, словно бы к сыну своему прикоснулась, но тут же насуровила себя, настрожила, отшагнула за порог. Дверь, не сильно отпахнутая, закрывалась долго, с мертвым ночным скрипом: как вот призрак чужой побывал, незваный, маревый и обманный, и растаял, как пар.
И откуда что взялось? Была девка-хваленка, голубеюшка с льняными волосами, батино охвостье; завидовали только: как цветок черемховый сестрица-то наша; каждой приласкать, приголубить хотелось, ведь чего самой не досталось, все Тайке сполна выпало. А тут, смотри-ка, и двадцати не минуло, едва из девиц выпала, переменило Таисью, изжелтило. По-простому, по-деревенски уж и не окликнешь, матушкой хочется назвать...
Глебко вжался в угол кровати, плакал навзрыд, но не как дитяти, а по-взрослому, скрипуче и жестяно; плакал и тряс головою, и волосы встали на макушке, как голубиное перо.
Спохватилась Евстоха, отмахнула оконную раму, вывесилась в проеме над мезенской улицей, проросшей кипреем. Уже далеко отшагнула Таисья, властно пристукивая батожком по деревянным мостовым. И не позвать ее, не вернуть. Да и что окликать, коли ведет калику перехожую свой голос.
А маковка лета была, самая меженная пора, когда ветра опали, воды сухие, кроткие и солнце незакатное: едва коснется реки, опалит, зажжет, оплавит мерцающие струи и, отряхнув огнистые перья, опять катится вверх.
Идет, поторапливается Таисья. Бережиной да поскотиной, травяными зыбучими лывками да крутым угорьем, где набитой тропою, где скотиньим следом, через прясла и осеки, через ивовое кустье да монастырские нищенки. А кругом соитие, любовная страсть, игра и томленье; даже запах напоенных трав – это запах любовной игры, затеянной природой. Томится плоть, как бы сквозь все тело пронизывает тонкий холодок, от которого непонятная щемь на душе и, может, хочется возврата в мир, и уже с прежним восторгом не спешит под ногами тропа, и не так зазывно, лишь закрой глаза, сияет крест невиданной скитской часовенки.
Да полноте, раздумается Таисья, сбивая короткий шаг, а туда ли правит ее сердце? Те ли скраденные в лесах домы назначены были в вещем сне? Но тут же одернет себя, насуровит, губы сведет в голубую гузку, чтобы вытравить, изжить из них всякую неприметную спелость.
Глава пятнадцатая
Неделю Донат отсидел в секретной, не признаваясь в краже: на допросе молчал, тупо моргал глазами, переминаясь с ноги на ногу.
На деревянном примосте без тощего тюфячка, да в нетопленной сырой камере, да на хлебе-воде, когда горячей баланды и черпачка не перепадет, ой худо, ой скучно, невольно загорюешь и впадешь в отчаяние. Правда, к такому житью не привыкать, не из барского теста леплен, а из житних колобов. На рыбных иль звериных ловах разве такое приходилось видеть, когда небо с овчинку и загуселому сухарику рад да глотку воды, лишь бы омочить заскорбелую утробу. По знаемым превратностям жизни тут-то рай, экое чудо, жить да жить: над головой не каплет, хлеба-воды подадут. Но вот тоскливо, но грустно, хоть вой: от обиды грустно, что вот наклепали по-пустому, со всяким воровским, гулящим людом невольно поставили вровень.
Смотритель Волков каждое утро призывал Доната пред очи, домогался признанья. Нет бы высечь, намять боки да с тем и кончить смешное дело, коли нашлась пропажа. Отпустить бы на потраченный полтинник двадцать палок, пусть знает негодник, как шарить по чужим укладкам. И повару Герасиму утешенье, и все бы утихло в замке.
Волков сидел обычно на венском стуле, как бы коня оседлав, двойной рыжий подбородок на гнутой спинке, глаза навыкате задумчивы и печальны, в правой руке ореховая трость с вензелями и точеным костяным набалдашником. Кто гневил смотрителя, тот знавал цену его трости, ее крепость и вес. В архалучке с накладными петлями нараспашку, откуда виднелась тонкая кружевная батистовая рубашка, на ногах пушистые натоптанные валенки; сидел как тюремный хозяйнушко, большеголовый, чудной, и младенческий детский волос топорщился перьями.
– Сгною ведь, братец, – встречал кроткими словами. – Пошто крал? Это худо – зариться на чужое. Раньше за чужое руку и... Эх! – Смотритель резко взмахивал тростью, как саблей, и рубил наотмашь. Он вдруг наливался кровью и начинал кричать, брызгая слюною: – Сгною, запорю!.. Эй, кто там, за дверью! Старостин, веди скотину прочь! Убью, видит Бог... – Но когда караульщик собирался отвести арестанта в секретную, снова останавливал на пороге: – Ладно, уйди!
Донат мялся, как стоялый конь, мотал головою, а в голове тупо и пусто. Чего сказать, чего молвить, ибо нет мочи оборониться: вот как худой бессильный мерин, запряженный в сани. Попробуй вылезть из хомута.
– Не крал я... Не из воровского племени, – повторял монотонно.
– Он не крал, он не крал, а деньги сами попали в изголовье? Я вот велю тебя постегать, – успокаивался смотритель. – Я страсть как люблю, когда вашего брата лупят. Ежели ты не крал, так кто же? Может, на кого имеешь подозрение? Скажись, не таи... Здесь, в тюрьме, только потатчики на худое. Всякую скверну надо вот так, вот так. – И снова рубил в воздухе тростью, по-воробьиному подпрыгивал, и смешно тряслась в кружевном батистовом воротнике большая круглая голова...
– Вы бы посекли меня, барин! – однажды высказался Донат, уже принявший очередной разговор за некую причуду смотрителя. – Жалко ведь глядеть, как вы мучаетесь. Посеките, сделайте милость.
– Я бы тебя постегал сам, да лихо, рука не подымается, – не удивился Волков выходке арестанта, но в глазах его пробудился живой интерес. Все клевал носом человек, тянул время через дрему, и вдруг свежим сквозняком приобдуло, веселей жить стало. – А вдруг невинного человека постегаю?
Донат хотел огрызнуться, но смолчал, смотритель напомнил ему затмившиеся страданья. Смотритель поймал волчий заугрюмевший взгляд и отослал арестанта обратно в секретную. Забава? Причуда иль отеческая жалость? В тонком, выразительном лице мезенского парня увиделось смотрителю Волкову сыновье, кровное и доверчивое. Порой вот бывает: бродячий псишко путается под ногами, его бы пнуть под сусала, а собачонка неожиданно взглянет на вас мокрыми пуговицами, и сердце охватит такая внезапная жалость, что невольно подымешь сукина сына на руки и обласкаешь, да еще и накормить прикажешь, ежели подвернется возле часовой. Знать, есть, живет во всем невидимом миру постоянное согласие похожих сердец, кое не обмануть, не придать и не обойти. Не об этом ли и размышлял смотритель, воткнув под пшеничные усы короткую трубочку с медным мундштуком... «Такой поморец убить может, только заведи натуру; вспыхнет – и убьет. После-то и плакать будет, поди, навзрыд реветь и убиваться станет, коли загубил, извел душу ни за понюшку табаку, но это все после... Но ежели за живое возьмет да бешенством застит глаза, то по буйной искренности натуры запросто прольет кровь, чтобы всю жизнь страдать и каяться. Для собственного же страданья, выходит, переймет чужую жизнь? Вот, братцы, получается какой вопрос. Но чтобы украсть? Ни-ни... Я, говорит, не из воровского племени».
От скуки иль жалости, но невольно затянул дело смотритель, а раскрылось оно вскорости само собой. От военного губернатора Королю пришел отказ на палаческую должность. Не простили ему, что уж больно дешево оценил он чужую жизнь: за пятьдесят рублей серебром вынул Король душу целовальнику, а теперь, сказали, пусть на каторге в Сибири спасает молодец свою. Вернее всего, что почуял военный начальник тайный умысел душегуба, не поверил ему.
Тогда-то и явился, не мешкая, Король к смотрителю и, не сморгнув ночными нахальными глазами, принял вину Зубова на себя.
Дескать, черт поманил и вину свою понял. А крайняя нужда была Королю попасть в секретную, чтобы оказаться одному. Ведь этап не за горами, вскоре после Троицы, как окротеют реки, обуют всех сидельцев в железы, стреножат, окуют и погонят сердешных сквозь Россию-матушку. Той дорогой не с год ли пехаться: это барану толсторогому на роду написано бодать дубовый тын, а у Короля пока на плечах не берестяной туес. Его цепями спеленай, а он и из них рыбкой...
Сидит Король в секретной, поет со святой физиономией на лице: «Прекрасная темница, любезная моя дружница! Пришел я тебя соглядати, потщися мя восприя-ти...» Поет страннический канон, а сам с решетки глаз не сводит: страж за дверьми, шагами коридор меряет, глянет в оконце, а Король папироску курит. Не махорную соску, не травяную закрутку вперемешку со мхом и коровьим навозцем, но самую настоящую барскую папироску. Ведь вроде бы обыскан, только что не нагишом перед подчаском стоял, вылупив бесстыжие глазищи. Но вот нынче курит, разбавляет слова святой песни: «То тюрьма моя родимая, помилей отца и матери! Вы, дозорцы, люди добрые, помилей мне красна золота, подороже крупна жемчуга! Вы, залетны мелки пташечки, погребите мои косточки на чужой дальней сторонушке».
Тюрьма любым художествам научит; третий раз Король в замке и ныне любую отмычку соорудит, пачпорт подделает, фальшивую печать вырежет, монету фальшивую отчеканит и ассигнацию отпечатает наилучшим образом. Недолго маялся страж, отворил дверь, хотел папироску у вора отобрать, ан в секретной ни пуховинки дыма. Как сон, мара, чудо... Только дозорец в коридор – у Короля в руках длинный кухонный нож, и он тем ножом горло себе пилит, и явственно видит надзиратель, как льется, полыхает из разверстой шеи кровища, вот-вот дверь тюремную подтопит. Сторож опять дверь секретной нараспах, но снова внутрь не поспешил, остерегся, лишь порог на сей раз переступил, сапогом взболтнул лужу, а ее и нет, лишь странный отсвет рудяной от дальнего невидного солнца. Не на шутку озлился страж, стал собачиться, заглушая страх:
– Ты што это, вредина, учудил? Ты че, изгаляться надумал, грибан лешов? Вот как возьму на привязку да и сделаю из тебя козульку, паршивец. Сразу другую заволынишь песенку!
Только что вор корчился, готовый Богу душу отдать, а тут вдруг легко встал на колени, загорготал по-лешачьи, широко разевая пасть. В един миг козлом лесным перекинулся. Перекрестился караульщик, едва успел дверь захлопнуть, чтоб подале от беды: ведь такими шишами сам сатана правит. А Король пластом на кровать, отвернулся будто бы равнодушно от соглядатая, но сам думает упорно: «Ты сторожкий, ты мудер да езжан, посивел, как старый лисовин, но я и тебя облукавлю».
У вора уже все загодя готово, он лишь время приноравливает, чтобы все задумки сошлись: кирпич в тряпицу запеленат, ждет под кроватью, петли в двери смазаны из ночника, ключ от тюремной церкви в ширинку спрятан.
Затеял Король шутейный разговор:
– Ишь ты, братец, ты уж не серчай.
А охранитель молчит, надулся, да и сон его долит, одна забота, как без греха утра дождаться.
– Ты уж не серчай. Я хотел миром... Коли на том свете свидимся, так не поминай.
– На этом-то не развязаться. Хуже горькой редьки. Упаси Господи там встренуться.
– Вот коли побегу, так ты шуметь шибко станешь?
– Спробуй, сучий сын. – Караульщику эти слова показались настолько смешны и нелепы, что он искренне засмеялся, тоненько, со всхлипом, с близкой простодушной слезой. – Ой уморил, зараза... Я тя вздену, дак. Не промахнусь, бат. Ой с охотой вздену. Ты спробуй лишь!
– Дак ты не серчай, тятя! – тоже заливался Король. А сам меж тем добыл из тюремных котов тряпицу с порохом да серник, насыпал на примост кучкой и поджег; порох зашипел поначалу, потом затрещал, и высокое пламя вскинулось в потолок, забивая камеру черным удушливым дымом.
– Горим! – вскричал Король. – Тятя, спаси, отец родимый! Не дай погинуть!
Часовой заметался по коридору, наконец решился, отпер камеру. Сам бледный, ворчал, унимая тряские руки:
– Небось сразу: тятя, тятя. Изгильник мне! Ну где ты там? Родимец бы тебя забрал!
Вор натужно кашлял в дальнем невидном углу секретной, согнувшись в три погибели; но только караульщик подскочил, прикрывая глаза от пламени рукавом, и схватил арестанта за шиворот, намереваясь вызволить от напасти, как тот внезапно разогнулся и ожег часового кирпичом по голове. Беззвучно повалился жалельщик, не дернулся даже; заволок Король его на примост, прикрыл рогожкой, сам же, не медля, в коридор, отомкнул церковную дверь. Но как ни спешил, как ни рвался на волю, как ни терзала лихорадка нетерпенья, однако совладал с сердцем, смирил его – столько холодной решимости было в груди. Запер за собою дверь и даже за ручку дернул, проверил, достаточно ли надежны замки, а зажегши восковую свечу от неугасимой церковной лампады, не дрогнув, вступил в алтарную. Перед престолом прошел, не осенив лба, только подумал внезапно об убиенном, зная свою безжалостную руку: «Если убил, то и слава Богу. Знать, Всевышнему так угодно. Не поп, дак и не лезь в ризу. Кого надумал укараулить. Благодари, братец, что в рай помог попасть. А как-то нагрешил бы, и не угодить бы тебе в ту заведенцию».
Сдернул Король с престола и жертвенника пелены, взял серебряную чашу с дароносицей и положил за пазуху. Копьецом, которым обычно достают кусочки просфор, взломал церковную кружку, куда с нескудеющим доброхотством вносил подаяния смотритель Волков.
– Горе вам, ложные учителя, – шептал вор. – Всех благоденствующих и царствующих ненавижу, и еще долго плакаться вам от меня и трепетать. Велик ли грех мой пред вашим? Да пушинка лебяжья пред облаком...
Шептал, как в наваждении, нимало не беспокоясь о себе и не думая о спасении. Иль так неколебимо был уверен в себе? Переполнен был самонадеянностью? Но, опять же, есть такие люди, которые с самого рожденья ничего не боятся: знать, пасет их незримая черная сила и не дает пропасть. Вот и сейчас Королю поскорей бы выбраться из замка иль что-то предпринять, а он будто бы сундук свой с недельной выручкой открыл и сейчас размышлял в тиши, куда бы понадежней да повыгодней поместить капиталец. Серебро вор сложил в правую грудку, ассигнации сразу засунул в башмак под стельку: самое тихое место. С медью же он некоторое время медлил, как лихой гулевой человек, не любящий мелочиться, колебался еще, брать или нет, но в последний миг вспомнил об острожной братии и смахнул обратно в церковную денежную кружку.
И, словно только ожидая этого момента, в тюремном замке вдруг всполошились: часовой, заметив в ночной церкви мельтешенье свечи, поднял тревогу. Но пока ломились в дверь, Король приставил к паникадилу найденную в церкви лестницу, употреблявшуюся обыкновенно для зажигания паникадила в большие праздники, потушил огарок свечи и, забравшись на подвеску, спихнул на пол лестницу, а затем по цепи влез в церковный купол. Пока-то взломали дверь да пока-то искали с фонарями и факелами вора, лазали под престол, жертвенник и даже трубы печные обшарили, Король тем временем через купол выбрался на крышу тюремного замка, по водосточной трубе спустился на землю – да и был таков, не поминай лихом. «Прощай, квашня и мутовка! Загуляла старая чертовка!»
Глава шестнадцатая
С радостью встретила камера известие о побеге Короля; будто праздник воцарился средь арестантов, словно бы кроткие пасхальные дни приступили к душе каждого, столько смирения и тихости появилось на лицах сидельцев. Даже говорить громко побаивались, чтобы не спугнуть нечаянно счастливого случая, и, наверное, каждый из лежунцов примерял себя к этому побегу и невольно раздумывал: а смог ли бы он сам оказаться столь удачливым?
– Ах он сукин кот, – говорили в камере, – снял сливки и не опачкался. Да и время подгадал. Сегодня ты король, а завтра уже дешевле горохового стручка.
Действительно, поймал время Король: по тому напряжению, по той нервозности тюремной жизни уже чуялся близкий этап. Канцеляристы подытоживали бумаги, в цейхгаузе перетряхивали залежавшиеся вещи, в кузне проверяли кандалы, готовились к ковке, из тюремного комитета наведывались не раз и не два, ревизовали, как одет арестант да как хранит свой билет, а у кого до крайности испачкан, тому стряпчий в течение недели заменил на новый.
И что сказать, чуялась близкая перемена в надоедной жизни, и побег Короля позывал к особенной зависти: каждый всматривался в себя, готов ли он поймать синицу за хвост, да втайне и смирялся: дескать, сравнил нос с телегой, а табакерку с кораблем. Смотритель Волков ходил мрачный, зубы не считал, но тяжелой тростью нет-нет средь ночи и прохаживался по двери, свету не давал гасить, потемок не терпел: вдруг распахнет дверь, скомандует подъем и, не брезгуя тяжелым воздухом, скопившимся в камере, давай бегать по камере, пришлепывая стоптанными валенками, только полы зеленого жандармского мундира с оранжевой выпушкой взлетают крыльями.
– Ка-наль-и! – зарычит, но нестрашно, с какой-то тоской уставшего, нажившегося человека. – Прогоню зеленой улицей. Не хотели добренького, получите черта с железными рогами. За-бо-даю, канальи! – снова вскричит на прощанье, ускочит, только слышно – резко всхлопают соседние двери.
– Знать, птица, добрая птица, улетела из клетки. Лови, лови, хлопай руками! – радостно воскликнет вдруг Симагин, блестя трезвыми глазами и словно не зная сна: весна его будоражила, близкая свобода, он точно в наваждении, опьяненный мухомором, пребывал в последние дни, ничего не боясь и не стережась. И странное дело, что не находилось в камере наушника, страстного доносителя, любящего поживиться на чужой крови; иначе бы не вылезать Симагину из секретной и не видать желанной высылки, а заново мерить тесаные плиты соловецкой кельи.
А Донатово сердце мечется меж словами, как стружок в порожистой реке меж каменьев: и там гибло, и там улово; кинешься, где мнится спасенье, а под светлой мерцающей пленкой огромный валун-лежунец, обросший зеленой тиной. Вот и мчись, отдавшись струе, как смилостивится судьба, куда поведет спасительная рука. Смутный, с постоянной застывшей ухмылкой, Король призраком стоял в изголовье, и голые холодные глаза мерцали обманчиво. Все переступил дьяволов сын, и оттого сам сатана дал ему черные крылья. А иначе бы, ежели бы без крыл, разве можно покинуть тюремный замок с саженной толщины стенами? Будто воспарил, истаял, просочился сквозь камень, но свою неиссякаемую тень оставил в камере для досмотра. Что за странную такую силу имел этот вор?
Лежал Донат, и жгло у него сердце, палом палило, будто заноза торчала там, погрузившись глубоко в нежные кровяные мяса, и то замирала боль, засыпала, то вновь вспыхивала. Чем бы достать ту спицу, как добыть из-под реберьев ту острогу, какими крючьями выломать, чтобы не саднила грудь? Такое чувство живет, будто кровь, больную, зараженную, вредную, кидает по всему телу, и потому тягуче ноет, не замирая, каждый возбужденный член.
«Вот убить надо было байбака», – думает Донат, ворочаясь на плоском тюфяке, на котором до него маялось, изнывало не одно арестантское тело: засаленная, протертая, плоская, как березовый лист, подстилка уже худо спасала от дощатой лежанки, от хлипкой кровати, крашенной в казенный зеленый цвет, заселенной полчищами клопов.
И порой так ярко представится несвершившееся убийство, в таких подробностях вдруг случится оно, с таким незнаемым ранее чувством насладится Донат, придумывая все новые и новые истязания, что, очнувшись, вдруг устыдится, больно и неприкаянно, будто прикоснулся к нечистому и запретному.
А ярость живет, изводит, преследует желание мести; причем хочется так убить, чтобы только удовольствоваться виденным, потом же пускай землемер воскреснет, будто бы и не умирал он. В жизни это невозможно, и лишь в мечтаниях невольного человека, в размышлениях арестанта может случиться то, что захочет униженный и несчастный. У него одно лишь удовольствие, кое невозможно запретить, – это мечтать, строить иллюзии. Но от них-то и больнее всего, ибо они неисполнимы; и так мыслится, что если не убьет Донат, не свершит мести, то и не жить ему, сдохнет, лопнет от тоски.
Но тут же, под самым горлом, крохотный комариный голосишко с печалью нудит: «Ну кончишь ты его, Доня, пустишь кровь, а как после-то? Заможешь ли жить? Не заест ли тебя вина горючая? Волен ли ты вершить судное дело, мальчик мой? Охолонь, горячая головушка, покорись, сынок, – и все образуется. Есть над нами высший праведник, и он рассудит. Не море топит, сынок, а лужа».
Это матин голосишко издалека тянется волосяной паутинкой, какая будто бы крепость в ней, протянувшейся из самого детства, когда даже самого-то себя уже не помнишь, не видишь маленьким, молочным, но вот оказалась та невидная паутинка вернее корабельной верви: канату пеньковому столько не жить, манильскому тросу износ прежде случится.
– Неужель я зверь? – содрогнется парень, расслышав материн голос, и одеяло, шитое из холщовых обносок, окрасится вдруг рудою. – Знать, зверя к зверю тянет.
А с тюремного оконца в клетку почти не сымалась розово-голубая пелена, маревила, забилась она, обманчиво вспыхивала: то отражалась близкая двинская вода, полная розового свечения. Весна настойчиво звала в открытую фортку, запахи становились настойчивее и гуще: отполыхала, отгремела вешница, смирилось половодье, льды сплыли к морю, река закротела, вернулась в берега, и тогда от ближнего прибегища приступал иной дух, житейский, родной, близкий; скрипели уключины под тяжестью гре?бей, бухали к придонным каменьям якоря, всхлапывали паруса, ненадолго прощаясь с поветерью, и эти шумы вдруг прорезывал заливистый, родной, горластый голос; он вспыхивал вроде бы в самом изголовье и долго несся в весеннем распахнутом воздухе, располовинившись на два крыла и живя по-птичьи, уже сам собою. Вот вскрикнул внезапно и счастливо человек, и от его душевной открытой радости родилось иное существо, коему отныне доступна любая встречная душа.
Знать, с Мезени приплавились мужики, с Терского берега пришли поморяне, с Мурмана, со становий, прибежали первые лодьи и шняки, с Подвинья спустились груженные свежиной карбаса и тягловые баржи; рыбой запахло, дух морской, звериный, терпкий полонил набережную, смешиваясь с шиповником, и казался для Доната сладким. Да он и воистину был сладким, дух потерянной свободы. Звуки иной, запретной жизни сплетались в прелестную музыку, от которой, казалось, отвыкло ухо и сейчас по-особенному внимало, выхватывая из этих сполохов родные, свойские и понятные. Сейчас звуками и запахами определялась внешняя, потаенная жизнь, и Донат расплетал ее, как толстую вервь на прядена. То был дух воли, свободы, легкости душевной, когда сам ты себе и сват и брат, что хочу, то и ворочу, и никто тебе не указ. Наступит ли еще такое время, когда сам собою распорядишься, не зная секретов и дозоров. Под властью ныне, под прижимом, под мохнатой лапой – и свобода, о которой прежде-то и не помышлялось, ибо жил как слюнявый теленок, зная лишь свою стайку, нынче вдруг оказалась недоступной и оттого вдвойне сладкой и ненасытной.
Ну как тут было не завидовать беглецу; тут любая, даже особенно крепкая душа затомится вдруг и загорюнится, вспоминая приметы прежнего вольного житья. Сотни посудин под таможней, парусами ныне расцвела река, плюнуть некуда; отсюда, из тюрьмы, кажется, любая из них примет, лишь пожелай, любая лодейка затаит в трюме, лишь захоти, а уж далее-то Россия-матушка велика. И даже Зубов, досель столь словоохотливый, ныне примолк, вылинял и без особой радости встретил весть о давножданном палачестве. Сидел у себя на коврике, поджавши по-турецки ноги, играл сам с собою в наперсток, но счастья душевного не выпадало.
– Ей-Богу, лопни мои глаза, провалиться мне на этом месте, коли он не у тещи в гостях. Поди, гоняет чай пуншиком, ох-те мне, да в потолок поплевывает. Знай наших плешивых, обходи шелудивых, – начинал Зубов.
– Далеко, поди... Такой и у ко?рги веслами табанить не будет. Он у черта сват, – поддерживала камера.
– Мне бы нужда коли... И сто гончих не скрасть. Я-то ужас бойкой на ноги, – умилялся Зубов и единственный глаз возводил горе?.
– Аха... сторонись, калоша, дай лаптю проехать. Видал такого, что с квасу брюхо наел. Сиди, кикимора. Туда же со свиным рылом да в калашный ряд, шестерка косая...
Зубов мрачнел, обижался и, лениво протаскивая ноги меж кроватей, удалялся в дальний угол, бормотал:
– Бывает, и шестерка над тузом начальник.
Вор-вор, но, однако, возле иконки, подвешенной подле постели Старкова на суровую нитку, не забывал боязливо обнести крестом лоб. Беглый поп лежал тихий, плоский, кроткий, и только поясная разномастная борода ровно колыхалась на проваленной груди, выдавая его живое состояние. На соседней кровати, натуго сцепив пальцы, сутулился Симагин, вроде бы ушедший в себя, и оловянными глазами неотрывно проглядывал сухие слабеющие колена. Он боялся недавних речей своих, ожидал с боязнью ныне возмездия и всячески усмирял сердце, но с каждой минутой его добрые намерения слабели, и Симагин лишь ждал повода, чтобы схватиться со Старковым. Беда, ой беда, коли вместе два проповедника: ведь даже в толпе трудно быть двоим пророкам, ибо каждый хочет во имя своих неясных желаний и мечтаний завладеть людскими душами и повести за собою.
Но тут, в камере, оказалось два пророка, да еще соседями по постелям: клопы кочевали от кровати до кровати, переносили их кровь и смешивали в себе, но нельзя соединить разъединенный дух; и лишь бессилость Симагина да кротость Старкова как-то позволяли уживаться им вместе, но тем самым невольно усиливалась к ним неприязнь прочих сидельцев. Эти двое волновали своих сожителей неопределенными желаниями, и, когда в камере кипели страсти, когда распаленные слова носились над головами, высекая искры, они невольно задевали и замученных долгим ожиданием арестантов. Тем сразу хотелось перемены жизни, иных чувствований, крови и движенья. Эти двое лишь дразнили, что-то обещали, но ведь истину слова нельзя взвесить, проверить на долговечность и крепость: пустое ли оно, как полова, иль отборное, прорастимое зерно.
– Твой Христос изолгался... Пожалте-с, пожалте-с, наше-с – вам. Страдайте, сукины дети, а я посмеюся, – не сдержался Симагин, заговорил, будто бы ни к кому не обращаясь, но понятно было всем, что слова назначались сопернику. – Изолгался весь, изоврался... Не с миром, но с мечом к вам. А опосля же: я пришел в мир не губить души, а спасать их. Вот и верь ему. Так зачем же он явится к нам, протобестия, чтоб голодом изморить, да? Хлеба надо дать, хлеба... накормить вдосыть. Распорядиться надо жизнью самим. Мы – чудо природы, мы сами цари, вот што!
Старков не замедлил, но ответил бесплотно, не поворачивая головы: да и не надо было ему кричать, нужды такой не было, ибо голос Симагина уже взорвал тишину.
– Много есть непокорных, пустословов и обманщиков, каковым должно заграждать уста: они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти.
– Выходит, я пустослов? – вскричал Симагин. – И по сопатке недолго, слышь?
– Ты, сын мой, хуже пустослова, ты на уши паутину весишь, злыдень...
– Ну знаешь ли... – растерялся Симагин.
– А вот как хошь понимай...
Симагин натянуто рассмеялся: он не умел пользоваться кулаками, а слово его оказалось бессильным, и самое бы время отыскать соратников, но все глазели и злорадно жаждали юшки, пролитья крови и синих фонарей под глазами.
– Ты бы уста на замок, – посоветовал Старков, жалея сидельца и опасаясь за него. – Ведь вернут в подвалы, где и вше тесно. Тамотки запоешь лазаря.
– И запою, и запою, не восплачу! Мне на роду написано страдать!
– Опомнись, сердешный... Ты от злобы запекся. Помолись, отпусти душу, вот и полегчает. А то какую науку подаешь товарищам своим? – посетовал Старков, подсел подле, ладонь свою сухую положил на костлявое колено проповедника, словно хотел унять, утишить его боль. – Хочешь быть услышанным – молчи крепче!
– Вот дядька ерестится, а мне понятно, все в самую душу, – вдруг вмешался Донат. До того сидел покорный, редко кто слыхал Донькин голос, а тут высказался несчастный. – Не блажь то, не придумки... Я сам как распятый. Через свою доброту распятый, слышьте-ка! А я убить хочу, мочи нет, хочу. Чтоб бра?тину крови выпить.
– Во-во... Не рюмку, не косушку, не стакашек, но бра-ти-ну во удовольствие! – захихикал Симагин, воспрянув. – Слышь-ка, парень, я принимаю тебя в мой легион. Подручным апостола будешь.
– Так пусть он убьет меня! Пусть! Слышь, сынок, коли в тебе такая жажда, ты убей меня, – попросил Старков, обнажил ворот холщовой рубашки и задрал бороду. Сморщенная жалкая старая шея с обвисшей пупырчатой кожей, белая и неживая. Оказывается, сколь худая, немощная плоть облекает непокорную душу бродяги-аввакумовца. Донат смутился и, прикрывая нерешительность неловким смешком, отговорился скоро:
– Твоей крови, старик, и клопу не испить.
– Брезгуешь? Худая кровь, молвишь? – задумчиво протянул Старков. – Значит, не клоп? Вольному воля... Не хошь тюри с маслом – ешь с солью, вьюнош.
– Во, паря, как он тебя отбрил... Ишо слаб в коленках, – заговорила камера, испытывая симпатию к беглому попу. – У него слово кремень.
И вот задрал Донат ногу, и тюремный кузнец, положивши проушину на наковальню, ручником умело ударил по заклепке; таким же образом оковали несчастному и вторую ногу, и ежели днем ранее была неволя временной, зыбкой, все мнилось, что наступит скорый час и распахнутся настежь ворота, то отныне всякие надежды прочь.
И понялось сразу, каково бродить по выгону стреноженной лошади, неуклюже прискакивать в опутенках, ей, рожденной в соперницы ветру... «Да за что же наказанье-то? – подумалось вдруг. – Настолько ли велика дерзость, чтобы намертво пресечь ее восьмифунтовыми кандалами?»
Первый раз повалился в постели – и будто змею пригрел: долго холодила цепь, шуршала, звенела, железный холод проникал сквозь исподники, и даже щиколотки зальдились. И камера вся наполнилась незнакомым, мертвецким щемящим звоном: будто заживо отпевали.
Тут не до шуток, как-то все скоро пригорюнились, не нашлось сразу легкого на слово человека, баюнка, враля, ёрника и балагура, который бы возвеселил, поднял сомлевшую душу.
И даже Зубов, вечно неунывающий вор, сутулился на своем коврике, старался в глаза сотоварищам не глядеть, ибо он-то как бы оставался на воле, с завтрашнего дня он – подручный ката и будет жить в особой каморке. Может, он пожалел сотоварищей и боялся открыто радоваться, а может, и стыдился своей проклятой новой работы, кою уготовила ему судьба на сороковом году.
Эх, птаха ты, птаха, вольная разбойная душа, надоело тебе бродить зеленой улицей, надоело считать спиной розги и батожье, висеть на прикладах, когда ведут сквозь тысячу, и заново коротать на каторге у тачки прописанные тебе восемь лет. Но и в новой-то уготованной жизни что за радость, несчастный; тут уж не сробей сердцем, предерзостным будь и отчаянным, отлучись от жалости и состраданья, зальдись грудью и на глаза напусти слепую поволоку и гордовато вздыми голову. Будет тебе, подручник ката, новая красная рубаха, новые порты, и сапоги трубою, и картуз, и долгие рукавицы с раструбами.
И отныне все станут бояться тебя, как наместника дьявола, и стоит лишь показаться на улице, как каждый мальчишка, поспешая следом и корча всяческие рожи, станет кричать: «Гли-ка, палач... Палач, гов...ый калач, ва-ва».
А ты оглянешься вдруг, играя, насуровишь брови, а чего их суровить, несчастный, ежели они и без того взялись паклей и завесили глаза, и оттого выпуклые белки кажутся розовыми от крови и дикими.
Ой смутно Зубову: однажды потерял человек фамилию, а ныне приобрел богопротивное и премерзкое ремесло; и захотелось бы возврата на родину, где славных и досточтимых родителей могилки, но уже все дороги назад перекрыты. Не примет родная деревенька, отринет община, открестится от тебя, как от нехристя... Благослови, скажут, нас от этого дьяволенка...
А этапникам что, у них грусть переходящая, как пена морская, как соль на спине. Лишь бы ночь перемаяться на день, а там и новая давножданная жизнь придет, и в ней не меркнут надежды.
Пока жив, надейся, грешник. Правда, от кандалов, как бы ни легки они были, уж не избавиться: от перехода до перехода, по всем долгим хлябям этапов до Сибири, и там, далее в каторге, несъемны эти поющие бессонные железки, высушат они ноги, выедят щиколотки.
Наутро погнали в тюремный двор: из дверей заструился мышастого цвета ручеек, поначалу растекся в лужицу, загомонил, заерестился, вот уже табунки образовались в провале меж красных кирпичных стен, но тут же унтер-офицеры грозным матерным словом разобрали человечье месиво во фрунт, солдаты огородили, вскинув на плечи ружья.
Огляделся Донат: смешно и грустно.
Серые круглые шапки в руках, половина головы обгрызена ножницами, волос выеден ступеньками, другая же половина взялась колтуном. Десятки неряшливых, понурых голов, бледные, отечные щеки. «И сам таков же; значит, и я как баран». Оглядел сотоварищей, будто на себя со стороны глянул. Сбалагурил от тоски:
– Дайте-подайте сена с хреном, соломы с уксусом.
– Получишь и хрена по зубам, и уксусу по заднице, – огрызнулся сосед по шеренге.
– Халат-то подбери... Дурак с печки бряк.
– Кобел... Молодой, да ранний. Погоди ужо, окорнаю язык.
– Ага... Глаз в небо, а нос в нюхальнице...
Поогрызались лениво, беззлобно, и каждый отчего-то небрежно пнул серый дерюжный мешок, лежащий возле ноги. Тут из караульни вышел смотритель замка Волков, партионный начальник, врач тюремного госпиталя и еще два этапных офицера.
Смотритель был необычайно важен, при той парадной форме, в которой арестанты не видали своего отца-благодетеля. Он скорыми куриными шажками пробежался вдоль строя, каждого понурого арестанта окидывая взглядом, а детишек, стоящих в конце фрунта подле матерей своих, даже обласкивал ладонью, сморщенной, ярко-розовой, по-младенчески чистой.
– Ну что, дети мои, понурились? Не научила мамка, так научит лямка! Верно, братцы?..
– Дурни, как есть, темны головы, без креста на шее, – ответил кто-то угодливо.
– Бог не оставит терпеливых. Он охочий до смирных! Претензии какие есть до меня? В одежде, в питании?
– Премного благодарны, отец родной, – отозвался из шеренги тот же голос.
– Ну и с Богом! А теперь до самой Москвы престольной вот ваш начальник. – Он жестом указал на партионного командира, высокого сутуловатого поручика, а после встал рядом, и все увидали, как невзрачен и мал смотритель. А этапный командир приосанился, из шинели достал бумажный лист и стал зачитывать список. Каждый вызванный выступал вперед, взяв суконный мешок, а унтер-офицер проверял билет и личность, сомневаясь, нет ли тут подлога, потом обыскивал с ног до головы скользящим движением руки и копался в мешке, проверяя, все ли казенные вещи при арестанте.
– Есть ли всё? – отрывисто спрашивал партионный начальник.
– Всё в порядке.
– Марш вперед! – командовал поручик, и ссыльный, гремя кандалами, становился в этапный строй. То же самое проделали с Донатом, и, когда руки унтера пробегали по телу, парень брезгливо дернулся, что, однако, успел заметить служивый, и, подняв багровое от напряженья лицо, с особенным пристрастием оглядел арестанта и для чего-то обшарил его заново.
– Чего ерзаешь? Чесотка? – тихо спросил унтер, закончив осмотр поклажи.
– Нет, кондрашка.
Унтер улыбнулся и оставил дерзость без внимания, но этапный строй, все слышавший в эти минуты, сразу ожил, все почуяли близкую настоящую перемену.
И вот проверка закончилась; выстроились поначалу каторжные в кандалах, с наручными браслетами, потом ссыльные, прикованные к железной цепи, далее телеги с женщинами, детьми и нехитрыми арестантскими пожитками. Партионный начальник отдал команду, ворота замка нехотя, с натугой распахнулись, и первый после зимы этап выкатился на архангельскую набережную: мимо Александровского сада, мимо собора, на Торговую улицу краем рынка, и далее, к Смольному, чтобы сесть на баржу и переправиться на другую сторону Двины.
Женщины толпились во множестве, с кошелками, с корзинами, полными булок, саек, яиц, соленой трески: конвой не запрещал подаянье, и мещанки с плачем одаривали несчастных, пристально оглядывали, будто надеялись найти своих. Все жалели несчастных, и не было, пожалуй, в толпе ни одного человека, кто бы ненавидел арестанта или желал ему худа: это были христовенькие, закованные и до того уж горемычные и жалкие до последней степени, что несчастнее этапных нет, пожалуй, никого на свете. Но что странно: ведь искренне жалеют и сострадают, но попробуй бежать из-под стражи – догонят, свалят, заломят безжалостно выю, наволочат по спине, выкрутят руки, а воспротивься – и напинают.
Коли бежал, то уже подручник дьявола, почти сам сатана, коего боятся, сторонятся, кем пугают своих детей.
Может, оттого с такой безжалостностью ловят и не дают укрыться, что беглый арестант невольно несет на себе нестираемую волчью печать и его звериную натуру. Сам блеск отчаянных глаз, дерзкие ухватки, совершенная способность переступить всякую жалость и сострадание невольно отличают беглого шиша от всякого смирного сельского люда. Но заново окружат, затравят, схватят, навалтузят, сдадут волостному старшине – и вновь ты уже несчастненький, и снова тебя все жалеют...
Крик поднялся, шальная вопленая песня кинулась в небо, знать, кто-то уже успел опорожнить косушку.
Толпа с непокрытыми головами, звеня кандалами, окутанная июньской жаркой пылью, побрела по Торговой улице, и уже скрылась она в подугорье, скопилась на прибегище, готовясь к отправке, а звяк железа все висел в воздухе, тихо и обреченно потухая.
Зной ли, дождь ли, ветер ли засиверок, пронизывающий сквозь, когда каждая жилка исхудалого тела стынет, – бреди, несчастный, меряй означенные версты, не ропща и не прощаясь с недеждою: а вдруг прощение придет иль указ на амнистию особого разряда, к которому и ты принадлежишь, иль скрыться тебе удастся зеленой улицей; да мало ли какая удача может выпасть, если ты очень желаешь ее.
Так дойдешь ты до Москвы до Бутырской тюрьмы, до главной российской пересылки, еще там покормишь вшей, пока-то соберется этап, и уже после загремишь по Владимирке за три тысячи верст. Кто на высылку, кто на каторгу, на рудники по самому страшному разряду на пятнадцать лет.
От этапа к этапу, по вонючим ночлежным избам, полным неистребимого зверья, босиком и впроголодь, если неурожай в степях, и тогда десяти копеек дневного довольствия едва хватает на полтора фунта черного хлеба.
Кабы не жалость российская, кабы не сострадание бедного русского мужика и бесхитростной бабенки, разве мог бы несчастный Донька добраться до Березова, где следовало ему отныне проживать до скончания живота своего.
Войдут в попутную деревню, как калики перехожие, бренча железами, перекатывая цепи в ногах, у всех шапки долой, наполовину обкорнаны головы, жалостно и обреченно склонены, и вот вся-то эта сотня несчастных вдруг на самых высоких щемящих тонах воспоет не песнь, но скорее плач нищей каторжанской братии, у коей нет впереди просвета: «Подайте-ка нам, люди добрые, хлебушка».
Подойдут выборные с мешками под окна, и подадут крестьяне хлебом и яйцами, вареной говядиной и рыбой. Выступили на околицу, сразу привал, все подаяние разделили поровну – вот и трапеза.
Сейчас можно тянуть мощи и мерить версты...
Часть вторая
Глава первая
Наверное, если где и возможно чудо, то лишь на Руси – столь пространственна она; ведь даже сам завораживающий простор и есть преддверие близкого чуда и неисповедимой тайны...
Уже пятый год, после мытарств и скитаний, Донат Богошков здесь, в Обдорске, на краю света.
Помнится, как еще в детстве мать, желтоволосая Тина, говаривала сыну не без грусти: живем, дескать, мы, дитятко, на краю пропасти, у лешего в гостях, почитай, у самого дракона в охапке. И хотел бы вырваться, да некуда. Далее нас и дорог-то нету.
И хотя по своему корабельному ремеслу, бывало, много езживал Донат по родимой земле, в тайболу захаживал и окраинный поморский берег перемерил не раз, но края земли, о котором говаривала мать, не обнаружил. И вот здесь, на вечном поселении, вдали от отчего порога, вдруг обнаружился истинный конец света; и, глядя из натопленной горенки в наледь крохотного оконца, за коим лишь глухо мерцающие суметы снега, верится без сомненья, что за всхолмьями ледовых торосов, похожих на зубья дракона, за грядою опушенных снегами гор, смахивающих на тулово идолища поганого, и таится тот скорбный черный провал без меры, без краю, где плавает великанский кит, держащий на хребтине мать-сыру землю.
Кой день уже па?дера дует, поносуха; не дай Бог, кому в пути очутиться – пропадет душа ни за грош: долго ли погинуть – упал человек, и нету, утек в снега до весенней полой воды, если только псец не выест до той поры... Где-то в дороге и хозяин дома Еремей Скорняков; и если оглянуться мысленным взором по-над занесенной Обью, чтобы отыскать взглядом заплутавший аргиш, над лесными увалами, над тундряной ерою, над наволоками и бережинами, то на полторы тысячи верст, почитай, до самого Березова ни искорки света. И только кой-где знающему, внимательному взору откроются черные копны чумов о край таежного лесу: там остяк иль самоедин готовит свой немудрый ужин, растелешивается около потухающего очага, располагаясь на сон, устало ласкает жену: они заворачиваются в душные меха, сливаются тело к телу, чтобы переливалось, перетекало, зря не растрачивалось скудное, с таким трудом нажитое мясное и древесное тепло. Хоркает близкое стадо, за пологом напряженно дышит собака; без боязни выдает себя затосковавший с голоду волк; трепещет, сваливаясь в снега, запоздалая птица. И вновь наваливается та стеклянная, жуткая тишина, где новому человеку не пробыть и получаса, и словно бы от нее, а не от стужи скоро леденеет, свертывается кровь.
Изба вздрагивает, садится на все углы просторный крестовый дом, будто в подворье палят из пищалей: то гуляют ныне крещенские морозы. И при этой пальбе взметывается пламя свечи в долгом медном шандале. Сумерки густели, и в углу высокие часы черного дерева уже походили на стоячий гроб с вензелями на взглавье и вигой затейливой выпушкой. Жарко в избе, душно, натоплено с запасом, из поварни пахнет вечереющими щами и гречневой кашей со шкварками, обложенной подушками и дожидающейся хозяина Еремея Скорнякова. Донат скидывает собачью душегрею и скоро ходит по горенке, обкусывая зубами зачерствевшее от засохших чернил гусиное перо. В эту зиму он временно и за приказчика и за поверенного, много пришлось мотаться по становым избам, улусам, кочевьям...
С Рождества уже пятый год пошел с той муторной этапной дороги; вспоминать не хочется всех злоключений, но не выпадают из памяти два спутника, бредших рядом и так же прикованных к железному пруту. За длинные ходы Донат выучился у Симагина счету, а у Старкова – духовному чтению. И, знать, все идет впрок, всякая наука поселяется в человечьем общежитье до своего времени-часу и незаметно оперяет человека и побуждает его к полету, к иным мыслям. Вроде бы ты прежний, но тебе-то не видно, как ты уже оброс крыльями и уже куда как высоко подымает тебя над землею, и мысленно где ты не побываешь только и чего не увидишь. Стараниями духа и мысли вовсе меняется человек не только сердцем, но и обличьем. Прежде был Донат петушист, угловат, прям плечами и дерзок на язык – нынче стал носат, глазами глубок, обочья потемнели и заголубели, и в тех колодцах глаза наполнились глубоким чувством и притяженьем; рот стал жестче, суровее, и будто что-то черствое проявилось в белом, слегка обрытом оспою лице. Донат мерил горенку, и потолочины сразу приопустились, заставили принагнуться тугую непокорливую выю: высок и обширен телом Донат Богошков.
Весною купец решил рубить новые становья по краю Обской губы, а лес сплавной, издалека, и нужно загодя обо всем позаботиться, чтобы и хозяину не в убыток, и работнику не в печаль. Так размышлял, не то споря, не то советуясь заглазно с Еремеем Скорняковым, где-то сейчас пропадающим в тундре... Ежели сто двадцать дерев на становье, так... Почем они нынче, дерёва-ти, не по двадцати ли копеек с комля? Положим... да надобно принять в расчет двести штук досок, со штуки сдерут копеек по тридцати, никак не менее, да плотнику на топор положи все про все за работу сороковку. То да се, нижние венцы можно на каменьё бросить, не жировую избу вековечную ставим; опять же печку чугунную надобно о двух гнездах для котлов и чайников – на ярманке на Рождество была она нынче по пятнадцати рублев; да по две бочки угля в месяц, по восьми пуд каждая, клади еще по двенадцати копеек за бочку; да железо, да гвозди, да там и баню не забудь, не турок какой, чтобы от сажи черстветь; да погреб для рыбы, для соленья, да четвертной опять же кинь на прочие расходы, мало ли что приведется – ведь не в губернской столице, чай, дом рубим, где все под рукой. Все двести пятьдесят рублей натянет, ни копейкой меньше, как ты ни крути. Поди, хозяин-то поначалу шерстить будет, дескать, мот ты, Донат, мотище, живешь, как барин, на широкую ногу; тебе позволь, дак ты все по свету промотаешь, пустишь хозяина по миру в одних исподниках. Но без обиды будет, без обиды; хозяин – мужик свой, за копейку и сам не удавится, и ближнего со свету не сживет. Но и на него свой еретник нашелся с железными зубами. Как бы нынче не перенял в пути хозяина да не причинил обиды. Выходит, от судьбы не убежишь, и от сатаны своего не денешься: свет клином сошелся. Надо было пять тыщ верст ломить, чтобы на краю света своего обидчика встретить; вот и таись нынче, как мышь в норе. Сказать бы хозяину, доложиться, что обидчик, мол, у нас общий, и сыскать бы ему какую казнь для острастки, так ведь не поверит, не-е, скажет, смеешься, братец, над стариком...
А беспокойство душу травит; не стерпел Донат, накинул оленный малахай, вышел на волю. Вот будто бы крышу домка приподнял, вынырнул, а кругом земля давит, темь злая взахлест, и куда хватает глаз, едва светятся снега. Река Полуй под снегами не дышит; пятьдесят домов без признака жизни, лишь невдали, словно бы из глуби, протаивается желтый квадрат. Спит Обдорск у лешего за пазухой; пораньше лег, пораньше встал, а все одно из ночи так и не выпал: до первого благословенного солнца царит над этими краями темень смоляного налива. Другому бы попасть сюда – волком вой от бесхлебья: никакой утехи тебе, ни забавы, ни девки-поровенки, ни престольной лихой гульбы, ни гор-ледянок-покатушек; выморочно, глухо, слепо; не зовут эти места к жизни, не высветляют душу. Но Донату таково на сердце, будто из родины не выезжал: та же торопливая гово?ря, тот же заливистый высокий голос, та же трезвость и простота быванья. Свои мужики, с Мезени да с Холмогор, поди, лет сто назад заехали сюда, поженились на туземных бабах и детей народили уже смуглых, скуластых, раскосых, но рослых, отзывчивых душою, рисковых натурою.
Жил себе народ, никого не теснил, детей копил, но однажды наехал на них еретник, прежний исправник Крыжеблоцкий с казаками, приказал избы срыть в Полуй, а самим убираться на все четыре стороны, под тем предлогом, что якобы поселенцы мешают жить остякам. Взялись казаки за дом купца Скорнякова, выломали окна, двери, но сам хозяин убежал из Обдорска и явился в Енисейск к губернатору Гасфорту со слезной жалобой. И привелся в ту пору в гостях у генерала член Государственного совета Анненков. И это спасло Обдорск. От великой благодарности Гасфорту поселяне Обдорска решили поставить ему памятник: за полторы тысячи верст из Тобольска привезли на дощанике кирпича, из него сложили памятник в виде Румянцевской колонны, на Екатеринбургском заводе отлили чугунную доску. Правда, в написании фамилии освободителя Обдорска от местных управителей была допущена ошибка, и доску отвезли обратно на переливку, да так где-то и потерялась она. Но с той поры купцу Скорнякову не было милости от березовских властей: покинул студеные места исправник Крыжеблоцкий, наживший немалое состояние (поговаривают, приехал в сии места в одном холщовом сюртуке, возвращался же с обозом пушнины и нажив имение), на его место заступил Сумароков, а метла его оказалась еще более мстительной и жестокой. С давним своим обидчиком Донату пришлось встретиться при обстоятельствах самых неожиданных. Помнится, когда прибыл в Березов на поселение, исправника на месте не было, он где-то ревизовал округ, и его замещал заседатель Кожевников: оценил парня – молодой, рослый, красивый – и говорит:
– Поезжай, любезный, в Обдорск туземную кровь разбавлять.
Так и не скрестились пути; но жить в одном округе под железной пятой исправника-властителя да чтобы не столкнуться, где такое писано?
Три года тому, как раз в эту же пору, ехал Еремей Скорняков от Хатанги с пушным товаром и где-то под Кушеватым, крохотным выселком в четыре дома, исправник с казачьей командою подстерег обоз. Окружил, потребовал своею властью показать, что везет купец и нет ли там якобы запрещенного товару. Скорняков пробовал возразить, подойти к сердцу отца-благодетеля, просил милости, но Сумароков и слова не дал сказать, раскричался, не жалея глотки (в такую морозину долго ли запалить горло), плюясь в башлык, приказал казакам потрошить обоз. Пушные товары перекидали в сани исправника, а бедный купец и слова не молви, стой смиренно, как солдат под красной шапкой; но руки тряслись, выдавали гнев, и Донату, стоявшему подле, было жаль хозяина.
А Сумароков кричал:
– Ты не Скорняков, собака, ты из Аида леший с рогами. Ты Свиньин, ха-ха, ты Свиньин, из свиньи, значит, от самого премерзкого животного, и сам скотина, воленс-ноленс. И прошу не перебивать! Свиное рыло, квасная душа, вонючий лавочник. Награбил! Награбил, алтынник! В острог, в плети, в плети его, ребята! Ату-ату!
Казаки реготали, довольные исправником, да и побаивались сами, этим смехом скрывая робость: только пикни, живо отправит конюшни чистить, а то и далее куда. Они сбивали работников лошадьми, строжили плетьми и, заиндевелые, по глаза окутанные башлыками, пожалуй, мало походили на людей. Есть же на миру такие двуголовые звери о железных зубах. Волки, как есть волки: из снежной тундры, из распадков, от самой Хатанги гнались, скрадывали по следу, а выждав момент, налетели наметом, окружили – и давай кочевряжиться, выхаживаться над бедным бессильным народом. Жалко было хозяина, но и воля не своя, чтобы образумить исправника: почитай, сам царь, явившись перед очию, куда бы меньше произвел грозы, чем окружной начальник, владыка и наместник Бога, нет, пожалуй, сам Бог. На тыщи верст найдется ли тот человек, что смог бы укорот навести, смирить гнев его, утишить и привесть в чувство? В сумерках, при затухающем пламени кострища Донат толком не разглядел исправника, да и хорошо, что не понял, кто перед ним, но не прозевал, однако, как Еремей кинулся к передовому оленю, где в нартах лежало его ружьишко, и сам бросился следом, перехватил руку на прикладе.
– Хозяин, погоди... Еремей Пафнутьич, охолонь!
– Пус-ти, собака! Забью! – прохрипел Скорняков с одышкою, но сразу же и остыл, обмяк кулем, опомнился и, уже не переча, безмолвно смотрел, как заворачивали казаки коней, как Сумароков усаживался в розвальни и унтер заботливо укрывал ноги начальника медвежьей одеяльницей. Но прежде чем тронуться, Сумароков пригубил рому из фляжки и с насмешкою прокричал, заломив назад голову:
– Я тебе покажу, свинья, как жаловаться! А теперь сгинь, алтынник!
Вернулся в Обдорск Скорняков и загрустил, неделю не выходил из молельни, и плешеватая голова его за эти дни от скорби заголилась еще более и посветлела. Хозяйка в одиночестве ходила потерянная, и работники, чуя домашнее несчастье, не подымали голосу и ели без интересу. А как ожил слегка купец, пригласил к себе Доната, бывшего до сего времени в скотниках, и долго смотрел на него с умилением и непонятной радостью, будто сына потерянного озирал, с коим не чаял свидеться. И вдруг заговорил, как проповедник, да с такою откровенностью, с какою, пожалуй, не говаривали с Донатом с младых лет.
– Небось презираешь за животность чувств моих, сын мой? – заговорил, и некоторая робость была написана на одутловатом широком лице, обметанном круглой бородою. – Вот трус, дескать? Убоялся?
Донат промолчал, но отказно покачал головою, дескать, в купецкой смелости не ошибался.
– Он ведь мозгля, пальцем защелкнуть! Дублянка, полое, гнилое дерево. И пошто я не посмел, подумал? Пошто я не решился? Мне-то в горе, а кому-то в радость. Как ни кумекай, куда ни поверни, а ворогу в радость. При счастии человека враги его в печали, а в несчастии и друг разойдется с ним... Немного счастья ворогу дал. А много не дам – не-е. Лучше на колючке, на бородатом деде последние холщовые штаны оставлю, но ворогу радости не принесу. Окружили, окружили, стая, стадо, ха-ха!.. Было всяких страстей на голову исправника послал, чего только не посулил: и камней с неба, и трясуницы, и чирья в глотку... Боже, Боже... Но как подумал, что убить бы мог... Ой-ой... Ожгло меня, будто плетью жигануло, значит. Гляжу, руки-то в крови, в кровище руки-ти вот по эти места, по локти, значит, в кровище. Я давай тереть о колена, а после как зареву, как зареву, значит. Ой-ой, что надумал, чего восхотел, пакостник. Я ведь человека убить восхотел, паскуда я распоследняя. А с углем-то каленым на душе как бы жить! Это в петлю, значит. Своею рукою в петлю! Человек – тварь Божья! И я тварь-то Божию... А разве я рожал, разве я тетешкал, разве я выпускал на свет? Так какое имею право решаться на чужую жизнь? Кто такое право мне давал, Донька? Кто? Кто дозволенья дал мне? На, дескать, эту треклятую глотку и застегни ее, захлестни на месте. Ой, Донюшка, нет хуже, чем на другую жизнь покуситься. Это хуже тавра на лбу. Никто не видит, вроде чистый ты как стеклушко перед другими, но сам-то ты себя видишь непрестанно. Знавал я одного разбойника-душегуба. Много невинных душ он отправил к праотцам. И вот остарел он, седатый стал, как лунь, глазищи черные, угольями; было жалится мне: не могу, говорит, душу печет, будто, говорит, жаровню в груди развели черти и дуют, дуют. Надел вериги, опоясался цепями пудовыми и пошел по Руси. Сказывают, под престольной видели, ползет на коленях. Уж и ходить не решался более, чтобы вровень с людьми не быть, такое вот дело... И как пришло мне все это на ум, и подумал я: «Да лучше голым по миру пойду, да лучше с ясачным в одном чуме спать буду, заеденный вшою... Да лучше в речную стрежь к рыбам в гости». – Помолчал, пожевал клок бороды, и мерно двигалась на правой щеке большая рыжая бородавка. – Не совета прошу, но гляжу... Парень ты не промах, с головой. Случится, что вдруг не будет меня в дому, может, и навовсе в чужой земле лягу. Сыновей Бог не дал, дак будь за сына, не откажи, сделай милость! Вот тут батюшке-государю написал писемушко с превеликой просьбой послать меня в солдаты, если где затеется война, на каких рубежах. С нарочным сегодня же отправлю и буду ждать.
Открыться бы Донату, а он отчего-то скрыл, что давно знаком с исправником. Знать, прискорбно было признаваться, что насильника, обидчика своего неотступного спас, за кем охотился, бывало, желая лютой смерти, нынче от пули заслонил. Вот и признайся теперь в своей слабости, да после искренних исповедальных слов Скорнякова.
Два года ждал купец царской милости, из далекого Обдорска отправил еще три прошенья; но, видно, войны особенной не затеялось и не было нужды в добровольцах, ибо молчал государь, не отвечал на богомольный кающийся голос. А теперь ноги стали сдавать у Скорнякова, ходил уже плохо, и очень сокрушался он, что не может исполнить обета, а стычки иль заварухи какой на российских рубежах все нет и нет; но ежли и призовут вдруг, то не сможет он, Еремей Скорняков, верно, не жалея живота своего, послужить отечеству. И оттого, что стал безвольный и бессильный, что слову своему не ответчик, сильно тосковал купец; но он, сердешный, даже и не помышлял, какие беды подстерегают его здесь, на краю земли, и сколько зол падет на его безволосую добрую голову.
Глава вторая
Воистину человек предполагает, а судьба располагает. Разве думно было Никите Сумарокову получить во владение такую вотчину? И ежели прикинуть мысленно пространства, кои под твоею опекою, то невольно оторопь проберет насквозь, а одумавшись, тут и возгордишься собою; и хоть мал душою человечек и мелок характером, но вдруг откуда только что и возьмется – и осанка, и вид, и слова достойные, и норов; в крупном предприятии даже самый ничтожный человечишко для себя и прочих вдруг становится крупным, достойным и незаменимым. Что судить, любое европейское государство, ежели примерить его к этим землям, незаметно потонет в сих болотинах и марях, и, пожалуй, не сыщешь его рубежей. Хоть и народишку вроде тридцать тысяч душ обоего пола, но просторов-то, просторов! Месяц скачи – не обскачешь. Правда, куда скакать, если от Обдорска до Березова в одну лишь сторону на пятистах верстах две деревеньки (Мужи да Кушеватово) в четырнадцать дворов; ежели к Уральским нагорьям податься, по Сосьве-реке вверх на двести верст, то случится там Сосьвинское село, столица Ляпинской волости и древнего остяцкого народа; а коли к югу скакать, то опять же в пятистах верстах будет Сургут, а еще случится Нарым и Пелым. Если же к Енисею намериться, там и вовсе версты не меряны, там ясачный народишко (тунгусы да самоядь) живет таинственной звериной жизнью. Гуляй, Никита Сумароков, верши земной суд, ведь каждая выя то ли купчишки березовского, то ли вахтера хлебного запасного магазина, иль станционного смотрителя, иль ясачного князишки, угодившая под твою начальственную руку, готовно и безропотно подставлена, покорно ожидая милости иль наказанья. Ведь сладко, ой сладко, как тут крови не закипеть в жилах? Ехал-то сюда, попадал на перекладных с робостью тайной и смутным неопределенным страхом: коли рассудить по правде, то будто живьем в могилу пехался, добровольно поближе к каторге норовил, предвидя участь. Убегал ли Сумароков от кого иль от тоски сердечной искал спасенья, но здесь, в Березове, пока не примерился к пространству, вел себя тихо и великодушно. Ведь коли даже самому откровенному злодею дай новую вотчину и освободи от смертного наказанья его темную душу, он и тогда не сразу примется за кровавый пир: ему надо поосмотреться, попривыкнуть, освободиться от последних ничтожных сомнений и на всякий случай убедиться, нет ли где за спиною засады иль чужого коварного промысла...
Ой, Сумароков, Никита Сумароков, празднуй жизнь, но помни: даже самую лихую натуру сомнут, опрокинут эти пространства, если не умерить гордыню; сие место не раз напомнит тебе о тщетности суеты, о гибельности честолюбия и мгновенности тщеславных упований; все канет в пучину и останется лишь слово Памяти. Сколько ни полагайся на беззастенчивость свою и хватку, сколько ни ловчи, надеясь на наглость и бесовскую душу, но конец виден.
А случилось несчастье...
Вахтер хлебного магазина Прыгунов отказал остяку в крайней помощи. Несчастный шел на Новоселовское зимовье за двести верст, а ему от ворот поворот. Горемычный вернулся ни с чем, подстрелил жену и сына, высушил их и съел, как юколу. Князь этой орды Бахтияров отказался быть судьей, сказав, что поступок его не подлежит нашему осуждению: остяк съел семью, не имея хлеба, которого не послало начальство. Ето может наказать только Бог. Орда поставила виновного в середину круга, каждый из остяков подходил к людоеду и, схватив его за волосы, таскал, сколько мог и желал, и так продолжалось до последнего в кругу.
С разбирательством на зимовье прибыл Сумароков; он долго мытарил-изводил вахтера хлебного запасного магазина, а гот прикидывался беспонятливым, словно и не догадывался, что исправник ждет подношения. Дай мзду, позолоти ручку – и отступится, пригрозив для острастки. Но вахтер испытывал судьбу и всячески противился воле исправника. Перед бывалым казаком поставили скамью, и он, уже немолодой, седой, как песец-крестоватик, прыгал через нее, подстегиваемый лакированными ножнами тесака, пока не споткнулся и не закровенил лицо. Но и тут не пошел Прыгунов на попятную, так решившись, что лучше на дыбу, чем из своего кармана лиходея улещивать. Вины своей вахтер перед ясачным не чуял, дескать, мало ли что взбредет безумному в голову, а настигнувшее наказанье думал достойно перенесть; то ли еще случалось в его длинной жизни. Налетит вот такая же гроза, разнесет в пух и прах, чуть ли не на дыбу норовит упечь, каторги наобещает, а вся-то пыль пущена в глаза с одним лишь умыслом – с виноватого шкуру снять, кредитным билетом ублажиться.
Ничего не добился Сумароков от вахтера и отправился на выселок Мужи для следствия, куда поджидал и остяцкого князька. Прыгунова заставили бежать возле возка, и когда падал он, измаянный так, что дух вон, глубоко зарывшись в снег, и, замрелый, желанно закрывал глаза, тут его стегали ножнами, а исправник кричал:
– Изверг! Забью... За-по-рю, скотина.
Потом Прыгунова кинули в сани, доставили на почтовую станцию и здесь, в холодных закуржавленных сенях, казаки под командою унтера отпустили прижимистому мужику еще семьсот палок. Дорого обходился вахтеру четвертной: он кусал зубами скамью, а после, не сдержавшись, высоко, по-волчьи взвыл.
– Прикажи, чтобы не выл, – велел Сумароков уряднику, – отдохнуть не даст, скотина, прости Господи!
Морозом нажгло щеки, да после самовара да чаю с пуншиком исправника натуго набило жаром и распирало. Сумароков осоловел, и только неясное любопытство удерживало его ото сна. Поклонится ли вахтер, падет ли в ноги, запросит ли прощенья, скотина худая. И вот воет-воет, берет на жалость.
– Скажи, чтоб заткнулся! – крикнул в сени. – А то четвертной набавлю!
Прыгунов запнулся и замолк. Палки хлопались лениво, будто выбивали пыль из мучного мешка: казаки, знать, прижаливали ближнего. Скушно, ей-Богу, скушно. Приезжал бы скорее ордынский князек, с него-то уж не слезу, дам выволочку.
Словно бы подслушав надежды Сумарокова, из хозяйской половины явилась за самоваром жена смотрителя, скуластая, бесцветная бабенка с черными, высоко вздернутыми глазами, – странная, несуразная помесь русского мужика с инородкой, – но чистоплотная, судя по обшитому кружевами сарафану. Уперся, словно бы подозревая в чем, долго и любопытно осмотрел хозяйку от цветастого повойника до калишек[76] на ногах.
Баба засмущалась от досмотра, едва не опрокинула самовар.
– Охте, охте... – справилась с собою, спросила отчего-то шепотом: – Постелить прикажете? – Бледные щеки слегка зарозовели.
– Пожалуй, лягу, – кивнул исправник и, пока хозяйка налаживала перину, назойливо продолжал обыскивать взглядом, так решив вдруг, что баба хочет его и только ждет слова.
– Клопы, блохи? – спросил неожиданно и грубо.
– Без них, отец родимый, не живем. Народу-то... быват, переселенье света. И едут, и едут... какая нелегкая несет. – Баба оказалась словоохотливой, говорила без натуги и, судя по искренности речей, давно не видела свежего человека, а хозяин, знать, приелся. Она так и стояла, спиною к гостю, узкоплечая, широкобедрая, резко стесанная на клин, ожидая иных, обещающих слов. Но Сумароков неожиданно зевнул и попросил звать смотрителя. Он явился без промедления, – наверное, ждал за дверью, – худенький, как подросток, седые волосы ежиком, а в серых глазенках неожиданная раскованность и смелость. Эта смелость Сумарокову не понравилась, он уставился на смотрителя исподлобья, стараясь прожечь чиновника четырнадцатого класса взглядом; обычно от такого досмотра ежился и самый-то наихрабрейший человек, но тут смотритель вольно повел себя, часто потирая руки и улыбаясь тайным своим мыслям. По скользящему, с искрой взгляду смотрителя, по косой, мелкой улыбке Сумароков так решил, что смотритель блаженненький, – и успокоился.
– Будет в сих местах жизнь невиданная. Только что молочные реки не потекут, и все друг по дружке в пояс, вот эдак, вот эдак, – земно, круто выгибая узкую спину, поклонился смотритель. – За волосья таскать не будут, не-е, этакой страсти не приведется, злобою до хладных каменьев не иссушатся и корочку постную позабудут, а будут кушать все калачи да сдобы. Все разом переменится, и все станет иным, да-с, милостивый государь. Есть молва, грядет Беловодье. Есть оно, живет и ширится, а когда обоймет землю и примет в себя и человек не станет человеком, а вовсе иным существом, и тогда вся земля наша будет райской и сладкозвучной... Давно имею охоту, сударь, пойти и сыскать ту землю обетованную. Хотя дело многотрудное, – добавил смотритель, понизив голос, почти переходя на шепот, и обыкновенно искрящиеся глаза его принакрылись слезливой мутью. – Опасливое то дело, сударь мой, – склонился к самому уху Сумарокова, будто хотел доверить тайну, и пахнуло на исправника кислым и нехорошим, отчего замутило душу. – Много охотников до той жизни, ой много, да не всем приведется! Намедни Скорнякова-купца работник туда ходил – нашли-с мертвым. Говорят, в лузане калач сдобный лежал, не нашей моды калач, не нашей выпечки...
Смотритель внезапно споткнулся, его умильное лицо налилось еще большей сладостью, он вдруг всхлопнул ручонками по засохлым ляжкам и метнулся к двери:
– Давний гость, жданный гость, с тех мест... с тех!
«Дурак, как есть дурачок, – недовольно подумал исправник, однако нисколько не осердясь на станционного чиновника, забытого Богом и царем. – Ссылка-то, поди, слаже, там хоть край есть», – вдруг пожалел ослабшего умом человечка, и этой внезапной жалостью был настолько сам тронут, что лишился охоты спать.
На воле за стеною раздался олений храп, забрехала цепная собака, звонко упал на нарты хорей, под неторопкими шагами, ломаясь, захрустел снег. Звуки были ясные, чистые и обещали морозную погоду назавтра. Добрая погода нужна была, ибо исправник уже решил про себя, что едет в Обдорск. Он краем уха слушал чужую возню, всхлипы и вскрики, а мыслями был уже в гостях у купца Скорнякова. «Ведь не известил, собака, – подумал Сумароков, его начальственная душа была уязвлена не столько этим известием, но слухами, что доносились из Красноярска. – Успел нажаловаться, алтынник, уже что дурное замыслили». Хорошо, прикрылся Сумароков бумагою, просил уволить со службы по причине телесной слабости и немощи, но тут же был обнадежен и вознагражден самим губернатором, который просил послужить еще на этом посту насколько возможно. «А нынче же покажу жалобщику. В тот раз пощадил скотину, нынче же шкуру спущу. Я ему устрою веселую жизнь за сокрытие трупа».
Сумароков улыбнулся злорадно, не замечая, что уже давно беседует сам с собою вслух; по гортанным вскрикам на хозяйской половине понял, что прибыл остяцкий князек и с минуты на минуту войдет сюда. Но Сумароков событий не торопил, он уже был весь в игре и сейчас, полный мыслями предстоящей поездки, наскоро сочинял для себя забаву. Любил поиграть с людьми Сумароков, ой любил, особенно нынче, когда под его пятою экая благословенная вотчинная земля без конца и краю. В прошлом же годе в Пелыме устроил Сумароков презабавную шутку. В ближнем лесу под деревней нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти; исправник приказал его немедленно перенести в местную мертвецкую, будучи хорошо осведомлен, что подобного помещения не имеется. Крестьяне устроили из еловых веток носилки и, положив на них труп, по велению Сумарокова направились к дому самого богатого печищанина. Под его окнами сложили носильщики свою скорбную ношу, а исправник объявил испуганному мужику, что он должен до прибытия уездного доктора принять мертвое тело к себе в дом.
– Господи! Боже мой! – взмолился хозяин. – Да как же я могу принять в свой дом труп на несколько дней, когда у моей дочери нынче свадьба.
Сумароков давай уверять хозяина самым серьезным образом, что ему крайне жаль, но до прибытия врача ничего поделать не может: преступление очень серьезное, труп предать земле нельзя, пока не удостоверят личность убитого и не составят протокол; дело это, кстати, может наделать много неприятности всему миру, и пусть мужики молят Бога, чтобы все обошлось хорошо. Крестьянин в отчаянье, он знает, что исправник по закону имеет право перенести труп в избу, и также понимает он, что за сопротивление властям может схлопотать каторгу. Он давай умолять исправника, чуть не в ноги пал, чтобы отменил тот свой приказ, а он, в свою очередь, готов заплатить пятьдесят рублей, только бы не откладывать свадьбы. Этого-то Сумароков и поджидал; он еще продолжал для виду кобениться, строжился и кричал на мужика, но, получив ассигнацию, приказал положить труп под окнами другого богатого дома, да и разыграл ту же комедию, и здесь удалось ему вытянуть четвертной. Таким образом убитый совершил путешествие из одного конца деревни в другой, и лишь под вечер исправник, вполне довольный откупом, приказал перенести труп в заброшенный сарай...
Это вспоминать ладно по прошествии некоторого времени, и эта история уже ничего не вызовет, кроме легкого добродушного смеха даже у самих потерпевших, и ежели у кого случится негодование, то и оно живет не дольше вешнего снега: знать, душа человека не терпит долгих обид и своею забывчивостью хранит себя. «Это же надо сочинить такую штуковину, – восклицают обычно не без доли восхищения, ежели Сумарокову случается когда рассказать эту историю. – Острого вы ума и веселого сердца, сударь, надо сказать». Добавят не без лести, постоянно памятуя о должности Сумарокова. Да и то сказать – скучища неописуемая, когда снегами забьет городишко, а на улице ветер воет до памороки, до тоски сердечной, и не то в гости бы куда пойти, так ведь носа-то высунуть страшно, – вдруг подхватит и унесет в преисподнюю. При этакой жизни любому веселью рад, лишь бы учинить что позаковыристей да позабористей. А придет на ум мыслишка какая невзначай – давай ее тешить да голубить, так и эдак раскумекивать, чтоб случилось все самым необычным образом на потеху натуре. Да коли душа сама готова к проказе и мрачна, так тут и без всякой зависти иль злобы такое насочиняешь, лежа в постели и посасывая чубук, набитый суворовским табачком, в такие фантазии ударишься, полные коварств, что и самому сатане в удивленье. Валяешься этаким манером долгий зимний вечер и невольно думаешь, распалившись и дав волю желчи: «Если я хочу, предположим, так почто мне нельзя того, чего я хочу? Разве кто может воспрепятствовать тому, что хощет душа моя и трепещет? Ежели не могу совершить, чего хочу я, тогда зачем и родился, закоим явился на свет Божий, если не могу проявить своей воли?..»
Остяцкий князек Бахтияров вошел не спросясь и поздоровался с той сдержанной гордоватостью, что свойственна инородцам:
– Сюнь пасе, русейка начальник.
И хоть бы капля подобострастия на смуглом маслянистом лице, хоть чуть гибкости в хребтине; мог бы и присогнуться, есть кого уважить, есть, не простой человек ждал в застолье. Сумароков показал рукою на стул, но князек повторил снова:
– Сюнь пасе, русейка, сюнь пасе, благополучный человек.
«Ну и вырядился, остолоп», – подумал Сумароков и сказал, улыбаясь:
– Что ж ты, как скоморох?
Бахтияров тоже ответно улыбнулся, думая, что исправник похвалил его, и полез в меховой мешок, шитый из оленьего лба. Князь воистину был одет странно, как могут одеваться лишь чистосердечные люди; на плечах его был длинный, зеленого тонкого сукна камзол с медными штучными пуговицами. Войдя, Бахтияров сразу же распахнул камзол, – знать, душе не терпелось похвалиться, всего себя показать, – а там у него оказался ярко-красный бархатный жилет, да белая расшитая манишка с высоким стоячим воротником, да пышное атласное жабо, подпирающее синий от щетины подбородок. И только лосиные брюки да длинные, по колена, кисы, сшитые из оленьих камусов, выдавали происхождение остяцкого князя. Он еще потоптался, манерничая, ослепительно сияя лунообразным лицом и показывая нерасшатанные зубы, – наверное, радовался тому впечатлению, какое произвел на русского начальника, – а пройдя к столу, тут же достал из мехового мешочка пачку кредиток.
– Ясак, русейка, ясак. Сто пясят, с орды ясак.
Он пошарил глазами по столу, отыскивая зеленый полуштоф, и пустая столешня разочаровала Бахтиярова. Сумароков, зная, что инородец не обманет, сунул кредитки в укладку и, чуть помешкав и пристально наблюдая за лицом гостя и наслаждаясь теми сменами настроения, что будоражили гостя, все-таки сжалился над инородцем и достал из дорожного сундучка штоф сладкой французской водки. Бахтияров мгновенно выплыл из отчаяния, и горестное лицо его сразу залоснилось от улыбки; он резво сел за стол, звеня монетами, вплетенными в косицы, и гордо откинул голову. Все-таки в любом народе порода выдает себя повадками и покроем самого лица, привыкшего повелевать.
– Почему, старик, волосы? Ей-ей, как баба! – капризно спросил Сумароков, смеясь над гостем: сальные косицы, давно не знавшие горячей воды, слиплись и походили на деревянные. Исправник брезгливо, но с тем же любопытством, с каким рассматривал гостя, дотронулся ладонью до его головы и даже качнул справа налево, удостоверяясь, что она слеплена из живой плоти. И князь снова по-детски откровенно улыбнулся, радуясь впечатлению, произведенному на исправника. Он еще не догадывался от простодушия своего, что Сумароков смеется над ним и готовит каверзу.
– Зачем, однако, волосы, ваша светлость? – переспросил исправник и дернул князя за косицу, ощутимо тяжелую от серебряной подвески. Бахтияров сморщился, но ответную дерзость подавил.
– Такой привычка, кудря такой, – отозвался он мирно и зачем-то улыбнулся.
Исправник же тянул время, наслаждаясь внешней невозмутимостью гостя, хотя пальцы, сильно и нервно сцепленные на колене, выдавали лихорадку остяцкого князя. Тому хотелось вина, нетерпимо желалось горячей хмельной воды, от которой голова полнится блаженным радостным туманом. А Сумароков спрашивал об орде, о жизни, о промысле, худо слушая гостя и еще менее понимая его. Князь отвечал отрывисто, гортанным, лающим голосом, словно бы и ему, в свою очередь, было неприятно разжимать губы и что-то объяснять:
– Соболя гонять не будем, собака гонять будем. Белка лаем, куница лаем, хороший собака. На охоту ходим, мало-мало горносталь бьем, косач бьем, писяль всех бьем.
Князь говорил, а широко поставленные узенькие глаза, лежащие где-то чуть ли не у висков, наливались нехорошим звериным блеском.
Исправник не испугался, не-е, чего ему страшиться в своей вотчине да коли в служебной комнате казачья команда: живо обротают инородца, возьмут в плети, смирят гордыню. Но лицо Сумарокова, обычно бледное, каменное, приобсыпалось холодной росою. Рысь он увидал перед собою, рысь, теряющую осторожность. Исправник поискал взглядом посудину, но каждая казалась мелкой, не годной для дальнейшей игры, и нацедил в медную полоскальную чашу. Пить явно было неудобно, княжья голова скрылась в посуде, но, жалея драгоценную влагу, Бахтияров пил медленно, вернее, не пил, а цедил, стараясь продлить удовольствие. А опорожнив братину, какое-то время еще сидел закрыв глаза и тихо покачиваясь, как остяцкий идол; лицо его из мрачного постепенно становилось блаженным и ласковым. Князь сразу вспотел, от него запахло звериными шкурами.
– Русейко хороший, русейко атя, отечь наш, – протянул напевно и облизнул тонкие сухие губы.
Гость сразу захмелел, осоловели и косо сместились крапчатые глазки его; князь уже всех любил и каждого хотел приласкать. На язык просилась песня, и Бахтияров запел заунывно: «Живет кулик, живет-живет кулик... Так-то ветром качает кулика, так-то теченьем несет его». Присогнувшись, князь Бахтияров запрыгал по комнате, и его обветренное лицо сразу обрело птичье задумчивое выраженье: он скрючил руки в локтях, наподобие подбитых крыл, и, загребая, медленно поплыл из угла в угол, бормоча что-то и вскрикивая. И вдруг скрылся в сенях, приволок сангулдык – музыку, вроде долбленой лодки, с четырьмя струнами, поставил на колени и, ловко перебирая туго натянутые оленьи жилы, запел: «Атя давно умер, ома давно умер, сестра давно умер. И стал я пустой, как этот сангулдык». И тут князь завсхлипывал, развесил губы.
Исправнику же стало скучно, и он сказал:
– Слушай, ваша светлость. Я устал, спать хочу. Царю нашему плати ясак и убирайся. Право, надоел ты мне...
– Русейко начальник. Пошто говорит – ясак давай. Ясак давал Бахтияров. Бахтияров не врет. Он князь честный. А ты хитрый. – Бахтияров засмеялся, не веря в беду.
– Давай ясак и поди прочь, собака, – прикрикнул Сумароков, не глядя на гостя.
Тому стало печально, и он понял, что с ним не шутят. Князь быстро крутил головою, норовя миновать западню, но его обложили сетями, как жирного линялого гуся. Он-то не ведал, что исправника давно уже известили, что ордынский князь на ярмарке в Обдорске продал много пушнины и сейчас при деньгах.
– Ты не крутись, как на угольях. Слышь, князь. Отдай ясак и поди.
– Отдавал я...
– Пить не надо, все забыл. Собирался отдать деньги, а после раздумал и в карман положил. Ты посмотри лучше, светлейший князь.
Но при этих словах Бахтияров вдруг кинулся в сени, оттуда на подворье, пнул передового оленя, лежащего в снегу, заторопил упряжку, подгоняя важенок хореем, но от этой спешки спутались постромки; набежали тут казаки, повалили ордынского князя лицом в конские катыши, заломили руки, отобрали меховой кошель, забрали еще сто пятьдесят рублей и, надавав подзатыльников, выпроводили прочь с почтовой станции. Смотритель метался по двору – боялся смертоубийства – и был смешон среди рослых, матерых казаков. Кто-то походя обматерил его, чтоб не путался в серьезном деле, кто-то подставил подножку, и чиновник четырнадцатого класса, мечтавший о Беловодье и райской жизни, зарылся по плечи в забой, кто-то с нахлестом огрел плетью по куцему кожушку, вырвал клок собачины.
Сам же «гроза», в ту пору выкушав чарку вина и закутавшись в медвежью полость, уже почивал, прихрапывая со стоном и во сне по-прежнему болея неизживаемой тоской и скукой. Где-то средь ночи привиделось Сумарокову, что его хоронят заживо, он хочет крикнуть, что жив и тут вышла ошибка, но князек Бахтияров, насмешливо грозя пальцем, дескать, не рыпайся, лежи смирно, накрывает домовину крышей и начинает деловито бить гвозди. Потом услышал Сумароков, как гроб, покачиваясь, пополз вниз, зашуршала о боковины земля, сверху гулко посыпались комья глины, нестройные голоса затянули панихиду. Обдирая пальцы и ломая ног ги, исправник пробует выломить крышу, но, окованный узким последним жильем, его тесными надежными стенами, понимает безнадежность последних усилий и с мольбою кричит: «Братцы, я жив! Брат-цы!»
От своего же крика Сумароков очнулся и был невыразимо обрадован, что жив. На воле начиналась поносуха, хлопались ставни, будто резко и настойчиво забивали гвозди. И этот мерный бряк дерева по дереву, давно ли казавшийся невыносимым и жутким, сейчас успокаивал и возвращал к жизни. Сумароков приложился к лафитничку, в сплошной тьме помня и зная о его присутствии, и, обогретый сладкой французской водкой, заснул с мирной и счастливой душою.
Очнулся он не то от дурного сального запаха свечи, иль от кислой рыбы-сырка, замоченной хозяйкою (а эти ароматы и вообще-то невозможно переносить, дай Бог ноги в руки да и выметайся на свежие воздуха), иль от сумеречного взгляда в крохотную вытайку в ледяной брони оконца. Еще раздражения не было, и даже кислая рыбья вонь не будоражила исправника, не позывала на гнев: жило в душе чувство редкое, полузабытое, когда детское сердце, ничем не отягощенное, полно счастливого неведения. Сумароков повыше натянул медвежью полость, желая продлить душевное благорастворение; робкий тихий голосишко, будто сквозняк, дунул в притвор двери, худо слышный, но завлекающий своей непонятностью. Пришлось откинуть меховое одеяло с головы и направить слух к хозяйской половине. Знать, обряжалась жена смотрителя, брякала посудой, соображала завтрак своему благоверному, но вроде бы жаловалась гостю-исправнику:
– Распостылый старый муж, он лежит на руцки, как колодушка гнила, сыра, дубовата.
«Эк припекло, – довольно подумал Сумароков, пробовал представить бабье лицо, но образ показался невыразительным, стертым и постным. – С лица, конечно, не воду и пить. Но припекло. Да и мужичок-то, конечно, так-с, выразиться ежели, клякса, тьфу», – неизвестно за что подосадовал исправник на смотрителя.
Даже сама тишина огромного станка[77] угнетала его: храпит, протобестия, а службы не ведает. Небось кони не поены, не кормлены, ямщики пьяны, сукины сыны, дороги не вешоны, не пробиты. Ну, я покажу каналье.
– Эй, баба, слышь-ка! – крикнул, приподнявшись на локте.
Заслоняя ладонью пламя свечи, вошла хозяйка, робкая, приспущенная, в странном своедельном салопе из потертого бархата. Модница, однако, ой модница: при скудном свете она даже показалась ничего, сносной и почти миловидной.
– Что, батюшка, прикажете? – остановилась поодаль, но Сумароков грозно пригласил ее указательным пальцем, и она не осмелилась возразить.
– Бьет муж-то? – спросил Сумароков строго и, не мешкая, по-хозяйски властно огладил широкое упругое бабье бедро снизу вверх и руку позабыл на талии. Подол задрался, и заголилась нога. Сумароков не мог оторвать взгляда от странного сиреневого потека, стараясь распознать его происхождение; нога в щиколотке была толстая, некрасивая и вызывала отвращение. «Боже мой, Боже мой, ни одной приличной мадам», – разочарованный, внутренне простонал исправник, но еще продолжал играть роль важного повесы. – Если бьет, мне доложись. Я с его, канальи, живо шкуру спущу.
Женочонке бы отпрянуть, заслониться дверью и грудью хозяина иль разгневаться на крайний случай: но, знать, робость раньше ее родилась. А вдруг что да не так, да не тем концом и не по тому месту. Ты словом возрази, а на муже и отзовется.
– Значит, как поешь-то? – насмешливо продолжал Сумароков, упиваясь своею властью. Он так воспринял молчанье хозяйки, что она не прочь бы поиграть, наставить муженьку рога. – Значит, распостылый старый муж, он лежит на ручке, как колода, говоришь, гнила. Воленс-ноленс, природа пойдет в наступление. Да-с...
Женщина потупила глаза и не отвечала, лицо поблекло, и на щеках проступила ржавчина. Сейчас располовинь ее, исказни, шкуру спусти для собственной утехи – не дать бабице обороны. Хорошо, сам отступился, прикрикнул, встряхиваясь от наваждения:
– Ты буди его! А не то погоню со станка. Напинай в бока да скажи, что я велел!
А ведь была блаженная минута, когда вся жизнь казалась Сумарокову милой. Прошло это чувство нежданно, как призрак накатило и так же неслышно утекло; ухватить бы его и продлить, но тогда надобно вовсе перемениться, стать иным, новым человеком. Вернее, вернуться к тому наивному и безгрешному, который был задуман природой, да вот не случился. Сел Сумароков на лавку, растирая закаменевшие колени, и подумал зло, тягуче, обычно: «Пороть надо. Пороть и пороть. Ежели потворство давать сукиным детям – живо распоясаются. Ведь удержу не знают, никакой чинности. Все чтоб вровень. Главное, чтоб в мыслях про волю ни-ни. Это все с Запада. Как с Запада, так слякость и гнилье. Сами сгнили и нас норовят в труху. Вольность, братья... Отсюда и всякие тьфу».
В Обдорск Сумароков собрался быстро, нервно, с тычками и окриками; по правде, иного обращения уже и не ведал он, за эти годы свыкнувшись со службою и своим положением. Раньше голос-то был визгловатый, растерянный, а ныне огрубел, то ли от частого вина, иль от прохватных морозов, иль от сознания своей важности; видно, от всего охрип, осел голос, и раскат проявился в нем, медвежий, начальнический, устрашающий раскат. В службе что главное? Главное – голос свой установить, чтоб с раскатом был голос, чтоб никаких сомнений не оставлял в подневольном, но где надо по службе, ежели к начальнику с подношением иль с просьбой вошел, там умел чтоб подпустить кошачью мягкость и покорливость. Нет, как ни говори, для службы перво-наперво надо голос поставить, а во-вторых, состроить выраженье на лице, ту самую мину, которая введет в заблуждение самого-то пронырливого и понятливого человека. А для той осанки и особенно выраженья нужно и душу, оказывается, слепить особым образом; вернее, не столько слепить, сколько дать потворство тем полузабытым иль тайным особым качествам, что хоронились на сердце без нужды. Сложное все это дело, скажу вам, господа, но наука приятная и на какое-то время избавляющая от скуки. Правда, сотрется новизна впечатлений, все войдет в норму, в наезженную колею, жизнь станет привычной, серой и невзрачной, и каждый новый день, особливо с утра, покажется мозглым, нудным и обрыдлым...
Прежде чем тронуться к Обдорску, решил Сумароков вручить смотрителю прогонные деньги на год. Глядя на чиновника, на его одрябшее личико с мокрыми мешками под задумчивыми глазами, подумал: «Все одно пропьет, сколько ни дай ему». Не узнать было в смотрителе вчерашнего словоохотливого философа. Философ-то пил, оказывается, попивает, каналья! Сумароков даже повел носом, но услышал только кислый рыбий запах.
– Давай, Каменев, – велел смотрителю, – давай расписку в получении прогонов.
– Я неграмотный...
– Это поправим. Пиши ты, Комаров, – обратился исправник к писарю, – да штоб мне без ошибок. Так и так, дескать, я, Каменев... Как тебя по батюшке?
– Александр Петров...
– Значит, я, Александр Петров, прогонные деньги на почтовую и обывательскую гоньбу в сумме сто двадцать восемь рублей ассигнациями получил, в чем и расписуюсь...
Писарь живо накатал бумагу, исправник удостоверился, окинув ее взглядом.
– Все верно? – спросил смотрителя.
– Кабыть, на слух-то и правда.
Сумароков сложил расписку вчетверо, сунул в карман, пошел прочь из дому и сел в сани.
– Батюшка, – закричал смотритель, – а деньги-то я не получил.
– Зато я получил расписку, – ответил Сумароков, странно кривясь холодным неживым лицом. – Канальи, писать не умеете, а хотите получать деньги.
Исправник ткнул кулаком в спину казаку, сани тронулись по неторной дороге; смотритель станка вздрогнул, закричал, кинулся следом:
– Ваше благородие! Ваше благородие! Смилуйтесь! На голодную смерть обрекаете... на каторгу... Ваше великодушие, отец, окажите милость!
Смотритель бежал за санями, раскатываясь подшитыми валенками в колее, застоялые кони худо набирали ход, пробиваясь сквозь снежные суметы, и мужичонке удалось догнать возок. Смотритель ухватился за розвальни, но лошади дернулись, перешли на рысь, и бедный наш смотритель, не устояв на ногах, поволокся за санями худой рогожкой, но, однако, закоченелые пальцы не разжимал и все вопил:
– Батюшко, отец родной, сжалься!
Казаки ухмылялись, скакали следом и лениво, беззлобно стегали нагайками.
– Отчепись, собака!.. А ну отымись! Не мешай службе!
Каменно сутулился исправник, сплошь покрытый необъятной медвежьей полостью, и казалось, что крики несчастного не достигали его сердца. Но вот дрогнула спина, слегка подалась к вознице, Сумароков ткнул казака нагайкой, приказал остановиться. Потом молча полез в тайный внутренний карман, где уже загодя лежали приготовленные прогоны, и так же молча бросил деньги смотрителю.
Лошади спохватились, почуяв безгласную команду, прянули колокольцы, залились, и скоро скрылась казачья команда за обмыском реки. А бедный наш смотритель, едва спасаемый от холода заячьей душегреей, еще долго стоял на росстани, не решаясь повернуть к станку: словно думалось чиновнику, что вот стоит отпустить взглядом ту дальнюю излучину, за которой скрылся исправник, как тут же и вернется он, крылатый и всесильный, и смертно окует смотрителя. Стоял он, как перст, посреди снежной бескрайней равнины, которой не было ни конца ни края, и не знал, то ли плакать ему от жалкости своей и неприкаянности, то ли радостно и безумно смеяться от нежданной удачи. «А ведь удача выпала, удача, чего там, – внушал себе смотритель и тер кулачком покрасневшие глаза. – Исправник-то горлохват, артист. Концом нагайки чего хочешь отымет, из самого горла, кажись, выхватит, лиходей, за-ради забавы лишь. А там чинись с ним, рядись. Воля и добрую жену портит, а тут, гляди, на какой вышине человек числится, какую землю под себя подмял! Дух захватит, не то ино!..»
И всплеснул ручонками смотритель, более похожий на подростка, и огляделся кругом, обнимая взглядом всю Русь, коя палась ему на глаза с его незавидной вышины. И те пространства, что охватил он духовным взглядом, показались вроде бы знакомыми, как и прежде, но с печатью некоей неизбывной тайны.
Вот там, говорят, где солнце правит свою дорогу после полудня, меж Камнем и Великой рекой лежит Беловодье, куда путь грешному человеку заказан. И только помыслить хватило о райской земле, чтобы тщедушный человек распрямился, лишился робости, заискрился глазами и недавнее горестное несчастье уже мыслилось игрою и забавой.
Нет, не раболепен русский человек, как бы хотелось то видеть иному, но гордость свою он хранит для особого случая, какой представляется обычно раз в жизни. И не его вина, что иной и сойдет в могилу с согбенной выей, так и не познав счастья полностью выпрямиться, но это-то чувство не уходит вместе с несчастным в тлен, но невидимыми путями передается в другую душу. «Иное худо, – думал смотритель, – гнетет Русь антихристова власть, сковала она волю, и не знает народ, как выйти из ига. И разбить бы эту печать, дать хоть глоток воздуха, и тогда совсем иными глазами глянут люди друг на друга...»
Смотритель размашисто перекрестился, и расхотелось ему дальше думать, да и замерз он. Темень и мрак, стыло так, ой стыло. И захотелось, нестерпимо захотелось выпить ему и вернуться к прежним недодуманным мыслям. Вышла на захлевье жена, забрякала колотушкой в таз, боится за мужа, как бы не заблудился он. Долго ли на Руси пойти кривою дорогой, затеряться на росстани иль вовсе свихнуться?
Рядом с бабою неожиданно замаячила другая фигура: то из чулана, едва дождавшись отъезда грозного начальства, вылез избитый вахтер хлебного магазина Прыгунов, и сейчас ему тоже не терпелось залить вином нежданную напасть.
Глава третья
Две главные заботы у человека: ладно жениться да вовремя помереть, чтобы самому не настрадаться да людей не напозорить, не ввести в тягость и расходы.
Молодого работника Ангулея случайно нашли в трех верстах от Обдорска. Кочевой чум Хантазейских, наткнувшийся на гиблого, поневоле сделал крюк, чтоб не кинуть сородича на съедение псецам да и с тайной надеждою на благодарность. Старшинка рода постучал в заплот хореем, попросил вызвать самого, а когда вышел хозяин, запечалился тонко и невразумительно.
– Узяс, ой узяс... Сапсем, сапсем худой. Твой человек, хозяин? Маленько, маленько мертвый.
Скорняков подошел к нартам, отогнул оленью шкуру, накрывавшую труп, увидел скрюченного человека, в котором лишь по синему шраму над левой бровью признал Ангулея, с месяц назад пропавшего. Приказал отнести покойного в холодный амбар, самолично же подал старшинке Хантазейскому картуз костромского табаку мятного, трехфунтовую пачку чаю и четверть вина. Инородцы, сидя посреди единственной улицы, которая была чуть ли не вровень с крышами, тут же выпили водку и с шумом, гиканьем отбыли за Обь в тамошние боры, чтобы весною вновь откочевать назад к морю.
Мерзлого Ангулея пытались разогнуть, но рука деревянно хрупнула, и от покойника отступились. Завернув в холстину, его отпели в местной инородческой часовенке, но Скорняков отказался отвезти его обратно в тундру, где тело объедят псецы и лисы, а душу почившего подберет верховный бог Нума.
Решить-то решил, но попробуй отрыть могилу в насквозь промерзлой земле, когда каждая дровина золотая, и купец по некоторому раздумью так постановил, что отпетый Ангулей до весны полежит в холодном амбаре, а после, когда оттеплит земля на аршин и позовет к себе, тело его положат под крест. Правда, у Скорнякова однажды мелькнула нечаянная мыслишка, дескать, как бы худа не случилось из этого: волчина рыскает по Оби, не сидится исправнику Сумарокову в Березове, и ему лишь зацепка ничтожная нужна, чтобы обидеть ближнего и ввести его в новое несчастие.
Нет, не вовремя нашел свою смерть крещеный самоедин Ангулей...
– Что-то псецы на усадьбу повадились, – уже на третий день, как положили Ангулея в холодный амбар, пожаловалась хозяйка. – Не мясо ли нашли? И ходить-то опаско, кровь леденит.
Скорняков с приказчиком Донатом обошли вдоль заплота высоченных палей[78] , высмотрели жировую торную тропу и по ней дошли к вонному амбару, стоящему в дальнем углу двора. Так и есть: зверье ненасытное прогрызло угол и уже полголовы отъело у бедняги. И так-то смерть не украсила молодого самоедина, а тут и вовсе смотреть жутко.
– Сколь смерть безобразна, – с неожиданной тоскою признался хозяин, когда возвращались в дом. – Уж сколько лет живу на свете, а привыкнуть не могу.
– А, смерти не избежать, – отмахнулся Донат, не принимая купеческой печали. Да и то сказать, богатым-то легко ли умирать: наживалось горбом, и в одночасье пойдет прахом. Вот и горюет хозяйская душа. – Всем свой срок, – по-стариковски рассудил и с отчаянной веселостью снова махнул рукою. – А я, как ты хошь, Еремей Пафнутьич, вот ни на эстолько смерти не боюсь. Придет коли, дак я ее смехом встречу.
– Еще не живал, дак... Вот и дурак. И я, может, не боюсь, как знать. Да и пошто помирать? – уже в гостиной переспросил Скорняков, озирая солидную российскую мебель из доброго дерева, щедро освещенную восковыми свечами. – Пошто бы всема-то не жить? Земли-то эвоно, держава-то на все четыре стороны, только управляйся. Всем места хватит. Вот бы как здорово: сели бы нынче за стол и папушко мой, и дедо, и прадедушко, и все чинно так, да по рюмашечке под кулебяку с осетринкой, и свои разговорчики нашлись бы про дела да про веру.
Плешеватое, с большими рыжими бородавками доброе лицо Еремея Пафнутьича от этой неожиданной мысли покрылось тем самым лихорадочным румянцем, за которым скоро приступают слезы. Не из трусливых мужик, не раз, бывало, по краешку смерти хаживал. Денежки-то наживал не на меняльном дворе и не перекупкою хлеба, а сам всю молодость выбродил по Енисею да по Тунгуске, мыл золотишко. Кто-то, спустившись в Енисейск, чтобы охлебиться, тут же и спускал нажитое, дым коромыслом шел тогда, бархат толстенными штуками кидал добытчик под ноги в грязь, чтобы не замарать хромовые сапожонки, а еще более – чтобы покуражиться, пустить пыль в глаза. А напившись вина, ободранный до нитки, сирота сиротою, хлопнув последнюю шапку оземь перед кабаком да похмелившись, возвращался добытчик обратно в тайгу на съедение гнусу, в кушную избенку, чтобы снова преть в воде, наживая лихоманку и ломоту. Еремей Скорняков все искусы прошел и уцелел; а после вот сюда в Обдорск перебрался и всею меновой торговлей завладел...
– Не тем смерть жестокосердна, что отымает жизнь нашу. – с печалью в голосе продолжал Скорняков. – а что надежды наши рассеивает и мечты наши превращает в дым. А сколько прекрасного, несостоявшегося рухнуло, сколько добрых головушек почило в бозе, не посеяв семена добродетели.
По толстой складчатой шее купца пробежала судорога, будто накинули на выю вервь и готовили перетянуть. В маленькие стеколки давно ли дымила пурга, а вот вызвездило вдруг, черненым серебром окаймило оконную решетку. Благостно, тихо, мирно, пар кудрявится над чаем. К чему бы, казалось, мысли о смерти? Но так уж устроен человек: чем налаженней жизнь его, чем сытней она и доброрадней, тем больше он задумывается о смерти, будто постоянно боится потерять радостное бытованье: столько всего хорошего, непрожитого и непознанного окружает его, столько желаний не пророщено, столько планов не исполнено, что, кажется, и двух жизней не хватит, не то одной; да особенно когда все ладно складывается, все в утеху душе, все согласно мыслям, когда удача сопутствует.
– Но, может, и прекрасна она, смертушка? – неожиданно заключил Скорняков. – Ежели взять в мысль... А толчемся, как моль, суета, тлен. Сколько занапрасной энергии творим, чтобы возвыситься лишь, чтобы малое приумножить, чтобы ближнего обойти. А сколько кровищи, сколько злодеяний и слезы во имя утехи. Но как мало добра творим.
– Да и жить устанешь, – поддакнул Донат.
– Ты-то откуда знаешь? – подозрительно взглянул Скорняков и насупился светлыми бровками.
– По себе чую, – признался Донат.
– Балабон ты, только бы языком тебе бот-бот, – поморщился Скорняков, недовольный, что собеседник поймал его дальние тайные сомнения. – Разве можно устать жить? Дурак.
Скорняков задумался, погрузился в себя. Рыхл стал купец, тучен, голова срослась с плечами, и складки шеи уплыли на бабью грудь. Сердце пурхалось совсем рядом, в горле, неровное, стопорящее, ему тяжело было качать кровь по громадному, оплывшему телу, и купцу трудновато становилось жить. Душа-то хотела вечности, и в голове какие только планы не громоздились, но тело Скорнякова уже умирало, кости устали таскать мяса. Ах ты водянка, будь она неладна.
– Ты так не говори, любезный. Про смерть-то, слышь? – кротко попросил купец. – Ты себя строжи, парень, строжи. Тебе не жить, так кому жить.
– Блажь во мне, – признался Донат. – Убить должно одного человека.
– Опять старая песенка...
– Не могу, Еремей Пафнутьич. Вот хворь дак хворь. Ей-ей. Пальцами сердце не вырвешь. И кто пособит, батюшка? Кто?! Сомкну глаза, аж стон из груди. Вот стоит тот человек, и все. И я его всяко убиваю. И боюсь убить, а всяко убиваю, ну как хочу, какую казнь выдумаю, так и убью. И столь сладко.
– Грешник! Опомнись! – взорвался Скорняков. Показалось ему, что кровный сынище подле, и ежели чего натворит вдруг, набедокурит, то и последняя надежда утечет от Скорнякова, надежда каким-то непонятным образом сохраниться на миру. Вот его бы шкуру, крепкую, дубленую, да ему, Скорнякову, для прикрытия его души и ума. «Возможно ли такое сотворить, чтобы облечься в чужую шкуру? – внезапно подумалось, и купец мысленно даже примерился к приказчику: оказались одного роста, одной стати, одной масти. – А сам-то разве не эким был? Пятаки-то ломал, так, знать, сила была в перстах? Еремей Пафнутьич, опомнись! С живого шкуру содрать да на себя напялить – это разве не безумье? Но он-то, парнище, пропащий человек, – взмолилась купеческая душа. – У него сердце вразнос, с дурной кровью. Наделает греха, и поминай как звали, пропадет ни за понюшку. А шкура-то дубленая, износу не будет...»
– А если человек пакостник, насильник. Пожалеть его?
– Да, пожалеть. Ты любовью его. Он плюнет тебе в рыло, а ты утрись. И кричи: как сладко. Гордым Бог противится, а смиренным дает благодать.
– Вранье все, вранье, – вспыхнул Донат. – Нет Бога на земле, нет и выше...
На следующий день только успели за трапезу и по ложке стерляжьей ухи распробовать, как на тебе, стучат в ворота.
– Заснул, что ли? – заворчал Скорняков на дворника, застрявшего где-то в людской. – Вечно бегут от дела, сон-то любят пуще бабы. Кого-то к нам Бог несет к застолью, доброго иль немирного?
Еще ничего дурного душою не чуялось, не екнуло сердце, не сжалось в предчувствии: после рюмки наливочки был сейчас хозяин в самом счастливом настроении.
Донат одной ногой там, другой – здесь; тут же и вернулся, с лица бледный, взгляд потерянный.
– Что с тобой, дружок? – встревожился Скорняков. – На тебе лица нет.
– Худо, хозяин, худо. Фармазон на дворе. Где ружье-то? Давно ждал, а он и явился.
– Оружья в доме не держим, – соврал купец.
– Ну так молись, кормилец! Сатана в дверь стучит! – выкрикнул Донат и с этими словами исчез.
Заполошно бегая по задворкам, он туго соображал, где у купца ружье: ведь нынче видал, будто и в руках держал даже, а вот тут вышибло из памяти. Но тайный голос нашептывал: «Хоть бы не нашлось». Но чтобы не поддаться гневу, такая требовалась нора, в кою ход лишь в одну сторону, а обратно чтоб за ноги кому вызволять. Судьба толкнула Доната в сенной амбар; он сразу у порога, не ведая, для какой нужды, прихватил вилы и, оскальзываясь по сенной копне, заполз под самый потолок, закатился к стене. Он затаился в темени, худо соображая, зачем схоронился здесь, и руки его, сжимавшие вилы, лихорадочно тряслись. «Дай удержу, – молился он, – сохрани в памяти».
А в хоромах события меж тем развивались своим чередом.
– Хлеб да соль! – туго ворочая языком, приветствовал Сумароков, скинул шубу на руки казаку; исправник посинел от мороза, и лицо заострилось. «И охота была ему шастать по тундрам?» – подумал Скорняков, невольно жалея гостя и забывая прошлые обиды.
– Садись, батюшко! Добрый-то гость – ести да пить, а худому-то гостю от ворот поворот.
– Круто, круто... Ты бы графинчик приказал, да штоб покрепче, позабористей.
Исправник торопливо выпил рюмку, будто кто гнался за ним, с закрытыми глазами потыкал вилкой по тарелкам, чего-то поймал на острие, вздохнул и поначалу замалиновел, а после побурел. И тут же повторил рюмашку, не ожидая приглашения, словно один находился в столовой, расстегнул ворот мундира и откинулся на гнутую спинку стула. Графинчик и закуски принесла старшая дочь Скорнякова, несколько перезревшая девица (а где женихи-то, где?), но с тою неожиданной на Севере смуглотою лица, которая невольно притягивает и вызывает интерес. Сумароков несколько раз оборачивался, будто озирая житье, но сам меж тем цеплялся взглядом за девицу, а с третьей рюмки, не сдержавшись, спросил, кивнув головою на девицу:
– Жена-с?
– Дочь...
– Нехорошо-с, обижаете, милейший. С жалобами-то лезешь вон куда, почитай, в приемную к губернатору, да-да, мне все известно, хитрец. Но я не в обиде, я обид не таю, зла в кармане не прячу. А ты вот красавиц прячешь, как-то нехорошо, алтынная твоя душа! Доложу, доложу-с по властям, как выйдет случай. Да и вижу, что пора, самая насущная пора, – подмигнул исправник, пьяно ухмыляясь и круто поворотившись в сторону двери. – Пора-с, а то, сам понимаешь, любезнейший. – Он повертел серебряную вилку и предложил неожиданно: – Может, отдашь?
Скорняков понял, что речь идет о дочери, побагровел, но сдержался.
– Это как изволите понимать, ваше благородие?
– А так и понимай, сутяжник. И брось мне, брось! Изо всякой мелочи, да?.. Ловушку коли строите, так не выйдет! – Погрозил пальцем, и выпуклые глаза налились устрашающим гневом.
Скорняков не сробел, но взгляда не удержал, опустил в пол и ровным голосом возразил:
– Коли для забавы, так поищите, ваше благополучие, в другом месте. Сыщите товару-с, всякого товару есть, не войдете в затруднение. И без хлопот. А коли для жены, для супруги соблаговолите пригласить мою дочь, то и здесь я, ничтожнейший раб, даю вам, однако, решительный отказ. Не пара-с, дочь моя из простых. Дедушка-то ее крепостным был. А вам из благородных нужна-с. Вот и весь сказ.
– Прелюбопытно, однако Только ты не бойся, алтынник. Я пошутил, а ты, однако, и бестия! Ой бестия! Ты не бойся меня, – свистящим шепотом, нагнувшись над купцом, протянул исправник, решительно встал и мундир привел в должный порядок. Лишь по тому, как нервно и торопливо застегивал он пуговицы, видно было, в каком накале исправник. – Я тоже люблю забавляться, как и вы, любезнейший. Кстати, где труп? Ведите меня к нему. Желаю засвидетельствовать. – Сумароков говорил сухо, чеканя каждое слово, и кисть руки, откинутая назад, мерно ударяла в поясницу.
Когда вошли в амбар и откинули с трупа рогожку, исправник приказал поставить фонарь на земляной пол, а сам, нагнувшись низко над объеденным псецами ликом покойника, долго всматривался в то, что когда-то было человеком, молодым, полным горячей крови и желаний. Это бывшее лицо скалилось странной застывшей улыбкой, которая даже у человека с крепкими нервами может вызвать оторопь. Исправник потрогал пальцем нижнюю губу, – наверное, намеревался оттянуть и осмотреть зубы, – потом без боязни и содроганий взялся за уцелевшее левое ухо, желая повернуть голову и убедиться, что на тыльной стороне ее нет ушибов; но тело закоченело и не поддалось Сумарокову. Купец же, не двигаясь, стоял в проеме двери и мучился тоскою и мрачными предчувствиями. Нет, нет, приезд исправника не сулил Скорнякову ничего доброго: только бы знать, с какой стороны встретить нежданную проказу и оборониться от нее. Да ведь как, какая тут оборона? Так, слезы одни.
– Почему не предали земле? – отрывисто спросил исправник, вытирая руки батистовым платком и все еще не отрывая взгляда от мертвого, оскаленного лица.
По спутанной жесткой черной волосне, по смуглости крутых скул и полураскрытым узким глазам исправник определил, что погибший явно из приобской орды. Вообще-то инородец был безразличен Сумарокову и не вызывал никаких чувств, кроме отвращения, но случаются минуты, когда отвращение становится сладостным; именно такое мгновение овладело исправником, и он никак не мог совладать с собою. Он не отдавал команды и все стоял над трупом, и казак, поднявши рогожу, никак не осмелился покрыть ею погибшего. Исправник, держа над головою фонарь, еще раз оглядел весь труп с поджатыми к груди босыми ногами, мысленно отметив, что большой палец левой ноги отгрызен, и, повернувшись к купцу, спросил снова:
– Что, язык отнялся? Хоронить полагается в трехдневный срок. Иначе нарушение закона. Да-с!
А что можно было ответить? Исправник и сам знал, что в этих местах гробов не делают (негде досок взять) и могилу не роют, ибо в самое благословенное летнее время земля хорошо ежели оттаивает на аршин, и потому покойника обычно увозят за Обдорск, подальше в тундру, на потраву дикому зверю. Все знал исправник, и даже вопрос его был издевательским. Властным движением руки он отодвинул грузного Скорнякова с дороги, и купец вынужден был отступить с узкой тропы в снега. Он был жалким и потерянным и, желая хоть как-то защититься, закричал запоздало вослед исправнику:
– Хотелось по-христиански, ваше благородие. Как лучше хотелось.
Сумароков не ответил; в сопровождении двух казаков, усердно светивших фонарями, он двинулся вдоль заплота, для какой-то нужды проверяя его крепость.
Купца обожгло страшной догадкой, что ему не верят, да и как докажешь, что работник не убит по наущению Скорнякова? И он потерял голову, думая хоть как-то спасти нажитое. Не отвечая на вопросы жены, заметался по избе, достал из сундука укладку с деньгами и решил в молельной спрятать в тайник. Вот жизнь, а? В своем доме, а не хозяин. Ах-ах, да пособить нечем. Еще подумалось, подкинуть исправнику барашка в бумажке, так ведь не примет, фармазон. Ему предложи, а он в нос: гляди да дуй пуще...
И только купец поднял половицу, как исправник в дверях, улыбка на его лице была сладкая и обещающая. Купец от растерянности тоже улыбнулся, улыбка вышла клейкая и противная. В сердце вдруг ударил нервический смех, и Скорняков едва удержался, чтобы не расхохотаться исправнику в лицо. Вот вышла комедь так комедь. Более глупого, нелепейшего положения давно не знавал, почитай, с самой молодеческой поры, и кто скажет, как выпутаться из него. Проницательным умом, разглядев себя со стороны, купец тут же понял, какую сделал промашку, и подивился своей внезапной глупости. Старость-то, вот она: из мудреца дитю настоящего делает. Голый разбою не боится; хошь не хошь, а тут и позавидуешь голи.
– Ну, батюшка? – Исправник широко раскинул руки, будто хотел обнять хозяина. – Ну, так сразу начистоту, аль как? Вилять будем, кочевряжиться? Ведь попался, алтыйник, с уликами да с поличным попался. – Обычно такой ледяной, с кривою, застывшей улыбкой на тонких губах, Сумароков тут возвеселился: небрежным движением плеча скинул с себя дорожную шубу и так, не опуская рук и прищелкивая пальцами, как записной плясун, он приблизился к хозяину и взял у того укладку. – Тяжела... Сколько? – спросил он, откинув крышку и отметив взглядом солидную пачку кредиток.
– Двадцать три тысячи серебром, – непослушными губами покорно ответил купец, будто от точного ответа зависела судьба его имения. Исправник передал укладку назад казаку, сам же нагнулся к тайнику и рукою проверил его.
– «Грози богатому, так денежку даст», – так у вас говорят, у алтынников? – с намеком тайным иль издевкою спросил Сумароков. – Ну-с, господин хороший, сразу изволите объясниться иль волынить предпочтете? Где убили, каким образом и что призвало к такому нехорошему поступку?
– Я не убивал. Видит Бог, господин исправник. С моими ли сединами на такое дело решиться? Да и нужда какая?
– Нужда, позволю заметить, подпирает порой и самого наичестнейшего человека. Он дулю в кармане носит. А сколько ни носи, воленс-ноленс, ее показать надо да и освободиться от греха. Это что ни на есть самая препротивнейшая штука. По себе знаю.
Сумароков замолчал, сверля взглядом старика, его набрякшее тяжелое лицо с толстыми некрасивыми бородавками, покрытое сетью багровых прожилок. Он уже ненавидел старика только за то, что он такой безобразный, расплывшийся и сырой. Такой трястись должен бы от страха, а этот непокорлив, ой непокорлив. И сам себе бы не признался Сумароков, что не старость раздражает его, но эта непокорливость изводит душу; вот пал бы купчина в ноги, взмолился бы слезно, на том бы, пожалуй, и кончил игру Сумароков, напоследок пригрозив лишь для острастки и взяв подписку, что тот худых действий от березовского исправника не видал, а что ранее писал, так поклеп то и наущение. Но купчина не пугался, будто он видит какую-то поддержку за плечами.
– Убить-то, старик, каждый может. Из интереса иль из любопытства. Нужды нет, а убьет – и концы в воду. В моей службе всякое случалось. Ведь не безгрешен, сознайся. – Исправник погрозил пальцем и сказал с той интонацией в голосе, которая ждет от собеседника лишь покорливости: – Не обманешь – не наживешь. А я тертый, иначе с вами не сладишь. Ну так что, молчать изволите-с?
– Проси прощенья, батюшка! – вдруг возопила за спиною жена. – Царь худых слуг не спосылает. Пади в ноги, отец.
– Молчи, старая, мол-чи! – Может, супруга поймала его тайное желание, и он, вдруг поняв, сколь низменное оно, устыдился недавней мысли. – Не бывать тому, мой сказ! – возвысил он голос и осанился. – И как язык повернется, ваше благородие, противное Богу говорить. Да за одни такие сло-ва...
Купец не договорил, спохватился, но было уже поздно. Он оглянулся, ища поддержки: жена сутулилась в дверях гостиной, давилась слезами, совсем старенькой показалась. Изжилась, благоверная, изжилась. «Да за што стыд-то экий?» Подумал лишь так, и откуда сила пришла, глазки засверкали.
– Ну-ну? – поощрил исправник, издеваясь, заметив перемену в купце, и скорчил такую презабавную гримасу, от которой сердце у купца покатилось в пропасть.
Сумароков повертел головою, приглашая всех к всеобщему веселию, казаки зареготали, поймав в голосе начальника разрешение на вольность. Урядник же так и стоял с укладкою в руках, и она явно тяготила его, да и то сказать, столько денег он впервые имел возле груди, и потому страшился, как бы чего не вышло, и в то же время всякие дурные мысли, завистливые и черные, нет-нет да и посещали его несчастную голову.
– Ну-ну! – повторил исправник таким ласковым голосом, что даже воинской команде стало тошновато. Умел заморозить голос Сумароков, ой умел, так что в кишках поневоле начинало бродить от страха. – Ты не пугайся. Ты только не пугайся. Страшнее смерти не будет, верно! А страдальцу в рай дорога, прямехонько в рай. Так что, воленс-ноленс, выбирай.
– За што жизни-то не даешь? За што пресекаешь дыхание мое, ирод! – вскричал Скорняков, решившись на самое страшное, и будто в омут упал, уже не владея собою и худо смысля. По голосу гостя он уже давно понял, что милости ему не видать. – Дублянка он, глядите, люди! Червями изъеден, червями!
Скорняков кричал, заглушая голосом разум, и искал хоть в ком-то сочувствия себе; он потому и кричал еще, что пытался возбудить к себе участие, но видел лишь странно возбужденные и диковатые от мороза и вина казачьи лица.
– Вот какой ты злой, – грустно сказал Сумароков, дождавшись, когда купец задохнется от крика. – Ты злой такой, а тебя земля носит. А зло нужно пресечь, пресечь! И согласно уложению государеву и прочее. – Сумароков быстро завертел головою, его взгляд остановился на уряднике, и он скомандовал, не опуская замороженных глаз с рыжеусого казака: – А ну, Белобородов, командуй. Производим арест на все движимое и недвижимое. Радуйся, скотина, вот тебе райская жизнь. – Он расхохотался в глаза купцу. – Ну и ну...
Команда будто только и дожидалась приказа: зная норов своего начальника, она не замедлила и по указке Сумарокова потащила на возы серебро и посуду, пушнину и одежды, и даже золотые ризы с икон не пощадили. Купец стоял как истукан, в девичьей колотились головами об пол две его разнесчастные засидевшиеся дочери, благоверная супруга лежала в покоях без памяти, и дворовая девка обихаживала ее. Скорняков же, замечая, как исчезают из дома его родные, такие обжитые, обиходные вещи, как пустеют закрома и амбары, лишь горько покачивал головою и странным образом успокаивался. И вот он уже начал подсказывать, чего забыл исправник, и, когда тот остановился у порога, уже собираясь уезжать, купец крикнул с той издевкой в голосе, которая приходит от безвыходности положения и от крайней усталости:
– Самовар-то, ваше благополучие... Серебряный самовар... Будет из чего чаю откушать!
– Да и то, – весело ответил исправник. – Серебряный самоварчик, чего ж ему пропадать!
Он сам шагнул к буфету и, зажав самовар под мышкою и тяготясь его неуклюжестью, вышел вон. Скорняков слышал, как он что-то приказывал в сенях, наверное, велел смотреть пуще и чего не забыть.
Но оказалось, самое горшее поджидало купца впереди. Казаки получили от исправника свободу действия, и, радые распорядиться ею, они вбежали в купеческую опочивальню, рыская глазами, чем бы поживиться, стащили полумертвую старуху с кровати, завернули пуховую постелю и потащили вон. Все стерпел Скорняков, но чтобы вот так, из-под боку последнюю перину долой, а жену благоверную, с которой тридцать лет прожито, как собаку пинком, – нет уж, прости Господи, нестерпимо и невыносимо. Схватился за перину, словно в ней счастье и было, завыл вовсе нечеловеческим голосом:
– Отдай-те... ироды, псы сатанинские... голубчики, братцы!
И грозил судом страшным и взывал к любви, но где там: казаки, не обращая внимания на хозяина и словно не замечая этой водяночной тяжести, вместе с постелью молча вытянули и купца, а на подворье, на унавоженном и затоптанном снегу, отряхнули его, как падаль. Заскрипели ворота, и, опомнившись, почти безумный, закричал Скорняков:
– Злодей, злодей... Люди, держите его, люди! Оборотень, держите его!
Но прислуга будто онемела, да и чем могла она помочь хозяину.
Сумароков, полуобернувшись и плотнее запахиваясь в дорожную шубу, со злобою ответил:
– Благодари, скотина, что на жительстве оставляю. Да не думай жаловаться! А ну трогай.
Он ткнул вознице в спину, и, пока тот разбирал вожжи, новое событие взволновало всех и заставило на время забыть хозяина. От сенного амбара, наискось двора с вилами наперевес машисто бежал купеческий приказчик и, непонятно, то ли кричал что иль просил остановиться. Не думая на худое, исправник велел попридержать коней. Напряженно повернув голову, он всматривался в спешащего мужика, внезапно подумав, что где-то видал это заметное породистое лицо, сейчас перекошенное злобою. Исправник не стал докапываться, откуда бы мог знать купеческого приказчика, ибо увидал его осоловелый мутный взгляд. С такими глазами люди не в себе, от них жди безумья; сдержав трепет и владея собою, он приказал команде:
– Чего глядите, раззявы! Держите его, держите! – Голос сорвался и сошел на визг, но исправник уже не слышал своей команды. «Хороша острога, сейчас затрепыхаюсь, как щука».
Сумароков представил болезненно, будто уже случилось это, как троерогие вилы с хрустом пронзают тело: вот железо прошило печенку, и она взорвалась, пробила крестец, и холодная, как ключевая вода, кровь заполнила меховые сапоги.
Казаки опомнились, кто-то подставил подножку, и, пока подымался Донат, запаленно дыша и отыскивая взглядом куда-то девавшегося Сумарокова, тут все на него навалились разом и давай терзать.
– Бейте его, бейте! Вяжите, собаку! – уже скорее для себя шептал исправник, не глядя на происходящее.
Его легко стошнило, и он сплюнул в батистовый тонкий платок крохотный сгусток крови. И вроде бы не пронзил злодей, но кровь уже по своей охоте двинулась наружу, нашла в теле проточину. Исправник ошеломленно вглядывался в расплывшееся пятно, худо соображая, откуда оно, но, тут же и овладев собою и скрывая неловкость и возникшую заминку вокруг него, обмахнул платком лоб и спрятал в карман. Будто ненароком, случайно, пальцем, еще скользковатым от крови, он провел под носом и ощутил терпкий, горьковатый запах. И сколько бы потом ни ехали, почти до самого Березова сопровождал Сумарокова запах своей крови.
Донат очнулся уже в розвальнях. Руки, туго стянутые ремнями назад, ныли, и мучительно болела голова, наверное расколотая прикладом. Неловко раскоряченный, словно кинутый на заклание с вывороченной набок головой, дожидающейся палаческого топора, несчастный упирался подбородком в угол походного сундука, и сенная труха забивалась в глотку. Темно было, как в преисподней, и так противно скрипели о зальдившийся снег санные полозья, и не понять было, жив ли страдалец. Но узнику в его беспамятном состоянии и могила казалась желанной, ибо во мраке и скорби пребывала Донатова душа...
Глава четвертая
Обитель открылась внезапно, когда Таисья уже отчаялась дойти.
Скит стоял в полуверсте от реки, о край черного невеликого озерца, густо обросшего осотою, и отсюда, с противоположного берега, виднелся сиротским и нежилым. Но крохотная церковка со звонами, длинная общежительская изба и скотные дворы были тщательно обкошены, колодец поновлен, стога сметаны, над банькою струился синеватый дымок – и эта далекая обитель, несмотря на всю неприглядность и строгий вид, показалась настолько домашнею и отвечающей нынешней душе Таисьи, что, обходя озеро, она всю дорогу пела умиленно: «Христос воскресе из мертв-вых, смертию смерть поправ и сущим во гробех жи-вот даровав». Как после долгих странствий, вернулась Таисья к сестрам – такое жило чувство. Подобрав своешитую, обтрепанную по подолу ряску и прикусив уголки черного монашьего платка, бродяжка ополоснула в озерце ноги, уже по-хозяйски, как будущая игуменья, оглядев его. И по убогим мосточкам, откуда полоскались, по заплатанному карбасишку, по криво сметанным зародам, по хлевам, доживающим свое, она сразу поняла бедность предстоящего житья и этой скудости почему-то тоже возрадовалась. Но как баба, только что пришедшая оттуда, она еще жила мирскими мыслями и потому невольно посетовала на безрукость игуменьи, на леность сестер, кинувших дом свой на произвол судьбы и на потеху нежитям. Обычно в сиротских постройках заводят гнезда нежити. Такие мысли пронеслись в голове странницы, и она услышала в сердце дух устроителя. Какой-то свет ослепительный и чистый, как от молоньи, вдруг прорезал поженку, и взгляду Таисьи вдруг открылась храмина из белого камня, с золотыми луковицами и крестами, и на взглавье этом, слегка придерживаясь за древко креста рукою, стоит некто в белом прозрачном хитоне, окутанный сияньем. Таисья вскрикнула, протянула встречь руку: так увиделось ей, что пальцы их почти встретились, и общий золотой свет окутал ладони.
Воронья стая снялась с диким граем с какой-то лесовой падали и пошла встречь страннице, хищно взмахивая крылами. Таисья очнулась и, чтобы охладить жар в висках, снова зашла в озеро, не сымая рясы. Она заглубилась в святые воды по грудь, унимая внезапное жжение, и долго боялась оглянуться, а решившись, узнала прежние грустные строенья скромного скита.
Кельи, коих достигла Таисья, пожалуй, самые крайние на великой Руси. Правда, еще далее (на острове Колгуеве) посередке студеного моря пытался устроить общежительство архангельский купец Бармин, завез туда сорок старцев, готовых к спасению, но те скоро изнемогли плотию и, не перенеся постнической жизни, скончались один за другим, а скит, не успев окрепнуть и прославить себя, угас из памяти. Это тебе не пресветлый Афон, тысячелетнее царство монахов, куда заказан вход женщине и где сам воздух, напоенный розами, и голубые благодатные воды настраивают на долговекое служение Господу.
А здесь (в Семженском монастырьке) коротким летом дожди да лютый гнус, нескончаемой студеной зимой окружен снегами и зверьем, и только эта гривка угрюмого ельника не дает утонуть от затяжных снеговеев, когда бы и лопатой не оборониться от напористых метелей и от тундряных бесов, коих многие тыщи кочуют аргишом по немереным болотам, радые покочевряжиться над православною заблудившейся душою. И не мужики ведь забрели сюда, в тундры и льды, в канскую землю, хотя им-то более сподручно и способно обжить край отечества, ибо куда только и не заносило мечтательного русского человека: но сюда, к черту на рожища, забрались бабенки, старицы слабосильные, в чем душа только держится. Им бы на печи доживать, иль тетешкать потомство, иль заправлять домом, а они вот, возжелавшие особого подвига и испугавшись того греха, который завладел Русью, потащились в раменья и дебри защищать эту самую Русь чистым своим духом.
Монастырь не зазывает: его посланники, нищеброды в кольчужках по голому телу и в веригах, редко умеют слова сказать, их молчание куда красноречивее слов, а оловянная кружка для сборов на очередную церковь крепче смоляной верви соединяет народ. Монастырь ищут по всей земле, когда жизнь претит, когда невмоготу более исполнять уготованную судьбу. Монастырь – не соблазн, не удовольствие, не временное отвлечение от житейского бремени, но это отказ от всего, что связывает нас с миром: от семьи, утех, плоти, знакомых чувственных наслаждений, от чрева, быта, ласк, от детских восторгов, дружбы, пития, застолий, войн, крови, достижений, власти – от всего того, что незаметно вяжет нас по рукам и ногам пуще всяких цепей, пуще арестантской штанги, к которой приковывают на пути в Сибирь, чтобы мы забыли небо и Бога.
Все это надо разрубить разом и бесповоротно, как ни готовься к решающему часу.
Много ли отыщется сильных? Чтобы однажды перемениться на всю оставшуюся жизнь и сказать себе: я новый!
Одно дело – поддаться моменту, порыву, тому безоглядному чувству, что порой овладевает нами, чувству тоски, одиночества, брезгливости от неверного житья, от земной грязи – и кинуться в затворы, в пост, в монашество, но после, опомнившись, вскричать слезно: «Братцы! И что я исделал, Господи. Да не посули ближнему тоей каторги. Безумец... жизнь и так коротка, чтобы обрезать ее». И тут же слабость духа своего изменщик покроет пышными и блудливыми словесными одеждами. Но сказано: каждое лишнее слово в будущей жизни обернется грехом.
И все же простим ему и не осудим, ибо, положа руку на сердце, многим ли из нас удалось бы разлучиться с телесной радостью?
Тая, Тая, Таисья, опомнись, сердешная. Еще не рано вернуться тебе вкруг черного стоялого озерца и кануть неузнанной в хилой березовой ворге[79] , скинуть ряску, еще раз омыться в проточной светлой струе и в одной застиранной холщовой исподнице вернуться к отцу-матери, позабыв о наваждениях и мучительно-сладком полете на седьмое небо к Божьему престолу. Разве стыдно признаться в собственной слабости? Лишь признавшись в ней, мы уже делаем крохотный шажок к очищению. Ты слышишь, Тая, как оковала твое голубое от изнурения тело дерюжья ряса, каждое волоконце, прежде прилипчивое к плоти, вдруг огрубело и обрело жесткость власяницы или той самой кольчужки, что носят на голом теле юроды, и уже невдолге та минута, когда сольется она с плотью и станет новой кожей.
Озябнув и смирив телесное жжение, странница вышла из озера. Вода стекала с рясы, и ступни ног, отмытые до белизны, на берегу показались уродливыми, расплющенными от ходьбы. Но в свищах и струпьях разбитые пальцы принесли не горечь, но удовлетворение. Таисья добыла из-под рясы кипарисовый крестик, поцеловала: увидала слишком великую, в круглых венах грудь и почувствовала к ней ненависть. Она до боли пожамкала сосцы и пошла к церковке, часто крестясь. Лицо ее, серое от гнуса, выражало то умиротворение, которое приносит долгий добровольный пост. За месяц дороги она привыкла уже питаться кореньями, лесовой ягодой, той лешевой едой, что, наверное, и растет для пропитанья странников. Мясо выгорело, и мослы обрели ту легкость, какая дается лишь постникам. Оводья гудели, и комар стоял над головою зыбким столбом, но странница не отмахивалась и стойко переносила сатанинские напасти.
Она шла и пела: «Хри-стос вос-кресе...» – и не ведала, что из-за скотской избы, из волоковых оконцев общежития, с паперти церковки и от коновязи, где отбояривалась хвостом гнедая кобыленка, давно уже приглядывают за пришлой.
Таисья села на лавку возле двери, зажав меж колен берестяной пестерь с дорожным скарбом: в косоклинный синий сарафан была завернута закаменевшая житняя кулебяка, в которой хранила странница от подорожных татей свое земное состояние. Не пустой явилась она из миру, не пустой, и заштатному северному монастырьку ее взнос стал бы ощутимой подмогой.
Игуменья сидела у окна и перебирала четки. Даже в сумерках худо освещенной кельи она казалась Таисье случайной в этих стенах: у нее было багровое щекастое лицо, с шелухою на обгорелом коротком носу с вывернутыми слегка черными ноздрями, глаза жгучие, влажные, и посередке лба глубокий шрам, который не могла скрыть камилавка, отчего обочия казались еще глубже и темнее. Эти обочия и шрам посередке лба никак не вязались с багровостью скуластого лица.
Было сказано несколько приличествующих слов, но беседа не ладилась: игуменья, узнав, откуда гостья, из каких краев и кто ее отец, пыталась быть кроткой и улыбчивой, но это ей худо удавалось. От внутренней неприязни, что сразу вспыхнула в ней, она сосредоточила все вниманье на четках, кажущихся крохотными в мужицких изработанных руках с грязными слоистыми ногтями. Игуменья Митрофания только что вернулась с послушания, завидев гостью еще из хлева, выкидывая навоз на зады, заметила она в волоковое оконце нездешнюю странницу в ряске и почувствовала тревогу. Ее смутил сам вид богомолки: необычно белое, восковой белизны долгое лицо, на котором светлой зелени слегка размытые глаза казались слишком большими, а невеликие губы слишком пунцовыми, и даже обтерханная ряса и черный монаший платок не убивали красоты, но лишь подчеркивали и усиливали ее. Это было обличье долго постничавшего человека, а взгляд, обращенный глубоко в себя, выдавал пророчицу силы необычайной. Может, эту силу и почуяла игуменья и неожиданно в гостье поняла соперницу себе.
– Худо живете, едва живете, – тихо сказала Таисья, устав от молчания.
Она не могла привыкнуть к игуменье, ее вид смущал, и страннице так думалось, что она попала в вертеп, где занимаются самым нескромным. И почему она назвала ее девкой? Проверить хотела, испытать? Когда Таисья вошла в келью, сразу упала навзничь, и, не вставая с колен, поползла в передний угол, где сидела игуменья, и попыталась поцеловать ее унавоженные бахилы, шитые на мужика. Игуменья не кинулась подымать и не осенила крестом, но сказала грубо и трубно: «Подымайся, девка!»
«А то и девка, – смиренно подумала Таисья. – За блуд мой разве будет прощенье? Знать, скрозь видит, такую силу имеет матушка. Очами так и сквозит».
– Худо живете, – повторила Таисья и полезла в пестерь, размотала пестрядинный сарафан, достала большой рыбный пирог.
– Как не худо? Худо и есть, – согласилась игуменья. – Бабы стары, пенье одно, робить некому... А нам чем хуже, тем лучше. Значит, Бог отмечает нас своею милостью. Значит, Бог особенно любит нас.
– Я к вам, матушка Митрофания. Примете? – Таисья протянула житнюю кулебяку, но неловко вышло, и та с каменным звуком пала к ногам.
– Насовсем коли?
Таисья кротко кивнула и вдруг, опомнившись, с натугою стала ломать рыбник, а сама меж тем говорила без умолку, вроде бы старалась подавить боязнь: «Я бледь была. Вот какая была. И тогда болезнь посетила меня, и стала я будто ребенок: ни рукой, ни ногой, и по телу пошло струпье. Будто заживо истлеваю, и смерти нету, и жизни Бог не дает. А однажды пришла ко мне святая Феодора-мученица, и полетели мы с ней на небо. К Богу слетали, поговорили, как вот с вами будто. И он в дочери к себе определил, срок назначил. И вот однажды лежу я в избе, сон мне не в сон, и вот благовоние расплывается. Одно сказать, такого запаху я в жизнь не слыхивала. По душе словно мягким мазнуло. Открыла я глаза и вижу пред собою старца ликом чудна и облаком пресветлым озаренна. Трепет обнял меня, матушка, и завопила я: „Господи, грешна я, грешна. Как искупить грех мой?“ А он сказал только: поди к сестрам. Я проснулась здоровой, как не баливала. И к вам в пустынножительство».
На измаянном восковом лице глаза загорелись тем редким светом, от которого ближнему становится и чудно, и странно, и блаженно, и отчего-то хочется ниц пасть и ткнуться губами в край босой ступни, покрытой свищами и струпьями. Даже вроде бы куда светлее стало у порога, где притулилась гостья, и тот мерцающий столб рассек келью надвое напрямь образа Чудотворной. И показалась игуменья сама себе нагою и противной, и полной грехов, как подпенное муравьище, и захотелось ей пасть перед побродяжкой: но она пересилила себя и только шире утвердила ноги в смазных бахилах, и литой серебряный крест туго схватила за древко. А сердце билось так крупно, и двухфунтовый крест подпрыгивал на груди. Но от него же и вернулось успокоение.
– Чего мусоришь-то хлебом-то? – неприятным резким воскликом оборвала игуменья душевное томленье. – Чего плоть-то Христову растрясаешь попусту? – Рубец на лбу налился гневной кровью и протянулся до белого креста на камилавке.
– Я не с пустыми руками, матушка, – повинилась Таисья, протянула пачку кредитных билетов. – Тут с тыщу, поди. Боле не взыщите. Я как птичка, мне мало надо. А что не со зла пало наземь, то и прорастет. Верьте мне. – Таисья сказала это с такой уверенностью, что игуменье почудилось, словно бы из толстых лиственных плах быстро поперли светло-зеленые злаки. А странница меж тем встала на колени и крохи смела в горсть и кинула в рот, а куски покрупнее вернула в пестерь. От возбуждения вдруг зарозовела Таисья, на щеки пал атласный алый блеск. – Давно не ела. С неделю времени будет... дак го-лова-ти дур-на-я, ой и дур-на-я. – Таисья тоненько засмеялась, как самый малый бубенец на выездной упряжи. Смех вышел серебряный и какой-то раздельный, будто стеклянный горох рассыпали. Игуменья отмякла, взвесила тугую пачку денег в ладони, небрежно сунула в ящик прикроватного столика. Потом резко позвала колокольцем, вошла тонкая, гибкая монашена, принесла квасу братину и житний пирог с капустой.
– Раздели со мной трапезу, сестра.
Они помолились, игуменья с необычной для нее ревностью наблюдала за гостьей и все норовила уличить в жадности, иль в корысти, иль в лживости мыслей. Таисья ела удивительно мало, но без всякого ломанья и притворства, как очень усталый человек, изнемогший от дороги.
– Монастырь у нас особножитный, у каждого свой прокорм. И прелестей мы не терпим. У нас строго. По силам ли тебе нести подвиг?
– Снесу, матушка...
– Оводья и гнус съедят твою лепость, ланиты присохнут к скульям, как шкура пропащего одра; глад выпьет плоть и источит кости; прелести твои обвиснут, как грех старого вонючего козлища, и скоро старость отпечатается на твоем лице в знак предстоящего подвига... Вспомни же Иоанна Лествичника и его святые муки! Как связать, говорил он, мне плоть свою, сего друга моего, и судить ее по примеру прочих страстей? Не знаю. Прежде, нежели успею связать ее, она уже разрешается. Прежде, нежели стану судить ее, примиряюсь с нею; и прежде, нежели начну мучить, преклоняюсь к ней жалостию. Как мне возненавидеть ту, которую я по естеству привык любить? Как освобожусь от той, с которой я связан навеки? Как умертвить ту, которая должна воскреснуть со мною?... Она и друг мой, она и враг мой, она и помощница моя, она же и соперница моя, моя заступница и предательница... Скажи мне, супруга моя – естество мое; скажи мне, как могу я пребыть неуязвлим тобою? Как могу избежать естественной беды, когда я обещался Христу вести с тобою всегдашнюю брань? Как могу победить твое мучительство, когда я добровольно решился быть твоим понудителем?
И ответила она: «Если соединишь с послушанием, то освободишься от меня; а если приобретешь смирение, то отсечешь мне голову».
– Готова, матушка, го-то-ва, – вдруг всхлипнула Таисья. – В схиму хочу. Я шла к вам. И даве поблазнило. Где церковь ваша ныне, там белый храм. Снегу белее. И на взглавье сам Господь руку мне подал вот так. – Таисья неожиданно поймала деревянную ладонь игуменьи и утопила в ней свои узкие бессильные пальцы. – И тепло от его руки вошло в мою. И я вскричала... Матушка, закоим я вскричала. Может, он за мною явился?.. Не примете – в пустынь уйду, в землянку.
Игуменья поначалу не воспротивилась Таисьиному пожатью, но будто и забыла его и зачем-то продолжала перебирать пальцы гостьи снова и снова, набираясь от них неведомой силы, и сама пребывала точно в наваждении. Но опомнилась, запунцовела, мысленно заплевалась, зафукала, будто случайно громадным сапожищем наступила на истерзанную ногу побродяжки. Но та не охнула, не исказила лица, не подала виду. «Не из сатанинского ли воинства шишиха будет? Вишь, боли не чует. Знать, в грех поманывает, крепость мою пытает» – так решила игуменья и впилась в гостью влажными горячими глазами.
– Целуй крест, дочь моя, – приказала, словно бы черта ожидала видеть. Вот сейчас скорчится он, зашипит, бес сатанаиловый, и, отвратительно визжа, вылетит в дымницу. Нежить креста боится пуще ладану. Но гостья поцеловала крест настоятельницы с особой любовью и осталась сидеть, не сводя с игуменьи сияющего кроткого взгляда.
И снова услышала игуменья к гостье непонятную ревность. И мелькнула было мысль отказать в приюте: но девка молодая, в самой силе, сестры же все стары, во гробех одною ногою, кому хозяйство наблюдать? Вот прогони, а откуда приманишь с такою же верой в сердце. Эта сама пришла и укрепу с собой принесла.
Есть люди трех сортов. Одни сердцем принимают веру, за нее готовы муки Христовы претерпеть, и смерть принять мученическую, и поругание – все это даже за радость почитают. Но таких людей мало. Вторые – от веры прибыток норовят получить: будто бы по старине убиваются, веру отцову хотят в сохранности донести, но втайне антихриста тешат и с ним на сговор идут, чтобы и через веру найти капиталу; а третьи – всему верят, что ни скажи. Но эта гостья не подходила ни под один из тех разрядов, знаниями о которых обладала игуменья. Тут иная, куда большая сила пошла в кельи и нарушила ровное житье. Много верующих перевидела игуменья, много мирских и по овету, и на богомолье перебывали в скитах, но подобной странницы еще не знавала.
Игуменья самолично устроила новую сестру свою и этим невольно отметила ее средь прочих насельниц.
Прошли чистым, но темным коридором, игуменья открыла дверь пустой кельи. Русская битая печь занимала половину комнатенки, в углу деревянный примост-постель монахини, возле стол и в красном углу – киот с затепленной лампадою. Таисья задержалась на пороге, сама не понимая отчего: это житье, как показалось ей, мало чем отличалось от домашнего, в нем почуялось ей мирское, недавно отступившее, и соблазн витал в пыльных углах, едва освещенных. Волочильная доска была приотдернута, и в сумрачном житье солнечные веселые пятна на полу были особенно неожиданны и привносили иное чувство, далекое от той строгости, к коей приготовила себя Таисья.
– Мне бы куда пожесточее. Здесь мирским пахнет, – сказала Таисья. Ее просьба показалась настолько неожиданной, что игуменья вздрогнула, будто ее уличили в грехе. Она была приземистой, точнее – квадратной: послушница занимала собою почти весь проем, и потому игуменье ничего не виделось в келье. Ей думалось увидеть там неожиданное, и она грубовато впихнула Таисью в келью, но ничего, однако, особенного не разглядела: скудное, может быть, самое скудное монастырское житье, что водится на Руси.
– Чем не по ндраву-то? – возразила елейно, помня о богатом взносе и молодости послушницы. Знать, Бог прослышал о страданиях паствы и обратил к ней лик свой.
– Тут злом пахнет, – посетовала Таисья.
«Иль ндравна крепко, иль нас затмить хощет. Но Бог не любит, кто напереди», – подумала игуменья. И ей вдруг захотелось проверить истинную крепость послушницы, и она вспомнила, что возле отхожего места есть крохотный чуланец, где и тела усталого не протянуть вволю, и постоянно ветры дуют, да и свету Божьего не видать, и ни печки там, ни тепла иного, так что скудной выти не сварить и костей не обогреть.
Игуменья открыла дверку, Таисья вошла, поставила в угол пестерек и кротко сказала: «Мой дом, мой дух». Тут же достала из пожитков иконку с Искупителем и стала горячо выпевать Исусову молитву. На дворе лето, и в каморе от отхожего места стоял тяжелый дух: даже у привычной игуменьи скулы перекосило. Однако она терпеливо дождалась, пока сестра закончит тянуть канон, и повела смотреть хозяйство. Солнце выпало из-за хмари, распогодилось, разом пригрело, и гнус свалился к траве, в приозерные калтусинки. И сразу мир заиграл, растеплился, потек и возрадовал даже самое скудное сердчишко, отвыкшее от самой прелести. Старицы живее заперебирали граблями, вороша сенцо, а завидя игуменью с гостьей, низко кланялись и поскорее прятали глаза: было не понять, то ли они волочили граблями, то ли опирались, подтыкая согбенное тело, но работа, однако, велась, и невеликие копешки тяжелого осотного сена ратились на пожне; поклонники с Жерди, мужик с бабой, набирали тяжеленные навильники и кидали на зарод, где приплясывала их истомленная плотью дочь, привезенная сюда по овету до Покрова. Кельи были полны смиренного, неторопливого труда, того самого труда, когда взгляд богомольца, обращенный в душу, созерцал Бога.
В озере тельная ширококостная монашка мыла ноги, и тугая ряса почти лопалась на мощных бедрах. Аскеза могла обвялить и выпить мяса, но была беспомощна перед широкой костью и несокрушимым здоровьем, которому хватало пока чистого лесового воздуха, и потому монахиня казалась неизносимой. «Сестра Ксения», – познакомила игуменья и поманила пальцем: но прежде чем подозвала, та уже сама уловила желанье и торопилась навстречу, вытирая руки о бедра, развернув широкие плечи и подав грудь вперед. Рясофорная монахиня не стеснялась и не стыдилась своих телес и даже была горда лошадиным видом, хорошо сознавая необходимость тягловой лошади, которая без изнурения тянет на себе огромный воз скудной обители. Когда она подошла, поясно поклонившись, и встала подле игуменьи, Таисья предположила, что они неуловимо похожи: не обличьем, нет, но той неукротимостью натуры, которая одним своим видом заставляет смущаться и виноватиться ближнего. У Ксении было удивительно белое сплюснутое лицо с пятнами нездорового чахоточного румянца, что живет от внутреннего возбуждения, и широко поставленные, почти бесцветные глаза с рассеянным взглядом, будто они охватывали все пространство по обе стороны Таисьи, в то же время не видя ее саму. Но эти глаза были лишены той прозрачности, что придет в схиме, они еще не осветились тайной веры, но в них была та исступляющая сила, что борется с плотью и неутомимо изгоняет дьявола. По ободрительному взгляду, с каким игуменья встретила монахиню, Таисья решила, что меж ними духовное родство: но пришлица и не догадывалась пока, что сестра Ксения метит в экономки и в каждом свежем человеке видит себе врага.
– Теперь нас тринадцать сестер, – сказала игуменья и пытливо взглянула на монахиню.
– Худое число...
Черница ответила с таким видом, будто советовала отказать Таисье: явилась неведомо откуда, из лесов, незваная, пусть и уходит прочь. Игуменья Митрофания показывала келейное хозяйство, но сама меж тем печалилась, что нужда ныне страшенная, пожертвований мало, верой народ иссяк, для поклонников дорога претит – черт мерил-мерил да веревку и порвал, такая оказия попадать сюда; и вот свечей нет в церкви службу править, при лучинах сидим, и с маслицем лампадным скудно, и с мучкой ржаной поиздержались, и одежонкой поистратились, и церкву чинить время, письмо поновлять пора; печи топятся по-черному, и от копоти все задымело, спасу нет, а от угару старицы головой маются; да и житьишко подточилось, надо бы нижние венцы менять, и кабы не Ксения, то нам бы и вовсе пропасть... И с этими словами игуменья ласково потрепала сестру по плечу, отчего та вспыхнула лицом и отворотила глаза. Завидев настоятельницу, мирские отложили вилы, подошли под благословенье, и дочь их, изнуренная животной болезнью, трепетно приникла губами к руке игуменьи, отчего ее желтая редковолосая головенка с оттопыренными прозрачными ушами казалась особенно несчастной. При виде такой кротости родители ее залились слезами, видно, очень любили свою дочь, как любят недужных, отмеченных роковой печатью. Игуменья приложила к темени девочки крест и со смиреньем, но и настойчивостью вытянула заскорузлую руку из цепких пальцев девочки, ждавшей исцеление. Девочка была в том отроческом возрасте, когда уже снится любовь и потому собственное нездоровье кажется гнетущим злом. Таисья пожалела отроковицу и слегка задержалась, отстала от игуменьи. Она плавно провела ладонью по голове послушницы и сказала: «Я вижу, Господь не оставит тебя. Молись пуще, доченька, и все ладно-хорошо. Тягостью не пересаживайся, с поту не мойся, с хлебушком аржаным поостережись... Сосет? – показала Таисья на пупок и потерла его круговым движеньем, посолонь. – Не надсажайся, и полегчает». Поверила-нет отроковица, но перемены на остреньком зверушьем лице ее отразились светлым облачком, и освобожденный вздох вырвался из едва наметившейся груди, и она стала торопливо целовать Таисьины ладони и прижимать к намокревшим исхудалым щекам. Игуменья остановилась поодаль, ждала терпеливо. Клобук размахнулся по плечам и выглядел сомкнутыми крыльями матерой угрюмой птицы, широкие черные брови грозно сошлись.
– Прости, матушка, – смиренно попросила Таисья и земно поклонилась.
– Господь простит...
– Спосылай меня, матушка, на самые черные работы.
– Сатана гнетет?
– Невмочно гнетет...
Сестра Ксения не попадала одной ногой на тропинку, но ей страсть как хотелось идти подле матушки, чтобы все видели, что она отмечена милостью игуменьи: вот она и оттирала, теснила новенькую и ревниво, настороженно слушала. А Таисья покорно отступила и шла по кошенине, босыми ногами не чуя травяной обстриженной щети, настолько задубели ступни. Тропинка рассекала кулижку[80] , разваливала поженку надвое, натоптанная, незарастимая паутинка. И Таисия не сразу приметила ногое, корявое дерево, раздетое от подошвы, обдутое ветрами и омытое дождями до той степени, когда дерево теряет всякие живые приметы и становится как бы каменным, серебристо-серым. У корневищ, выпуклых и витых, был выложен из каменьев крохотный колодезь, замшелый, полный чистой недвижной воды, отчего показался поначалу пустым: слабый ручеек истекал и терялся в траве. Игуменья истово помолилась, берестяным черпачком отпила водицы, поцеловала дерево с черным выгоревшим оком недалеко от комля. Это святое дерево было когда-то неистребимой вековой лиственницей, так говорят поверья. Но однажды у обножья отдыхала великая грешница, и тут случился вихорь. Бабу подъяло в небеса, закрутило меж ветвей, растрепало, как соломенный куль, донага и живой, невредимой вернуло к земле. И тут страшной силы гром раскатился, полыхнула молонья, ударила в одинокое дерево, и там, где вышел наружу огонь, выжглось зрячее око, и полилась к ногам помертвелой жонки струйка живой воды.
Грешница построила себе шалаш, покинула деревню и осталась здесь молиться Богу. Так и пошли кельи, и будет им лет с полтораста. А народ потянулся к святому дереву: кто болен был зубами, тот грыз болонь, и каменистые горьковатые волокна умиряли боль; кто же грудной чахоткой страдал, тот ногтями отдирал щепины и, закутавши в тряпицу, вез домой, чтобы прикладываться к ним тайком. Святой же родник миром своим ублажал нутро и унимал сердечную тоску.
И Таисья испила прохлады следом за игуменьей, и с каждым глотком замирялась скорбь. Приложилась губами к черному Божьему оку и, облизнув губы, почуяла кисловатый, незнакомый вкус, не похожий ни на что земное. И сразу захотелось Таисье сделать что-то доброе, отчего бы души игуменьи и вот этой настороженной монашенки открылись навстречу.
И Таисья сказала, часто облизывая пересыхающие губы и глядя в ту сторону, куда западало багровое вечереющее солнце: «Много по осени сига в реке выльется. Снасть надо, ловить рыбу надо. А капусты, матушка, не ждите, червь поедом съест».
Потом все так и случилось.
Глава пятая
Через год после Таисьи запоходил из дому Клавдя. Пока рос, все надеялся быть у Петры за сына: поднялся на ноги – работником стал. Манька, средняя Петрина дочь, все пустая ходила. Но развязался мешок, и посыпался песок: наносила Марюха детей полную лавку. Чтоб от рева да писка подалее, поставил осиротелый Петра житьишко особь, избенку в три окна – бобылий домишко, чего говорить, не прежним хоромам чета. На добрую печь денег пожалел, даже лежанку не вымостил глиной, так и катался по бочке с угла на угол, как валек. «Не барин, – говорит, – чтоб красоваться да людей дражнить». Зубы выпали, и говорил старик нынче совсем худо. И красовался на деревне то ли в кабате холщовом, истрепанном по подолу, то ли в подряснике сером, хотя салотопню заимел в Койде и солеварню на Кулое. Расталкивал ныне деньги на промысел, распихивал, чтобы в загашнике зря не тлели: говорят, копейка копейку за собой ведет, а от лежалых пустых денег по телу чирья лезут.
Клавдя неожиданно в лета вошел, голова удалась крупная, кочаном, но телом не заматерел, узкоплеч, и рубаха на острых лопатках занавеской полощется. Волосы серые, мышиные, с зализом на маковице, нос покляповатый, с постоянной ужимкой; глянет на тебя Клавдя и висловатым носом беспременно на сторону шмурыгнет, знать, учуял что; но глаза глубокие, с длинным размахом, пестрые – один глаз светло-зеленый, другой же темно-серый, почти черный. С Клавдей говори, да ухо востро держи, ибо не знаешь, где тебя под монастырь подведет, а за деньги особливо готов дьяволу душу отдать. Да велики ли на деревне деньги, и захочешь с сатаною породниться, без затеи чтоб, дескать, вот на мою душу, а отдавай мошну, так ведь не встретить и самого захудалого чертененка с богатой кисою. Вот и живи, глядя на чужой стол, когда и крохи не смети в рот, – учтут. Какая, бывало, заведется копейка, так сам у себя украдет Клавдя, а после прилюдно и хвалится, дескать, на улице нашел.
Скучно Клавде, размаху нет, воли, куда бы изворотливой душе приложенье сыскать. Бывало, Михейко, хозяин, только в дом, а Клавдя, сидя у печи на приступке, зыбку качает и поет: «На полатех мужик с Ориной лежит. А не мил мне Семен, не купил мне серег, только мил мне Иван да купил сарафан. Он, положа на лавку, примеривать стал...»
– У, охальник! Страхолюдина, – ворчит Марья: сидит на лавке, ноги вразброс, живот мешает, опять на сносях дохаживает.
Клавдя сверкает глазами, готов отбрить бабу, но Михейко лениво заступается:
– Ты бы прикусил язычок, орелик!
– Прикушу, прикушу, – быстро соглашается Клавдя, а сам торопится с каверзой. – Да ты слушай, зятелко. Ты бабу до ветру не спускай, пусть в лоханку ходит.
– А што? – подымает брови хозяин, не чуя подвоха.
– Дак ведь слышь ты. Как на двор сходит, так пузо и надует. Не домовой ли метит?
– Тьфу-тьфу, – плюется Марья, ищет на столе, потяжелее что попадет под руку, да лихо ей, спать охота.
– Тоска мне с вами, – вдруг говорит Клавдя и бросает качать зыбку. – Уйду куда ли.
– Уходи! – готовно подхватывает хозяин. – Ты поди, на России всем места у-у-у. – Он рад отвязаться от Клавди.
Парень к отцу, застанет в избе – давай канючить. Сам уж в мыслях все решил, да с пустым-то карманом и без пачпорта далеко ли убежишь.
– Уйду куда ли. Зажали, не дыхнуть...
– Поди-поди, – тоже легко соглашается Петра. – Не научила мамка – научит лямка. Только не ленись нагнуться, а денег всегда можно наробить. У нас на России только ленивый да пустоголовый без денёг.
– Ушел бы, да пачпорта нету, – ноет Клавдя, а сам шарит глазами по избе, подмечает огромный сундук, кованный железом, с подвесным амбарным замком.
«Мне бы такой сундучишко», – думает затаенно, боясь даже взглядом выдать желанье.
Петра, совсем высохший, с огромной шишкой на темени, склоняет перед сыном голову, качается как заведенный, и лавка под ним скрипит.
– На что пачпорт, сынок? – не говорит, но поет. – Есть книга, Трифология называется, и в ней наказано. «Опасатися грех вещей: звериного образа, карточек и наипаче всего – душепагубные печати...»
– Я бы побежал, да денег нету. Дал бы...
– Зажился, сынок... Туда-сюда... Деньги – пыль, но истинное лицо сокроют и душу исказнят такою пагубой, что век не отскоблиться... Вот тут сколько-то, – порылся за пазухой, из-за грязного кабата, из самой-то глуби, добыл ветхую же тряпицу, жеваную-пережеваную, долго потряхивал ее, не решаясь, раздумывал, после долго мусолил, помог единственным зубом, развязал, подал три рубля бумажками. – Великое дело с малого зачинается, сынок...
– И не сын я тебе, жила, – едва слышно ворчит Клавдя.
– Чего баял?
– Я сказал: спасибо, тятенька. До смерти не забуду твоего благодеяния.
– И то сказать. На ноги поднял, от смерти избавил. Гли, какой молодец вымахал. Сиди дома, женю, лошадь дам.
Старик неожиданно слабеет душою, в голове проносятся мечтания. Но от последних слов он неожиданно хмурится, нервничает, его смущает взгляд сына, с каким он упорно обсматривает сундук. Да и то сказать: сидят в сумерках без посторонних, долго ли ему, лихому человечку, тюкнуть старенького. После-то поди сыщи. Петра тянется за Евангелием, просит сына встать на колени. Клавдя в душе проклинает, но падает ниц покорно, все еще мерещится ему нежданный прибыток. Слаб человек, непостоянен, и один Бог знает, какое решенье овладевает им в следующую минуту. Отец кладет на голову сына сухую, почти невесомую ладонь и, держа в другой руке Евангелие, шепчет:
– Ты поди, сынок, поди. Пускай дорога твоя не обсекется до времени, как матина, а всякому встречному ворогу дрын в тое место. Понял? – И ухмыльнулся, подмигнул хитро. – Разбогатеешь ежели, должок-то возверни. Батько твой будет совсем старый и худой. Ему тогда каждая копейка в укрепу. Ты не позабудешь, Кланя? – договорил елейным, вовсе умирающим голосишком, от которого впору зареветь.
«Аха, дрын в одно место, – мстительно подумал Клавдя. – Сам-то в могилевскую, жила, а мне в дорогу кукиш... Будто и не знает: смиренную кошку и мышь дерет. Эх, тятя, тятя. Бывалоче, как дело затеять, не преминет сказать: „Вставайте, волки, и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет“... А я другой... Я лисою хитрой обовьюся».
Клавдя пролил слезу, и она, сроненная невзначай, оказалась искренней. Куда подался, сердешный, в какие дали заведет тропа? Ворочаться ли когда-нибудь в родные палестины?
Промокнул глаза, поднял к отцу дерзкое, уже насмешливое лицо:
– Ну, батя! Иль богатым явлюся, иль удавлюся!
Как уходить из дому, пропел Маньке:
– А и ела баба сметану, да брюхо болит, а глядела бы на милова, да муж не велит. Под лавкою лежит, он собакою ворчит, кобелем визжит.
И на прощанье посулил злорадно:
– Ну, Марьюха! Рожать тебе без устали тараканов до сколопендр. – И побежал на Мезень.
Той же дорогой, бывало, брат Яшка бродил в Питер за удачей, да вернулся с пустыми руками и серебряной серьгой в ухе.
В Мезени Клавдя сразу к тетке Евстохе: дескать, от батяни прибыл, поиздержался он, повытряс мошну, наличных денег нету на данный момент и просит поддержки у старшей дочери.
– А где заемное письмо? – спросила Евстолья. – Сколько просит-то?
– Сколько дашь... Тыщу абы две. Писаря в правлении не случилось, а у отца сама знаешь какая грамота. Да ты поверь, поверь на слово-то. Под проценты не скупись.
– Сдурел... Ой сдурел. Тыщу абы две. С печки упал? Ну сотню коли наскребу. А ты, озорник, как повезешь, смотри не оброни. Обронишь, где взять?
У Евстольи даже руки тряслись, названной суммой Клавдя не то чтобы огорошил, но с толку, шельмец, сбил, туманом залил голову. Да и то сказать, деньги деньгам рознь: одни бешеные, дурные, их и растрясти не жаль, они как приплыли, так и уплыли, душа не встрепенется; но если ты копеечку по копеечке собирал, если вот этими самыми руками взращивал про черный день, да и не для себя, едино для сына, чтобы в будущем сиротстве не пропал, как воробей подзаборный, – тут невольно задрожишь и огрузнешь на лавке, с тоскою припоминая, сколько же там в загашнике скопилось да как бы тот ухорон не выдать, а может, и отказать просителю. Но попробуй откажи отцу – проклянет и всякого наследства лишит. Тут умом пораскинь и язык попридержи. Пошла в запечье, бормотала, возилась меж горшков и бабьей утвари, а Клавдя с лавки, не колыбнувшись, настроил прозрачное большое ухо, и казалось, что оно выросло вдвое.
– Ему тыща, – ворчала Евстолья, долго не возвращаясь из шолнуши. – Ему абы две... А сто не хошь? Он што, сдурел? Осатанел? По кабакам пошел? Тыща абы две... Я-то на просвирках много ли зароблю? Все покупное, все давошное, каждая копейка не в дом, а из дому. Нет бы когда рыбки прислать, мучицы аржаной, мяска парного. Ты-то пошто с пустыми руками? – В ее встревоженной голове прорезалось особое беспокойство. – Ты лошадь-то, парень, где оставил?
– А я пеши! – весело откликнулся Клавдя – и осекся.
– Но пошто не верхи? – теперь домогалась Евстолья, и парень слышал, как перестала она возиться и замерла, громоздкая, большемясая, удивительно похожая на родителя в его молодые лета. Клавдя даже вроде бы почуял ее напряженный взгляд простеньких серых глазок, уставленный в его сторону. – Слышь, пошто не верхи? Иль оказия какая?
Она невольно подала помощь, и Клавдя торопливо схватился за спасительную нить:
– Ну, оказия. До Николы с оказией, а дальше пеши... Батяня-то мне: зачем, говорит, порожнюю лошадь зазря гонять. Да ты и сама знаешь, чего там. Зимой снега не выпросишь.
В это время Евстолья, потея и страдая, добыла из заветного горшка узелок, но не потащила на свет, а скрепя сердце развязала его и тощую пачку кредиток располовинила, поочередно взвешивая каждую. Зажатые в горсти ассигнации вынесла Клавде и раза три пересчитала, мучительно морщась, все боялась ошибиться. Выходило сорок рублей: распрощаться с такой суммой, пусть ненадолго, было так прискорбно и гнетуще, что хотелось расплакаться. И Евстолья едва удержалась от слез, когда отдала ассигнации, туго свернутые в трубку:
– Храни тебя Господь, Кланюшка. Ты как ли поосторожней. Ты поберегись. Долго ли варнаку... дорога все ж. Грошик к грошику, все подчистую. И как тепере жить...
Она по-настоящему заревела. И Клавдю будто в сердце ударило, но он пересилил себя, захохотал:
– Ты што, тетка? Умом тронулась? Под проценты ведь... Тут веселиться надо. На лежачи денежки процент кап-кап.
– Малой будто, а все знаешь! – с недоверием осмотрела Евстолья сводного брата. – Когда и вырос только. Мужик ведь.
– Хорошо поливали, вот и вырос, – ударил Клавдя себя в грудь. Деньги жгли ладонь, надо было срочно пристроить их. – А за деньги, Евстоха, ты не дрожи. Ты гли, они как младенцы. И пристав не сыщет. А татю придорожному по ноздрям, живо укорот дам.
Клавдя стянул с ног легкие походные поршни, смазанные ворванью, деньги сунул под стельку, на Евстохиных же глазах снова надел сапожонки, притопнул даже, бахвалясь собою, и развязно пробежался по избе, слегка горбясь, присдвинув узкие плечи к груди, будто удара дожидался. Но вот лицо перекосилось, отщелкнул ладонью по лбу:
– Нет, тетка, худо... Деньги жмут. Давай иглу с ниткой.
И в драную сермягу, настолько неказистую, что и собаки бы не позарились, не то что воришко какой, с усердностью зашил наличный капитал.
– Может, заночуешь? Намаялся ведь... Не жеребец, свои ноги.
Евстолью, однако, не отпускало дальнее сомнение, и хотелось брата попридержать до утра. За ночь, дай Бог, все образуется и, быть может, не придется прощаться с кровным нажитком.
– А-а-а... – отмахнулся Клавдя, уже худо слыша хозяйку. Взгляд его пестрых глаз был пространственный и застывший. – Меня нынче ветер носит. Собачью долю ем со стола, мне ли не бегать? Побегу и добежу.
В оконце Евстолья пристальным взглядом проводила серую братневу голову, и берестяной кошель за спиною смутил, навеял на иные мысли. «Пестерь-то, пащенок, и не выказал, как бы хоронил где. Пошто в избу не занес?» И тут же решила на Петровщину навестить родные домы, батю попроведать.
А в это время, насвистывая весело, Клавдя спешил на прибегище, где качалось много морской посуды, ждущей попутного ветра.
Глава шестая
Народу русскому всегда хотелось видеть живого Бога, чтобы вот он – рукою тронуть и очиститься. Все, говорят, есть, дескать, видели, снился, блазнило, советовались, и многих будто бы он остерег от греха. Но края платья никто рукою не коснулся: всегда на расстоянии являлся Бог, окутанный сиянием.
Восседает Бог, говорят, где-то на седьмом небе, пасет паству через церковь и священство, но те же люди и не без греха, стало быть, не без соблазна, порою и слукавят, чаще не корысти ради, обманут ради спасения, не так верно передадут вещий глас Божий – попробуй тут довериться человеку, который и сам шаток, на жидких ногах стоит, и обопьется, и объестся. А живой Бог, коли перед твоими глазами, он не солжет, и слово его не исказится в устах посредника.
Как передает молва, тогда умные люди стали много молиться, вздымать руки к небу и принялись сзывать Бога на землю: «Господи, Господи, явися к нам в кресте или образе, было бы чему молиться нам и верить». И бысть им глас из-за облака: «Послушайте, верные мои! Сойду я к вам, Бог, с неба на землю; изберу я плоть пречистую и облекусь в нее, буду я по плоти человек, а по образу Бог».
И Бог явился. Им был Данила Филиппов. И он сказал: «Аз есть Бог, пророками предсказанный, сошел на землю для спасения душ человеческих. Несть другого Бога, кроме меня».
Но скоро потребовался ему помощник, Филиппов назвал себя Саваофом, а Суслова своим возлюбленным сыном, Христом. И три дня при свидетелях возносит Данила своего сына на небеса вместе с собою, каждый раз возвращаясь. Но не в долгом времени Данила Филиппов окончательно возносится на небо, а страданиям Суслова позавидовал бы сам Исус. Два раза распинали Суслова, сдирали с живого кожу, закапывали в землю, но он каждый раз воскресал и лишь на сотом году жизни тело свое оставил на земле, а душою вознесся.
А всего было шесть Христов: Аверьян, Иван Емельянов, Суслов, Лупкин, Петров и государь Петр Федорович. Первый Христос Аверьян, о коем дошли скудные вести, жил при Димитрии Донском. Иван Емельянов жил при Грозном: он был житель московский, Кандашевской слободы. Расхаживал Емельянов со своими двенадцатью учениками по Москве. Грозный узнал об этом, призвал к себе Емельянова и спросил: «Правда ли про тебя, Ванька, идет людская молва, что ты пророчишь?» Емельянов отвечал с достоинством: «Ванька-то ты, беспутный царишка, кровопийца, а не я. Я сын Божий Иоанн. Ты царь земной, а я небесный». Грозный возмутился, хотел пронзить Емельянова железным костылем, но Емельянов погрозил на него пальцем, и смутился царь, и отпустил его с честию.
По легенде, Кондратий Селиванов, он же Искупитель, он же император Петр Федорович, воплотился от императрицы Елизаветы и от Духа Святого. Помолясь Саваофу, она затрубила в золотую трубу, утроба ее растворилась, и на руках ее явилось «вознеженное дитя». Елизавета Петровна удивилась, залилась слезами, благодарила Саваофа за это чудесное рождение сына: и тогда вся вселенная перекрестилась, земля и небо обновились, и разрушились стены ада. Воспитывался Петр Федорович в Голштинии и был оскоплен в отрочестве. Императрица Елизавета, оставив на престоле одну из своих наперсниц, имевшую поразительное сходство, удалилась в Орловскую губернию, где поселилась в доме скопца под именем Акулины Ивановны, а по кончине похоронена в том же саду.
Петр Федорович, возвратившись в Россию, женился на Екатерине Алексеевне, которая, узнав неспособность супруга к брачной жизни, подговорила вельмож убить его. В Ропшинском дворце угрожала смерть отцу-искупителю, но нашелся верный солдат, который, надев платье императора, был убит и затем похоронен в Александро-Невской лавре, царством же завладела Екатерина Алексеевна. Она предалась «лепости» со своими вельможами и даже с самим диаволом, от которого родила сына. Последний же учился в Петербурге в Российской академии, а потом отправлен был в Париж, где по своим способностям вышел в императоры. Этот сын диавола и Екатерины был Наполеон, первый антихрист.
Петр же Федорович, спасаясь от убийц, три дня просидел в каменном столбе, после проживал у колонистов на Охте, а добравшись до Москвы, утвердил в вере первых своих учеников-скопцов и явился позднее перед народом как Кондратий Селиванов, сын Божий.
Такова легенда «бедных сиротинушек» – «белых голубей».
О Селиванове. «... В селе Быково под колокольнею жил человек-трудник, который имел на себе железные вериги на животе и на ногах. Видя его труды и подвиги, имел я с прочими приверженность к нему, несколько раз ходил к нему и почитал его труд за святой. Трудник дважды бывал у меня просить подводы, и я давал. После этого он совершил чудо, изгнал беса из моей жены. И так мы почитали его житие кольми паче за святое... Мы стали просить его слезно и уже кланялись ему в ноги много, чтобы он нам открылся языком, и называли его по-своему простосердечно: „Илия ли ты пророк, или Енох, или Иван Богослов?“ Напротив оной нашей просьбы, в отражение онаго звания, с огорчением он стал молиться. Богуречью другим языком, что нам ничего не понятно».
Трижды подходил Клавдя к престольной, уже видел ее золотистые маковки и откатывался в невольном страхе: так мыслилось, что тех чудных сил, того блага и духа, что заполонили семь холмов, ему не одолеть. У первой же заставы обротает его стражник с тесаком, встряхнет хорошенько за шкирку, насквозь пронзив взглядом нищего побродяжку, потребует для виду пачпорт, уже давно раскусивши шатуна, ибо взгляд-то у городового ох навострен, а не заполучив вид, тут же отправит на съезжую, где палач хорошенько исчертит шкуру плетьми. И вот по этапу закатают в Сибирь на даровые корма, откуда редко ворочаются, и пока бежишь из той дальней страны – не одни ноги износишь.
Орды всякого народу без робости накатывались на благословенную, над дорогами денно и нощно стоял скрип тележный и ор людской, пыль на путях не успевала улечься, и всех вроде бы принимала Москва, унимала душу малиновым благосветом, и только он, Клавдя Шумов, не мог подступиться. Порой бесился парень, зажигался норовом где-нибудь за кустом, поодаль от дороги, чтобы ненароком не угодить в лапы случайному мундирному человеку, круто прогибал грудь, встряхивал обросшей головою и рычал: «Вставайте, волки, и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет». Но смелости отчего-то не прибавлялось в жилах, жидкая кровь не густела, иль так подсказывала лисья суеверная душа, что годить пока надо. Сапоги, в которых парень покинул родину, давно поизносились, но он не выкинул их, а переда отрезал от голенищ и продал старьевщику за фунт пеклеванного, за голяшки же получил тридцать копеек серебром и присоединил к прежним деньгам, к коим даже в самые трудные минуты не прикоснулась рука. Из Мезени побежавши, имел Клавдя в наличности сорок три рубя ассигнациями, а приступил к Москве с девятью червонцами капиталу. С протянутой рукой по дорогам не бродил, чтобы не вызвать подозрений, но в пути нанимался на многие работы – и профосом бывал, и пропадину зарывал в могильниках, и утопленника хоронил, но нигде чужого не трогал, упаси Господи: из-за ломаного гроша может в одночасье рухнуть судьба, не испытав сердечного праздника. А на это Клавдя пойти не мог.
Последние два гроша Клавдя заработал в Коломне, за три квартала отнес местному позументщику его поклажу, и кабы знал тогда, что за счастье выпало, сразу бы свещу поставил. Как уходить из ворот усадьбы, столкнулся с высоким, плечистым мужиком, больше похожим на прасола иль на отставного служивого, списанного по раненью; у него было длинное желтое лицо с несколькими седыми волосами на скульях. По своей привычке отовсюду выискать выгоду Клавдя приник к притвору. Видно было, как поначалу растерялся плотный, коротконогий хозяин, но тут же, забыв о делах, рухнул на колени и, не скрывая голосу, воскликнул:
– Батюшка, искупитель ты наш!
Гость подошел, и хозяин, не вставая с колен, поцеловал обе руки, меж тем рослый пришлец не забывал повторять: «Ну встань же, братец Степанушка, ну встань же». Хозяин поднялся, и они, встав лицом друг к другу, принялись истово молиться обеими руками, махая, как птицы крылами.
«Чего там... Москва рядом. Москва еще и не то выкажет. Много там всякого чуда», – подумал Клавдя, удаляясь от странной усадьбы, глухой стеной выходящей на проезжую улицу. По городу босым бродить, живо пятки отобьешь о булыги, и Клавдя на том же базаре, где повстречал нынче позументщика, купил себе лапти, которых прежде не нашивал, и надел без онучей на голые задеревеневшие ноги. «Вот обувка, – восхитился, – и воды не держит, и грязи не чует. Пора привыкать к хорошей жизни». Купил лапти скрепя сердце и после очень переживал, сох душою, мысленно пересчитывал свой капитал. Так показалось, что внезапно изменил своим намерениям и теперь удачи не видать. Полосатые бумажные штаны поизгрызло дорогами, они едва держались на гаснике, и исподники, бывшие когда-то белыми, давно залоснились от грязи; алая косоворотка утеряла рудяной блеск и лишилась последней пуговицы, но сермягу свою Клавдя не сымал с плеча, а в пестере, закаменевшем от солнца и дождей, гремели засохшая горбуха, берестяная солоница и кожаный мешочек с огневым припасом. Новые лапти приятно холодили, и тело Клавдино неожиданно засвербело; он почувствовал, как заскорбел, запаршивел от долгого пути, как сермяга забилась дорожной пылью и как нещадно палит на городских каменьях меженное солнце. О воде замечталось, о воле, чтоб растелешиться и погрузить лядащее тело в прохладные струи. И он почти побежал, все ускоряя бег, громко шлепая по горбатой мостовой, мимо будочника, ражего, с длинными вострыми усами, и в берестяной суме мерно хлопалась зачерствелая горбуха.
Кулижку воды, по краям густо облитую зеленой ряской, Клавдя нашел невдали от слободы; лягушки, до того нещадно оравшие, замолкли и торопливо посыпали в озерцо. Клавдя забрался в бочажину до пупка, далее не решился, вода была парная, тусклая, но той щелочной настоянной крепости, от которой восторг катится по жилам от задубелых пяток до затомившейся потной макушки. Всегда побаивался Клавдя воды, а тут расхрабрился. «Ах как хорошо... до чего же и лепота, черт побери», – восторгался он, торопливо, заливисто выкрикивая; одежда ворохом осталась на берегу, но как ни радовался по-щенячьи парень, однако пожитки свои стерег, не оставлял без пригляда. Он скреб себя ногтями яростно, готовый снять шкуру, и рычал, приседая по грудь, и снова рычал, и приговаривал: «Бойтеся, волки, и медведи, и всякий мелкий зверь, сам лев к вам идет». Мыльца бы жиденького горстку, пристанывал, ах мыльца бы сейчас, больно бы хорошо обуздать голову, привести, свербящую, в спокой и блаженство. И не стерпел, чтоб умирить зуд, окунулся, как в бездну полетел, а когда отплевался и протер глаза, то увидел на берегу громоздкого нахального мужика, небрежно пинавшего его скарб.
– Эй ты, дядя... брысь, мохнатый, – закричал дерзко, но затаивая испуг. – Уши обрежу, наследства лишу.
Закричал, но к берегу не двинулся, примеряясь и разглядывая подорожника и скоро узнавши его. Но виду не подал, с тревогой подумал лишь: «Давно ли у позументщика был, а тут на... По пятам идет?» Пришлец серый кафтан немецкого покроя приоткинул сзади и вот, нахал, уселся на Клавдину сермягу, снял с головы белую фуражку с длинным козырем, обнаружив пламенной рыжины волосы, достал из кармана платок с добрую скатерть и протер потное лицо.
– Ну что ты, сынок, пуганый такой? А ну подь сюда. Заколеешь, наживешь сухотку.
Голос его был медленный, задумчивый, с частыми расстановками, но худого ничего не предвещал. Но когда выбирался Клавдя из озерца, пятня ноги в зеленой ряске, невысоконький, узкогрудый, с большой не по телу головой, пришлец отчего-то с особой пристрастностью разглядывал его, так что Клавдя неожиданно смутился. И мог поручиться он, что глаза нового знакомца странно блеснули.
– Чей ты? – спросил мужчина невыразительно.
– Богов я...
– А я Алексей Трофимов Громов. Что ж ты, сынок, пугливый такой? Иль маменька, когда тобой облегчилась, выпугала чем? – И вдруг без всякого переходу сладкоголосо пропел: – Ну, Бог помочь тебе, брат! Пошлет в нутро твое благодать. Не изволь, брат, унывать!
– Как не унывать, милостивец! – Клавдя пока терялся, подыскивая верный ход, боясь опростоволоситься: лукавой своею душой, он понял вдруг, что Бог руку протянул, вот она, удача. Только бы не сморгнуть, не проворонить. – Сирота я, сиротея. Иду в белокаменную, а она не пущает. Подступлю – и душа в трепет. Как из родимого дому пуститься, сказал братцу: иль богатым явлюся, иль утоплюся. Вот нынче топиться надумал, а вы и помешали.
При этом известии глаза нового знакомца ярко осветились желтым, и кустистые рыжеватые брови вздернулись.
– Смотрю по глазам, ты парень с секретом. Тебя что, в два захода сочиняли? Глаза в две краски.
– А я не помню. Когда сочиняли, память о ту пору отшибло.
– Вижу, что нищ и бос, но затеян для великого дела. По обличью вижу, по очам и обочьям, по складу главы и рамен и по словоречью. Вот и доглядывал за тобою, братушко, скрадывал, аки тать, дай, думаю, не упустить бы голубка. Далеко полетит, взовьется, ой-ой... Издалека, думаю, спосылан, чтобы навестить нас и привесть в чувство. Быть тебе пастырем, братушка, и вести тебе паству на будущее царствие. Народ извелся, дожидаючись, хорошего человека. Гноем душа изошла, корыстью и любострастием. Прихоть вонькой бабы во главу всеобщей жизни поставили и чревоугодье вознесли прежде всех страстей человечьих. Гляди, братец, что содеялось с миром, в какой сатанинской вертеп обратилась священная Русь наша, а церковь продалась сатанаилу и гульбу с ним ведет и бесовский пляс... Батюшка же наш, Искупитель Селиванов, что говорит? Назначение человека: умереть, воскреснуть и сделаться ангелом... А слово его святое я ношу здесь, прямь сердца, оно укрепляет и не дает пасть мне.
Громов достал с груди кожаную ладанку на снурке, куда было зашито житие Селиванова, писанное его рукою, и поцеловал: «Скоро, скоро въедет наш батюшка в престольную на белом коне, и все колокола Москвы споют благовест, и все цари мира падут ниц...»
Страды Селиванова. «Я не сам пришел. А прислал меня сам Отец Небесный и матушка Акулина Ивановна пречистою утробою, которая была великая миллионщица. Прикащики у нее были во всей вселенной, торговали, да уж жили не горевали, а только грех весь из себя выгоняли.
... Я был молчалив и несмел: так куда пойдем с братцем Мартынушкой и где нам дадут блинков, то он меня все кормил, и подкладывал, и говорил: «На, ешь, ешь же». А я молча кушал. И мы с ним ходили по Божьим людям. И в одной избе мы были на беседушке, и одна девица пророчица по ненависти стала с камнем у дверей, поднявши руку, и как подняла, так и окаменела у ней рука. А я пошел и лег в ясли и лежал в них трое суток, не пил, не ел, а крепко плакал. И просил Отца Небесного: «О! Отец мой Небесный! Заступи ты за мене сироту и поддержи под своим покровом!» И Отец мой за мене вступился. И она видела во сне, что ее ангелы наказывали жезлами, и всю ее избили, и велели просить у меня прощения, и сказали: «Если Он тебя не простит, то все будет такое мучение».
Тогда она у меня просила прощения и говорила: «Прости меня, что я дерзнула на тебя поднять камень: я не сама собою, а меня люди научили. И видела я во сне, что меня ангел жезлом наказывал, и все кости во мне изломаны и болят. И он велел мне у тебя просить прощения, и если тобою прощена не буду, то такое мучение принимать стану».
И тут я ее простил. А еще брат ее хотел меня застрелить из ружья, когда я ходил на праздники из села в Тулу, то каждый раз он выходил из леса с ружьем и стрелял по мне шесть раз, но ружье не выстрелило ни разу.
И после того возстали на меня все Божьи люди, возненавидели чистоту мою и жаловались учителю своему пророку Филимону, который ходил в славе бойко. И он про чистоту мою в духе пел, а так ненавидел меня и, признавши, говорил: «На тебя все жалуются, что ты людей от меня отвращаешь!» А я ничего не говорил и все молчал. И он сказал: «Вишь какой ты: даром что молчишь, смотри опасайся!» И мне в то время пристать было негде, потому что меня все погнали. Тогда я пошел стороною лесом к Божьему человеку Аверьяну и, пришедши к нему, говорил: «Любезный Аверьянушка! Не оставь ты меня, сироту, призри, утаи от семейства и посестрия своей, чтобы никто не знал. Пусти меня в житницу, за что тебя Бог не оставит». И он меня призрел и ходил ко мне тихонько от своих. И я ему объявил о чистоте[81] , но он сказал: «Боюсь, чтобы не умереть». И я ему говорил: «Не бойся, не умрешь, а паче воскресишь душу свою, и будет тебе легко и радостно, и станешь на крыльях летать: дух к тебе переселится, и душа твоя обновится. Поди к учителю своему пророку Филимону, и он тебе тоже пропоет и скажет, что в „твоем доме сам Бог втайне живет, и никто об оном не знает, кроме тебя“. И Филимон пропел все то самое, что я Аверьянушке говорил. И тут он мне поверил, пришел и поклонился, и принял мою чистоту, и объявил посестрии своей, что сам Господь живет у нас в доме тайно, и я его принял.
И еще в одно время был в корабле у матушки своей Акулины Ивановны, у которой Божьих людей было тысяча человек. У ней была первая и главная пророчица Анна Романовна. И как я вступил в собор, а она тогда ходила во славе, и людей было с семьдесят, вдруг все встрепенулись. Оборотясь ко мне, говорила: «Сам Бог пришел! Теперь твой конь бел и смирен!» И, взявши крест, ходила по порядку, по всем в соборе людям, давала каждому в руки, дошла до меня последнего, потому что я садился всегда у самого порога и за порогом, и был нем, и не слышал, и никогда не отверзал уст своих, и отдала мне, и говорила потом пророкам: «Ступайте по кругу и угадайте, у кого Бог живет?» Тогда пророки пошли, искали, а на меня и не подумали. Тогда Анна Романовна сказала им: «Для чего же вы меня, бога, не нашли, где я пребываю?» Взяла у меня крест и показала всем: «Вот где Бог живет». И всем сделалось противно и злобно. Потом велела она выдвинуть на средину собора сундук и села на него крепко и меня возле посадила и говорила: «Ты один откупишь всех иностранных земель товары. И будут у тебя оный спрашивать, то ты никому не давай, и не показывай, и сиди крепко на своем сундуке. А тебя хотят теперь же все предать. Но хотя ты и будешь сослан далеко, наложат на тебя оковы на руки и на ноги, но по претерпении великих нужд возвратишься в Россию, и потребуешь всех пророков к себе налицо, и станешь судить их своим судом. Тогда тебе все цари, все короли и архиреи поклонятся, и отдадут великую честь, и пойдут к тебе полки полками».
И, в одно время взявши меня в особую горницу, сказала: «Я давно с тобой хочу побеседовать. Садись возле меня!» И посадила, схватила крест и хотела привесть меня, и говорила: «Приложись к кресту». А я взял крест от нее и сказал: «Дай-ка я тебя приведу самое снова». И она, не слыхавши от меня никогда слов, удивилась оному, сказала: «Ах! и ты говоришь!» И тут накатил на нее дух, и она сделалась без чувств, упала на пол. А я испугался, подул на нее своим духом. И она как от сна пробудилась, встала и перекрестилась, сказала: «О Господи! Что такое со мною? О! Куда твой бог велик. Прости меня». Взяла и приложилась ко кресту, и говорила: «Ах, что я про тебя видела!» А я сказал: «А что такое видела? Скажи, так и я тебе скажу». И тогда она стала мне сказывать, что от меня птица полетела по всей вселенной всем возвестить, что я бог над богами, и царь над царями, и пророк над пророками. Тут я ей сказал: «Это правда! Смотри же, никому об этом не говори, а то плоть тебя убьет!»
Громов вышагивал крупно, машисто, и Клавдя едва успевал, но чуть стороною, весь настороже, готовый, ежели что, дать деру. Громов оглядывался, сквозь пробивал парня туманными осоловелыми глазищами и хмыкал, видя всю несуразность обличья и одежонки – от камчатной рубахи до потной тканины на плечах, которую побро-дяжка никак не хотел сымать, словно бы камень адамант зашит в полах.
– Глазищами-то зыришь... Бог, што ли? Так и прошибат! – не сдержался Клавдя, польстил, по-собачьи преданно заглянул сбоку и шмурыгнул носом.
– Может, и бог, – странно сказал Громов, ничуть не удивляясь.
– Да ну-у! Вот врать-то горазд.
И они разом засмеялись. С такой-то вот веселостью в лице вошли в торговый дом Яковлевых, сразу подлетел вьюн-приказчик в синей поддевке, волосы пивом смазаны, на лбу кучерявинка. Глаза сметливые, угодливые, но за близкой подобострастностью таилась та дерзость, без которой и дня не прожить.
– Чего изволите-с, гостеньки дорогие?
И готов был переломиться. А Клавдя на ус мотал и сразу все обсмотрел: и зеркала, и одежды всякие, и этого приказчика в высоких вытяжных сапогах – и все ему нравилось, и все оседало в готовном сердце.
– Да вот братика моею приодень-ка, дружок.
Приказчик живо забегал, засуетился, на ходу метал слова, бисер сыпал под ноги, и Клавдя каждое слово ловил и крепко запоминал. Все годилось в будущей жизни.
– Вы смотрите! Смотрите, что даю! Это кафтан из всего рынка! Сшито, чю слито! Ни боринки, ни морщинки! Нигде не придерешься! Строчка, так уж строчка! Материя, так уж материя! Будешь носить, да нас благодарить, да поминать дедушку Гаврила, что дал кафтан на диво...
– Всякий купец свой товар хвалит...
– Хороший товар, сударь, сам себя хвалит. Наш товар не стыдно показать, не стыдно и в ручки взять! Не стыдно в него нарядиться, не стыдно в нем и по улице прокатиться! У меня не купишь – всю ночь не будешь спать да сам себя ругать! Да говорить: «Да какой же я дурак! Да какой я товар проморгал! Товар давали – клад, а я кладу был не рад...»
– Похвальба хороша, да и цена недурна, – торговался Громов.
– Сам не турок... хваленый товар дольше носится.
У Клавди голова кругом. Глядь, уж разодет парень, как картинка, кафтан синего сукна немецкого покроя, да рубаха крапчатая, да жилет синий же, да штаны полосатые, сапожки мягкие, юфтевые, нога не слышит, на голове шляпа пуховая.
Расплачивался Громов солидно, по мненью Клавди, кредитками сорил, а в пачке, которая утонула в поддевке, было, чай, не меньше полтысячи. Подобных денег в одной чтоб руке – не видывал парень, и вовсе голова поплыла, как во сне был.
А Громов повел братца в белую харчевню и там ухою из осетрины накормил да кулебякой с визигою. Сам же не ел, скучнел отчего-то, лицо еще более набрякло луковой желтизною, а рыжие волосы, подбитые в скобку, потускнели.
– Сам-то, батюшко, поел бы. С голоду-то быстро замирают. – Клавдя не знал, как отблагодарить, и есть старался смирнее, чтоб скрыть голодную истому, но умом изворачивался, не зная, за что такая милость подвалила. Не пора ли руки в ноги да и отваливать прочь, пока шея от ярма свободна.
Но смываться отчего-то не хотелось, разморило Клавдю от пареного-вареного, так жирно, пожалуй, еще и не кушивал: куда от такой жизни стремиться? Душа от горячего захмелела, и парень все чаще подвертывал носом на сторону, будто вынюхивал что. Посмотреть ежели со стороны, то будто бы все крупные черты – и глаза, и нос, и широко растянутый кривоватый рот – норовили сбежать с лица – столь суетливы были они и хитры.
– Горяченького-то не хлебнешь, дак черева как пустынь... Сделайте милость, – Клавдя подвигал чашу, будто он угощал, – мне не жалко. – Схлебните чего ли, отец милостивый.
Но Громов отказался.
– Пойдешь за мною? – вдруг предложил. – Сыном будешь. По времени все отпишу. Люб ты мне, парень. Бог на тебя наслал.
– Пойду, как не пойти. Как нитка за иголкой. Куда ни позови.
Ведал бы Клавдя, когда соглашался, за кем пошел...
Страды Селиванова «... А жил я в городе Туле в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевой грешницы, у ней в подполье. Она меня приняла, а свои не приняли, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат. А я в то время был в подполье. Стали солдаты ломать пол – и не нашли меня. Так два раза приходили и не нашли. В третий раз пришли, ломали пол и нашли меня в подполье.
И вытащили меня за святые волосы, и Бога не страшась, и тут все били чем попало, без всякой пощады; и поясок с меня сняли, и крест, и ручки назад завязали, и назад гири привязали. И повели великим конвоем, и шпаги обнажили, и со всех сторон меня ружьем примкнули: одним ружьем в грудь, а другим сзади, только что меня не закололи. Привели меня в Тулу и посадили на крепком стуле. И перепоясали меня шелковым поясом, железным, фунтов в пятнадцать, приковали меня к обеим стенам и за шейку, и за ручки, и за ножки и хотели меня тут уморить. И были завсегда четыре драгуна на часах, и в другой комнате сидели мои детушки трое, которые на меня доказали, и было сказано поутру сечь их.
Но мне их стало жаль, и я со креста сошел, и все кандалы с меня свалились, а драгуны в это время все задремали и меня не видели, как я прошел. И я своих детушек нашел и говорил им: «Детушки, не бойтесь! Ничего вам не будет, и будете вы отпущены. А я уж один пойду на страды за всех своих детушек прославить имя Христово и победить змия злова, чтобы он на пути не стоял и моих детушек не поедал».
И тут меня хватились, и все злые удивились, а иные устрашились, и по всем местам бросились. И нашли меня на дворе, я по двору гулял. Из железа ушел, а со двора не пошел. Отец Небесный мне не велел, а приказал мне сию чашу испить. И тут мне от нечистых велик допрос был. И ротик мне драли, и в ушках моих смотрели, и под носом глядели, говорят: «Глядите везде! Есть у него где-нибудь отрава». И тут мне в личико плевали, и все тут меня били, кто чем попало, и тут мою головушку сургучом горячим обливали. И приказ был отдан, чтобы близко ко мне не подходить, чтобы на кого-нибудь не дунул или не взглянул: вишь, говорят, он великий прелестник, и чтобы не приворотил. И великим назвали волхвою, так прежде Господа называли волхвою: «Он всякого прельстит, он и царя прельстит, не довольно что нас! Его бы надо до смерти убить, да приказ не велит. Смотрите, кормите его да бойтесь, и подавайте ему хлеба на шестике!» И хлебовые подавали, ложка была сделана аршина полтора: «Подавайте ему да прочь отворачивайтесь».
И повезли меня из Тулы в Тамбов, а оттуда в Сосновку с великим конвоем меня наказывать. Народ за мной шел полки полками, и ружья, и шпаги у солдат были наголо, а у мужиков было у всякого в руках палка. Тут меня сосновские детушки встретили и говорят: «Везут нашего родного батюшку!» И плакали все слезно, и тут вдруг поднялась великая буря и сделался в воздухе шум и пыль, что за тридцать саженей никого не видать. И стали наказывать меня кнутиком, и секли долгое время так, что не родись человек на свете. И мне стало весьма тошно, и стал я просить всех своих верных и праведных: «О верные, о праведные! Помолитесь за меня и помогите мне вытерпеть сие тошное наказание. О! Отец Небесный! Не оставь меня без помочи, и помоги мне все определенное от тебя вынести на моем теле, и если да поможешь, то наступи на злова змия и разорви всю лепость до конца». Тогда мне стало полегче, и тогда указ подоспел, чтобы до смерти не засечь. И эти иудеи заставили моих детушек меня держать. И тут всю рубашечку мою окровенили с головушки до ножек, вся стала в крови, как в морсу. И тут мои детушки мою рубашечку выпросили, а на меня свою беленьку надели. И тут я им сказал, что я с вами не увижусь со всеми. И тут мне стало очень тошно, и я сказал им: «Не можно ли мне дать парнова молочка?» Но злые сказали: «Вот еще, лечиться хочет!» Однако умилились, отыскали и мне дали. И как я напился, мне стало полегче и сказал: «Благодарю Бога».
И теперича в Сосновке, на котором месте меня секли, поставлена церковь, а тогда мои детушки были люди бедные. И я им сказал: «Только храните чистоту, и всем будете довольны, тайным и явным. Всем вас Отец мой Небесный наградит и оградой оградит, и нечистой не будет к вам ходить. А чужих пророков себе не принимайте!» И повезли меня из Сосновки в Иркутск, посадили меня в повозку, и ножки мне сковали, и ручки сковали по обеим сторонам телеги, а за шейку железом к подушке приковали. Злой нечистому приказывал: «Смотрите, не упустите! Такова еще не было и не будет: хошь ково обманет!» И повезли за строгим конвоем. В ту пору Пугачева везли, и он на дороге мне встретился. И тут который народ меня провожал, за ним пошли, а который его провожали, за мной пошли. И везли меня полтора года сухим путем и водою...»
«В Москве в семидесятых годах XVIII века был купец Колесников, известный под именем Масон. Колесников располагал главной моленной. Она была устроена под полом, и дневного света в ней никогда не имелось. Над этой моленной находилась большая печь, в которой раскаливали скопческий нож, называемый „булатным мечом“. В ней же сожигали тела тех, которые умирали, не перенеся оскопления. Колесников был очень богатый человек, торговал пушным товаром. Его лично знали император Павел и Екатерина Вторая».
(Из истории скопчества в России)... Зашли в Москву, как в дом свой, обжитой и ласковый. В новом наряде Клавдя показался себе иным и уже озирал, оглядывал престольную не с робостью, но далеко идущим умыслом. Колокола звонили к вечерне, Москва золотилась, на всем лежал ласковый, кроткий предвечерний свет. И это тоже показалось добрым знаком. Подумал: а он-то бегал по слободам да пригородам, читал запуки и заклятья, и как просто все закруглилось. И от нахлынувшего доброго чувства ко всему гомонливому люду, к этой неожиданной домашности неслыханно великого города, который вот так решительно и сразу пригрел сироту, сердце у Клавди защемило, и он готов был заплакать. Но крепился и ко всему приглядывался сквозь щипкую пелену, и готовно крестился на каждую маковку, на каждые монастырские ворота. А Громов меж тем возликовал, со злою насмешкою: «Чу, ребята! Черт заколотил!» И плевался поминутно и отчего-то придергивал, прищипывал Клавдю, пока-то он не пришел в себя, а потом и смекнул, что далеко отстранился душою от нового хозяина своего, от благодетеля. И смахнул паутинку с глаз, пристрожил себя, чего, дескать, рассполивился мужик, ведь лев, хозяин идет по Москве; но никто не признавал пока в нем головы, надеи, батюшки, кормильца. А придут, утешил себя, скоро придут полки полками и поклонятся. Недавние слова попечителя о некоем искупителе воспринялись Клавдей как откровения о нем самом. Приосанился, пуховую шляпу сбил на затылок, нижнюю губу гордовато выпятил. «Опасайтеся, волки, и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет».
Громов украдкой присматривался к парню, и желчная усмешка едва трогала губы. По испитому, зажелтевшему лицу, будто бы никогда не знавшему земных радостей, редко-редко пробегала тень тревоги, и снова замыкалось, твердело обличье, теряло всякие живые признаки.
Был бы повнимательней Клавдя к покровителю, он бы уловил, как переменилась его натура; прежде распрямленный, с широким разворотом плеч, Громов как бы ссутулился, стал меньше, его большой белый картуз с громадным нависающим козырьком вроде бы закрыл все лицо, кожа на щеках увяла и потекла, морщинея на глазах, и особенно странными казались безволосые, детской чистоты скулья и крутой подбородок. Громов так усердно, с такой услужливой торопливостью уступал дорогу, так ласково раскланивался, словно за малейшую провинность пугался получить кнута на торговой площади. Он слинял до той степени, когда человек хочет прилюдно растоптать сам себя иль вовсе раствориться. Но если кому и удавалось заглянуть под картуз, то видел оловянные немигающие глаза, от которых брала оторопь, и прохожему, случайно наткнувшемуся на этот взгляд, долго было как-то не по себе.
Даже привыкшие к ходьбе Клавдины ноги пылом пылали, когда подобрались наконец к углу Озерного переулка и Знаменской улицы, и только тут Громов приосанился, затвердел. Клавдя увидал высокий забор, утыканный поверх гвоздями, и не сразу рассмотрел дверцу, ладно пригнанную меж тесовых палей. Громов дернул за шнурок, звякнул колоколец, скоро послышались переборчивые спотыкающиеся шаги, приоткрылась крохотная продушинка в дверце, и в ней показался немигающий глаз с расплывшимся оранжевым зраком. Этот глаз был настолько навязчив, что Клавде захотелось ткнуть пальцем, но он пересилил себя и только хмыкнул. Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы они смогли пролезть, так что иной любопытный взор ничего бы не поймал в глубине усадьбы. Кособокий служка неопределенных лет отбил земной поклон перед Громовым, поцеловал в обе руки и сразу же почтительно отступил в сторону, не посмев поднять взгляда. И то, как приняли в доме хозяина, отрезвляюще подействовало на Клавдю. Он упрекнул себя за излишнюю доверчивость, но, однако, последовал за Громовым охотно, полностью отдаваясь его власти и присобрав и без того узкие подбористые плечики. А в голове у парня варилась каша, такая сумятица творилась в лобастой голове, что впору было дернуть себя за ухо и воскликнуть: «Господи, да не сон ли это?»
Дом внутри двора был громадный, в два жила, на каменном фундаменте: но окна полностью зашторены, и, если бы не ухоженность, особая опрятность владений, можно было решить, что хоромы вымерли и только этот кособокий служка с неожиданно голубыми глазами, призванный сторожить усадьбу, и есть единственная живая душа. Громов вошел, и только тут, идучи сзади, Клавдя увидел размах его плеч: ему казался малым распах двери, и он переступал порог боком. В передней он сразу же сел, раскинул ноги; подошвы жгло, и Громов с кряхтеньем растирал колена, безразлично вглядываясь в глубину коридора и прислушиваясь, однако, к тайной глубокой жизни громадного дома, скорее похожего на за?мок. Клавдя поначалу оробел, вроде бы лишился того развязного нахальства, помогавшего скрывать растерянность и слабость, и по властности, устоявшейся уже, немолодой фигуры хозяина, по откинутому на спинку стула гордоватому лицу почувствовал себя маленьким, ничтожным, готовым ко всякому услужению. Чувство твари, никчемности своей оказалось настолько сильным, что Клавдя вроде бы потерял свою замысловатую, хитро устроенную душу: он торопливо кинул на пол свое запыленное житьишко, встал на колена и принялся сымать сапоги с Громова. Тот призакрыл глаза и, покряхтывая, отдался рукам братушки. Клавдя и кафтан снял, шумно выхлопав его, а после, неожиданно для себя, поцеловал в обе длинные костистые руки Громова. Тот приоткрылся лицом и улыбнулся, погладил склоненную Клавдину голову, ощущая чуткими пальцами бугристый пространственный череп, едва обметанный мышиного цвета жидкими волосенками. Но тут же и ожегся, отдернул ладонь, посуровел, знаком показал идти за собою. Многими переходами, то подымаясь во второе жило, то опускаясь, через распахи дверей, сквозь чуланы и гостиные в полнейшей тишине они миновали дом, полный солидных тяжелых мебелей, но пыльный какой-то, непрогретый, что ли, лишенный тех вкусных, сытых запахов, кои определяют довольство и лад всякого житья. Где-то вдали вдруг проявлялась согбенная фигура, торопливо всхлапывала обеими руками, молилась так, но, заметив знак хозяина, сразу же пропадала за дверью. Эти люди умели растворяться и не подавать о себе никаких признаков. Единственный, пожалуй, свечной запах полнил дом; свечи были ярого воску, горели ровно, и Клавде было жалко, что столько добра зря пропадает. Чужое житье он разглядывал как свое, на которое вдруг заимел права. Взяли бы фонарец, подумал он, с фонариком куда как хорошо, не надо понапрасну свечи палить. В одном из окон, забранных кованой решеткой, Клавдя увидел во дворе дюжего мужика, похожего выправкой на отставного солдата; был тот в длинной, по колена холщовой белой рубахе, за опояской виднелся топор. Странный этот человек вроде бы таился за старым морщиноватым деревом, иль скрадывал кого-то, улучивая момент, иль готовился к осаде.
– Кто это? – с опаскою, пресекшимся голосом спросил Клавдя. «Не в притон ли злодейский попал? – подумал, и душа заныла. – Доверился, как дитя, а тут, поди, яма».
– Сиротинушка, белый голубь хранит нас, дабы никто из иудеев и фарисеев не мог проникнуть в храм наш ни зрением, ни слухом.
Охранитель увидал в окне учителя своего и земно поклонился.
Наконец Громов умерил шаг около двери, оббитой светлым железом; стукнул в небольшое било, висящее в углу; вырос из ниоткуда смирный человечек с понуренной головой и, не подав голоса, открыл запоры и тут же исчез.
– Храм наш Сионский, – сказал Громов с видимым почтением и робостью. – Тут батюшка наш Искупитель жил, бежавши из страны Иркутской. Из этой скрытни во славу пошел он.
В небольшой горенке, скорее похожей на келью по строгости своей и бедности, стояли деревянная кровать, потертое креслице и стол: вдоль стен горели с полдесятка разноцветных лампад, не могущих разрушить сумрак, а в красном углу, где обычно полагается икона Спаса или Матери Его, висел огромный портрет Селиванова в богатой резной раме: из темной глубины холста выступало совершенно живое лицо мраморной белизны и холода, с такими же белыми, слегка подголубленными глазами, похожими на голубиные яйца, острым носом и желто-русыми волосами, распаханными на две стороны от высокого лба. Пламя лампад от внезапного сквозняка заколыхалось, и казалось, что сейчас живая голова сама по себе выступит из рамы. Клавдя настолько испугался, что не смог смотреть в это допрашивающее лицо и отвел взгляд. Громов же опустился на колени и, с неожиданной силой потянув парня за полу кафтана, поставил того возле и принялся молиться: «Я спать лягу, мне не хочется; Живот скорбью осыпается, Уста кровью запекаются. Мне к батюшке в гости хочется, у родимого побывать, побеседовать...»
О Селиванове. Он бежал из Иркутска, но был разыскан в Москве в тайнике у Масона и по приказанию Павла привезен в Петербург... Скопцы же уверяют, что было все иначе, якобы вскоре по восшествии Павла I на престол прискакал Масон в Петербург из дальнего путешествия в дорожном сибирском платье, с какими-то таинственными пакетами, обернутыми в красное сукно, и прямо отправился во дворец, где и был представлен императору немедленно, но потом задержан...
Но действительно верно, что Селиванов был представлен во дворец, где будто бы юрод предложил Павлу I оскопиться и предсказал скорую кончину. Павел спросил новоявленного пророка: «Почему ты себя называешь моим отцом, а меня твоим сыном?» На что Селиванов ответил: «Я не отец тебе, но ты бы стал моим сыном, если бы принял оскопление».
Так говорят слухи. Но достоверно ничего не известно, ибо разговор состоялся в кабинете наедине. Павел отнесся к самозванцу снисходительно, как к помешанному, и повелел поместить его в смирительный дом при Обуховской больнице под именем секретного арестанта. Масон же и с ним четверо скопцов были посажены в Шлиссельбургскую крепость.
В смирительном доме Селиванов находился недолго. Новый император Александр Павлович в сопровождении графа Строганова посетил Обуховскую больницу, беседовал с Селивановым и приказал освободить его и поместить в богадельню. В богадельне Селиванов ходил с кружкою для сбора в пользу бедных. Через три месяца по просьбе статского советника Елянского самозванец был уволен из больницы.
О Селиванове. (Со слов старика скопца) «... Я слугой при нем был. Маленький он такой был, худенький. Спал на досках, только простынкою их, бывало, накроет. И ел мало – самую малость. Когда яблочка откусит, вишенку съест, землянички попробует. В чем и душа держалась. Точно восковой. Известно, царская порода деликатная. Молчалив был очень. Сидит, бывало, у столика, ручки сложит крестиком, пальчиками крестное знамение обеими ручками, и головку на них положит, – значит, молится. И так целые часы сидит, а то и целые дни. Милостивый был, ласковый, каждого благословит и на память что-нибудь даст, хоть яблочко, хоть тесемочку».
К Селиванову пришла слава, он слыл за святого человека, о нем ходили слухи, что он предсказывает будущее. Нередко по нескольку карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четвернями и шестернями лошадей, стояло в Басковом переулке у купца Ненастьева. Петербургские барины, не говоря уж о купчихах, толпами осаждали праведника, добиваясь его благословения, поучения и пророчеств.
Осенью 1805 года посетил Селиванова перед своим отъездом под Аустерлиц Александр I. «... В осенний сумрачный вечер император прямо из Казанского собора отправлялся к армии под Аустерлиц, – вспоминал сенатор Лубяновский. – Памятен мне этот случай по следующему. Гине, приехав из Риги, познакомился через рижских скопцов здесь с главным из них, возвращенным из Нерчинска, и столько насказал мне о нем, что я любопытствовал видеть и слышать его. Жил он тогда в доме со светелкой в Измайловском полку. Случилось же так, что Гине и я поехали к нему в этот же вечер от Казанского собора. Входя в светелку, я видел, в стороне от лестницы в большой горнице много народу шумно молилось. Старик, как мы вошли к нему, приподнялся с постели и благословил меня: „Се еще одна овца заблудшая возвращается в стадо“. Вдруг потом, взяв меня за руку, спросил: „Что, Алексаша уехал?“ Я смотрел ему в глаза, не понимая, о ком он меня спрашивал. „Ну, Государь-то, продолжал он, уехал! Что будешь делать? А еще третьяго дня вот здесь на этом самом месте я умолял его не ездить и войны с проклятым французом теперь не начинать. Не пришла еще пора твоя, говорил ему, побьюте тебя и твое войско; придется бежать, куда ни попало; погоди, да укрепляйся, час твой придет; тогда и Бог тебе поможет сломить супостата. Упаси его Боже! А добру тут не бывать, увидите. Надобно было потерпеть несколько годиков; мера супостата, вишь, еще не полна“.
Ни одного слова здесь нет моего. Нельзя было не подивиться предсказанию, но еще более посещению и непонятной терпимости Государя».
Слава окружила Селиванова, слава переменила его житье. Последние годы петербургского владычества он помещался в доме купца Солодовникова. Комната Селиванова на втором этаже была устлана цельным громадным ковром, с вытканными на нем ликами ангелов и архангелов. Изредка пророк гулял по этим коврам в шелковом зеленом полукафтанье, обутый в туфли, шитые золотом: но больше дни проводил на пуховиках за кисейными занавесями с золотыми кистями. Лежал на постели старик в батистовой рубахе, с крохотным увядшим личиком, в котором, казалось, ничего не прочесть божественного, но каждый, кому случалось попасть в опочивальню, поклонялся Селиванову, как истинному богу. Над входом в комнату его было написано золотыми буквами: «Святой храм».
Под спальней Селиванова на первом этаже помещалась скопческая моленная, где проходили радения. Обширная зала, куда собиралось порою до трехсот человек, была разделена высокою перегородкой, так что из одной половины залы нельзя было выглядеть, что творится во второй. Зала была убрана богато иконами, лампадами и паникадилами с ярко горящими свечами. Посередке потолка изображено огромное всевидящее око. Для Селиванова было устроено особое седалище, или ложе (вроде трона), называемое престолом. Оно так возвышалось над перегородкою меж отдельными половинами залы, что Селиванов видел всех и был видим отовсюду. До его появления, по обыкновению, братья и сестры кто радел, кто пророчествовал, кто и чаи попивал... И вот раздавался возглас: «Катит наш батюшка, катит наш Сын Божий». Тут наставала тишина, все падали ниц, а после разом запевали благоговейно: «Царство, ты царство, Духовное царство. Во тебе, во царстве, благодать великая».
И вновь все затихали, не подымаясь с колен, распахивались двери, и бог, обыкновенно одетый в богатый левантиновый халат, в колпаке и спальных сафьяновых сапогах, степенно вступал в собрание. Его вели под руки два человека, которых называли Иоанном Предтечей и Петром-апостолом. На них были темные рясы, подпоясанные ремнями. Бог, махая белым батистовым платком, говорил: «Покров мой святой над вами». Величественно восходил он на царский престол и сидя или лежа, обложенный с боков подушками, благословлял радение обеими руками, объявлял, что теперь присутствует посреди детей он сам, живой бог, и приговаривал протяжно: «Милость, милость! Покров, Покров!»
По старости Селиванов в радениях не участвовал, был несловен, и все его божественные напутствия умещались в нескольких кратких словах, сказанных обыкновенно тихим кротким голосом.
В 1819 году стало известно, что племянников губернатора Милорадовича – полковника Григорьева и поручика Алексея Григорьева Милорадовичей – придворный лакей Кобелев завлек к Селиванову. Алексей Милорадович согласился на оскопление. Узнав о том, государь назначил следствие, по которому лакея Кобелева отправили на Соловки, Селиванова же решено было оставить в покое: «Пускай его молится, и пусть собираются у него для молитвы, но только бы искупителем его не называли и отнюдь не принимали бы в свое общество солдат».
Но в ноябре 1819 года граф Милорадович и обер-полицмейстер Горголи открыли, что в Петербурге многие дома полны скопцов. Ночью в июле 1820 года столетнего старца посадили в коляску и под строжайшим надзором повезли в Суздальский монастырь. Миллионщик Солодовников скакал следом, всячески умолял стражу и задабривал, чтоб те разрешили проститься с отцом: возле заставы Солодовников, пока меняли лошадей, пал на колени и попросил у Селиванова благословения.
С той поры двенадцать лет просидел Селиванов в одиночной келье Суздальского монастыря под глубоким секретом, и как ни пытались скопцы свидеться со своим пророком, какие усилья ни прилагали на подкупы, ни одному «белому голубю» так и не привелось свидеться с ним.
Бог Селиванов скончался в феврале тысяча восемьсот тридцать второго года. Но для скопцов он не умирал, в доме Солодовникова вплоть до ареста хранился в неприкосновенности престол Селиванова, и «бедные сиротинушки» уверяли, что, как только их воинство достигнет ста сорока тысяч, тут и въедет в столицу на белом коне их Искупитель и утвердится во всем мире рай оскопленных, а всем прочим будет страшное судилище.
А посему трудитесь, «бедный сиротинушка», собирайте сокровища, наживайте золото, набивайте сундуки серебром да бриллиантами, чтоб не с пустыми руками встретить Отца и войти в Новый мир.
Глава седьмая
Потом все так и получилось, как напророчила Таисья.
Капусту начисто выел червь. Но осенью, пред самым ледоставом, зашел в реку сиг, и монашки, сколько хватило сил, начерпали рыбы, насолили, и навялили, и насушили. Но Таисьиного предсказания никто не знал, а игуменья хранила молчание, и сестра Ксения затаила ревность. Ей-то, сироте, голодайке и подневольнице, только здесь, в кельях, расцветшей душою, так думалось, что для Таисьи жизнь монастырская лишь забава: вот собьет охоту, намерзнется, наголодается, войдет в тоску сердечную, а там и в домы подастся, на вольные сытые хлеба. Ей-то и в миру благодать, и только из причуды, из баловства и игры залезла бабенка в комариную глушь.
А Таисья над собою измывалась, будто в гроб себя загоняла. Уж на что ревностные в кельях были постницы, и те диву давались и нет-нет да прижаливали: ты бы, сестрица, говорят, себя поберегла. Покорно слушала Таисья остереженья, но свой устав упорно вела, одного боялась в душе: вот грянут холода, окуют землю, сможет ли она пересилить плоть свою, не ослабнет ли душою? Но она так решительно, с такою готовностью вошла в монастырскую жизнь, будто рождена была для нее – и та, мирская, далеко откатившаяся, была лишь сном, наваждением, краткой причудой. А ведь нелегким было это бытованье, ой нелегким.
С семи до девяти утра – послушания, работа, самая черная и грязная, на кою с особой охотой напрашивалась Таисья.
В девять завтрак, первая скудная выть: ушица из соленой сухой рыбы, а иной день хлебная корочка да глоток квасу.
До часу дня опять послушание. В час квасу кружку иль толченой ягоды с водой. До трех отдых и вновь до шести работа.
В шесть вечера – вторая трапеза, если не постные дни, если не понедельник, среда иль пятница. В эти дни вместо трапезы квас с хлебом.
После второй трапезы звонят к повечерне с семи до восьми. Отстоишь, совершая перед иконами метания, потом к себе в келью, один на один с Богом, душу излить ему, за всех ближних и сродственников попросить милости, за всех страждущих и заблудших попечалиться. «Келейное правило» – молитва с поклонами в келье. После краткой молитвы передвигает монахиня четку на один лепесток и делает поясной поклон. Рясофорная монахиня (низшая степень пострижения) делает ежедень по шестьсот поясных поклонов, манатейная – около тысячи, схимница – до полутора тысяч. На монашеском языке называется – «тянуть канончик». Рясофорная тянет его полтора часа, схимница – до трех.
За день-то наработаешься, наломаешься с вилами, иль граблями, иль в реке с неводом: жилы стянет, от постной жизни в голове круги. Так нет бы прилечь на жесткое ложе и, закинув руки за голову, помечтать Бог знает о чем и тут накоротко заснуть до утрени. Так нет, Таисью будто кто принуждал по самому тяжкому уставу жить. Но ведь никто не досматривает, никто не ведет счету твоим поклонам, никто не отмечает твоего усердия. Так кто же неволит незавидную здоровьем женщину так изнурять себя? Кто ответит? Изо дня в день, из года в год, десятилетиями! Лишь печальные, вопрошающие глаза Христа, едва освещенные скудной лампадою, ведут тебя по жизни.
И весь сон-то монахини от десяти до часу, казалось бы, урви каждую минуту, чтобы воспрянуть, выстоять в долгой молитве. С часу ночи до четырех утреня, да всё на ногах: молодой-то не под силу, не то преклонной годами. Стоит ведь такая, уже вся увядшая, подпирая себя батогом, и вдруг поддадут ноги, на время смежатся глаза под тягучую молитву: и падет старушонка с грохотом, особенно громовым от внезапности, покатится клюка. Подойдет экономка, подымет схимницу в черной до пят рясе с белым крестом на груди – и снова вершит свой подвиг постница.
А с четырех до шести утра – литургия.
Какого смысла ищут люди в этом бытованье? Что за грех такой замаливают они? А то и грех, что сами явились на свет в мученьях и других замучили; а то и печаль неизживаемая, что всех им жалко. Жалко, что живут люди на миру как-то нехорошо, в прелюбодействе погрязли, в наживе и дурных помыслах, ради утех телесных позабыли душу. И кому предали-то-о, черевам тухлым и плоти, кои источатся враз, как придет срок, изойдут в ничто. И кого предали люди ради убогого, болезного, никчемного тела – душу свою предали, бессмертную душу свою.
И так страшно иному человеку за это всеобщее предательство, что возжаждает он искупленья и подвига. И тогда все ему не мило на миру, все обрыдло, все кажется покрытым проказою.
Боже мой! – со слезами возопит человече и, не медля более, покидает мир навсегда, уходит в затворы.
Борьба со сном во все долгие ночи – это борьба с сатаною, прочно угнездившимся в жилах телесных, что правит человеком, пока он дремлет.
Хотя монастырь был особножитный, но продукт запасали сообща, и уже из кладовой манатейная монахиня выдавала припас в отдельные руки, и каждый варил сам себе выть, по своему вкусу и уставу. Печи топились из коридора, и, когда стряпали монахини, он походил на кухню, где толклись, путались у шестков несколько старушонок. Мирское все-таки было это занятие, да и сам огонь, трепетавший в печи, зыбким багровым своим отражением пятнил сумрачный долгий коридор и делал его праздничным. Кто ушицу варил, кто похлебку пустоварную, кто житние колобы замешивал; вроде бы каждый сам по себе, но и каждый примечал за соседкою по келье, где она, да можется ли ей, и какова у той нынче трапеза. И обида была, если кто особенно жировал, и зависть, и ревность, кто по-особенному жил, сам себя в схиму зачислил, без пострига; и печаль, коли старенькая в келье уже не подымалась с постели. Но и тут, протянувши иссохлые, постоянно зяблые ножонки и уставивши корявое подслеповатое личико навстречу лампадке, молится она непрестанно и послушно глотает жидкую житнюю кашицу беззубым ртом, ежели приведется еда и кто-то сподобится обиходить болезную.
Лишь Таисья, заняв камору возле нужника, оказалась вроде бы в обособицу. Келья ее была без обогрева, и печурки свободной не нашлось, чтобы обсушиться иль щец сварить горшок. И то благо, что квас в бочке стоял в углу общий. Стряпала Таисья редко и случайно, кто призывал ее к своей печи, и сразу варила надолго, хлеб кусала каменный, чтобы не надсадить желудок, и долго катала во рту корку, и так обманывала себя. Тягости она не слышала, но чуяла в себе невиданную легкость и постоянную радость. Чем труднее приходилось послушнице, тем светлее было в груди и яснее в голове. Однако тревожилась Таисья – не одолеть ей стужи, что наваливалась с каждым днем; вот они, морозы, накатили на заговены, на Филипповский пост, и те три часа, что выпадали для сна до утрени, каталась Таисья по полу, накоротко забываясь, а после, не стерпевши более, судорожно метала поклоны до тысячи и более, дожидаясь зова на общую молитву, пока не оттаивала. И настал однажды день, когда монашка не почуяла стужи, и, наверное сроненная измором, свалилась как убитая, и не слышала удары в било, сзывающие на утреню; пришла сестра Ксения и растолкала, недовольно фырча. И Таисья, виноватясь, смущенно поникнув головою, уже в церкви долго не могла прийти в разум, сосредоточиться на молитве, и сама себе дивилась. А что было удивляться, коли шкура бабья отерпла, закоснела, одеревенела ранее, чем смерзлись и пересохли жилы, и вошла Таисья в то истинное мытарское состоянье, которое держит на миру не плоть, но дух.
Будто бы каждая монахиня жила сама по себе, и им ли, прожившим в кельях не один десяток лет, удивляться Таисьиному уставу? Но они невольно дивились и душою тянулись к послушнице, сочиняя для нее новый образ и иное житье. Уж больно ликом и повадками своими не походила она на ширококостных, присадистых поморянок. И слухи о новой кельянке пошли куда как далеко, и с Канина перекинулись на весь уезд, и на Двину, и к Печоре. И если кто из мирян, из поклонников-богомольцев попадал в затерянный заштатный монастыришко, то первым делом, навестивши манатейную монахиню, невольно приходил в келью к Таисье, только чтобы узрить ее. Один такой мужик с Пезы, поразившись истомленному девичьему лику и широким глазам, полным зеленого сиянья, пал пред нею на колена и поцеловал ступни, а уезжая, подарил новый овчинный тулуп. Тулуп был обширен, кучеряв и ласков даже прикосновенью ладони, но Таисья восприняла его как соблазн, как подарок от лукавого и сначала намерилась подарить старенькой сестрице, но после себя же и уговорила использовать овчину вместо постели. Это была поблажка, и за нее Таисья отбила три тыщи поклонов. Но если размыслить, какая это поблажка? Углы толсто закуржавели, стены обындевели, и холод келейный сравнялся с уличным. Погреб, как есть ледник под рыбу. Только тот, вольный холод был морозным, искрящимся, он настраивал тело на работы, на долгую ходьбу и горячил кровь; этот же холод в каморе в сыворотку превращал кровь и пахнул гибельной тоскою.
Особенно сошлась Таисья с сестрой Серафимой. Сблизилась осенью на рыбных ловах. Была она в черном подряснике, мокром по грудь, в рыбьей слизи; черный же плат неловко и косо заколот под подбородком, слегка выпятившись, и полузатонувшее в нем лицо казалось высохшим до прозрачности. Таисья пока обживалась в монастыре, и ей, несмотря на всю замкнутость, хотелось, однако, душевного участия и ободряющего слова от посестрии. Может, потому с такой пристальностью она разглядывала каждую сестру и внутренне приглашала к разговору.
В сестре Серафиме не было ни лихорадки, ни спешки, ни той отупляющей вялости, которая выдает наработавшегося, безразличного ко всему человека; труд свой она вела мерно, не тратя чувств на постороннее. Серафима жила в постоянном полузабытьи, она словно бы слушала внутреннюю песню, что однажды, давным-давно, запелась и вот не отпускала женщину, несмотря на всю промозглость, унылость предзимней, стекленеющей мокряди. Серафима рубила головы, вспарывала сигов, шкерила, вываливая под ноги черева, вершила вроде бы грубое, жесткое дело, но движенья послушницы были созвучны тайной душевной песне и подчинялись ей, и даже во взгляде, часто обращенном на Таисью, звучала эта сердечная радостная песня. Так что ей до неба, накаленного первыми холодами? Что ей до жесткой, хрустко ломающейся заиндевелой травы? Пусть пальцы ломит от стужи, по рыбьим черевам расползаются старенькие намокшие бахильцы, уже задеревеневшие ладони не держат слизкого ножа и руки по локоть в кровище... Еда это, пропитанье для нищей посестрии. Ведь даже маленькая рыбка лучше кислых штей: а тут рыбой сигом завалила река, только успевай нянчить да перекидывать с руки на руку рыбьи туши. Тягостно? Ой тягост-но-о... Спину выломило сестрицам, солью руки разъело до самых костей... Но глаза у Серафимы светились, как два речных обточенных камушка. Они были серыми, блестящими, лишенными всякой пленки иль мгновенного тумана, какой случается в глазах двойственных, переменчивых людей, будто Серафима и не знавала никогда страданий и горестей. Лицо Серафимы казалось Таисье прозрачным, особенно когда в предвечерье топили печи, и веселый огонь, распалившись, заполонял коридор переливчатым изменчивым багровым светом. Таисья глядела на Серафиму и видела каждый крохотный сосудец в ее лице, откуда начинался он и куда устремлялся, и вокруг каждого ручейка струился голубоватый свет. И только крепкие желтые зубы, слегка выдававшиеся изо рта, нарушали ускользавшее обличье.
От привязчивого догляда Серафима зарозовела и по-бабьи подобрала под черный плат случайно выбившиеся седые прядки волос. Может, это огонь так пропекал лицо, может, от предвечернего, особенно густого пламени выглядело оно зарозовевшим и прозрачным? Серафима неожиданно отодвинулась в сумерки вместе с березовым чурбачком, на котором ежилась, и зажала сажную кочережку меж колен. Таисью поразило, что в этой пятидесятилетней женщине жило постоянное желание исчезнуть, раствориться в воздухах, в ней, кроме блестящих радостных глаз и крепких желтоватых зубов, словно бы не было той ощутимой реальности, что делает человека живым. Таисье захотелось потрогать новую знакомую, ей почудилось, что если не попридержать Серафиму, то она просочится сквозь закаменевшие стены и пропадет. Она и дышала-то бесплотно, и из сумерек сквозь ныряющее пламя пробивались только напряженные блестящие глаза.
– Ты была замужем? – зачем-то спросила Таисья, и это прозвучало как искус: «Хочешь, я тебя соблазню?»
Серафима помедлила, движение плеч ее было испуганным, неопределенным. Она снова отодвинулась в сумерки, утекла в стену. Потрескивала догорающая печь, на стене меркло оранжевое пятно, общежительский коридор с тринадцатью сестрами погружался в бездну. Шаркали редкие старческие шаги, хлопала дверца нужника. Таисья пустым взглядом провожала стариц, на время позабыв собеседницу, и вдруг представила, как мрачно и скверно в ее келье. Она передернула плечами, опомнилась и мысленно упрекнула себя в неожиданной слабости. И сразу наказала себя пятьюстами поклонами. Хвостик платка зажала в зубах и медленно, в забытьи принялась жевать, чуя терпкую бумажную кисловатость его. Зачем произнесла эти слова? Тьфу-тьфу, нечистый крутит. Вдруг кто-то сзади приобнял за плечи, поцеловал в шею чуть пониже упрямого завитка: движение показалось настолько знакомым, родным, что сердце от радостного испуга укатилось. Прянула, оглянулась через плечо, увидала черный зев распахнутой двери: кто-то вышел и забыл притворить. Иль тут невидимый присутствует и чужим дыханьем овевает лицо? Блазнит? иль навестило чудо? иль знак даден, что с Донькою худо? О Донате, оказывается, память-то, а не о муже благоверном, покинутом в сиротстве. Вот и согрешила опять, в мыслях-то согрешила, дак хуже, чем въяве. Господи, спаси, как оборониться от скверны, осаждающей даже здесь, на краю земли, за монастырскими укрепами. Приступил дьявол с соблазном к самому плечу неслышно, чужим обличьем оборотился и оставил на шее огненную печать.
Жгло шею, и Таисья неловко покрутила головою, освобождаясь от наваждения. Что-то в лице Таисьи иль во взгляде смутило сестру Серафиму, она насторожилась.
– Что с тобою, матушка? – спросила едва слышно.
– Ты глянь-ко, – обиняком, уклоняясь от ответа, попросила Таисья. – Ты глянь-ко, подруженька. Затылок ровно бы кто ожег.
– Да нет ничего, поблазнило, – присмотревшись, успокоила Серафима.
– Поблазнило, знать... А тебя не навещают соблазны?
– Не-е... Я не знаю соблазнов. Я никогда не знала соблазнов. А скажи, сестра, сколько мне лет? – вдруг спросила Серафима, и в этих словах прокралось земное, женское, далекое от монастырской жизни; что-то еще не порвалось с миром и потягивало. Послушница блестящим взглядом уставилась на Таисью. По заглубившимся морщинам, по седым прядям можно было бы дать лет шестьдесят иль полста, а то и только сорок – столь неопределенным казался возраст в его стертой прозрачности. Таисья улыбнулась и дала куда меньше, чтобы польстить, определила сорок лет.
– Да-да, – ответила Серафима, споткнувшись, однако. – Около того будет, – добавила, помолчав и что-то прикинув в уме, будто запамятовала свои истинные годы. Но поскучнела сразу, отдалилась, почужела, упорно занялась догорающей печкой, и Таисья так и не узнала, сколько послушнице лет. И тут окончательно уверилась она, что в сестре Серафиме не выгорело мирское, телесное, что плоть будоражит и позывает; Серафима долго боролась с собою и была, видимо, в отчаянии.
– Я думала, постригают сразу. Ну, через год-два...
– Нет-нет... Что вы, что вы! Это же все... Как не понять? Пока можно уйти, если что – уходи, милая. Иди-иди, не держат. А потом все. – Серафима договорила с неожиданной тоскою, как о недостижимом, и вдруг, расплакавшись, стремительно побежала коридором в свою келью.
У соседней каменушки возилась с ухватом сестра Ксения, зоревая от печного пыла, житние шти варила. Но по напряженности коренастого тела, будто прикованного к печке, по тому яростному громыханью и возне чувствовалось, что монашенка досадует и едва терпит Таисью. Проследила взглядом промчавшуюся мимо зареванную Серафиму и плюнула вослед. На Таисью же и не взглянула, нарочито отвернулась, чтоб не видеть ее кроткого лица и поясного поклона.
Под Рождество Серафима уехала в Пинегу хоронить мать и задержалась там. А где-то на Крещенье случилось то, что взволновало кельи, и круги от того приключения долго бродили по мирной, застывшей монастырской жизни.
Однажды иззяблась Таисья на послушании, до той степени намерзлась, настудилась, что вроде бы зальдилась насквозь и околела. Пока шла по общежитью, по мрачному коридору, едва освещенному вонючей сальницей, в каждую печурку ткнулась закоченелой ладонью и непременно всякий раз обмирала сердцем и радовалась, как дитя, и приимчиво понималась телом самая крохотная радость. «Еще бы хлебушка пососать», – подумала. Много ли приняла, впитала тепла походя, мимолетным птичьим прикосновеньем, но вот и отогрела крыла. Скинула армячишко, руки вздела, и вдруг так радостно стало, так захотелось всех любить, что глаза защипало от непрошеных слез и губы задрожали. И давай метанья творить пред иконой, пока совсем не взопрела. И тело измаянное попросило кусочка аржаного, пахучего. А где взять? В обындевелом углу каморы порылась, достала из холстинки житний каравашек, подаянье того самого «поклонника», что осенью наезжал и тулупец вот подарил. Но каравашек не только не разрушить иль зубами не изгрызть, а в самую пору топором рубить.
В деревянное блюдо положила, вышла в коридор и в первую же натопленную печь положила и сама тут же пристыла, обвалясь к стене и блаженно закрыв глаза. А песня не смирялась в груди, высоко велась, и такой голубой свет стоял пред очию, будто крыша разверзлась. Стояла вот так, покачивалась, обтирая лифом стену, и несколько раз взгремела заслоном, проверяя, каково житничек прогрелся. Мякина мякиной, осолоделый каравашек, но все же хлебушек родимый, на ноги ставит, жилы прямит. И только вознамерилась достать из печи скудную выть, выскочила из кельи сестра Ксения, крутая, взведенная натуго, и даже в полумраке коридора видно было, как напряглось и сбелело ее лицо.
– Сестрица, – сказала ласково, озирая монашенку-нескладеху, кроенную на мужика, и жалея ее нестерпимо. – Потрапезуй, матушка, раздели трапезу. Чем Бог послал.
Но Ксения будто не расслышала, зашипела:
– Чего шляесся-то, чего? Не все дома, да? Не все? Тута не все, да? – повертела пальцем у виска. – У чужой печи шляесся. Украсть чего хочешь, да? Чего ни положи, пропадет?
Она задохлась, пристукнула ногою. Едва слышно на шум коридорный скрипнула дверца соседней кельи, просунулась породистая голова в камилавке. Таисья узнала игуменью, и ей стало отчего-то стыдно. Радость в груди чуть притухла, но не угасла, и, смиряя себя, Таисья изумилась кротко:
– Тихо ты, матушка... Ты пошто лаешься? Ты пошто собачишься, сердешная? Што с тобой приключилося? Я всего-то что хлебушка согреть: закаменел, не лезет в горлушко, а ты разоряешься. Мало ли какой твари обогреться надо? Опомнись...
Голова в камилавке исчезла, но дверца не прикрылась, видно было, как шевелилась она. Отвлеченная этим шевеленьем, Таисья на миг упустила сестру Ксению, а та вдруг взвилась, заорала:
– Ты, попрошайка, чернотропка, кого хулишь?
И чего уж никак не ожидала Таисья, схватила монашена жестяной заслон да этим заслоном сестру свою монастырскую по голове. Покачнулась Таисья, но устояла на ногах, лишь прошептала:
– Голубеюшка, сестрица, опомнись! Худо делаешь.
И зря говорила на укор, только распалила гневливую душу: зашлась у Ксении грудь, заполыхала, и она уже худо соображала, что творит, и без того мужицкая сила в ее ручищах, обкатанных сохою да топором, утроилась. И, словно кулачный боец в стенке за деревнею, срубила монашена Таисью, ссекла будто утреннюю отволглую траву.
И плакать бы надо, да слезы нет, давно высох родник; посмеяться бы надо, да оторопь запрудила горло, не то рыданья скопились, не то боль кинулась из чрева, из самого подреберья. Дыханье зажало, и темь хлынула в глаза. Под вздошье уткнула, в саму жизнь: нашла куда ударить. Эх, Ксения, Ксеня, Ксюха, опомнись. Ведь и трава-то плачет, скрипит под косою, когда идешь в прокосе. А тут голубиную душу стоптала. Сейчас хоть в ноги пади перед Таисьей, хоть слезами уревись, и вроде бы прощенья сей же миг получишь за свое злодеянье; но, оказывается, сколько ни кайся, а срок свой ты подписала, оборвалась пряхина нить, и жизнь твоя уже сосчитана.
Долго ли лежала Таисья на полу иль коротко, но вот опамятовалась, туман в глазах размылся, пробрезжил скудный свет сальницы в простенке; зыбкое, льняной белизны лицо качалось пред глазами, и черный плат, туго и низко повязанный, ровно бы обсекал, надвое укорачивал незнакомую голову. А пониже ее шаталось неуклюжее корявое тело с высоко задранной в колене ногою, готовой стоптать. Сквозь радужные круги в глазах напряглась Таисья и этой громадной ноги в стоптанном кожаном выступке испугалась невыразимо, и, упредив ее, она вскричала будто бы громово, а на самом-то деле едва прошелестела: «Ну. Ксеня! Какой рукой ударила – пусть отсохнет!» И будто обрезало виденье, словно померещилось Таисье. Никого в коридоре, стужей тянет с пола, бока гудят, и голова гудит, совсем чужая голова. Едва поднялась, царапаясь о стенки, пробрела в свою келью, упала на курчавый тулуп и забылась. И в этом беспамятстве безудержно плакала Таисья, и молила кому-то здоровья, и снова обливалась слезами; но все помнилась, не уходила из памяти сестра Ксения, она отчего-то протяжно, невыносимо стонала и протягивала навстречу почернелую, как головня, руку. Пошла Таисья к келье монашены, постояла под дверью, послушала: рясофорная монахиня пела в голос, с придыхом, слегка гнусавя, будто две черницы молились. Дождалась молчания, постучала, без приглашения вошла, пала пред оторопелой Ксенией на колени, стукнулась головою в пол. Подняла лицо, залитое слезами. Давно не плакала, уж вроде бы забыла о слезах, но только что в забытьи кого-то оплакивала, и вот слезы въяве, сами родились:
– Прости, сестрица! Прости меня, грешницу. Чего тебе насулила! Ой прости!
– Брось, не наговаривай! Что ты, право. Болезь у меня, прости, светлая матушка!
Ксения кинулась подымать гостью, но та упиралась, обвисла, огрузла. Как сладко, оказывается, просить невиновному прощенья, какой огонь возжигается в сердце, и грязь струпьями, комьями так и осыпается с телес, и все светлее вокруг и становится прозрачным.
– Прости ты, прости! Чего насулила, – как в бреду, шептала Таисья и подняла промытые, листвяной зелени глаза. И туг не удержалась Ксения, упала на колени и давай целовать обиженную и плакать с нею.
И был Таисье вскоре опять сон.
Привиделось ей какое-то ровное место в снежных застругах, и посреди его баба в кожухе овчинном ретиво машет пешнею. Таисья напряглась зрением, узнала Ксюху, подумала лишь: для какой такой нужды оказалась тут черница? И вдруг из-за гривки поречного леса вымахнул медведко и внамет, высоко вскидываясь ляжками, ударился к бабе. А та не слышит, бьет пешнею, только крошево летит. Нет бы оглянуться... И не стерпела Таисья, закричала и от своего вопля очнулась.
Вскочила, побежала к сестре Ксении. Рассказала сон, взмолилась:
– Сестра, не ходи по рюжи. Медведко из берлоги выстал, охотника ищет.
Ксения же не слушает, только потуже затянула армяк вязаным кушаком, натянула пришивные катанцы, замотала голяшки из толстого сукна под коленами, чтобы снег не западал, обувкой притопнула, саму себя похвалила:
– Ну как, хороша колотовка?
Видит Таисья, не слушает ее Ксения. Поспешила к игуменье, тоже сон рассказала. Та слушала, отвернувшись, в волоковое оконце дышала, сказала, не оборачиваясь:
– А кому робить, девонька? Хлебушка-то все ись хотят. Рыбы свежей наморозим, в Семжу свезем, там продадим. Вот и хлебушко... А медведю неоткуль и взяться. Поди, сестра, по работы да не мути воду понапрасну.
Неспокойная отправилась Таисья за сенами; навила волочугу и уже на обратной дороге, где сворот в кельи, видит: в худых душах спешит навстречу черница, путаясь в рясе, и березовая клюка мало помогает ей. Издали еще кричит:
– Ой-ей-ей! Де-вонь-ка! Ой-ей-ей! Ксеньи худо! Сестрица, гони-ка лошадь!
И пока ехали в кельи, узнала Таисья весть, от коей меховой куколь на волосах зашевелился. Сбылось ведь видение, будто в зеркальце подглядела. Отправилась, значит, Ксения на рюжи вдвоем. Продолбила первую прорубку, а черпальницы, чем ледяное крошево выкидывать, нету. Забыли черпальницу в скиту. Послала за нею помощницу, сама оперлась на пешню, стоит, отдыхает. И не видит, как из-за поречной-то гривы подкрался медведко да неслышно навалился на Ксению. Возопила монашена на весь белый свет. В оборону поначалу, да куда противу шатуна с пешнею. Навалился мохнатый городовой да и обротал. Столько и жила Ксения. На глазах у посестрии и случилось. В набат-то ударили, да где там...
Снесли Ксению на кладбище, поставили крест в виде весла, лопастью в небо. В монастыре же разброд пошел. Кто за Таисью стеною, кто осуждает.
Но спорь не спорь, а последнее слово за настоятельницей. В суровом монастырском уставе игуменья разброда не терпит. Пригласила Таисью, почуяв неладное в кельях. Сказала:
– Я, сестрица, на тебя напраслины не возведу. Но вижу, тесно тебе у нас, ведь слово твое вещее...
– Нет, не худо мне, не худо! Тут я, матушка, как пред вратами рая и от нечистого со всех сторон ограждена.
– Нет, вижу, что тесно тебе, – возразила игуменья неприступным голосом. – Ежели колокол о сто пуд нынче же здесе-ка вздернуть на елине да раскачать? Какой звон по всей тундре пойдет, а кого и чего за-ради? Голос-то услышан должон быть.
– Не гони. – Пала Таисья на колени.
– Подымись, дочь моя. Ты выше меня взнялась, ты затмила меня, и через то разруха придет на монастырь.
– Но где же моя-то вина, матушка? Я-то в чем провинилась?
– Пока нет вины, но может статься. Меньше всего в славе нуждаемся мы: мы бежим от известности, как от мора и язвы. Не погуби, доча. Поди на Россию, там примут. Пока дороги стоят, поди, родимая. Дай поцелую стопу твою. Поди, поди! Россия подымет твою славу. Там столько страждущих, они жаждут утешения.
По последнему насту покинула Таисья Семженские кельи и заглубилась в Русь. Она шла неспешно, и слава о новой пророчице обгоняла ее.
На праздник Покрова? одна тысяча восемьсот сорок восьмого года скиталица Таисья оказалась в Москве на Сретенке, в приходе Николы на Драчах, в доме мещанки Капустиной.
Глава восьмая
Со свойственной ему нахальной простотой Клавдя настолько быстро расположил к себе всех тайных жильцов дома Громова, будто век живал тут. Обличьем он скоро закоренел и уже головы не разгибал, и редко кто мог заглянуть в его разные глаза; руки, сложивши, носил на животе чуть повыше гульфика; серые волосы на темени выпали странным образом, вроде тонзуры, будто ровно выстригли плешину, и, чтобы скрыть ее, носил Клавдя войлочный колпачок. У него веком не росли волосы на бороде и скулы были по-младенчески пустынны, и каждый, кто впервые посещал замкнутую таинственную усадьбу, то полагал Клавдю за отрока-скопца, давая ему лет семнадцать. И столько угодливости, столько неискренней изворотливости и лакейства было во всей его узкой, суетливой, податливой фигуре, когда встречал Клавдя гостя или возле калитки, иль в передней с массивной вешалкой из лосиных рогов и высоким, до потолка венецианским зеркалом в лепной бронзе, что каждому хотелось выказать над воспитанником Громова свою волю и даже побить, хотя никто не решился не то что побить, но даже и обругать его. Может, побаивались хозяина иль, отражаясь в высоком зеркале и видя тощее тельце братца, обтянутое немецким кафтаном с длинными разрезными фалдами, вдруг жалели его. Хотя пред тем-то, идя к дому, обещались больно побить Клавдю и поучить, ибо еще в прошлый приход недосчитались наличного капиталу, внезапно пропавшего из кошелька... Да, замечали за Клавдей больно худое, полагали даже наверняка, что нечист он на руку, но уличить не могли, как ни наблюдал сам Громов; а не пойман – не вор.
– Братцев-то не трогай, – остерег Громов своего «сына», когда впервые пожаловались на него. – По-нашему-то как: брат за брата вы молитесь, друг пред другом вы смиритесь...
– Поклеп, батюшка! – обиделся Клавдя, нижняя губа вздрогнула.
Он поднял мокрые глаза и, шмурыгая вислым носом, пытался улыбнуться. И сколько в лице этом отпечаталось страдания, столь несчастным было оно, что Громов смягчился и невольно пожалел воспитанника; дрогнувшим голосом остановил:
– Ну полно, полно... Порки хотел задать, да погожу.
– Лучше побейте, только не держите на меня душу, – вскричал Клавдя, не отрывая от Громова лучистых глаз, полных слезы. – Я так жить не смогу, коли про меня дурное будете думать. Я ведь и живу-то у вас единственно из любви к вам. Я без таты, без мамыньки жил, один, как перст, а вы мне за та-ту-у, вы мне за ма-му-у.
Протяжно, в голос завыл Клавдя, и, не сдержавшись, боясь, что сердце сейчас лопнет от горя, он закусил кулак зубами и вдруг так разрыдался, так расходилось его тщедушное тельце, так перекосилось все и без того-то неурядливое обличье, что Громов невольно поймал себя на мысли, что, знать, не обошлось без наговора. Не завелся ли в корабле смутьян-наводчик иль завистник какой? Надо бы поручить Клавде приглядеть за братией: обильна стала паства, и трудно ее пасти. Он подозвал Клавдю к себе, сам не трогаясь, однако, со стула, и, зажавши парня меж колен, погладил по голове. Войлочный колпак скатился с темени, обнажились хрящеватые уши и круглая лысина. Громов пробежался мягкими пальцами по голове и поразился мощному, просторному черепу с выпирающими затылочными шишками и широкими сводами, отчего, казалось, бо?льшая часть головы тяжело провисает за шеей. Волосы были ненатуральные, скользкие, как ветхая обсохшая весенняя трава, и под ними кожа прощупывалась тоже иная, нечеловечья, отчего Громов нечаянно вздрогнул.
– Ну полно тебе, разлился. Как ребенок, ей-ей. Дом-то затопишь, остановись давай!
– Я ужасно обидчивый. Я напраслины не терплю. У меня душа как воск.
– Поди займись делом.
В коридоре Клавдя осушил слезы, прощально передернул носом и тонко засмеялся, довольный собой. Через людскую, задними воротами скользнул в сад, от стражи не таился, сунул рослому отставному солдату три копейки, дескать, пойдешь в трактир и возьмешь себе пару чаю, своим ключом открыл калитку и исчез в городе. Он растворился в нем, как песчинка в пустыне, и пыльный ветер подхватил его и затерял на Хитровом рынке.
На обжорке, где Клавдя трескал печенку и ливерную колбасу в жаровнях, он познакомился с карманщиками, тырщиками, поездошниками, что таскают вещи из пролеток, он изучил их хитрости и радовался простоте и прибыльности ремесла; в подземельях страшного «ада» сошелся с болдохами и зелеными бродягами; он скоро изучил, шатаясь по порученьям Громова, аферистов и комиссионеров, подводчиков краж и агентов игорных домов. Ему словно бы нужны были все азартные «прелести» той жизни, которая прежде была неведома ему; но именно она с необычайной легкостью приносила капиталы и с той же легкостью поглощала их. И, поняв тайну московского дна, Клавдя решился соединить товар «скопцов, которому цены нет», со случайным, переменчивым товаром бродячего народа.
У евреев, попадавших в престольную под видом негоциантов, он научился денежным делам, кои те вели с такою хитрой изворотливостью, с такой слезливой глубокой печалью в глазах, будто снимали с себя последнюю рубаху и собирались самораспяться на кресте во имя справедливости; от цыган Клавдя воспринял радостное, наглое плутовство, когда мошеннику хоть плюй в глаза – все Божья роса; от китайцев взял уроки замысловатой науки наказывать обидчика. Теперь Клавдя всегда носил в широком рукаве однорядки сапожный нож, подвешенный на резинку особенным образом, и немного мышьяка в одногорлой крохотной нюхательнице с притертой стеклянной пробкой. Однажды он проверил китайскую науку в деле. В трактире Полякова пристал подвыпивший детина, он долго не сводил с Клавди мутного взгляда и потом коротко выплеснул в лицо: «Вы-ро-док!» – и торжествующе рассмеялся.
– Аха, – тускло и кротко согласился Клавдя. – Меня мама родила, а тебя – грязная свинья.
Обидчик вскочил, размахивая кулаками, и был он столь огромен, невыносимо велик, что сердце у Клавди, наверное, упало от страха, и парень сам повалился на пол в опилки, как сробевший кобелишко с поджатым хвостом, и принялся сучить ногами и елозить на спине. Рыжий детина недоуменно скакал кругом, намереваясь придавить Клавдю сапожищем, как гадину, но странным образом никак не мог угодить в лежащего и вот вроде бы запутался в хитро сплетенных уловках Клавди и неожиданно для себя и зевак сам оказался на полу на спине, уже беспамятно стонущий, с жутким оскалом и с глубоким траурным отпечатком шнура на шее. Когда хватились Клавди, того уж и след простыл...
На Сретенке в приходе Николая на Драчах жила кормщица скопческого корабля Ефимьюшка Капустина. Она давала денег на разживу, сначала понемногу, пока заманивала и утешала, а когда добивалась соглашения принять скопчество, то и благодетельствовала на довольно приличные суммы, не забывая, однако, вытребовать заемный вексель. Имела старуха большой угрюмый дом, полностью сокрытый непроницаемым забором; глухая калитка денно и нощно закрыта на цепь. Купленные за серебряные талеры павловского чекана девицы после оскопления и по их желанию проживали в этой скрытне, где и образовался впоследствии небольшой женский монастырь. Ефимьюшка была сестрою алатырского фабриканта-позументщика. Громов возносил Ефимьюшку до небес, приписывал ей знатное происхождение: была она будто бы дочерью князя Шереметева, но удалилась от двора только ради спасения души своей. Была она высокая, с прямой неподвижной спиною и совершенно плоскою грудью, и даже теперь, в старости, сохранялись на лице следы былой прелести: тонкое, без единой морщины обличье и неотступный взгляд печальных выцветших глаз приводили в трепет кого угодно. Она имела обыкновение не мигая долго разглядывать вновь пришедшего и изымать его душу на посмотрение. Клавдя часто по поручениям Громова навещал этот дом и каждый раз вступал за калитку с чувством опасности и тревоги. Даже в ветреные дни этот пониклый, разросшийся старый сад беззвучно молчал, и ни одна рябая птичка не осмеливалась нарушить тишины, будто бы и сама крохотная рябая тварь тоже могла стать невольно «лепостью» и смутить душу монастырской затворницы.
В доме Ефимьюшки познакомился Клавдя с мещанскою девкою Ульяной Орловой. Она оказалась там впервые, чтоб занять денег, но, столкнувшись в сумрачном коридоре с Клавдей, была странно напугана и смущена до той степени, когда человек уже не владеет собою, она неожиданно схватила незнакомого ей человека влажной холодной рукою и повлекла за собою, часто оборачиваясь.
– Я боюся, – шептала она. – Я чего-то боюся. В меня будто мохнатушко залез.
Только возле Самотечной, невдали от своего дома, она опомнилась, и в бледное лицо вернулась былая ядреная краснина, которую не мог потушить темно-синий бумажный плат. Ульяна оказалась крепко сколоченной девицей, с задорным лицом, небольшими голубоватыми глазками и здоровыми зубами.
– Ну ты какой ля-да-щий! – пропела она, разглядев Клавдю, и беспричинно рассмеялась. – Чей такой красавчик выискался?
– Я лядащий, да ужас боевой! – похвалился Клавдя; так, по обыкновению, хвастаются в раннем детстве, когда задираются в переулке, собираясь затеять потасовку и выволочку. Клавдя ни разу не таскался за юбкой, он был сущий ребенок, и те редкие рыжеватые волосенки, что едва наметились на скульях, никак не говорили о его мужицкой доблести.
– Чего ж ты напужалась? – спросил Клавдя.
Его ладонь еще сохраняла прикосновение чужой ладони; нельзя сказать, чтобы оно, потное и холодное, было для него приятным, и он, украдкою, даже вытер руки о штанины. Но теперь рука его оказалась одинокой, ей хотелось соседства, пожатья, соединенья.
– Она предложила скопиться, – прошептала Ульяна и потупила глаза. Она сама не знала, отчего выдала тайну, и снова напугалась. – Ты-то чей? Тебя кто туда звал?
Клавдя ушел от ответа, но девица и не настаивала, разглядев по одежде знакомца, что он из благонравных, не босота, не хлыщ и не прощелыга.
«Только уродлив-то больно, батюшки-и», – мысленно протянула Ульяна, но ее отчего-то влекло к парню, и она не сопротивлялась влеченью, но охотно поддавалась ему.
Она едва дождалась следующей встречи, они гуляли в трактире Самохина, Клавдя кормил девицу кулебякой с осетриной, был небывало и неожиданно для себя щедр, они выпили немного сливянки, но и этих хмельных благословенных капель хватило для разохотившейся натуры. Ульяна оказалась сиротою, ей накануне исполнилось двадцать пять лет, она мечтала завести небольшую торговлю, и ей посоветовали занять в долг у Ефимьюшки Капустиной на Сретенке: дескать, она девушек привечает, прижаливает и охотно дает в долг. Потом они лежали в постели, состарившийся домик полнился шорохами под приглядом хозяйнушки, и легко шипела лампадка.
– Ульянка, ты не тяни. Слышь, что говорю? – настаивал Клавдя. – Ты не тяни. Нынче же поди к старухе и проси тыщу.
– Она оскопляться повелит... Это ж, Кланя, ужас какой! Я боюся. Представить-то жутко, не то иное. Живые титьки резать беспричинно. Ты меня сам, Кланя, без титек-то прогонишь. Скажешь, поди прочь, уродина.
– И погоню, эка дура. Ты бы корову без титек завела? Во-о... А тут баба... Но ты деньги бери, да не мешкай. Бабьего вранья и на свинье не объедешь. Зубы замоешь, а там поди разберись, сыщи виноватого. Смотри, счастье мимо рта не пронеси. Век локти кусать будешь.
– Сама боюсь промахнуться, Кланя. Да, вишь, страшно...
Но все ж поддалась Ульянка и по настоянию Клавди, по его далекому умыслу отправилась к Ефимьюшке и пообещала принять «государевы огненные печати», а за то, под вексель, получила тыщу. Да у Клавди к тому времени капиталу завелось, а лежачая копейка гниет и киснет, вот и пустил ее в оборот. На Старой площади на подставное имя завели они крохотную лавчонку с громадными подвалами и тайными ходами, где на прилавке для виду лежали облезлые шкуры да медная дешевая посуда; и мало кто знал, что в подвалы потекла ночная воровская добыча. Но для Ульяны настал день «крещения», куда деваться ей, бедной? Иль веру принимай, иль деньги ворачивай. Не явилась она на страды в «корабль» на Сретенке, Капустина предъявила иск, и посадили мещанскую девку в долговую яму. Отсидела Ульяна семь месяцев, тошно стало, а любовник ей одно твердит: стой на своем, подержат да и выпустят, А что с тебя взять? Но Ульянке мука мученическая жизнь такая, и дал Клавдя иной совет: пошли Ефимьюшке записку: дескать, одумалась, прощенья просишь. Написала Ульянка слезливое письмо с повинною, вышла из долговой ямы, и снова был назначен день оскопления. И дал ей Клавдя новый совет: снеси, говорит, донос генерал-губернатору Голицыну, дескать, грязное дело творится в доме Капустиной, там людей увечат и кровища рекой льется.
Что Ульянка и исполнила.
И назначено было секретное следствие...
– Ну и хорошо, сынок? Ай ли сладко?
Клавдя хлюпнул носом и сделал невинный взгляд. Но сразу понял наставника, о чем речь, и поначалу испугался, спиною почуял страх, ибо куда бежать? Глаза у Громова нынче желтые, рысьи. Полдневный свет утекающего бабьего лета бьет в оконце. Солнце сместилось, неожиданно ударило Клавде в лицо, он зажмурился и вдруг почувствовал сладкое торжество. Он молод, он удачлив, и все при нем: он может с бабою спать, сытно есть, и от него дети попрут косяком, и надолго встанет в московских торговых рядах шумовской корень. Он и Солодовникова потеснит, и Плотицина из Моршанска... И Ульянино тело вдруг особо прояснилось в памяти, и так захотелось Клавде ласки, жадных утех.
– Али не слышишь, сынок? Греха не чуешь? Не ведаешь, что творишь. Затеял ты игрище, как молодой козел, а козлы, известное дело, не одеколоном пахнут. – Он поперхнулся, заметив движение Клавди навстречу, видимо с намерением поцеловать руку, и закричал пронзительно, с такой ненавистью, какую Клавдя никогда прежде не подразумевал в нем: – Не подходи, изыдь! От тебя козлищем пахнет! Сгинь, нечестивец, иль изведу под корень карающей десницей!
Этот неистовый голос, пресекающийся до визга, эти пылающие, почти прозрачные от гнева глаза настолько потрясли Клавдю, что он пал на колени, как срубленный.
– Батя, отец родимый! – возопил, плача. – Навет все! Искус! Да пропади все пропадом. И жизнь сладкая пропади. Вериги надену, кольчужицей покроюся и уйду. Батяня, не губи только, не посеки душу агнца. Ты глянь, отче, как светла душа моя, ни ржавчинки, ни пятонышка. Извет и зависть, татушка.
Он говорил горячо, торопливо и упреждал каждое намерение Громова оборвать, и тогда торопился, захлебываясь словами, и это походило на кликушество, на припадок юрода перед святыми пророчествами. Пена выступила на губах, глаза повыкатились, и этим сломленным горестным видом приказчика снова был обманут Громов и своему легкомысленному обману неизвестно почему обрадовался.
– Ну подымись, Кланюшка. Ну подымись, братец. Не государь я тебе, не искупитель.
– Не подымусь, пока не простите. Да я бесовых отродьев ни на нюх. От них же весь перекосяк. Коли и было что, так за-ради будущего искупления и страдания лишь. А иначе как уйдешь от лепости, не повстречавшись с нею, не изведав искуса? Тогда и бороться-то с кем?
– Так было?..
– Каюсь...
Громов протянул руку, отмерив два шага навстречу, но Кланька, распростершись, поцеловал ступню хозяина и миллионщика, заметив про себя, какие они розово-блестящие и промытые. И, не подымаясь, на четвереньках же отполз обратно к двери, головою отбоднул ее. И в том, как унижался Клавдя, он тоже испытывал странное торжество, словно одолел врага невидимого, но наиглавнейшего и склонил его выю. Когда затворилась дверь, Громов опомнился, встряхнул тяжелой головой, как после наваждения, и, потянув носом, почуял нехороший, дьявольский запах табаку. Такое было чувство у Громова, словно рядом только что стоял сильно накурившийся человек. А в коридоре Клавдя, еще не вставая с колен, выплюнул щепотку нажеванного дурманного южного табаку и, как заклинание, прошептал:
– Вставайте, волки, и медведи, и все мелкие звери, сам лев к вам идет.
И наступил день, к коему парень с трепетом готовился, и торопя его, и пугаясь. На радение собирались уж после повечерия, когда многие из «белых голубей» службу в церквах отстояли и долго молились, растворившись посреди богохульников-никониан, и были особенно усердны в службе и медоточивы в молении, и, глядя на них, никому не открылся бы в согбенной молящейся фигуре особенно ярый враг православной церкви.
После повечерия в сплошной тьме, изредка прерываемой редкими газовыми рожками, со всей Москвы съезжаются на моления братия и посестрия из корабля Громова. На иной улице где-то оставят пролетку, коляску иль просто ломовую телегу, нанятую по случаю и дешевизне, и уже сюда, к погруженной в молчание усадьбе, добираются пеши, не проронив ни звука. В ворота колотнется трижды такой человек и оглянется кругом – не следят ли – и еще дважды колотнется; тут дверца, придержанная изнутри цепью, слегка приоткроется, и страж с уличным фонарем посветит в лицо, спросит хмуро, настороженно: «Зачем пришли?» – «Сын Сиона», – раздастся шепот. И гость, провожаемый другим охранником, идет в дом.
Слетелось «белых голубей» всех чинов человек с триста, не менее. Клавдя встречал их на входе, весь в белом, с головою, ухоженной лампадным маслом, с кротким, сияющим взглядом пестрых глаз. Ведь ради него собираются сегодня «агнцы», чтобы принять сиротину в свое лоно. И сейчас, встречая их и прицениваясь к каждому богомольщику своим умом, Клавдя узнавал многих и каждому льстил особым образом, надеясь в будущем иметь выгоду от знакомства. Он видал их за меняльными столами в самых дальних уголках Москвы, в торговых рядах, в лабазах и глубинах магазинов. Тут были и отцы-благодетели, миллионщики Солодовниковы, Кудрины, Плотицин из Моршанска, по торговым делам бывший в престольной.
В шестьдесят девятом году Плотицина арестуют за скопческую ересь, и деньги тут окажутся бессильны, ибо к той поре новое время наступит в России, иные суды: его приговорят к ссылке на поселение в Восточную Сибирь с лишением всех прав состояния. А денег у него было так много, что чины следственной власти считали их три дня и, насчитав восемнадцать миллионов, больше считать не стали, а запечатали все остальное в мешки и сложили эти мешки в кладовую, сдав на хранение сыновьям Плотицина. Но это случится лишь через двадцать лет, когда ой туго придется «белым голубям», опленают их крыла и далеко распихают по углам русской земли...
И заполняли «Горний Иерусалим» парни, похожие обличьем на девок, и девки, смахивающие на парней, сухие желтолицые мужики, будто насквозь выпитые животным червем, все несколько гнусавые, тенористые, с сухими, скорбно поджатыми губами; явился старец Перфильюшка, оскопившийся прошлым летом на сто четвертом году, и монахиня Акулина, боровшаяся с самим дьяволом девяносто лет, и вот на девяносто первом стало ей невмочь, задушил соблазн, и она самой себе прижгла груди раскаленным железом, едва не преставившись. А нынче шла бойко и всею дорогой через двор и после, длинным полутемным коридором, напевала сладенько: «Ты свети, свети, месяц, обогрей ты нас, красно солнышко...» Другою, тайной тропой через сад (видно, имел ключ от задней калитки) явился апостол Миронушко, весь белый, как призрак иль большая птица-лебедь, отвыкшая летать: он и шел-то странно, подволакивая отстающие от тела ноги, будто разогнался однажды, христовенький, и не может остановиться; и руки, высоко вздернутые в локтях, походили на подбитые махалки. Перед Клавдей остановился, озирая его смутное, обробевшее лицо, после троекратно облобызал и еще раз обсмотрел уже всего, с макушки до пят, наверное, готовил к булатному ножу, коим крестил на Руси сорок пять человек, больше всего отроков. Умел Миронушко говорить сладко, напевно, умел очаровывать встречное слабое сердце и Бог знает чего наобещать, насулить в будущей жизни. И верили же ему, еще как верили, когда шли на заклание, ложились под нож, иль бритву, иль долото, начисто пресекая будущую родову свою. Покинув Клавдю, пролетел Миронушко длинным коридором, путаными переходами спустился в подвалы, встал на пороге в «сионскую горницу», где уже было густо от радельщиков, и возгласил: «Братушки, помните о Страшном суде. Грядет! Грядет! Видел толпы спасающихся! Взбираются на горы, лезут и лезут, покинув и домы, и скарб нажитой. Боятся, ха-ха! Боятся! Братушки, помните! Архангел Михаил тогда лишь свергнул сатану с небеси, когда Бог поставил его в чернецы и возложил схиму... Есть ли средь вас, кто без чина ангельского? Поспешайте! Есть в человецах такая боль греха, которую нельзя вылечить ничем, кроме вырезания иль выжигания... Самое преступление Адама в плотском грехе. Изгнавши из рая, Господь повелел ему землю пахати и с женою не спати. Помните, братушки, заповедь Христову и креститеся огненной царской печатью, пока государь не въехал из земли сибирской в Москву на белом коне. Поздно будет, позд-но!»
Тут кто-то возликовал, кто-то в плач ударился, иные смутились и, побледнев лицом, заозирались. Миронушко задохся, двое молодых агнцев подбежали, подхватили под руки, подвели к престолу, покрытому бухарскими коврами. Миронушко сел у подножья, понурился и закрыл лицо руками, озирая залу сквозь расслабленные пальцы...
Последней явилась Ефимьюшка Капустина. Ее сопровождала новоявленная пророчица: говорили, что она из баронесс, бывшая фрейлина матушки Александры Федоровны. «Опусти глаза, бесстыдник! – остерегла Ефимьюшка строго, холодно, чем сразу вернула Клавде чувство зоркое, настороженное. – Дай дорогу-то, нехристь!» Клавдя торопливо отступил, пряча глаза, искоса озирая Ефимьюшку и ее спутницу. Он сразу узнал в ней сестру свою Тайку, но от неожиданности встретить в престольной, в корабле Громова, опешил. Кажется, уж насколь велика Россия, затеряться в ней куда легче, чем просяному семени в зароде сена: сколько всякого народу скитается по ее извилистым немереным дорогам, а вот на тебе, столкнулись в самом центре земли, на случайном отвилке пути, в скрытне, куда ходу чужому человеку нет вовсе. Узнал сразу, но ведь не позвал, не вскричал, отчего-то отступил в темень. Таисья была в ямщицком запашном армяке без ворота, смиренная голова низко повязана черным платом. Лицо исхудалое, обветренное, и синие обочья еще больше подчеркивали белизну широко распахнутых глаз и тупую замкнутость взгляда. Таисья настолько ушла в себя, что навряд ли видела чего сейчас. Она тяготилась скрытиями, средь «белых голубей» ей было душно, не хватало воздуха и позывало в новую дорогу. Она и так-то засиделась в Москве, престольная оглушила ее неизведанной тайной жизнью. Из дома в дом, из скрытни в скрытню, на постоянное посмотрение, на извод души, на потребу: и всюду ждут чего-то необычайного – предсказания, угрозы, успокоения, милости. И голова словно обручами стиснута: разнять бы их, освободиться от постоянного жара, порою такого нестерпимого, будто глаза разбухли и сейчас выльются вон. Устала, наверное? Сломилась, потухла и, как никогда, была далеко от Бога. Не с чертом ли повязалась? Все темное видится, мрак, вихри, огненные сполохи да молоньи.
И сейчас, попав в корабль Громова на радения, Таисья жила днем грядущим, обещавшим быть ясным, последним солнечным днем, когда она намеревалась уйти. Встала, отряхнулась и пошла, верно? Нищему собраться – только подпоясаться. Все, для чего сходились богомольцы, виделось ей бесовским, лишенным покоя, сосредоточия, и мало отличалось от той демонической рати, какая постоянно сопровождала скиталицу. Но Таисья, не выдавая истинных чувств и растерянности, покорно шла за Капустиной, сложив руки на впалом животе, и в такт шагам смутно прозвякивали железа, обвивавшие груди. Цепи под власяницей и армяком не видны были, но звон оставался за странницей совсем неожиданный, и Клавдя удивился, не веря ему, долго крутил головою, соображал. Худа сестреница, думал, провожая взглядом сутуловатую спину, больно худа. В чем душа только. И пожалел с той редкой пронзительной печалью, когда в последний раз видишь на миру родного человечка. Откуда пришло на ум, что больше не встретит Таисью? Хотелось заплакать, окликнуть, порасспросить, небось не мимо дому прошла, завернула. Но не заплакал и не позвал, лишь присбрал назад узкие плечи да приобрал вкруг живота длинную радельную рубаху.
Капустина вела гостью уверенно, она была богородицей, няней, животной книгой, она часто видела Бога и беседовала с ним. Она была уверена в будущем своем блаженстве, она телесными самоистязаниями подготовила будущую свою радость и знала, что когда государь Селиванов въедет в Москву на белом коне, то она, богородица Ефимьюшка, будет около его стремени. Они вошли в огромную залу, и Таисья, впервые попавшая сюда, остолбенела. Прямь двери высоко, под потолком, висели три поясных портрета: в центре Кондратия Селиванова, налево Громова, основателя этого корабля, направо Александра Шилова, страдальца. По одной стене иконы сплошь, в богатых золотых ризах. Многие десятки свеч и лампад создавали причудливое зыбкое освещение, и хотя не было ни одного окна, но, видимо, дыханием сотен людей создавались воздушные токи, колеблющие восковое пламя. Под портретом Селиванова на высоком возвышении о трех ступенях, покрытом дорогими восточными коврами, стояло большое кресло, обитое красным бархатом с золотыми позументами и кистями, пока пустующее. По углам престола, на две ступени ниже, были кресла поменее, поскромнее, куда садились пророк и богородица. Вдоль стен стояли столы, покрытые расшитыми скатертями, и турецкие диваны, крытые шелковым штофом. По одну сторону мужчины все в белом, в подштанниках и длинных, по колена рубахах с длинными же рукавами; женщины в лучших своих одеждах, подпоясаны голубыми лентами. Богомольщики оживились, кто пил чай – те чашки отставили прочь и с любопытством глазели на «богородицу»; кто же пел страды, павши ниц перед престолом, те замолчали и скоро вскочили. Апостол Миронушко поднялся, завидев Капустину, возгласил: «Царство ты, царство, Духовное царство!» Два агнца подхватили его, подвели к Капустиной, они облобызались. Все закрестились, взмахивая руками, походили на птиц. Вострубили, пробуя голос: «Ой дух, дух!» Ефимьюшка запела высоким приятным голосом, слегка подвывая: «Ой скоро-скоро прилетит наш золотой сокол. У него крылышки-то с бриллиантами, с алмазными каменьями драгоценными...»
Таисья, оглядев «сионскую горницу», была подавлена людским скопищем. И апостол Миронушко, от которого прогоркло и постно пахло, особенно показался неприятным; исподнее на нем было мятое, неряшливое, в желтых пятнах. В нем не было той покорности в лице, коя свойственна схимникам, не было светлости и детскости в глазах. Но даже не это поначалу смутило. Таисья не могла понять, шаря взглядом по пустынному, желтому лицу Миронушки, чего не хватало ему, чтобы обрести человечье, смирное, святое выраженье. «Ба! – спохватилась мысленно, едва не вскрикнув. – У него же немецкое рыло. Бороды-то нету. Охте мне. Несколько седых волосин на скульях. Нет апостольской серебряной, поясной бороды, стекающей из висков, из ушей и означающей покорность. Покорства в нем нету, смирения, вот что. Гордыня лишь, желание возвыситься; всем пренебречь – и возвыситься. Эвон куда замахнулись, не злодеи ли? Обрезали себя, осквернили, лишили родовы, вот и мстит матерь природа, ставит свои печати, и никуда от них не деваться. Господи, прости их, заблудших...»
А Миронушко, видя замкнутое Таисьино лицо, не ко времени воскликнул: «Скоро, скоро вострубят архангеловы трубы и наступит наше царствие. Ты давай, сестрица, поспешай. Есть в человеке такая боль греха, которую нельзя вылечить ничем, кроме вырезания или выжигания».
– Не велико дело бороться с врагом зарезанным. Ты, батюшка, поборись-ка с врагом живым. Там поглядим, – возразила Таисья.
– Тело – вран и нечистая свинья...
– Все-то оскопитесь, дак в царстве вашем кто жить после будет?
– Бог всесилен, сестрица. Он может из камней воздвигнуть чадо Аврааму. И ничто ему не стоит продлить наш род лобзанием. Лобзайтесь, братушки, и миром станут править белые голуби.
– Глупости мелешь, Миронушко, так тебе отвечу, – стояла на своем Таисья, неведомо на что сердясь. – Тут не знаешь, до завтрева доживешь ли, а ты... Все в руцех Божиих. В ру-це-ех, а? Батюшко, во! В ком стыд, в том и Бог. А ты стыд порастерял, в исподнем предо мною. Золота-то много нагреб? Сколько бедных маются, корочки на зуб нету положить. А ты гребешь, да все под себя, под себя. На што золото тебе? С собою потянешь? Ты старый, злой дядька, ты упырь, я сквозь тебя вижу. У тебя хвост на заднице... В убогой гордости диавол утеха. Отгородились, за огорожу попрятались, бесы. Чего таитесь, нелюди?
Понесло Таисью, и один Бог знает, чего бы там наговорила еще она. Ефимьюшка и за армяк дергала, и на ногу наступала, но не остановить странницу. И апостол ошарашен был, язык проглотил, не ожидая напора от бродячей бабы. Речист скопец, а тут осекло, словно камень во рту. И что бы далее приключилось, неведомо, кабы не кормщик. Явился учитель Громов в длинной белой коленкоровой рубахе и подштанниках, опоясанный золотым кушаком. Не взойдя на престол, он встал на колени, осеняя братьев и сестер крестом и зажженною свечою.
«Христос воскресе!» – возгласил, прибойная волна прокатилась по зале, все пали ниц, и Таисья пала, уже не владея собою и забыв недавний гнев свой. Прежде чем пасть, разглядела: рыжие волосы у Громова костром, и глаза при свете близкой свечи тоже наполнены ужасным огнем. Лицо учителя было подъято к потолку, но он вроде бы видел всех разом и всех брал в полон. Стало на душе ослепительно радостно, и захотелось плакать. И Таисья вместе со всеми троекратно вскричала: «Воистину воскресе!» Вопила и воскресала от скорби, и невидимая чешуя отслаивалась от кожи, и дышалось легко, будто не было грудных крепей.
«Возлюбленные мои детушки, – выпевал Громов, не возвышая голоса и не понижая его. – Взлетайте мыслями на небо к престолу Божьему, просите послать к нам сына его Исуса Христа. Помолимся же, агнцы мои, за государя-батюшку Селиванова, избранных их, сидящих в темницах, сосланных в ссылку и живущих по разным странам...»
Громов встал на колени, но был виден всем, как бы вознесенный. И катился по зале ответный вопль, как единый грудной вздох: «Благослови, государь-батюшка!»
Громов поднялся на престол, сел гордовато, приосанясь, огляделся вкруг себя, руки возложил на подлокотники, обживая их, оглаживая теплый красный бархат. И ноги в расшитых золотом остроносых чунях он поставил одна к другой; так, думалось ему, поступают цари. Голова его на толстой прямой шее была как свеча ярого воску, и могучую грудь не могла утаить просторная коленкоровая рубаха, и глаза его, блистающие алым светом, были быстры и обжигающи, как летние зарницы. Апостол Миронушко с крестом и богородица Ефимьюшка со свечою сели на креслица пониже его. Апостол был зол на побродяжку и на Капустину, приведшую ее, кусал губы и косился на богородицу. Та же мостилась осанисто и не отпускала взором Таисью, придумывала наказание. Агнцы разобрались по левой и правой стороне залы, прощались друг с дружкою, будто жили в последний час, тихо пели молитвы, били себя по коленам в один мах, из-за плеча, сложивши ковшом ладони. Не вставая с престола, Громов подал знак рукою. Старшина корабля удалился за Клавдей: тот ждал в келейке и ужасно дрожал то ли от холода (печи не топили третий день), то ли от пустого живота иль от волненья сердечного. Он дрожал, и зуб не попадал на зуб. От недельного поста слегка кружилась голова, но было необычайно легко, и забылось все грешное и тайное, о чем мыслилось прежде. Оно позднее всплывет, то постоянное умышление, и станет необходимейшей частью жизни: пока строишь козни, плетешь на других сети, тут и чувствуешь себя по-настоящему. Но сейчас своя натура потерялась, и Клавдя как на свет заново рождался, и, несмотря на озноб, в нем восторг поднимался волнами, заливая всего.
Старшина Волков вошел насупленный, глаза спрятаны под седыми бровями. «Сбирайся, сынок», – сказал строго, будто вел на казнь. А что сбираться Клавде? Что надо – все при нем, в душе и мыслях. Но засуетился, однако, забегал, толстую свещу, припасенную загодя, запалил, подал сопроводителю, в другой руке тот держал икону Спасителя: икона была громоздкая, тяжеловата несколько, и Волков опирал ее о живот, слегка выпучив. Зачем было подмечать такую мелочь? Но все навострилось в Клавде, и к чему бы ни обращался вроде бы отсутствующий взгляд – все ударяло в глаза. Не так ли прощаются с жизнью, идучи на плаху? Все вне, все плывет, ускользает, но какая-то пустяковина вдруг зацепит, остановит зрение, всполошит чувство – и так жалко тогда всего, что остается позади.
Старшина шел попереди, но не забывал нудеть через плечо: терпи-де все напасти и скорби, веди жизнь воздержну, всячески уничижай себя, служи всем и у всех будь в повиновении, не ешь мяса, не пей вина и пива, не употребляй табаку, не поминай имени дьявола, в случае надобности называй его «врагом» или «нехорошим», не пой мирских песен, не пляши, не сказывай сказок, всегда пребывай в целомудрии. И тогда, добавил старшина, поворотившись лицом ко входу в «Горний Иерусалим», на тебя снизойдет Святой Дух так точно, как древле сошел он на апостолов... Он пропустил Клавдю в залу. И тот почувствовал себя таким крохотным и ничтожным, что тело его потерялось в исподнем. Богородица Капустина поднялась на возвышенье и спросила:
– Зачем пришел ты?
– Душу спасти, – пересохшим голосом ответил Клавдя, но ту же утвердился и повторил громче: – Душу спасти!
– Хорошо душу спасать. А кого дашь за себя порукою?
– Самого Христа, Царя Небесного.
– Смотри же, чтобы Христос от тебя поруган не был.
Ефимьюшка сошла вниз, приняла икону Спасителя от старшины, осенила ею новообращенного.
– Клянись, раб Божий...
– Клянусь, святую веру приняв, никогда от нее не отступать. Пришел я к тебе, Господи, на тайную вечерю. Приими мя, Господи, приими, Сын Божий; приими, Мать Пресвятая Богородица. Даю слово про сие святое дело никому не поведать. А буде поведаю, не подержи меня, мать-сыра земля, не дай, матушка, солнце красное, мне свету белого! Дай мне, Бог, огнь пламя, и кнут, и Сибирь претерпеть, а сие дело не отложить, чтобы ни архиреям, ни священникам, ни роду ни племени, ни сырой земле не сказать... Прости меня, батюшка родимый, искупитель во кругу! Прости, солнце и месяц, небо и звезды! Прости, матушка-сыра земля, простите, пески и реки, звери и леса, змеи и черви...
Не чуя ног, Клавдя отступил в угол залы, и тут его будто забыли, собор запел ладно и трубно, с растяжкою: «Дай нам, Господи, к нам Исуса Христа...» Под эту главную молитву, шевеля губами, Клавдя обсмотрел залу: он еще не знал, кого ищет, но, увидев Таисью, снова вздрогнул. Он еще не мог привыкнуть к ее присутствию, сестра казалась видением, призраком. Она была почти рядом, наверное, от нее доносилось трудное свистящее дыхание: сестра не пела, лицо ее блестело, как намасленное, и грудь высоко вздымалась. Клавдя еще подумал: отчего лицо у сестры точно жиром обмазанное, но тут же и ощутил свое тело, липкое от пота. И понял, как жарко и душно в скрытне. Клавдя пришел в себя, приостыл, рубаха показалась холодной, противной, но вместо ушедшего восторга появилась торжественная горделивость. Видно, общая тайна не только соединяет людей, но и дает им той чести в своих глазах, коя недоступна всем прочим, непосвященным.
... Едва довели молитву, как Ефимьюшка наподхват запела, не давая перевести дух:
Как не золотая трубушка жалобненько вострубила. Ой да жалобненько, жалобненько.Голос ее едва проткнулся, заунывный, и умер, казалось, ни в ком не родив желанья. Для сердечного разогреву, думалось, нужен был такой голосище, чтобы кровь закипела: а от этого сиротливого, на ладан дышащего гласа лишь суетливость родится. Но ведь тут собор сидел, тайная церковь, корабль в пучине усердно пробирался ко спасенью, и любое слово богородицы, едва выдохнутое, воспринималось общиною не слухом, но душою. И «белые голуби» подхватили с протягом, с каждым словом возвышая голос и раскаляя себя. И уже белые платы-знамена, разостланные на коленях, запохватывали, будто унимали дрожь пальцев, и головы, прежде понурые, запрокинулись, чтобы легче взлетел голос...
Соберемтесь-ка мы, братцы, во един собор. Мы посудимте, порядимте таку радость: Уж вы верные, вы избранные, Вы не знаете про то, вы не ведаете, Что у нас ныне на сырой земле понадеялось: Катает у нас в раю птица, Она летит, В ту сторону глядит, Да где трубушка трубит, Где сам Бог говорит...И заторопились, глотая слова, кто-то уже всхлипывал, не таясь, кто-то громогласно рыдал, не промакивая платом глаз и от самих слез хмелея: там гоготали, иной взвизгивал, будто щекочут его, и все это неистовство разбуженных освобождённых натур сквозь прорезал тонкий, щемящий душу и наводящий ужас свист: словно ветер пробивался с силою сквозь тончайшую щель иль воздух утекал из молельни сразу в преисподнюю. Уже пели на том пределе сил, когда кажется, что багровые лица лопнут, взорвутся. Опустеет, вытечет человек, и душа, покинув клеть, радостно взмоет белым голубем.
Громов в своих расшитых золотом домашних чунях сбежал с престола легко, рыжая грива пласталась сзади, коленкоровая рубаха пузырилась на спине: ветер исходил от мощного, не изнуренного постами тела. Быть, наверное, такому человеку вечным, а ежели и умрет он, то как уснет. Громов протянул руки крестом, и с турецких диванов, где сидело до трехсот человек, протянулись ответные жадные, ищущие лишь прикосновения ладони, и влажные трепещущие пальцы соприкоснулись, объялись в мертвое кольцо, и хмельная сила Громова настолько переменила агнцев, что казалось, воскликни лишь, взлети – и даже он, тщедушный старец Миронушко с больными, искрученными костями, готовно взлетит. Громов резко, решительно пошел по кругу, высоко подымая, задирая ноги и топая ими по полу, и круг сам собою свился.
Ой Бог! Ой Бог! Ой Бог!Пошли посолонь, высоко вздымая ноги и резко ударяя ими в один мах, без разнобоя.
Ой дух! Ой дух! Ой дух!Выкрикивали разом, махая руками, будто от этого кручения и возникала в теле подъемная сила.
Накати, накати, накати!Дышали резко, отрывисто, в крайнем возбуждении, заодно с лошадиным топаньем.
Ой ега, ой ега, ой ега!Заторопились, усилили шаг, подолы немецких платьев приоткинуло над шнурованными полусапожками.
Накатил, накатил, Дух свят, дух свят!Уже побежали, все скорее и скорее, в головах помутилось, и глаза, налитые вращеньем, вылупливались, выкачивались, выпячивались, готовые пролиться под ноги.
Царь-дух, царь-дух Разблажился, разблажился!Таисью подхватила чья-то рука, резко придернула к себе, людское распаренное теченье вовлекло в себя и утопило.
Дух свят, дух свят!Пока робко, но с каждой пробежкой усиливая голос, подхватила Таисья. Зала сдвинулась, все смешалось и превратилось в один распустившийся цветок.
Ой горю, ой горю!Внутри пустело, восторг переполнил, настоянный потом своим ли иль тех трехсот радельщиков, что опьяни-лись уже неистовым круженьем.
Дух горит, Бог горит!Но голову Таисьи сжало будто бы железными обручами, она знала за собой это состояние и пугалась его. Ей стало настолько тяжко, что впору было умереть, и смерть показалась бы желанной. Она не от бега задыхалась, но от желанья освободиться. И закричала пронзительно, почти завопила, как роженица, не зная этого чувства, но постоянно испытывая его. Она натужилась, побагровела, запруда лопнула, и ею как бы выстрелило из огромной неведомой пращи. И Таисья полетела в занебесье, с легкостью покидая на земле неистовое скачущее свое тело.
Свет во мне, свет во мне!Крохотные люди, как муравьи, толклись по зале, мешались, сновали по особой своей нужде: они еще не знали грядущего дня и будущей жизни своей, и было так жаль их, не ведающих, что творят. Заблудились, сердешные, и нет для них пророка. С печатями на теле, как прокаженные, с худыми помыслами на душе, отягощенные грехами и чужими напрасными слезами и страданиями, они напрасно торопились приобщиться к ангельскому чину. Кто бы их образумил, Господи. И пошто-то Бог, родитель наш, видя сие, не остановит бесовское игрище?
Ой горю, горю, горю!Таисья скинула армячишко, осталась в одной власянице, сквозь прорехи виделось белое, молодое, еще не изношенное тело. Великоватые груди тяжело вздрагивали, и в такт им звенели десятифунтовые цепи, обвившие тело, как змеи.
Дух! Ой ега, ой ега. Евой!Весь корабль поворотился боком и стал скакать по кругу, взмахивая руками. Но не взлететь им, не взлететь, уже не нагнать бродячую пророчицу, которая завтра намерилась покинуть «белых голубей» навсегда.
Дух евой, дух евой, дух евой!Кто-то уже закрутился на одной пяте, подобно вихрю, так что лица не распознать. И Таисья, та, что осталась в зале, тоже завращалась на пяте, перебирая второю ногою и резко ударяя о пол.
Сей дух, сей дух, сей дух! Царь-дух, царь-дух! Благодать, благодать!Кто-то резко, гортанно выкрикнул: «Благодать накатила!», и этот пронзительный голос удивительным образом перекрыл многослойный шум и замирил его. Зала стихла, и все разом пали на колени, усердно молясь и дожидаясь вещего слова. И Громов запророчествовал, выговаривая каждое слово, вытаскивая его из глубин естества через непонятную силу и сопротивление, дух вселился в него, и от того, как этот дух разливался в просторном теле, кормщика корежило всего и ломало, и белые глаза походили на перламутровые полые раковины. Но не глазами видел сейчас Громов, но иным чувством, и все было доступно ему. И обратился он к кораблю со словами, идущими от Бога:
Возлюбленные други! Вы себя не тревожьте, Надежду на меня, святого духа, положьте, Собор я вам крепкой стеной огорожу, На караул легион ангелов пошлю... Врага злого на сто сажен к собору не допущу. А вы мне, святому духу, верьте, Живую благодатную воду мою пейте, Подите, други, кораблем порадейте, В духовной моей бане попотейте...Он бы еще долго вещал, но мешала скиталица, юродивая с веригами: не обращая внимания на корабль, она кружилась, не зная устали, и звон цепей сбивал Громова с мысли. Все стояли на коленях, усердно крестились, но баба эта и молящихся сбивала с молитвенного настрою. А Таисье показалось, что больно долго она летит, она заморилась подыматься в кручу: вот и пятое небо, и шестое, где совсем недавно побывала. Скоро-скоро Божьи златые врата... Но, Господи, как болят уши, какой пронзительный тяжкий свист в них, голова разваливается надвое. И сердце так устало, готовое взорваться. Таисья взглянула вниз и пожалела себя, брошенную, заведенную на бессмысленное крученье, с набухшим сердцем и ошалелой головой. «Зачем я там? – с тоскою подумала она. – Не рожаю, не пашу, не сею». Случайно посмотрела Таисья на свои ноги и увидела набухшие черные жилы, живущие на самом пределе, когда кровь готова свернуться. И своих натруженных ног ей тоже стало жаль. Она пересилила полет, перевела дыханье и решила возвратиться. И чем ниже опускалась пророчица, тем медленнее кружилось брошенное ею собственное тело. И где-то невдали от земли увидала Таисья, как малую пташицу, голубку сизокрылую, треплет воронье, только перышки осыпаются. И до того дотрепали сердешную, до того доизмывались, едва головенка держится...
И Таисья решила, что завтра она уйдет из Москвы, но ей было жаль распластавшихся в зале людей, коих скоро настигнет беда. Она бы о многом могла поведать страждущим, слушающим сейчас кормщика Громова, и она поторопилась остеречь их от несчастья. Пророчица зачем-то посмотрела на свои пальцы, поднявши руки вверх, и увидала лучи света, истекающие из перстов. Они струились, пронзали потолок и пропадали в темени, откуда только что вернулась Таисья. Ей было душно, хотелось распахнуть окна: она пошарила безумным взглядом по стенам, намереваясь открыть продушины и впустить воздуху, но натыкалась лишь на образа и свечи. Искупитель с портрета смотрел пронзительно на нее и грозил пальцем. Хотелось упасть, закрыть глаза и раствориться сквозь половицы. Перемогаясь, Таисья побрела сквозь ряды молящихся, спотыкаясь о чьи-то ноги. Кто-то хватал ее за власяницу, шипел, заставлял пасть на колени и молиться, но пророчица нетерпеливо выдергивала подол. Возле престола она нашла богородицу, властно ухватила ее за плечо и повернула к себе.
– Ефимьюшка, – сказала Таисья сонным голосом. – Беда идет на вас. Видела нынче, как голубицу сизокрылую треплет воронье. Беда, Ефимьюшка. – Таисья умолкла, переводя взгляд по зале и отыскивая кого-то в толпе, но сама меж тем говорила уже об ином: – Страшного суда боитесь?.. А вы совести бойтесь. А чего вам сатаны пугаться? Сатана вас приветит. Я разговаривала с ним, он вас приветит. Говорит, ему подручные нужны.
– Тсс, – зашипела богородица, скоро встала с колен, осмотрелась, не слышит ли кто.
– Если по охоте своей грешить, Ефимьюшка, то сатана любит. Чего страшиться-то? Очнитесь, опечатанные! Вам ли пугаться Страшного суда, еретики! Грешите с открытым сердцем! Эх... к Богу стремитесь, а злато копите. А на что злато? Припрет коли, за все злато и горбушки хлеба не промыслить...
Ефимьюшка тянула за рукав, но Таисья уперлась, продолжала, сощурив глаза, оглядывать залу. Она не могла взять в толк, что требовалось ей, но в сердце толклось смятенное чувство, что совсем недавно, нынешним же вечером, видела она здесь паренька, очень схожего с Кланькой, сводным братцем. Ей хотелось еще раз взглянуть на парня, чтобы понять ошибку. Напрягая голову, она искала того богомольщика, похожего на Кланьку, но он затерялся, а Ефимьюшка торопила и увлекала Таисью прочь из залы, тайно боясь ее гнева.
«Знать, ошиблась, – подумала Таисья успокоенно, отдаваясь во власть Ефимьюшки. – Вот и хорошо, что ошиблась. И то знатье, откуда взяться братцу посреди гульбища?»
Смущенный ропот прокатился по зале, Громов сбился, и болью перекосилось лицо. Изменив обыкновению, он скоро кончил вещанья. Все расселись по турецким диванам, запели молитву, мерно ударяя ладонями по коленам, покрытым полотенцами. Клавдя преданно ловил взгляд Громова и радовался, что сестра не признала его. Вот бы грех-то вышел, верно? Выходит, Бог пишет, а черт следом зачеркивает... Клавдя не успел додумать, как подошел апостол Миронушко, взял парня за руку и вывел в круг. Здесь его опоясали «знаменами» – и повели с песнею: «Благодатный Бог, попусти нам Бог, с нами пребудь Бог...»
Дали приложиться к образу спасителя, облекли в новую радельную рубаху; все подходили, целовали агнца, поздравляли друг друга с новорожденной душою.
... Итак, назначено было секретное следствие. В ночь с тридцатого на тридцать первое октября Клавдя проводил Ульянку в дом Капустиной. Ночь была – глаз выткни, но Клавдя часто озирался, боясь, чтобы не заприметили его. Его беспокойство передалось девке, и, до того будучи уверенной и вроде бы сонной, она разволновалась вдруг, заартачилась и наотрез отказалась идти.
– Ты побудь, а как загрозят, то и уходи, – увещевал Клавдя, стараясь не повысить голоса.
Он тайно жалел девку и этой жалостью травил себя и оттого злился.
– Ну что скулишь? Что ты скулишь, корова? – однажды не сдержался и даже замахнулся. Но, против ожидания, Ульянка присмирела, вроде бы только и дожидалась устрашения. Ей хотелось, чтобы Клавдя погрозил, устрашил, выказал характер, и тогда душа ее невольно укрепится.
На Сретенке тускло горели газовые фонари, но обостренно следящий Клавдя уловил в воздухе ту тревогу, что посещает улицу пред предстоящим несчастьем. Тут и там, несмотря на ночное время, слонялись странные фабричные люди в картузах и высоких сапогах, но разворот плеч выдавал в них военных; торчали пролетки с понурыми лихачами; какой-то молодец в котелке и с сигарой похлопывал тростью по афишной тумбе, – наверное, давал знак. И Клавдя предпочел остаться в переулке, затаился в тени, далее отправив Ульянку одну, обещая дождаться.
– Ежели не будут тебя забирывать, – напутствовал он, – то сама навяжись, чтоб заарестовали. А то падет на тебя навет...
Клавде бы уйти подальше от греха, но он с непонятным азартом и дрожью страстного человека упорно дожидался событий. Его била дрожь, он так играл зубами, что слышно было, наверное, за сотню шагов. Он видел, как полиция окружила дом и после первых петухов, часа в три ночи, выбила ворота, вошла в дом. Послышался шум разбиваемых окон, раздался страшный визг, словно резали кого-то, и визг этот долго не смолкал. Свалка была, грохот и шум: брали радельщиков во дворе, на крышах соседних домов, куда они успели попасть через чердак, ловили в садах. Их грузили в пролетки и сразу отвозили. Они причитали, плакали, кто-то грозил Страшным Божьим судом, и тревожный, накаленный голос в ночной улице внушал ужас. Захвачено было 148 человек...
Как тень, по тротуару, прижимаясь к домам, скользил Клавдя. И не было у него жалости к арестованным, но и восторг, который не отпускал душу, был изнуряющ и страшен. Трясущегося, с жалким бледным лицом и проваленными глазами, его бы, пожалуй, никто не узнал в эти минуты. По странному недоразуменью Ульянка шла впереди колонны, на щеке ее кровоточил глубокий царапыш, но маленькие глазки были ясны и веселы. Она несколько раз оборачивалась, и мог бы поклясться Клавдя, что взгляды их встречались. И каждый раз Клавдя прятал голову в плечи и проклинал себя, что тащится следом за процессией... Колонну замыкала Таисья. Она шла в том же самом кучерском армяке, понуря простоволосую голову, и тихий звон вериг провожал ее. Встало солнце, багровое, напряженное, и в утреннем чистом свете эти бредущие, спотыкающиеся люди, в исподнем, в длинных радельных рубашках, выглядели нелепыми и несчастными...
Вскоре из Петербурга приехал миллионщик Николай Солодовников, и дело начало глохнуть. Ермилов, Розанов и Лепехин были взяты на поруки, и дело кончилось тем, что семь оскопленных девок поместили в монастырь, скиталицу Таисью, как беспачпортную, выслали в Березов на вечное поселение (в деревню Спас), а виновница сего происшествия, мещанская девка Ульяна, отчего-то попала в острог и там через два года умерла. Ефимьюшка Капустина скрылась, и ее не могли найти.
Говорили, что это дело «белым голубям» стоило четыреста тысяч...
Часть третья
Глава первая
Очнулся Донат в чулане, худо представляя, где он. Долго приходил в себя, не в силах высвободиться от недавнего бреда: все было как вживе, от таких видений люди скорбеют и плачут. Да и впору бы плакать Донату, как припомнилось, что приключилось с ним. Лучше бы память отшибли. Теперь исправник поизгаляется, спустит шкуру; лучше бы на месте зашибли, голову отняли. Все члены затекли от неловкого лежанья; решил приподняться – всего переняло болью. Хорошо отделали, любо, свычно, знать. Нет, не готов Донат к страданьям, пока неведомы они, и лишь стоит представить, какая участь уготована, так сразу жизнь становится пропащей и лишней... «Не иначе как отмщенье, праведное отмщенье», – подумалось ненароком, но тут же случайная мысль заняла воображенье. Да и в раздумьях время короталось быстрее, и предстоящие страсти казались уготованными по греховности своей. А все законное куда легче переносится, чем неправедное, по ложности, навету иль наущению. Тут душа готова к терпению, душа крепит телеса и не дает отмякнуть, обезволеть жилам. Когда к наказанию-то сердечно готов, то способен хоть какие страсти перенесть.
«Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я, Донат Богошков, творил прелюбодеяние с женою друга, с женою крестового брата, с коим крестами поменялись. Крест поругал, скотина, крест поругал, осрамил. Избыть ли тую скверну? И на жизнь человечью руки вызнял, есть ли больший грех? Вот и поделом, пой лазаря да лежи во гноище, аки гад, и ногой наступить не жаль на мои чресла. Потом как – не завидуй. А я позавидовал крестовому брату, сироте позавидовал. И отмстилось, ибо нет ничего хуже зависти. Мне ль казнить Сумарокова? Он изнасилил девку, не наводя измены на ближних. А я из-за бабьей-то юбки дружбу предал, скотина. Бабье тело заплывчиво, а память забывчива. Поди, уже утешилась с кем: чрево да изба не терпят пустоты. Не-навижу!.. Нет, нет, что я... Господи... какие скверны изрыгаю худым языком своим. Кого насмелился грызти? Тая, Тася, Таиса, прости и помилуй. Помстилось, разум потерял. Кинул вот тебя и нынче вдвое осиротел. Сколько скотинью душу ни отбеливай, она не высветлит. Черного кобеля не отмоешь добела...»
Тут кто-то сенями прошел со свечою, и мгновенным отраженным лучом высветились баклажки, сундуки, кадушки, палагушки, берестяное коробье – то всякое житейское обзаведенье, что временно не у дел. Открылась в гостевую половину дверь, и в щель дощатой загородки, к которой приник Донат, увиделась иная большая комната, как показалось поначалу, полная люду, пьяного граю и мельтешенья. Мелькнула юбка, раздался короткий бабий смех, похожий на всхлип, на пороге, будто ниоткуда, вытаился расхристанный исправник: мундир свешивался с левого плеча. Сумароков скреб белую безволосую грудь и вглядывался в полумрак, словно бы собирался получше рассмотреть пленника. Оказывается, Донат был настолько рядом, что ежели бы не дощатая загородка его темницы, то смог бы, пожалуй, ударить Сумарокова в подколенки. Вот он, преследователь, погонщик, странный человек, случайно застудивший чужую тропу, а теперь вот по наитью иль року неотступно настигающий Доната. Ведь здесь даже, на краю земли, и то пересеклись их жизни: не наваждение ли сие? Донат напрягся взглядом, ему вдруг захотелось получше рассмотреть исправника и оставить его в памяти. Донат поежился от взгляда Сумарокова: глаза у исправника были рсширены, почти без зрачка. Обжечься можно о такие глаза: они никак не совпадали с тщедушной грудью. Донат поразился, сколь невзрачна эта детская, как есть детская, несозревшая грудка, вернее, птичья, кою возможно пронзить оттопыренным пальцем. Глядя с упорством в дощатую загорожу чулана, исправник, не оборачиваясь, крикнул куда-то в комнату:
– С утра штоб свежих лошадей, да пораньше! Слышь, злодей?
Сумароков еще помялся в коридоре, раздумывая, его пошатывало, но вдруг, подняв над головою стоянец со свечою, шагнул к чулану. Загремел засов, открылась дверь. Исправник подслеповато вгляделся в сумрак, среди барахлишка отыскивая пленника. Тот не сдержался и пошевелился, выдал себя. «Бить будут», – подумал отрешенно, с замершим сердцем. Внутри екнуло и опустилось, и стало худо. Ни злости, ни отчаяния, но одну лишь усталость чувствовал Донат. Оставили бы одного, кинули, забыли...
– Опомнился? – засмеялся исправник сладко и ногою слегка коснулся распростертого тела, натуго запеленатого вервями. Донат передернулся весь и застонал, закрывая глаза. – Жди, собака! Грядет день судный, грядет. А сейчас устал я, вымотался за день.
Исправник непритворно, широко зевнул, вытер тыльной стороной ладони заслезившиеся глаза, еще раз оглядел чулан, поведя перед собою свечою, наверное, проверял крепость чулана, и удалился. Скрипнула дверь, и дом замер...
«Оставили бы одного, кинули, забыли», – снова подумалось с отчаянием, и недавняя жизнь в Обдорске в семье Скорнякова почудилась райской. Да и то, затулье обрел, нежданное доброе затулье – и так разум лишился его и не столько из-за чужого промыслу, но и по собственной лихой дурости. И вдруг пересылка вспомнилась нынче сущим адом с ее вонью, теснотой этапных тюрем, кишащих вшою, куда после утомительного перехода надо врываться с боем, чтобы завоевать себе место на нарах, а иначе лежи на затоптанном и заплеванном проходе, подложив под голову кулак; с ее тоскою по свободе, когда каждый шаг натертых кандалами ног в рваных, изопревших котах напоминал тебе о невозвратной родине, ведь не просто так покинул ее, а уходил навечно, навсегда, и хотя ничто вроде бы не держало в родной деревне, – душа-то плакала.
Для Доната, выросшего в иной, праведной и суровой жизни, даже само слово «каторга» вселяло тот суеверный ужас, от которого худо спалось. Куда хошь, ей-ей, хоть в тесную домовину да на погост, только бы не в рудники. Прикуют к тачке, и катай ее, каталь, от зари до зари. И есть-то с нею, и спать, и нужду справить. Так понималось и виделось это проклятое место. Иссохнешь весь, уже и сил недостанет подняться, и, лежа на клоке соломы, завшивленный и чумной, с испитым от голода и тягостей лицом, кожу которого прорежут мертвеющие скулы, беззубый и плешивый, ты медленно подохнешь, как старая бездомная собака...
И не успел забыться Донат в бредовом сне, не успел выплакаться, и сиротская слеза еще не высохла на ресницах, как невдолге где-то послышался дальний украдчивый скрип двери, и весь большой станок, с его многими людьми, и прислугою, и добром, и устало жующими лошадьми, вдруг насторожился и замер: будто легкий сквозняк прошелся переходами и темными углами из двери в дверь. Неотступная, тяжелая, волглая нынешняя ночь навалилась на почтовую станцию, и в тягостной тишине этот непрошеный скрадчивый шаг заставил учащенно забиться Донатово сердце. «Убивать идут, – подумалось сразу. – Потому и крадутся, что тайно кончить хотят. А оправданье сыщут. О ту пору, пока-то дознанье, чего хошь сыщут и отвертются».
Но вместо казаков вошел в клеть маленький человечек в меховом высоком куколе, во всей дорожной справе; он остановился на пороге, затеняя ладонью пламя свечи, еще раз оглянулся в коридор и уже спокойно прикрыл за собой дверь.
– Страстотерпец... несчастный, несчастный, – заговорил он баюкающе. – Лежишь, повапленный... Ежели членам твоим придать хотенье, повинуются ли они твоим устремленьям? – Смотритель Каменев нагнулся и, не медля, ловким движением узкого ножа рассек верви. – Опутали, аки вора. Кабыть не вор? – Он с подозрением обшарил обросшее лицо Доната с глубокими глазницами, в которых не просохла слеза, и эта детская откровенная влага и кротость сухого лица с крутыми скулами успокоили его. – Не тать, не вор, не подорожник. Видит Бог.
Он замолчал, дожидаясь ответа. Разминая затекшие руки, Донат резко попытался сесть, но охнул от боли, прислонился спиной к заиндевевшей стене. Вдруг стало холодно, неудержимая дрожь объяла все тело, и каждый член, затекший от неподвижности, мелко затрясся. Донат стиснул зубы и едва сдержал их клацанье. Он еще не понимал, куда гнет гость, но по меховой ненецкой справе, по долгим тобокам, перевязанным под коленками снурками, уловил, что сряды у гостя далекие. У него вдруг вспыхнула спасительная мысль о свободе, но он тут же и подавил ее. Чиновник, хоть и маленький, разве посмеет пойти супротив закона, лишиться живота и имения своего, обречь себя на лишения и долгую немилость? Это ж иль рассудок вовсе потерять, иль как в Бога уверовать надо. Понимая все, Донат против воли, однако, попросил сдавленно:
Помоги... бежать надо...
– Голубчик ты мой, куда бежать? Зачем бежать? – Лицо Каменева выразило удивление, в нем появилась пугливая отстраненность, признак душевной слабости. Сквозняком тянуло, дрожащее пламя свечи загибалось к выходу, и обличье смотрителя тоже меняло очертанья. Живой ли человек средь ночи явился незваный? Ему-то пошто не спится, блаженному? Благоверную бы в охапку, да и затягивай походную в обе ноздри. – Поймают, словят, они на это востры. Да и плетьми по живому-то и раз, и раз, – стращал смотритель, и меховой куколь забавно подпрыгивал на неровной, острой головенке его. Лешак, как есть лешак явился на соблазн.
Бежать, лётом лететь. Ты слышь, дядя, ты слышь? Лихорадка овладела Донатом. Притираясь спиною, он медленно подползал к выходу, не сводя блестящего взгляда с пришлеца, и глаза его невольно искали что поувесистей, чтобы окрестить гостя, а там в коробьё его, за кадцы – и концы в воду. Чего ждать, чего годить, где она, милость-то, люди Божьи? Рассудите терпящего, покинутого человека. Приперли, распяли к бревенчатой стене на посмешку; да тут и самого-то робкого десятка человек возмутится, подавит робость. Воли хо-чу-у... воли-и... В мыслях Донат уже бежал целиком, проваливаясь в забои, плыл снегами, разгребая его руками, тянулся к синему лесному половодью, в урманы[82] , за хребты, в пеньё и колодины.
– Ты не дёржи, батюшка, дай ходу, мил господин. Ну что я, какой с меня прок, ты не дёржи меня. Батя, спусти, спус-ти-и, слышь. Хошь, в ноги паду, рогозкой расстелюся.
– Голубчик... Помучит он тебя и прогонит, видит Бог. Какой резон с тебя шкуру драть? Суд во вниманье не примет, вины нет. Ни под какое уложенье не подвесть, вот-с. Охолонь, сынок. Побежишь коли, поймают – и в плети, не ровен час и в каторгу, в нору земляную. А на кой тебе? Ну плетей получишь, получишь плетей-то, прохвост. Эко надумал, на государева слугу с вилами. А побежишь – и тебе статья, и мне статья чрез то. За што на меня-то впал в немилость, охальник? Что худого тебе сделал? Окстись...
– Исправник забьет, забьет, дьявол, он не помилует... он даве обещал... он сполнит, – горячечно шептал Донат, не слыша смотрителя. – Тебе худа не будет, вот те крест. Я так устрою, что худа не измыслят. Я под такое подведу, что ты как бы страдалец чрез меня.
– Ой, сынок, што измыслил. Охолонь, батюшко, – уговаривал смотритель, но меж тем постоянно крутил головой и вытирал ладонью морщинистый лоб. – Да и куда побежишь середка зимы? Кто ждет? Кабы ход знать в Беловодье, знатьё бы дак, а? Возле где-то, чую, возле, прямо коли – верст два ста, не боле. А как, а где? Не моего ума. – И наверное, решился, доверился Донату, потому что голос его внезапно переменился, стал строже и суше. – Слышь, братец. Тебе терять нечего, да и мне тоска. Что за жизнь? Коротай, коротай до гробовой доски, ни тебе Божьего Промысла, ни радости сердечной. На свет родился, а все впотемни. Ты веришь в Беловодье? Есть на земле та райская земля, где все духовные братья. Ты брат мой, а я твой...
– Слыхивал что-то, на этапе баяли. Думал, враки... Но кабы враки, Так зачем баять, верно? Но по моим ли грехам туда? Допустят ли?
– А кто не грешник на земле! – шептал смотритель взахлеб, окончательно уверившись и решившись. Но когда наметил путь, ворота за собою затворил, отступного не давай, обратно не колотись, чего понапрасну руки отбивать. Закрой глаза – да и будто в омут. Ниже земли не рухнешь, мать-земля всех примет. – В таком я окончательном и бесповоротном решенье. Надо нам, сынок, оказаться на месте и вовремя, когда небесные трубы возвестят начало тысячелетнего царьства. От обители, с коей знаком бывал, ходу сорок дней с роздыхом через кижскую землю, потом четыре дни ходу в Титанию, там восионское государство. И живут в губе океана-моря. Место, называемое Беловодье и озером Лове, а на нем сто островов. Я неотступно пребывал в мечтаниях и мысленно тот путь прошел. И никаких сомнений, что Беловодье тута. Через старца Паисия ход, чрез его душу, скрозь на скиты и дале, дале, пока пустят...
– А кто пустить должон? – решился перебить Донат, худо соображая, что к чему.
– А кто знает. Был один заповедный ход, но и тот опечатан. От злодея сокрыт. Тот мечется, ловчие сети раскинул, а шиш тебе...
Тут протяжно всхлипнула дверь, зашлепали ватные, сонные ноги, – видно, кто-то попадал сенями по нужде; смотритель споткнулся на полуслове, придавил щепотью пламя свечи и замер, как мышь. У Доната сердце пошло вразнос, и он так с горечью понял, что все рухнуло. Но казак потоптался на крыльце, снова затворилась дверь, и станция погрузилась в тот провальный сон, когда и пушкой не добудишься.
– Отец, время ли про то судачить? Поспешать надо, – взмолился Донат, снова впадая в сомнение. Да и то сказать: время ли для проповедей, время ли для выяснений? Запрягай коня да отворяй ворота и скачи во весь дух, пока не хватились. Но ты, сердешный, слушай, смиряя телесную дрожь, ты напрягись каждою настуженной, задеревенелой жилкой, чтобы нежданно словом каким иль тоном не спугнуть столь робкую нежданную удачу. Возле птица-ряба, голенастая, с рыжеватым подпушьем. Только бы в руки палась она, а там бы живо отеребил да и в шти. Так подумалось Донату об удаче, как о живой, трепетной птице.
– Куда идем-то, оразумей, паренек. Во святое место пойдем, так не дай оплошки, – горячо и путано объяснял смотритель. Поспешать бы самое время, если что задумал, тут каждая минута на счету, а он вот в полной темени отыскал Донатову руку и давай торопливо тискать ладонь холодными, неживыми пальцами. – Слушай, сыне, ты без обиды слушай. Мне ошибиться нельзя. Ты без сроку, без испытанья да ко мне во мнихи. Я бы сам, да куда без спутника. Так не обмани, а? Ты не обмани, ведь прокляну... Во оная последняя всеобщая испытания невозможно единому двоиться, но каждый должен к единой стороне приклониться, кто ко Христу, а кто к антихристу, кто гражданин нового Иерусалима, а кто обитатель озера огненного... Настало время между зваными вечного разделения, из числа коих предстоит выбрать избранных. Чуешь, не?.. Силу мою духовную чуешь? – И снова сжал ледяными пальцами ладонь арестанта.
– Ни хрена не чую. Раздумал и никуда с тобой не пойду, – обиделся Донат, вдруг решив, что его обманывают, водят вокруг пальца. Ничего тут путного не выйдет, с безумным беседы вести, что из пустого в порожнее переливать.
– Как это не пойду? – изумился смотритель, и голос его испуганно вздрогнул.
– Что-то блевать охота...
– Ду-рак, ой и дурак же...
– Аха, сам дурак...
Полаялись в темени подобным образом, но скоро смотритель опомнился, прикусил язык, исчез; он как шиш лесовой просочился сенями, и ни одна дверь не выдала. А Донат опустился спиною на рогозный куль, сторожко прислушиваясь и уже худо веря в недавний больной разговор. Не иначе как поблазнило да и отпустило: бывает такое с несчастными, бывает, если очень занедужится душою...
А смотритель меж тем прощался с женою. Баба упала на грудь благоверному, оросила слезою. Блажной мужичонко, некошной, как тычка черемховая, ну чего взять с него, с блаженного, но сердчишко все одно по нем тоскнет. Каждый раз вот так, надумает вдруг что, поиграется сам с собою, начудит и притихнет на год-другой. Для него забава, а для жены – слезы. Вот злодей взялся, отыскался нетопырь на ее судьбу, вот и варзайся, жалей такого.
– Ну полно, слышь, баба, ты баба! Не поливай дорогу. По льду-то не больно хорошо ехать. Мужики-то не берут, девки голосом ревут.
– Да-а, наревессе с тобой. Мне-то каково, думаешь ли чем, пустоголовый?
Повойник сбился с головы, жидкие волосы, подоткнутые костяным гребнем, осыпались, и зареванное лицо в скудном лампадном свете показалось крохотным, старым и жалким. И смотритель вдруг пронзительно понял, что не вернуться ему в домы, не будет ему обратной дороги и прощенья, и сам заплакал, по-детски завсхлипывал, облизывая усы. Приник головенкой к мягкой бабьей груди, вдавился в родную плоть, впитывая тепло, и так желанно, благословенно проливал слезы. Хотя в голове ни разу не всполошилось сомненье: а так ли творит, ладное ли затеял на старости лет, лишая покоя? А коли решился, человече, так зачем понапрасну тянешь время: вдруг хватятся иль случайная заминка подведет. Но какая может, втайне и был дальний умысел, что вдруг помеха выйдет и опять, успокоив, смирив сердце, можно дальше тянуть жизнь, согревая ее мечтою о иной сладкой и таинственной земле...
– Ты отступись, Александрушко. Право дело, что в голову вбил. Испей царского кореню, глядишь, и оттянет дурость.
Что-то в бабьем голосе царапнуло смотрителя, и он внезапно посуровел, разом подвел черту:
– Ну, все-все... Без меня не балуй. Зажжет коли нетерпежом, так помолись лучше. Смотри, распалилась. Скатаюсь туда-сюда. Как спросят меня, скажи, разбойник, дескать, напал. Скажи, напал варнак на хозяина, голосу лишил и обротал, обезручил, в плен увлек. Поняла, дура? Я маленький, я лядащий, я худой, вот и похитили...
Глава вторая
Всего разговору, всех сборов с полчаса, не более, а Донату почудилось, что ночь уже минула, и вот-вот петух хозяйский побудку грянет. Донат вовсе пал духом, и, когда смотритель вернулся в чулан и позвал шепотом за собою, арестант не удивился и не возрадовался, но с неохотою и ленью повлекся следом. Вытаилось через поветь на волю: сыпал последний мартовский снег, и после чуланной потемни показалось неожиданно светло. От снежной целины и от распахнутого неба лился мерцающий блуждающий свет, отчего сердце Доната вдруг забеспокоилось. Но ему еще худо верилось в удачу, да и слишком много было высказано туманных слов, и Донат с подозрением вглядывался в зыбкую походку смотрителя, пока вел тот на захлевья, часто спотыкаясь о глубокое корытце тропы. Да и самого-то Доната качало, и, поджидая подвоха, он неприметно отстал, сторожко примеряясь к качающемуся пятну фонаря и не отпуская его взглядом.
Смотритель исчез за углом скотской избы, беглец подождал, озираясь, и, решившись, махнув на все рукою, тоже выглянул с опаскою, стережась засады и вроде бы слыша чужое напряженное дыханье, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с провожатым. Смотритель светил фонарем, и какое-то время они оторопели и глупо глядели друг на друга и вдруг заспешили, побежали крутиком вниз, в подугорье, к Оби, где в кустах стояли лошади. Беглецы споро устроились в розвальнях, смотритель кинул Донату нагольный тулуп и поторопил кобыленку. Две свежие запасные лошади бежали следом, спотыкаясь копытом о задок саней, отчего Донат вздрагивал и ошалело озирался, туго соображая, где они и куда попадают. Лишь однажды он спросил у смотрителя: «Догонят?», на что попутчик ответил: «Не догонят, куда им, курощупам». И захихикал, довольно и заливисто. Отчего Донат сразу уверился, не расспрашивая в подробностях, что их и верно не взять. Однако смотритель погонял кобыленку и часто оглядывался на противный берег, пока не одолели Обь и не погрузились в урманы едва заметной сенной дорогой. А снег все сыпал, мерный и неторопливый; он прорастал из ниоткуда с сонным шорохом, заметая лошадей, тяжело груженные розвальни и двух сидельцев, помышляющих о спасении души.
На крохотных таежных чищенках они кормили лошадей, ели всухомятку, что нашлось в дорожных лузанах, и вновь поспешали дальше, меняя друг друга. Донат отлежался и уже чуял в себе прежнее здоровье, а смотритель с каждою верстою синел, словно бы из него дух вон. Он мало говорил и ничего не ел, только, оборачиваясь на прогал лесной дороги, грозил кому-то пальцем и хихикал. Лицо его скоро опаршивело и посеклось глубокими дольными морщинами, а глаза обметало красниной. Но смотритель знал, однако, куда ехал, и ни разу пока не пришлось искать дороги. Вот целина будто бы, разливанное море снегов, куда не ступала нога человека, так откуда бы взяться пути, кто натворил, неизвестный, по какой нужде набил колею? И вся Русь таковая: будто бы неслеженая, нехоженая, полоненная снегами, где свежему человеку потеряться, как в омут головой: но меж тем вся земля наша обжита тропинами и путиками, колеями и тележницами, коих и подорожник и кипрей долго не могут взять, пока хоть одна нога да месит ту горбатую дорогу.
Злодей не торит дороги, он ее боится. След злодея путан и неожидан, и куда там зверю до человечьего коварства.
Зверь не таит своего наброда от чужого глаза, жировая тропа его ведет к водопою иль к житью.
Обычно дорогу вяжет человек добрый, без тайного душевного гнета, хотящий жить долго, плодовито и сытно (только бы не мешали ему), и дорога его стоит на веку ровно столько, пока обитает возле мирный, охочий до работы люд. Дорога – это памятник торителю, долгая, незабвенная память, зовущая живых к усердию. Кулижка ли земли, чищеница ли, новина посреди дремучего лесу иль замысловатая среди кочкарника тропинка – это вехи человечьего житья, зарубки времени и единственно долгие и незамирающие знаки сердечной памяти... Кириллова чищенка, Ананьин мег[83] , Степанидин родник. Может ли большее напоминание по себе оставить человек на земле. Столько же, пожалуй, живут на слуху отъявленные злодейства, дьявольские проказы.
Пространны русские земли, неисчислимы и заповедные дороги. По одной из них попадали двое хожалых. Многие мечтали побывать в Беловодье, да что-то никто пока не хваливался.
В первой же зимовейке пришлось задержаться, и надолго.
Неделю не сыпали по-человечьи. Звериный ночлег под еловым выворотнем не пришелся впору смотрителю. Кабы у нодьи[84] под боком, жарко пылающей до утра, и можно бы перемочься, но большой огонь разводить опасались, варили мучные пустоварные щи на малом жару, заправляли бараньим салом, и только одно желали: как бы попасть в схорон, в надежное затулье, да чтоб крыша над головою, а под боком примост из еловых плах. Чем дальше были от житья, тем более страшился смотритель, ибо прегрешенье его возрастало, а значит, росло и наказанье. Что там ад перед карою исправника? И живое воображенье рисовало Бог знает какие мученья, от коих сердцу впору зайтись и захлебнуться. Не раз и не два в долгом пути повторял смотритель: «Одного злодея хватит на целый свет, чтобы жизнь стала невыносимой». Смотритель запаршивел, губы обметало лихорадкою, и по той тоске, что заселилась в его голубиных глазах, Донат решил окончательно, что надея на вожака худая и надо полагаться на себя. К Донату вернулось прежнее здоровье, и кабы не проклятущие ночи, когда от холода становую кость наоборот вывернет, можно бы жить. С каждой верстою душа его успокаивалась и располагала к долгому пути.
Уж который день дорогу били целиною; снег уже спекался, но пока худо держал, наст обре?зал, искровенил одной кобыле ноги, и ее пришлось бросить на потеху волкам. Смотритель больше не разговаривал, так казалось, что он затаил к Донату ненависть, и на крохотном, с кулачок лице жили лишь мерцающие сумасшедшие глаза. И однажды смотритель показал пальцем в дальний конец седловинки, где маревил редкий березняк, и сказал, что там кабыть будет зимовка. Донат не поверил и спросил лишь из одного желания слышать чужой голос:
– Надо полагать, вам здесь случалося бывать?
– Да нет, не случалося бывать, – ответил смотритель, – но я видел ее во сне.
«Заговаривается», – решил Донат и начал топтать лыжню далее, чтобы следом провести лошадь. Пар подымался над его холщовым кабатом, длинной, по колена рубахой, а в черных разводах спина уж давно не просыхала от пота. Ответ смотрителя смутил Доната и вызвал лишь раздражение. Он вернулся к саням, дернул, натянул на плечо вожжи, выворачивая лошади морду, – скотина уросила, скалила молодые зубы и стонала той внутренней болью, которая непонятным образом передается человечьему сердцу. Донат видел, как тяжело животине, и от этого еще более злобился и, не сдерживая кулака, несколько раз ткнул лошади в губы, выбивая из них сукровицу. И каждый раз, будто случайно, из-за лошадиной головы он схватывал взглядом крохотную фигурку смотрителя, закутавшегося в медвежью полость и гулко, до слезы, бухающего в заиндевелую шерсть. «Хоть бы встал да и помог, байбак, – думал Донат и ненавидел спутника все навязчивей и сильнее. – Закоим и поперся, собака. Только меня смутил да на изгон погнал».
И верно, у края ви?ски[85] , где начиналось таежное озерцо, стояла охотничья избенка, более похожая на звериное логово. Смотритель пытался встать, но заплелся ногами и пал лицом в снег, высек искру из глаз, руки проткнулись скьозь наст; как младенец, Каменев беспомощно лежал, надеясь тут же и умереть. Он и не пытался встать, не бился рыбою об лед, а распластался, как меховая кукла, и Донат, разнуздывая лошадь и насыпав ей из последнего овса, с любопытством наблюдал за провожатым. Вместо жалости он услышал в груди отвращенье и испугался этого. Солнце слепило, отражалось от наста, снег сиял и вспыхивал, располосованный синими тенями. И Донат не столько устыдился недавним жестоким мыслям, как вдруг в этот благостный день испугался грядущей одинокой смерти. Счастлив тот, кто отходит в окружении близких; но каково помирать, как шелудивой собаке, в собственных нечистотах? Грядущее одиночество так болезненно почувствовалось, что Донат тихонько вскрикнул и поспешил к распластанному смотрителю. Вы?ходить надо провожатого, вы?ходить, хоть из кожи вон... Каменев был ровно без чувств, знать, сомлел, задохся, он оказался таким легким, почти пустым, изжитым, и всего весу в нем, пожалуй, что тулупец с детского плеча. Донат без усилий снес смотрителя в зимовейку и принялся не медля калить каменицу, небрежно накиданную в углу из лесных валунов...
И вот они зажились в случайной избушке, крытой дерном, больше похожей на нору, где Донату впору ползать. Смотритель, однако, скоро ожил, стал выбираться на волю; желудок уже принимал выть и не срыгивал. Поправка радовала смотрителя, и он еще усерднее молился. Какой день укрывались в зимовейке, они счету не вели, все спутала берложная жизнь; но не ведали беглецы того, что сидением этим случайным и спаслися.
Исправник Сумароков обложил все ведомые ему дороги и страннические путики, поставил разъезды под Березовом, перекрыл дороги на Обдорск и Сургут, послал рапорт военному губернатору в Красноярск, где докладывал о намерении поймать опасных государственных преступников, бежавших из-под стражи, и молил о помощи.
Меж тем ограбленный и оскорбленный купец Скорняков отправился в Енисейск, чтобы принесть жалобу окружному начальнику, но был схвачен казаком Черкашиным и доставлен в Березов. Сумароков засадил его в нетопленную тюрьму и освободил не прежде, как получил от Скорнякова подписку за скрепою многих свидетелей-казаков, что якобы он, Скорняков, за взятые вещи получил от исправника наличные деньги и что он, Скорняков, ни в чем претензии не имеет. Получив такую бумагу, исправник отослал купца обратно в Обдорск со словами: дескать, благодари да низко кланяйся мне, что оставляю в Обдорске на жительстве, а не отослал куда подалее в ссылку на поселение с лишением всех прав состояния. «Бог высоко, царь далеко, куда кинешься с мольбами?» – только развел Скорняков руками, да и подался к дому. Возвращался Скорняков в домы свои, еще не помышляя, что жена преставилась, а скоро и ему следом собираться...
Был Донат в черном полукафтанье с жилетом и красной атласной рубахе: в чем оказался в застолье в час незваного гостя, с тем и в полон угодил и в этой же сряде ринулся в бега. Рубаха лоснилась ныне от сажи, рукава кафтана блестели, обтрепались, будто с собакой возился. Тело скорбело, томилось; не удержавшись, нагрел воды в медном котле, из бересты сшил палагушку с низкими бортами да черпак, нажарил избушку – и, как мог, намылся, со стоном исцарапав себя всего, куда руки хватали. Не от грязи же так чесалось тело? Подумал, что от долгого расстройства. Вожатай мыться отказался, с любопытством из переднего угла рассматривал заматерелое Донатово тело, любуясь им и завидуя. Донату отчего-то был неприятен этот взгляд, и он накинул на себя баранью шубу, с тоскою рассматривая одежду. Впервые такую справил, как купеческий сын расхаживал, а по-худому с ней обошелся. Он уже не вспоминал, из какой нужды вырвался на волю и что поджидало его: все прошлое было в дальнем сне, потому и благодарности к спасителю он не чувствовал. «Зажились, – думал он, – зажились. Пора бы куда-то и прибыть». Он не знал, куда ведет Каменев, но по наивному размышлению полагал, что будущая жизнь ему будет впору. Если уж смотритель сорвался с насиженного места, бросил жену, службу, ведь как-никак в господах хаживал; такой человек, поди, зря-то не кинется на край света сломя голову.
Наверное, что-то во взгляде Донага не понравилось Каменеву, и он усмехнулся заросшим лицом, жалея парня и прощая его. Он прочитал мысли спутника и сам поразился тому, как выглядел их в чужой молодой голове. Поразился и сам себя похвалил. «Невидный я, конечное дело, мужичонко, не тот табак. Но завлек этого парня, завлек да и утянул. Ай да и я, муха в перьях. Знать, у меня дух особого свойства, геройский дух. А вот он, – подумал про Доната, забыв снять с него взгляд, – сам телом большой, а душой с воробья. Куда ему до меня тягаться? – так подумал Каменев, но, уловив в своих размышлениях излишнюю гордыню, тут же и осек себя: – Так дело не пойдет. Каждое дерево из тычки зеленой. А ты не скупись на ласковое слово, возлелей, выпестуй – и воздастся...»
– Думаешь, как бы я подох скорее да руки развязать? – спросил Каменев нарочито грубо. И по тому, как вскинул Донат голову, как вздрогнули крупные губы, понял, что угадал, попал в точку. Ну что ж, горестно упрекнул себя: возблагодарить – уметь надо. Легко забыть доброту, да трудно несть не расплескивая. А тебе, Александр Петрович, и вовсе негоже кичиться. О доброте не кричат, а кто крикнет, тому самый тяжелый грех в послужной список. – Топор-то возьми да и по виску...
– Никак нельзя... Мне без вас пропасть... Живите...
– Ну, слава-те Богу, разрешил, значит. Я вот только что сам себя пожалел и вздохнул. И тебя пожалел и тоже вздохнул. А ты меня просто как болезного человека и неуж не пожалеешь?
Донат промолчал, низко склонившись к челу каменицы и мешая уголья. По высокому, с ранними залысинами лбу пробежал розовый отблеск пламени, нижняя часть лица казалась тяжелой, угрюмой, чужой. И снова с упреком подумал Каменев: «Зря дразнюся. И что мне не лежится? Лежи да полеживай». Он закрыл глаза и тут же неожиданно всхрапнул, забылся на минуту, а открыл глаза уже иным человеком, свежим и ясным. Чтобы замять недавнюю неловкость, повинился:
– Прости... Это шерсть на душе растет. Стричь пора... Ты, Доня, отныне бродяга. Ни вида на жительство, ни другой какой бумаги. Ты будто и не живешь. Как дальше-то – решил?
– Как Бог даст. Бог не выдаст, свинья не съест, – с решительным вызовом отозвался Донат, чем весьма понравился спутнику. – В твою землю иду. Там-то куда с видом. Там-то небось без бумаг?
– Без бумаг, – согласился Каменев. – На всей земле, поди, единое место без печатей штоб. Там все по лицу читают, чей да откуда. Но пока-то как? Дойти надо.
Донат пожал плечами. Что он мог ответить, человек без родины, круговой сирота: ни любви, ни притулья. Все выжглось, испепелилось, осталось зольное пятно. Взрастет ли что на нем, посеется ли? Возможно ли так, чтобы все прошлое забыть, а заживаться заново. Двадцати пяти годков не жаль, отсеку, как хлебную краюху, только чтобы рядом тата, матушка, Таиса, земля отчая.
Каменев стоял в углу, жевал губы, решался на что-то.
Потом со вздохом пошарился за пазухой, достал кожаный кисет из-под табаку, просунул руку, на коленях долго разглаживался лист пергамента.
– На вот мой... По моему пачпорту тебе везде ход.
– Сам-то как?
– Мне не надо. Чую, что и не надо. Иди, иди сюда, благословлю. – Достал с груди нательный крест, выставил перед собою, как бы ограждаясь от ворога. – Хоть и не по чину... целуй, сын мой. Не по чину, да по чести.
Донат с необыкновенной охотою поцеловал крест и почувствовал неожиданное облегчение. Он вроде бы тайно загадал на что-то смутное, бессловесное, о чем давно мечталось, и это желание отныне должно было обязательно свершиться. В порыве любви Донат вдруг поцеловал морщинистую руку смотрителя. Смотритель вспыхнул, выпрямился деревянно, и глаза остекленели от близкой слезы.
– А здорово это... учителем быть. Ах как здорово. Вот будто пламенем просквозило. А мне уж все, не бывать. Ну зачем я так? Ах, зачем я так? – сокрушенно всплеснул Каменев слабосильными ручонками и заметался взглядом по зимовейке, наверное овладевая собою. Но собрав дух свой в горсти, грудным густым голосом, в коем не было и намека на недавнюю слабость, зарокотал: – Читай, сын мой... Читать-то сможешь внятно?
Донат кивнул головою. Ему стало радостно и хотелось угодить.
– Ну и ладно... только внятно... не бежи по словам-то, не спеши, вспотеешь. Слова не тем запахнут. Чтоб отозвалось, тут отозвалось. – Смотритель постучал себя по груди и закашлялся. – Все о себе я, все о себе. Гордыня? Да-с, гордыня печет-с. Почто все о себе-то, а? Старый, а не смирился. Почто не смирюся? Негодяй и подлец, одно слово.
Донат отступил к порогу, распахнул настежь дверь, кушную избенку залил апрельский свет. Донат не особенно славно умел читать, в свое время ленился постигать грамоту у поморского начетчика.
– Паспорт раскольника, – прочитал он нараспев.
– Воистину пачпорт, без печатей антихристовых, но перед Богом свидетельствует за нас и не оставит без призора. Ну читай, сынок, читай...
Донат прочел написанное, повертел бумагу, зачем-то заглянул с обратной стороны.
– А от кого паспорт выдан? – спросил с недоверием, еще не зная, как отнестись к памятке.
– Что худо читал? Иль не дошло до ума-то? – протянул смотритель с растяжкою, слабо улыбаясь. – Клади в кошель, братец, да прячь подале и храни до могилы, до самого домика, пока крышей не закроют. – И снова замолчал, отсутствующе глядел куда-то в потолок, жевал губами и неожиданно сказал: – Меня-то не предашь? Не умножишь грех свой? Может, и зазря я тебя влеку.
Такое недоверие поначалу сбило Доната с толку, а гнев – худой советчик.
– Продам, пошто не продам-то? – выкрикнул визгливо. – За алтын продам абы за два. За такого пустозвона больше не кинут. – Поутих так же резко, визгливый голос самому показался противным и неискренним. Собственно, а что бы горячиться? Спасителю бы в ноги пасть, а ты уросишь. Доня, Доня, нет для тебя науки. Словно бы материн укор донесся. Но еще борясь с норовом, Донат вощеной бумагою полоснул перед лицом наотмашь, будто намерился выбросить ее, но тут же неторопливо, наверное усмиряя себя, свернул раскольничий паспорт вчетверо, положил в кожаный кошель и сунул за пазуху. – Пусть преет, а тебе не верну. Может, куда и выкину, коли приспичит, а дареное не посмеешь взять.
– Эх, дитя ты, дитя, – не осердившись, с растяжкою сказал смотритель, невольно любуясь молодым мужиком. – Ты пока в Бога худо веруешь, ибо в гордыню свою веруешь. Ты вот, сынок, крестового брата обманул. Крестового брата обмануть грех ой большой, это что брата родного предать. А быват и хуже. Ты крест обманул, ближнего в несчастья ввел и его самого на грех толкнул. А кабы встренулись вы да ружье на ружье? А? Как тогда? И опять новый грех. И есть ли ему конец? Нету... Из-за бабы смотри куда вышло. Баба что гриб: цветет, пока пора. Так за что предал дружбу свою? Дитя ты, дитя... За гриб ведь. За лешеву еду.
– Зря доверился. Теперь будешь попрекать...
– И буду, и буду. До той поры, пока сам себя изводить не станешь да к Богу лицом не поворотишься. Гордыню-то выжечь, сколько биться с собою надо? Всю жизнь положить – и не хватит.
– Мы ведь любили, – неуверенно попробовал оправдаться Донат.
До сей поры мыслилось, что он страдалец; но вот нынче почти уверовал, что это из-за него сплошные страданья. Еще и не жил вроде, а уж сколько насеял несчастий, скольких ввел в напасть и грех. Так любовь ли то была иль гордыня правила его сердцем? Прав вожатай, прав, он сквозь зрит.
И смотритель действительно уловил перемену по согбенности виноватых плеч, столь несвойственной Донату, и по той нервности чутких пальцев, коими он обегал пуговицы жилета, проверял их на крепость.
– Они любили, – ворчливо перебил смотритель. – Ха-ха, они любили. – Он уже не боялся надоесть нравоучениями, ибо наступает в любой человечьей душе такая пора, когда каждое слово падает как всхожее семя. Вот тут-то можно и дурнину насеять, но можно и хлеба! – Ведь кто чего любит, Донат Калинов сын: кто вино, кто деньги, а кто и чужую кровушку. Выходит, за любовь, коли припрет невмочь, можно и татку с мамкой пырнуть? – черкнул ладонью по шее. – Молчи, молчи, парень. А куды заветы предков наших? Сказано, не возлюби жену ближнего своего. И заповеди долой? – Смотритель ткнул в Доната пальцем. Сидел в углу на примосте, подобрав под себя ноги, личико с кулачок, до глаз поросшее разномастной шерстью: но ведь проповедник сидел, учитель, откуда что и взялось вдруг. – Дедово слово нерушимо должно стоять вовеки, скрепленное истинной верой. А ныне как: что ни мужик – то вера, что ни баба – согласие. Воистину иное время, иные и люди... Молчи да слушай, молодец! Мчат куда-то без царя в голове. Землю, жену, детей давай побоку. Ну их! А заветы родителей наших? Иль без них уже научились жить? Научились, как же.
– Красно баете, Александр Петрович, приятно слышать, как гудаете, будто на сопелке волыните. Мне-то не дают, меня на изгон гонят, а вам-то пошто не жить? Вам-то кто мешает? Ноете, ноете, и чрез вас к нам боль. И мы болеем через то, и в нас ветер. Вот и несет. У вас по словам все не так, как по делу. По делу-то все наоборот. Куда вас-то несет, куда? Вот и нас несет. Жить бы, ан нечем!
– Ты-то хоть не суди, злодей! Потому и не живу, что антихрист замучил. Извел антихрист. Повадился из месяца в месяц, как гость, ко мне на станок и ну всякие штуковины надо мною. Тут и не об том задумаешься, как бы петлю волосяную на шею. А ты ему, выходит, потатчик, как есть наипервейший друзьяк.
– Да ну тебя, заплелся-изоврался, – отмахнулся Донат, уставши от разговора.
– Вот те и ну: калачи гну, а коренья ем...
– Долго ли протянешь на кореньях-то.
Глава третья
На носу Еремей-запрягальник, пашни о?рать самое время, а тут засиделись. Как распустятся снега, да поплывут дороги, да тронутся реки, далеко ли уйдешь. Ознобилось сердце от одной лишь мысли, что здесь, в зимовейке, и придется кончить последние деньки. Бежать надо, торопиться, поспевать по последнему насту, пока жеребятники, морозные утренники, куют землю. Вот как есть бросил бы вожата?я да и сам бы кинулся в ту неведомую землю. Все знают, что есть она, да поди изыщи. От обители Паисия еще ходу сорок дней с роздыхом через кижскую землю, потом четыре дни ходу в Титанию до озера Лове... Может, безумец, может, давно умом тронулся Каменев и в своем-то безумии Бог знает куда торит дорогу? Может, все по-иному видится ему в больной голове? Да нет, кажись, болтает здраво. Иное и с умыслом вроде, но по уму.
Не раз и не два средь ночи проснется Донат, сядет на примост, обратясь к вожата?ю, и в лунном свете долго, упорно смотрит на скрюченного в углу человечка, похожего на тряпочный куль; и в скудном свете, едва сочащемся сквозь бычий пузырь, чудится Донату, что и вожатай тоже не спит, а глядит лихорадочными блестящими глазами и корчит разные жуткие рожи. Склонится Донат к смотрителю, чтобы убедиться, и с облегчением услышит бесплотный храпоток его и увидит сомкнутые очи с крупными птичьими веками. «Спит вот, как дитя, и спит», – вдруг пожалеет Донат и, по-стариковски пристанывая, нешумно повалится на спину, чтобы так вот маяться до утра...
Но пришел день, когда Каменев засуетился, заспешил: пора, дескать, медлить нельзя. Сейчас бежи по насту на все четыре стороны света, и дорог не надо. Последняя лошадь дальше была в тягость, да и в зимовейке оставлять ее без нужды, потому зарезали скотинку, отсадили окороков пуда на два, загрузили чунки[86] всяким путевым скарбом. Как принято, посидели перед сиротским путем, поды?хали, еще раз прощально оглядели избенку, не забыли ли чего. Дерн над головой уже отпотел и сочился. Пора, птицы зовут...
Впряглись в санки, долгие полозья окованы железом. Нет, не глуп, не безумен смотритель, все предусмотрел для дальней дороги. И вот сейчас, расправивши тягловую лямку на плече, Каменев сказал вдруг:
– Твой сосуд пока пуст. Его заполнить надо. Но ты не горюй, – он утешил Доната, с ласковой кротостью оглядывая его заветренное лицо с крутыми скульями. – Ты не горюй, парень, отец Паисий заполнит. Он нальет духу в тебя.
И они побежали, и побежали еще двое ден, будто гнались за ними. Да и то гнались: весна поджимала, наступала на пятки, и под Березовом казачьи заставы ждали, когда подсохнут, подвялятся дороги, чтобы той порой навалиться на скрытников и погнать их на свет из диких мест. Где-то у костерка падут скитальцы, похлебают горяченького, худо проваренной сладкой конины покусают, свернутся корчижкой подле огня, хватят немного сна, будто водой родниковой омоются, – и снова на ногах.
На третью ночь долго скитались по раде, по редколесью, тут снег худо держал, ползли на животе, раздирая в пахах ноги: Каменеву, низкорослому, худотелому, и вовсе тяжко пришлось. Его задышка взяла, и сердце шло вразнос. Порой падет на спину и лежит, глядя в пространное небо, полное сверкающих звезд; а сердце хлюпает, не остановить, и воздуху не хватить полной грудью, и такое желание в смотрителе, что вот бы не встал более – лопнуло бы сердчишко, взорвалось, и полетела бы душа сизым голубем на волю вольную. Да ведь напарник не даст помереть: ты чуть ослабился, пластаясь в снежном забое, как слышишь, будто зверь, возвращается назад Донат, и крупитчатый спекшийся наст с громом лопается под его медвежьим телом. И досада на него вспыхнет, до слез вдруг жалко себя. И чего лезет? Чего притыкается до его души? Оставь, сердешный, сделай милость, поди своею дорогой. И только разжалобишь себя, а он уж подле, кричит без всякой ласки, дескать, чего разлегся, боров этакий, а сам меж тем, уцепив за полу армяка, тащит за собою, как куль с мукой, пока не взмолишься: «Донатушка, сделай милость. Худо мне, ой как худо». Думали, не вылезть, не одолеть край леса, но под утро вытянулись на взглавье великаньего болота; оно блестело, покрытое льдом, искрилось, и сквозь него, прободнувшись, шуршали на ветру кустышки гусиной травы. И далеко-далеко маревил, зыбился едва ощутимый лес. Казалось, что не елань[87] подъята над чарусами[88] , но послед огромной грозовой тучи расплылся по закрайке неба и сейчас тихо парусит в иные дали.
На открытом месте неожиданно подхватил тугой ветер, такой дуян расплескался на пустолесье, да со снежным зарядом, что сразу насквозь прохватило сопревших скитальцев. За санки укрылись, чтоб переждать, отдохнули в затулье, вглядываясь в ту желанную сторону, где ждала воля.
– Вот там отец Паисий встренет, ободрит и проводит. – Каменев взмахнул в сторону елани. – Болото минуем да борок еловый – и у места, у тещи в гостях. И у места, да-а, коли Бог пособит. Слава те, слава те. Уж все, кажись, никаких препон не предвидится.
Смотритель истово перекрестился. Донат наблюдал вожатая искоса, и ему стало жаль бывшего чиновника. Не по нему тягость, не по его натуре. Лицо его казалось острее ножа, и сейчас, ознобленное, синее, было особенно жалким под странным меховым куколем, поверх которого под бороду пропущен грязный утиральник. Собачий, звериный лик выглядывал из полотенца, как из норы, что мало напоминало бывшего чиновника. Но если бы Донат мог глянуть на себя, почерневшего, с сухим отстраненным взглядом, то, пожалуй, не поразился бы наружности Каменева. И сам не красавец, не-е, будто от собак отбивался, да едва ушел. Вожатай, однако, как-то скоро ожил, но был дерганый, беспричинно хлопал себя по ляжкам, по груди, вскакивал, подпрыгивая, проверял наст на крепость и радовался, что он держит тело, и тут же вновь хоронился за скарб, жался к Донату, ища обороны.
– Сейчас по льду-то как по зеркальцу. Кабы не лед, еще сутки-двое, поди, топать... Прибыли, братец. И не верили, а прибыли.
– Пошто не верили? Я верил...
– А я не-е... Двое раз бывал, так то в молодых летах. Водили, да-с, водили святые люди. Думалось, теперича самому не найти-с. Куда, думалось, мне, воробью, до Мономаховой шапки? Утону-с... По одежке протягивай ножки. А одежа-то возьми и окажись впору. В самый раз пришлась.
Каменеву не терпелось испытать болото, и он раза два прокатился по льду, цепляя изношенными тобоками за мелкое настывшее крошево. И Донат тоже повеселел, наблюдая за провожатым, и короткая тревога, отчего-то потревожившая его сердце, тут же улетучилась. Донат уверовал вдруг, что стоит дойти до Паисия, как там сами собой распахнутся врата в обетованную землю. Пройден предел несчастий, пережит; отныне благость должна явиться, долгая радость сменит. «Если приветят, поживу у них сколько-то на Беловодье, но надоедать не стану, чужого не объем, сам с рукам», – туманно подумалось.
– Трогаем, что ли? – вывел из раздумья Каменев. Он уже впрягся в лямку и сейчас разбирал ее на плече. Снежный заряд, набив лицо, столь же неожиданно кончился, и голубая прозрачная земля открылась радостному взгляду. И одновременно они подумали: «Господи, как хорошо-то!»
– Может, краем? Мало ли что? – легко усомнился Донат.
– А что мало ли? Что может? Вон жеребятник... до костей шпарит.
И, подталкиваемые ветром, скитальцы легко заскользили по болоту. Подкованные санки опережали спутников, они казались неожиданно легкими, их заносило порою и круто разворачивало вдруг.
– Вот так бы всегда... дорожка-то в рай прямиком, – весело воскликнул Каменев и заспешил, лихо подергивая санки.
И в тот же миг Каменева не стало. Ни треска не послышалось, ни безумного вскрика, ни долгого ледяного скрипа разламывающейся пласти, но там, где только что стоял человек, вдруг тонкий, как слюда, лед желтовато вспыхнул и встал торчком. Змеистая черная трещина, легко шурша, пробежала к ногам Доната. Его застолбило, будто прибило ко льду, ноги стали чужими, ватными, но грозная молонья, напугав, споткнулась в аршине от Донатовых поршней.
– Я сейчас, ты погодь, – помертвело прошептал Донат, потерянно озираясь вокруг. Но ни кустика возле, ни иной державы какой, чтобы протянуть гибнущему.
Путаясь и ломая ногти, Донат торопливо размотал кушак и, осекаясь топором, пробовал ступить навстречу страдальцу. Лед, было вставший торчком, успокоился, потом показались руки, необыкновенно черные на ослепительном льду, появилась крохотная головенка с налипшими волосиками, с которых стекала вода. «Господи, не сон ли?» – подумалось Донату. Тут лед вновь стал прогибаться подобьем громадной стеклянной чары, и Доната невольно повлекло к зияющему иордану. Санки, провалившись, тянули Каменева в корчагу, ноги опутало жидким мохом, и, наверное, больших сил стоило смотрителю, чтобы, задирая круто лицо, еще держаться на поверхности. Что-то внизу чавкало, поуркивало, и Донату казалось, что огромный придонный зверь втягивает вожата?я в жадную пасть. Кожаная лямка, до сей поры надежно лежавшая на плече, сейчас соскользнула к горлу и медленно, но неуклонно душила человека, ломая ему шею.
Донат растерялся поначалу, но мужицким умом тут же и понял всю тяжесть положения, увидел всю бесполезность усилий. Только частыми подсечками топора он еще удерживался на скользкой пласти, но казалось, еще мгновение, и его самого легко и охотно поглотят чаруса. Черная дыра, ведущая в сердце земли, упорно требовала жертвы.
– Ты погоди, только не ерестись! – однако кричал Донат, но не двигался и лишь не отрываясь смотрел в меловое, неожиданно спокойное лицо смотрителя.
Откуда было знать Донату, что отныне и до самого смертного часу будет вставать в памяти, как в черной дубовой раме, это обреченное, заголубевшее лицо, уже отжившее, отлетевшее куда-то, с опустевшим взглядом, закинутым в поднебесье. Донату было страшно покидать своего спасителя, уходить, не сделав ничего в помощь, и он медлил, неведомо чего ожидая на краю собственной гибели. Лед потрескивал, поуркивал, разламывался, торчком погружался в тряс. Не раздайся голос Каменева, еще неизвестно бы, как распорядилась судьба с мужиком. Не то очарование какое настигло, не то соблазн близкой, такой легкой смерти кружил Донатову голову, и он, не отрываясь, судорожно глотая, вглядывался в умиротворенное, просветленное лицо Каменева.
– Ты стой, сынок... Богом молю... не подходи, – с тягостью в полузадушенном горле остерег Каменев. И добавил еще: – Поклон всем нашим, поклон. Пусть живут сердешные... радуются.
И Каменев, сдавшись властной силе иль решившись совсем, разжал окоченевшие пальцы. Ладони вяло соскользнули, и в тот же миг смотрителя не стало. А Донат, подсекаясь топором, едва выбрался из хрустальной чаши, словно в рай попадал по ледяному склону, обдирая ногти. И уже под берегом, поднявшись на ноги, Донат часто оборачивался с тоскою на парящий провал, издали так похожий на черного распластанного паука с желтым расплывчатым глазом.
Глава четвертая
В село Спас Донат вошел в самую Пасху, в солнечный светлый полдень, голубой с желтым, слепяще праздничный и настолько осиянный, что от воздуха и снега слепило глаза. Но не ведал скиталец, что уже в полночь ему придется покинуть недолгий постой.
... В те же минуты на заимку Кушеватово по дороге от Березова в кибитке с фартуком, в сопровождении казачьей команды въехал окружной исправник Сумароков. В пути ему не повезло. Пока дремал Сумароков, сморенный попажей, распустеха ямщик погнал лошадей через лесную речку, по наледице, по распустившейся поверх воде, и угодил в промоину, едва выволоклись на сухое. Оттого и остановились в Кушеватове, в шести верстах от Спаса. Исправник был зол, приказал принести походный сундучок, где в последний год возил с собою особую плеть с толстой черемховой рукоятью с залитым в оголовок свинцовым печатком, с тремя хвостами сыромятной кожи, сходящими на нет, концы которых были завязаны узлами, чтобы секли сердитей. Хвосты эти вымачивали каждый раз в кислом молоке полсуток, а после просушивали, чтобы кожа не теряла достойной упругой жесткости и не мочалилась, не исходила пеною. Вот принесли этот сундучок, ямщика же разложили на лавке, не мешкая, один казак сел на голову, второй же ловко задрал рубаху, спустил исподники и заголил филейные места. Ямщик покорно пластался на лавке, положив голову набок и задрав пегую бороденку. Он прикусил пестрый ус, и левый глаз его, посеченный кровяной жилкой, мертво и покорно выкатился. Урядник, козырнув от усердия, спросил, дескать, как прикажете-с лупцевать: с пощадой, дескать, с легкостью, нещадно, с жесточью иль без милосердия.
– Катай его, нечестивца, без милосердия, – выбранился Сумароков.
Его переодели в сухое, но он не мог освободиться от тряса, и даже сладенькая французская водка из плоской походной серебряной фляги не спасала.
– Катай его, преступника! – уже выкрикнул неистовым голосом и побледнел, как случалось при виде чужой крови.
Сам урядник с подскоком хлестнул ямщика, тот взвыл, и из глаз сама собою выпала красная слеза. Но Сумарокову что-то не занравилось, три жгута, рассекших кожу, показались щадящими, милосердными. И что не случалось прежде, исправник выдернул плеть и, отошедши шага на три, вздохнул глубже, подхватился спешно, торопясь, мелкими шагами, и с такого налету хлестко, с подсечкою, с грудным хеканьем потянул ямщика. Три жгута легли вровень с прежними, Сумароков даже удивился тайно ловкости удара. Ямщик дернулся и затих, знать, сморило сердце. Слаб оказался мужичонка. Кровь сбрызнула и потекла от хребтины вниз к впалому, худому животу. Исправника сладко подтошнило, скружило голову слегка, поволокою призавесило глаза, и сквозь студень на зрачках он с неведомым ранее упорством и любопытством вгляделся в потеки густой, почти черной крови. И не страшно ведь было, черт возьми, ничуть не страшно. Как бы хмельного чару разом выпил, – такое явилось чувство. И прежней досады как не бывало, но горделивость сердца и крепость собственной натуры уловил Сумароков и восхитился сам собою. Он оглянулся, глаза его, оказывается, налились кровью и были почти безумны. Заново пробуя руку, исправник еще раз подбежал суетливо и ударил плетью. Но настороженным, необычно чутким, ревнивым ухом он разобрал позади себя глухой ропот, – дескать, до смерти забьет, – и этого тихого остережения хватило, чтобы прийти в чувство и разумение. На третьем разу ровно кто подхватил руку Сумарокова на самом замахе и удержал; исправник потряс плетью над головою и с кривой ухмылкой кинул ее в угол.
– Приведите в сознание собаку и дайте выпить, – приказал уряднику, а сам отвернулся к окну. За ним, почти вровень с подоконьями, зыбились пронзительно чистые, девственные снега, присыпанные желтой солнечной пыльцою. Сумароков ухмыльнулся застывшим лицом, отчего-то боясь обернуться. Может, что-то особое отпечаталось на обличье, кто знает? Может, кровь свернулась в зрачках? Он слышал, как позади суетилась казачья команда, выносили ямщика в другую избу отхаживать там. Исправника всего трясло, и он не мог унять возбужденья. Он тер бледные ладони, а после с усильем сцепил пальцы и потянул их до хруста.
До Спаса, куда направлялась казачья команда, оставалось верст шесть, и Сумароков только сейчас решил, что в село лучше въехать в потемки, где их встретит соглядатай и проведет к месту...
На краю села Донат неожиданно растерялся: раньше он и поверить не мог, что доберется до людей, а сейчас, достигнув жилья и покоя, он услышал от неведомых изб угрозу себе. Село стояло вольно, дугою, о край озера, и темный лес позади него, откуда только что явился Донат, выглядел мрачной крепостной стеною. Церковка с зелеными куполами, высокие заплоты с навесями снега, кухта на крышах, готовая свалиться, толстая, ноздреватая, взошедшая, как опара, в застрехах жидкой синевы тени, сажные вытайки вокруг дымников. Все как в доме родимом. Боже, как хорошо-то средь людей. Цветущий праздник стоял в воздухе и неслышно вливался в грудь, растопляя сердце. Донат на миг забыл об угрозах, с тоскою разглядел себя, раздерганного, расхристанного, с опухшими багровыми пальцами и ноющим лицом, с коего шкура сползла лафтаками. Только сейчас он почуял, как устал, и, зажмурив больные, обметанные красниной глаза, глубоко вдохнул сытые запахи, предчувствуя благословенный покой. Но не успел Донат затворить уличные ворота на въезде, как под ноги выметнулась сучонка и принялась норовисто облаивать матерого, оборванного мужичонку, похожего на лесового зверя. От него и пахло-то зверем, по?том, грязью и кровью; как хотелось облизать и опробовать этого пришельца. Сучонка приструнивала гостя и остерегалась его, призывая на помощь хозяина. Но разве дозовешься того? Он уже разговелся винцом, отпробовал куличика и пасхи, и супу из сохачьей ляжки, а сейчас жарко грезил на полатях, готовый сладко забыться хоть на часок.
Собака донимала, и Донат, проваливаясь в стеклянные сугробы худыми сапожонками, и без того-то бессилый, едва отступил за заплот. Он прижался лбом к отпотевшей стене, не чуя стылости, и закрыл глаза. Голову вскружило, и мужика плавно повлекло куда-то, качнуло, он едва удержался на ногах. Гонимому мирная, сытая жизнь неведома, он весь в тоске и страхе, его шкура обросла невидимой звериной шерстью и задубела настолько, что не боится ослопа[89] : он настолько свыкается со своею судьбиной, что иной и не представляет ее. У гонимого злоба не от характера его, но от затейливой препоганенькой судьбы.
Сучонка устала, равнодушно зевнула, отработав назначенный урок, и поплелась улицей, виляя хвостом. Донат выглянул, провожая взглядом животинку, и тут невдали увидел внезапно вынырнувшего из ниоткуда странного человека. Не купчину, не богатого мужика, не прасола и не юродивого... По одежде он был, пожалуй, цыган, но откуда в сих местах взяться цыгану? Донат еще не мог понять, в чем необыкновенность прохожего, но сразу уверился, что пугаться его не стоит. Одеждою, срядом своим встречный был столь необыкновенен, что Донат невольно улыбнулся больными губами. Мужик был в дорожном распашном тулупе до пят, на два раза опоясанный красным кушаком, в серых валяных сапогах; в руке – толстый, до блеска обглаженный посох с набалдашником и железною пикой на конце, овершье посоха доходило до плеча; на голове широкий, блином, картуз, обделанный курчавой смушкою, поверх длинного кожаного козырька нашита белая лента, на коей рудяной краскою (может, и кровью?) выведено размашисто: «Я Бог всея земли».
Кого угодно ожидал бы встретить здесь, ей-ей, но только не Симагина. Хотя ежели бы раздумать крепко, то Симагина тоже заселяли в Березовский уезд. Но такие мысли – для головы крепкой и ясной... Львиная серая грива спадала на овчинный воротник, глаза мутные, оловянные, без проблеска, навряд ли чего видящие. Человек шел срединою унавоженной дороги, постукивая посохом, и ничьей избы не удостаивал взглядом. Откуда он вышел, из каких пространств и куда удалялся, было ведомо только ему, Симагину. Донат не сразу решился выступить и хорошо сделал: из ближнего подворья вынесся мальчишка, высунул язык и метнул мерзлой калышкой. Не сильно пущенная, она ударилась в дорожный тулуп, не причинив Симагину вреда, и пока степенно, почти величаво оборачивался он, сорванец исчез в воротах. Донат оглянулся, словно бы ища поддержки, но там виделась лишь низкая банька и длинный, пологий спуск к озеру. И, решившись, он выступил из-за угла, руки беспомощными плетями вдоль туловища, лицо жалкое, синее, в струпьях, на губах парша.
– Эй, Симагин... Ты? – окликнул Донат, худо владея голосом. Он готов был заплакать от радости, и, полный надежд, откинув всякие сомнения, побрел на дорогу. Симагин не удивился и не обрадовался, он дожидался Доната, слегка приотставив от себя посох, опершись обеими руками; но раза два пристукнул пикою, пред тем как застыть вот так. Он ни радости не излучал, ни опаски, только прикусывал еще крепкими зубами рыжеватое подусье.
– Ну что... беглый, что ли? – спросил так, будто они не расставались.
Донат кивнул, не опуская взгляда с лица Симагина. Он запомнился серым, с высохшими щеками. Ныне же не было прежнего исступления, лицо посветлело, опушилось редкой струйчатой бороденкой.
– Давай побежим вместях? Вдвоем сподручнее! – заявил Симагин, как о чем-то давно решенном. – Двоих-то им не одолеть, не-е-е. – Он обиделся, посмурнел, плаксиво сморщился. – Они бога не слушают, сынок, бо-га! Они меня гнать решились.
Донат переминался на дороге, тупо глядел на развалившиеся поршни, худо ощущая обмороженные ступни, и молчал. Перед близким покоем все опустилось внутри, обезволело, и Донат не воспринимал чужие обиды. Он и не слышал ничего и ничего не боялся теперь. Какая дорога? Какой еще путь? Разве он не одолел его? Разве терновый венец не исколол шипами череп? Лечь бы, как хорошо лежать в тепле и сытости...
– Они говорят, ежели ты бог, то где твои апостолы? Они говорят, ты покажись нам в силе, сотвори, говорят. А я им: вас не боюся, я ничего не боюся. Разве это не сила моя? Потому как я бог истинный, а окромя меня, никого нет...
– Мне бы поесть чего.
– Истязали? Ты чуешь на раменах крест черный, тяжкий?
– Поесть бы, едва стою. Если бог, устрой скрытню и согрей нутро.
– Я им покажу, что может бог. Свиное стадо, погрязшее во грехе, я обойму силою ума своего. Мы нынче же уйдем, слышь, и оставим их в отчаянье и слезах. Они еще кинутся меня искать. Сыми сапоги, сынок, не жалей себя. Сыми и иди за мною. Не бойся, дружок.
Ничего не соображая, как в дурном сне, Донат тупо поглядел на Симагина, почти не различая его сквозь толчею мушек в глазах, и покорно подчинился. Он сел середка дороги, Симагин стянул развалившиеся поршни и закинул в сугроб. Из сопревших онучей выглядывали синие, обмороженные пальцы.
Симагин вышел за деревенские ворота и неожиданной торной тропою вывел на зады усадьбы, где виделась одинокая банька у края черного незамирающего иордана, тихо парящего. Симагин, не спросясь, властно толкнулся в дверь, они миновали сенцы и вошли в житьишко. Там горело до десятка кротких лампадок и было неожиданно тепло и светло. Но свет шел не столько от лампадок, сколько от обитателя, от насельника. За столом у оконца сидел чисто намытый старик в длинной белой рубахе с косым воротом.
– Эй, лжехристос, принимай гостя! Вот он, пришел к вам, молитесь, нехристи! – зычно прикрикнул Симагин и, пристукивая острым наконечником, прошел не спросясь в передний угол, сел на лавку под образами, обвалился о стену. В громоздком тулупе он казался столь огромным, что забил собою всю баньку, и лешачья, звериная, грубая сила чуялась во всех повадках неожиданного гостя. – Ну что расселся, Аввакум? Принимай гостя! Оглох, что ли?
– Опомнись, сынок! – кротко сказал старичок.
Он поднялся из-за стола, слегка отодвинул Библию в деревянных покрышках. Он был невысоконький, почти маленький, с поясною бородою, из венчика шелковых снежных волосенок выглядывала круглая желтая плешка, нос картошкою, толстые, круто завитые усы и серые глаза, глубоко посаженные в обочья. Темень обочий да крупные рыжие веснушки на впалых висках выказывали большой возраст старика. Аввакуму было действительно под девяносто. Родом тамбовский, он был сослан сюда за хлыстовство, перебрался в Сибирь со всею семьею. Сейчас два старших сына жили в хоромах за заплотом, а он, Аввакум, ютился в баньке, но обладал необыкновенною властию далеко за пределами Спаса. Все свое время он посвящал чтению и молитве и беспрерывно постился.
Аввакум подошел к Донату, и ростом оказался по плечо пришельцу.
– Как зовут? – сладкозвучно спросил он. А узнавши имя, долго обкатывал его, перебирал губами: – Донат, До-нат, До-на-ат... Давножданный, значит. Выходит, мы тебя ждали?
Он оглянулся с мальчишеской резкостью на Симагина, чтобы по лицу того удостовериться, не обман ли тут какой. На губах Симагина играла злая торжествующая усмешка. А Донату хотелось спать, он закрыл глаза и пошатнулся.
– Ну что ты, сынок? Ну что ты, давножданный? – Аввакум всего навидался на веку, и он так уверился, что зрит сквозь каждое существо в природе, но от своего умения не ожесточился натурою, и еще более любил всех, слабых, изнемогших в грехе.
– Чего лыбишься, дьявол, ну! – прикрикнул Аввакум Симагину. – Помоги парню. Вишь, сомлел... Тебя Бог пасет, сынок... – ласково нашептывал он, подставив плечико и закинув тяжкую Донатову руку на свои рамена. Он не боялся сломаться, этот старичишко, он нес в себе такую неиссякаемую силу, коей хватало на всех. – Вижу, не каторжанец. Тому бы сказал: поди в лес, зверь тебе товарищ.
Аввакум возложил гостя на лавку под образами, потеснив Симагина, размотал онучи, огладил больные ступни. Донат закрыл горящие, вздувшиеся глаза, умиротворенно затих под шелестящий голос. Прикосновения рук напомнили давно забытое, материнское. Потом и рванину снял хозяин, умело растелешил мужика, оставив в чем мать родила, натер гусиным жиром.
– Каторжанец-то не человек тебе? – запоздало спросил Симагин: ему хотелось задирать, спорить. – И сосыланный не человек?
– Сосыланный – человек. Я сам из сосыланных. А каторжанец не человек пока. Должон помучиться, покаяться. За грехи должон пострадать.
– Для рая пострадать, да? Враки, басни плетешь. Нету рая, нету! Рай на земле лишь. Его здесь надо устраивать.
– Шумишь много, сынок. Ушам больно. Ну что ты такой ересливый? Хоть бы словечушко спокойно донес, – увещевал Аввакум.
– Не могу спокойно. Я словом должен жечь. Все перетрясти надо, костер возжечь и рухлядь туда, туда все – и мешать. Я лучших людей приставлю к костру.
– Ты убьешь, и тебя убьют. Куда денешься. Дурак ты, Симагин. Вывеску на себя напялил. Ты должон просто идти, к примеру, но все считают, что ты бог. А где сиянье вокруг тебя? Одна чернота.
– А вокруг тебя сиянье, да? Лжец, тьфу...
Но Аввакум больше не спорил, ненадолго исчез в доме у сыновей, принес белье, ношеное, но чистое, мягкое, любовно облек Доната. Потом явилась сноха с вытью, накормила бараньим супом. Аввакум недвижно сидел за столом, положив обе ладошки на Библию, не сводя взгляда с дальнего угла. Симагин угрюмо бычился и все поправлял изголовье у Доната.
– Едино полюбить надо, – вдруг спокойно, но твердо сказал Аввакум. – Сначала себя полюбить, а потом всех.
До сей поры молчавший, Донат подал голос:
– К отцу Паисию бы мне...
– Нету его, сынок. Опоздал. В затвор ушел, язычник. На Мылву ушел. Помоги, Господи, обрести заблудшему разум.
– Вот она, христовщина, – злорадно засмеялся Симагин. – Трухой посыпалась. Во многих землях бывал, всякое видывал, но такой дьявольщины не знал... Погоди, старик, то ли будет, коли сам апостол отвернулся. Все придете ко мне, падете в ножки и поклонитесь. Слышь!
– Одно утешает, что к тому времени не приведусь в живых, – со вздохом ответил Аввакум. – Народом кормишься, а ненавидишь всех пошто?
– Потому как скоты. Блуд развели, бесовскими плясками тешитесь. Постыдись, старик. Грех-то какой приемлешь. И как земля носит дураков.
– Земля всех приемлет.
– Глаза разуйте, – повысил голос Симагин.
«Наверное, пьян? – решил Донат, уже с любопытством слушая разговор. – Нализался за-ради Пасхи».
– Петуха обозвать соловьем – он все одно петелом останется. Не полетит, не запоет ангельски, – стоял на своем Аввакум. Он говорил лениво, устало, наверное, прежде не раз случались подобные стычки, и только доброю душою бесконечно терпел старик, уже давно готовый к последнему пути.
– Это ты самозванец, а я бог. Читать умеешь, старик? Я бог всея земли. Пади ниц, ну!
Но Аввакум сидел недвижно, возложив обе ладонцы на Библию, – наверное, силы черпал из нее. Не признавал он в сосланном Симагине отца своего, никак не признавал.
Глава пятая
– Слышь, Аввакумко? Ты бы не допускал бродяжку до корабля. Приволокется сегодня, посеет смуту, – подал голос Симагин, уставший сидеть в молчании. Он с тоскою ждал ночи и торопил ее. Он представлял, как случится все, и втайне торжествовал, и видел карающий меч свой уже обагренным кровию. Посох, зажатый меж ног, он представлял молоньей, коей поразит свиное стадо, а кто ежели уцелеет, павши ниц и закрывши голову руками, кого обойдет его, Симагина, гнев, тот с охотою вступит в свободное воинство братьев. – Она было шапку-то мою с головы да обземь. Так земля и сотряслась. Видано ли, божью шапку под ноги штоб! Я говорю, подыми, змеина, а то пронжу посохом, как гадину. А она за бороду мою и давай трепать. Малишонная, поди. Она наведет на корабль разруху. Свези в волость, пусть меры примут... Как бы не отразилось, слышь?
– Божья душа Таиса, голубиная душа, – эхом откликнулся Аввакум. – С того воскресения не зрел, а душа тоскует, червяк быдто гложет.
– Колдовка, наведет порчу. У меня очеи на сто сажен вглубь зрят...
– Она твоего беса не попущает, вот ты и томишься. Пал бы пред ею, очистился, грешник.
– Сука она, – вдруг осклабился Симагин. – Поди, не одна мутовка в том киселе болталась. – Не сдержался, пристукнул посохом о плахи, острым наконечником пронзил сквозь. Оттуда ударил фонтанчик воды. – Где ударю, там ручей родится. – Он еще хотел что-то добавить, величающее его, но Аввакум оглянулся, и Симагин смолчал.
Аввакум, не сымая рук с Библии, набирался сил пред чрезвычайными радениями: он умел углубляться в себя, как в могилу, и слышать, что совершается в тайниках души. Но сиделец, этот сатанинский выродок Симагин не давал погрузиться. Но и прогнать его не мог, свыше сил сказать: поди прочь и забудь сюда тропу. И сестрицы в корабле о том же сознавались, что чары Симагина столь сильны, что оными пораженное сердце впадает в крепкое страдание тоски, и ежели бы позвал только, намекнул, то пошли бы куда угодно, очертя голову. Да и он, Симагин, не скрывал свою силу и был чрезвычайного о ней мнения. Душа моя, говорит, наделяется властию столь великою, что и поверить вам даже сомнительно, потому что она творит то же, что и Бог. С меня взыскать никто и ничего не хочет, да и не может.
– Вот чую, что ты худо про меня измыслил, – сказал Симагин. – И не боишься, что на тебя напущусь?
– Боюся, – признался Аввакум, – и смиряюсь сердцем. От тебя черная темь идет, и очи мои при виде тебя залиты тоскою. Дал бы отдоху, сынок. Я старый старик, мне о человечей душе пекчись надобно. Поди с Богом. Да на Таису не попутайся. Она, поди, мати мне.
«Нужна в корабле пророчица, – думал Аввакум. – Скоро душа вознесется, а кто примет сей храм наш? Правда, зачала отроковица Марья, понесла во чреве и дала согласье в сан богородицы. Но нет в ней той силы, того вещего дара, что принесла с собою скиталица. Живет где-то в норе, в земляной яме; вдруг явится – и глаз от нее не отвесть». «Иди в монастырь, – не однажды увещевал Аввакум, – прославившись, святою станешь. Затвору боишься?» «Ничего не боюся, отец. Но буду монашенкой в миру. В монастыре жить – пекчися о себе. А на миру жить – о всех вас стану заботиться, остерегать и оберегать. Вы дети мои, а я ваша матушка. И неуж, Аввакумушко, ты не признал своей матери?» И однажды сознался кормщик: «Глазами-то вижу, как дочи свою. А душою чую, что мати мне».
Аввакум запоздало услышал, как хлопнула дверь, обернулся: Симагина нет, а на лавке сиротливо, поджавши ноги, лицом к стене лежал беглец. Но пожалел не случайного гостя, но ее, юродивицу в терновом венце. И свой подвиг вдруг показался малым и слабым. И невольно вздохнул, вслух выдал тайную мысль: «Эх, Таиса, Таиса, матушка моя». И невольно опять признал своею матерью.
Донат, грезивший в полузабытьи, всем телом впитывал ту давно забытую благость покоя, что делает жизнь желанной: он дважды услыхал столь знакомое имя, от которого, бывало, сердце заходилось, и не вздрогнул, не взволновался. Жизнь, протекшая ранее, казалась столь далекой и чужой, что потерялась из памяти. Полноте-ка, а были ли тятенька с матушкой, и любовь-то навещала ли, от которой все и стряслось, от которой всем горестям начало?
Жалел старик какую-то бабу, с такой печалью жалел и тосковал по ней, что эта жалость невольно проливалась и на Доната. Потому лежалось мужику особенно хорошо. Он не думал о терниях и бедах. В этом затулье, мыслилось, как за каменной стеной: ничьи силы не оборют. Старик вздыхал, не в силах оторваться от книги. Была бы его мощь воистину Христовой, разве не мог бы разглядеть все грады и веси, где многие миллионы православных, отколовшихся от никонианской веры, нынче приложились разумом к Библии? В скрытнях и затворах, в схоронах и купеческих хоромах под крышею, в земляных ямах и тайниках, в бегах и дорогах, по русским селам и под боком у великих куполов прикладывались сердцем к странной книге и по-всякому разумели ее. Староверы и молокане, христовцы и скопцы, все эти богомилы и монтане, контовщики, молельщики, купидоны, ханжи, вертуны, ляды, фармазоны, для коих нет Христа своего, и скакуны, у коих в свальном грехе рождается новая богородица, Наполеоновы дети и Лазаревны, квасники и дырники. Что за цветник вер возрос возле книги? Пуще смерти пугался русский насельник ков, неволи, печати и закона, ограждающего волю, запирающего ее, и, прислонившись к Библии, окунувшись в нее, он отыскивал свое слово.
Библия... Чей плод, чье воображение, чей умысел и фантазия, дьявольские наущения и обещание блаженств, кабала и мистика? Эта книга возносит человека и так же легко роняет его. Читая ее, можно сойти с ума и полететь в ту бездну, когда вроде бы живешь, но уже мертв. На тыщи верст под Библией мать-сыра земля напитана слезами радости и умиления и кровью безжалостной мести; под нею задыхается вечно не умирающий язычник, и его непрестанные страдания отзываются в нас и корежат. Чудо это иль чудовище, убившее наше детство, наш восторг пред природою? Белая то магия или черная? Ежели укрепляет душу, ведя к подвигу, то стольких же ввела в грех и соблазн, ведь из нее можно выискать все, чему ты тайно уверился, и укрепить эти прихоти. Одно прикосновенье к Библии позволяет вести ближнего на плаху и начинать войны, но ею же и милуют отверженного. Ни одному еще человеку на свете не открылось библейское слово без тени тлена и печали. Какие видимые могучие церкви выстроились, окутанные облаком слов и мыслей и благих заветов, но внутри-то они уже мертвы и повиты тленом; сколько храмов невидимых возросло в душах человечьих, и вся жизнь исполнялась по тем заветам, что открылись вдруг, опеленали гордыню и натуру, но не смирили ее.
Но ежели бы она воистину творила благодать и любила человека, восприявшего Библию как милых сердцу родителей, то неужели не доверилась бы ему и не сотворила блаженство? – размышлял Аввакум.
Сколько она говорит, о стольком же и умалчивает. И скрытность эта притягивает, но и разлучает с книгой.
Книга Бытия... Что в глуби ее, на самом дне, да и сколько дон? Наверное, счастлив тот, кто вовремя остерегает себя и пресекает желанья осилить ее.
Аввакум встрепенулся, и кости его наполнились тем воздухом, что позволяет лететь. Какое-то время стало жаль растрачивать редкое чувство, и он замешкался, но тут же укорил себя. Легкость распирала его, и глаза наполнились светом. Подросток-хлопотун, Аввакум пробежался по горенке, задержался взглядом на госте.
– Ну, лежи-полеживай, парень. Наращивай мяса.
– Хлопот-то сколько принес. Ты прости, батя...
– Пустое... ну, полетел я.
Аввакум открыл дверь, подпрыгнул и полетел. Наверное, так показалось Донату? Он снова отвернулся к стене и сразу заснул с мыслью о Беловодье.
Такое было впечатление, что даже с иных губерний съехались христовые братья и сестры. Широко разошлась слава Аввакума. Дня три-четыре продлятся годовые радения, а то, глядишь, и на неделю затянутся...
Уже в сутемках попался по дороге Симагин, затеял будто случайный разговор, был смирен и кроток, говорил невнятно, глухо, будто винился в чем и тягость сымал с сердца; предложил отвезть беглеца к Паисию, от греха подальше, благо дорога ведома. Пока колея не рухнула, пока стоит, надо скрыть гостя от глаз подале, а то, не ровен час, гроза грянет, навлечем беду на Спас. Обманутый тишайшим голосом, Аввакум не перечил, легко согласился и дозволил лошадь взять. Но не ведал он, что на заимку Кушеватово уже сряжалась казачья команда и вот-вот нагрянет. Не раз, проклиная себя и утешая, весь дерганый выходил Симагин за околье, давил, щурил глаза в черные елани, где терялась дорога. Виделось хорошо, ясно, торжественно, но Симагина темь мучила. На запольках, на коренастых березах солидно покачивались косачи, и в них было столько покоя и свободы, что Симагин невольно позавидовал. «Под боком мясо-то, вон дичина. А им, постникам, на что?» – туманно подумалось. Шумнуть бы на них, да опасно уходить от села: вымчат казаки из пихтачей, возьмут в оборот, пока-то суд да дело. Симагин вроде бы и торопил гостей, но и пугался их, заплутав в размышлениях.
Все эти люди, что крались ночью заулками, меж заплотами, путаясь в сугробах, – не дети же сатанаила, не исчадье ада, но мытари, трудники, пахари, те, на ком стоит и крепится земля наша. Отчего же ушли они от церкви? Какой духовной несвободою оскорбляла она, если отказались от единого Бога и избрали своего, из гущи, из самой тьмы, и наделили его венцом. И неуж Аввакум отныне одарял блаженством, охранял и сохранял этих отроков и отроковиц, давших обет девства, стариков, ушедших жить в запечье или в баньку, только чтобы не видеть бабы своей, с коей век прокуковал, и жены отделились от мужей, ибо житье с ними пуще всякого греха. От кого отвернулись, от кого? Не от нехристей, не от шишей бродячих – от своих же благоверных, с кем век прожили. Любили же, почитали, гордыню смиряли, друг подле друга старились, – и вот вмешался третий – Бог. И разлучились на грешной земле во имя какой такой грядущей благодати. И вроде в одной избе кукуют, но живут отныне как брат с сестрою, и ни одной похотной мысли, хотя иному-то мужику едва за сорок и порой и менее. Иная-то голубица едва переступила девичий возраст, а уж дала обет чистоты, от ласки отказавшись, от детей, от будущей памяти. Какая сила неволит?
Люди делятся на две породы.
Один утешает себя тем, что все умрут когда-нибудь, не только он. Другой же утешается тем, что он умрет (судьбу не объедешь), но другие-то останутся жить и после него. И чем больше будет на миру людей второго сорта, тем дольше продлится человечий род.
Но Аввакум! Ежели ты жалельщик, ревнитель и устроитель всеобщего счастья, как же ты соединил в себе первое и второе? Ты уверовал, что и после тебя пойдет по земле твоя вера. Но кто понесет ее, если лепоты всяческой избежать, если супружеское соитие отринуть? Кто же, Аввакум, продлит твою истинную веру в веках? Ежели каждый из братьев и сестер твоих увянет на корню, как древо после пожога, как сухостоина, съеденная выползком? Ты позаботился об этом? Не снедает тебя тоска по напрасно засохшему семени твоих братьев? Скопцы зарезали своего врага, а ты повелеваешь бороться с живым, удесятеряя страдания. Говорят, поморцы на что уж твердые ревнители старой веры, но и те, опустив очи долу, согласились на семью.
Марьюшка, «богородица», прошла, низко поклонилась – в тулупчике с лисьим воротником, в белых пимах своекатаных. Недавно была она у Таисьи в зимовейке на отшибе от деревни, с час. наверное, посидела и заколела. Дивилась тайно, как это монашенке можется в таком неурядливом житье, печалилась робко, боясь и желая отчего-то подобного пути.
– Тяжко мне, сестрица, – жаловалась Марья. – Дух чижолый спирает. Горе вижу на горе, черный всадник едет с большою плетью. Как жиганет – кровь ручьем.
– Крепись, голубеюшка, испей чашу... Чему научу? Кротости лишь, – уговаривала Таисья.
– Ой, чижало, матушка, мочи нет. Как свинцу налилась. И неуж Христосик во мне?
Моргала наивными голубыми глазенками, морщила детский лобик, едва присыпанный желтой пыльцою, но пухлые губы с жесткими морщинками в углах кривились грустно, с далеко запрятанной болью. С неделю назад сронила ее падучая, и, полетев в бездну, махая руками, она увидела внизу на горе всадника на черном коне у кровавой реки.
– Не разродиться, вот чую.
– Ты рожай, рожай, слышь? – увещевала Таисья. – Родишь мужичка, от него еще мужичок, да ежели все по вере, по чистоте, то какое воинство подымется. Ты рожай, голубеюшка. Это, наверное, хорошо. Я к вам хожу на бесёды, но я вас не люблю. Вас бесы мучат. Но если ты родишь, я тебя полюблю, я тебя не оставлю.
Ее бы, Таисью, кто пожалел, а она вот жалела гостью, живущую в достатке, из крепкой семьи девку. Сидела юродивая в рваном армяке, на полатях с кучею тряпья в изголовье, свесила ноги в заскорбевших от воды и стужи чунях. Лицо испитое, чахлое, одни глаза, но в них – незамутненная искренняя радость. Только в глаза глянешь, взглядом этим проникнешься, будто живой воды изопьешь, и то куда легче станет, как бы всю тебя изнутри обмоет, освежит.
Корабль собрался, чтоб принять благодать, причаститься телом богородицы. Людно оказалось в собрании, всем захотелось быть на бесёде. Вдоль стен на лавках расселись; в переднем простенке под образом, увешанным расшитыми полотенцами, большой стол, крытый белой скатертью, совершенно пустынный. Лишь толстая Библия посередке да свеча в шандале. Но по стенам много свеч ярою воску, и оттого светло. Ближе к порогу, посредине избы, широкая кадка с горячей водою слегка парит. Таисья сутулилась у порога. Она глухо покашливала порою, но чаще крепилась, унимала грудь, чтобы не нарушить благоговения, и оттого, что сдерживалась, порою особенно громко, надорванно бухала в кулак – и тогда виновато улыбалась всем сразу, оглаживала тяжелый чугунный крест, доставшийся от раскольника-бегуна, скончавшегося на этапе. Крест лит в уральских скрытиях под мужскую широкую грудь, весу фунтов шесть; цепь от него обнимала, тянула к долу исхудавшую Таисьину шею, потому редко она смотрела ныне пред собою, но больше под ноги, топча и изнуряя свою гордыню. Много вер прошла Таисья за эти годы, и ни одной не приняла сполна, отринула, ни к какой не прислонившись насовсем. И здесь-то, в жарко натопленной избе, случилась она лишь по жалости к заблудшим, чтобы спасти их от греха, от еретического соблазна, затмившего разум. Уже не раз увещевала она корабль, и хотя терпели пока пророки и апостолы, но грозились побить каменьями в науку; и когда грозились, то она улыбалась и согласно кивала головою, дескать, с радостью приму муку. Но вот нынче худо подавать стали, с пустою кружкой таскалась Таисья по окольным деревням, собирая на новый храм, куда бы каждый вошел и исцелился.
Таисья взглядывала на кадцу посреди избы и недоумевала, к чему она, но как-то связывала с этой девчонкой лет шестнадцати, что сидела в кресле под образами. Светлые волосы распущены по плечам, по радельной рубахе, тонкие ладони молитвенно прислонены к лицу и, казалось, просвечивают, и сквозь проглядывают широко распахнутые застывшие глаза. Этого неотвязного взгляда никак не избежать Таисье, и она томится, старается что-то вспомнить, и вдруг под образами узнает себя, давно потерянную и совсем забытую, накануне любви своей. И хочется Таисье выкрикнуть: «Идите, дети мои, плодитесь и сейте семя, на что Богу темная, нежилая земля? Куда с ею деться, если душ потерянных все больше и вы уходите? Плодитеся, дети мои, – хочется вскрикнуть. – А может, рыдала Таисья зажато, и это не кашель вырывался из груди, но сухой тайный плач. Может, утроба мучилась и изнывала? Ну как изнурить себя, какие муки еще преподать? – Жалею девочку эту, как дочь свою. Ой, мне бы принять в себя ее груз, с какой бы радостью таскала в себе живую тягость... – И гладила Таисья чугунный крест, истекающий потом, и ту влагу нюхала украдкой, пахнущую кисло и ржаво. – Аввакум-то вчера баял: поди, говорит, Таисья, в монастырь, святой станешь. Да это вы, грешники, как в затворе, о себе лишь чаете. А я средь живых хочу быть. Вы бы жили, радовались, а я бы за вас страдала, я бы вашу душу спасала...»
В углу на лавке упрямо и сурово мостился Симагин. Еще ввечеру пробовали гнать его мужики прочь из избы, готовы были в дубьё взять; хорошо, Аввакум пришел, спас, дозволил быть на соборе. И тут, на бесёде, раза два сшибали с Симагина шапку долой, но он упрямо водружал ее на буйные волосы и зло, довольно скалился. Когда в горницу входил, будто ненароком, но с явной мстительною целью ткнул посохом в пятку юродивой, а сейчас разглядывал граненую пику, нет ли на ней крови. Слышал вроде хруст кости, должна бы на посохе кровь запечься, но ее не было. Симагин раздражался. «На цепь бабу-то посадить бы. С деревянным стулом на шее приковать. Вот ей в радость-то, поди... С бога шапку сшибила, прокуда. С бога честь сронила, вот и дала пример».
Мысли шли вразнобой, но меж тем Симагин с тревогою и нетерпением вслушивался, что творится на воле, ожидал распознать крики сторожи, ругань, заполошный рев. Но улица молчала, никто не колотился в ворота, не требовали впустить. Симагин раза два исчезал, спрятав голову в плечи, и вновь возвращался, как по принуждению, но в полуночь окончательно решил – пора в бега, неча судьбу пытать. Все было сряжено загодя, уложено в сани, переметные сумы схоронены под сено...
В темноте он подвел лошадь к баньке, вызвал беглого, пригласил в сани, покрыл тулупом и одевальницей. Шепнул с неожиданной теплотою в сердце и благодарностью незнаемо за что: «Молчи... лежи, парень, и спи». Даже подоткнул Донату под бока, чтобы не поддувало, и, часто подергивая за узду, вывел лошадь за околицу, на укатанную дорогу. Он сразу пустил кобылу вскачь, часто потряхивая вожжами, перебирал их, будто обжигал ладони.
С другой стороны в это время приступала к Спасу полусонная казачья команда. Сумароков подозвал урядника, велел ехать в село, разыскать наушника и допросить с пристрастием, отчего тот, каналья, не ждет гостей на месте.
Глава шестая
И вот сняли с «богородицы» радельную рубаху, повели к кадце с еще не остывшею водою, помогли встать в кадцу: вода поначалу почудилась горячей, Марьюшка зажмурила глаза, но тут же и притерпелась. На мгновение ей стало так стыдно и одиноко, что захотелось прикрыть груди ладонями. Но мешала икона. «Богородица» принялась ворочаться, осаживаться в кадце, чтобы вовсе скрыться в воде, и сама себе показалась громоздкой и нелепой. Пророчицы первыми заметили колебания Марьюшки: одна наклонилась, в поклоне неприметно достала нож из сарафана и отрезала «богородице» левый сосок, так, что та и вскрикнуть не успела.
Откуда, из каких пределов, из какой темени залетело семя непонятной веры? Не злые же люди собрались в избе, не звери, самых благих помыслов и чистых желаний полны их сердца, враждебные всякой скверны и похоти. Но как рассудить сие?
... Не отходя от кадцы, старуха на деревянном кружке принялась разделывать плоть «богородицы» на крохотные волоти.
...Но тут раздался лютый бряк в уличную дверь. Били коваными прикладами, пока в щепы не разлетелось полотно. Корабль застонал, смешался, потрясенный, кто-то кинулся в окна, в тайные выходы, но везде торчали бородатые казачьи рожи. Пророчица положила на стол деревянный кружок с нарезанным причастием, «богородица» забыто стояла в кадце, измученно улыбалась, и вода стекала с намокших волосьев. Кто-то попытался задуть свечи, чтобы скрыться, пользуясь темнотою, но Аввакум воспрепятствовал.
Сначала в распахе двери появился урядник; раскроенное французской саблею лицо старого казака в сумерках показалось диким и устрашающим. Но он тут же услужливо посторонился, сбив плечом на пол замешкавшегося радельщика, и следом вошел исправник Сумароков, известная заполошная гроза, коим матери детей своих пугали.
– Ну, голубчики вы мои, опростоволосились? – ласково улыбаясь, сказал исправник. – С поличным попались, а это худо для вас, коли с поличным. Тут иное рассуждение закона и другие последствия, да-с!
– Никакого самовольства, наше благополучие, – горячо выступил вперед Аввакум. – Христовое Воскресение, батюшка. Ну как тут православному не собраться и не возрадоваться. – Наставник только что воодушевился, но тут, как на грех, палась на глаза Марьюшка, по-прежнему торчащая в кадце с потерянным блаженным лицом. – Ой, бабы, как вы так-то! Прикройте сестрицу, ума-то, знать, николи нет. – Аввакум сокрушенно взмахнул обеими ручонками, но тут же заголубел, заискрился взглядом. – Да и то, срам-от к ней не липнет. Такое дело несокрушимое. Крепись, матушка!
– Не надо-с, – остановил Сумароков и, склонив голову на одно плечо, обошел «богородицу», внимательно обозревая нагое девичье тело. Иногда он скашивал голову, как зоркая птица, и видно было, как туго прокатывалось в горле адамово яблоко. – Не надо-с, старик. А ты постой, голубушка, на посмотрение. Я вот гляжу, очень ты хороша да ладна. Вот какую тебя Бог сотворил, что и стыд к тебе не липнет. Ты постой, а мы засвидетельствуем.
Казаки при этих словах охотно зареготали, богомольщики же застонали в ужасе.
– Вот ты, старик, даве правильно сказал. Ума нет, верно? Ибо скоты, быдло! Разве что отыщется в вас человечье! Гляньте на себя и устыдитесь!
Марьюшка шевельнулась, уже синяя, бессмысленная лицом, внутри позывало на дурноту, и девушка едва сдерживалась.
– Стой, ты стой, – снова предупредил исправник и пальцем брезгливо потрогал свежую рану на левой груди. Рука коснулась самого святого для хлыстовской бесёдушки, и народ снова возопил.
– Мал-чать! – прикрикнул урядник более для острастки.
Исправник подошел к столу, взял кружок с нарезанной плотью «богородицы», понюхал, скривился, ухоженные усы встали торчком. Потом вернулся к ней, снова потрогал ранку на месте соска и, уразумевши все, с замедленным торжеством и достоинством концом сабли смахнул святое причастие в воду. Много ли было там плоти? Какие-то едва различимые волоти от груди да натеки подзасохшей крови, но вода в кадце вдруг вспенилась, побурела сразу, и Марьюшка, тупо глядя в ноги, потеряла сознание, неряшливо повалилась на пол.
– Антих-рист! Ой, антих-рист... Лучше ты казни нас, еретник, но не изгаляйся над матушкой! – зашумела, взволновалась толпа.
Аввакум бегал пред ними, как короткохвостая птичка-дениска, и умирял своих детушек. Но они худо слушались, входили в раж от собственного голоса, а нагое тело беспамятной «богородицы» ввергало в неистовство.
Исправник побурел:
– Урядник, розги сюда, живо! Развели ересь.
– Секи нас, еретник! Пуще секи, умойся кровью. Нам и сладко!
Рука исправника лежала на эфесе приспущенной наполовину казачьей сабли, и жесткий металл нагревшейся рукояти придавал сердцу Сумарокова должную устойчивость. Собственно, он устал как собака, и ленивая от долгой дороги душа его взирала на происходящее со стороны и с тайной безразличной ледяной усмешкой. Дикари, туземцы толпились, и ни злобы, ни какого иного чувства, кроме тошноты и брезгливости, Сумароков не испытывал. Но устрашение требовалось, это исправник понимал верно, и притом немедленное, чтобы помнили злодеи, как осквернять православную веру. Да и мог оказаться в самой казачьей команде случайный наветчик иль тайный кляузник, что при случае не преминет нашептать в канцеляриях, дескать, он, уездный начальник, сам первый потатчик. Впрочем, и этого не пугался Сумароков, столь высоко и прочно стоял он, но лишь собственной слабости и того сонного оцепенения, что внезапно и необоримо настигало порою и ковало тело. Вот и травил он себя, разогревал ходьбою по избе, возбуждал острыми взглядами в толпу, сцепляя и растаскивая связанные в замок пальцы, и хруст собственных пересохших костей был сладок ему, возвращал энергию.
Команда приволокла охапки розог. Сколько влезло, загрузили в чан с водою, где только что освящалось тело «богородицы». Сама она сейчас лежала на лавке под образами, закрытая с головою серым дерюжным покрывалом, и две пророчицы с трудом удерживали ее тело, замиряли, утишали объятьями пробуждающиеся больные корчи. Марьюшка плакала, что-то бессвязно кричала из-под дерюги, ей было душно в той темени, куда отлетела ее несчастная душа.
Казаки разобрали богомольцев на обе стороны: женщин в одну, мужиков – напротив. И лишь юродивая осталась как бы сама по себе, ни один государев слуга не осмелился указать ей иль прикрикнуть, не то приневолить силою.
Таисья давно узнала Сумарокова. Несмотря на прожитые годы, он мало переменился, а когда отогрелся с мороза, скинул с плеч дорожную шубу, то стал вовсе прежним, той поры барином, который однажды, будучи уездным землемером, приехал к ним в дом на постой. Таисья с любопытством рассматривала Сумарокова, не испытывая к нему ненависти, но толпа скоро накалила и ее. Ну ладно, случилось, что изверг этот распорядился Таисьиной судьбою и зачеркнул. Но почто на чужую волю сердечную он покушается? Вся-то жизнь под присмотром, под надзором: туда не ступи, того не смей, – так хоть душевную-то волю ты оставь человеку, позволь в себе-то самом жить, как ему хочется, по его складу и ладу. Вот сколь далеко надо в человека вгрызтись, аж как клещ, в самую-то сердцевину. Вторгся в избу не спросясь, раскомандовался, грозит грозою. Подумаешь, выпугал. Кто смерти не боится, того палкой не проймешь. Ты с него шкуру с живого сыми, а ему лишь в радость.
Таисья, видимо, слишком навязчиво, назойливо торчала в одиночестве, и Сумароков не смог обойти ее вниманием. В глаза лезла черная затасканная ряска, кожаные чуни, чугунный крест на груди. Лицо затенялось сумраком возле порога, да оно и не нужно было исправнику: мало ли юродивых, нищенок, побирушек скитаются по российским дорогам, грех замаливают, тщатся со святыми вровень встать. «Собрать бы их всех в едино место, клопам на потеху, да и известь», – подумал машинально, но одинокая фигура возле порога вносила смуту даже своим присутствием, и исправник недовольно приказал:
– Что там за барыня у двери? Иль гоните прочь юродицу, или задвиньте к бабам! – Задвиньте, ну! – А то портит картину.
Но казаки мешкали, и тогда исправник поискал взглядом возничего Лешукова, давеча выпоротого на заимке, и кивнул ему. Тот готовно подскочил к Таисье, дернул за ряску, оторвал рукав, открылась тонкая, удивительно белая, почти неживая рука. Казак оторопел, а Таисья рассмеялась хрипло, простуженно. «Закаркала лешачиха». Некоторая оторопь взяла Сумарокова. А Таисью ровно кто подтолкнул мягко за плечи. Она вышла на свет, в середину горницы, к кадце, где мочились розги, сама достала пук перевязанных виц, подала исправнику:
– На, бей, еретник...
Исправник не заметил насмешки, но смотрел в лицо юродицы, низко повязанное черным платом, в длинные зеленые глаза. Белое лицо, тонкий нос напомнили что-то знакомое, имели сходство с постоянным ночным виденьем, навещавшим Сумарокова.
– Кто ты, баба? – спросил Сумароков неживым голосом. – Предъяви вид на жительство. Чья ты?..
– Из сосыланных, батюшка. Аль не признал, лешачина? Память зашибло, шиш разбойничий? Гались, ну гались давай, – всплеснулась Таисья, саму себя хлестнула розгами по бедрам. – Припомнил девицу-голубицу, как честь-то отымал? Ой, все помнишь, по глазам вижу, что все. Не забыл, верно? Коли ночами-то прихожу да в изголовье стою, доглядываю. Что, думаю, за изверг?..
– Да нет... ты не смей. Напраслину не взваливай. Тебя раз увидишь – вовсе спать перестанешь. А у меня пока сон детский, – заотказывался исправник, но от всеобщего внимания и той тишины, в которой каждое крохотное зернышко злодейства прорастет с дерево, невольно смутился. – Знать, по делу в Сибирь? Сюда зря не гонят. Смелая больно, я дело запрошу. Посмотрю. Не из ночных бабочек? Я тебя по крыльям узнал. Что-то, думаю, напоминаешь...
– Как не напоминать, и очень даже. Аль забыл, сердешный, как за волосье-то волочил меня, невинну девицу, ради прихоти да как надругался? Ужель из памяти вышибло, как тело мое белое терзал, быдта ворон во поле чистом, и ниоткуль мне ни надеи, ни подмоги. Братушки и сестрицы, гляньте-ка на злодея, – Он все забыл, христопродавец, измыватель сердешный. У него, значит, память отшибло. Ну, гляди пуще, злыдень!
Таисья придвигалась мелкой поступочкой, ее знобило. Вот, оказывается, кого видеть-то хотела все эти годы; думала, увидеть бы каина да взглянуть в его обличье, в глаза окунуться – вздрогнут ли они, есть ли что человечье в них?! – И вот взглянула, и сердце сжалось: зыбь там одна, мельтешенье, словно снег-сеянец кружит, непогодь там и ледяная пустынь. Проймет ли его слово? И неуж душу навовсе продал фармазону и живет сейчас с пустою грудью, не страдает, не мучится?
– Сыми фуражечку, сыми, – попросила вдруг, и лицо стало жалобным, слезливым.
Сумароков неожиданно покорно снял фуражку, обнажив крупный череп с длинными залысинами на висках... Нет, рожки не обнаружились, не проросли пока. Таисья облегченно вздохнула.
– Думала, черт в лешачьем образе, – призналась она тихим простодушным голосом.
Народ в избе засмеялся, исправник очнулся от наваждения, пришел в себя. Загрозился сразу, велел скамью вынести середка комнаты, сам к столу отошел, в спине прогнулся, опершись ладонями о край столешни. Кричал гневно, торопил казаков, молнии сверкали в пасхальной горнице на головы бедных, искренне напуганных богомольцев. Но гроза была той, августовской, в рябиновые ночи, когда по всему небосклону гуляют зарницы, глаза слепит сполохами, но ожидаемых громовых раскатов нет. Пусто внутри клубящегося аспидно-черного неба, не рождается там дракон. Не напасть ему на Таисью, для коей и назначалась вся гроза. Так и в Сумарокове жила под сердцем удивительная засасывающая пустота: один человек что-то командовал, размахивал руками, брызгал слюною и угрожал невиданными карами, но другой Сумароков все свои кары видел бессилыми, беспомощными.
Заплакала бы монашена, взмолилась, на колени бы пала – вот и торжество бы для Сумарокова, вот и умиление сердечное. «Юродицу сечь – грех неизнашиваемый, черный, непростимый грех. У кого подымется рука на юродицу – тот конченый человек», – думал он. А Таисья пощады не просила, но с улыбкою на устах добровольно легла, рясу заголила, обнажив изнуренное тело, покойно закрыла глаза. И народ замер.
Лешуков подсекал сердито, вымещая боль, отпечатавшуюся в ягодицах. Когда вздымал руку, исподники отрывались от подсыхающих мясов, кровоточили раны, и свою досаду и злость казак заглушал чужою болью. Таисья не стонала, но, закусив губы, лишь бледнела, мертвела ликом. И оттого, что не вопила, не металась, она быстро сомлела и потеряла память. Сумароков забылся, подошел вплотную, наклонился над расписанным телом, обегая единым взглядом от пяток до острых девичьих лопаток, и изумился, что вроде бы знает и помнит его. Хотя там, в тундре, под Мезенью, ничего же видеть не мог, пьяный и безудержный. Но откуда же тогда помнит стройное узкобедрое тело с острыми детскими лопатками? Забыл исправник, забыл, что тою же ночью в пьяном угаре терзал Таису в чужой избе под образами, волочил по полу нагое тело, намотав косы на руку, и девка металась, изворачивалась, билась в его руках, как большая белая рыбина.
И неуж запамятовал, сердешный? А раз такое запамятовал, то и не вспомнится более, не всплывет.
Ровным полусонным движением Сумароков потянул рясу к ногам юродивой, прикрыл наготу, цыкнул на Лешукова, чтоб тот отвернулся, злодей. Приказал уряднику замкнуть радельников до утра и зорко стеречь, а сам торопливо вышел, брякнув ножнами о косяк.
«Зачем не простил? Простить бы надо», – мучился Сумароков дорогою к избе старосты. И в доме уже, люто напившись, он не мог расстаться с назойливой мыслью, и с каждою рюмкой вина его росла. Несколько раз он выходил на волю, порывался к избе Аввакума, но с полдороги ворачивался. Он пьяно качался в темени, скрипел зубами, и от этого надрывного стона, шатаний и бессвязных мольб становилось вроде бы легче.
Ночью во сне Сумароков сильно жалел себя и горько плакал. Как всегда, пред самым утром явилась юродица, ныне особенно светлая лицом. Сумароков вздымал глаза и видел перевернутое и оттого странное лицо ночной незваной гостьи. Она слегка сутулилась в изголовье и молча утешала плачущего легким касанием прозрачного покрова, тем самым лишь усиливая слезы.
Глава седьмая
Симагин добрался до реки Мылвы без помех. Там они встали на лыжи, загрузив себя переметными сумами, а лошаденку с пустыми розвальнями повернули встречь дому, хорошо взбодрили ее понюжальником[90] , перетянули по хребтине, и та с охотою помчалась к дому по знакомой дороге...
И надо было случиться, что перехватила кобыленку казачья застава близ Спаса, и по следствию, по незамедлительным допросам с пристрастием обнаружился след ссыльнопоселенца Симагина, отлучившегося из села без отпускного билета, и с ним второго мужика, для мест этих темного и чужого. («Поди, рестанта беглого и каторжанца, на ком креста нету».) И урядник, ведший следствие, так решил, что это ссыльный поселенец Богошков Донат Калинов, бежавший из-под запоров с почтовой станции. Ловить его требовалось незамедлительно, ибо много чего лишнего знал беглый по случаю, много всяких слухов мог разнести по таежным заимкам и деревням, и слухи эти могли обернуться худом для исправника.
А Сумароков пил, не просыхая, уж которые сутки, а с пьяным в пути греха не оберешься. Но щами серыми да квасом едва выходили начальника; тот опух, и глаза его, прежде острые, затянуло веками, и сквозь узкие щели едва сквозило розовым и бессмысленным. В шестом часу начали сряжаться в Паисьеву пустынь, уже лошадей обрядили, овсецом заправили, поднапоили, дорожную рухлядь снесли в подводы, и сам Сумароков вышел из постоялых хором к своей кибитке, отогнул на сторону фартук и собрался сесть да скорее заснуть. На улице огни горят, для свету фонари запалили, и Сумароков, еще пьяный вовсе, в последний раз оглянулся, чтобы отдать команду трогаться, как тут неведомо откуда явились два старца. Сумароков увидал лишних людей, подумал, что они из корабля Аввакума, пришли за милостью, и, не дав слова изъяснить, исправник сразу закричал, дескать, что вы тут шляетесь, подлазурщики[91] , за кем надзираете. Они же со смирением ответили, нисколько не обидясь, что мы, мол, не надзиратели и не подлазурщики, ничего не выискиваем и не промышляем, ибо все у нас есть, чего душеньке угодно, но посланы к тебе из Мылвинской пустыни, чтобы ты ехал к нам в пустыню кротко, со смирением и нрав свой злобный утишил.
Сумароков не дослушал и снова грубо заорал:
– Вы воры, подлазурщики, ходите и людей моих прельщаете, в ересь вводите. Вот прикажу я вас взять в плети, да и не погляжу на старость и седины.
Но старцы снова не испугались и так же со смирением, друг на друга показывая пальцем, назвались один Иоанном, другой – Геннадием, и оба они из верховских скитов.
Сумароков велел казакам старцев взять под караул и посадить и снова решился в сани сесть, одну ногу поднял, а другую не успел уложить, как старец Геннадий, сняв с себя мантию, махнул ею слегка по глазам – исправник оцепенел, и свет из очей его потерялся, и пал Сумароков, как колода, мертво на землю. Казаки соскочили со своих возов, собрались его поднять и внести обратно в постойную избу, но исправник глаза открыл и, слабо махнув рукою, попросил, едва владея языком, чтобы его не трогали, дали отдохнуть. Лежать на снегу было покойно, и Сумароков, отдавшись пустоте, объявшей все его естество, закрыл глаза и покорно погрузился в темень. Он все слышал, что творилось вокруг, но не мог рукой шевельнуть, не в силах был ногою двинуть.
Какое-то время полежав в беспамятстве, стал Сумароков потихоньку в разум приходить, сам же, без иной помощи, сел на снегу, обвалившись спиною о повозку, спросил у урядника, у команды, не видели ли они возле кибитки двух старцев. Казаки же отвечали, что никого из посторонних не заметили, только странным показалось, что начальник кого-то гонит прочь от постойных хором, но кого гонит, кому грозится, казаки в толк не взяли. И понял тут Сумароков, что допился до чертиков.
Решено было погодить и этим утром не ехать; исправник, испугавшись за свое здоровье, отдохнул, отоспался и следующим утром, забыв злосчастное виденье, так решил, что ему все почудилось. После обеда тронулись погонею в Паисьеву пустынь. Но верст трех не отъехали от села, как в кибитку к исправнику подсели в дороге те же старцы – Иоанн и Геннадий – и снова принялись увещевать, чтоб не досадил исправник Божьему люду, расправы не творил, а лучше бы, коли ворочался в домы свои да там бы и помолился усердно. От виденья у кого хочешь шапка на голове подымется: ну снег бы там, туманец, можно бы решить, что почудилось иль после захмелки крутой, когда внутри зеленое пламя гудит и череп воспламенен, как пороховая бочка. Но ведь не прикладывался нынче к сладкой французской водочке. Сумароков робко поначалу дернул Иоанна за рясу, ощутил плоть, слегка пахнущую тленом; борода снежная, сквозная, поясная, а руки мужицкие, скрюченные работой. Может, этих рук и напугался исправник, но вдруг, осердясь уже на себя за нерешительность, спихнул с полоза сначала старца Иоанна, а после и старца Геннадия; и еще, оглянувшись, видел, как пурхались они в снегу, катились, силились подняться и не могли, святые люди, меркли, таяли, угасали в сувоях. А подводы, что тащились следом, отчего-то не приостанавливались, и никто из команды не соскакивал с саней, не спешил к лесовым шишам, чтобы обротать их. Болью в висках вдруг замутило голову, исправник длинно простонал, стиснувши зубы, от крутого, надсадного поворота головы онемела шея.
– Гони! Заснул, дьявол! – ткнул Сумароков кулаком в толстую спину возничего и устало откинулся в глубь кибитки, завесился кожаным фартуком, закрыл глаза.
И тут дикая мысль пришла: «Господи, не схожу ли я с ума? Откуда старцы-то явились, из каких краев, какою дорогою гнались следом и на чем?» И сам за себя, за свой разум испугался Сумароков и дал обет больше не пить...
Но с версту не отъехали, как чистое небо заволокло, затянуло маревом, белесой мутью, низовой ветер потянул, снежные смерчи змейками встали по взлобкам, и санный след стало скоро затягивать. Потом по еланям, по пихтачам прошел сильный шум и дуян, еще робкий сиверик, высоко взнялся, ушел в небо, затихнул на мгновенье, но к земле вернулся со шквальным потягом, будто суровые полотна рвали, с таким упорством навалился на леса, что, казалось, готов бы перешерстить их. Лошади споткнулись задышливо, встали, и все усилья возничих были напрасны. Такой тут снеговей поднялся, такая завируха, что спаси Бог наши души. Едва подтянулись, стали кольцом, сгрудились в затулье за возами, за лошадиные боки. И снег, не то чтобы ситничек, весенний да мягкий, но ледяной стриг воздух. Убойной силы был тот снег, словно картечью сыпануло с занебесья. И не выдержали казаки – потоптались для приличья, помялись да и решили вернуться в село несолоно хлебавши. Въехали в Спас, и непогодь тут же упала, небо раздернулось, синь глаза ест.
А назавтра тепло легло, снега потекли, дороги рухнули, не держат коня, путик к мылвинским скитам надолго закрылся, почитай, до конца мая. Не сидеть же тут, ожидая у моря погоды и конца распуты, пока-то дороги примут тележное колесо. Тут дай Бог на санях добраться до Березова, да и иных дел невпроворот, у исправника во власти земли большие, везде глаз нужен, везде управы и дозора требует норовистый сибирский народишко: дай слабину, попусти слегка – тут и потечет меж пальцев, распустится, разбредется по лесам и дорогам.
И постановил Сумароков старосте бродяг этих сыскать и своею силою доставить в уездный острог для спроса.
По приезде в Березов узнал Сумароков у архиерея под удобным предлогом о старцах Иоанне и Геннадии из мылвинских скитов; и оказалось, что померли те тридцать лет тому...
Глава восьмая
Жаркого, рудо-желтого цвета с багровыми змеистыми прожилками был тот отвесный берег стосаженной высоты над гремучей Мылвой. Коли снизу смотреть, шея устанет напрягаться, и за один раз, пожалуй, не обозреть каменную стену, отглаженную ветрами и дождями, где и птице не прилепиться, не свить гнезда и даже случайное травяное семя, охочее до каменных расщелин, здесь не даст поросли. А по край реки, поверху – лес-жаровник, ситоватый сосняк с кудрявыми папахами о самые облака.
Подошли беглецы ко краю, отыскивая косик иль иной спуск, наброд, звериную тропу иль сохачий след к водопою, глянули вниз, охватясь рукою за отвилок креневой сосны.
Симагин вздрогнул, отодвинулся от пропасти, водрузил на голову меховой картуз с надписью: «Я бог всея земли».
– Где-то здесь Паисьев берлог, – сказал Симагин, с сожалением вздохнув, и они устало поползли на лыжах. Уже насорено было в лесу, и дальний заречный березняк молодо сиял новыми одеждами.
Невдали, в снежной складке, отыскался и пустыннический след – набитая колобом тропа. Вдоль высились сухостоины, загодя на корню припасенный для топлива лес, окольцованный по стволу и уже умерший в вершине; оставалось свалить, разделать на поленья. Наметанным взглядом Донат сразу приметил дровяной лес и решил, что слабому, преклонному отшельнику эта работа не по плечу. И уже настроился увидеть рослого, кряжистого мужика, к коему с лихим намереньем не подступись. И дальнейшее, что случилось, лишь уверило в том Доната.
Путники неожиданно вышли на мосток, висящий над пропастью. Каждое бревно этого перехода было с исполинскою силою как бы вбито, всажено, врублено в скалу, а сверху накидан настил из колотых плах. В конце десятисаженного моста над пропастью виделась пещерица, и, пока шли над бездною, рукою невольно касаясь студеного камня, плахи над ногою отзывались пустотою. Как прилепилось подмостье? Почто не катилось оно вниз? Как держалось оно, где и ласточке-береговушке не выточить крохотной выщербинки для гнездовья? Перед входом в склеп Донат задрал голову, потом заглянул вниз и ощутил себя мальчишкою, крохотным зверьком, загнанным в западню. Окажись кто позади с дурным умыслом – отступление обрублено. Майся в каменном мешке, пока не съест голод. Но ведь сам заманился, сам очаровался, столько промял дороги, завшивел, износился, и так влекло тебя, словно к родному дому торил тропу, к родительскому погосту. А где нынче дом? Закрыт он, запечатан, и куда бы ни намерился двинуть ты по России, везде запоры, надзор и несносимые тюремные пали. И не успел так подумать Донат, лишь ощутил себя ничтожною соринкою, случайно прилипшей к стосаженной отвесной стене, блохою, случайно придавленной шквалистым ветром, как позади разнеслось мычание иль сохачье хорканье, скотинье и свирепое. У входа на мосток, откуда только что явились скитальцы, стояло чудище-юдище, по самые глаза закиданное смолевыми волосьми: такое было первое впечатление, что юдище окутано шерстью. В одной руке юдище держало топор, в другой – тяжеленную дубину. На эту-то палицу юдище опиралось, а когда беглецы замешкались, свирепо взмахнуло ею над головою.
«И неуж это инок, святой старец?» – ошалело подумал Донат, но не испугался, а неведомо отчего возвеселился. Надо же было так упираться, так выломаться в длинной дороге, чтобы в конце ее, где открывался вещий смысл тягостного пути, вдруг встретить немого идола. Симагин же оскорбленно вскинул голову, и львиная грива встала дыбом. Это ему, богу и повелителю, указал зверина лесной.
– Ты не ширься, упырь! Ты мне не ширься, ты нам пути не указуй! – вскричал Симагин, но обернуться не осмелился. Симагин подобной встречи не ожидал и сейчас скоро соображал, откуда явился лешачина, нет ли от него особого худа и как себя повести с ним. Может, Паисия давно нет вживе? Он украдкою потянул топор из-за опояски и сразу ощутил уверенность. Нет, труса Симагин праздновать не намерен, как ты хошь. Ты его к бегу не принужишь, не из того теста слеплен.
Скитальцы, понуждаемые свирепыми рыками юдища, вступили в пещеру, черные стены были неожиданно сухими, теплыми, как бы обогревались изнутри, и не сочились влагою. Даже сейчас, в весеннюю пору, когда вся земля потеет до самых глубин, готовясь разродиться ручьями и потоками, когда по жилам ее соки стремятся вверх, чтобы напоить твердь, опутанную кореньями, а после воспарить в занебесье, – эту пещеру вода, однако, не омачивала, но огибала с покорством. Глаза скоро приобыкли, оказалось, не так уж и темно, свет, пусть и слабосильный, мерцающий, струился из глубины, в притвор неплотно запахнутой двери. Смущало лишь юдище, оставшееся на мостке. И хотя, быть может, еще большие страхи поджидали в глубине пещерицы, но Донат, спокойный и какой-то необыкновенно радостный, с уж давно забытым чувством душевного покоя, решительно открыл дверь и увидел келейку, обшитую лиственничным тесом. Донат был настолько занят необыкновенностью иноческого пустынного житья, что на время позабыл и о спутнике, даже не заметил, как вдруг ощутимо потемнело в келейке, ибо позади юдище закрыло собою узкое чело гранитных одиноких хором. Оно молча торчало, опершись на дубину, и дозирало за незваными гостьми.
В келейке оказалось опрятно и сухо, много висело по углам душицы и деревея, – может, от них источался тонкий, пряный запах жирного сена, скошенного до дождей. Вся дальняя стена была увешана иконами, но только под одною, под образом Спасителя, теплилась лампадка. На полу на коленях стоял монах и причитал, горько плакал, – наверное, готовился к смерти, поджидая ее из рук юдища.
Вот он, хранитель Беловодья; гляди, Донат Богошков, пуще гляди, отринутый, бродячий, невольный человек; зри и запоминай обличье его, помести в душе, как лампаду негасимую.
Был отец Паисий из русских московских дворян. Однажды, в моровое поветрие, перемерла у него семья вся и дворовый народ, а сам он, покоренный неведомым страхом, что был пуще смерти, бежал в монастырь и постригся там в иноческий образ. Потом несколько лет жил в олонецких пределах самым жесточайшим образом, под кореньями в земляной яме, пока злые люди не прогнали его. И отправился Паисий по земле, терпя всякую нужду и студень, в одной суконной ризе, а в кошеле, что нес за плечами, были лишь Псалтырь да святцы. Но показалось ему кощунствием идти налегке, так положил еще камень-булыгу, и тяжесть на хребтине услаждала душу. Долго стремился Паисий неведомо куда, перевалил Волгу и Урал, углубился в сибирские пределы; и когда случалось кому с Паисием по одной дороге ехать, то попутчики просили странника на подводу сесть иль хотя кошель туда кинуть, но скиталец отказывался. Говорил же он чрезвычайно мало и хлеба брал тоже скудно. И вот случилось Паисию в Енисейском округе напасть на гонимого человека. Был он вроде блаженного, ходил по весям и соблазнял Беловодьем, смущал народец, сбивал в ватаги, водил куда-то за тридевять земель, откуда многие не возвращались. А он, дремуче заросший мужик, снова являлся, будто смерть его не брала. И однажды бабы, чтобы не рассыпал леший деревню, не сбивал с ума путных людей, избили блаженного каменьем, долго гнали его дорогою, пока не столкнулись с Паисием. И тот остановил осатаневших баб, благорасположил коротким медоточивым словом, и они, плюнувши на бродягу и на святого скитальца, кинули их середка дороги. Паисий назвал нового знакомого братом, и пошли они вместе по Руси. Был новый приятель Паисия как бы опоен дурною травой, ибо часто заговаривался, нес околесицу насчет райской земли. Но он так вел себя, будто действительно знал обетованный край, где свобода милая и нет никаких властей, но забыл то место и сейчас мучительно вспоминал, кидался из края в край, но натыкался на заставы, на казачьи разъезды и таможни, на церкви и расправы, на становых и приставов, требовавших пачпорт и отпускной билет. Но каждый раз удавалось блаженному скрыться, уйти от погони, и, набрав новую команду охочих до рая, он удалялся в горы. И сейчас, добыв небольшой стружок, названый брат с Паисием долго спускались по Мылве и ее притокам и, перезимовавши в тайге, только следующим летом попали в очарованный озерный край. Спутник был возбужден, но необычайно трезв, не было в глазах его того опойного шалого блеска, коий настораживал многих. Брат спешил, словно боялся потерять внезапно вернувшуюся память. По ви?скам, по многим запутанным протокам, мимо гнилых болот и ржавых мертвых чернолесий, закоченелыми трупами стоящих в тухлой воде, они дотянулись наконец до матерой земли. Они поднялись на перевал и будто из студеной земли угодили в обетованную, благоухающую, теплую страну, хотя по всем приметам, что цепко запоминал Паисий, они удалялись постоянно на север. Брат вел упрямо, без сомнений, по-звериному оглядываясь, наверное, пугался заставы иль западни, он часто скрадывался без поводу в еланях, таился, то же самое приказывал делать спутнику. Паисий подчинялся, им тоже овладела пугливая сторожкость, он потерял ровность умиротворенной души, и даже Бог отшатнулся от него на время. Однажды на восходе солнца брат отыскал наконец глядень – не то гладкий валун, не то плиту с письменами, замшелую, приметную только знающему. Брат дождался, когда солнце коснется вершины пихтачей, встал на глядень, слегка принагнулся, потом поманил пальцем Паисия. И после, когда поменялись местами, брат молчал, будто лишенный языка, только тыкал, совал пальцем вперед, перед самым носом спутника, а тот ничего не различал в густой провеси лапника. Но в какое-то внезапное мгновение полыхнуло, особенно разлилось солнце, и в крохотный прогал, в кулижку голубого осиянного неба, как в зеркальце, увидел Паисий то чудо, коего не забыть до кончины. Показалась сиреневая, омытая водами земля, некий остров, тихо, торжественно плывущий по озеру, так можно было догадаться по дальним грядам лесов. Избы взбегали на холм, на самом взглавье его подымался монастырь из ослепительно белого камня, посреди его высокая церква с огромным золотым куполом сияньем своим затмевала солнце.
Но не успел Паисий насладиться зрелищем, как брат внезапно дернул его за подрясник. Паисий оглянулся нехотя, увидал размытое лицо, тусклые глаза, распущенные в гримасе губы. Полный сердечной радости, с одной мыслию, что надо спешить в обетованную землю, Паисий хотел воскликнуть что-то и засмеяться торжественно и счастливо, но брат не дал, а, обзывая себя сволочью и изменщиком, схватил инока в охапку и унес прочь с перевала. Паисий не отбояривался, сознавая всю беспомощность свою. Но он, варнак, бросил Паисия возле осотного озерца, где таился их стружок, и несколько раз высоко вздымал медвежью ногу, пытаясь раздавить лежащего инока, но не хватало, знать, решимости. И, внезапно спохватившись, оставил Паисия, кинулся в ближние плывуны и кочкарники и на какое-то время затаился посреди мертвого осинника, затих. И вдруг раздался звериный, потрясший округу вопль. Паисий поспешил, отыскал брата, лежащего ничком, опутанного тиной, залитого кровью. Он увидал нож в откинутой руке край отрезанной плоти и понял с ужасом и жутковатым восторгом, что брат лишил себя языка. И восхитился Паисий тому подвигу, и долго плакал, заливая безмолвного, страдающего путника слезами и давая клятвы...
С год, наверное, они пробирались обратно, и к блаженному брату уже никогда не возвращалась ясность ума. Он стал тихим и кротким, как малое дитя, но зато неотступно следовал за Паисием, – наверное, боялся его измены и неверности, дозорил каждый шаг. Совсем случайно наткнулись на эту пещеру, и десять лет, врубаясь в скалу, с диким упрямством и превеликою мукою брат строил мосток. В зной и студень, под шквальным ветром и в секущий дождь висел он на веревках и долотом вгрызался в гранит, не страшась пучины. После наружный тайный ход запечатали каменьем и скрыли дерновиной. Сами однажды искали тот лаз и найти не смогли.
Обжились, обустроили келейку, и народ потек к ним за духовным светом. А Беловодье в сердце живет негасимо, как солнце, а может, и куда пуще, ибо не замирает, не западывает в подвечерье.
Думаете, легко Паисию нести тайну, коли с одной стороны подпирает смерть, а с другой – жалостливая душа, раскаленная горестями многих братьев своих. Хочется же обнадежить их, утвердить не только сладким, кротким словом, но и врата распахнуть: иначе закоим жить? Мимо сплывали по белой воде Мылвы многие тыщи народу, попадали в Бухтарму, в верховья Черного Иртыша и далее, стремились к Акиян-морю, искали Япан-остров золотой, тыщи верст мерили стоптанными ногами, терпя глад и нуждишку нестерпимую, отчаивались по долгой ходьбе, возвращались в родные домы к позабытым семьям, а пересидев, снова кидались в путь. Какая неисповедимая сила влекла, что за мечтания овладели вдруг русским народом? Хватало лишь слуха, красноречивого баюнка, чтобы всколыхнуть мужика, уверить, дескать, есть иная страна с истинной, незамутненной верою. Некоторые, особенно отчаянные, пошли к индусам, в Бангкоке были, в Гридабаде, но так и не достигли земли патагонов, где царствует царь Григорий Владимирович с царицей Глафирой Иосифовной. По всему миру шатались, в какой заморщине не перебывало нашего брата, все прилуки и излучины проглядели, многих собратьев схоронили на чужбине, а вернувшись, с печальным вздохом утверждали, бия себя в грудь: нету, дескать, на этой земле свободной обители без печати, без надзора и податей. Нет воли, не-ту-у, братцы!..
Плачутся Паисию радые любому кроткому слову, и он плачет вместе с ними. Но душою-то ночами тоскует, нет в снах прежней легкости и мира, черти вьют хороводы. Ведь знает Паисий, знает, что есть Беловодье, сам возле был и своими глазами видел.
Но не там ищут люди, не там, не в той стороне.
Быть может, открыться им?..
Услышав гостей, монах поднялся, сошел с примоста. Он принял их за обычных богомольщиков и привычно протянул серебряный крест для целования, осенил перстами, легко, плавно вздымая руку. Несмотря на преклонные годы, Паисий не казался ветхим, двигался молодо, под рясою проступали острые, прямые плечи; желтое от долгой постнической жизни лицо его было полно того редкого благородства, той тонкой красоты, коя дается не природою только, но долгой духовной работой над собою, самоустроением. Глубокие темные обочия, крупные веки, нос гордоватый, прямой, губы сочные, удивительно молодые в серебре бороды, уши великие, оттопыренные, просвечивают насквозь две тонкие раковины, чтобы проникать слухом в вышины неба и в глуби земли; глаза близко посаженные, жидкой голубизны, – наверное, выцвели не только от старости, но и от пролитых слез, оттого и веки красные, набрякшие. Схимник плакал так обильно, что глубокие складки лица были полны влаги и усы посерели, набрякли от слез. Донат охватил взглядом всего схимника от калишек на ногах до снежного венчика волос над крупным бугристым лбом – и сразу покорился монашьим видом. «Не зря торил дорогу, не зря, вот где конец пути моего», – подумалось смутно, и Беловодье на время забылось. Донат вдруг уверился, что готов жить до кончины в пещерице, прислуживая старцу.
– Ты гони бродягу-то, – веско сказал Симагин и указал перстом на звериного вида человека, стерегущего пещеру. – Гони вон, от него дух псиный. Отягощает дух! Как ты приемлешь?
– Это брат мой, – ответил Паисий и слабо улыбнулся, нимало не осердившись. Но Симагин-то не таковой, чтобы так просто отступиться; он из породы тех навязчивых людей, кои в любых пределах, в любом общежитье иль ином месте, куда ступит нога, сразу начинают подавлять волею своею и навязывать чужую жизнь и привычки.
– Ты, отче, слепой? Ты вглядись в меня пуще! Ты бы ниц должон пасть предо мною и раствориться.
– Вижу, сынок. Слава те Господи, пока зрю. Еще хмель в тебе бродит.
– Я ваше царство и бог ваш!
«Пусть чудят, – подумал Паисий, – пусть прихиляются, эх, дети-дети. Лишь бы не потерялись. А то куда занесет? Уж не очиститься. Придет старуха с косой, а ты в гордыне, аки во гноище. Куда плыть? Со своею прихотью не совладают, а уж метят править».
Схимник вгляделся в гостя, в глаза его и поразился текучести, мглистости их. Были глаза как улово, где вода кружит: угоди ненароком – и засосет даже самого бывалого. И Паисия стало втягивать, у старика сердце стронулось и забилось порывисто. Спохватился отшельник, отвлекся от надменного каменного лица. А Симагин забылся на время в гордыне своей, пробежался по келейке, тыча пальцем на убогое житье Паисия.
– Укрылся в берлог, дак и святой? А может, вор, может, убивец? Глянь, кровь запеклась. Я кровь хорошо чую, она душниной пахнет... Ты глянь, старик. Ты не вертись. Читать умеешь? – Симагин снял свой картуз, помахал пред стариком.
Тем временем брат возился у огнища, готовил нехитрую выть, чтобы приветить богомольцев. Он дул на живые уголья, заслоняя глаза от золы, и был вроде бы сосредоточенным, одиноким, немым, глубоко занятым работою. Потом вдруг поднялся от огнища, когда заиграло под котлом пламя, и вошел в келейку. Донат не ожидал подобной порывистости от громоздкого, клешнятого человека. На мясистом багровом лице брата глаза казались особенно синими, с хмельною негасимою радостью в глубине. Такое было чувство, что брат всегда смеялся. Он подошел к Симагину, неловко и грубо стащил с головы странную шапку с надписью: «Я бог всея земли», вернулся в придел и бросил ее в огонь. Пламя возвеселилось и скоро слизнуло ветошь и прах. Случилось все в одно мгновение, Симагин только уркнул утробно и спрятал голову, ожидая удара. И Донат замер, ожидая грозы. Ведь на бога покусились, на нездешнего человека. Какою бесшабашною силою надо обладать, чтобы покуситься на самого бога. Но ничего не случилось, против ожидания кара не настигла брата. Он сидел на корточках перед костром, пластал на доске вяленое сохачье мясо и по-прежнему улыбался. Веселое пламя скользило по лицу, и в этом пламени глаза брата вспыхивали ослепительно и проваливались во мрак. И так чередою: дитя – зверь, дитя – зверь...
Симагину бы загрызться, полезть на рожон, но он, бывший княжеский повар, из заморских стран привезший чудные мысли, вдруг вернулся к забытому холопству своему, и блаженный брат оказался чем-то вроде князя. Симагин опустился на корточки у стены, жалкий, пониклый, обхватил голову руками. Что мог сделать он пред дикой лесовою силой? Что стоило его слово, ежели не могло оно обуздать и привести в трепет даже одного человека. Ведь пред блаженным слова мертвы, блаженный живет своими чувствами, им правит неведомая сила. Симагин торчал куличком, тихо скулил и мотал головою и, наверное, впервые за много лет вспомнил Христа. Христос силою не мог внушить поклонения себе, не словом особенным, но страданьем ошеломил, растревожил и очаровал.
Короткую просительную человечью слабость отшельник и Донат старались не заметить, но Симагин сам для себя потерялся и в этой келье возвыситься больше не мог. Хоть прочь беги, такая досада. Не время, значит, не время вести полки полками. Но когда-то же придет оно, желанное, и народ очнется от безумного сна, и примет Симагина как бога, и подымет над собою, и восславит.
– Ты-то, сынок, куда стремишься? – спросил Паисий.
– С Каменевым в Беловодье попадали. Он сказал, чрез вас ход.
– Тсс... – Паисий сделал удивленное лицо, и взгляд его застыл на приделе, где возился над вытью брат. Сторожкие звериные уши того встали торчком. – Каменев, говоришь? – возбужденно, громче обычного воскликнул монах. – Сам-от где? – Он так сказал, без тени удивления, словно на белом свете Каменевых лишь один, тот самый, что смотрителем на станции Мужи.
– Погиб, – вымолвил Донат, потупив глаза.
– Погиб? – туманно переспросил Паисий, лицо его размякло, губы отвисли. – Погиб, ах ты Боже. Святый был человече. Ах, как же его угораздило, сердешного.
Глаза у схимника, на удивление, скоро и легко набухли, зарозовели, поплыли, и старец заплакал обильными слезами, не отворотя лица. Донат еще не знал, что дано природою иному человеку плакаться за тех, у кого душа вовсе зачерствела, высохла, иссяк сердечный родник, отмывающий ум от гордыни, душу от тягостей.
Он пошел к иконостасу, уже всех забыв, и там, стоя на коленях, стеная и причитая, безжалостно бия себя в грудь, стал молиться и плакать, и ручей потек от стертых калишек с примоста, по деревянному щелястому полу, с тихим шорохом пролился на охряной камень, скрытый плахами, и там пополнил озерцо, единственное в мире озерцо слез. Если продлятся годы Паисия и жизнь его не пресечется, то озеро подтопит пещерицу, выживет из нее горюющих насельников, подточит гранитный порожек и гремучим водопадом скинется в стремительную, белую от кипящей воды Мылву.
Брат отвлекся от забот, вошел в келейку, встал на колени возле схимника, тоскливо, но осмысленно подвывая.
Симагин очнулся, и удивлению его не было предела. Но вместе с тем слезы Паисия увели от скорбных раздумий и вернули ему прежнюю уверенность и осанку.
Глава девятая
Запоздалая весна нынче скоро отгремела, отполыхала, леса оделись листвою, река укротилась в ущелье, вошла в прежние постели, уже не так сверкала белками. Распута кончилась, открылись дороги, и в пещерицу над Мылвою вползла тревога. Паисий денно и нощно молился, прерывая свои заботы о всей Руси и страждущем народе коротким птичьим сном: брат вел свои послушания, все заботы о хлебе насущном нес на своих раменах, нимало не роптая, уже не сверлил синими глазищами Симагина и однажды даже погладил его по голове, как малое дитя; бог шил себе новую шапку, ладил козырек, он был мастеровым, Симагин, и недаром портняжил по округе и даже в Сибири, на поселении, жил безбедно. Он все мог, этот человек, но возмечтал стать богом и упорно от человеческого убегал. Ему нравилось следить, как ловко работает брат, как легко все получается у него: кипит выть на огнище, вялится мясо, печется хлеб. И не раз у Симагина являлась новая мысль, когда он размышлял о будущем Руси. Хорошо бы, полагал он, чтобы весь народец стал таким – немногословным, безропотным, рукодельным и лишенным страстей. И тогда всем бы хорошо, верно? Никаких особых трудов к их обустройству, никаких сложностей и затей в устроении жизни от рождения до смерти. Такие люди даже ходить будут по-особенному, словно бы не отягощенные плотью, никого не задевая и не беспокоя своим присутствием.
Симагин сшил себе новый куколь, иного вида, похожий на монашеский, из лисьего пламенного меха, напоминающий купол часовенки, и когда поставил его пред собою на пол, то решил вдруг, что неплохо бы сверху увенчать божеский убор серебряным крестом. Но ведь крест – это страдание, это напоминание о Христе, главном соблазнителе человечества, разрушителе природного лада, – и мысль эту отбросил. В углу придела, перед входом, лежала груда каменьев, неведомо откуда взявшихся, цветных, радостно сверкающих, когда заглядывало солнце. Симагин выискал оттуда рубин, величиною с куриное яйцо, и вшил его в шапку. Теперь возник не купол, но маленькая часовенка – знак иной веры, которую принес с собою на землю Симагин. Только прежнюю надпись: «Я бог всея земли» он остерегся сделать, оправдав свою опаску тем, что нет подобающих красок. Сам рубин, вшитый в скуфейку, указывал на верховность его обладателя.
Брат тоже приглядывался к шапке Симагина, несколько раз подползал от кострища и, стоя на коленях, обнюхивал ее.
– Ну ты, брысь, пес вонючий! – огрызался Симагин без ненависти в голосе, но весь напрягался нутром и воли рукам не давал. Даже голос нынче стал заискивающий, без прежнего металла, ибо блаженный мог по тону голоса уловить угрозу себе. «Чего с блаженного взять?» – успокаивал себя Симагин и льстиво улыбался, заглядывал брату в глаза. Тот ловил ласковость взгляда и успокоенно отползал в свой угол.
Донат же целыми днями отлеживался на шкурах, возвращался в прежнюю силу, готовился к пути. Из всех обитающих в келье только он был воистину затравленным и гонимым, и душа его постоянно бодрствовала. Даже в ночи, когда накоротко забывался схимник, Донат лежал с открытыми глазами, слушал пещерицу и видел себя помещенным в черное земное чрево, как в материнскую утробу. Земля дышала не бесплотно, но с тягостью и хрустом, населенная множеством невидных беспокойных жизней, хотящих движения. Все уходящее от солнца безмолвно оседало в толщах, а передохнув там, начинало роптать, советоваться, объединяться в воинство и натужно лезло обратно к свету. И только он, Донат Богошков, был замурован, как муравьиное яйцо.
Подле, тяжело привалившись спиною, заняв собою всю постелю, маетно спал брат. Он и во сне дозорил гостей, не сымал грузной руки с груди Симагина, ожидал от подвоха. Стоило кому-то шевельнуться, как брат тут же вздымал голову и трезво просматривал братию. Жалостно светила лампадка, отец Паисий, по обыкновению, отдыхал в своей домовине из кедровых плах. Гроб стоял на возвышении, лицо монаха виделось деревянным, успокоенным, острым. Серебряная борода выпрастана поверх черной мантии с вышитым на ней черепом. Десятый год спал схимник Паисий во гробу, а смерть отодвигалась от него.
Не шевелясь, Донат начинал молиться, чтобы вернуть сон, и черный камень взмывал над головою, размыкались оковы, сразу приступал свежий, просторный воздух. Потому, наверное, дозорщик просыпался, нервно хватал всех лапой, считал, а проваливаясь в забытье, стонал.
Донат спросил у Паисия о пещерном брате:
– Откуль он? С каких мест?
– А кто знает. Пристал в пути и братом назвался, – уклончиво ответил Паисий.
Выше по Мылве, в полуверсте от келий, тянулся затяжной перекат. Чуть зазевался – опружит посудину, затянет в каменья, и поминай как звали. В той теснине вода ярится, таким зверем живет, что человечьего голоса не слыхать. Робкой душе не плаванье; да и то сказать, робкую душу черти в домашней бане в муку затолкнут. Но как одолеют пороги, вздохнут облегченно, и кто-то, не спросясь, заведет тогда песнь, вскинет в поднебесье пронзительный голос, и крик счастливого певца готовно отразится от камня и охотно пойдет гулять по ущелью, разбиваясь в осколки. Как начал дробиться голос и песня запелась желанно, значит, скоро Паисиево особное житье, скрытня, известная рыбарям и плотогонам, вахтерам хлебных магазинов и ясачному народишку. Здесь река кротеет, набирается алого свету, как по крови плывешь, и каждый палый лист, отраженный в воде, наполнен того особого покоя, будто вместе с человеком отплывает в небытие. Но задери голову, а там, в середине скалы, нора, вроде ласточка выточила, возле завис деревянный мосток, а на нем человечишко корячится, ладит бадью. Услыхал брат песню, этот радостный зов, и норовит принять подношение.
Прямо под пещерицей, в подножье по урезу реки, лежит каменистая бурая косица сажени в три длиною, куда и пристает речная посуда. Тут рыбаки осаживают живник шестами, кланяются поясно, кричат вверх, задравши бороды: «Благос-ло-ви-и, стар-че-е!»
И Сам выйдет на зов, покажется народу, в серебряном венце волос, смутно видимый снизу, словно вознесенный, весь обвеянный светом, и немощно вроде бы, не так различимо самому тугому уху отпустит благословенные слова: «Плывите, детушки, с миром. Бог да не оставит в пути!» Брат спустит бадейку, скоро нагрузят отборною живой рыбой и поплывут дальше, радые удаче, светлому дню и отшельнику, что живет в горе, заступнику и миротворцу, помышляющему и страдающему за всех.
Однажды же, тусклым майским днем, впервые за весну послышалась песнь; она сплывала вниз по теснине и замерла внизу. Брат вышел на мосток: на реке покачивался большой живник, полный рыбы. Мужики упирались шестами, удерживали лодку у каменистой косы; один, сложив ладони ко рту, кричал:
– Тамотки беглеца ищут. У вас бегле-е-е-е-ц?
Брат лишь замычал, неторопливо раскручивал вороток, какими в Поморье достают из моря карбас на крутик, опасаясь прилива. Ворот поскрипывал, на конце замохнатевшей верви болталась бадейка, зависнув в пространстве. Снизу подхватили ее в четыре руки, скоро налили черпальницей живой воды, сверху в белой холстинке положили каравашек хлеба.
– Беглых не держим! – отозвался сверху Паисий, благословляя путников.
– А что за гость тамотки, в пещерице? Берегитеся народу, старче! Народ гневен идет!
Паисий оглянулся и смутился: против воли, однако, солгал. Это Доната вдруг позвало наружу, чтоб разглядеть первых за весну вольных людей. Плывут, куда хотят, Господи, сами себе власть и надея, нынче, поди, домой придут, к жонке, детишкам, довольные баней, избяным теплом, всей надежной, сытой жизнью. А тут безугольник торчит на коленках перед пропастью, неведомо чего высматривая, ест чужой хлеб и своей тени боится. Чуяло сердце, не уйти от исправника, в угон гонит: окружит, затравит, засадой в ружья примет, пока не полонит. Сладко, ой сладко иным чужую душу зажать в горсти и так стиснуть ее, чтобы потекла и обревелась она.
– А что за народишко тамотки? – настаивали с реки, одерживали лодку шестами.
– Да свои, богомольщики! – отвечал Паисий, внутренне сживаясь с обманом и чувствуя близкие перемены.
Лодка покорилась воде, побежала вниз, рыбаки, лениво пошевеливая гребями, упорно провожали взглядами пещерицу, пока не скрылась она за поворотом.
А в келье поселилась тревога. До той поры внушали себе, что все обойдется, минует беда святую обитель. Но тут подперло, деваться некуда. Брат скоро исчез, в сутемках пригнал откуда-то дощаник, оставил его на узкой багряной косе под горою, знаком велел спустить бадейку, загрузился в нее, нимало не убоясь высоты, и на мосток взошел так, словно с улицы явился. Вход из бора, самый зачин подмостьев, сажени на три выворотил, как медведь, лиственничные плахи поставил стоймя, лицо даже не напружилось надсадой. Приготовился к обороне и вернулся в предел к огнищу с таким видом, будто и не отлучался, будто самое привычное для него – держать осады. Хотя какой смысл борониться, терпеть тягости? О ком печься? Кого хранить? Может, самых беспутных шишей лесовых прячут, коим давно пора болтаться на суку. Ни паспорта, ни вида, ни отпускного билета, ни иной охранной грамоты, чтобы опознать человека. Да и умел ли блаженный читать? Но он коротко и рассеянно взглядывал на Паисия и сразу удостоверялся в верности своей добровольной работы. Симагин сидел в новом лисьем куколе с рубином на маковке и каждый раз, как приближался брат, пугливо хватался за шапку и скалил зубы. Симагина давила, изнуряла чужая сила, и вынужденная неволя была невыносима ему. Жалея Доната, Симагин мысленно уже не раз торопил погоню, досадовал, что где-то замедлила, застряла она. Пьют небось лоботрясы, волынят, как барщину отбывают. Но ежели волка решил загнать, то поспешай, сердешный, не жалея ног, ворон попусту не ловит. Ему-то, Симагину, чем грозит? Ничем не грозит. Лишь из-за сотоварища впутался, и этот узел рубить надо. Переменило Доната, совсем вылинял: в Архангельском замке сидели – ему слова поперек не скажи, а нынче квелый, трухой набитый. Из такого тюфяка победного воина не слепишь. Симагин часто оборачивался на вход, но чело пещерицы оставалось тускловато-серым, тихо меркнущим, там не маячил долгожданный гость. В своей досаде Симагин обронил из памяти, что брат разобрал мосток и сейчас все они отгорожены от сладкой воли пропастью.
– Что ты дерганый какой-то? – отвлекаясь от молитвы, заметил Паисий. Впервые, советуясь с Господом, он не плакал, был бледен и торжествен ликом, в старце вызревало, крепилось то давнее желание, которому отшельник противился столько лет.
– А тебе что? Подкусывают? Сыщик? – вспыхнул Симагин, наконец нашедший того, на ком можно сорвать досаду. Но вовремя спохватился, уловил зоркий догляд брата и свел голос до резкого, свистящего шепота: – Помощник Бога на земле? Я смеюся: ха-ха! Нашел должностишку. Умен, бобер. Молчи, пред кем стоишь, обманщик. Пред самим богом стоишь! Ослепни! Сгинь!
– Ну что ты поднялся, сынок? Ежели ты бог, то сделай чудо, – кротко улыбнулся Паисий, нисколько не убоясь гнева. – Ты сделай чудо, сыми ковы. Сейчас придут вязать нас, а ты сделай чудо, сотвори, коли бог...
– Враки одни, враки. Я много земель прошел, хранцузских и арабских, я всякого народу повидел, и никто не встречал распятого... Не было его, не бы-ло-о... И одно в рассуждение и толк идет: одни работают, а вы их хлеб ядите. Вы и здеся с рабом. Вы без раба не можете. Ума человека лишили и понюжаете, запрягли скотинку!
– Опомнись, сынок! Душа твоя гордыней ослеплена. Ты видишь, как я плачу по тебе, а слез нет. Иссохли до дна, ибо слова твои похожи на камни, коими варвары разбивали головы невинных младенцев.
Схимник споткнулся, замолчал, склонил голову, мягкий свет от умирающего костра упал на серебряный венчик волос вокруг плешки, похожей на тонзурку, и он стал золотым, как бы сияние вспыхнуло. Он умолкнул, чтобы последнее слово осталось за Симагиным, чтобы хоть этим снять свой грех за пустые слова и ублажить страдающую в гордыне душу. Шутка ли, коли человек богом назвался самовольно и пошел Русью с посохом паломника. Все бы ниц должны пасть пред ним, а после толпами двинуться следом, по всем дорогам, сливаясь в единую великую реку, но он, Симагин, все так же одинок, и даже те немногие ученики из московской прислуги уже давно забыли своего безумного наставника, и следственное дело, подшитое в прочие связки, навсегда утонуло в канцелярских могильниках.
Дворянин и в схимнике не стирается, он сохраняется в тонких, остроконечных перстах, в мягкости и благородстве обличья, в тех речениях, что легко срываются с искусного языка. Это дворянское чуял бывший крепостной Симагин и потому ненавидел схимника, как притворщика, убежавшего от кары. И, нацеливаясь набрякшим кулаком в сияющую плешку, Симагин вскричал, забывшись:
– С молитвою Христовой сколько вас, Июд? Народ в рабстве, не вздохнуть! В переделку надо пустить, в переплавку, чтоб с корнем выжечь рабство. Чрез вас мы рабы-то, чрез вас и Христоса вашего. К железной штанге прикованы цепями, как арестанты, и тащимся до гроба. Ты слышишь, старик? Одна мышка ест мало, но мыши, когда расплодятся, поедают все. Сколько вас, мышей, с именем Христовым! Обманщики, вруны... Молчи, не хочу слышать. Я еще вернуся с мечом, обагренным кровью, и умоетесь все! Будет чудо!
И снова Симагин вознес над стариком кулак, не с намерением ударить, но для острастки, и, забывшись, не поймал легких звериных шагов брата, не успел отпрянуть – тот неслышно явился за спиною, подхватил Симагина за ворот кафтана и, сунув пару тычков коленкою, кинул в дальний угол пещерицы.
– Хвалишься, всех любишь! – не успокаивался Симагин. – И меня возлюби. Я тебя убить хочу, а ты возлюби.
– Ой-ой-ой, – покачал головою отшельник. – Ну как язык не онемеет?
– Возлюбишь, старик, когда резать придут?
– И тебя люблю, заблудшего сына, за болезную гордыню твою. И неуж не убоишься, не дрогнет сердечко твое пред судом, когда призовут к ответу? Там грешника люто привечают и к допросам водят и один день покажется за триста лет.
– Я бог, я бог! Мне ли чего боятися, – без прежней мощи в голосе воскликнул Симагин и с испугом поглядел на меховой куколь, валявшийся возле порога в келейку. И снова суеверно екнуло в груди: сронили честь, стоптали под ноги уж в который раз. Дикое место, и чрез диких людей сквозь Сибирь бреду, как сквозь пустынь...
– Вы не гневайтесь на него, – вдруг подал голос Донат, доселе молчавший. – Вы рассудите, отец: а врага как? Вот нагрянет он и почнет вязать.
– И врага полюби! – не колеблясь, ответил Паисий. – Он на тебя с оружьем, с пристрастием и гневом, а ты на него любовью. Пускай идет, пусть. Он сатанеть будет, а ты любовью его.
– Но враг вот он, на пороге, я слышу его. Чего ж тогда борониться? Встретим с объятьями.
– А ты готов, сынок? Вдруг в святом скиту прольется кровь и место Божье проклянут, как тогда? Ты готов безропотно страдать, любя?
– Непролитая кровь гнетет, – вдруг признался Донат, сказал с таким отчаянием в душе, будто коросту там содрал. Голос дрогнул и выдал близкую слезу. – Невмочно гнетет, невмочно. Утишиться не могу, отец, – почти шепотом досказал Донат и понурился.
Безмерная тоска скитальца достигла сердца отшельника, ударила в самый родник, отворила его, и легко, обильно заплакал Паисий.
– Вижу, вижу, что Божий человек. Есть на лике твоем печать нестираемая. Смири гордыню, неведомый странник. Буду о том Бога молить.
Отшельник встал на колени, молясь перед Спасителем, и скоро по половицам кельи побежал ручеек слез, заструился меж плахами, звонко закапал, пролился в озерцо слез на каменистое ложе.
Симагин из дальнего угла сверкал глазищами и плевался.
Брат опустился подле отшельника на колени и легко, неслышно приобнял его за острые стариковские плечи, обтянутые черным подрясником. Потом, решившись, сходил к пустому гробу, принес мантию, накинул на схимника. Паисий рыдал, тряслося его худенькое, изморенное тельце, и, как живой, вздрагивал на его спине вышитый череп.
И грянул гром небесный.
Растворились своды, прокатилась колесница громовержца, высеклись молоньи из стальных ободьев, осветили ущелье, пещерицу и помертвелые лица скитальцев.
И потряслась земля до самых глубин. Гул провалился в каменные теснины, а после покатился, клубясь, по-над Мылвою, и даже непокорливая река сниклась в постелях, споткнулась в извечном беге.
А следом спустилась тишина.
И услышали отшельники, как облегченно и звонко упала в озерцо последняя слеза Паисия.
И голос, раздавшийся следом, в этом безмолвии был подобен безжалостным тюремным засовам; он перекрыл бродягам все ходы-выходы и привел их в чувство.
– Эй, еретник, покажися!
Трое в пещерице переглянулись, не принимая к себе дерзкого зова, а блаженный брат радостно расхохотался. Он был готов к обороне и сейчас радовался своей хитрости. Выхватив из огнища пылающий сук, не выпуская из бородатой пасти сохачиную ляжку, он вышел на волю и поднял головню над собою, высвечивая темень. Над обрывом, хорошо различимый, ждал хлыстовский пророк из Спаса, за ним толпился народ. Брат загукал, заграял, замахал головнею, полетели искры в черное ущелье, где бельмом вспухала река.
– Эй, гугня, зови старика! – снова вскричал главарь ватаги; пришедшие из бору искальщики, посланные волостным старшиною, никак не походили на гостей. – Мости дорогу-то, дьявол, а ну мости! Эвон что учудил, гугня. Ужо дорвемся, бороду расчешем!
– Ружжо забыли, вот бы пужнуть...
– Его пужнешь. Кабы на рогатину поднять. Он ведь черт, его пуля не возьмет. На рогатину бы, да под нижнюю ребрину. Сатану на рогатину шибко ладно.
– Эй, еретник, иди до ветру...
Паисий облачился в мантию, покрыл голову скуфейкой, помолясь, вышел из пещеры на край моста, где неясно просвечивал обрыв. Поперечные балки торчали из скалы, как зубья.
– Что припозднились, путевые люди? Идите с Богом, благословясь. С вами Бог и крестная сила! – слабо воззвал Паисий.
Он утвердил душу внезапным тайным обетом и сейчас боялся не за себя, но лишь за тех, кто оставался в пещерице. Дальние, чужие, худо понятные гости хоронились в келье, но, гонимые всеми, они допрежь всех нуждались в защите.
– Отец, пусти на ночевую, – попросился мрачный пророк с дикими азиатскими глазами. В его жилах текла неспокойная кровь, а тут перечили, пересекали дорогу; но ватажник смирил себя, пошел на уловку: – Новины чистили, отец, да припозднились. На дождь позывает. Пусти на ночевую.
– Подите, дети, во спокое. Не вам судить, не нам осуждать.
– Допусти к осмотру, – признался ватажник. – Ежели есть тамотки бродяга, отдай его, отец. А то кабы худа не вышло.
– Отступитеся и подите прочь!
Паисий повернулся и пошел в пещерицу. Брат оперся на шестопер и оскалил зубы. Мужики загудели, заволновались, решились идти на приступ. Кто-то, не дожидаясь рассвета, принялся секчи деревья, вязко, надсадно повалилась сосна. Подтащили хлыст, взялись надвигать к мостку, но брат тычком ноги спихнул вершину, и бревно с долгим замирающим грохотом полетело в бездну. Слышно было, как плеснулось оно в реке. И снова посетовали ватажники, что забыли ружье: снять бы блаженного, как векшу, пусть купается, чертило, в реке и плывет рыбам на прокорм. Они досадовали и на исправника, и на волостного старшину, а больше того на побродяжку, лесового шиша, что бежал с Обдорска, а сейчас, ворина, таился в келье у еретика. Мужики принялись метать каменья, но брат затаился за выступом; и сверху пещерицу не взять, – почитай, сажен двадцать будет. Один выход: иль голодом морить, иль новый мосток ладить. Посветили факелами, малость приостыли, пошли в бор жечь костры и ждать утра. Мелкий дождь-ситничек занудил, загнал мужиков под выворотни; но такой бус хоть чью злость притушит, вгонит в сонное оцепенение. Притихли осадники, кончили орать и угрозы слать, тишина спустилась на землю.
Скитальцы же, помолясь, уселись возле огнища, тоскливо глядя на меркнущее уголье. Брат не дал умереть костру, подкинул смолья, и пламя занялось.
– Ты зверь, ты зверь, ты зверь! – злобно бормотал Симагин, косясь на шестопер, прислоненный в углу пещерицы. – Дай волю, зверина. Отпусти! – Симагин раскачивался, и огромная тень металась по своду. Красный камень, подсвеченный пляшущим огнем, казался кровавым: руда стекала по неровным стенам, копилась под порожком, и брат, истуканом сидящий у входа, был по колени погружен в кровь. – Отпусти, злыдень, – скулил Симагин, наполняясь яростью. – Громом поражу, слышь? – Вскричал, подскочил к шестоперу, силясь поднять, но даже оторвать не смог суковатую дубину, надсадился. – Пусти на волю, нелюдь, пусти, дьяволина! Зверь шерстнатый, зверь! Прокляну, поражу молоньей! Я бог! Дай пути!
Паисий в келейке своей стоял на коленях и, по обыкновению, плакал, но последним словам внял, оставил молитву.
– Я бог, я бог! – передразнил Симагина. – Коли бог, так сделай чудо.
Симагин промолчал на это, а старец подошел к вороту, показал пальцем. Брат жалостно скуксил лицо, отчаянно закрутил головою. Паисий обрал с бороды слезы, промокнул глаза и, не сымая креста с груди, поднес его к целованию. Брат закрутил головою, замычал, и пронзительно-синие глаза его побелели.
– Отпусти нас, раб Божий! – уже вслух повторил Паисий. Он сам себя заточил в скале, а душа томилась по вольному свету и солнцу. Камень угнетал душу и убивал великие помыслы, и потому на миру все творилось не так, как помышлялось старцу. – Пойми, брат. Мы подошли к вратам, а ты велишь затворить их пред гонимыми.
Брат поднялся с порожка, и телу его стало тесно под сводами; пришлось невольно склонить голову пред старцем, похожим на пересохшую будылину. Какая же сила понуждала блаженного, вроде бы потерявшего человечий разум? Поди втолкуй чего зверю: зверь, он зверь и есть. Скала возвышалась над Паисием, и дуновения щербатого черного рта хватило, чтобы вознестись старцу в воздуха, как пуховинке невесомой. А он вот не убоялся, творил истинную власть свою, похожую на чудо.
– Отпусти! Это не моя воля, это воля Его! – Старец воздел палец, и он, вскинутый вверх, едва достиг плеча брата.
И блаженный, давно уже молчавший, обрубком языка вдруг вымолвил ясно:
– Не выдай, отче! Не выдай!
И замолчал брат, умолкнул навсегда.
– Не отец я тебе, но брат, – возразил Паисий и содрогнулся сердцем: себя предал, себя. Давший клятву от клятвы и погибнет. Да кому клятва? Душе неверной клятва, вот кому, пагубе и лепости, что схоронились там, дожидаясь своего часа. Столько лет прожить в затворке и не вытравить скверны!
Брат меж тем наладил вороток, и Донат, понявший замысел старца, скоро собрал пожитки. Дождь все так же бусил, сиротский весенний дождь, от которого хмелеет земля и просит любви: до самых глубин промокнет, а после забродит, заиграет. В полной темени спустились по одному в бадейке на каменистую гривку, стараясь не шуметь, сложили скарб в лодку. Стали ждать брата. Симагин удерживал шитик на стреже, его подмывало толкнуться от берега и скоро унестись в ночь. Но он неведомо отчего боялся старца и смирял себя. А брата не было. Донат несколько раз нетерпеливо дергал за веревку, подавал сигнал, но наверху все молчало. Только мог поклясться беглец, что кто-то покорно, безнадежно всхлипывал и гугнил на мостике. Но, может, кровь толклась в ушах?
А уже пробрезжило на востоке, пролысины пошли по небу, и вода в реке вспучилась.
– Докуль ждать, докуль годить? – нашептывал Симагин, напирая на шест, корма уросила, лодку разворачивало и кренило.
– Ну погоди, ну погоди, – уговаривал Паисий, хотя знал, что брат не явится, и был тайно несказанно рад тому. Но старец тянул время, без вервей, но будто привязанный к этому берегу.
– Ну чего годить, чего годить? – настаивал Симагин.
Подчинившись настойчивому шепоту, старец уступил, едва кивнул головою, и Симагин в полной темени каким-то неисповедимым образом почуял этот знак, отпустил лодку. Она стрелой полетела в ущелье, меж теснин, и скоро потерялся позади скит, и забытый брат, и ватажка в бору, хмуро ждущая утра.
С рассветом мужики вылезли из-под выворотней, злые, встрепанные, принялись дозываться отшельника, чтобы сговориться с ним. Выдай, дескать, самозванца бога да беглого сосыланного, пусть власти сами решают и потчуют березовой кашей, а мы их не заднем, волоса с головы не сроним. Но напрасно кричали спасовцы, зря глотки рвали, особенно горячо мечтая добраться до еретников. Наконец над пропастью снова явился брат. В утреннем волглом воздухе со сбитой набок бородою и колтуном смоляных волос, поднявшихся дыбом, он выглядел особенным, давно забытым идолом. С медведком в кедрачах наодинку встретиться – и то страх не так поразит, как при виде этого находальника в смутном человечьем облике: косматый, в звериных шкурах, и глаза, как уголья, красные от долгих слез. Брат оперся на шестопер, тупо смотрел на мужиков, жавшихся на краю обрыва, вернее, чуть выше их, где мерно кружил тетеревятник.
– Зови, кликни еретников-то, слышь. Разойдемся миром. Эй, дурак, зови еретников, вместе пойдем в Беловодье...
– Братцы, да они, никак, утекли, лодки не-ту-у...
– Ты иди сюда, ну иди, – манили пальцем, приседали, показывали зад. Брат все так же равнодушно взирал поверх голов, где кружил ястреб. Мужики кинулись в лес, натащили смолья, стали вязать и, запаливши, метать на мосток. Брат сбрасывал факелы в пропасть. Тогда осадники разделились: одни целились каменьем, и блаженный вынужден был отступить в схорон, а иные, особенно ловкие, метили пылающим смольем за козырек, где бревна мостка не намокли. И вот они вспыхнули, пошли палом, загудели: примост над ущельем горел яро и легко, перекрывая всякие пути к спасению. Скоро огонь метнулся в пещерицу, лизнул стены келейки, и брат, лежащий ничком, услышал, как взнялась, воспламенилась засалившаяся шерсть меховых штанов и душегреи. Наивный, он думал расплатиться грешным своим языком. Но пришел, не миновал судный час... Без ропота принял брат казнь себе за давнюю измену, природным чутьем сознавая, что даже временная измена ведет ко многим печалям.
... Огненная птица вылетела из пещерицы, безмолвная и оттого особенно страшная. Белая вода охотно приняла брата и схоронила в себе.
Глава десятая
Благодетель Громов был как креневая[92] сосна: годы не сокрушали этого неизносимого человека, воздержанная жизнь не изнуряла здоровое от постов тело, и Клавдя, взглядывая на рыжее лицо наставника, порою готов был извести его. «Когда помрешь? – думал, умильно заглядывая в глаза Громову. – Кондрашка бы нито забрала, лихоманка бы затрясла. Иных-то, добрых людей дюжинами метет, для тех всегда дворник найдется. А этот как громовержец, из железа исковая? Я-то ему, поди, затычка жбанная, куда ни заткни, сгодится. Сидишь в креслице моем да мои же деньги попусту мотаешь. В наследники меня метил, в папиньки назвался, никто за язык не тянул, дак почто живешь-то, скотина?»
– Вы бы меня, батинька, ни то к делу какому приставили. Почто измором морите? Я будто пасынок вам...
– О деле после...
Сидел Громов в кресле вальяжно, над головою Селиванов с белыми нечеловечьими глазами, и лампада золотая под портретом, отчего льдистые глаза, проступающие из сумерек, пронизывают насквозь. Руки на бархатных подлокотниках, широкие, твердые молодые ладони с цепким обхватом, и пальцы шевелятся на багровом бархате, словно бы приучают его к себе, к своей неутомимой горсти. Клавдя напротив, на крохотном складном стульчике, голова покрыта кожаным колпаком, весь внизу, почти на полу, вровень с ногами Учителя. Клавдя косится в окно, видит новый конюшенный двор, арабского скакуна чистых кровей на выводке, кривоногого конюха в широкой войлочной шляпе, похожего на гриб; у каретного сарая ладят повозку к зиме; далее, у ворот, новая людская изба, где заселилось десять мужиков, неведомо откуда попавших.
«И все требует расхода, деньги кругом нужны, не кует же Громов, не печатает, но сует направо-налево. Из моего кармана тянет, тырщик, неведомо куда сыплет, пустит голеньким, видит Бог. Коли назвался отцом, так ты будь им, верно? Ты слову своему не изменяй. За измену слову на том свете сковороду огненную лизать не вылизать...
Изве?сть-то что... изве?сть – легкота. Это родить трудно, а известь – легкота. Грабителя известь – на том свете зачтется. Но так надо известь, чтобы человека зряшно не мучить. Я же не капшак, не рачок, что кровя сосет и сосет. Мне бы, как семендыру[93] , чтоб в рот залезть. Кровя-то сосать, дивно ли? А ты так снорови, чтобы сам по себе, сам себе государь, да и своя государева шапка... Коли по навету? Закуют, упекут, ладно. Но вдруг вывернется? Он ведь налим, его хватать, так за жаберы. Под чужим именем в престольной живет, у всех на виду, а как царь, у него всяк в горсти, да не всяк в чести. У него пристав в прихожей с протянутой долонью и енералам за честь гоститься. Хорош налим в ухе, да худенек в реке...
Разве что щепоть мышьяку в вино – и как не было на свете человечка. Подумал лишь, и рука вспотела, вздрогнула: оказывается, безвылазно в кармане тешит, покоит нюхательницу с притертой стеклянной пробкой. Блазнит? Кружит? Приступом берет меня чужая братия. Но до чего, прости Господи, проста смерть: без тягостей и мучений, лишь пена на вспухших губах да язык деревянный заполнит глотку. А закоим язык, коли подохнешь, верно? Он вовсе лишний. И не услышит тятенька, не воспримет даже нутром, что помирает, сердешный, навовсе покидает сей мир. Исповедаться не успеет, ни покаяться, ни приготовиться к Судному дню. Но там-то ему праздник, сам Бог, поди, ждет на белом коне, седло под Богом хрустит да попискивает. Возле левого стремени место Громову...
Нет, в вино негоже. Громов хмельного не примает, говорит, с хмельного черви в утробе заводятся. Табаку бы нюхал, с табаком куда хорошо. Дак он и табачиной брезгует. Есть, говорит, трава-табун, скверный корень, проклятый на семи соборах. А употребит его кто, то вместо мозга во главу его внидет смердящая воня и во всех костях его и во главе его вместо мозга будет зола. Миллионами ворочать – голова нужна, вот и хранит ее; а что воня, не в воне дело. Моя-то голова побоевей его, да ходу нет...»
– Я же ваш, Алексей Трофимыч. Я в сыны позван, дак пошто мною брезгуете? Я как хорь ныне у чужих объедков.
– А я в досаде пребываю. Сижу и думаю: откуда воня? И был на свете Лисовин, и народился вонявый Хорь... Слушай, Хорь...
– А?..
– Извести меня замыслил?
– Как только язык на такое повернулся, отец? – вспыхнул Клавдя, обидчиво побагровел, глаза влажно заблистали укором. Но тут же опустил голову, принялся разглядывать свои ноги в лапоточках. «Какая дивная обутка, век бы не снимывал: в жару емко, в студень не ознобно, и в мокрядь воды не схватишь. За копейку пара, вот обутка дак обутка. Всех бы нарядить, пускай ходят. Сапог-то с ноги сымаешь, дак будто кожу живую тянешь... Нет, пустое, табачиной отца не возьмешь. Не лучше ли в сухарик подмешать, в святой сухарик для причастия? С крестом, со молитвою и отойдет, и грех не больно тяжек. Пойти к стряпухам и всыпать в тесто. Но всех тогда измором? Всех-то тяжко, поди, грех велик, не отмыться, не отмолиться.
Гасником разве, шнурком тонким дух перехватить? Иль жилу боевую пронзить, когда спит? Иль в шее надкол сделать? Никто и не хватится, будто клоп укусил. Иль мухомором опоить? Так у него нюх, у собаки, он штей хлебать не станет, почует. Чуму напустить, холеру. Иль к ведьме сходить, чтоб сглаз навела, порчу пустила? Были же умельцы в корабле, были завистники, не одним днем корабель строился, да вот все отступились от него, а больше прахом изошли... Ты пошто мне в отцы-то назвался? Ты пошто меня поманул да и кинул, ви-тю-тень!.. Вот попрошу Миронушку, у него зуб. Пусть баньку пожарче натопит. В бане-то помрешь, дак как уснешь. С худой земли да прямиком в райский сад».
Вот так потешился, понапридумывал козней, сердце усладил, утешил и будто надсаду грудную снял, опять жить можно. Так решил: чужим веком, поди, жить незаможет, чужой жизни не заест; дай Бог, окочурится. Но дом свой Клавде пора строить, пора, нечего годить. «На Москве Громова нынь знают тыщи народу, а меня вся престольная услышит, в ножки падет да поклонится. Ждали они белого царя, да не с той стороны: он рядом с има, но не скажется. Не пришел срок...»
Ходил с Громовым в баню, тогда и поманил искус: пора сживать старика со свету. Может, подкинуть в каменицу ноздреватого синего камня? Сильна от него дурь, сильна, любая голова разблажится, потеряется. Обслуживал в бане сам пророк Миронушко, был он в одной портяной рубахе, сухие ножонки рогатиной едва носили старца: споткнется и рассыплется в прах. Но есть такие люди, обманчивые видом, коим смерть мыслишь на дню, а они вот, терпеливцы, вроде бы страдая и маясь болезненным бываньем своим, тянутся из года в год, переживая многих, и нет им исхода. Вот так будылина чертополоха и зиму меж снегов перетерпит, и новую весну встретит, и меж зеленей еще долго торчит, как серый призрак. Отирался Миронушко в сенцах, стерег кормщика от лихих, за молодым братцем приглядывал, к булатному мечу готовил. Разделись, вошли в парную, плеснул Громов пару ковшиков на каменья, сразу высоко накалил жар, волосы затрещали; сам шапку овчинную на макушку, рукавицы-верхонки в руки и давай брататься с веником да черта строить посреди преисподней. Поди сокруши такого: его на малиновую сковороду усади, он и там перетерпит. Клавдю баней не удивить, сам в парильне родился и сердцем не квелый, но скоро сдался, с полка соскочил, но и тут форсу не терял, не побежал в сени. Не забывал и здесь Клавдя улещать хозяина красными словцами, высоко покрикивал: «Ну и здоровы же вы, папинька! На спине-то каменья дробить!» Умащивал льстивыми словами, а душу вдруг так и проняло: «Сживать старика пора». Сидит в пекле, как в прохладной горенке, тело из вервей свито, не оплыло, не затрухлявело, и коленки молодые, без шишек. Осмотрел Клавдя себя, уже со стороны, ревниво и пристально, сравнил с несокрушимой натурой хозяина и, устыдившись своей тщедушности, невольно сплюнул. Надо не хозяина убить, но лепость свою убить – и праздником станет жизнь, все богатства мира в груды снесут и кинут к твоим ногам. Только бы не продешевить, не обмануться.
– Больно было? – вдруг спросил, и голос дрогнул, выдал душевную тревогу.
– Только заснуть и проснуться. Ты вот мне, Клавдя, говоришь: отец, мол, да отец. Папинькой кличешь. А какой я тебе папинька? Во избавленье мук душевных прими телесные, тогда и о деле поговорим, и на папиньку тебе откликнусь, и всю заботу на себя приму. Вот посмотри на сокрушенного змия: и неуж страшен он?
– Не возьму в толк...
– И неуж за лепостью постоишь?
– Но страшно, папинька.
– Это поначалу лишь. Перемогись, а после без тревог. Шататься негоже, братец, негоже метаться. Да и куда? Коли веру принял. Кругом заставы...
В предбаннике Громов украдкою дал знак, мол, принимай пророк блудного сына, готовь к «царским печатям». Миронушко понятливо кивнул головою, накинул на хозяина широкий левантиновый халат, проводил в дом. Клавдя лежал на лавке, дожидался Миронушки, озирал сиротское худое тело с веснушками на руках, с длинным волосьем на голенях. «Длинная шерсть к счастью, – подумал и потянул за волосину. – Чего щадить? Эко богатство, эка невидаль».
Вернулся Миронушко в полном пророческом облачении, повязан голубыми лентами, на голове серебряный венчик. С прежней ласковостью во взоре оглядел Клавдю, пробежался легкими сухими пальцами по телу, словно приноравливался к нему, как палач к жертве.
– Ну дак решился, братик мой? Настроился к чистоте ангельской? – Глаза вспыхнули и, прежде белые, пустые, налились желтизною. Иль так почудилось лишь?
Миронушке не терпелось еще одного уравнять с собою и тем утишить внутреннюю нескончаемую тоску. Клавдя напрягся, уловив угрозу себе, вжался в угол предбанника, скоро накрылся рубахою.
– Ну ты, батя! Больно скоро запрягаешь. Торговаться будем...
– За этот товар, милок, будет товару, коему цены нет. В раю место уготовано в самых первых рядах.
– Я на земле раю хочу. Ты здесь мне дай.
– Только прикажи, милок! – Миронушко поднес крест для целования, но Клавдя отвернул голову. Не то страшно, что случится, но после будешь локти кусать, коли нынче оставят с носом.
– За одну шулятку пять тыщ положи... Нет, десять тыщ положи, – поправился Клавдя, боясь продешевить. – Пять наличными и пять после.
– Дорогонько ценишь, милок, огрызок греха. Собаке дать, так побрезгует. За десять тыщ можно голову купить...
– Вот поди, отечь, на базар и покупай за копейку пару. Дурные головы и даром даются. Пять тыщ нынче, остальные после, – упрямо повторил Клавдя и внутренне напрягся. Вдруг арапа дал, не те козыри кинул. Скажет Миронушко: «Живи как хошь, милок», – и пойдет прочь. – Да расписку штоб, не под честное слово.
– Кабы за две... По пять тыщ за штуку...
– За близнецов клади десять раз по пять тыщ. Я не боров, обкладывать даром.
Кто бы иной, посторонний, случайно подслушал сей разговор, то немало бы подивился, решив, что двое сумасшедших затеяли торговлю: сейчас ударят по рукам, договор скрепят братским лобзанием и примутся мучить друг друга. Сначала шулятки продадут, после руки, ноги, все члены тела, лишь блаженную душу оставив непонятному Богу.
– Гордыня в тебе, сынок. Разве не брат ты наш? Разве клятвы не давал блюсти согласье наше? Не рано ли впоперечку пошел, не заплакать бы.
– Свои слезы, выреву, не подавлюсь. От слез никто пока не умирал.
– Ульянушку-то помнишь, греховодник? Так где она нынь? То-то. Нет пущей силы, чем наша сила. Ее ничем не сломить, ни пушками, ни войском царевым, ни антихристовой печатью. Худо отступнику, ой худо!
– А ты не грози, гроза. Ты не грози! – прикрикнул Клавдя, нимало не отступая. Будто кто всесильный за плечом стерег от слабостей и уступок. Дай палец в рот – по локоть откусят. С нашим братом особо не чинись, ему лишь слабину выкажи – скоро запрягут. – Десять тыщ клади, отечь, а там как хошь. Последнее мое слово. Чего жмешься, чего прижаливаешь? Али товар худ? Ты поддержи сироту, дай вызняться...
До положенного срока Клавдя был заперт в келье, чтоб в строгом посту и долгих размышлениях приготовиться к подвигу. Он читал «Указание пути в царствие небесное», но напутствия худо умещались в сердце, занятом хитрым умыслом. Одна мысль постоянно донимала, и от досады Клавдя поначалу места себе не находил: не продешевил ли, не попал ли как гусь в ощип? Вот кабы тыщ двадцать, к примеру, запросил, пошел бы Миронушко навстречу? Не чудо ли: не торговались почти, шутейно на одном разе сошлись. Разве так торгуют? Не в дураках ли метят оставить?
В книге хранилось заемное письмо, где Миронушко заверял к обещанному дню вернуть пять тыщ серебром. Перечитывал Клавдя бумагу, так и эдак крутил, но подвоха не чуял. Он пока не размышлял о будущем, он воспринимал его прежним, без изъянов, тело не млело от предчувствий, не исторгало стонов, было безучастным и сонным.
В третью ночь вынужденного поста, когда горечь во рту стала замирать и тоска в утробе попритихла, увидел Клавдя сон: будто бы на охоте он, стрельнул чухаря, а упала с неба к ногам гнедая кобыла. «Садись, – молвит кобыла человечьим голосом, – повезу я тебя в твое царство-государство, где царить тебе да править, только пуще уцепись за холку, не потеряйся». Распластала гриву и пошла скакать с горушки на горушку на самый край света, и когда Клавдя замлел от усталости, ударило в глаза золотым светом и ослепило...
Сон в руку. Знать, к прибытку, решил Клавдя, пробудившись, и окончательно успокоился. Не продешевил, знать, не продешевил, вот и Господь знак подает к смирению, дескать, все твое будет. И, озирая келейку чистым пробудившимся взглядом, чуя в теле необыкновенную, не знаемую ранее легкость, Клавдя радостно запел: «Тело – вран и нечистая свинья». Он скакал по келейке, бегал из угла в угол, кружился на пяте, гарчал по-вороньи и лаял по-собачьи, а сбросив одежонку и стоптав ее ногами, вдруг принялся стегать себя по ляжкам и приговаривать: «Ах ты вран, ах ты нечистая свинья! Вот получи-ка горяченьких да и еще сполучи без сдачи. Тело вра-а-ан, те-ло вра-а-ан».
«Хозяин-то молвил, дескать, легкота, без мук все случится: заснуть и проснуться, глазом не моргнешь. Не заливает, поди? Зачем ему врать, какой с того прибыток? Один убыток, поди, столько капиталу зря метать? Для какой такой нужды?.. Ишь ты, дьявол, чему учит: заснуть и проснуться. Не впервой мастерам, понаторели. Борова-то обкладывают, дак он не дохнет. Как сонный после, вареный такой, правда, прежней прыти и в помине нет, какая там прыть, ежели сало копит. Но и я не боров, не хряк, мне-то на што сало? Я к будущему капиталу приставлен. Денежки-то есть, дак и калачики ешь, а денежек нет – поколачивай в плешь. С деньгами и козел – царь, верно?.. Больно долго тянут, заморить хотят, известь. Чего томить, мучить человека, коли согласен? По своей воле, по своей прихоти. Я принужденья не терплю и слову своему отбоя не дам... Заснуть и проснуться. Тело – вран и нечистая свинья... Десять тыщ лишь зачин, закваска, опара. Я еще квашню наставлю, теста наведу, хлебов напеку. От моих житних каравашков всей престольной живот вспучит, на двор не сходить. Бойтеся, медведи и мелкие звери...»
Тишина, как в склепе, в ушах звенит, и собственное дыханье кажется чужим, прерывистым, булькающим, будто удушают кого. Невольно насторожишься, прислушаешься, запрешь в себе воздух и услышишь тогда, как тонко, по-комариному гудит тишина. Но скажи на милость, какому дыханью быть в груди, коли нынче меняют человека. Он матушкой-землею рожден жить и плодиться, у него и натура для той цели скроена, но в одну минуту случится вдруг, что отныне незаможет человек ни работать, ни семени посеять в благодатную почву, и вроде бы прежний останется обличьем, и каждый признает его по глазам, и носу, и оттопыренным ушам, но то оболочка лишь, шкура неистребимая, а душа уже не та. А иной души пугаться надо. Вот говорят: не человек, а зверь. Но про иного зверя: как человек, только сказать не может. Родову пресекают, родову, память человечью обрывают напрочь. И позади тьма, и впереди мрак. Ведь как далеко мог бы продлиться Клавдеюшкин род: и воины бы, глядишь, пошли бы, и добрые пахари, и купцы знатные, и баюнки-песенники. Как в пропасть всех столкнуть разом своею рукою, детей, и внуков, и правнуков, а самому остаться на берегу, любопытно наблюдая, как с гнетущим молчаньем летят они в провал, исчезая, испаряясь, унося с собою непроклюнувшиеся ростки гигантского человечьего древа.
Майся, человече, майся: ежели есть конец света, грядет переменье, то для тебя оно нынче случится.
Шесть шагов туда, шесть обратно, будто заживо замурован в бревенчатый склеп; хоть бы отдушина была, пятник с затычкой для вольного воздуха. Уже ни радеть, ни скакать не тянет, но позывает полежать на мягком, забыться в перинах, только кровати нет. Где молишься, там и забудься на полу в коротком прерывистом сне, свернувшись калачом и сунув под голову костистый кулак. Вроде бы вздремнул только, очи смежил – и вдруг вздрогнешь, ровно толкнул кто иль позвал, а рука вся мокрая то ли от слез блаженных, еще чистых, детских, что бывают лишь во снах, то ли от натекшей слюны. Испить бы, испить... Очнулся окончательно, притянул кувшин, приник к затхлой воде. Глотка хватило, чтобы отпрянуть, прийти в чувство. Подбежал к двери, готовый ломиться, кричать, звать, но опомнился, на замахе остановил ногу и, отвернувшись, затоптанную чуню отпнул в другую стену. И захолодел, ожидая грозы. Взмолился, упал на колени, а спиною, однако, упорно стерег, когда скрипнет дверь и белым призраком явится пророк. Ночной испуг, нежданно зародившись, так же скоро прошел, но теперь досада трепала сердце, зависть мутила: «Другие-то купчины об эту пору не дремлют, делами, поди, ворочают миллионщики, копейка к копейке прикладывают. Время-то ухо-ди-ит, вре-мя-а... Времени мучительно жаль, время зазря пропадает, капиталец киснет в мошне, не прибавляясь. Он же скудеет сам по себе, как река без приточной воды. Продал-купил, по рукам ударили, в цене сошлись, так чего волынить?»
На восьмой день строгого поста Клавдя уже с нетерпением ожидал Миронушку, мысленно торопил его. И когда раным-рано явился он, то показался Клавде пуще отца, вестником какой-то особой благодати, к коей стремился парень с самого рождения. Он с трудом удержал слезы, но слизкий, дрожливый голос выдал волнение. Скопец принял его за радость предстоящего и умилился, он даже не оскорбился, когда Клавдя, укрепляя дух, заговорил грубо и дерзко:
– Ну пошли, пошли. Где застрял, креститель? Как в яму провалился.
Клавдя чуть не побежал, так заторопило его сердце, так обрадован было кончиною долгого поста. И то, что шли одни, никто не попадался навстречу, тоже радовало и сулило добрый исход. Но вот Миронушко остановил Клавдю возле темно-коричневой дверцы и широко распахнул. Сразу увиделась битая из глины русская печь, высокое, гудящее пламя в утробе. Огонь плясал хищно, яро, по-звериному выгибаясь, норовил из устья выметнуться прочь, и багровый свет его струился по стенам. Клавдя спустился по трем ступеням вниз, машинально считая их, дверца за ним властно хлопнула, упал железный крюк, несчастный торопливо оглянулся, и сердце у него оборвалось. Миронушко уже успел где-то подхватить кожаный фартук и сейчас торопливо подвязывал его, наверное, боялся опачкаться кровью. В округлившихся, неожиданно помолодевших глазах пылали два жадных костерка, а тело, облитое до пят длинным передником, с напряженно вывернутыми назад руками, казалось освежеванной скотской тушей. Клавдя потерянно заозирался, отыскал взглядом узкий деревянный топчанчик с засаленным, видавшим виды изголовьем, покорно сел, зевнул широко, устало и, недолго помедливши, мерно качая головою, вдруг самовольно лег, протянул ноги, плотно сложил их одна к другой и закрыл глаза. Тело казалось чужим, деревянным, уже не принадлежало ему, но сердце, до сей поры молчавшее, вдруг забилось оглушающе, и в затылке заковали внезапные кузнечные ручники, отчего голова заподскакивала. Предчувствие беды и оглушающий страх затопили от макушки до пяток, но вместо того чтобы сорваться и бежать стремглав, он еще пуще сцепил ноги и стиснул зубы. «Господи, дай укрепы, Гос-поди, не дай пасть духом».
Шаркающие шаги приблизились, украдчивые, настороженно-воровские, из ночи, из темени, издалека, и, загремев, наконец смолкли у изголовья. Не размыкая глаз, Клавдя попросил:
– Слышь... по уговору. Как сговорились, отче.
– Да, да. Ты испей, сын мой, испей... Ты испей, это сладко. Это нектар божественный. Заснуть и проснуться иным.
– Ты не проведи, отче, – меркло досказал Клавдя, удобнее располагаясь на ложе и закрывая глаза. Запоздалое огорчение иль глухая тоска подобрались под горло и остались там. Каменная тягость налила чресла, переполнила утробу, густая обволакивающая темень навалилась на Клавдю, поглотила его, и в дальнем углу пещерицы вдруг увиделось крохотное, не более ячменного зерна, полузабытое материно лицо и громадные разношенные руки. Она иль заслонялась корявыми ладонями, не подпуская сына к себе, иль оборонялась от нежитей, иль отпехивала иную тягостную силу и надрывно кричала: «Кланюшка, не ходи туда. Кланюш-ка-а, там темно».
С печного засторонка Миронушко достал сточенный сапожный нож, накалил на угольях лезо и украдчиво подступил к беспамятному агнцу, не сводя лихорадочного взгляда с белого запрокинутого лица. И воскликнул скопец, торжествующе вскинув руку. «Смотри, дитя, на сокрушенного змия!..»
Часть четвертая
Глава первая
Иссяк иль запечатался до времени Паисьев слезный родник? Давно ли не просыхал от слез отшельник, зренье почти утратил, и в красных, воспаленных обочьях терялся бесцветный, водянистый взгляд. Но тут, посреди реки, во всякую непогодь, принакрывшись затвердевшим от мокряди рогозным мешком, Паисий заветрел, затвердел лицом, и незнакомая прежде лихорадка не отпускала его во время суток. Как давно, при его ли жизни, кочевал он, еще не старый, охотно подчинившись воле брата. И вот кинул его, предал, оставил в келье на потеху лесовым побродяжкам, этим еретикам-спасовцам.
А поначалу жалконький, как постная сорожка, в застарелой рыбьей жиже трепетал на дне лодки старец, себя лишь виня: он в мыслях-то давно уже вернулся к подножью, на каменистую косицу и звал виноватым голосом брата, чтобы тот простил его и принял к себе. «Чего надумали? Куда мчат нелюди? Вот прикажу завернуть иль прокляну тут же...» Но лодка летела вниз по Мылве, волна всхлапывала в бортовины, сыпала мелкой водяной пылью, и Донат, отобрав прави?ло у Симагина, широко, по-младенчески скалился в мокрую, едва разжиженную темень. Кто поймет Паисьевы муки, кому отзывчивы они? «Паисий, Паисий, жизнь прожил, а ума не нажил. Ну кого ты пожалел? На кого брата своего променял? С какою болью отрывалось сердце от сердца, кровь сочилась и, засохши, больно секла кожу, как запоздалый град. Вихри объяли, темные, крылатые, готовые подъять и вымчать из лодки. Крепче хватайся, инок, за бортовины, ломай давно не стриженные ногти о тягучую пупырчатую смолу; пуще держись, Паисий... Клятву даю тебе, брат, страшную клятву на хлеб и соль, на нож вострый и воду гремучую. Пусть язык мой отсохнет, пусть члены мои отпадут, как отжившие листья, и незатихающими язвами запечатается тело мое, пусть жилы зачерствеют и полопаются. Не выдам тебя, сердешный, и пусть душа твоя пребывает во сне...»
Маялся, бил себя в грудь Паисий, всяческую хулу напуская на себя, но одно знал верно, что предаст, изменит и нет другого ходу. Потому и каялся и клятвы обещал, что душою так давно жаждал сего дня, будто впервые, после долгого страшного запора, вдруг скинул ковы и вышел на белый свет под раннее младенческое ярило. «А не так разве и было? Случилось, что однажды попал в клеть, в мрачный чулан, полный смрада и крыс, и долго страдал, дожидаясь званого часа. И настал он, пришел: то Бог сподобил к подвигу».
Лодка летела вниз, спешила, расступались, распадались гранитные берега, и вот пробило будто саму землю первым лучом, так озарилась она, пошла сполохами, и за ближним гольцом, толсто одетым пихтачами, заиграло солнце. И прочь страхи, прочь ночные страданья и напасти. «Чего плакаться, чего? Кого пожалел: того юрода и ирода, что цепями повязал и нуждишки не давал справить без дозору. Так брат ли был он мне иль кат, злодей, похититель моего блаженства? Он чувствие мое одел в каменье, и молитвы мои сквозь аидовы теснины не досягали слуха Спасителя. Народ заждался. Моя ли вина, что однажды познал я, лишь оком одним узрел Беловодье сквозь древесную листву и оно поныне иссушает мой мозг, не дает покоя. Брат ты мой, брат, не томись по мне и не гонись следом, изнуряя меня напрасною печалью; лучше вложи в десницу мою меч веры и укрепи в пути. Боже, сколь слаб я, как обветшалый лист на осеннем черене, как жемчужина росы на острие пера под жарким ярилом. Тщился собою мир осветить в некой гармонии и всех утешить разом: глядитеся, дескать, братцы, отичи и родичи, взирайте на жизнь предстоящую...»
Мылва вила колена, остепеняясь, кротея с каждым днем, саму себя путала, теряя прежнюю прозрачность, иного покраса и вкуса пошла вода, сине-желтая, под цвет прибрежных глин. То на гребях шли, то под парусом, последнюю заимку, крытую лабазом, оставили неделю тому. То холодом опахнет, то жарою опалит: трава по бережинам лошади по холку, густая, дурманная, в сон клонит. Оттого виденья всякие, и часто блазнит и маревит, и постоянно звонница слышна.
Паисий постился и вовсе перестал есть; Симагин, пугаясь, что старик испустит дух, пытался насильно покормить его, но старца вытошнило за борт. Столько лет минуло, а все памятно, так знакомо, будто навечно записалось в отжившей головенке. Пространна Сибирь, и как легко потеряться в ней; можно век прошататься по этой земле, и некому будет исповедаться в смертный час; тут не только жалконький человечек может пропасть, но и целый народ, плодясь и размножаясь, останется тайной для прочих, если очень захочет того.
Паисий уже походил на одуванец, придорожный плешивец, только чудом не обдутый ветром: солнечный свет путался, застревал в редких птичьих волосенках, в невесомом пуху. Сквозь прозрачную кожицу лика читался каждый сосудик, как бился он, вялый и почти черный от старой крови, просясь наружу, и всякая невольная мысль тоже ясно отражалась на лице. Округлившиеся, небесного сияния совиные глаза пугали Доната негасимой откровенной радостью. И устали старец не знает, вот диво: хоть бы воробьиной выти сподобился, хоть бы одно гречишное семя клюнул.
«Ты оследись, – нашептывал Донату незримый голос. – Безумье и на мудрого бывает. Пора меты метить, засечки ставить. Пропасть в лешачьем месте без креста, без покаянья кому охота».
– В рай едем, в рай попадем, – восторженно шептал Паисий и призывно махал ручонкою вперед, в блудливые протоки и ви?ски, только непонятным чутьем выводя скитальцев в новый лесовой ручей, в завалы и колодник, пока-то угодили в неведомую страну озер. Они потеряли счет времени и только по густому листопаду поняли, что скоро праздник Покрова и быть снегам. Но лист сыпался одеялом, густо плыл по озерной воде, и лодчонка едва протаскивалась сквозь цветную рыхлую шубу. Куда шли – на полдень, иль на восток, иль в страну полуночную, – все сплелось, все смешалось, и солнце ныне вставало не там, где ждали его, и день, казалось, не замирал, не тухнул. Так случалось лишь в Поморье в незакатные летние дни, когда зори целовались в макушке лета и белый день не кончался. Но тут же не Поморье, не край земли? Так что же за перемененье света? Розовые облака опадали за розовые лобастые гольцы, сыпался розовый лист, и на смену ему на отживших черенах выметывалась свежая клейкая зелень. А однажды выпал снег, повеяло стужею, паморокою, вода в озере загустела, засалилась. Вышли на берег, и Донат, свалив осину, скоро выдолбил подобие лодки и поставил на широкий полоз. Паисий заотказывался поначалу, слабо отмахивался ручонкою, дескать, сам в силах, но Симагин окрысился, оскалил зубы. Старец уселся в санки, сложил руки на коленях и, по-прежнему сияя задумчивым, кротким лицом, неопределенно махнул рукою. Симагин вздрогнул, омрачился душою и тоскливо подумал, что это конец: от слабоумного старичишки нечего ждать толку. Там, куда взмахом руки показал Паисий, вздымались гольцы и ослепительным снежным светом на взглавьях сияли белки?.
«В рай-то коли ползти, надо по ледяной горе. Ногти пообломаешь, пока вздымешься. Вот монах-то и ростил когти. Ему-то край, ему-то крышка, он и ростил когти», – думал Симагин, со злобою озирая скукоженное зверушье обличие Паисия, в коем уж мало оставалось человечьего. И вдруг закричал, цепко ухватил за плечо, тайно поразившись, сколь худо и маломощно оно:
– Вот пакостник... Ты куда завел нас, куда? Ты надо мною посмеялся, над самим богом надсмеялся. Пакость, пакость, тьфу, тьфу...
Но Паисий безмятежно улыбался и молчал, не отвечая на гнев. Ну окрысился человече, от непонятности хода своего загрызся, но ты-то, водитель Паисий, смолчи и прикуси язык. «Бог, бог, – мысленно передразнил. – Коли бог, так все видь и не верещи...» И снова Паисий махнул рукою. Донат же уверовал в спокойствие старца, впрягся в лямку и поволок душеспасителя в темные кедрачи. Симагин замолчал, но выломал сук, в переметные сумы продел голову и принялся подталкивать кережу сзади. Воздух накалялся стужею, снег из рыхлого, неживого, прелого постепенно становился хрустким, ломким, крупитчатым и вот уже сплавился в наст, в долгое переливистое поле, легко держащее человека. Сколько попадали скитальцы, ночуя подле нодьи, – одному Богу известно; но они прокочевали сквозь зиму и снова вышли в лето, будто и не покидали его. Донат из бересты сплел пестерь, заплечный кошель, посадил в него старца, закинул на горбинку и подивился, сколь легким оказался человек – не увесистей пуховой подушки. Даже полые истончившиеся кости, наверное, потеряли ту надежность, что позволяет хилым мясам соединяться в плоть. Старец уже не гомозился, как прежде, не вскрикивал и не смеялся; лишь торчали из пестеря наружу кукольная деревянная головенка со всклокоченной бородою да протянутая рука с указующим скрюченным перстом. Донат оборачивался, пробовал разглядеть Паисия, не сымая короба с хребтины, спрашивал хриплым, сожженным усталостью горлом:
– Отечь, куда нам?
Старик говорил неразумное, подходил Симагин, сверялся с протянутой рукою Паисия и толковал неопределенно:
– Кабыть туда, коли по вращенью земли. Европу сквозь прошагал, но экой причуды не знавал.
Донат одного пугался, как не вскружить, не войти в гонный беспутный круг, когда прешь по своему же следу, худо соображая, с затмившейся угорелой головой, будто кто преследует, неотвратимо гонит тебя. Но нет, пока Бог миловал. Донат не находил своих помет и зарубок, чтобы устрашиться неопределенности незнаемого пути. А вот так, когда изо дня в день идешь свежими местами, наверняка достигнешь конца пути. Лишь бы не скружить. Знать, чует старик, помнит сердечными очами куда как далеко зрит. Подставит скрюченную ладошку к глазам и глядится, как в волшебное зеркальце. И хоть бы раз завиноватился, смутился тягостной дорогой... Постоянная жаркая негасимость взгляда. От него и в нас вера. Господи, умиротвори, успокой мятущуюся душу. Но ежели бесплодна та дорога, то почему не зарастает она, почему неумираема череда скитальцев?
Даже огромные российские пространства, залитые лесами и небом, не могут дать воли...
У старца снова отворился слезный родник, и радостной влаги вполне хватило бы умыться трем странникам. Паисий был черен, как головня, и жарким, иссохлым очам так не хватало плача; и в какой-то час, пока накатывали плотец и вязали его можжевеловыми веревками, со старцем случилось перемененье. Он стал белее холстины и засветился насквозь. Диво ли это? Но размышлениям о чуде предаваться было некогда, спешно поставили парус, пока навевал попутный полдник.
Вышли на сухое, куда велел Паисий, долго молились на восток, не зная, где он, ибо все спуталось, все смешалось, уже не верили солнцу. Такое было впечатление, что будто бы вчера лишь побежали из пещерицы, сделали огромный крюк, пройдя верст с тыщу, и вот вернулись обратно восвояси. Пред скитальцами подымался пологий, густо обросший еланями голец.
– Привел Господь, – скупо обронил Паисий, становясь на колени и целуя землю. – Все ходят по кругам, а мы пересекли сквозь, не омочив ноги.
– Полагаешь, Беловодье? Если Беловодье, так где люди? Люди-то где? Пошто не пались на глаза? – приступил Симагин.
– У них свои пути, неведомые нам. Они ближним путем ходя и едя, и сидя меж нами, а мы и не ведаем тому. Ангела-то много ли зришь, нечестивец, назвавшийся богом? Сыми шапку и подымись из праха.
– Сыми куколь-то, – посоветовал Донат. Он вроде бы спал и не мог проснуться.
Симагин стащил с головы лисий колпак, обветшавший, полысевший за дорогу, шкура потеряла блеск и лоск, будто ее кто-то долго топтал в весенней луже. И камень-смарагд оторвался.
– Пойдем, пойдем, – заторопил Симагин. – Чего расселись?
– Подымайтеся без меня. Сделайте мне шалашик и подите...
Каменье, неожиданно павшее из ясного неба, менее бы ошеломило путников, чем Паисьевы слова. Сомлел старик, обезумел? Надсмеялся, построив злые козни? Донат молчал, не увещевал старика, его слова не отозвались в сердце, были бесплотными. «Только бы подняться, – горячо, однообразно толклось в голове. – Не хочет – не надо. Умолять-то зачем? Он святой. Он не хочет. Он привел нас...» Донат не сознавал, что творилось с ним: пряный воздух, льющийся с гор, нагонял дремоту и покой, грудь наполнялась смутными желаньями, и, словно пьяный, Донат все порывался ступить в елани, в жирные папоротники, за светящиеся колоды. Кто-то ждал его там, в таежных сумерках, за розвесью ветвей, и ласково, неутоленно звал.
– Ты обманул, лжец! – возопил Симагин и занес кулак над плешивой головенкою коленопреклоненного старца.
– Ударь меня, дитя, ударь. Ты бог, а я тля. Никто не достигнет царствия небесного, кто не прошел через искушение. Ударь меня, покровитель, и лиши жизни.
Симагин при этих кротких, едва слышных словах споткнулся, волна злой горячки прошибла, но худа натворить он не успел.
– Вы-то подымайтесь. Будет сосна трезубцем, о самую вершину. Отыщите сосну трезубцем, там плита будет, камень порядочный. Что написано – прочтите и встаньте на тот камень, когда солнце ударит...
– Ты врешь все, безумец! Там ничего нет...
– Может, и нет, – согласился Паисий. – Ежели не приметесь искать, как поймете, есть ли что там? Вы поищите. Сделайте мне шалашик, я отлежуся и к брату пойду. Брат ждет, заждался. И зачем я привел вас, зачем? – Старец затрясся хилым телом и вновь залился слезами. – Он язык себе вырвал за измену, он слова себя лишил. А я клятву дал. И пошто не издох, пошто не издох? Клятвопреступник, вот и хожу вживе. И не умереть мне, во веки веков не издохнуть. Убейте! Осчастливить хотел, а горе принес. Закоим чужие грехи замаливал, а свои-то и взрастил. Взрастил грехи свои тяжкие, и земля меня не примет. Она меня из пещерицы отринула, чтобы не затаился там. Небо не пустит, и земля отринула. Братцы, а как дале-то? Июда, июда. Зачем врата открыл? Доня, ты Богом данный, забей меня ослопом, пронзи осиновым колом...
– Мучайся, злыдень! Мучайся, – злорадно воскликнул Симагин, топчась возле Паисия. – Я бы тебя пронзил, да от твоей кровищи струпья по телу пойдут. Змей ты, вот кто, змеюка подлая.
И, решившись, пехнул легонько старика ногою. Паисий покорно обрушился на бочок, свернулся калачиком и скосил в небо прозрачный круглый глаз, дожидаясь грозы. Но смерть не шла, и суд не вершился.
– Тебя непролитая кровь гнетет. Пролей, – обратился Симагин к Донату. Он не просил, но требовал, и копья усов хищно вздрагивали. – Убей, освободись от гнета. В апостолы приму...
– Убей, сынок, – жалостно попросил Паисий.
– Оставь, пожалуй! Пусть мучится, – решил Симагин.
– Убей... сверши казнь. Зачтется. Я попрошу апостола Павла... зачтется.
– Господи... Ну зачем так. – Доната била дрожь. Ему жалко было старика, и он возлюбил его пуще отца родного. Вот мучается же человек, лютой казни просит. Где гордыня, куда делась она? А он, Донат, уж кой год мщенье в груди лелеет, чужой крови хощет. – Зачем вы меня мучаете? Вам сладко, да? Скажите, вам сладко? – жарко шептал Донат. Вдруг склонился, поднял Паисия на руки, отнес в тень. И, уже ставя шалаш, кричал, отворотив лицо: – Пошто душу-то мою пластаете на разрыв? В струпьях она, в болячках, так дайте покоя.
Но мольба была кинута в пустоту. Старик тяжело дышал, наливаясь бледностью. Симагин был занят предстоящей местью и упорно точил злобою сердце.
– Ты его не убивай, Донат. Я погорячился, – повторял он, заикаясь. – Он сам на себя казнь наслал.
Донат укладывал старца в шалаше и уговаривал:
– Ну пойдемте, отче. Ну что в голову вбили? Пусть ворон выпьет глаза, пропасть мне на этом месте, коли не донесу. Вы же как пуховинка, вас и не слышно. Мне даже веселее, когда вы на горбине. Ну что втемяшилось, отец родимый? Послушайтесь, молю вас.
Но старец молчал, крупные веки были почти черные, как у покойника. Но по той отрешенности лица, по вялой безразличности тела, коя выдавала полную удаленность человека от всего земного, Донат понимал, что Паисий подвигнулся к смерти и нарушать это душевное согласие великий грех. Пришел срок, а завтра приспеет время Доната иль Симагина, и старец, пожалуй, счастливее их, ведь он кончается при живых, есть кому закрыть очи, исповедаться и причаститься. Сам бог топчется, мечется возле шалаша, и серая сермяга взлетает крыльями над сухой негнущейся фигурой. Но бога в шалаш никто не звал, никто не просил его, а Донату так хотелось, чтобы меж добрыми людьми нашло примирение, чтобы причастился Паисий.
– Позови бога-то, отец, призови. Он соборует.
Веки Паисия едва дрогнули, и, наверное, большого усилия стоило тому, чтобы скривить, в тревоге напрячь лицо:
– Нет-нет... Ты бойся его, Донюшка.
Паисий замолчал, сцепил на груди пальцы и сронил прощальную голубую слезу. Слеза упала на цветок желтоголовника и стеклянно зазвенела. Донат поцеловал старца в лоб и, дивясь странной слезе, выполз на волю.
К вечеру они взошли на вершину безо всякой надежды на счастье и вдруг попали к той самой сосне трезубцем, о которой поминал Паисий. Значит, не солгал старец? Вручил ключи от врат рая? Под сосною хранилась черная плита, похожая на горб юродивого. Симагин понимал древлеотеческую грамоту и, опустившись на колени, прочитал, водя пальцем по резным буквицам: «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз, в землю?»
Заночевали тут же, не отходя от плиты. Но была на небе наволочь, солнце не проклюнулось. Потом сквозь редкую мешковину посыпал ситничек и бусил до ночи, не переставая.
И второй день шел затяжной дождь. Но костра не разводили, словно боялись дозора, догляда: все чудились заставы, тайные скрытные люди. Под горою лежал мертвый Паисий и уже ничем не мог помочь скитальцам.
На третий день пришел ливень с ветром, и трехзубая вершина святого дерева с грохотом обрушилась: лишь чудо спасло странников.
На четвертый день раздался оглушительный свист, поднялся вихорь, полетели по небу деревья. Сосну шатало, и могучие коренья, как живые, лезли наружу, извиваясь. Донат успел привязаться к отвилку, Симагина подъяло вверх и долго крутило в сучьях и ветвях; он упал к подножью нагим, в чем мать родила, и до вечера приходил в себя. Донат упрашивал путника вернуться под гору, но бог упорствовал.
На пятый день посыпал снег, тихий, хлопьистый; к вечеру снегу навалило с аршин.
На шестой день ударил мороз. Напялили на себя все, что нашлось в торбах, и не чаяли остаться в живых.
На седьмое утро явилось благословенное солнце. Донат утвердился на скользком горбатом камне и стал ждать чуда. Старопечатные буквицы святого остережения жгли ступни, подбивали ноги и гнали прочь с камня, но Донат терпел казнь: пути назад были перекрыты. И вот ударил слепящий солнечный луч, он пробил заснеженный лес насквозь, разъял его, располовинил, так что вершины деревьев повисли в воздухе, а комли стволов послушно отшагнули, и на дальнем конце огненного столпа в голубовато-серебристом овале, как в дымящейся проруби, увиделась пустынь из белого камня и золота. Она была соткана столь призрачно, маревила, колыхалась в воздухе, что в присутствие ее, в обманчивое это видение трудно было поверить. Настороженная, уставшая душа ждала чуда, но не могла, оказывается, так сразу привыкнуть к нему. Луч вспахал в снегу борозду до самого поддона, словно могучий оратай прошелся по еланям с копорюгою, и скитальцы поспешили вдоль нее, ступая по насту, пугаясь наступить на розовую кипень мхов, будто там таился обманчивый, искусно прикрытый провал. Снег оплавлялся на их глазах, кипел и таял, и ходоки торопились, насколько хватало угасающих сил, пока не стерся указующий путь к Беловодью. А позади рождались мгновенно потаенные ручьи; они с угрожающим шорохом катились под снегами, проедая наст.
Глава вторая
Лучше бы не возвращаться Клавде на сей свет: кому нужен, кто ждет на земле некошного головастого человечка на кривых замохнатевших ногах. Добрым мужиком зачат, и понесла-то широкая, с неизносимой хребтиной баба, а вот поди ж ты, какого мышонка соскребли из хорошо замешенного теста. Видно, замысел тому виною: украдкою да в темени лепили, стережась дозору и сплетен, вот и не взошел парень. Тепла не хватило лишь, тепла сердечного.
Бывает же, случается чудо: родители вроде бы хлипкие, в чем душа живет, но по любви и согласью такого мальчонку скроят, такого парнишонку выпестуют, вдунув в него земной сытный дух и кротость, что после и сами не надивуются и не раз восплачут, радостно восклицая: «Да Господи, не наш ты, поди, а чей-то чужой подкинут в постелю, пока мы храпака задавали». И смеются, и всхлапывают ручонками, сидя на лавице и счастливым взглядом озирая кудрявую светлоокую голову сына. А тому тесно под матичным бревном, давит притолока рамена молодца, гнет выю родительская избенка, обжимает, неволит тело, как тесная рубаха. Вот уж подарок родителям за смирную жизнь, как есть подарок...
Но Клавдя безлюбовным явился в мир, безматним возрос, безотним сам решил стать, отринув в прошлое и домы свои, и род, и память. Лег под нож неколебимо, как агнец на заклание, будто впереди сто жизней – и... переменился. Как в помраченном, опоенном уме скатиться в темень и жуть – ударил Клавде в один глаз золотой свет, золотою пылью призадернуло; второй зрак призавесило серебристым пологом. И сам себя успокоил Клавдя: будут у него груды злата, будут груды и серебра, все в ноги падут, все поклонятся. Но из беспамятства едва всплыл, и был левый глаз залит свинцом, правый – оловом. Тело корежило и ломало, словно под двумя жерновами побывал, в двух мельничных толчеях дробили и выплюнули, выжав всего, измочалив. Приходил в себя туго, ничего не соображал, ничего не желал. Не знал, не ведал Клавдя, что новый человек рождался в закорелом теле, пожирая останки прежнего. Не умереть тебе, сердешный, на деревянном примосте в чужой избе, в потайной келье, куда, кроме хозяина, никто не знает ходу; не загинуть тебе, поморский сын, предавший род свой, возле нахолодевшей брюхатой печи, кою раздуют для нового агнца. И покажется тебе жизнь длинней бобыльей старческой ночи...
Клавдя осторожно поцапал под рубахою и поразился пустоте. Он снова с силою запер глаза, воспринимая случившееся как смешной сон, но больной огонь в чреслах не пропадал, а тлел ровно, сосуще, как бы в зияющую рану вытекали последние жизненные соки, и оставалась на примосте одна провялившаяся кожурина. Дерево-то и живет лишь до той поры, пока семя готово ронять; а как отпала охота, тут и завелся неминучий короед, и скоро проест он насквозь и морщинистую вековую кору, и болонь, и сердцевину. Как же так случилось, сынок? К Богу не придвинулся поближе, ибо другим был занят ум твой, и от здоровой жизни отстал, сам себя осиротил... И вспотел Клавдя, излился холодным потом, дурно ему стало и тошнехонько. Пусть все это в сон вернется, черным видением останется.
«Господи, обороти все назад, верни меня прежнего, ничего мне не нать. Лучше в конином дворе при лошадях быть; лучше на съезжей с полосатою спиной лежать, кусать локти от боли; лучше шалеть в трактире на побегушках, снося подзатыльники; лучше под забором валяться пьяней вина, чтобы каждый, кому не лень, пинал тебя, вонючего и истасканного. Но ведь и тогда отыщется милостивая душа, пожалеет сердечным словом. А тут-то все, все-е-е. Господи, коли ты есть и правишь нами, верни меня прежнего. Одумалси я, одумал-си-и. Гы-ы-ы...»
Но скоро глухая тоска отступила, стушевалась, расчетливая Клавдина натура брала верх, оправлялась. И снова смешными показались недавние страхи, но теперь другое ужасало: «Обманул ведь, июда, всю мошну разом взял противу уговора, а не ополовинил. Слово святое предал, кат. Вокруг пальца обвел, ско-ти-на. Как поймал-то, а?»
Клавдя неожиданно взвыл, злостью обожгло голову, и он разом прозрел, очистился взглядом, и, как прежде, один глаз стал зеленым, другой – серым. Но так широко разбежались они друг от дружки, так откатились к вискам, что Клавдя без усилий обнимал взглядом почти всю келейку, не поворачивая головы. Но перед носом была серая колышащаяся завеса, словно бы голову раздвоили мощным ударом и неловко сшили. Боль в брюшине потухла, будущая жизнь принимала отчетливые очертанья, и впереди брезжило иное, новое, ранее недоступное. Одолел Клавдя запоры, взял приступом крепостные пали и вот готов по новым владеньям пройтись хозяином. Широко отныне шагать ему, ходко, и не будет ограды, остановы во всех хотеньях. Главную боль одолел, плоть свою смирил, утишил, и отныне не растекутся его мысли и желанья, но сольются в одну реку. «Бойтеся, медведи, и волки, и все мелкие шерстнатые звери, сам лев к вам идет».
Есть вдруг захотелось, после долгого поста напал жор, но и потроха сомлели от голодовки: от густой выти живо зажмет, вывернет и уморит. Пророк Миронушко вроде бы подслушал братца, вошел в келейку, но Клавдя отвернулся к стене. Пророк не заговаривал, но лишь поставил возле кружку с отваром шиповника, нарочито пристукнув донцем, помедлил чуть и удалился. Клавдя жадно выпил настой и стал придумывать месть. Предположил: «Ежели в полицию сдать? Откупится апостол, всяк у него в горсти. Его тюрьмою не возьмешь. Надо так приголубить старикашку, чтобы муку мученическую принял. – Клавдя грезил с закрытыми глазами, и картины одна зловещей другой сменялись в его воспаленном воображении. – И Громова надо известь, его опосля, его черед после». Ведал бы Громов о помыслах меньшего брата, он сам бы себе отсек длань, коей помог выбраться бродяге из трясины; сам бы себе вынул глаз, коим впервые углядел козлища посреди вонючего стада. Самого черта запустил кормщик в корабль свой, ненасытного волка под видом агнца завел за заплоты в овечье стадо, и серому зверю скоро наступит кровавый праздник.
На второй день, шаркая чунями, снова явился Миронушко и шелестящим голосом вопросил:
– Ну как со здоровьем, Клавдеюшко?
Но тот лишь брезгливо дернул плечом и не повернулся навстречу, выдерживая натуру. Но пророк поймал перемены в скопце и ушел с ангельским пением в груди.
На третью ночь Клавдя придумал месть, и когда наутро явился Миронушко с вытью в черепушке, страдалец сам повернулся навстречу с тупым, смиренным лицом, залитым слезами.
– Ну брось реветь-то, мужик ведь! – утешил Миронушко, опускаясь возле и слегка оттиснув Клавдю к стене.
– Да, был мужик, а таперича кочедык березовый, – захныкал Клавдя. – Погляди, что со мною исделал, варнак!
– Ты пой, братец. Нынь тебе петь надо. Ты где был ранее-то, грешник? В трясине по уши. Я тебя вытянул и просушил. А сейчас ты вроде ангела, светишься весь. Петь надо...
– Я-то воспою, отечь. Да за тебя пла?чу. Свой-то грех неискупимый как понесешь дале? Как жить будешь? Себя жалко, а тебя жальчей.
Туманен набежал на лицо Миронушки, не ожидал апостол услыхать подобных слов; но быстро справился с растерянностью, жалконько улыбнулся. Апостолу не пристало терять ума, он Богом приписан в пастыри.
– Ты не майся, Клавдеюшко. Легше, как зараз-то облегчился, за одним делом, – заговорил апостол уклончиво, льстиво, будто винился, но взор оставался хрупкий, льдистый. – Ты не серчай на меня, Клавдеюшко. А то два раза примайся, два раза страдай. Обелился, и с плеч долой. И возвысился разом, и капиталу сполна взял. Он. капитал-то, сейчас поплывет к тебе, огребай только. Ты на меня зло не держи, ну?
– Не держу... Только обидно. Вокруг пальца обвел.
– Ну и хорошо, и ладно. – Апостол сдержанно засмеялся, и Клавдя не вспылил на дьявольский смех. Знобящая месть попритихла, улеглась в Клавде, как змея в полой гнилой колоде. Теперь неусыпно она там в душе, дозорит за каждым шагом, но не мешает, не гнетет.
Так решил Клавдя, что смерти Громова не дождаться и обещанного наследства не видать, и поначалу перебрался в свой домок на Сретенку. Но там все напоминало девку Ульяну, и потом съехал на Старую площадь, поближе к лавке, разумея держать торговлю под рукою, под призором.
Ел он, по обыкновению, дома, из ближайшего трактира половой носил постоянное – шти, гречишную кашу на постном масле да три раза в день пару чая за трехкопеешник. Клавдя справил себе белый суконный распашной кафтан, белый картуз с длинным козырьком и белые в полоску брюки, каковые заправлял в смазные сапоги. Он как-то сразу, незаметно для себя, принял облик скопца, его повадки – эту слегка косоватенькую, припадающую походку, полусогнутость плеч и улыбчивую ласковость лица, быстро тускнеющего, присыпанного легкой мучнистой пылью, сквозь которую проступила луковая нездоровая желтизна. Он и прежде-то был некрасовит, но сейчас с рассеянным взглядом необычно широко поставленных пестрых глаз и с лисьей угодливостью в лице он вызывал некоторое чувство гадливости и отвращения, отчего обычно говорили с ним вполоборота, не то стесняясь чего, не то укорачивая и без того немногословный разговор. А может, виною тому был душный, приторный запах тела, каковой обычно исходит от древних, нажившихся, затлелых людей. Сам же Клавдя не замечал за собою перемен, и манера людей разговаривать нехотя, сквозь зубы досадила ему, и он навязчиво приступал лицо к лицу, старался глядеть глаза в глаза, и чувство неловкости, которое он принимал за смущение и робость, радовало его. Это позднее даже из пренебрежения и гадливости, которые старались выказать ему, Клавдя будет делать капитал.
Но поначалу тело его будто высосали сквозь соломину, не было в нем прежней упругости, прежнего петушиного задора и желаний, в нем ощутимо заселилась смерть; она растекалась в каждой жилке, в каждом хрящике и мосолике и без того невзрачной плоти. Клавдя ощущал присутствие смерти по тому отупляющему чувству пустоты, по той постоянной подавленности, с какою разговаривал, едва через натугу цедил слова, ел, пил и вел дела. Прежде чем чего-то сказать, даже несущественное, не требующее изворотливости и лукавства, он напрягался, как бы скреплял воедино рассыпающийся хребет, и для каждого слова требовалось столько усилий, что Клавдя быстро уставал и беспричинно потел. Он-то, наивный, полагал желанно заснуть, а очнуться уже иным. Но без мук разве что рождается на миру? Без потуг, без слез отчаяния, без боли и грудного надсадного вопля разве явился на мир хоть один человек? Было ли, чтоб из материнской родовы полезло дитя с улыбкою? Сколько всего тебе перетерпеть еще, Клавдя, прежде чем выжжется природное, отцово-материно, пока-то потухнет все под периною мертвой золы.
Клавдя шел по улице, ловил на себе любопытные взгляды и поначалу недоумевал тому, спохватывался вдруг и отыскивал в одежде неприличную неловкость. Он еще не знал, что приобрел ту нестираемую вековечную печать, коя лезет в глаза куда пуще, чем клеймо вора и висельника. Даже средь тыщи обычных людей сунь хоть одного скопца, невидного и тщедушного, спрячь его за могучими спинами и плечами, но и тогда он как-то вдруг, против своей воли выпятится вперед, будет виден всем, вокруг него образуется та пустота, которую трудно перешагнуть даже самому жалостливому человеку. Клавдя полагал, что вместе с обелением умерла в нем всякая тяга к прелестям, погасло волнение в сердце и даже один вид женщины будет отвратителен ему. Но как ошибался он, Боже ты мой: все будто бы обруби в человеке, обкорнай его, как засохшее креневое дерево, но и тогда в нем сохранится зов к продолжению рода. Именно бабы и доводили попервости его своею беспощадной житейской откровенностью, причиняли, оказывается, невыносимую боль, отчего хотелось плакать. А кухарок иль горничных ежели взять, те хихикали беспричинно, тыкали пальцем прилюдно, зная об изъянах скопца, откровенно напрашивались на любовь, кричали вслед всякие непристойности, а особенно наглые, те даже хватали за руку и тянули к самым неприличным местам с вызывающим хохотом. Сам вид скопца, багровость сухого, напряженного лица и потерянные беспомощные глаза вызывали в простых бабах здоровый беспричинный смех, отчего налитые груди колыхались вызывающе и дразняще. И чем яростнее выходил из себя Клавдя, тем большее удовольствие доставлял прохожим. Время прошло, пока Клавдя смирился и спрятался в себе, как улитка в раковине.
Но благородные дамы в шляпах и блондах, крытые кружевами и мантильями, в бурнусах и мехах, задавленные корсетами и тугим нездешним шелком, обходили менялу с той крайней брезгливостью, с какой мы встречаем по дороге особые неприличности, при этом невольно опуская глаза: они даже край платья стыдливо прибирали рукою, чтобы не коснуться скопческого кафтана. Впервые поймав этот брезгливый жест, Клавдя был настолько уязвлен, что едва не вспылил, но, однако, сдержался и в зеркальной витрине ближайшего платяного магазина постарался высмотреть всего себя, но особого, отличного от прочих иль предосудительного, не выглядел. Молодой купчик, слегка болезненного вида, но вполне достойный и солидный, без особого щегольства, но при достатке, отразился в зеркалах. «Мое почтение», – сам себе поклонился Клавдя, оттопыривая зад и тем выказывая крайнее пренебрежение публике, игриво сдернул картуз, уже ненавидя тайно всех, заполнивших вечереющий тротуар. Клавдя с такой пристрастностью, никого не стыдясь, обследовал свою наружность, что даже крохотное сальное пятнышко от штей на обшлаге рукава сколупнул, и долго протирал носовиком тулью твердого картуза, нарезавшего лоб до багровой полосы, похожей на шрам, и жидкие волосенки зачесал на плешь, вдруг устыдясь ее. Клавдя и прислугу-то побаивался нанимать: все чудилось (особливо ночами), что вот не сдержит обет постничества и предастся бабьим прелестям. И часто просыпался вдруг средь ночи весь в жарком поту, с тем неутоленным желаньем, что нестерпимо мучает здорового плотью человека, и нагая женщина, невесть откуда взявшаяся, до пят обсыпанная волосами, отпрядывала от груди, тихо отступала к лунному окну, заманно и сладко смеясь, и пропадала за ним. «Чур меня! чур меня!» – вскрикивал Клавдя и набожно крестился, дивясь наваждению. И, помедлив под одеялом, еще робея и тиская его под горлом, вдруг опустит на пол ноги и на цыпочках подкрадется к окну, путаясь в ночной рубахе, глянет в сырой провал ночного двора, но тихо там, пустынно и мозгло, как в заброшенном диком овраге, и ничья внезапная тень не прочеркнет булыжного дна. «Блазнит, ой блазнит, чего там: лишь поддайся зову любостайки-марухи, и заведет тебя бесовская девка, откуда возврата нет...» Годы ушли на передел души, пока-то сердце закоснело, покрылось лубом и корою; тоскливая ненависть, ожесточение к бабьему роду и постоянная брезгливость заселили то место, где раньше обитала любовь.
Однажды в Филипповки, канун Рождества, угорел Клавдя, рано закрывши печную трубу, лежал в спаленке, страдал и маялся. Мерзлой клюквой уши заткнул, грудь обложил квашеным капустным листом, и тут в дверь позвонили. Клавдий позвал прислугу, но она не отозвалась. Вспомнил, что сам же отослал ее в лавку; охая и стоная, открыл дверь, не заботясь о наружности. (А был он в бараньей безрукавке, купленной по случаю, в бумажной рубахе, промокшей на груди от оттаявшего капустного листа, и в домашних отопках.) На входе стояла дама, слегка жмурилась, стреляла глазами, словно бы играла девицу с панели.
– Это вы господин Момон? – спросила она нараспев.
– Нет, вы ошиблись. Я Клавдий Петров Шумов. – Он еще не знал, что уже заглазно прозван на Старой площади Момоном, но скоро к этой кличке привыкнет.
Гостья же переспросила адрес и повторила, нимало не смущаясь: дескать, я к вам, господин Момон. С морозу она была хороша, несколько игрива и ничуть не напоминала просительницу. Но менялу не проведешь, он собаку на этом народе съел, и одного беглого, вкрадчивого взгляда хватило, чтобы определить гостью: он увидел и терпеливую штопку нитяных перчаток, и потертость смушковой муфты, и белые залысины на теплой ватной шубе с серою опушкой. Но что же так смутило Клавдю? Не ночная ли гостья посетила, не наваждение ли? Но стоит лишь из-за стойки протянуть руку, и можно коснуться ее полноватого лица с легким персиковым пушком на упругих щеках, выпуклой коричневой родинки над правой надломленной бровью, приспущенных жестковатых губ и бархатной шляпки над пуком темно-русых волос, стянутых на затылке дешевой заколкой. Пушистые маленькие глазки ее глядели с той теплой доверчивостью, когда оттаивает и самое закосневшее сердце. Пошто она так озирала менялу? Для какой такой нужды хотелось обворожить, смягчить пожелтевшего, плешивого скопца с кривоватым носом? Клавдя даже застыдился своего вида и торопливо обмахнул себя костлявою ладонью. Гостья была не из простых, даже не из мещанок и не из купеческих обедневших особ: родовая кровь так отзывается в человеке, в обличье его, что ее не утаить даже крайней бедностью и худосочностью. Да и что простолюдинке делать в лавке ростовщика? На какие такие нужды занимать деньги, чтобы после, под угрозою долговой ямы, возвращать обратно, но куда в большей сумме? У Клавди чаще бывали те, кого житейские страсти принудили, прижали обстоятельства иль собственное неутоленное тщеславие. Но те дамы обычно смотрели на менялу как бы сквозь, не видя его, они, по обыкновению, не торговались, не заговаривали, не меняя на лице отсутствующего выражения, и торопливо уходили с явным облегчением, как с кладбища, забывая запахнуть дверь. Клавдя же, угодливо улыбаясь, шел следом и испытывал особенную, торжественную сладость в груди.
Но эта-то гостья явно не торопилась, она будто бы зашла с мороза, чтобы поговорить всласть, отогреться и, быть может, испить ординарной водочки, если повезет.
– Какая у вас странная фамилия: Момон. Она мне кого-то напоминает, – повторила женщина, засмеявшись, и распахнула шубу: под нею было ситцевое лиловое платье с низким декольте.
– Сударыня, хоть горшком кличьте.
Клавдя почувствовал томление сердца и испугался. Женщина же не сводила с него глаз, и там, на сереньком мелком дне, вспархивали и погибали мотыльки-поденки. Он был растворен, странно разжижен, этот взгляд, будто человек не мог собраться с мыслями и говорил вовсе не то, о чем хотел бы. Такое случается у людей, больных душевным недугом иль настроенных на что-то особенное и решительное.
Ведать бы меняле, что внезапная гостья уже давно любопытствует, преследует его до самых дверей подъезда, наблюдает в низкое решетчатое оконце лавки и знает, наверное, о хозяине решительно все. Она изучила постоянный путь скопца, его ранних тайных гостей, повадки и скверные манеры мелко хихикать, потирая костлявые ладони, и разговаривать с посетителями так, словно бы и не видя их, но обнимая все пространство позади пришельца. Только однажды женщина появилась в ломбардной лавке и после долго мучилась, запомнил ли он ее. И сейчас, подхихикивая гостье, отвечая меленько на ее звонкий заполошный смех, Клавдя мучительно соображал: а где же мог он видеть это тугое, мраморно-белое лицо с выпуклой коричневой родинкой над правой надломленной бровью? Своей переменчивой натурой, не потреблявшей ни вина, ни табаку, он настолько тонко воспринимал любые запахи, витающие вокруг, что мог бы поклясться, что от гостьи исходит запах угрозы и гибели. И, забыв о головной боли, Клавдя был настороже, как гончая на следу, и хрящеватый нос его постоянно шмурыгал, делая забавным, гуттаперчевым подвижное, скоро меняющееся обличье.
– Не могли бы вы ссудить десятью тысячами? – нарушила молчание гостья, когда они тайно приценились друг к другу и остались довольны собою. – Разумеется, под проценты. Из самого большого прибытку, какой пожелаете. Мне потребовались деньги и срочно. – Гостья вновь засмеялась, неведомо чему, но смех оборвала внезапно, с печальной нотой, намекающей на близкую истерику. – Ну, скажем, из половины. Вас устроит?
Что-то насмешливое, презрительное мелькнуло в ее лице, когда она заметила, как споткнулись его ладони, трущиеся с сухим скрипом. Потом они заметались по стойке, как звери в загоне.
– Я обычно ссужаю из двадцати процентов. А больше – ни-ни. Потому опять же, что в Бога верую. Крест на мне. Неужель с ближнего рубаху-с, графинюшка? Да прямиком в ад... Спасаю, знаете ли, иду на голгофу, но спасаю. Богоугодное дело – в тягостную минуту помочь. И вы вот пришли, дождался. Нужен меняла-то, жалкий ростовщик всем нужен! Нужен презренный человек. Иной раз презренный человечишко пуще Бога! Попустить на него, а?
Клавдя на мгновение забылся, вскинулся пророческим голосом и потряс пальцем. Сейчас в нем было что-то от апостола Миронушки, и Клавдя был даже благодарен ему, что достиг благодати.
– Так как же? Через месяц пять тысяч прибытку. Вас устроит?
– Премного благодарен. – Скопец споткнулся на этих словах и замер. – Как бы не порадеть? Но крайне беден, знаете ли, концы с концами едва-с. Впрочем, не имею чести вас знать... А под што-с, да-да, под што-с изволите капиталу получить?..
– Ну зачем, Господи, ну зачем? Ну, скажем, графиня Елагина. Вас устроит? – Легкий румянец смущения пробился в лице, необыкновенно белом, мраморном, вытесанном из того молодого зрелого камня, который только что выломали. – А не боитесь, что вас убьют? Это так просто. И вы настолько доверчивы, что впустили меня без спросу. Можно мне вас погладить? Все, наверное, думают, что вы гадкий, а вы напротив... Мне хочется вас погладить. Вы не кусаетесь.
Они засмеялись вместе, одна радостно, заразительно, другой – притворно, уже пугаясь гостьи и не зная, как выпроводить ее. Можно было, конечно, указать на дверь, но Клавдя отчего-то медлил. Клюква в ушах оттаяла, была похожа на улиток, но скопец стыдился выковырять ягоды; квашеные листы капусты съехали под рубахою в подбрюшье, и от них в штаны, по ногам стекал липкий мерзейший сок. Можно бы отговориться нездоровьем, сослаться на головную боль, но Клавдя вдруг понял, что ему не хочется, чтобы женщина уходила. Паучок полузабытого сладострастия незаметно и скоренько свил сети, и скопец с головою угодил в тенета. Вот тебе и сердце, похожее на остылый уголь; оказывается, там, под толстым охладелым пеплом, мерцала искра. Господи, Господи, помоги от соблазна! Скопец мучился, будто с живого сдирали шкуру, он откровенно пожирал взглядом гостью и был особенно страшен и неприятен сейчас.
– Я смотрю, вы падки до женщин? Купите меня, всего десять тысяч. Я вас буду любить. – Женщина истерически засмеялась, и глаза принакрылись влагою. Может, смех выдавил слезу? Но Клавдя сразу сжался, затаенно проклиная себя за мгновенную слабость.
– Дикие деньги, матушка. Кто бы не рад? Вот вы изволите играть со мною. Забава для вас, игрушка. А ведь должно быть стыдно-с, да-да! – Он уже смотрел отстранение на гостью, и отчужденное холодное сердце полнилось привычным отвращением.
– Простите меня...
– Прощаю-с.
Скопец глядел сквозь, и гостье стало не по себе, но она не отступала от затаенного замысла. Вдруг из муфты достала шкатулку из слоновой кости, отделанную перламутром, на золоченых гнутых ножках, крышечка была из серебряной скани в виде митры иль короны. Скопец разглядывал ее, не дотрагиваясь, словно бы вещица вовсе не занимала его, но он уже оценил товар, и видел все прелести, и скрыто поразился достоинствам женской безделицы. Он почувствовал в себе азарт, какой у здоровых людей вызывает прекрасная юница, но по врожденным, неведомо от кого пришедшим навыкам скрыл любопытство за постным выражением лица.
– Ворованная? – спросил он грубо.
Но дама не смутилась:
– Это безделушка, право. Но для меня память. Я бы ее ни за что не заложила. Мне ее страшно отрывать от себя. Если сердце вынуть – дышать можно? Это все, что осталось от родителей. Боже мой, Боже мой. Мы странные люди, правда? Вот плачемся оттого, что намереваемся совершить, ведь знаем, как худо будет нам и мерзко. Но идем и совершаем. Мы знаем, что худо от поступка, но идем и совершаем. Может, кто понуждает? Вы знаете того, кто неволит нас совершать дурно? Вы Момон, вы, наверное, близки к Нему. У меня сердце сжалось от презрения к себе. Хотите, покажу, как сжалось мое сердце?
Дама сделала такое движение рукою, будто намерилась заголить полные, еще молодые груди. Клавдя покосился на молочно-белую свежую кожу, и под ложечкой у него защемило. Он сморщился и постарел на десять лет.
– Дайте мне сто рублей на неделю, и я уйду, – кротко попросила гостья.
– Червонец, и не грошем больше.
– Побойтесь Бога...
Указательным пальцем Клавдя тихохонько придвинул безделицу ко краю стойки. Дама пристально поглядела на скопца, помедлила и тем же движеньем отстранила обратно. Еще несколько раз шкатулка двигалась по натертой вощеной доске.
– Только умоляю, заклинаю Господом, не любопытствуйте, не открывайте ее. Берегите как зеницу ока. Через неделю, самое большее через неделю – вернусь.
Клавдя сложил серебряные рубли стопочкой, и женщина одним движением смахнула монеты в муфту. Она повернулась и, не попрощавшись, пошла. Клавдя еще помедлил, голова его, тяжелая и громоздкая, покачивалась над узкими плечами, как пришивная. И неведомо для какой цели накинул Клавдя желтый дубленый полушубок на крючках с отворотами серого меха, нахлобучил черную папаху с алым донцем и выскользнул следом. А незнакомку уже снегом замывало, хлопьистым, частым, бесшумным. Клавдя заозирался, крикнул извозчика для проформы, для форсу лишь (такую моду нынче взял, выходя из дому), и, пока не подскочил случайный седок, скопец живо и решительно побежал за женщиной, не приближаясь, но и не теряя ее из виду.
Глава третья
И подступили паломники к Беловодью.
Мяли долгую смертную дорогу с несокрушимой верою, не отчаиваясь и уповая лишь на Господа Бога, а подойдя – вдруг растерялись, и каждый ущипнул друг друга: батюшки, да не сон ли это? Вот она, обетованная страна, о коей многие мечтали, но мало кто достиг сей земли...
Перед ними покоилось озеро в синей чаше. Лесистые всхолмья окружали, маревили, едва намечаясь взгляду, как послед уплывшей грозовой тучи, – столько открылось недвижной, слегка зеленоватой, какой-то сонной, безмятежной воды, слегка позолоченной по закрайкам. Ближе к берегу, куда подобрались скитальцы, за неширокой виской подымался из воды остров, похожий на тулово гигантского зверя. И ежели, по писанию, земля наша покоится на трех китах, то не спина ли одного диковинного зверя проступила сквозь океанскую пучину, за века покрылась илом и прахом, обросла щетиною травки и вот обселилась людьми, случайно проникшими сюда? Не сразу приблизившись, из-за листвяной розвеси прибрежных кустов, с крутогора, скитальцы подозрительно пригляделись к открывшейся картине и поразились тому покою и кротости, коими, казалось, был напитан сам сладковатый, тонко звенящий воздух. И еще раз беглецы молча ущипнули друг друга. Остров не проглядывался сквозь, он, наверное, тоже был велик, он вспухал из воды не круто, но ровно, полого, овеянный мреющими, едва колышащимися воздухами, и взглавье его опутывала первая крепостная стена, за коей открывалось тесно поставленное селение; оно вилось кругами, разматываясь к маковице холма, где обнаруживалась вторая, наверное монастырская, ограда. И все невиданное прежде селение увенчивалось золотым осадистым шеломом, соперничающим с самим солнцем. Скитальцы обшарили взглядом протоку по всей ее длине и обнаружили поднятый мост и келью прислужника. Они подошли к озеру и крикнули служку. Он показался, длинный, согбенный, в черной рясе; приставил ковшичком ладонь к глазам, мысля увидеть своих, – и обомлел. На материке стояли чужие, незваные пришлецы. Сторонних людей монах последний раз видел шестьдесят пять лет назад, когда шел ему десятый годок...
Двести лет тому восемьдесят шесть ревнителей старины с Мезени и Печоры, боясь Никоновых новин, страданий и угроз, вместе с женочонками своими, детишками и кой-каким имением погрузились в лодьи и, ведомые соловецким старцем Германом, отправились в Исход. Путь их был долог и горек, пока-то попали они в Обскую губу, а после подымались вверх по реке, перемогая всякие невзгоды, и долго выбирали место на старице иль попутной боковой речонке. Выбрали засельщики реку Мылву и весною с приходу начали лес секчи и летом огни по край реки метати и пущати. И были в то время лета сухие, и начал огонь ходить и лес гореть по край реки. И стали клины чистить, и хлеба сеять, мешая рожь меж жита, ржи полагая пятую иль четвертую долю, и возросло жита тем летом много; а другим годом – ржи. Были годы богатые, не зяблые; по три хлеба, а то и по четыре на кряжах снимали, пашни пахали копорюгою. И славили Бога, и отец Герман рек: «Живите тут, где я благословил вас». Но отец Герман кончился, надорвавшись в трудах непосильных, и тогда настал глад и хлебный недород, пошли частые зябели и годы зеленые, хлеб не поспевал, и случилась великая скудость. И начали солому ржаную сещи и толочь на муку, и начали хлебы соломенные ясти[94] . А наголодавшись, стали падать духом. Братство же умножилось, и начали матери хлеб красть и детей своих кормить, и начало их мучить. Обитель стала падать духом, так решив, что Бог прогневался на посельщиков. И некоторые избранные с веления собора пустились искать новое место, а иные, крепкие духом и плотью, собрали в общине, что принес с собою народ (деньги, мониста серебряные и платье), и отправились на Волгу, где хлеб тогда дешев был. И через добрых людей, не сказавши, кто они, хлеба купили и водою на дощаниках приплавили, а после в крошнях на спине выносили. А посыльщики пришли на то место, где ныне Беловодье, и иноку Питириму было знамение: видит он на острову множество народа всех чинов в светлых одеждах, полки полками идут и поют кротко, а впереди тех полков светлообразный муж в священнической одежде. И так решил инок, очнувшись, что милосердный Бог дарует им благодатное место, если станут жить в мире и согласии.
Вернулись ходоки в обитель и рассказали видение отцу Захарию. Захарий же был высокого полета и ума муж. В миру Лука Федоров, он хаживал и на Шпицберген, и на Матке не однове зимовал, обойдя ее кругом, толмачил со свеями и англичанами и слыл за рудознатца, открыв серебро на Печоре. Тою же осенью Захарий отправился к неведомому озеру и подивился необычайному, словно бы рукотворному, острову, по лошадиную холку заросшему жирной, нетоптаной травой, велел поставить на самом взглавье холма келейку, где ныне монастырь, и вызимовал там в одиночестве, размышляя о Руси, о протопопе, томящемся в земляной яме в Пустозерске, и о народце, что доверился ему. Зверь всякий приходил на водопой, и инок дивился обилию зверя; рыба гуляла такими стадами, что вода кипела, и ежели весло воткнуть в эту гущу, то оно не свалится, но так и поплывет стоймя в косяке, удаляясь к дальним протокам; когда же жировая птица снималась с ближних боров, то небо темнело и солнце пропадало от множества крыл. Потом пришла зима с обильным кротким снегом, и опять Захарий дивился мягкости погодья; и решил тогда монах: вот земля благословенная, страна обетованная, к коей стремился народ, да не всякому далась она. И что ни кинь в эту землю, все прорастет и даст богатую ниву, ибо воздух здесь, со всех сторон огражденный лесистыми гольцами и размягченный серебристою водою, хранит в себе неиссякаемую обильную теплоту. А поняв все это, под весну послал Захарий во все стороны тайных дозорщиков и лазутчиков, чтобы высмотрели они всю местность, на сколько поприщ от будущей обители сыщется мирской человек и где находятся туземцы со своими стадами. Долго ходили искальщики, а вернувшись, уведомили Захария, что ближайшая заимка за четыреста поприщ, но прямь за хребтом, коли перевалить его, уже ровно бы иная земля, суровая и каленая: нынче здесь благодать, а там птицы мрут на лету от стужи.
После такового известия еще неделю думал Захарий, а размышлять причины были: как жить далее, как возводить обитель? Общиною ли трудовой иль скитом? Монастырским уставом обустроиться, по келейным иноческим правилам, иль вольным мирским обычаем? Как ставить городище и как продлевать во времени, чтобы не захирело, не иссякло поморское артельное согласие? И только насчет веры сомнений не было: надо держаться русской истинной веры, заповеданной отцами. Озеро пело, свитое из тончайшей серебряной скани. И воскликнул инок Захарий, омыв лицо из озера и плеснув на истомленную грудь: «Посередь белой воды городищу светлу бысть, и рекем его Беловодье».
На самом мыску возле протоки, где отцу Питириму случилось видение, поставили саженный крест из кедровых плах и отслужили молебен. А потом всем народом, что двигаться мог, отправились в елани тес и плашье тесати и бревна сещи, и тем же летом стал отец Захарий со стариками и сиротами лес по воде плавить, и поставили для начала от непогоди большую келью из сушняка, и печь склали из камения, и приготовилась братия жить тут и службу служити...
Караульщик исчез в городище и долго не возвращался. Могли бы протоку переплыть, минуя поднятый мосток, но робели: в иную страну надо было вступать с чистыми помыслами. Симагин замшел за дорогу, заскорбел от грязи и сейчас торопился вернуть прежнее Божье обличье. Надел чистое исподнее, бороду оправил: положил серое, еще влажное мочало на синий камень-валун и, постукивая осколышем, подрубил отросшую шерсть. Мог бы ножом подровнять, долго ли отхватить клок, отнять посекшийся, неряшливый хвост, пластающийся на груди? Так нет же – Симагин и в правке бороды стремился быть особенным от черного, низкого люда. Но кому подглядывать сейчас, кто уличит в измене своим привычкам? И кого может побаиваться сам Бог? Лишь Донат Богошков был возле, но и тот заснул будто бы, распластавшись на отлогом берегу. И смешно было глядеть, как, выпучив глаза, Бог осторожно постукивает камешочком и багровеет от неловко запрокинутой головы, наливается кровью. Потом посох из можжевела сообразил, ошкурил его до костяной белизны, из котомицы добыл поизвалявшийся лисий куколь, о колено выхлопал его, против шерсти расчесал гребнем, взъерошил и оторвавшийся от своедельной митры кровавый камень-рубин протер полою зипуна и вновь приторочил к шапке оленьей жилой. Знать, не чувствовал себя Симагин истинным богом без куколя, венчающего главу, словно бы ему не хватало достойного завершения. Донат лежал на обмыске, опустив ноги в неслышную воду, и огонь тихо утекал из размозженных ходьбою ступней. Озеро сверкало и слепило глаза, потому Донат старался не поддаться его очарованью. Озеро походило на русалочью чешуйчатую кожу и таило обман, и скиталец, боясь волшебных чар, не сводил взгляда с тайного городища, боясь вдруг потерять его. Думалось, лишь отпусти на мгновение Беловодье, и оно растворится, провалится сквозь землю, и на том месте останется лишь купол жирной нестриженой травы.
И вдруг из городища цепочкою выступили они, каждый с посохом в руке, черные одежды, свободно льющиеся о самую землю, скользят по травам, не приминая их, рукава длинные, по колена, и серебристые апостольские бороды выпрастаны поверх платья. Шли двенадцать белолицых смирных старцев и последним – иссиня-черный инок, едва опушенный бородою, не то турок, не то ассириец какой-то, пришлец из эфиопских земель, совсем молодой, почти юный, с откровенными распахнутыми голубыми глазами. Как бы Христос явился со своими многомудрыми апостолами, но еще юный, робеющий, но еще изначальный, слегка виноватящийся своего особого отличия и потому стремящийся стушеваться, уйти в тень. Они так и встали по бережине – двенадцать белолицых старцев с кривыми, отпахнутыми ветром бородами и чуть поодаль иссиня-черный инок с курчавыми эфиопскими волосами, покрытыми скуфейкой. Главный старец (это был отец Елизарий) выступил вперед, ряса туго обтягивала рамена, и был монах даже в старости устроителем и воином. Только что собор долго решал в монастыре, допускать ли в Беловодье пришлецов, дивились чуду, откуда же вдруг явился народ и кто их привел, но мнения разделились, и лишь в одном оказались иноки едиными – каждому захотелось хоть одним глазом глянуть на гостей. Елизарий из-под руки всмотрелся в них. «Люди как люди, – подумал он. Елизарий родился в Беловодье, тут и состарился; он рано принял монашество, и нога его ни разу не ступала за пределы острова. – Оказывается, в миру люди тоже об одной голове и двух ногах», – вдруг насмешливо удивился он.
– Кто вы? – спросил Елизарий строго, басовито.
– Я бог, а это мой апостол Павел, – без промедления ответил Симагин и пристукнул посохом. Иноки так и застыли, и слабая улыбка стерлась с губ Елизария. Но оторопь была мгновенной, старцы зароились, сгрудились, один из них, согбенный и дряхлый, вскричал: «Нет-нет!», и голова его затряслась. Лишь Отец, высясь над всеми, поверх плечей озирал пришлецов львиным горделивым лицом, молчал, отдавшись неведомой тревоге. Он был ветвью древнего рода, и мудрость основателя Беловодья инока Захария перешла вместе с наследованным чином. Но как ни крепись в затворах, как ни хоронись в скрытне, но сам горний ветер доносит порою с Руси тайную смуту, и совершенная, устроенная жизнь вдруг да и покажется подозрительно ладной и довольной. А как страдать тогда, откуда взять страданье, чтобы приблизиться к Богу, и закоим заповеданный загробный рай, ежели тут, на земле на матери, сочинилась полная благодать? Не смерть ли есть благодать сия? Нет-нет да и раздумаешься и отдашься в волю тайного томленья, и долго после молишься в келье и рыдаешь. И чем долее жил на свете Отец, тем дальше (так чудилось ему) он отодвигался от Бога. А лазутчики, являясь с Руси, несли весть, что народ кинулся в Беловодье, прослышав о заповедной стране, и едет, и пеши бредет, принимая на себя неслыханные страданья; но ищет не в той стороне, но в неведомых землях и мре, аки мухи, и костями устилает басурманские пыльные пути. Ах ты Боже, прости... И вот из неведомого мира, о коем Елизарий лишь догадывался и наслушался много, вдруг явились люди, и один из них назвался богом. «Какой же он бог? – подумал Елизарий, не осердясь на осквернившего свои уста неправдою. – Знать, какой разброд на Руси, ежели люди сами себя называют богом, не устрашаясь грозного слова. Вот послушать бы его да и укрепиться духом на остатние годы. Он юрод, поди, малишонный, слабый головою человечишко. Так ли уж он опасен нам, чтобы бояться? Попытаем вестей да новин и спустим в мир, пусть несет об нас благой слух».
– А ты чей? – внезапно крикнул Елизарий и пристукнул посохом.
– Я бог, а царь царям, – торопливо отозвался Симагин.
– Да не тебя пытаю. Он-то, попутчик твой, откудова? – Елизарий перстом указал на Доната.
– Скиталец я, отче! Беглый! Лишний на сем свете и к вам бреду. Уж не чаял и сыскать. А родом с Помезенья, слыхали, нет? С Помезенья, с Гандвика, со студеного моря... Донат я, Донат Богошков, сын Калины. Не гони-те-е! – Донат упал на колени, отчаянно приложился лбом оземь, неведомая ранее смертная тоска обротала его. Сердцем воспринял скиталец, что не монастырская стена будет преградою, но вот эти двенадцать старцев. – Пустите или убейте. Отчаялся я, отчаялся-я-я, Господи. Внемлите твари ничтожной! Вы только возьмите меня, оприютьте, за раба буду. Я все могу: и посуду речную шить, и утварь какую по нужде, и по мебелям мастер, и образа мазать, и хлебы печь, и шти варить. И по меди могу, и по железам. Возьмите-е, Господа за-ради.
Волненье охватило Отца, и кровь загорелась. Неожиданный зов неведомой, но, оказывается, незабытой родины и через двести лет проник в затворы. Но Елизарий не успел возразить иль ободрить скитальца, как монахи, насовещавшись, вновь построились стенкою и самый нажившийся, согбенный отец Виталий проскрипел:
– Вот он хвалится – он бог! Ежели бог, пусть пройдет по воде, аки по суху!
И все засмеялись торжествующе, ибо они знали верно, что если Бог явится к ним, то он не станет взывать о себе, но каждый увидевший его распластается ниц. А вокруг чела самозванца ни малейшего сияния и даже намека. Нечесаный, дикий, жутковатый человек в шаманьей шапке юродствовал на том берегу и, еще не достигнув благодати, уже чем-то угрожал старцам и пытался владычить. Зло от него ощущалось даже через протоку, и, если бы иноки могли и умели распоряжаться чужою жизнью, они, пожалуй бы, умертвили пришельца. Но Беловодье уже двести лет не знало смертной казни.
– Гордецы! Пересмешники! Я земной бог, я устроитель счастья!
Иссиня-черный инок, стоявший чуть поодаль, не сводил взгляда с Симагина.
– Жди! И явимся! – крикнул он едва слышно. Все монахи согласно повернулись в его сторону, но не возмутились, не забранились, но, как бы забывши скитальцев, повернули в городище.
... И потом срубили часовню во имя Воздвиженья с большою трапезою, и противу всей трапезы паперть поставили и половину отгородили, и там печь огромную сложили, а другую печь под часовней, и образы большие написали иконники.
А потом скотние хлевы к зиме завели и огороду из жердья вокруг, и тут скот зиму пребывал. И хлебню построили, и портомойню, и кониный двор и начали зимою на конях бревна к воде возити, а плашье и тес к дому. И сироты, и клирошанки, и келейные жительницы, старые мнихи и дети малые всякий день в работе: мох рвали по болотам, носили и сушили, погреб копали, снег срывали, лес секли и плавили; и такой труд подняли – дивиться впору.
И построили в осень привратную келью, и поставили ограду новую в столбы и врата рубленные с озера надвое растворять. И еще тем же годом срубили амбар и под ним погреб для съестных припасов, рыбы, капусты и крошева; такожде и поварню, и возачью келью работникам и возчикам жить, и поставили швальню – швалям шить, и больницу, и грамотную; а такожде и десятичным, и всем трудницам, и постницам кельи; а такожде портную и чеботную, келью иконнику и казначею платенному, мастерскую медную; а такожде челядню и портомойную келью и молошницу и еще одну приворотную келью с полуночной стороны для приходу и свидания и для всяких братских нужд приходящих, для прожитья приворотниц и надсмотрщиков и караульщиков по чину; а такожде начали делать плотину и, собравши из братства множество работников, воду заперли и отвели в иное место и начали чистить ложе. Днем братия трудилась, а ночию отец Захарий с сестрами и стариками землю копали и носили камение, а после плотину начали рубить и засыпать землею. День и ночь работали, а под осень в ночи с огнями, и ко второй зиме сготовили плотину. И после, на четвертое уже лето, мельничный амбар поставили и колесницу с толстого леса, две толчеи сделали и два жернова устроили, и начала мельница добро работати, и после того к мельнице келию поставили двоежирную с сеньми и чуланами...
А когда выросла пу?стынь и сбились людишки в одно житье, уже не испытывая ни стужи, ни глада, и годы пошли друг по другу родящие и добрые, и хлеба-то насыпали амбары, и рыбы насушили и накоптили впрок, и мяса сохачьего навялили, и одежд теплых нашили из звериных шкур, и полотна наткали, – тут бы, казалось, жить да жить! Ан нет, пошел тихий раздор и странное своекорыстие, и начали скитники коситься друг на друга, куски считать: уж больно много мирского пришло в пустынь да и дало племя. «Что-то не так родилось, не так устроилось», – с тревогою решил Захарий, видя, как в монастырских стенах и дети малые пошумливают, отпугивают иноческий покой, а девки и парни, как стемнеет, бегают по кельям и ластятся друг ко дружке и тайные бесовские игрища ведут, отдаются плотским утехам. Пробовал Захарий преслушникам и ропотникам, лениво и слабо живущим работникам и батогами по филейным местам науку преподать, и долгим молитвенным покаянием застращать, но его же, Захария, душа и заболела.
И предложил Захарий на соборе всех мужиков и баб, кому нет сорока лет, всех парней и девок, у кого нет охоты к монастырскому затвору, заселить особой слободою подле пустыни, чтобы каждый вел свое хозяйство и чтоб семьи плодились и умножались на нескончаемую жизнь Беловодья. И кто семьями был, те сразу избы стали рубить себе и землю копорюгой пахать, и вся пустынь им помогала под крышу зайти, и первую утварь собрали, и живность ввели во хлевы. А молодые стали свадьбы играть, и много было веселья. И проросли избы по кругу, посолонь, как грибы после дождя, вдоль одной улицы, вздымаясь все выше и выше, ко взглавью. А годами после и мирскую слободу обвели второю стеною, неприступным тыном. И скоро украсилось Беловодье, и новое быванье дало обильные радостные плоды...
Медленной поступью ушли иноки в обитель и как в воду канули, словно бы оставили скитальцев помирать на чужом берегу. Старого дозорщика сменил молодой караульщик и в оконце охранной кельи просунул бердану; он отчего-то постоянно шевелил ружьецом, будто жгло оно руки иль не терпелось стрельнуть по незваным пришельцам. Он был молод, привратник, и удивление его пред чужими прошло скоро. Он видел, как томились странники за протокой от голода, и скоро подобрел, не заметив в них звериного лесового коварства; вышел на порожек, отломил от ситного каравашка горбуху и кинул бродягам.
– Шибко-то не ешьте, зажмет. Помаленьку кусайте. Оголодали, поди? – крикнул нерешительно, – наверное, полагал, что эти неизвестно откуда взявшиеся приблудники несут в себе чужой язык и не поймут его.
А Донату же почудилось, будто он вернулся нежданно в родные домы: своя, помезенская гово?ря донеслась с острова. «Бог ты мой, откуда взялся этот рыжеволосый конопатый парнишонко, стриженный под горшок?»
– Откуда ты? – спросил Донат торопливо, озаряясь просительной улыбкой.
Ему уже было стыдно за недавние мольбы свои, за слабость душевную. Что подумают про него люди добрые? Вот, скажут, не мужик, но байбак, недоделок, полоумный христопродавец, проливший невинной крови, иначе отчего бы так каяться и валяться в ногах?
– Не велено баять, – донеслось с острова.
Караульщик скоро исчез в келейке и повел на бродяг ружьецом.
– Ты зри, злодей, кто пред очию! Но-но, не балуй, нехристь! Карой покараю. – Досель валявшийся на траве полусонный Симагин, услыхав голос караульщика, тоже неожиданно воспрянул, вскочил на ноги и пристукнул посохом.
Смешон был сейчас бог и жалок – в оборванной сермяге, в облезлом лисьем куколе и полосатых портах. И так стыдно стало Донату за спутника, так неловко пред парнишонкой, что глазел из келейки... И впервые за долгую дорогу Донат не сдержался, одернул Симагина:
– Не порти дело, отец. Из-за твоего язычка крепко сядем.
– За-мол-чи!
– Ежели бог, дак поди по воде, аки по суху. Поди в городище и доложись, что мы оголодали. Ну, чего медлишь? Поди и доложись. Тебе и пуля-то не страшна, не пронзит тебя. Чего страшишься?
– У меня же мясо на кости. Кабы жиру оковалок, куда ни шло. Ты что, сдурел, мелешь-то неподобное? Ах ты тварь, ну и тварь же, прости Господи. Как я тебе пойду по воде, ежели на мне мясо с костьми. Я земной бог, я устроитель счастья. А то, про небо-то все враки. И год лети, десять лет – одна пустыня. За что зацепиться? Сам подумай. Больно за воздух-то удержишься, а?
– Загунь! Чирей на языке вскочит, – вдруг оборвал Донат грубо, почти ненавидя спутника за его лживый, изворотливый язык и непостоянство натуры.
Как червь под пятою: и так и эдак. Ежели ты бог, ты выкажи силу. Но ты языком лишь: бот-бот. Ботало, а не бог. «Помели мне языком-то, помели!» – угрозливо посулил Донат, уже страшась грядущего. Да и то: на карачках ползли, перемогались, как могли, думалось, и не дойти, сгинуть, аки последней никошной твари, но вот доползли. Так ты молчи, собака, не лезь с поганым языком. «Он бог, бог», – мысленно передразнил, все еще горячась, темнея взглядом. На последних минутах так легко нарушить все, разбить мечту, кою тешил долгие годы, пройдя сквозь страдания. «Да тут коли впоперечку пойдет, и рожу расписать мало, юшку пустить, пусть только заартачится», – мысленно пообещал Донат, и этой тайной угрозы хватило мужику, чтобы успокоиться.
– Раз говорю, значит, знаю, – не удержался Симагин.
– Ты... замолчи! Долго терпел, а боле не смогу.
– Вот как на бога-то попустился. Ой-ой.
– И попустился, да-а, попустился, и что? Я не боюся тебя. Подумаешь, выискался чудо-юдо, чурка с глазами. Шшолкону – и дух вон. И глазами меня не ешь, мне отсюдова идти некуда. Тут, почитай, моя родина.
Доната растопило, такую долгую дорогу молчал, не перечил, но вот понесло, лопнула запруда, и весь прежний норовистый характер наружу. Донат едва кулаки разжал, так занемели и набухли они. Симагин промолчал, убоявшись, в перепалку более не ввязывался, но криво улыбнулся, этим выказывая крайнее пренебрежение к мужику и лишая его дальнейшего покровительства. Злорадно подумал: «Еще в ножки падешь, скотина, а я отвернуся. Отныне лишаю тебя апостольского чина за смуту и неповиновение». Но Донат уже забыл о спутнике, забрел в теплую зеленоватую воду, ласково крикнул на противный берег, отныне любя всех, кто жил на острове. На душе его был тот кроткий покой, коего Донат уже отчаялся иметь.
– Эй, паря, а ну подь сюда, поговорим, – поманил Донат пальцем. – Эк ты глухарь, однако. Ты не робей, дитятко!
Но караульщик молчал. Донат потоптался, еще пробовал заговорить, выманить привратника из кельи, но тот словно онемел.
В городище же третий день безумолчно играли колокола, оттуда сполохами доносились крики. Там решалась судьба незваных гостей. И вот раздвинулись двустворчатые ворота, по склону холма важно спустился дозор поселенцев, все в белом. Воротом, неторопливо налегая на рукоять и часто взглядывая на бродяг, посыльщики откинули мост; беловодцы даже на погляд были грузные, рослые, и под их ступью эхом отдавались окованные железом плахи. «Не сносить нам головы, видит Бог», – покорно отдаваясь власти ватаги, подумал Донат и отчего-то закрыл глаза. Ему не страшно было и умереть сейчас, такую умиротворенность он имел в груди. Заверещал, вскрикнул Симагин, наверное, ему заламывали руки. Донат еще крепче сдавил веки и подставил шею...
А колокола били не унимаясь, и благовест этот был тревожен.
Глава четвертая
Снег повалил пуще, и Клавдий испугался потерять женщину. Он почти нагнал ее, но можно было и не поспешать. «К чему мчал, что за дурь одолела? Поди, с угара приток крови, вот и мерещит, иль мороженая клюква отдает в ушах», – сам себя успокаивал Клавдя, не сымая взгляда со спины незнакомки. Женщина неожиданно остановилась возле меблированного дома Мальцева, помедлила и с трудом, наполовину, открыла дверь. Клавдий затравленно оглянулся и заскочил следом. Дверь пристукнула по пятке, и скопец чертыхнулся, привыкая к сумраку доходного дома. Он запрокинул лицо, женщина, оказывается, стояла в пролете второго этажа и, придерживая рукою шляпку, свесила вниз голову, будто намерилась кинуться на лещадный пол, и только меняла, неожиданно появившийся в подъезде, мешал этому предприятию. Клавдий стесненно замешкался, рукавицей-меховушкой, принагнувшись, без нужды обмахнул от снега валеную обувь, словно он просто по делу вошел в дом. Он еще украдкою бросил взгляд, и мог поклясться скопец, что его позвали. Нет, он не слышал голоса и не различил ни кивка головы, ни пугливо приглашающего взгляда, – лицо едва просвечивало в темени; так, может, поманили пальцем? – но незнакомка одною рукою придерживала шляпку, а второю судорожно прижимала к груди муфту. Скопцу стало жарко вдруг, и он расстегнул верхние крючки бекеши, худо совладая с пальцами. «Бог ты мой, что за напасть со мною?» – беззвучно вскричал Клавдя, переминаясь на нижней ступени и уже упорно, неотвязно наблюдая, как медленно, нехотя подымается дама. Вот она миновала второй этаж, где снимали комнаты благородные, прошла третий, и только на четвертом замолкли шнурованные полусапожки... «Не дьявол ли мною играет, опутывает тенетами? Вот как хошь, но ничего пособить не могу, сам себе не волен, Господи...» – так мысленно юлил Клавдя, уже верно предполагая затеянную игру и видя ее исход. Он молодо взбежал по маршам с тою решимостью в груди, с коей убийца вершит давно продуманное грешное дело. Женщина только что открыла дверь с номером 13 и, войдя, оставила ее полуоткрытой. Клавдя помешкал, спустился вниз и в лавке купца Сидорова купил звено соленой семги по десяти копеек за фунт да фунт паюсной икры, да шестикопеечную крупитчатую сайку, да фунт орехов в шоколаде и бутылку мадеры. С покупками он поднялся наверх, толкнул плечом дверь и попал в крохотную комнату, более похожую на чулан, с заледенелым оконцем, куда скупо брезжил декабрьский день. Тут и середка дня без свечей не обойтись, и мрак, убогость даже для Клавдия показались настолько ужасающими, что он оторопело застыл у порога, озирая скудное убранство житья. Да и что тут было смотреть, скажите на милость? Два венских стула, трехногий столик у окна да узкая вдовья кровать, на которой устало сидела незнакомка, сейчас особенно несчастная и чужая посреди этой обстановки. Это была комната самоубийцы.
– Ну что вы застыли как истукан? – хрипло спросила она и зажгла свечу. Поднявши пред собою шандал, она подошла к гостю, осмотрела его придирчиво и, обойдя стороною, заперла дверь. – Проходите, раз пришли.
– Не смею-с, барыня. Без дозволения, можно сказать, как тать, вторгся. Имеете полное право по шеям-с. Но пла?чу, плачу, видя вас вот здесь. Только по решимости характера и в сильнейшем беспокойстве пребывая, вошел и обеспокоил. – Клавдя нарочито закашлялся, выжидая момент, чтобы пройти в комнату и так расположиться, чтобы одним взглядом видеть все и чувствовать себя в безопасности. За годы московского житья скопец научился говорить витиевато, с загогулинами, скрывая смысл и намерения за словесной путаницей. – Я тут кое-что прикупил, единственно за-ради знакомства с очаровательной барышней, не изволите беспокоиться. Винца сладенького, да-с, икорки, значит-с, паюсной и заедков[95] .
– Тогда снимайте шубу, и будем пировать. Напьемся-а. Эх, давно не пивала, не мачивала губ.
Клавдя скинул на спинку кровати бекешу, а сам, оставшись в папахе и в затрапезном бараньем лифе, разлил вино по фарфоровым чашкам. Рука его отчего-то дрожала. Незнакомка, не приглашая, торопливо выпила и налила себе повторно. Клавдя же понюхал ладонь, семужий острый полузабытый запах показался столь неожиданным и странным, что скопец удивился. Только тут он вспомнил, что купил красной рыбы, доставленной в престольную с его родины, развернул обертку, добыл из полосатых штанов узкий, хорошо начищенный нож с костяной рукоятью и умело разделал звено, невольно любуясь истекающим жиром, нежно-розовым мясом.
– Кушайте, держите рыбки...
– А вы чего не пьете?
– Не потребляю-с. Ни вина, значит, ни табачку, вера не позволяет. А баб ни на дух не переношу-с, хе-хе. Так что не извольте беспокоиться. Единственно из любопытства. Как несчастный человек к несчастному изволил зайти-с, чтобы утешить.
– Зачем меня утешать? И откуда взяли, что я несчастная? Напротив...
– Э-э... Да вижу, потому как чутье-с. Я-то свое отстрадал. – Клавдя потупил глаза и покачал головою, вроде бы жалея себя и краем пальца смахивая невидимую искреннюю слезу. – Было время, когда порешить себя думал. Червяк, думаю-с, и зачем жить, коли каждый, кому не лень, наступит и раздавит. Видали, нет, как после дождя вылазят шуры на дорогу, жирные, красные, как вот эта рыба, простите за неприличие. И кто ни идет, под ноги не глядят и все топчут, топчут, топчут, и никому до них дела нет-с, что они плачут, у них семья, детишки.
– Кто плачут?
– Да черви, матушка, черви. Они так и вьются и плачут.
– Зачем так грустно, Господи?
– Ну дак как же не черви-то, матушка. Уж вы как прекрасны, но всего лишь червь двух аршин и четырех вершков длиною-с.
Женщина при этих словах брезгливо передернула плечами, но промолчала, Клавдий же внутренне восторжествовал, но сразу заторопился, боясь, что перебьют, продолжил елейную речь:
– И я червь белый, подпенный, быват, что хуже вас. Пакость – и только. И как подумал про то – и захотел умереть, начисто штоб истребиться и дух вон. Однажды пошел я в аптеку и купил этого товару. – Клавдя помедлил, заговорщицки подмигнул и оглянулся на дверь. Потом обвел глазами житье, остерегаясь подвоха: да нет, кажется, не ошибся, комната самоубийцы. И только тогда, прислушавшись, добыл из безрукавки стеклянную нюхательницу с притертой пробкой. – Приобрел, значит, и отныне неотлучно держу при себе, момента жду.
Он говорил без умолку, широким рассеянным взглядом обнимая хозяйку, но странным образом улавливая перемены, что творились в ее разбитом сердце.
– И отчего вы не спросите, матушка, что в этой бутылочке? А в ней, скажу по секрету, смерть-с. Самая обыкновенная и весьма скорая. Кинул щепотку хотя бы в это сладенькое винцо, пригубил – и хе-хе. – Клавдя повертел бутылочку в ладони и положил обратно в карман. – Впрочем, у вас душно. Не позволите ли мне снять мой сюртук?
Так он назвал баранью засаленную душегрею и, торопясь, будто откажут в просьбе, снял безрукавку и кинул на спинку кровати поверх бекеши.
– Страшный вы человек, Момон. И жуткие вещи говорите мне. Я боюсь вас, но хочу, чтобы вы не уходили. Скажите, зачем вы крались за мною? – Женщина побледнела еще больше, запрокинулась на подушки, словно с нею случилось худо, потерла виски и будто невзначай потянула за край лилового платья, оголила мраморное плечо. Клавдя запунцовел и потупил взор.
– Иди сюда, – громко позвала женщина, кровать скрипнула, подаваясь под ее телом.
– Не имею нужды-с...
– Вы, Момон, не смеете отказать женщине. Вдруг она любит вас и оттого преследует...
– Вот вы снова изгаляетесь надо мною, а вам к Богу взывать пора, – потухшим горьким голосом посетовал Клавдя и, решившись, вскинул голову. Глаза его зажглись кошачьим желтым светом. Может, виною тому было пламя свечи? – Вот я даве вам сказал, что я червь. Но добавлю к сему: я червь с капиталом. Меня, ежели хотите по правде, всего лишь однажды унизили по моему изволенью, лишили гордости, над чем вы и надсмехаетесь. Но я отныне много капиталу имею и через тот капитал над вами смеюся. Все вы на поклон ко мне, все-е. И гордецы, и сластолюбцы, и служивые – все на поклон. И совестные и бессовестные, кого нуждишка прижала и кто в разврате погряз, забывши о Боге. Всем нужен. Только раз случилося горько и тошно, я переболел, а таперича мне сладко, как бы вроде мед ем и медом же и закусываю. И сейчас сладко, как вы предо мною унижаетесь очень, а я загодя все вижу и могу вами играть. И даже вполне может случиться, что вы в ножки мне падете и целовать их, грязные да неумытые, будете оченно.
– Чего вы хороните меня? Чем так насолила вам, что вам сладко захоронить меня? Прочь! Прочь с глаз! – вскричала женщина и театрально вскинула руку, указывая на дверь. Клавдя торопливо поднялся, но не успел и шагу шагнуть, с намерением одеться, как женщина тут же и смирила тон, попросила угасше: – Впрочем, останьтесь. – Она вдруг придвинулась к стене и, указав на край кровати, пригласила с плохо скрытой мольбою: – Вы не бойтесь. Мне так худо. Присядьте возле, утешьте даму.
– Не имею нужды-с...
– Ну что вы заладили одно и то же.
Она заплакала, закрыла лицо руками, потом привстала, торопливо содрала с себя лиловое платье. У Клавди голова пошла кругом: в едва разбавленных сумерках голая женщина показалась русалкою, облитой тонким прозрачным покровом воды. «Вот он, дьявол-то, маруху исподтишка на меня наслал, чтобы ввергнуть в соблазн, и небось тешится сейчас», – туманно подумалось, и Клавдя, забывшись, против воли своей неожиданно застонал, скорчился, делая вид, что схватило живот. Но он, однако, украдкою скашивал взгляд и не мог оторваться от не истраченного хворями, ладно сбитого тела. Скопцу стало так жаль себя, что он на мгновение закрыл глаза. В голове у него кружилось, ее то сдавливали раскаленными обручами, то обкладывали грудами льда. Бедный человече, и за что наслали на тебя такие муки? «Весь капитал отдам, Господи! – взмолился в душе Клавдя. – Верни меня прежнего, хоть на мгновение верни!» Ему даже почудилось, что в утробе случилась неведомая буря, так окатило поначалу студеною, потом и парною волной. «Все отдам, все-о», – как во сне шептал Клавдя и, расставив пред собою руки, пошатываясь, шагнул к кровати. Он присел на самый край постели и, мучительно желая, чтобы все это лишь приснилось ему, сильно стиснул веки, в полной гнетущей тишине нашарил прохладное женское тело и сразу отдернул ладонь, как будто бы ожегся.
«Грешник-то я какой, Бо-же-е!» – снова тайно вскричал Клавдя и искренне заплакал. Все, чем жил он последние годы, о чем лелеял мечту и чем тешился, вдруг показалось таким жалким, никчемным, не стоящим и ломаного гроша, что Клавдя люто возненавидел недавнего себя. На что потратился, на что обменял огонь телесный? Все золото мира, все сокровища не смогут заменить крохотного кусочка жалкой и презренной плоти. Так какова же цена его? Костистая его ладонь уже торопливо сгорстала тугую скрипучую грудь, и скопец поразился ее упругости и неведомой прежде сладости. Она была похожа на молодое коровье вымя, к которому в давнем детстве любил подползать Клавдя и жадно высасывать его. Она походила на кобылью ляжку, и Клавдя, вдруг подумав так, дал обет нынче же завести лошадей. Возможно ли такое, чтобы женская грудь переменила человека? Клавдя чуял себя прежним, он стал прежним, значит, Господь услышал его молитву. И снова огонь прожег Клавдю, просквозил от виска до пят, и поясница затомилась. С туманной головою, точно деревянный, негнущийся, Клавдя медленно повалился на постелю, и рука его, прежде сухая, шершавая, вдруг налилась потной влагою. В груди его вздрогнуло. «Все мара, кудесы, обман: жабу обнимаю, жабу...» Голова у Клавди мгновенно протрезвела, и лисий ум снова овладел скопцом. Но, подавляя брезгливость и тошноту, скопец упорно, терпеливо гладил потное вздрагивающее женское тело, уже ненавидя его.
– Кто ты? – спросил скопец, перемогая отвращение.
– Твоя смерть, – ответила женщина и засмеялась.
Мурашки пробежали по спине скопца.
– Ну и ладно, – спокойно отозвался он, но рука его споткнулась на укромном женском месте. – Когда-то помирать надо.
– Шучу... Я мужа убила.
– Не лги.
– Может, и вру. Но одно верно, что безнадежно больна и смерти хочу. Разве смерть не может искать смерти?
Тело женщины, наверное от холода, покрылось пупырками, и скопец отдернул руку. Вялость овладела им, не хотелось подыматься, но Клавдя был настороже, ловил каждый неожиданный звук в комнате.
– Ты спишь? – вдруг, наклонившись к самому уху, выдохнула женщина.
Клавдя не ответил, лишь ровнее заиграл горлом и всхрапнул. Этот горловой перелив случился так естественно, что Клавдя поверил своему храпу и подумал, что, наверное, вздремнул.
– Момон, ты спишь? – снова спросила женщина и украдчиво, стараясь не потревожить скопца, перелезла через него. Нагая грудь щекотно скользнула по лицу. Скопец поежился, раздраженно подумал: «Не тяни время, кобылка, некогда мне с тобой возиться» – и едва расщурил глаза.
Смутно белея гибким, присадистым телом, женщина крадучись подошла на цыпочках к поддевке, ловко вытянула бутылочку с отравой, налила в чашку вина, не жалеючи всыпала содержимое и, всхлипывая, захлебываясь и рыдая, выпила жадными глотками. Чашка выпала из рук и, звонко отскочив от пола, хрустнула. Скопец испугался вдруг неведомо чего, ему стало страшно, и он порывисто сел, худо соображая горячей головой. Все было как во сне и походило на игру. Женщина тупо, как слепая, уже не видя и не понимая скопца, заползла на постелю, легла на спину, стыдливо потянула на себя одеяло. Боже мой, какая же в ней была тяга к смерти, если с такой неотвратимостью шла женщина к своему гибельному концу.
Клавдя, полуобернувшись и хрустя пальцами, любопытно всматривался в умирающую с неведомым ранее сладострастием, и липкий холодок ужаса и радости плыл по спине. Может, иного конца ждала, иного исхода желала незнакомка, когда выслеживала скопца и выпытывала его натуру? Отчего именно Момона выбрала она для своей последней игры? Чем таким поглянулся он и запал в душу, ежели из трех тысяч московских скопцов выглядела этого, тщедушного и жалкого, с широко расставленными камбальими глазами. Может, именно хилостью тела и привлек он, ибо более всего боялась женщина уйти из жизни растерзанной и безобразною, искровяненной, оплывшей в собственной руде и печенках. Она и после смерти желала остаться красивою, чтобы самые первые, оказавшиеся чудом возле ее кровати, не поразились ужасности и безобразию, что обычно преследует человека. Но этот, еще молодой меняла, немало поскитавшийся в притонах и подвалах ночлежек, он, поди, научился чему-то особенному и знает тихую смерть, похожую на сон. Но вот поторопилась она, невыносимо стало более ждать, заспешила уйти, вроде бы разуверилась в Момоне.
– Господи, прости! – вскричала женщина. – Возьми к себе и помилуй. Не хочу жить, не хо-чу-у...
Тело ее ломали судороги, но женщина так боялась умереть безобразною, что упорно пересиливала корчи и муки, последние вопы отлетающей души. А как хотелось вскричать в полный голос, по-собачьи завыть и этим криком утолить замирающее сердце. Она слышала, как коченели ступни, как стужа подымалась по голеням, вот отнялись колена, занемели бедра и спину одело железною кольчужкой. Но она все слышала и все соображала с необыкновенной ясностию ума, и единственно, что беспокоило и мучило ее, чтобы этот случайный человек вдруг не взялся ее излечивать и спасать. Кинется за людьми, примется сзывать, набежит любопытный народ... Память женщины стала меркнуть, угасать, пошла волнами, потом все заслонил любимый образ, солнечно-ясный, улыбающийся, с распахнутыми откровенными глазами; на шее под адамовым яблоком билась голубая жилка. И вдруг откуда ни возьмись наползла сверкающая змея с любопытной пестрою головкой и обвила шею...
Момон нагнулся над умирающей и внимательно запоминал последние минуты. Шептал, едва касаясь губами холодеющего лба:
– В тебе самой воля, ты эту волю исполни. Богу не угодно, матушка, чтобы ты умирала. Но Богу не угодно, чтобы ты жила. Ты не умри.
Потом холодно осмотрел комнату, поскреб ногтем ледяную наросль на окне, приложился одним глазом к черному омутку, но ничего не разглядел во дворе. «Зачем я тут? – вдруг тоскливо подумал, запахиваясь в бекешу и ежась от мерзкого холода в груди. – Кто завлек, кто приневолил, будто за руку тянули?» Но тоскливые мысли, однако, не сбивали его с равнодушного трезвого расчета. От окна Момон еще раз оценил жилье, фарфоровую чашку со стола убрал в карман бекеши, помялся и звено красной рыбы, чтобы не протухло, не пропало даром, сунул за пазуху. «Дома съем» – так решил грустно. Вслух пробормотал:
– Говорил тебе, баба, кушай больше. Закоим и в лавку ходил, тратился. Деньгами ведь плочено. Но ловка, ой ловка. Как скоро все устроила. Хитровановна...
Момон едва приоткрыл дверь, выглянул на лестницу: слава Богу, никого нет, лишь внизу мерцает фонарь. Момон скоро и бесшумно, однако не теряя степенности, спустился вниз, вытаился на улицу и глубоко вздохнул. Ни души, кажись, пронесло. А впрочем, что за вина его? Руки к сему он не прикладывал, просто бабе в рай захотелось. По-прежнему сверху сыпало, и сквозь тихий хлопьистый снег проныривали редкие согбенные люди. Заложив руки за спину, слегка присбив папаху на затылок, Момон удалялся по тротуару меж сугробов, торя свою тропу. Теперь он заново переживал случившееся и чувствовал необычайную душевную легкость и радость. Момон еще раз представил свое поведение и остался вполне доволен собою. По пути он зашел в трактир Горячева, сразу пересек громадную залу, посыпанную опилками, вдыхая запахи варева, доносящиеся с раскаленной плиты, с интересом оглядел буфет, где на полках красовались батареи бутылок с водкою ординарной и двойною, всякие сладкие наливочки, ром и желудочная.
Вышел буфетчик, хорошо знавший скопца в лицо, и Момон пожаловался тому, дескать, угорел и едва поднялся с постели ни жив ни мертв. Потом сел за край длинного стола, заказал ухи из сушеных тресковых голов да пару чая. Неторопливо откушал, вернулся домой. Часы отбили семь. У прислуги узнал, когда та вернулась, и тоже слезливо пожаловался, потирая виски, мол, угорел, едва не умер, да Богу спасибо, окликнул, потом был в трактире Горячева, поел ухи из сушеных тресковых голов, и вроде полегчало. Знать, не срок уходить из мира, не срок.
Момон удалился в спаленку, положил в уши мерзлой клюквы, рискуя остаться глухим, и со спокойствием лег спать.
Глава пятая
И миновали они саженный обетный крест из лиственничных плах с двускатной тесовой крышей и крохотным эмалевым образком Божьей Матери Умиленной; именно здесь в старопрежние времена случилось иноку Питириму видение, тут и похоронен был он, а не на мертвой горке за монастырем. И, пройдя бережину сквозь, ватажка подступила к Беловодью. Глянул Донат вверх и ахнул, не скрывая удивления и торжества, столь маленьким и ничтожным вдруг помыслил себя. Двойная стена городища с земляной насыпкой и подмостьями на случай обороны была рублена из неохватных бревен с заостренными верхами высотой сажени в три с половиною (откуда и лес такой плавили?), но пригнаны пали столь плотно, что меж ними, пожалуй, исхитрись человечий волос протянуть. По углам высились сторожевые башни на ряжах, с колокольными звонами. Гудел, не уставая, в монастыре трехсотпудовый батюшка-колокол, отлитый монахами-братьями, с пяти же угловых башен согласно подтетенькивали его сыновья, да малые дочери согласно подгудывали, тенорили колокольцы внучатые. Весь остров был залит звоном и боем, и мелкой подголосицей, и стеклянной хрупкой дробью; казалось, сама мать-земля пела, торжествуя: «Милос-ти просим, радуйтесь! Мило-сти просим, радуйтесь!» Но странно, что благовест не растилался по-над озером, не утекал предательски, не ударился в чужие пределы за лесистые хребты, но алым куполом подымался в белесую жидкую синь, слегка подмуравленную заходящим солнцем.
«Что за причина? Что за торжество?» – снова подивился Донат, уже от всего млея, не в силах оторвать взгляда. Они шли окруженные неоружной ватажкой, брусчатая дорога некруто вздымалась меж высокими двужирными избами; и эти пятистенники, по задам окруженные репищами и военными амбарами, но без высоких заплотов, как водится по всей Сибири, тоже чем-то напоминали милую дальнюю родину. И здесь, как и в Поморье, с охлупней то ржали деревянные кони, то стонали и хоркали костяные олени, свесив над улицей ветвистые рога. Благовест обволакивал Беловодье, и от согласного колокольного пения избицам, наверное, тоже хотелось расти, и они тянулись вверх крутыми скатами крыш, деревянными узорчатыми дымницами, каждой связью еще не тронутого древоточцем тела. Передами хоромы гляделись на улицу; дорога вилась под косящатыми оконницами, закручивала одну петлю, потом вторую, но часовня с золотым шеломом, казалось, не приближалась и виделась недоступной. Пока двигались мерной поступью, Донат насчитал триста изб. Потом открылся взгляду небольшой прогал, травянистый лужок, за ним вставала монастырская стена, натуго перевязавшая монашескую обитель. И еще чему поразился Донат, когда кружили они по городищу, что в скопах народа, высыпавшего на заулки, в подворья, на улицы, свесившихся любопытно из оконниц, не виделось ни одного печального иль завистливого, грубого иль слезливого обличья. Весь народ ликом был удивительно светел, а телом крупен и породист, и только темные продолговатые глаза да крутые туземные скулы выдавали присутствие чужой крови. Женщины были в темно-синих сарафанах-костычах, темно-синие платы, по староверскому обычаю, вроспуск, зашпилены у шеи, на ногах кожаные полусапожки с серебряными пряжками; девицы-хваленки, что на выданье, те в голубых расшитых рубахах с опоясками под самую грудь, тугие щеки молоком промыты и густо нарумянены, брови насурьмлены, русые с рыжиною волосы убраны в тугие косы. И ни одной средь женщин старицы согбенной, подпирающей дряхлость свою батожком, как водится по всей Руси. Мужики же, напротив, все в белом – белые долгие рубахи ниже колен и белые порты, лишь на плечах короткие меховые поддевки, крытые темно-синим своедельным сукном, на ступнях остроносые опорки без каблуков, волосы подбиты в кружок и, чтоб не сыпались на глаза, подобраны кожаной тесьмою. Но парни – те в алых рубахах с косым воротом и с позументами, в наборных серебряных поясах и шелковых шальварах, туго перевязанных под щиколотками, а на русых кудрях легкие пуховые скуфейки. И снова меж мужчин ни одного трухлявого старца, прибитого годами. Будто и не изживался народ, а, вечно молодея, так и тянулся в небо иль в ранних годах исходил на нет. Но кабы в зрелую пору засыхал народец, то давно бы уж извелось Беловодье и быльем поросло. С великой жалостью и недоумением, как на несчастненьких, глядели беловодцы на скитальцев, дивились их печальному, истерзанному виду, так полагая, что в тех землях, откуда явились по-бродяжки, все так живут. И от этой мысли сердечная радость не тускнела, но, напротив, обретала большую крепость. Не доверяя глазам, насельники щупали паломников, касались края одежд, а кто и норовил погладить заскорбелые руки. Кричали, как глухонемым:
– С каких стран-то идете? С басурманских аль с арапских? Там, сказывали, антихрист правит. Есть ли кто живой на Руси, иль все избылось?
– С Руси идем, с Руси, – коротко отвечал Донат, и глаза его увлажнялись слезами. – Вот и дома, – шептал он, уверовав в край пути. – Вот и сбылося...
Допрос первый. Монах-сторож открыл узкую дверцу в стене, и ватажка, теснясь, вступила в монастырь. И батюшка-колокол сразу смолк, и, покорившись ему, затихли звоны на башнях крепостной стены. И стало так тихо, что защемило в ушах. Из часовни повалил народ, монахи и монахини, все в черных грубых рясах, многие босиком; кто не мог идти сам, тех вели под руки. С виду не столь и великая, часовня оказалась, на удивление, емкая, и, когда вышли молельщики, они затопили и паперть, и площадь близ часовни. «Сколько же их здесь? Тыща абы больше?» – лишь подумал Донат, но поклонники тут же и растаяли, истекли по келейкам, жавшимся вдоль монастырской стены, да в больничные кельи, да в поварню, а кто и в швальню и в портомойню, в коровьи дворы. Караульщики, до того теснившие Доната и Симагина, как бы скрывавшие их от чужого взора, тут же и расступились, встали по четверо с каждой стороны и ввели за третью стену, с аршин высотою, не более. Это и был центр Беловодья, где жил сам Учитель. Весь просторный двор был обнесен малыми рублеными кельями, где жили двенадцать апостолов. На травяном лужке, видные отовсюду, стояли четыре каменных идола, глядящие в разные стороны. Сам Учитель Елизарий жил в двужирном доме, верхнее жило с высокими стрельчатыми окнами опоясывала галдарея. Где-то малиново позвал колокольчик, распахнулась дверь на галдарею, и решительно появился Учитель. Караульщики упали на колени, и Донат тоже с охотою повалился ничком, сладостно и глубоко вдыхая запахи настоявшейся жирной травы; лишь Симагин строптиво упирался и постукивал посохом, гордыня не давала ему склонить голову. Кто-то, однако, успел содрать с него лисий облезлый куколь, и заскорбевшие в дороге грязные волосы встали на голове колтуном.
– Склони выю, нехристь! – грозно прошипел главный ватажник и, не вставая с колен, потянул Симагина за рукав сермяги.
Завязалась короткая задышливая схватка. Симагин багровел, фушкал, плевался, но упирался молча.
– Оставьте его! – приказал с галдареи Учитель и, благословив всех, ушел в дом.
Скитальцев же повели подземными коридорами, пока они вовсе не потерялись. Сторожа освещали дорогу яркими факелами, и бревенчатые стены отсвечивали багровым, будто напитанные кровью. Потом бродяг развели по кельям, каждого особь, явились молчаливые старухи-монахини с шайками горячей воды, намыли несчастных, обиходили, покрыли черными грубыми рясами, накормили и напоили горьковатым сытным отваром. И глубокий сон сразу сшиб скитальцев. Наутро Донат очнулся настолько здоровым и чистым, будто и не испытал изнурительной смертной дороги. Опять молчаливые монахини дали штей да квасу и повели на волю. На одном из переходов в тупичке попался Симагин с провожатым; он был, по обыкновению, хмур, без куколя и посоха, не знал куда деть руки. Он бормотал что-то, порой повышал голос, будто грозил кому-то, знать, готовил проповедь.
Скитальцев ввели в верхнюю просторную залу, лишенную всякого убранства, отчего она казалась особенно светлой и пустынной; солнце било в стрельчатые цветные оконницы, и голубое с золотым, переливы радостных красок поначалу ослепили Доната. Он зажмурился, привыкая. Апостолы были в сборе, они поначалу едва увиделись сквозь голубую дымку и показались росписью на стене, столь недвижно и торжественно сидели они на длинной лавице, покрытой шерстяным ковром. Они были в длинных голубых подризниках, левое плечо препоясано розовым лентием наподобие ораря, на ногах кожаные чуни с загнутыми носами. Тут снова раздался малиновый кроткий звон, открылась невидная прежде дверца, и, ведомый двумя черными служками, вошел Учитель. Он был бос и ступал неслышно. Светло-голубые широкие глаза были задумчивы, Учитель словно бы смущен был чем. Только сейчас Донат близко разглядел Учителя и удивился его облику: в этом живом, полном энергии лице не было постной желтизны и удрученности, а покляповатый, вислый, с широко взрезанными ноздрями нос и сочные, толстые губы сообщали ему то добродушие, что дается природою добрым и щедрым душою людям.
Он сел на лавицу и заполнил пустующий прогал меж апостолами; те как бы сдвинулись теснее и стали единым целым.
– Мы хотели бы послушать вас, – тихо сообщил Учитель и обвел взглядом собор. Сидящий рядом апостол, согбенный старик с вывернутым левым глазом, наклонился к Учителю и что-то дерзко зашипел, но Учитель не оставил его слов в тайне. – Отец Геннадий сообщил мне, что ты бес, у тебя волосы навыворот и хвост топырится. Может, ты явишь нам сии приметы?
Собор добродушно захихикал. Симагин побагровел. Учитель хлопнул в ладони, вошли служки в черном и внесли низкую скамью. Донат сел, с любовью озирая апостолов сквозь сиреневый туманец. В часовне шла служба, и согласное пение обволакивало дом Учителя.
– Не судите да не судимы будете! – воскликнул Симагин. – На бога покусились, презренные твари.
– Самозванец! – взвизгнул апостол Геннадий. Полтора века он прожил на земле, он помнил еще устроителя Беловодья инока Захария. – Я давно поджидал тебя, давно! – торжествующе воздев палец, объявил апостол. – И ты явился, антихрист. Меня не проведешь, не-е. Еще старец Елеазар Анзерский остерегал: и явится к вам, говорил он, антихрист, ликом смугл, а на шее у него будет черный змей.
Донат задрал глаза и вздрогнул: на толстой шее Симагина становые жилы набухли и посинели, напоминая спящую змею. Но такими словами Симагина не запугать; его лишь разожгли угрозами, распалили сердце, вдунули в него жизнь.
– А-а-а! – завопил он и засмеялся скрипуче, мелко. – А-а-а, бесенята. Ежели не бесенята, дак пошто спрятались? Пошто живете не как добрые люди?
Собор зашевелился, ропот прошелся по апостолам, и лишь тот, сидящий с краю, смуглый, с курчавыми волосами, цепко, с жадностью глядел на Симагина. Взгляды их скрестились, и, что бы отныне ни говорил самозванец, он обращал к нему, обволакивал его словами, отравлял ядом его душу, чуя в нем своего собрата, подзуживая и растравляя его скрытную, тщеславную душу. Сейчас Симагин готов был растечься, всего себя отдать, перелить в молодого инока. Он лишь спросил его мысленно: «Ты хочешь стать Учителем?» И молодой апостол отозвался: «Да!» Кто знает, как сочиняются духовные союзы, но неисповедимым образом такие люди вдруг находят себя среди огромной толпы и в короткое время заключают тот союз верности, коий не разорвать и смерти. Учитель поймал перекрестный взгляд апостола Авраама и самозванца – и вздрогнул. И вся тревога и трехдневные споры на соборе (пускать – нет в Беловодье незваных) вдруг показались ненапрасными. Какую слабость таит слово, какую неведомую, испепеляющую, подтачивающую власть несет в себе? Лукавое слово имеет ту сладкую силу, коя даже в стане непримиримых врагов может найти себе сотоварища: оно может затмить самый светлый ум. Именно слово переносит ту страсть, коей можно обуздать и полонить иль повести за собою любого твердого человека.
– А знаете ли вы, еретики, что вот-вот небесные трубы возвестят начало моего тысячелетнего царства?
– Ты, брат, полегше нащет еретика-то, – миролюбиво подсказал Учитель. Апостол Геннадий не мог успокоиться, бил пяткою, едва доставая пола, и не скрывал своего презрения к самозванцу. – Мы от еретиков-то, батюшка, сквозь Русь бежали в старопрежние времена и истинную веру строго блюдем. Какие ж мы еретики?
– Что-о? – перебил Симагин. – Попрятались, как шишы, воры клейменые! Али мести боитесь, закона? Так всякая власть от Бога. На что ваша воля, коли она хуже тюрьмы?
– Да куда вольней-то, батюшка, – простодушно развел руками Учитель. Он не мог взять в толк, отчего так пылает и гневается незваный гость. Не ему ли и быть ниже травы, а он ерестится, растоковался, как глухарь на елине. – У нас, почитай, рай. Иль вру?
– Рай, рай, – закивали седовласые апостолы; светлая, глубокая чистота была в их невинных выцветших глазах, и лица, казалось, просвечивали сквозь. Такие люди будто бы не стареют, не изнашиваются и не умирают.
– Воля, когда во-о! – размахнулся руками Симагин. – А у вас – во-о! – показал кукиш, и почудилось скитальцу, что на его жест молодой курчавый инок согласно кивнул. – Истинную волю тогда только получите, когда сохраните того человека, который найдет ее вам.
– А как узнать сие?
– Глаза пошире разуйте, босота! – Симагин выпятил грудь, очевидно намекая на себя. Курчавый инок отчего-то потупил взор и слабо смутился. – Истинная воля до тех пор не дается, пока не прольется много крови христианской...
– Мы же от крови бежали! – вскрикнул апостол Геннадий.
– Много кровищи прольется, много, и на ней вырастет алый цветок. И царь про то знает и крепко-накрепко приказал меня караулить денно и нощно и до моей избы не допускать ни господ, ни чиновников, ни попов, ни прочего бродячего люда. А я вот исхитрился да из-под стражи и сбег, и буду отныне у вас ждать часу, когда приедет сюда младый вьюнош лет семнадцати и будет у него на правом плече медаль золотая, а на левом – серебряная. Тому вы поверьте и меня выдайте, и принесу я вам тогда волю истинную.
– Но что за воля слаже нашей? Нас, говорят, сыском сыскались.
– Это бес пеленами очи завесил...
– Но как же тебе, мил человек, поверить, ежели ты самозванец, сам себя Богом нарек. И без стыда на лице.
– И снова бес вас искушает! – торжествующе сказал Симагин. Оловянный взгляд неподвижных глаз был гнетущ, тревожен и имел власть необъяснимую. – Ежели Бог, дак в него верить надо – и все. Надо в ножки пасть. А вы раскумекиваете. И так и эдак, все выгоды кругом ищете. Бес и поймал.
– А в другом каком месте ты пошто волю не устроил? Ты пошто к нам поперся? Ты бы дал тамотки воли.
– И снова бес глаза застит. Разве Бога спрашивают, откуль ему волю двигать, с какого конца Руси? Разве тебя, отец, спрашивали, где родиться? Где Бог дал, там и явись на свет. Там, значит, и нужон, а не в другом месте.
Апостол Геннадий молчал, стриг самозванца глазами. Курчавый инок согласно кивал головою – то ли Симагину, то ли своим мыслям. С лица Учителя не сходила задумчивая смутная улыбка. Знать бы ему, ведать, сердешному, как своими руками с этой минуты разрушал он воздвигнутое за долгие годы неимоверного труда. Да полноте, может ли слово сокрушить то, что имеет корни и укрепу в земле-матери? Слово – это августовский сполох в ночи, отблеск замирающего солнца, блик в озерной глади, утекающее курчавое облачко в небе; разве солнечный блик может затмить озеро иль выпить его, иссушить? Полноте, пусть говорит нездешний человек, явившийся из далекой Руси, из родины нашей. Раз пришел к нам, значит, Богу угодно было. Так размышлял Учитель, не сводя кроткого взгляда с гостя, и тем поощрял его. Пусть прояснится человек, пусть вынырнет из темени – тогда знать будем, с чем явился к нам, с каким умыслом. Правда, говорит с апостолами, как с малыми детьми. Неуважение чинит, что не подобало бы гостю. Смирения мало, в гордыни горит, аки в пещере огненной. Глаза, будто кресала, искры брызжут.
– А отчего, сыне, с нами беседу ведешь, как с малыми детьми?
– Как не дети? И всамделе истинно дети. Какой от вас прибыток на Руси? – продолжал насмешничать Симагин. – Спрятались от мира и родину забыли.
– Родину мы чтим. Далеко она, но близка в памяти. Потому и тебя допустили на Кий-остров, не отвадили, подобру-поздорову не спровадили. Ибо земляк с тобою, земляк наш, сородич, и оченно хотим мы спознать, как родова там наша...
– А это, выходит, не родина? – переметнулся Симагин, не желая отдавать разговор.
– И это родина... – с достоинством отозвался Учитель.
– Так вы и лжецы к тому. Фарисеи-двуличники. Разве можно человеку иметь две родины? Во оныя последние всеобщия испытания невозможно единому двоиться, но каждый должен к единой стороне приклониться. Но вы не только родину разменяли, но и Бога позабыли, в лицо его не признали. А я вдруг к вам и явись, всех царей царь, и вы меня притесняете, допрос ведете.
– Что ты заладил, голубчик? У тебя язык чирьями порос.
Апостолы поднялись с лавки, низко поклонились на все стороны света, а особливо Учителю, и удалились в боковую дверцу.
Явились служки в черном и развели скитальцев по кельям. Учитель же медлил, предаваясь смутной тревоге. Он видел, как по двору провели незваных гостей; тот, что постарше, новоявленный бог, часто оборачивался и грозился кому-то худым, скрюченным пальцем. А истинный Бог не грозится, что попусту грозить? Лишь одно сотрясение воздухов. Но, однако, Учитель почувствовал вдруг вину за недавний гнев и уже с непонятной ревностью и пристрастием следил за Симагиным.
– Господи, дай укрепы! – задумчиво молвил Учитель и тяжело вздохнул.
Глава шестая
Допрос второй. На вторую беседу скитальцев вели порознь, они лишь на миг встретились возле дома Учителя. Завидев Доната, Симагин побелел от гнева и пообещал:
– Безумцы, выродки! Рога вырастут, ослиные уши и поросячьи хвосты нашлю на них, гноищем изойдут и блевотиной и станут скакать на четырех костях, аки твари поганыи!
«Опомнись, отец родимый!» – хотел бы жалостно остеречь Донат, но язык не повернулся, да и не успел бы: монахи подхватили Симагина под локти и ввели на судилище. Видеть бы Донату, как сразу переменилось обличье бродяги, в какую умильную, кроткую личину облек он норов свой, почуяв на себе крепость иноческих рук. Донат же остался, позабытый, возле каменных идолов и невольно, глядя вослед Симагину, прислонился к изваянию, едва доставая макушкою покатых плеч его, хотя и сам был росту немалого. Четыре бабы, грубо обтесанные зубилом, стояли спиною друг к дружке и дозорили во все концы света. У них были распухшие, низко опущенные животы, тяжелые, вислые груди, тупые, плоские лица с короткими, приплюснутыми носами. Но в бесстрастных навыкате глазах виделось то мудрое спокойствие, какое бывает у нажившихся старых людей. Всего вернее – это были не идолы и не туземные боги, свезенные из дальних степей, но странные, когда-то здесь обитавшие и внезапно окаменевшие люди с побитыми оспою лицами. Мелкая торжествующая улыбка так и застыла на толстых полураскрытых губах, когда их застала смерть. «Все суета сует, – казалось, говорили они. – Мы были до вас, мы населяли эту землю, счастливейшие из счастливых».
И вот явились за Донатом, и он покорился с той слабой блуждающей улыбкой на устах, которая неслышно перекочевала к нему от каменных идолов. К исходу, к смерти Донат готов был, когда вроде бы счастье улыбнулось: так чудилось, что вроде бы и не на земле он, но у врат рая, во сне вознесшись. Высокой, натертой воском лестницей, ощущая за спиною легкое постное дыханье караульщиков, Донат поднялся в верхнее жило и снова подивился ослепительному живому свету, разлитому в доме, точно здесь и обитало незаходящее, неиссякаемое солнце. Симагин сидел посреди залы на низкой скамеечке. И то, что ему пришлось вновь глядеть на судилище снизу вверх, удручало его и гневило и вроде бы усиливало необъяснимую вину; он ерзал и постоянно норовил стать, но и не решался, вдруг почуяв близкий свой исход. А не хотелось бы, ой не хотелось бы, подумал он, ибо здесь-то и найдется верное примененье его духовным необыкновенным силам. Долгие мечтания о республике, оказывается, не напрасно проросли в душе его столь пышно, и, очутившись в Беловодье, он сразу воспринял его как плод упорных своих усилий, словно бы он и выпестовал его вдали от людских жадных глаз. Симагин уже мысленно перевернул, перестроил обитель по своим давним замыслам, нимало не жаждая быть ее властителем, но, однако, поставив себя выше всякой власти, коя могла бы случиться здесь.
Донат опустился возле, и Симагин, не глядя, придвинулся плотнее, чтобы занять у мужика силы и покоя. Учитель же, сегодня бледнее обычного, с голубыми обочьями (следы бессонной молитвенной ночи), вдруг поднялся и строго вопросил Доната:
– Ежели бы мы решились оставить тебя здесь, братец, что бы ты хотел делать?
– Молиться, – коротко ответил Донат.
Апостолы благожелательно закивали, но Учителя ответ не устроил.
– Не нашими молитвами, но нашим трудом живем. До сорока лет пребудь в делах мирских на устроение блага, семьи и потомства. Он кто тебе? – ткнул перстом на Симагина. Сегодня Учитель был строг и голосом груб, отрывист, словно он решился на что.
Донат поглядел на Симагина, на его ввалившееся, заросшее лицо с глубокими дольными морщинами:
– Сотоварищ...
– Он не сотоварищ тебе, но блудолюбец и совратитель, злой бес, забравшийся в человечью личину. Погляди на него пристальней, – велел Учитель.
С этими словами Симагин заерзал еще пуще и по-волчьи оскалился, отчего вокруг глаз собрались злобные морщины...
– Сотоварищ по гиблой дороге, – упорно повторил Донат.
– Но знай же впредь, сынок, – сказал Учитель, – с отважными не пускайся в путь, чтобы он не был тебе в тягость, ибо он будет поступать по своему произволу и ты можешь погибнуть от его безрассудства.
– Книга Премудрости. Премного начитаны, старик, и не тебе меня учить, – вдруг подал голос Симагин и резко вскочил.
– Замолчи, антихрист, иль я вырву тебе змеиный язык, – завопил одноглазый апостол Геннадий. – Как мы, ничтожные, можем узнать ту вину, за которую не жаль крови? Да лучше вырви руку по самое плечо, ежели взяла она нож с худыми намереньями, отыми ногу, коли поднялась она на павшего недруга... Ты, несчастный, коли ты бог, то возьми и сотвори нам живую тварь с утробой и с кровью, и с душою, и с мечтаниями. Погубить ты можешь, но ты сотвори, порадуй нас, коли ты богом нарекся.
– А будто вы без крови обошлись?
– Самое тяжкое наказанье для нас – это гневное слово Учителя.
– Ой ли, ой ли... Ну а ежели кто шатнется? Как вы с ним? Тут посечь надо батожьем иль в плети взять поучить, значит, – настаивал Симагин. – А как плетьми обротаешь, тут и кровя сбрызнет.
– А мы не секем. У нас розги не в заводе. Осквернишь тело – замутишь и душу. Но бывают червленые люди.
– И как тогда с ними?
– Он мир мучит, миру тошно от него, он всякие небылицы сочиняет впример тебя, а работать не хощет. Вот закорми такого мясом – в нем еще пуще жар воспылает. Порой случается, нету более мочи, всему Беловодью урон спокоя.
– Ну и... убиваете, а?
– Да зачем? Есть одно средство. Память долой отшибаем и уводим прочь, память обратной дороги отнимаем. Русь прокормит. Блаженной-то от нас выходит, все про нашу жизнь бает и бает, народ утешает, тому и легше.
– Значит, народ мутит?
– Пошто мутит?.. Готовит к праведной жизни. Народ-то и потек, народ-то и открылся, душою обрадел, искать нас кинулся, но не дано. Знать, вас-то Бог за ручку привел нам в науку. Иль антихрист обманом взял?
Симагин пожал плечами.
– Так вы бы открылись, – сказал он, уже притворяясь.
– Никак нельзя. Завистливых орда. Зависть изжить надо. Мы в утешенье лишь. Нельзя разносить наше устроение по миру. Все должны сами созреть. Разносить – значит насильничать исподтишка...
И тут Симагин вспыхнул, волчья злорадная гримаса исказила обличье, седатый медведь поднялся из берлоги, шатун шатуном, и пошел на охотников, не зная страха.
– А-а-а... – завопил он, так что сидевший рядом Донат вздрогнул. – Народ на Руси стонет. Многие, не вынося бедственного положения, причиняют себе смерть. А вы спрятались. Ну-у. А посему кто знает о бедствии такого человека и не избавляет его, допускает великий грех и делается виновен в крови его. Они чистенькие, они крови двести лет не знают. А не по вашей ли вине стоном стонет народ на Руси? Ежели вам благо открылось, то поделитесь им. Вот если на нас те муки да в корчах-то изопреете, в железных-то цепях небось по-иному запоете? А-а-а? – снова торжествующе вскричал Симагин.
Донат слушал его, внимал горячечному, истерзанному слову, и душа скитальца невольно отзывалась. «Пошто не поделиться правдой? – думал он, смущаясь. – Это лишь от напрасной мечты всем отрава и погибель. Весь источишься от мечты, изведешься, мучаясь понапрасну, а в руках пшик, и жизни конец. Сколько блинок ни держи возле масла, он масленым не станет. Но здесь-то не сладкий обман, тут все потрогать можно, пощупать, воспринять. Так стоит ли праведную науку скрывать? Это не дурнина, не проказа, чтоб таить. Орды ордами со всей Руси валит народ, ищет Беловодье, с ног сбились».
– Мы никогда не забываем, что нас могут настичь. И мы всегда готовы к кончине, – ровным студеным голосом отозвался Учитель.
Бродяга снова задел больную струну в душе, и Учитель почувствовал, как на него дохнула вдруг иная огромная жизнь родины, не забытой, но отстраненной навсегда. Дремлющее прежде сомнение ныне выжигало неисцелимые язвы. Верные дети родину свою не покидают и в самые тяжкие годины. Ежели народу на Руси так худо, так немощно и безысходно, как молвят, а мы на воле вольготной как масленые колобашки катаемся, так нет ли здесь отравы какой? За какие такие выслуги мы добились особых почестей? Не отрава ли мы, раз живем впусте, сами по себе, как напрасное мечтание для прочих? Идут вот мужики, тщетно ищут, мрут, аки мухи, сказывали об том спосыланные лазутчики. Дескать, в Япон плывут, и в Китай бредут, и в басурманские страны, на желтые и черные острова, сиротя родные пределы свои. А мы тута, почитай что в самом сердце Руси, а не где-то в засторонье, у черта на куличках. Но все мимо нас, все проходом...
И Симагин снова прочитал мысли Учителя, и тайные муки его стали явными. И снова, будто насмехаясь над собором, Симагин протянул нараспев:
– А-а-а... Если б Божье дело, разве б позволил вам Бог одним прозябать в щастье и сытости? Чем вы лучше?
– Не кусок хлеба стережем, но дух охраняем. Дух развеять можно. И ежели всем помалу отдать, то он пропадет впусте. Но когда духом сподобится Русь, и мы тут как тут, – слабо защищался Учитель. Он так устал, так изболелся нынче, будто бочки-сельдянки катали по его телу всю ночь. Как он жалел сейчас, что ввязался в бесплодный разговор, затеял допрос. Что он вызнал про Русь, что открылось, незнаемое прежде? Лишь всех заразил проказою долгих размышлений. Неведомая болезнь прокралась за стены Беловодья, неизлечимая разрушительная проказа. И, ненавидя себя, тайно презирая, Учитель с пристрастием оглядел ладони и с силою ударил по коленам. Одноглазый древний апостол, помнивший еще устроителя Беловодья инока Захария, воспринял этот жест отчаяния по-своему.
– Может, его лишить памяти за дерзость? – обратился он к собору. – Нет ничего страшнее, чем лишить памяти. – И собор согласно закивал.
– А вам меня не взять. Бога памяти не лишить. Меня царь пытался всячески извести, а где он нынь?
– Какой ты бог, ты самозванец. Тьфу на тебя.
– А ты спытай, одноглазый, спытай. Знать, ада не боишься?
– Мы спытаем, только откройся, кто выдал вам путь?
– Я бог, и ничто не скроется от моего взора! – с прежним несокрушимым достоинством произнес Симагин. – О смерти своей я не беспокоюсь. Я ее уже видел, она от меня бегает, когда я к ней приближаюсь. Она для меня совсем не страшна. Но пошто вы-то схоронились? Подите в мир и примите муки. Го-то-вы-ы?
И Симагин с презрением рассмеялся, чем вверг собор в крайнее беспокойство. Учитель же молчал, потупив взор.
Глава седьмая
Допрос третий. Да полноте, была ли в его жизни Европа, кою проехал сквозь, вкусив все тамошние прелести свободы, о которой в России и не помышлялось. Но ведь говорится же в народе: «Хоть за батожок, да на свой бережок». Пока до дому добрался Симагин, нажился он по столицам, начитался Руссо и Вольтера, а по возвращении в Петербург вдруг тяжело заболел горячкою и с той поры глубоко задумался о судьбе и будущности своего народа. С первых прожектов о переустройстве России на европейский лад минуло двадцать лет, уже борода сквозь посивела, зубы стерлись и шкура поизносилась, но тело Симагина, как и душа, не потеряли прежней тонкой чувствительности, от коей много горя и невзгод перенес бывший княжеский повар.
Черная грубая ряса похожа на власяницу, сотканную из жесткого конского волоса: за одну лишь неделю тело от нее заскорбело и затомилось нудною болью и чесоткой, словно натирали кожу денно и нощно дресвою, мелким толченым камнем. Исподники бы да холщовую рубаху, так жилось бы; но голому телу от монашеского одеяния одна немочь. Знать, не готов Симагин к строгому, постному житью. Но здесь, в монастыре, все иноки и старицы в подобном одеянии и босы в зиму и в лето. Что за рай себе обустроили? Что за медвежий берлог? До сорока лет в миру, а после в строгом затворе, из одних стен крепостных шагнул за другие стены – вот и вся воля в сей жизни. Что за злосчастная сия придумка? Что за извив подлой мысли? И это – счастливая, Богоданная земля? «Сегодня, когда они придут за мною и поведут, я скажу так: „Открывается суд под председательством единой Правды, и раскрываются книги дел человеческих“. И пусть только посмеют возразить мне, я нашлю на них огнь пожирающий». И от внезапной действенной мысли, от того, что он, Симагин, имеет силу неподвластную и может по охоте своей сокрушить сие осиное гнездо, затворник повеселел сразу и ожил. «Чего понапрасну съедать себя? – утешился Симагин. – Занимаюсь самоедством, ей-ей! А мне не пристало... По долгому раздумию я пришел к мысли, что у них есть некоторое счастие, но в самом зародыше и странно произрастаемое. Вот такое имеют счастие, когда голодный человек и житней коврижке рад. Но я им укажу путь истинный. Я не тот Бог, творитель всего живого, но земной бог, земной устроитель счастия и исполнитель пожеланий всемогущего творца. Они ко мне в претензии, что я будто бы самозванец. Но не возьмут в толк, что я истинный земной бог и наравне с царями... Может, я и по воде могу ходить, но только я не хочу обману, потому как приставлен к натуральному делу, а не к эфирным чувствованиям. Я им все скажу и открою очи. Только бы дозволили высказаться».
... Тут дверь в келью распахнулась, и вошел инок Авраам, тот самый молодой курчавый монах, похожий на арапа. Он был, по обыкновению, бос и ступал неслышно, бесплотно, уже в юношеских летах отрешившись от всего земного. Вблизи лицо его было обтянутым, строгим, и круглые глаза под сросшимися смоляными бровями прожигали насквозь. Авраам имел привычку глядеть навязчиво, не отводя птичьего взора и не мигая; и вот сейчас, явившись в келью, он взглядом просквозил затворника и в чем-то своем удостоверился. Под таким обсмотром Симагину бы тут же и вспыхнуть и почернеть, аки угль; но встретились-то две гордыни, две пылающих натуры, а огнь огнем не подавить. Авраам то и дело проводил ладонью по бараньим волосам, и они потрескивали, роняли голубые искры. Вокруг таких людей воистину свет, но больше похожий на ночной сполох, от которого на душе тревожно и неуютно.
– Они лишат тебя памяти, – сказал инок о решении апостолов, будто он сам уже отстранился от собора.
Симагин почуял недосказанность слов и насторожился. Неспроста явился младший апостол и не по своей ли затее? Симагин не знал, что Авраам по смерти Елизария должен был заступить на его место; но Учитель был настолько крепок, что инок устал ждать его смерти, а призывать ее было бы грешно.
– Ты за этим и явился?
– У них все решено. Ты смутитель, у них решено, – навязчиво, как в полусне, повторял Авраам. – А как вы прошли к нам, отец?
– Дошел...
И снова в глаза било солнце, Симагин жмурился и невольно сбивался мыслями. Апостолы едва проглядывались сквозь золотистый туман, и каждый звук, казалось, лился с неба, был вовсе лишен земного.
– Как ты дошел? – спросил кто-то. – Ты сам не смог бы дойти...
– Привели... Господь Бог довел...
– Давеча ты нас уверял, что ты – бог, – ехидно заметил одноглазый апостол.
Симагин поискал глазами скамеечку, чтобы сесть, но сегодня лавицы не было. Значит, допрос будет коротенек, а там питья дадут и спровадят в мир, как малишонного, потерявшего ум. Но от этой мысли снова не явился страх. Симагин перебрал широкими плечами, встряхнулся, чтобы привесть чувства в строгий порядок. «Откуда во мне такое веселие? – сам себе поразился скиталец. – Мне бы плакать нынче полагается, как последний день проживаю в здравом уме».
– Я бог земной, я устроитель теперешней жизни, а над нами ишо единый Бог вселенский, он творит жизнь будущую. И никакого там Христа...
Одноглазый апостол хотел было прервать Симагина, но Учитель взмахнул рукою и велел продолжать. «Зачем нас ищут? – мучился он. – Быть может, не нашего Беловодья слава гремит по земле и не нас ищут, но кого-то иных?»
Вот появилась в сердце отрава сомнения и выедает его насквозь.
В сомнении и близкое, кровное дело вдруг зальет ржа, и покажется оно чужим и постылым. В дни сомнений обязательно явится совратитель и смутитель. Ты вроде бы и не помышлял о нем, а он вдруг незваный войдет в твой дом, и ты, чуя зловредность его слов, ничем, однако, не сможешь противостоять ему.
В речах самозванца Елизарий мучительно пытался отыскать ответ.
– Вот вы спрашиваете, кто меня привел к вам? Я же реку: един Бог. Если вы не хотите верить бессмертию моего дела, то я надеюсь, что Бог пошлет вам знамение, а я исполнил мою обязанность, явившись к вам. Что мне от Бога препоручено было, то и сделал...
Апостолы молчали: они уже давно обходились без слов, в душе уединенно глаголя с небом и отыскивая там все ответы. Они тускло помнили свою родину и представляли ее адом, полным мученических стонов. И чем горше говорил Симагин о странной, полузабытой Руси, тем покойнее становились старцы. Отсвет удовольствия невольно выдавал их тайные мысли, и Учитель, бегло озирая апостолов, был неожиданно огорошен их глухим, неотзывчивым счастьем.
– Что ты принес нам? Открой нам тайные мысли! – Учитель сказал тихо, подавляя волнение, но собор несказанно удивился, восприняв речи его как измену Беловодью.
И впервые собор зароптал, с ужасом воззрился на Елизария. И многие приняли его за хворого. А с хворого чего спросишь? Апостолы на мгновение забыли о Симагине, и он сам благорастворился, глядя в высокое голубое окно и чему-то задумчиво улыбаясь. Он не знал, как можно устроить будущую жизнь, но считал, что знает, какой она должна быть, и ему, мечтательному человеку, казалось, что этого предостаточно. Надо лишь вырваться из застоя, прорвать запруды размеренной жизни, а там, глядишь, человеци сами заимеют охоту к перемене надоевшего житья и по-иному обустроят его. Главное – направить на путь, подсказать и ободрить; ведь тот, вселенский Бог, тоже сам ничего не делает, но лишь следит, строжит, совестит и советует.
– Может, тебе воистину открылась особая правда, открой нам очи, – настаивал Учитель, не слыша ропота апостолов.
Симагин очнулся:
– Теперь, мне кажется, вы не должны заблудиться от неизвестного вам пути истинного и не должны сказать, что я возмутитель вашего омута. Если бы вы теперь дерзнули сказать, что я возмутил ваше болото, то вы бы погрешили сами против Бога. Ведь я для вас не выдумал другого бога, потому что я сам бог. Природа меня понуждает, чтоб я показал теперь вам истинный закон и заповеди его.
– Ты много где бывал. Слаже нашего Беловодья есть ли где?
– Чего сладкого, че-го-о? Сладко, когда сам себе господин. Захотел – встал, захотел – лег, и никто тебе не указчик, – возмутился Симагин. – Чем у вас не темница? Кто может пойти куда глаза глядят иль отлучиться по своему хотенью?
– А куда идти? Тут же дом. Куда еще брести, коли слаже-то нет нигде. Иль ты видал лучшее место? – искренне удивился Учитель.
Симагин слегка сбился, растерянно забегал глазами, но тут же овладел собою:
– Свобода – когда сам себе господин. Вы взрастили жирных домашних гусей, коим давно уже расхотелось летать. Но там лучше, где голоднее, но свободней. Хлеба можно получить, но волю надо взять.
– У голодного свободы никакой. Голодный за кусок отца-мать продаст. Где много хлеба, там много воли, – веско сказал учитель.
– Кабанчику тоже много пойла дают, а после – под нож, – недовольно возразил Симагин.
Он был раздражен тем, что его постоянно перебивали, не давали высказаться. Он чувствовал, как слова его проваливались в пустоту, и потому говорить было особенно трудно, словно покрыли Симагина рогозными кулями и лишили воздуха.
Чего же он замышлял, незваный гость? Апостолы добивались одного: узнать, чего хочет пришлец. Они боялись ошибиться и покарать безвинного, но они чуяли в нем ту темную злую силу, от которой теснило грудь и хотелось спасаться куда угодно, закрыв глаза. Гость слишком много говорил и скрипучим, брюзжащим голосом опутывал собор, никого не слыша, никому не внимая, как опоенный. Ежели такого не лишить памяти и выпустить в Русь, один Бог знает, чего он наговорит-накуролесит там, не зная удержу. Оборвать бы его, не слушать, так высшего знака нет. Им-то, инокам, чего спасаться, кого опасаться? Они с младых ногтей в затворе, в строгом постном быванье, они на этом свете уже апостолы; но им было жаль тех, кто жил по ту сторону, пахал ржаной клин, плодил детей для Беловодья и радовался земным утехам. Им-то куда деться, если вдруг кончится их благо? Они ведь не знают иной жизни, они полагают, что так было всегда и пребудет вечно. Наверное, лучше всем миром сразу уйти на тот свет, чем менять устав, подвигая народ на страданья. Но он, смутитель, явился незваным и, будучи пленником, ведет себя, как высший праведник, хулит Беловодье.
Зачем же добиваться от самозванца особого признанья, не проще ли лишить его памяти и отослать обратно на Русь, пока речи его не вышли из городища? Так, может, Учитель мешал? Он странно медлил, его желания были расплывчаты, туманны и не передавались собору; не хватало старцам последнего решительного слова, будто Учитель уже утратил волю и власть.
– Все ваши законы взяты от Исуса Христа, а они основаны на мучении, – меж тем говорил Симагин, внушал с непонятным напором и недовольством в голосе; видно, даже скрытое упорство иноков было противно ему. – Но от избежания мучения произошла ложь, а от лжи родилось корыстолюбие и всякая неправда, так что теперь совершенный ад на земле – обман, разврат, самолюбие, роскошь, ненависть, вражда. Вы боитесь аду на том свете и устроили ад на земле-матери. Все ваши упования – на будущие мнимые царства, выдуманные Исусом, на всю его путаницу, а не проще ли навести порядок здеся?
– Это не про нас. У нас такого не водится, – в один голос возразил собор. – Двести лет, почитай, на сем стоим и не пропали.
– Вавилон, поди, тыщу лет стоял и хвалился, да от разврату сбесился и пал. Так и с вами будет. Что за Христос такой, откуда взялся фарисей и блудолюбец? Я думал сыскать в Беловодье свободное братство, а нашел темницу Христову...
– Замолчи!
Это вскричал, не сдержался одноглазый апостол.
– Фу-фу, – зафукал, заплевался Симагин. – Это вы помолчите, выворотни, коли не видите истины. Вместо правды закона будет неписаный закон правды, запечатленный в сердцах людей.
– Но как все это полагается устроить по закону правды? Чью правду вы возьмете в основу? Свою? – кротко спросил Учитель, и собор, радый гласу Елизария, согласно и торопливо закивал головами.
– Почему же свою... Божью, – спокойно ответил Симагин.
– Но это Бог положил нам так жить. – Учитель не лукавил сейчас, не кривил душою, ибо сомнения точили его. Чужие несчастья не давали ему насладиться покоем. – Ну вот ты предлагаешь нарушить наш устав, а что взамен? Вместо рая бывает ли другой рай?
– Ежели это рай, то живите, как хотите, а я покидаю вас. Разве рай в темнице стоит?
– Ежели открылось, так научи...
– И научу-у... Пойдите сердцем ко мне навстречу, не запирайтесь, дозвольте к народу обратиться, и я вас научу. – По собору прошло движение, но Учитель взмахом руки остановил невольное возмущение. – Вы откройтеся. Я вижу, вы закостенели во грехе, и это нелегкое дело – бересту греха содрать с себя и кровоточащие язвы обнаружить. Так вот, отцы собора: три главных вопиющих зла ужились в Беловодье. Я знал про то и спешил к вам, чтобы излечить. Самый первый грех: вы беззаконники. Да-да... Лишь зверь дикий живет без закона, на то он и зверь безумный. Конечное дело, праведнику никакой закон не положен, ни Божеский, ни царский. Но много ли праведников на всей-то земле русской? Раз-два, и обчелся. Положа руку на сердце, даже не всяк сидящий во соборе может поклясться: я, дескать, чист перед Господом, как слеза. А сколько народу живет подле монастыря во тьме и слепого? И бредут они как стадо баранов, ибо сам пастырь ваш заблудился в сомнениях. Так вот, закон есть народу вашему исцелительное лекарство и путеводитель во всех предприятиях...
– Что это за закон такой? Мы от законов бежали...
– Есть законы и уставы единого нашего Бога.
– Но мы в точности блюдем его заповеди. Единым Богом и живем лишь...
– Тогда пошто сокрылись от государя? Кто наместник Бога на земле? Царь! А вы от него сокрылись, аки тати и лиходеи. И в этом ваш второй грех. Если будут к вам насылаться от государя сборщики подати, то вы, конечное дело, должны дать ему требуемое по указу. Государь с вас лишнего не спросит. Он не захочет обижать неправедно, а вы должны его любить и почитать, как отца родного, ибо он у вас один, а вас у него много. Он один печется о вашем благе. И еще, если будет требование в военную службу – это должно исполнить безоговорочно, ибо и без этого нельзя, ибо все оное для всеобщей пользы и для порядка государству.
– Зачем нам царь? Зачем нам сборщики податей и управители? Сам же баял, что народ стоном стонет от царя.
– В новом государстве царь будет за подданными смотреть иначе. Ему не будет нужды обижать вас, ибо все мы будем веровать единому Богу. Мучиться тогда никто не будет, да и мучить вас некому будет, потому что Исуса больше нету... И без управителя вам не обойтись.
– Но живем ведь? И слава Богу, как живем: без податей, без надзору, сыто, вольно.
– Но все так не смогут жить! – вскричал Симагин. Стенам легче было говорить, чем этим старцам, ушедшим в себя. – Иль Русь разделить на обители? Рассеяться по лесам? Да ведь и тогда отыщется норовистый человек и затеет драку, пойдет на вас с оружьем. А коли из-за рубежа налезет смутьян и возьмет в полон?
Учитель не возражал, он терпеливо слушал возмутительные речи, и они не оскорбляли его сердца, ибо понималась их бессилость. Но Учитель задорил Симагина, понуждал открыться, и от нападок самозванца лишь укреплялся духом. «Нет-нет, – думал он, скашивая блестящий взгляд в голубое окно. – Мы истинное Беловодье, кроме нас, никого нет. Наша украшательная здоровая жизнь всем в урок. Это по нашей жизни истосковались люди, вот и прут, мчат во все концы. А мы не можем открыться, рано, ой рано распахивать врата. Дескать, вот и мы, идите к нам, да станем жить-поживать вместях. Когда много жижи, а мало мучицы, то штей добрых не сварить. Всем будто достанется, но как приманка, червяка не заморить. Только досадою заполыхает народ, что разбудили, растравили, заманили мечтою, а сунули кукиш под нос. Держаться надо в безмолвии и в своих границах, ибо пока есть мы, народ не безутешен, он знает, что есть на миру лучшее что-то. Он помыкается, побродит, а воротясь в домы свои, решит украшать жизнь своей родины».
– Ну а третий грех наш? – тускло спросил Учитель уже со слабою надеждой на откровения.
– Любить не даете. Бог дал нам такие чувствия, дабы мы любили друг друга по своей воле и казались бы приятными. Мужчина может жениться три раза до семидесяти двух лет, начиная жениться от двадцати четырех лет своего рождения. А женский пол не прежде должен выходить замуж, как от пятнадцати и до сорока пяти лет. Так должно быть, иначе без этого добрый плод быть не может... А вы народ пресекаете в природных чувствах, противу воли толкаете в монашество, и когда мужчина еще в полном здравии и приплод может давать, его в монастырь. Бог за это по головке вас не погладит, коли вы землю народонаселения лишаете по своей прихоти. Да если принять во внимание, что у вас в силу закрытости Беловодья кровь по крови идет, аль нет? Только чтоб без обману, как на духу, а? Во-о... И скоро народятся у вас завистники и ненавистники, слабые сложением и здоровьем, даже совсем какие-нибудь уродцы и калеки. Вот вам и рай...
Симагин умолк и медленным запоминающим взглядом обвел собор, наконец почуяв торжество в груди. Общее пониклое молчание притушило его гордыню и смягчило сердце.
– А впрочем, неплохо устроились, отцы! Дай вам Бог! – вдруг по-ребячески откровенно и весело воскликнул Симагин, и глаза его заискрились дружелюбием.
Одноглазый апостол ехидненько рассмеялся и с тревогою оглянулся на Учителя. Тот же сидел, погруженный в раздумья. Последний возглас сбил его охоту говорить и обличать, проповедь угасла, не родившись, и показалась вдруг Елизарию никчемной и ненужной. «Ой злой же ты человек, злоязычный, даже себе зла хочешь. Ведь ты и часу в свободной райской обители не пробыл, из-под запору не вылез, но уже все предал анафеме. Мнишь себя, скиталец, гордым человеком, но раб ты своим чувствиям, беспомощный раб. А ведь у нас все открыто для чистого, искреннего сердца. Иди куда хочешь, делай то, к чему от рождения принадлежишь, иль ковыряй землю, иль образа малюй, можешь в швальню податься иль по кузнечному, медному, золотому пойти ремеслу. Каждый может закинуть за спину котомицу и отправиться для науки в иные земли. Нет у нас надзору, управителей, ни кнутовья, ни батожья, лишь мы, наставники-апостолы, ведем пригляд, чтоб в скорбную минуту кому помочь в его слабостях. Каждый может пойти, но куда и зачем? Никого и не тянет. От добра добра не ищут. У нас и в любви нет принужденья. Но грянуло сорок лет, и стучит народ в монастырские ворота. Мы не зовем их, не грозим, не строжим, не пугаем. У нас все живут так, как позывает здоровая душа. Уж какой, парень, ты рожен, такой и заморожен; горбатого могила прямит... Снадобье, поди, нас подвело, и кто-то из братьев наших, странствующих юродов, выдал тебе Беловодье. Ведь так? Вот и сварим мы нынче иное зелье, и напоим тебя, и отправим обратно в Русь. И двинешь ты по всей земле-матушке, заглядывая в каждый угол, и станешь кричать: миряне, не ищите больше Беловодье, но стройте его каждый в своем дому. И все прочее, что было в твоей жизни, все проказы и помышленья, забудешь ты...»
Но вместо всего этого Учитель Елизарий грустно и коротко ответил на измышления Симагина:
– Молись пуще, и Бог простит. О конце твоем ты уведомлен был заранее. – Учитель взглянул на инока Авраама, и тот согласно кивнул.
– Знайте же, я ничего не боюся! – закричал Симагин дрожащим голосом, криком перемогая страх и сам себя презирая за невоздержный, утробный вопль. Но с криком легчала грудь, наливалась тем холодом и мраком, когда упорный человек и на смерть готов, напрочь презирая и отвергая жизнь. – Ты, отечь, меня не пугай! Я посланник Божий. Я готов принять на себя все титулы, худые и добрые, назови меня хоть антихристом. Для избавления от ига рода человеческого – мне все не в тягость. И никакое ваше пойло не покорит мой разум. Тот-то Бог невидимый, а я – видимый. Вот я, вот я, нате-ко! А-а-а!
Симагин неожиданно сорвался и побежал в дверь, но никто не осмелился окрикнуть, остановить его. Да и далеко ли кинешься, когда все тропы из Беловодья закрепощены тайным знаком и лишь апостолы и доверенные знают обратный путь в Русь. Симагин спустился во двор, где стояли четыре заветренных, побитых оспою идола, и с необыкновенной цепкостью и решительностью всполз на каменные вечные плечи. Утвердившись прочнее, он присел на голову каменной бабы передохнуть, а потом закричал в пространство, где сновали редкие согбенные монахи и старицы.
– Поганые язычники, – вопил Симагин накаленным голосом, изо рта его будто бы вылетали молоньи и прожигали воздух. – Сейчас карающая десница моя поразит вас! Пришло светопреставленье, овны! Я принес вам новый свет! Спешите прийти и пасть, да прощены будете! Бейте во все вселенские колокола, сзывайте народ, посланник Божий явился к вам!
С умыслом, впервые Симагин остерегся и не назвал себя богом. Усердствовал Симагин, сипя осевшим голосом, но никто не спешил на зов, и двор, без того пустынный, теперь вовсе вымер; лишь ровный низовой ветер, предвестник грядущей зимы, шерстил сухую траву. Не спеша приблизился Учитель, задрав голову и выпячивая сочные добрые губы, спросил жалостно:
– Отвел душеньку, Божий человече? Утешился?
Двое служек в черном принесли лестницу, приставили к идолице, подали руки встречь. Поддерживаемый за локти, Симагин торжественно сошел на землю. В глазах его стояли слезы...
С первыми петухами в келью явился апостол Авраам и тайными подземными ходами увел Симагина из Беловодья.
Глава восьмая
– Это место нашими отцами заклянуто! – показал инок на земляную нору под еловым выворотнем. Лишь громадный почерневший крест показывал на недавнее жилое прибежище. – Сюда остерегутся, сюда не хватятся.
Инок досказал решительно, скорее властно, но глядя в сторону, тем самым давая понять Симагину, что далее пойдет один, чтобы не выдать тайного беловодского пути. Симагин принял это известие с внешним спокойствием, но в душе его после побега так и оставались пустота и некоторое неудовольствие, похожее на разочарование и обиду. Думалось, что давно хватились беглецов, кинулись в поиск, чтобы повязать негодяев, и, поди, уж всю тайгу обрыскали. Схватили бы, повели в обрат в путах, сквозь посад, люди бы толпились, глазели, вот и счастие бы.
Но приходилось таиться в берлоге, где в давние поры случился грех, значит, нужно думать о выти, как наполнить утробу, и невольно Симагин вернулся мыслями к земному. Какой ни бог, но чем-то кормиться надо. Инок прочитал сомнения Симагина и сказал спокойно:
– Там хлеб в крошнях и огневой запас.
– А мне ничего не надо. Аль забыл, парень? Я бог. А Бог Святым Духом живет...
– Там и постеля есть. Я тут летось живывал.
Инок оглядывался и не уходил, что-то недосказанное держало его возле спутника. Может, внезапная измена мучила и боязно было сожигать последний ненадежный мосток. Еще не поздно было вернуться? Да нет, за двое дён, поди, хватились, занарядили заставы, елани и гольцы прочесали на много верст, но сюда не пойдут, это место срамное, отцами заклянуто. И невольно вздохнул Авраам, принагнувшись и скрывая затуманенное лицо, стал без нужды оправлять голенища легких походных сапог.
– Значит, не берешь с собою? – удостоверился Симагин. – Так поторопись, сынок. Без нужды не задерживайся. И вновь обещаю: в новом царстве ты займешь место самое достойное.
– А не Иуда ли я? – вдруг спросил инок. Это сомнение, видно, и мучило, изводило человека, хотелось ему какого-то особого утешения.
– Июда себе желал блага, а ты – всем.
– Это и манит. Разве бы решился? – осветился лицом Авраам. – Но как же с заповедью: страшен человек, не желающий себе добра? Ведь я на позор попустился, обратный путь пресек. Отец с амвона, поди, проклянул меня.
– А, пустое, сынок. Не верь словам земным, но верь небесным. Ты желай, голубчик, всем добра, тогда и тебе перепадет.
– Как Христос?
– Фу-фу, – замахал руками Симагин. Он разговорился, ему тоже не хотелось, чтобы инок покидал его. Вот жить вдвоем посреди звериной тайги, никого не знать, не ведать – какое, наверное, счастье. Но Симагин тут же спохватился, осрамил себя за колебания. – Отринь Христа. Это был дурной, быть может, самасшедший. Я много где бывал, свету белого повидывал, с умными людьми речи вел. И все то подтвердили: самасшедшего распяли, и чрез него пало на землю страдание... А ты не колеблись, я вижу, ты шатаешься. Ну! Что тебя мучит? Ты встань над собою, знак даден. Я видел знаменье. Ты подымись над благом, отринь, отряхни прах с ног. Ну, сынок, смелее! Что обробел? Встряхнись, руками-то вот так, дыханье запружь. Помогает? – Симагин закрутил руками, натужился лицом, в глазах появился лихорадочный свет. – Ты чуешь, за плечами как будто махалки родились? Я когда захочу, то летаю, пуще всякой птицы вздымаюсь. Они мне завидуют.
Авраам поддался воле Симагина и сначала робко, потом все решительней стал месить воздух руками. Но Симагин тут же и огорошил его:
– Нет, не подымешься, грехи не пускают. Ты лучше отправляйся не мешкая. Встренешь березовского исправника, скажешь: от бога послан, от меня, значит. Он все знает.
– Не Иуда ли буду, коли доложусь?
– А ты запрись про Беловодье. Скажи, в Кий-посаде беглых скрывают.
– Но то же неправда!
– Правда, милый, все правда, коли из чистых уст. Со всех-то на Руси шкуру сдирают, а вы – кашу с маслом. Чем не бары? А мы, бывалоче, бар-то вешали, да-с. Чем же вы не бары? Но мы их подопрем, шкуру вспорем да соли засыплем, сала зальем. А? – Симагин захохотал, глаза его покраснели, взялись пламенем. Инок глянул на бродягу, что нарек себя богом, и устрашился. – Ты же хочешь верховодить? Хочешь величаться? – настаивал Симагин.
– Не хочу власти, но хочу блага для всех.
– Ну и поди, делай благо. А я подожду.
Из письма священника исправнику. «... Сего апреля 5 дня я был между жизнью и смертью, а более близок к смерти по следующему случаю. После литургии часа в два пополудни к моему дому приступила толпа разъяренной черни, человек сот пять или более, все кричат, бранятся, сквернословят, требуют волю, волю решительную, совершенную независимость от помещика и ни от кого, подай, сейчас подай. Что ни говори, в ответ слышишь одно: „Врешь!“, со всеми бранными выражениями и скверными ругательствами: „Убьем, зарежем, задушим, мир велик, пришла воля, а у нас ее нет“. Тут был один в иноческой рясе, главный начальник бунта, имя его не знаю, но по всему видно, что он усерднейший сотрудник сатаны, подходят ближе, приступают плотнее, разбивают двери, входят в комнату в шапках, иной кричит: „Бей его, бей его“, другой: „Тащи его, сюда тащи“. Иной: „Куй его, вяжи его, души его, подай волю, сейчас подай“. Защиты мне не было ни от кого, за меня никто слова не сказал, все против меня».
... И когда приключилось сие, пришлось стрелять и вышло большое пролитие крови...
В деревню Байкину явился курчавый пророк нерусского вида и возвестил об истинной воле. И поехали к нему крестьяне с ближних и дальних сел, чтоб услышать праведное слово о райском месте, именуемом Беловодьем; а охраняли проповедника нарочными караулами денно и нощно, никого к апостолу не пускали, и когда появлялся он на крыльцо, чтоб явить слово, тысячная толпа смолкала разом и падала ниц, будто сраженная, столь светозарным был явленный нездешний человек. А он, тонкий смуглый вьюнош с бараньими, круто завитыми волосами и круглыми прожигающими глазами, толковал о Беловодье совсем по-иному, дескать, и в путь не надо пускаться, растрачивая понапрасну силы, нечего дороги мять, оставляя в сиротстве баб с детишками, а надобно прочь гнать из деревни Байкиной всякого пришлого начальника да с Богом на устах крепко приняться за труд. И он так толково объяснял грядущую жизнь, столько силы и веры было в его простых вразумительных словах, что все, прежде смутное, стало понятным. И сход постановил отныне господ не знать, всю землю, коя видна в ближайшем пространстве, поделить по душам, помня вдов и сирот, друг за друга стоять крепко и нерушимо, оброков и податей царю не платить, ибо он первый и наиглавнейший антихрист, под ружье в войско не вставать, с табаком завязать и хмельное забыть. Учредили крестьянское сельское управление, во главе его избрали Филиппа Попова. Он собирал сходы, расставлял караулы, заготовили для обороны толстые дубины, оковали их железными набалдашниками и наконечниками, разослали письма в другие сельские общества с просьбою о помощи. Вера же в пророка была столь сильна, что из других деревень присылали нарочные тройки с приглашением прибыть, водили его под руки, носили за ним скамейку, куда он и становился, с возвышенья вещая о Беловодье и будущей жизни. И так было Аврааму торжественно и сладко от почестей, так высоко вознеслась его душа, что прошлое замкнутое быванье вспоминалось темницею. Они прозябали там, середка лесов, они свой посад возвысили над всем миром, вознесли его, почитая за святой удел, но были, оказывается, лишь пупыри, таежное замшелое коренье. Вот на Руси народ воистину живет, мечется, он хотеньем полон и страданиями, и каждому новому натуристому человеку готов поклониться.
Но вот прибыла в деревню Байкину воинская команда, и, когда исправник спросил о смутителях, вся толпа, а было народу не менее трех тыщ, закричала и бросилась на казаков. Авраам же спрятался в избе, наблюдал украдкою, отогнув край занавески.
– Кто это? – спросил он у хозяина дома, увидев вялого, пониклого офицера, с трудом вылезающего из коляски.
Ему же ответили, что это сам исправник Сумароков, гроза здешних мест. Услыхав эту фамилию, инок побледнел, и прежде забытый Симагин сразу вспомнился, как бы из темного угла явственно погрозил пальцем. Откуда бы ему тут взяться, верно? Но вот издалека передавалась, чуялась сила Симагина, и Авраам не смел ей перечить. Он потуже надвинул на лоб черный клобук, осенил окно кипарисовым крестом, оградясь от сатанинской силы, и двинулся к дверям с намерением выйти на крыльцо и явиться войску. Но его тут же и остановили с плачем и рыданием, и весь народ, что находился в избе, пал ниц и принялся умолять пророка, чтобы он не покидал несчастных.
Ввечеру от исправника явился посыланный и объявил волю начальника, дескать, пускай бродяга Авраам едет прочь, куда душе угодно, а мы его не тронем и деревню не перешерстим, а решим все полюбовно, миром. Ночью Авраама тайно вывезли из деревни в возу соломы, но его настигли перед лесом казачьим разъездом и взяли в полон обманом. Народ же, узнавши о сем предательстве, всполошился, с кольями кинулся на казачьи постои и по команде исправника был встречен дружным ружейным огнем.
... Так в деревне Байкиной пролилась большая кровь.
Инок же Авраам отсидел в Тобольском тюремном замке до осени, и когда вышло разрешение от губернского воинского начальника, то был взят Сумароковым с собою для дальнейшего дознания.
Только возомни, воспари в гордыне, и душа твоя тут же ослепнет и оглохнет. И, никогда прежде о том не помышляя, станешь ты жить по известной притче: богач обидел – и сам же грозит, бедняк обижен – и сам же упрашивает.
Язва тщеславия скоро завершила начатое дело. Апостол Авраам, один из отцов Беловодья, несмотря на молодость, известный своим глубокомыслием и трезвостью ума, как-то скоро переменился, потек, расслабился и из прежнего, полного скрытой гордыни и самолюбия человека превратился в талый воск. Не стерпел дознания, открылся Авраам Сумарокову, и тот воспылал к бродяге неожиданной любовью. Подумать же, почитай, до сорока лет жил Сумароков в тени, мелкопоместный чиновнишко без особых выслуг, коих на Руси считай многими тыщами, – и вот выпала удача, сама птица далась в руки, лишь не упусти. Такую шальную птицу держи пуще, а то останется в долони лишь рулевое разноцветное перо да в груди ушибленная больная душа.
Э-те-те-те... В глубине матушки-Руси да вдруг объявилась своя республика; искали ее да с ног сбились, все так полагали, что колокола льют поклонники да юродивые, сказку сочиняют для обмана и раздору. Сколько было в департаменте росписей, дескать, бежит народец в непонятную страну, нарекаемую Беловодье, где нравы, сказывают, куда почище европейских: мало что батюшку царя не чтят и податей никому не платят, так и попишка свой, из беглых. Толпы толпами сдвинулись с обжитых мест, запустошают земли, сиротят семьи, беглецов этих и каторгой не застращать и батожьем не образумить: будто дурманом кто опоил. Встречал таких Сумароков, не раз допрашивал самым строгим сыском и плетью рисовал на спине. Его, бродягу, кнутом распишешь по первое число да пристыдишь отцом-матерью, верой христианскою, а он все будто бредит, глядит куда-то вдаль пустыми глазами и рукою по груди шарит. Ах ты Боже, подумаешь, ведь нищий, никчемный человечишко побежал от семьи да от работы, заленивел, запаршивел, втемяшил себе в глупую голову бредовую мыслишку и, радый ей, лезет из шкуры вон на самый край света. Такого вернешь, бывало, к себе в домы, под надзор поставишь, а он через месяц-другой окреп, вошел в тело и уже снова напарника, сводника ищет да и соседей сбивает с ума сказками из чужих уст.
Исправник приблизил к себе инока Авраама, сразу уверовав в его сказку: ехали в одном возке. И чем дальше от Тобольска продвигались они неведомой дорогой, тем заполошней, горячечней становился Сумароков, и дорога походила на бред. Он и Аврааму не давал покоя, все выпытывал до мелочей, часто всхохатывал, потирал руки, довольный затее. Многим ли приходилось в мирное время посады с боем брать? А в том, что стычка предстояла, и не малая, Сумароков был уверен. На ночлег становились со всем старанием, обозы сдвигали в кольцо, загоняли внутрь лошадей, караулы были бессменны, хмельного не дозволялось, и сам Сумароков протрезвел. Обходя лагерь, он заводил вдруг необычно великодушные разговоры, обещал после похода всем высокие награды, на посулы не ленился. Аврааму спать не давал и тоже водил за собою и двух казаков неотлучно держал при себе. Обычно выставлял Авраама у яркого кострища и при свете предночного пламени показывал пленника как диковину, истинно веруя в необычность этого человека. Морозов тот не боялся, и бараньи волосы его заиндевели, сплелись проволокой в подобие басурманского тюрбана; овчинного тулупа пленник не принимал, и холщовый кабат старинного покроя, разодранный на груди во внезапной стычке, так и не запахивался, выказывая наружу сухое смуглое тело. В коротком сне исправник часто спохватывался, охлопывал возле себя и полошился, когда не нашаривал возле пленника. Тот обычно сидел позади возка, по-волчьи выставив лицо в лунное высокое небо, и молился, чему-то горячо ратуя. С первым зоревым проблеском он дергал исправника за постелю и просил поторапливаться. Через месяц ходу Авраам засмердел. Исправник, однако, ничего не чуял, но инок не мог терпеть себя, от тела исходил такой тленный приторный дух, какой бывает от убиенного, долго киснувшего поверх земли. Когда на короткий миг Авраам смеживал очи, он видел себя покойником, уже безглазым, почти насквозь проеденным червями, и нестерпимая тухлая душнина волнами накатывала на него и забивала ноздри.
И случился день, когда Авраам встал на камусные лыжи и двинулся впереди команды. Исправник уже не боялся отпустить его от себя, уверившись в его преданности. Авраам топтал лыжню и заговаривал сам с собою, как тронувшийся умом человек. Он все порывался отшагнуть в елани и, пользуясь темнотою, уйти прочь. Раза два он даже таился в кедрачах и с дрожью во всем тулове дожидался, когда в провеси ветвей покажется закуржавленная головная лошадь. Однажды в досаде, что не может совладать со своей натурою, Авраам поддернул за курчавую голову, и в ладони остался клок посивевших тусклых волос. Он не почуял боли, будто выдернул чужую грязную шерсть.
Тем же днем, в канун Крещенья, отряд подошел к Беловодью и выстрелом из пушчонки дал о себе знать...
Глава девятая
Тем временем в Беловодье не сидели сложа руки.
Инока Авраама уличили в измене и предали анафеме. Учитель Елизарий поначалу впал в тоску, провидя близкий конец своей обители, и никого не допускал к себе в келью. И устыдил, и сурово судил Елизарий себя: это его сердечное смятение достигло сына и отразилось в нем. И что бы к отцу родному прийти, исповедаться, открыться, как на духу, излить гнев иль слезы; так нет же, в одинокой гордыне пребывала, оказывается, сыновья натура. На что покусился, сыне? И неуж не опомнишься в дальних чужих землях, и неуж голос крови не отзовется в тебе и не устыдит? Коли предашь, сынок, смердеть тебе, как летнему палому скотскому трупу, и земля не примет тебя, смердящего. Откликнись, сынок! Что случилося, приключилося? Быть может, самозванец заманил тебя обманом, увлек и где-то под еловым корчем лежишь ты сейчас, хуже пропадины, моля о пощаде. Наберися силы, Авраамий, и отзовись на отцов вопль! Сыно-че-ек! Что за помутнение, что за мара, что за кудесы греховные окутали твою здравомыслую голову. Гос-по-ди...
Однажды на восходе услышал Елизарий густой кислый рыбий дух, словно жарким днем под монастырской стеною шкерили улов и позабыли закопать черева. Вот и случилось, как помышлялось: родной сын повернул на обитель с изменою. Созвал Елизарий собор и попросился у братии отпустить его с миром в леса, в строгий затвор, в потраву дикому таежному зверю. Но отказали апостолы Елизарию в просьбе: дескать, в радости и веселии хвалились тобою и шли следом, как нитка за иглою, так неуж в горести и несчастии похулим, всякими поносными словами покроем? Не быть тому...
Смирные положились на авось, более дерзкие всполошились, наполнились забытым досель воинским духом, кровь загорелась, настаивали они ружья чистить и пищалицы, обновлять крепостные пали, пока время дает; своенравные апостолы толкали в бега, пока не свалилась напасть, чтоб сняться всем посадом и ударить в иные земли, сокрыть следы и в новых пределах свить вольное гнездовье. Но те, кто в поход замышлял, не перевесили числом. Многим же пришлась по душе проповедь Учителя, что срок грянул держать ответ за долгое беспечальное счастие.
И принялись беловодцы подновлять родные стены; никогда не знали такой нужды, не пригождалась им эта защита, ибо не было со стороны ни заступы, ни приступа, но с заградою жилось ровнее, спокойнее, сама стена отметала всякую возможность о вороге. Да Господи, коли двести лет никакая саранча не лезла, никто не покушался, никому выгоды от Беловодья не сыскалось, так неуж найдется какой мучитель, расхититель, грозный атаман. Но вот настало время, когда гроза рядом, идет беда, отворяй ворота. Подлатали примосты, кой-где добавили земляной насыпки, медные пищалицы почистили, подняли наверх котлы чугунные для кипящей смолы, благо той нагнано в избытке. Готовились к осаде с той основательностью, с какой обычно приступали к хлебному клину и к рыбным ловам. Но хватились огневого припасу – ан его и нету, едва расстарались на один заряд. Да и кому стрелять, коли пушкари повывелись давным-давно, двести лет не знавало крови Беловодье. Но хоть и ладили родной посад, но уверенности не теряли, дескать, погрозится издалека, да и смилуется. Заплутает где изменщик, изойдет блевотою, иль клещ измучит корчею, иль лихорадка-огневея выстудит кровь. Но ежели и приведет сатанинский выродок оружных собак, и приступит с осадою серый разбойник, так неуж Господь оставит детушек своих без подмоги? И неуж не напустит на волка мор и глад и не устрашит охальников? Тем солдатам тоже, поди, не прискучило жить, у них, поди, бабы да ребятня по лавкам, кому до времени помирать охота, верно? Подойдут под стены, глянут ее высоты и мощи да и устрашатся брать приступом. Ладили беловодцы городище, напротив врат нарубали толстенные бревенчатые щиты, ставили запоры. Потом и церковь монастырскую принялись готовить, крайний оплот свой. Изнутри связали другую стену из кондового леса и пространство то забили камением и землею...
И собрались монастырские старцы, и стали крепко думать: Феодосий, Геннадий, Варлаам, Иоасаф, Симеон, Трифон, Даниил, Мануил, Яким, Наум и Савастиан. Но не могли столковаться апостолы, всем ли разом принять огненную купель иль самым стойким гореть, огнем кончатися, остальным же, малодушным и мирским (отрокам и отроковицам и кто в самом соку из мужеска и женска пола), растечься по земле по матери и где-то снова однажды скопиться с новой силой и иным разумом. Елизарий же сбивался к мысли, что негоже бы силой принуждать к кончине, и все на юродицу Иринью показывал. Та бегала под окнами Учителева дома и кричала: дескать, не хочу гореть со всеми. Не буду, вопит, гореть, я не трава и не дрова, чтобы поленом гореть. Какою странной прозорливостью владеет юродица. Еще на соборе не решено, к какому концу вести Беловодье, а монашке святым духом уже все нашептано, и она трепещет неведомо отчего и мечется по монастырю, разнося смуту.
Одноглазый же апостол Геннадий настаивал вкупе гореть, пылать одним факелом: как жили согласно в счастии, так одним дружным кораблем и пуститься в бесконечное плавание. Знать, Богу было угодно, чтоб жили мы прежде особно, так неужли мы позволим, чтобы после нас обнищавший, покинутый беловодец сидел бы в неволе в оковах, с кедровою плахой на шее и чтоб всякий мог надсмеяться над ним и плюнуть в лицо. Эта опаска особенно сильно подействовала на прочих старцев, и впали они в печаль, как бы каждый из них вдруг узрел себя в горсти у ката, быть может, и на дыбе иль под кнутовьем, когда кожа с тебя слезает чулком, как с ошпаренного. Ой-ой-ой... Так ясно нарисовалось будущее положение, хоть вроде бы никто прежде дыбы не пробовал и под плетью смертно не маялся. Но каждый представил грядущую казнь и устрашился ею до телесного холода; а когда забоялись будущей жизни, то и нестерпимо пожалели своих близких, кто допрежь счастливо жил, опершись духом на монастырскую стену. Ой дети вы наши, дети, да как мы вас кинем во сиротстве? Будут вас в мялке мять, в жерновах катать, и уши-то вам обрежут, и носы обкорнают, да в эдаком-то шутовском виде и пустят по Руси, чтоб каждый на вас тыкал пальцем, вот, дескать, юроды идут, беловодские нехристи.
Долго бились, споря до хрипоты, никогда так нетерпимо они не схватывались прежде: не о себе пеклись, самим-то за счастье гореть, но жаль было тех, кто от их крови, от их семени пошел. Корень-то свой выжечь, дак будто и не являться на свет. А если паствы не станет на земле на матери, так нужен ли пастырь? Куда Бога-то деть тогда? Лишь апостол Геннадий в постриге с семи лет, и голос крови не тревожил его. Вся заскорбевшая, постоянно ознобленная кожа его изношенного тела так скучала по теплу, что огонь сожжения уже чудился праздником. Одно тайно смущало Геннадия: сможет ли его душа взмыть свободною птицей, иль она устало потянется в занебесье, облепленная грузом чужих немощей? Стеснится народишко, скучится, взвоет – и разом пропадет праздник. И Елизарий поистратился духом, плоти в нем слишком много. Широкому в кости, мясному человеку невмочно гореть, жди, когда-то сердечко лопнет. Апостол Геннадий пошире разлепил глаз с бородавкою на верхнем веке и, постепенно озирая Учителя, пожалел его. И кривого старца осенило вдруг: ведь они, апостолы великого собора, собравшиеся ныне, не знают, оказывается, природного девства, их род держит, излитое похотное семя мучит, они вервями связаны с землею, так куда же им лететь с такими путами? Стреноженную лошадь, как ни секи, как ни нажаривай по бокам, она не кинется наметом, но запрыгает, будто старая ворона. А он, апостол Геннадий, воспарит ко Христу и за его Престолом первым встанет.
Всесильный от сердечного торжества, внезапно воспылавший гордынею, апостол Геннадий вдруг позабыл о преклонной старости своей и решил приказать Учителю, дескать, покинь ты нас и уединись, а мы возвестим нашу волю народу. Но не успел старец возвыситься, как ударил набат. Царев колокол на монастырской церкви широко загремел, разлился, звонарь шально метался на вервях, таскал медные языки, и в лад ему, с некоторым испугом и опаскою, подыграли звоны на угловых башнях.
Апостолы поспешили на крепостную стену, а там уж народ. Глянь, от старинных гарей, где прежде жита высевали, наехал чужой обоз. Серая стая обметала противный берег, грязня январский снег, а после нерешительно сползла с кряжа на лед, норовя к острову. Оружные миряне приникли к бойницам, любопытство на их лицах смешивалось со страхом. До сих пор не думалось, что к ним вдруг могут явиться чужие люди; и гостя-то чужого не хотелось, а тут враг подступил с худыми намерениями. Что стены противу чужого умысла? Долго ли удержат врата? Ибо против самых крепких замков есть ключи. И впервые, наверное, Учитель Елизарий испытал чувство беспомощности и озлобления. Предстояло обороняться, пролить чужую кровь, но никто не умел убивать. И хотя чужаки уже стояли под крепостью, но все еще не покидала надежда, что пришельцы образумятся, а попугав и видя, что с мирных людей никакого вреда нет, оставят Беловодье во спокое. Елизарий готов был согласиться и на выкуп, на долгую дань, только бы не биться на бранном поле. Вдруг лопнул воздух, словно ударили длинным кнутом, с воем пролетело ядро, взорвалось на монастырском подворье возле Учителева дома, снегом осыпало идолищ поганыих. Дети побежали смотреть на чудо, копоть пробовали на язык. У каменной бабы, глядящей на восход, оторвало левую грудь; рана была мясистого красного цвета и походила на спекшуюся кровавую язву.
От обоза отделились несколько конных казаков и с пиками наперевес поскакали к крепости, пробуя взять ее нахрапом. Но лошади скоро увязли, и казаки беспомощно встали, стреляя из винтовок. Они так и дожидались в снегу, пока, протаптывая дорогу, не подтянулась вся команда, оставив возы под берегом. Из второй пушчонки тоже пугнули для острастки, но беды не причинили. Воинский начальник вопил и грозился, приставивши ладони ко рту, махал смушковой черной папахою, но посадская стена не отзывалась на крики, выглядела безлюдною. Спешились. Сумароков приказал брать городище приступом и не медля, требовал до ночи захватить бунтовщиков. Им овладели воинский азарт и горячка. Казаки подтащили лестницы, полезли на стену и неловкостью своей изрядно позабавили обозников. Вдруг со стены грянуло шумно и бестолково, казаки посыпались с лестниц и побежали. Сумароков гарцевал на коне и лупил плетью, кто попадался под руку. Казаки остывали и со стыдом возвращались. Оказалось, со стен стреляли пыжами и вреда причинить не могли. Сумароков не знал, кого берет приступом, и то, что по войску стреляли пыжами, несколько смутило его и уязвило. Он приостыл, приказал команде дружно отойти в станы, разбили палатки, окружили лагерь возами, выставили караулы, боясь ночной вылазки. Березовский протопоп Мисаил увещевал Сумарокова скорбным, тихим голосом, просил не торопиться, не пороть горячку, но пойти на сговор; наставлял с наивозможной кротостью, но в душе, однако, пугался бешеного исправника, о коем ходили по Сибири бесчисленные легенды. Его бледный лихорадочный вид, измаянный долгою дорогой, и неспокойные навыкате глаза внушали священнику непроходящий трепет. Поговаривали, что в столице у исправника рука, и крепкая, и к губернатору он вхож, потому и не могут недовольные сбить его с седла.
Инок Авраам непрестанно молился в углу, его гибкое юношеское тело таяло в поклонах. От инока пахло проказою, но протопоп лишь нынче вдруг почуял, как смердит от пленника.
«Господи, как слаб человек», – подумал священник, тайно презирая иуду. Хотя и там, за монастырской стеною, тоже таились отступники, бежавшие от веры и царя, но то были стойкие прелестники, внушавшие уважение. Потому хотелось поглядеть на них в натуре, полюбопытствовать на их устройство жизни, такое соблазнительное для черни. Хоть бы образумились, не поддались гордыне низкие люди, склонились пред царевым войском: плетью обуха не перешибешь. Раньше-то думалось, что Беловодье – это сказка, забава блудного люда, ленивого до работы, неясный больной вымысел ведуна, прижившийся в суеверной толпе. «Но если есть на свете Беловодье, то закоим Бог?» – вдруг усомнился протопоп и невольно покраснел, поглядел на исправника. Тот лежал на походной кровати и, бездумно уставившись в потолок, дымил трубкой.
– Никита Северьяныч, – попросил священник, – попробуем-ка мы пойти на сговор. Авось Бог еще не совсем покинул этих пустоголовых. Для острастки пужнули, а теперь бы погодить.
Сумароков лениво скосил глаза и не ответил. Он размышлял о грядущем дне, ему хотелось шума, грохота и какой-нибудь проказы. На выдумки он был большой мастак.
И поутру отправились на уговор березовский протопоп Мисаил и начальник Сумароков. Сумароков успокоился, сейчас был зорок. Он увидел высокие островерхие копны сена с нахлобученными шапками снега, и в нем тут же созрел умысел. Впереди шел казак, денщик исправника, и помахивал белой тряпкой, наколотой на тесак. Встали близ стены, на ружейный выстрел, и протопоп невольно поежился, глядя на узкие бойницы с просверками чужих неразличимых лиц. Ясно, что за ними следили и выжидали, но белесая, заиндевелая стена из кедровых толстенных палей была миролюбивой и не таила угрозы. Но вот угловые звонницы дали тихий печальный благовест, открылась узкая невидимая дверка, и оттуда вышел старец Геннадий, а чуть погодя и Учитель Елизарий. Они были в белом грубом одеянии, в белых же куколях с нашитыми золотистого цвета крестами. И началась долгая, утомительная словесная пря. Одни домогались открыть ворота, другие упирались, стояли на своем. Сумароков, видя бесполезность своих усилий, отошел в сторону, с хитрым любопытством наблюдая крепость и высыпавший на стены люд. Его, однако, не покидало ощущение долгого сна, какой-то болезненной напасти, внезапно сковавшей все члены: вот однажды по хвори впал в дрему, обволокло спячкою голову, и тут пошли рисоваться всякие чудные картины, похожие на явь. Виданное ли дело, чтобы в пределах государства Российского, где каждая пядь земли запечатлена на межевых картах, вдруг обнаружился разбойничий посад со своей властью, со своими желаниями и прихотями. Значит, можно быть самому себе господином и не считаться с чужою волей? Ежели я чего возмечтал особенно иль чего-то благоприятного себе хочу в ущерб многим, то могу, значит, всем пойти насупротив. И не болезнь то моя, но обыкновенное положение сильного человека.
Протопоп и беловодские апостолы состязались в вере, криком кричали, позабыв о благолепии и пристойности. Они худо понимали друг друга, ибо каждый отстаивал свою правду. Единый Бог вдруг разделился для них, и земля-матерь вдруг располовинилась.
«Не мешали мы никому, и не допирайте нас», – однообразно повторял Елизарий, не веря в добрый исход.
Учитель давно надломился, и его слабодушие сказывалось на силе Беловодья. Да сын вот еще, переметчик и злодей, предал веру и надсмеялся, а сейчас привел к посаду татей, несчисленное волчье стадо. И оттого, что Елизарий постоянно думал о сыне, всю утомительную прю он отдал во власть апостола Геннадия, а тот был затуманен старостью. Ему бы вот сейчас же и гореть, не медля взойти на кострище, но лучше будет, ежели взняться факелом сообща, с упорством сцепив зубы. Потому Геннадий не особо и боролся с протопопом Мисаилом и заученно выкрикивал проповедь, которая перешла к нему от соловецких монахов. Учитель Елизарий отвечал невпопад и туманно всматривался во вражьи станы, где ныне в шатрах пропадал сын. Елизарию мнилось, что сына там нет, а он где-то, поди, загублен в темницах, затравлен, заеден мышами, ну а коли уцелел и привезен сюда вживе, так лежит в углу с кляпом во рту и с кедровым стулом на шее, а сторожа постоянно пинает его в боки.
– Вернитесь, дети мои, в лоно Церкви, и царь смилостивится и простит. Что затеяли, еретники, чего разблажились по себе во всех пределах, смутители? Придите к нам, как вернулся с повинною отрок Авраам. Он постучался к нам, и царь не оставит его без милости.
Учитель Елизарий вздрогнул, не веря ушам своим: по впалым щекам, обметанным седым волосом, пробежала судорога, но взгляд серебристых, слегка подголубленных очей оставался кротким.
– Двести лет стояло наше царство, – сказал он. – И нет силы сокрушить его. Несокрушимо оно, наше царство. Вавилонская башня пала, а мы вековечны. А коли так, то подите прочь с миром, оставьте нас и позабудьте. А инок Авраам?.. Он волен. У нас каждый волен. Чего тут толковать... И в добром дереве вдруг заведется тля.
Три дня толковали протопоп Мисаил с Учителем Елизарием. Сошлись дать исправнику и солдатам денег до двух тысяч серебром с условием, чтобы те отъехали прочь с острова и дали сроку думать беловодским апостолам. Но, получив деньги, Сумароков с острова не съехал, а, вплотную приблизив пушки к посаду, обстрелял церковь в надежде причинить пожар. И снова вышли с Беловодья Учитель и апостол Геннадий и нынче уговорились на четырех тысячах серебром, а клятву сотворили с исправником, пожавши руку через саблю. Такой уговор переступить нельзя, непростимый грех. Но Сумароков, приняв деньги, не только презрел договор, но более того, распалился, стал просить у старцев новой казны пушниною. И было доставлено из ограды двадцать возов пушного товару. А меж тем исправник дал команду готовить новый приступ, обещал казакам отдать посад на разграбление, сулил большой дуван и всячески проклинал, поносил воров, схоронившихся в крепости. Ночью принялись казаки стрелять из крупного и мелкого оружья, навели много шума и страха и лестницы подтащили, чтобы взлезть на стены. Но миряне, видя ту неправду и ложь, принялись палить пыжами, и лестницы спихивали, и едва отбили штурм от стены. Служивые со стыдом отошли в свои станы.
Наутро узкая дверца более не отперлась, с внутренней стороны нарубили толстый бревенчатый щит, и ход из Беловодья окончательно закрылся. На стене появился Учитель Елизарий. К крепости подъехал исправник Сумароков и переметчик Авраам в ветхой одежде, старик стариком, с тусклыми, выплаканными глазами. Верхи он сидел неловко, скатившись на один бок, и на ослепительном снегу казался черной вороной, случайно попавшей на гнедую кобыленку. Завидев его, Елизарий справился с волнением и с гневом крикнул сыну:
– А ты, смердящая тля, поди прочь!
– Отец! – воззвал Авраам. – Выслушай меня!
Глава десятая
С того дня, как бежал вор Симагин с отступником Авраамом, Донат находился в строгом затворе в подземной келейке. Его будто забыли, и только разовая скудная выть давала понять, что Доната помнили, не прощали. От затхлого воздуха и постоянных сумерек Донат занемог и заболел глазами, но духу не терял и, как никогда, много молился. Однажды он расслышал небывалый шум наверху и пальбу, дважды сотряслась земля, и монах-прислужник, принесший выть, признался, что на Беловодье сошла беда. И с этими словами он с такой ненавистью посмотрел на Доната, будто тот и принес напасть.
После трапезы Доната вдруг повели наверх, глаза защемило снежным светом. У каменной бабы была оторвана одна титька, из раны сочилась «кровь». Пахло гарью, копоть посеялась на монастырской площади. Донат не успел удивиться, как его торопливо проводили на стену, посадские пугливо отшатнулись от него, как от прокаженного. Он остался один на один с Учителем Елизарием. Где-то невдали, наверное на звоннице, кто-то звонко и бранчливо кричал, насылал проклятья. К бойницам приникли осажденные с мелким оружием, сыпали на полки порох, краем уха слушали брань. Дощатый козырек закрывал от взгляда остров, а глянуть в прорезь стены Донат отчего-то не решался. Впервые Донат оказался возле Елизария и рассматривал его с особой жадностью, как бы считывал всего. У Елизария была поясная, тусклого серебра борода и широкие, сочные губы, слегка приоткрытые, откуда светилась крупная зернь молодых зубов. «Такому человеку и жить несчитанно», – подумал Донат, любя Елизария пуще, чем родного отца. Елизарий уловил откровенный, чистый взгляд и слегка просветлел ликом, слабо улыбнулся. Они постояли молча, примериваясь друг к другу, ростом вровень, крепко сшитые. Потом, также ни слова, ни полслова, поднялись на звонницу, откуда собачился невидимый человек. На глядене, широком бревенчатом выступе с укосинами для упора, мостился апостол Геннадий и вопил вниз; голос его дробился в срубе и невнятно, с вороньим карканьем и подвываньем утекал в луга. В левом углу стоял старинный мушкет, Елизарий сначала пугливо коснулся его, потом перемог себя и насыпал пороху в ствол, забил пыж. Донат, недоумевая, следил за Учителем.
– Туда гляди-то, – промычал Елизарий и кивнул на старца.
Когда Донат отвернулся, Елизарий сунул в рот свинцовый окатыш и стал торопливо жевать его. Донат высунулся и увидал у дальней проточины чужие станы, множество оружного люда, костровые дымы; две пушчонки, задрав поганые рыла, увязли невдали, возле них возилась прислуга. Под самой же стеной препирались двое конных чужаков. Авраама, несмотря на зачумленный вид того, Донат признал сразу, а когда разглядел и второго, чинно откинувшегося в седле, в богатой бекеше с оторочкою и смушковой папахе с алым донцем, у скитальца потемнело в глазах. «Возможно ли такое на свете, чтобы через многие тысячи верст, в самом тайном схороне, этот серый волчина снова настиг; вон куражится, сытый и теплый, злодей злодеем, – уже с каким-то страхом разглядывал Донат Сумарокова. – Не оборотень ли то? Не сам ли антихрист вживе?» Донату вдруг захотелось спрятаться, чтобы волчина с лобастым лицом вдруг не нашарил его холодным взглядом. А тот, поигрывая плетью со свинцовым оголовком, кричал насмешливо, с наигранной злобой:
– Ежели государю не покоритесь, я с вас шкуру спущу. Что головы-то задрали, бестолочи! Пора и в толк войти: никуда вам от меня не деться. Может, крови хотите?
Прежде-то Донат немедля вскричал бы: «Хотим крови твоей, барин. Люто хотим!» Но нынче только желваками сыграл и смолчал, поискал глазами: а где Симагин-то? Его время приспело. Не он ли хотел кровью залиться, чтоб красные цветы на том месте проросли.
Елизарий на глядень не вышел. У него душа почернела от горя. Нажеванную пульку он забил в мушкет, так же тихо и скорбно поставил его в угол и лестницей спустился вниз. Апостол Геннадий собачился не переставая: он всех пережил, он две чужие жизни заел, но пороху у него хватало, и голова не кружилась от крика.
– Если бы схотели крови, злодей, то враз бы вас положили. У нас только молодых парней в самом соку почитай семьсот душ да разовых мужиков с полтыщи. Какое войско-то, а? Чуешь? И все к охоте свычны и ружья из рук не выронят. Только грех великий кровя лить, а вы нас к чему понуждаете? По сговору в слове не стоите, правды не помните, не боитесь Бога! Мы дарим вас златом и серебром дважды и трижды и не можем вас умилостивить. Но нынче станем вас дарить чем ни попадя.
Старец вдруг замолчал и неожиданно свистящим шепотом сказал Донату:
– Бог тебя послал, сынок. У нас обет. Мы кровь-то прольем – нас небо не пустит... Гляди пуще, сынок, вон два злодея. Один другого не перевесит. Один службу правит, да и на него сыщется управа. А второй-то переметчик, июда, с него спросить надо. Спаси нас, сынок, возьми грех на душу.
Донат не успел ответить, как Авраам, досель молчавший, завопил, прикусывая слова, как будто не хватало ему дыхания иль так спеклось от надсады, что воздух спирал глотку:
– Братуш-ки... а бра-туш-ки!
– Басурман тебе братец, грязная свинья, – не сдержался старец.
– Братуш-ки! Не лейте крови! Я вам благо принес. Отворяйте ворота. Пошире отворяйте, понесем благо! Заждались вас, слышите? Я с Руси нынь, там заждались вас!
– Спаси нас, сынок, – нашептывал старец, все так же стоя спиной к Донату. Под рясою высоко выпирал горб, он шевелился при каждом слове и казался живой накрытой головою. – Июде осиновый кол надо. А где он? Сыщи его да и забей в черную глотку, чтоб заперло ее.
– Да где я возьму кол-то? – словно в бреду, ответил Донат, не слыша своего голоса.
В горле у него пересохло. Он не чуял морозного пара и был как в жару. Донат часто сбивал скуфейку на затылок и тыльной стороной ладони вытирал лоб от испарины.
«Господи, – взмолился в отчаянии, – за что же меня пагуба неотступно изводит? Где мне сыскать покоя?» Он спустился на колени, подбородком касаясь порожка, на котором, скособочась, торчал старец. Меж кривых ног его, обутых в калишки, Донат упорно разглядывал маячивших казаков, потом, как сонный, протянул руку за мушкетом и, не глядя на него, лишь чуя стылую тяжесть оружия, просунул его меж старческих ног. Двое плясали перед дулом, и, худо соображая помутившимся разумом, Донат водил ружьем меж ними и шептал: «Вот и встренулись, байбак. Вот и столкнулись, раздевулье. А нынче не разбежимся. Лоб в лоб...»
Каурая лошадь, будто бы слыша тревогу, изгибалась под исправником, уросила, пыталась унести седока к ложбине, где паслись стреноженные лошади под приглядом ездового. В табуне было бы спокойнее: там, в общем лошажьем стаде, наступало чувство истинной вольной жизни. А тут человек над нею кобенился, мял стременами бока, рвал нежные загубья железной настывшей закуской, от которой выступала розовая от крови пена. Каурая кобылица тревожно всхрапнула и вдруг заржала с той тоскою, от которой у суеверного человека сердце переворачивается в груди.
– Замри, зараза, – в сердцах воскликнул исправник. – А ну, кончай, старик, канитель да отворяй ворота. Ты слышал разумные речи? Воленс-ноленс, зря испытываете мое терпение. Вот я пошлю своих ребят за розгами, пусть готовят побольше да посвежей.
Старец неожиданно заробел, задвигал калишками, занервничал, левой стоптанной пяткой ударил по мушкету. И Донат торопливо выстрелил. Прикладом ударило в плечо, и Донат завалился на бок не столько от тычка, сколько от ужаса. За стеною затравленно всхрапнули, пулька вошла иноку Аврааму в лоб и сразу пресекла жизнь. И заполошным, перекатывающимся криком ужаса отозвалась ответно крепостная стена. «Человека уби-ли, бра-та уби-ли, ию-ду уби-ли-и...»
Лошадь понесла в сторону, увязая в забоях, и переметчик, застрявший ногою в стремени, волочился по снегам, покрывался белыми морозными пеленами, сейчас похожий на громадную чучалку[96] , обшитую домотканым полотном. Сумароков спохватился, поскакал в станы, часто оглядываясь на городище, там скоро зашевелились, погнали табун к ви?ске, где были пробиты майны.
Старец Геннадий, забыв Доната, торжествующе смеялся, медленно уходя лестницей. Донат так и оставался на полу, опершись затылком о замерзшие дерева, и тупо глядел, как медленно, неторопливо исчезал в провале старец; и когда скрылась черная скуфейка, Донат длинно застонал и торопливо выглянул наружу. Лошадь забилась в снега и сейчас, тупо полуобернувшись, разглядывала седока, наполовину утонувшего в заносе. Потом набежали казаки и, не снимая Авраама, увели лошадь. Инока с головою запихнули в рогозный куль, вервью завязали у щиколоток и подвесили за сук ближнего дерева, чтобы ночью не заели звери.
Вот и пролилась кровь, но отпустило ли душу Доната? Он прислушался к себе и ничего не почувствовал, кроме пустоты в теле и мертвого, больного гула в висках. Если весь народ представить как великанское ветвистое дерево и ежели отпал вдруг еще живой сук под секирою дровосека, то отозвалась ли эта боль в великане и в каждом его суке? Донат, не глядя на людей, прошел посадом за монастырские ворота и опустился к себе в келейку с намерением лечь спать. В своей келье молился Елизарий по убиенному сыну. Зубы болели от жеваного свинца, и запах его не давал сосредоточиться на молитве. Городище встревоженно гудело, посельщики семьями тянулись в монастырь, заполняли просторную церковь, где с амвона читал проповедь апостол Геннадий. Лицо кривого апостола было багровым и мокрым, горб возвышался над теменем, и старец казался двухголовым. Он рисовал картины грядущих ужасов с такою страстью, что горение сообща, это огненное страдание, уже виделось праздником. Более слабые духом успокаивали себя тем, что все еще обойдется, но, однако, невольно обшаривали взглядом высокие стены, обнесенные толстыми лиственничными ряжами, примерялись к узким продухам и крохотным зарешеченным оконницам. Но они оказались настолько малы для взрослого мирянина и столь далеки от земли, что вселяли еще большее уныние. Многие же пели псалмы и криком взбодряли себя к кончине; иные уже с неделю постились, и чистая утроба принимала предстоящее испытание с веселием и нетерпением. Да и то говорится: на миру и смерть красна.
А команда тем временем сметала сенные копны на сани и, толкая возы пред собой и прикрываясь ими, начала приступать к посаду, кучно и часто паля из винтовок. Осада шла по всем законам военного искусства, и Сумароков, потрясая сабелькой и нимало не боясь смерти, гарцевал перед казаками, рискуя попасть под свою же пулю. Выстрелом из пушки подожгли крайнюю избу посада, она загорелась бездымно и ярко длинным узким пламенем. Казаки тем временем приставили лестницы, влезли на стену, но по ним никто не стрелял, никто не метал каменья и не поливал кипящей смолою. Спокойно открыли ворота, исправник со своим войском вступил в пустынное Беловодье. Ни души в посаде, ни живого человечьего голоса, никто не встречал победителя хлебом-солью и восторженными криками, и лишь собаки, сбившись в стаю, тоскливо выли возле запертых монастырских ворот, из-за которых доносилось мерное пенье.
В земляной норе в проклятой пустыне, где обитали призраки и ночами кружили волки, Симагину скоро надоело сидеть. По всем признакам приближался день его давно-жданного торжества, но отчего-то никто не являлся за ним, чтобы открыть народу истинного бога, никто не шел с покаянием и мольбою, не докучал просьбами и угрозами, и бог без своей паствы захирел, потерял волю и впал в скорбь. Он не мог, не умел жить в одиночестве, ничего не сокрушая и не возмущая, одиночество убивало Симагина, сны навещали один страшнее другого, и от жутких ночных видений сердце покрывалось ржавчиной. Порою он беспричинно вздрагивал, чутко ловя каждый посторонний шорох, начинал ползать по сиротской келейке, отыскивая приметы чужого быванья, и тогда от заполошного внезапного страха невыносимо болела грудь. Симагин затапливал печурку и возле живого огня постепенно приходил в себя, порою плакал и жалел себя. Тогда он сам себе казался маленьким, слабым и несчастным; срываясь до безумного крику, он клял свою судьбу и всем заскорбевшим, измытаренным телом хотел долгого покоя и ровного тепла. Симагину представлялось, что он по-прежнему в Соловецкой яме и не было для него долгих лет жизни и всяческих перемен, а блуждания по земле и страдания лишь приснились. Утром Симагин вытягивался из келейки и вместе с ночными страданиями стряхивал страхи: ослепительно белые снега и голубовато-призрачные извивы гор приводили его в торжественное состояние. Он садился на порожек, и ему грезились великие перемены на земле, которые проистекали сейчас без его живейшего участия: спешат в престольную послания с иных государств, скачут гонцы со всех сторон света с единой просьбой к Симагину встать на трон и править людишками. Бывший княжеский повар на престоле – это ли не картинка? От одной лишь мысли запрудит дыханье. Но нет, он, пожалуй, всем откажет в докучных просьбах и лишь с великой охотою просветит, как жить далее; и там, где допрежь Симагина правили уныние и бедность, отныне поселятся вечный праздник и веселие.
Дни шли, но никто не вызволял Симагина из заточения. И однажды ожгло подозрением: а не сыграл ли инок Авраам лихую шутку с ним? И верно, куда денешься из логова? Куда держать путь, окромя Беловодья? К кому пристать за подмогой? Едино разве что взмолиться Богу и шить гроб себе, пока есть силенки и кормовой припас; а после возлечь, принакрыться крышею, скласть руки на груди, затворить очи да и в путь.
«Нет-нет! Меня такого земля не примет. Я же небесный посланник!» Вся натура Симагина возмутилась и восстала от одной лишь мысли, что и ему придется помирать, остаться одному в тесовой домовине. «Но не могу же я уйти в землю, коли я Богоданный! Мне вознестись надо, вознестись... Коли Христос вознесся, то я чем хуже его?»
Однажды потревожив, эта мысль уже не оставляла Симагина в его длинные сиротские дни. «Если и ушел Авраам в Русь, то нет ему обратного ходу, неча ждать освободителя. Горяч исправник Сумароков, известна его скорая рука; не поверит бродяге в его глупом вымысле, но сунет беспачпортного в кутузку, хорошенько выходит плетьми, да с тем дело и кончится. Самому надо попадать назад в обетованную землю, вершить там правый суд. Коли просто явлюсь в Беловодье, дескать, здорово-те, добрые люди, я явился, то заточат они меня за измену, язык вырвут, иль изведут мором каким, иль, того хуже, лишат памяти и вышлют за пределы. Но если распятым увидят меня однажды на рассвете, то неужели не сымут с креста, и тело мое не внесут на руках в городище, и не воспоют хвалу? Неуж так очерствели души их?»
Воистину самовлюбленное сердце наивно и жестоко. Наслал Симагин несчастие на Беловодье, а уж забыл про то и неожиданное возвращение свое почитал за благо.
Ежели надобно за врагов молиться, как за друзей, так почто же клянем мы их на каждой росстани, насылаем хулу, кару, огонь и меч? Как слабо, податливо, похотливо человечье сердце, течет оно подобно ярому воску и не может совладать со страстями. Ведь так мечталось убить злыдня, кровь пролить, чтобы залился, захлебнулся оборотень ею. Своей рукою пресек ты чужую жизнь, но полегчало ли тебе, Донат Калинов? Пришла, ой пришла пора вспомнить, чьего ты рода. Не юноша ты уже, но муж, тридцать три тебе. Решился, поднял руку, злыдень, не сам отправился на муки, но другого искоренил, подсек невозвратно. Кто ты, Донат Богошков? Судия? Воинский начальник на поле брани?.. У них, значит, обет, им кровь чужую нельзя проливать, их небо тогда не пустит. А меня пустит? С первой же ступеньки сопнут меня, как отпетого злыдня, и лететь мне прямиком в кипящий котел.
... Но ты хотел спытать лишь, ты хотел, чтобы это случилось как бы незаправду, понарошке, как во снах. Во скольких снах ты догонял Сумарокова и убивал его всяческим образом, а он вновь оживал. И ты новое мщенье замысливал, и тешился местью каждый раз, и праздновал пир. Хоть раз вскричал ли ты во сне от ужаса, когда пал твой враг? Сделалось ли тебе страшно от одной лишь мысли, что обратно не повернуть события? Нет, ты готов был еще сто раз убить его. А днем он воскресал и принимался тебя преследовать, и ты понимал, что это был сон, и радовался, и жалел, что это только сон. И вот наяву случилось мщенье, но не оборотень пал, а вовсе чужой тебе человек. Скатился по подсказке. Закоим бежал он прочь из Беловодья? Пошто не хватило ему этой сытой жизни? Какой еще такой особой жизни нужно было ему, несчастному Аврааму, что он решился на отступничество и родной отец проклял его.
... Отец! Был ли ты когда наяву или приснился только, и вот век свой я одинокий живу, сиротея, неприжаленный-неприголубленный, безматний и безотний. Пропала, отец, твоя наука за давностью лет без подновления. Не хватило ее для моей убогой души. Это я, байбак, ни семьи у меня, ни потомства, засохлый корень, прожил, как не был, никто не помянет, не всплакнет. Вот нынче помру, батяня, и кончится наш род. Выходит, предал я тебя, глубоко предал, и маешься ты, поди, в могилке. Сказывали сотоварищи, воротившиеся с промыслу: с легким сердцем, всех прощая и всем даруя благо, сошел ты в могилу на голом каменном острову. Да и какая там могила? Ни домовины, ни лядащего гробишки тесового. Обложили поморяне тело кормщика своего камением, чтоб псец не растащил, крест в изножье поставили из плавника да с тем и отплыли. Выбрал же, татушко, место вечного успокоения, где редко кому приведется быть, разве случайный промысел занесет на остров Богошкова. Отныне в Помезенье так и говорят: это тамотки случилось, возле земли Богошкова Калины. Истомился ты, видать, татушко, не лежится тебе в могилке. Чую, не раз и не два кликал ты меня, дозывался, и сердце мое ворочается словно кот в мешке. Нажился я, татушко. Вот и ко мне смерть спешит на перекладных, летит сестра нареченная, так что скоро свидеться нам. Но и там тебе сиротеть и горе мое не размыкать, свою печаль не развеять. Ты будешь у края пропасти, а на дне пропасти той в смоляном котле мне корчи уготованы. Ах, батюшко, как увидишь меня в корчах, так шибко не плачь, не убивайся. Пустую жизнь я прожил да к чертям на расправу и полечу-у-у...
Донат не заметил, что уже давно вслух говорит, печалится со слезами на глазах. Последнее слово протянулось с какой-то странной радостью, словно лишь этого часа и дожидался Донат. Так долго топтал, мял дорогу, скрывался в бегах и был пойман, бит и корежен, чтобы в благословенном месте вдруг кончиться огненным страданием. Судьба пытала скитальца и подвела к той крайней черте, когда и сам-то человек был подобен костру.
Вдруг в келейку украдчиво постучались, скорее поскреблись. Донат вспрянул, будто застали его в чем-то непотребном, слезы смахнул рукавом. Совсем не по-апостольски, странно пятясь спиною и проглядывая весь сумрачный коридор, вошел Учитель Елизарий.
Он вошел и встал как перед наказанием. Он был кроток, чист лицом, желтовато-скорбным, иссеченным морщинами и долгим постным бываньем. Он стоял у порога, понурив голову, и ждал наказанья. Донат молчал в переднем углу, с раскрытым складеньком у груди, словно давал благословенье. Иль медным трехстворчатым складеньком он защищался сейчас, боялся отцовой мести? Сына ведь убил. Какой ни худой, но сын, не воскреснет, не восстанет, не сойдет с небес, и в мучительный, страдательный час его не будет возле хоть в мыслях.
– Ты прости меня, отец, – боязливо сказал Донат и опустился на колени, покорно склонив голову. – Сам в толк не возьму, как все приключилось. Будто черт в руку толкнул. Вот возьми меч и сруби мою голову.
Но Елизарий поднес Донату нагрудный крест к целованию и сказал:
– Я ведь проститься пришел с тобою...
– Как проститься? – изумленно воскликнул Донат, но Елизарий властным жестом пресек дальнейшие слова.
– Ты шибко не переживай, сынок. Это тебе зачтется как доброе дело. Тебе, как за змею убитую, сорок грехов зачтется. Это я сукин сын. Я шатнулся духом, и все разом пало. С меня и за сына спросится, не с тебя. Скажут: как, мол, допустил ты, чтобы из твоей утробы змей вырос? Знать, и во мне змееныш таился, а я и не чуял. Ты молчи!
Доната ожгло внезапной радостью, но он устыдился ее и вскричал торопливо:
– Я с вами, отец!
– Нет, нет... Поди в мир, сын, и живи...
– Я с вами остануся... – стоял на своем Донат, но желание жить помимо воли спирало грудь и, наверное, отражалось в просветлевших глазах, потому что Учитель зорко поймал радость в лице скитальца и слегка огорчился неожиданно для себя. «Слаб человек, – подумал он, – не устоит. Зачем припирать его нуждою?»
– Зачем с нами? – сказал Елизарий вслух. – Ты счастливо не живал, за что тебе страдать? Мы-то за счастье свое долгое откупаемся. Сами на себя и наслали грозу... Поди, Донат, в мир, неси слово. Говори всем: было Беловодье, да сгибло. Так и говори: сгибло, пало от неверия, от чумы и сатаны, от фармазона и гордыни. Но было и вновь явится. Только наруже выгорело, а все прочее за пеленою. Пусть каждый сам себе построит Беловодье. Не надо шататься по Руси, от пустого шатанья земля меркнет, как старая дева. Так и внушай: стройте Беловодье каждый в своей земле, не искушайтесь чужим счастьем. Своя земля и в горсти мила. Душу устраивайте в братней любви, любите всех. – Елизарий на миг замялся и досказал с прежней твердостью в голосе: – Я спроважу тебя до мертвой горки. Там на кладбище в келейке уже все занаряжено: шубняк, пимы, кережка с кладью, лыжи, еда. Вот тебе и матка[97] , дойдешь. А ежели случится помирать в горести, то и тогда вспомяни нас. Я к тебе и явлюся, поддержу. Слышишь, сынок?
– Нет, нет... Я с вами, отец! Куда деваться мне, подскажите? Везде настигнут. – И вдруг признался, сам себя презирая за сердечную слабину: – Невмочно мне. Тоска по родине гнетет. А туда ход закрыт. Закрыт ход-то, отец. Хоть бы одним глазком... – Донат не удержался и по-младенчески открыто всхлипнул. – Думал, хоть у вас дом...
– Экой ты, право... Сколькой тебе год-от? – спросил Елизарий, изумясь...
– Тридцать три...
– Ступай в мир и живи. Светлые души нужны там. Пространна Русь, и есть куда деться. И пусть твоя изба станет оплотом новому Беловодью.
«Христу легше: нашлись люди, схватили, распяли. А где мне сыскать злодеев, у коих руки бы чесались по расправе?» Эта мысль несколько озадачила Симагина, и он возвращался в Беловодье, так ни к чему окончательному и не решившись. Он приблизился к посаду где-то после полуночи; при ясной луне Беловодье показалось мертвым, покинутым городищем. Симагин и не догадывался о напасти, свалившейся на людей по его, Симагина, милости, он и не подозревал, что вчера кончилось двухсотлетнее мужицкое царство, может, единственное на всем белом свете, и две тысячи пятьсот шестьдесят один насельник заперся в монастыре...
Симагин подошел к ви?ске, над которой чернел поднятый на зиму мост. Дорога была удивительно торна, будто наминали снег многие сотни людей иль надолго задерживались здесь станом. На крайнем дереве близ берега грузно висел мешок, заиндевелый, голубовато искрящийся под луной. Симагин предположил, что это рыба из вчерашнего улова, и нестерпимо захотел есть. Но он пересилил себя: к задуманному надо было приступать с чистою утробой, чтобы она не отягощала душу. Симагин и не знал, что в дерюжном мешке покоится переметчик Авраам, соблазненный его посулами. Он давно уже превратился в кусок льда.
Лыжи сами несли Симагина. Он был ровно во сне, мало что видя вокруг себя. Он три раза кружил вокруг крепостной стены, так и не решившись приступить к воротам и постучаться. Прежняя зоркость отказала скитальцу, иначе самоявленный бог заметил бы, как необычно натоптан снег, как пахнет конской мочой, пороховой гарью и дымом свежего пожарища; не укрылся бы от взгляда и табунок понурых заиндевелых лошадей. Луна все открывала, выпячивала в особом сонном, безмятежном, но почти неживом виде. Симагин уж который раз миновал полузанесенный крест из лиственничных плах с двускатной тесовой крышей, где когда-то случилось иноку Питириму виденье и где похоронен он был. Крест в зиму да под луной был не столь завиден, почти убог и потому не задерживал внимания. Тем более что в мыслях Симагин возносился куда как высоко; ему хотелось висеть на таком кресте, чтобы люди под ним казались ничтожными тварями и могли едва бы дотянуться до его ступней, чтобы поцеловать их. Но подкатывало утро, над гольцами уже небо сдвинулось, замаревило, луна отдалилась, подсвечивала робко, сквозь мутные пелены. Мороз крепчал, и каждый выстрел его гулко отдавался в тайге. А может Симагин потому и медлил, что подгадывал утра, когда рассветет и петухи отобьют зорю, а мужик слезет с печи, перекрестит рот и выйдет на двор по первой нужде, запряжет лошадь, выгадывая пораньше тронуться в дорогу. И крепостная стража, догадавшись очнуться, тоже вылезет на стену, окинет взглядом безмятежные просторы и тут, заметив висящего Симагина, подымет крик и ор, и тогда все Беловодье высыплет из посада и будет стенать и причитать; снимут Симагина с креста и внесут на руках в Учителев дом... «А так что, в темени приневолишь себя, вздернешь, а там и окочуриться недолго», – хитрил Симагин. И вот снега порозовели, начали вспухать, как забродившее тесто. Симагин скинул из-за плеч суму, достал загодя припасенные кожаные ремни...
В крепости в тепле спали намаянные за последние дни казаки, и сторо?жа забылась вдруг, сраженная утренней дремотой, и ежели захотелось бы вдруг беловодцам повязать команду, ни один бы из осадников не всполошился бы и не ушел: коли? волков, вяжи, пори – ни звука, сонное царство. Сами же насельники в молитвах перемогали ночь, устраивали душу. Знать бы про то скитальцу, он бы еще помедлил да и сдался бы Сумарокову на милость. Но розовые перья пошли по восточному небу, и Симагин заторопился, сбросил с плеч сермягу, стоптал под ноги рясу, остался в одном исподнем. Примерился спиною ко кресту, не чуя стылого дерева; тело креста ладно прилегло к спине, будто бы в нем была вырублена ложбинка. Приготовил ремни для ног и рук, связал петли, приладился – выходило подходяще. Сначала закрепил на перекладине левую руку, затянул потуже, боялся свалиться с креста и опозориться. Потом вторую руку просунул в ременную удавку, подпрыгнул и обе ноги запустил в путы; они сами собой приоттянули Симагина в снег и затянулись мертвой хваткой. Симагин по щиколотки оказался в снегу, подергался слегка, стараясь приподняться, но не удалось. И подумал с тщеславным удовлетворением: «Ну и ладно, ну и больно хорошо». Поначалу от волнения было парко, не чуялось мороза. Но скоро рубаха встала колом, бронею оковало шкуру, мороз прохватил каждую жилку, пробил страдальца насквозь. Но Симагин крепился, не кричал, не молил о помощи, он умел преодолевать страдания и этим весьма гордился. И все же он с надеждою взирал на крепость, откуда должны были явиться поклонники. Ресницы смерзлись, заиндевели, сквозь ледяную навесь стало больно смотреть, и Симагин однажды закрыл на мгновение стылые глаза, погружаясь в сладкую дрему. Но тут же опомнился и пожалел, что забылся. Он хотел было взглянуть на Беловодье, ясно проступившее в рассвете, и с трудом, с неожиданным криком и болью разодрал спекшиеся веки. «Не спать, не спать», – внушал Симагин себе, уже торопя спасителей. Забытье наступало волнами, Симагин куда-то проваливался, плыл по сияющей легкой реке среди цветущего луга: заливало солнце, и пели птицы с жемчужными крыльями и алыми грудками. Симагин догадывался, что он в раю, но, пугаясь встречи с Богом, спохватывался и возвращал себя на землю.
В эти минуты забытья ему было так истомно, так сладко, что он уже не хотел возвращаться в стылое, накаленное стужею утро неизвестной страны, именуемой Беловодье. Где оно было, в каких местах скрывалось, он так и не догадался. Однажды краем последнего сознания он уловил, как беззвучно, медленно распахнулись ворота, оттуда выбежали оружные люди в высоких бараньих шапках, совсем чужого, незнакомого вида. Они спешили к Симагину, почти не касаясь снегов, вернее, летели над ними и размахивали тонкими слепящими сабельками. Еще решил Симагин, что это черти, посланники сатаны, примчались отбивать его из рая, и пожалел, что не скончался ранее...
Казаки саблей разрубили путы, небрежно взвалили на плечи мерзлое тело и потащили его в крепость, как старое сухостойное дерево, годное лишь для ночного кострища.
Народ грудился на площади, занятый собою, и слабеющему Симагину горестно было видеть, что никто не вызволяет из беды их бога. Но вот кто-то смилостивился, метнул аркан на шею Симагина и стал не то душить его, не то тянуть обратно на землю, а толпа подхватилась на помощь, шутовски смеясь над страдальцем.
Не знал Симагин, что еще раз его отымут у смерти, ототрут, отходят, отпарят и после долгого дознания отправят в каторгу, где он и кончит последние свои дни.
Глава одиннадцатая
Протопоп Мисаил отказал исправнику в благословении: я, дескать, спосылан увещевать, а не оружьем понуждать к смирению. И даже осмелился пригрозить Сумарокову жалобой в Синод. Но Сумароков оставил угрозу Мисаила без внимания и отдал команду брать монастырь приступом. Но осады не потребовалось. Дюжина казаков свободно перебралась по ту сторону стены, распахнули ворота. Отряд обступил церковь, попробовали взломать врата, но безуспешно: окованная железными листами дверь лишь вздрагивала, подкрепленная изнутри бревенчатым щитом. С досады такой решились топорами просечь стены, но и тут отступились, – топор не брал дерево, отскакивал. Да коли и пробились бы случаем, так счастия бы мало поимели: изнутри всей церкви была срублена вторая стена, а пространство заполнено камением и землею. И тогда, видя неуспех сего предприятия, пушки подняли на монастырскую стену прямь церкви и принялись палить с короткой дистанции, пытаясь пробить брешь и кокотами выволочить упорствующих в своем безумии, но и ядра не принесли видимого вреда последнему прибежищу беловодцев. И когда смолкла на время стрельба, из церкви послышалось мерное, тягучее пение, от которого у казаков на душе сделалось дурно...
Целую неделю иные без пищи и сна, иные в последние два дня ни хлеба, ни воды не вкушали, каялись чистым покаянием, готовились на смерть единодушно. Набилось в церковь народу, как в удачливый невод сельди; воздух сюда худо поступал, и потому задыхались беловодцы, особенно старые годами, а прилечь чтобы и растянуть онемевшие члены, места не хватало; да так и кончались страдальцы. И умерший стоял прижатый к живому и сам ровно живой, но только заколелый, негнучий, как снулая рыба, и безгласный. Двенадцать апостолов не сходили с амвона, восседали на длинной скамье, устланной самоткаными коврами, и читали проповеди вслух, сменяя друг друга. Но мало кто из страдальцев слышал молитвенные слова, ибо каждый был погружен в себя.
И дети малые стояли, прильнувши головенками к молодым еще, плоским и мало рожавшим животам яснолицых матерей, и раскосые туземные глазенки их светились, однако, тем упорством и любопытством, кои отличают истинную русскую натуру; и отроки в этом заточении выглядели куда терпеливее родителей своих, ибо вся затея казалась им лишь игрою, в коей проверялись накопленная сила и воля.
А младенцы, ничего не чуя и не понимая, висели под грудями матерей, привязанные натуго платками, и обнаженная грудь с набухшим соском, откуда капало молоко на лицо спящего младенца, здесь не казалась бесстыдною, да и некому было глядеть на соседку, и ничей прельстительный взгляд не тревожил уснувшего тела погруженной в себя женщины.
А молодые парни, в самом соку молодцы, стояли прижатые к своим избранным, соприкасаясь всеми членами, и дыхания их, тревожные и любопытные, сливались в одно; и затуманенные взгляды встречались и гасли, никли в стыдливо опущенных глазах; и грешили они, не греша, и любили, не любя, воспламенялись, и замирали, и вновь вспыхивали, чтобы потухнуть в объятиях. И непорочной была эта любовь, и сквозь сермягу проливалось, прожигало тепло невинного девичьего тела, согревало и обнадеживало, и грядущая смерть отступала, как бред очнувшегося от сна человека. В груди жила любовь, а спину холодило тело уже скончавшегося старца, и не понять было, отчего так стыдливо лопаткам и шее, будто их обложили свежей глиной.
И так колыхались беловодцы единою массою, мешая дыхания, и последний поцелуй доставался невинному, во влажной испарине лбу; тысячеголовое тело если бы и захотело вдруг расплестись и пасть, расползтись по церкви иль запроситься вон на милость врагу, то и тогда бы не смогло, повязанное кореньями родства, любви и единой совести. Не гибели оно хотело, но внезапного ухода через огонь и нового возвращения...
Протопоп Мисаил выпускался Духовной академией. Он был любопытным человеком и хорошо знал историю раскола. Ему памятны были жаркие костры в никоновские времена, когда горели староверы по всему Русскому Северу и не нашлось силы, способной пресечь, остановить гонимых в их суровом желании. Эти же, скрытники неведомой ему веры, тоже заперлись в своем храме, упорствуют, не едят, не пьют и, знать, готовы к самосожженью. Сколько сотен народу сгрудилось там, и как надо верить в своего Бога, чтобы оставить благополучную жизнь, все нажитое и пойти на несравненное страданье. Мисаил подумал о том явственно, содрогнулся – меж лопатками скользнул холод. Протопоп вдруг поставил себя на место беловодцев и понял, что он бы не решился на подобное. Значит, он предал Бога Единого? Ему стало стыдно чего-то, словно его уличили в измене, и он поспешил разыскать исправника. Мисаил смутно догадывался, что костра не избежать; лишь уход казачьей команды из земли, именуемой Беловодье, мог спасти сей замкнувшийся народ. Уйти надо, уйти, и нынче же, прежде заката солнца. Ежели случится худо и слух дойдет до государя, а этого не избежать, то и Сумарокову, и ему, Мисаилу, не сносить голов.
О том сетовал Мисаил, поспешая за исправником и подметая рясой снега. Сумароков же заломил шапку и слышать не хотел об уступках. Правда, отдал команду погодить, не стрелять более, сказал, что от пальбы у него заломило в ушах. Но сейчас мерно, кругами истаптывал монастырскую площадь напротив Учителева дома и походя гладил меховой рукавицей груди исполинских каменных чудовищ, сметал с покатостей снежную пудру. Языческие истуканши увязали в забоях, почти касаясь грудями острых заструг, и тощий, невысоконький Сумароков казался им ровнею. Исправнику нравились эти бабы, пожалуй, более, чем золотой шатер церкви, и он не прочь бы был перевезти их во двор своего дома в Березов. Совсем не к месту его навещали скабрезные мысли. Сумароков несколько раз пытался плечом присдвинуть одну из голых королев, ту самую, с оторванной титькой; из зияющей раны все еще сочилась, не замерзая, «кровь». Сумарокова переселило любопытство: он мазнул краску пальцем и попробовал на язык. Руда отдавала ржавчиной и показалась ему ненатуральной. Много на свете невероятностей, но это чудо, пожалуй, перевесило бы все. Гостям бы показать эту туземную штуку, воленс-ноленс, непременно посходили бы с ума.
– Слушай, поп! Не хотел ли бы ты этакую жирную бабищу засунуть к себе в постель? – вдруг сказал Сумароков с издевательской усмешкою.
Он ожидал, что Мисаил заплюется, зафукает, но тот усталой безнадежностью во взоре оглядел исправника и спокойно ответил:
– Господин исправник, я умываю руки.
Но Сумароков хорошо понял тайный ход мыслей протопопа.
– Подсидеть захотели-с, голубчик, ась? Не удастся. Кто здесь властелин? Я государь, я-а. – Он торжествующе рассмеялся, презрительно-холодным взглядом сверля Мисаила. – Коли что я захочу, то непременно и исполню, голубчик-с. Вот давеча я послал двух казаков резать березовых прутьев для порки, так прикажу и вас посечь. За грубость вашу розги пойдут непременно в науку-с.
Но отец Мисаил и тут не смутился, не вскричал, но спокойно ответствовал:
– Лучше бы тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Но пока подите, Сумароков, и взгляните на того, кто восхотел однажды стать богом и что с того приключилось. Тот самый шпиен, беглый раб Симагин лежит в холодных сенях пропадиною. Он распяться захотел, глупец!
Елизарий сидел прямо, слегка запрокинув лицо в сумрачный купол, и широко распахнутые глаза лучились тем светом, который пробуждает необъяснимую надежду даже в самом потухшем и слабом сердце. Вот что всечасно нужно народу пуще всего – негаснущая надежда; тогда и пламя костра, уже лизнувшее затосковавшие ступни, покажется лишь сном. Порой Елизарий переводил взгляд на братию и посестрию. Он всех их любил и жалел, он каждому желал долгой земной жизни, но, сам уже безвольный и расслабленный от мучительных размышлений, Елизарий с каким-то непонятным упорством вел свою паству на костер, исполняя чужое желание. Неужели воля апостола Геннадия была сильнее воли Учителя? И не черной монашьей сторо?жи, устало сутулящейся у царских врат, пугался сейчас слитый в единое народ, недавно еще свободный и счастливый. Но не захотел коли пролить чужой крови, то пролей свою, ежели будущая неволя страшнее смерти. Мало кто из монастырской братии неудержимо хотел гореть, многие бы, наверное, подались в дальние скиты, затерялись в тундрах и таежных урочищах – и вместе с тем все Беловодье шло на добровольный костер. Какой такой ужас ожидал впереди, куда более страшный, чем яркое пламя? Это был страх несвободы.
Десятки свечей горели вдоль стен, и сальный чад, запах пота, голода и усталости были бы невыносимы иному свежему человеку. Но страдальцы притерпелись, отупели, худо соображали, паморока овладела всеми. Пасть бы кто захотел, иль откинуться головою, иль свалиться под ноги, чтоб там навечно уснуть, – но не было той возможности. И вместе с тем молчание овладевало теми, кто еще что-нибудь соображал; ожидание теперь мыслилось куда непереносимее грядущего горения, и беловодцы уже роптали, выражали недовольство, торопили исход. Апостол Геннадий почуял всеобщую готовность к смерти и сказал строго:
– Пора...
Елизарий в знак согласия опустил глаза, воля его кончилась. К чему строили царство свое, употребили столько сил, чтобы в один час своими же руками кончить его? Какой же пример подадим будущим братствам?
Елизарий почувствовал, что сходит с ума. Он будто бы просочился сквозь двойные стены, незаметно проскользнул мимо осады и зарылся в сухие сыпучие снега, подобно горностальке. Он затаился один в звериной норе, со страхом взирая на огонь, метнувшийся в поднебесье. Пламя рванулось вверх и истаяло в небе, оставив на земле лишь широкое зольное пятно. Елизарий встал на пепелище, и ему обожгло ступни. Он вскричал и вернулся разумом в церковь.
И он сказал сам себе с тоскою: «Ну что, Елизарий, невыносимо гибнуть вместе, когда ты предал всех? Грех твой неисчислим, и нет тебе прощения. Казниться тебе и пытать себя мукою веки вечные. Это ты, Елизарий, взрастил Иуду, приветил сатану и с радостью отравлялся его речами. На крови своего народа возмечтал о всеобщем братстве. И неужели не отзовется никак кровь невинных – ты подумал про то? Ты всех обманул, Елизарий: и тех, кто остался с тобою, и тех, кто мечется по Руси в поисках твоей обители. В прах уйдет Беловодье, развеется по ветру гарь, и огнище зарастет кипреем, а после обметает его молодым чащинником, и уже ничто не напомнит случайному пришельцу о свободном посаде. И будет по-прежнему бродить, шататься, скитаться по белу свету отчаявшийся, неприкаянный люд. И позабудет он, как землю пахать, как жен любить и растить детей, но будет вечно искать то, что было когда-то, но чего уже давно нет. И превратятся скитальцы в стаи бродячих гнусных собак, и станут они резать по дорогам кого ни попадя, лишь бы выжить и брести дальше по миру. И станут они всеобщим проклятьем».
И тут старец Геннадий запел: «Сладко мне умереть...» Два монаха вынесли из алтаря загодя припасенную пудовую свечу на особой треноге. Елизарий взял огня от лампадки и возжег свечу.
Секиры с уличной стороны рубили стену глухо, лениво, неурядливо. С такой работой им понадобится год, чтобы вломиться в церковь. Страдальцы же торопили казаков и проклинали их за леность. И вдруг снова все стихло, слышалось лишь потрескивание свечей да прерывистое натужное дыханье слитного народа...
Виновник же сей беды Симагин лежал на лавице в покинутой хозяевами избе. Казаки уже разграбили житье, на всем виделись следы недавнего погрома. Сумароков взглянул на беглого и поразился перемене в обличье. «Бог покарал за измену слову честному», – подумал Сумароков, но не обрадовался поимке ссыльного поселенца. После стольких лет сыска он нашел беспамятного древнего старика с белоснежной головою и грязной, в рыжих пролысинах бородою. Изможденное, сморщенное лицо было обезображено черными трупными пятнами, уши чудовищно распухли, но с тонких губ по-прежнему не сходила язвительная усмешка непобежденной гордыни. Руки на груди скрещены покорно, на запястьях глубокие, вперехлест продавлины с запекшейся струпьями кровью. Сумароков принюхался, но запаха тлена не услышал. «Рано ты, братец, приготовился к смерти, – с презрением смотрел исправник на беглеца. – Лучше бы ты подох, как собака, меньше возни». Сумароковым вдруг овладело наваждение; почудилось, что где-то совсем недавно, может быть нынешним утром, он уже видал похожего человека. Сумароков озадаченно помучился этой мыслью, но вспомнить не мог. Да и кто бы смог нашептать ему, что, как в зеркале, он вдруг разглядел самого себя, каким предстоит ему стать через пятнадцать лет?
– Ну что, скотина, в бега надумал? – вскрикнул Сумароков в лицо беспамятному скитальцу, нарекшему себя богом.
Он подождал ответа, помедлил подле скамьи, ему показалось, что веки Симагина дрогнули. Он даже принагнулся к лицу болезного, подставил ухо, но ничего не разобрал. Исправник с досадою вышел на крыльцо. Казаки грабили посад, их возбужденные голоса метались по городищу. Им хотелось золота и денег, но даже медной полушки не сыскалось в Беловодье. Исправник срывающимся голосом стал гнать свою команду к церкви, а кто медлил, тех охаживал плетью, не глядя.
Пушкарям отдали команду стрелять.
И ударили ядра.
И церковь сотряслась.
И одно из них угодило в слуховое оконце под куполом и, не взорвавшись, пробило амвон возле ног апостола Геннадия, оставив круглую зияющую дыру. И пошел оттуда черный вонючий воздух, и погибельный зрак зловеще засветился в темени подвала. Апостол Геннадий одним оком уставился в провал, вроде бы испрашивал совета. Остальные апостолы сидели ровно, запрокинув лица. Учитель запел: «Тебя ради, Владыко, предаемся огненному сему страданию». Апостол Геннадий оглянулся и взмахнул рукой. Два монаха немедля опрокинули треногу, пламя поползло ровно, украдкою, лизнуло распростершиеся по полу монашьи рясы апостолов. И ни один из них не спохватился, не прянул в испуге, не закричал срывающимся голосом, заглушая утробный страх. Двенадцать апостолов сидели молча, пока пламя подымалось, лизало, вытягивалось, ползло, съедало грубые полотна, пропахшие старостью. Тонкая пелена дыма заслоилась над головами; и тогда поднялись апостолы, осеняя себя крестами. Двенадцать живых костров стояли перед братией и посестрией, и ни один не выказывал боли, хотя кричала, взывала к пощаде их плоть. А царские врата уже занялись яро, огонь пролился дальше, стало жарко, трескуче, невыносимо, когда он обнял ноги беловодцев.
Церковь вспыхнула факелом, осаждающие отпрянули, заслоняя руками лица, заржали лошади, сами собой зазвонили на угловых башнях Беловодья колокола. Исправник стоял недвижно на площади, опершись рукою о бедро каменной истуканши. Губы тряслись на его меловом лице. Кто-то из более решительных, не дожидаясь команды, подбегал к пожарищу и пробовал выхватить кого-нибудь из полымени.
И тут из ниоткуда, из всеобщей тишины, взялся сильный ветер. Пламень словно бы оторвался из черного, прозрачного скелета церкви и улетел в занебесье, а оттуда уже вернулся сотнями красных птиц, и те стали всполошенно метаться по монастырю, подпаляя все на своем пути, потом, не насытившись, кинулись жадно за стены и запалили городище. И все потонуло в огне: и двужирные богатые избы, и кельи, и больничные, и грамотные, и скотские дворы, и швальни, и портные, и чеботные, и мастерские медные и кузнечные, и амбары, и гумна, дворы кониные с сараями и мельницы. Весь посад в минуту взялся огнем, и казаки, позабыв тут же о мучениках, побежали прочь, теряя разум и обгоняя друг друга. Уже с острова поникло наблюдали они, как скоро отживало, умирало Беловодье. Еще меркли, малиновели, золотились, таяли догорающие уголья, под порывами ветра головни рассыпали веера искр, будто кто живой блуждал по огнищу и перетряхивал останки.
Сумароков, не мешкая, приказал разобрать, разбить остатки печей и на санях свезти их в озеро, затопить. Уголья лопатами развеяли по острову, и снег стал черным. На месте бывшей церкви, где огненным страданием скончался две тысячи пятьсот шестьдесят один человек, нашли казаки золотого младенца, свернувшегося клубочком, но никто не посмел прикоснуться к нему. Сумароков силился поднять золотого младенца и не смог. Тогда повелел отнести его в свой возок.
А потом настала ночь, и была та ночь особенно темна. Никто не спал, не ел, не пил, не вели разговоров. Боялись неведомо чего. А дождавшись рассвета, пошли казаки на пожарище, собрали в кучу кости и загребли землею и срубили около того места часовню.
Часть пятая
Глава первая
Позади своей затрапезной антикварной лавки Клавдя Момон поставил глухой кирпичный придел с единственным зарешеченным оконцем под потолком и с постоянной сырой плесенью в углах. Он переселился сюда. Всей примечательностью нынешнего житья, куда не ступала ни одна чужая нога, были, пожалуй, те вещи, с какими Момон принялся восходить к богатству. Под оконцем стояли в ящике красного дерева с двумя стеклянными дверцами часы Ренга английской работы с десятидневным заводом и с боем полных и половинных часов; у правой стены конторка черного дерева с принадлежностями для письма и с гипсовой статуэткой императрицы; над нею же висел портрет Селиванова, писанный неумелой рукой домашнего мастера, коему плохо удалось передать правильность лица, но в эмалевые глаза, подсвеченные снизу постоянно горящею лампадкой, невозможно было глядеть без внутреннего содрогания. Левую стену занимал платяной шкаф, где всего платья были порядком залоснившийся черный сюртук с чужого плеча, высокий цилиндр да пара сбитых в каблуке туфель. Большую часть шкафа, похожего на альков, занимала деревянная кровать, но если обогнуть ее с изголовья, то при тщательном рассмотрении можно было обнаружить узкую дверцу, сплошь обклеенную лубочными копеечными картинками.
Как угорелый пьяница норовит заполучить рюмку, будто всячески отодвигая это мгновение и изнемогая от своего упорства, так и Момон в конце каждого дня после множества всяких сделок и услуг заболевал одною непроходимою страстью. Прежде чем лечь в постель, уже облаченный в длинный ситцевый халат и шутовской колпак, он подходил к конторке и, переломившись над нею, отодвигал ящик. Ноги мерзли в отопках, ветхие башмаки и тощий халатец худо прикрывали скоро состарившееся тело, но скопец терпел, кряхтя, мялся пред конторкою, каждый раз кляня себя за слабость и давая последнее слово перемочь давнюю слабость.
Момон выдвигал ящик, доставал шкатулку с секретом, давний злополучный подарок, ногтем нащупывал пенек. Крышка пружинно распахивалась, и на золотой подставке являлся взгляду золотой соловей; он принимался играть горлышком, издавая всевозможные коленца, крутил головкою и так радостно откалывал хитрую песню, что Момон забывался и сам начинал беспричинно улыбаться и качать головою. Лишь позднее Момон понял, насколь это ценный подарок. Целое состояние поднесла ему сумасшедшая женщина, прежде чем уйти со света. При каждом коленце золотого соловья вспыхивали на голубом бархатном подножье завораживающие горошины бриллиантов, спелые жемчуга и кровавые рубины. Из чьих рук, из каких далей прилетел в скопческую келью этот соловей и сейчас драл свое бесценное горло? Но нынче королевская утеха забавляла московского менялу. «Я ей смерть подарил, а она мне утеху, – каждый раз думал меняла, подслеповато щурясь, и робко гладил золотое птичье перо, будто перед ним услужливо исхитрялся в пении живой соловей. – А может, мой подарок куда позавидней ейного встанет? За смерть-то в иной час что хошь отдашь, не то безделицу. Эка невидаль, облагодетельствовала», – уже недовольничал Момон и неведомо чему обижался, строил кислую мину и торопливо прятал ларец в конторку, всякий раз не забывая ее запереть.
Зачем он дразнил себя этой забавою, скопец и сам не смог бы объяснить. Он ложился в постелю, запахиваясь в одеяло с головою, и тогда обнаженная женщина являлась к нему с лицом, изуродованным смертными муками, и, скалясь, придвигаясь вплотную, прижималась ледяным, шершавым от озноба телом и объявляла на ухо шепотом: «Ты звал меня, Момон? Это я пришла, твоя смерть». Скопец так явственно чувствовал чужое прикосновение, что вздрагивал, но какое-то время еще упорствовал, крепился, не размыкая глаз, хотя рука сама собою пробовала нашарить и отодвинуть прочь назойливое бабье тело. Но вот терпение лопалось, скопец снова подымался и долго молился, уже не радый постылой постели. Так радостно, в таком порыве и страсти пробегал каждый Божий день, с таким упорством и хитростью облукавливалась очередная жертва, с такой искусностью строил Момон сети, каждый раз удивляясь своей неистощимой придумке, и вот такой мучительной тягостью и бессонницей сопровождалась каждая ночь, похожая на каторгу. Момон давал слово отнести соловья немедля в подвалы, запереть его там в самом большом сундуке и тем самым избавиться от больного наваждения. Он порой жалел, что однажды покусился на этот подарок, и суеверное чувство закрадывалось в душу.
– Терпение, однако, лопнуло. Вот ужо выкажу я пред тобою свою волю! – воскликнул скопец, окончательно решившись разделаться с неотступной хворью. – С глаз подальше – из ума вон.
Он торопливо накинул на плечи кожушок, шкатулку сунул за пазуху, ребрами ощущая ее угловатость. Ему казалось, что он слышит, как жалостливо пищит за пазухой соловей, почуявший свою кончину. Где он, в тонком механизме, тот секретный винтик, который держит жизнь механической птички, вдувает в нее дыхание и песню, не дает ей иссякнуть, превратиться в молчаливую грудку золота? Золоту, конечно, подобает молчать, но оно, скитаясь средь людского табора, производит самые противоречивые чувства и неимоверные злодейства. А тут поющее золото – это ли не причуда?
– Меня на грех не столкнуть, не-е. Я ужо выкажу над тобою свою власть! – снова пригрозил кому-то Момон.
Он отодвинул кровать, освободив тем самым путь, открыл дверцу в подвалы и взял в руки свечу. Три стоянца располагались по всей длине хранилища, и обычно Момон запалял их один за другим, тем самым продляя себе путь. Старинные подвалы, вымощенные еще при царе горохе из белого известняка, уже давно забылись москвичами, да и сами лавки, коим принадлежали когда-то хранилища, давно уже пропали, а строители их легли в землю прахом. Не ведомые никому, случайно разысканные подвалы стали Момону прибежищем, хранителем его тайн и сокровищ. Дверца лишь снаружи казалась дощатой и тонкой; на самом же деле была она из толстых дубовых плах и с обеих сторон оббита листовым железом. Момон с натугою приоткрыл дверь и боком протиснулся в подвал. Обычно весь прибыток – ценные бумаги и золото, векселя и серии, всякий драгоценный лом и прочую рухлядь[98] , притекавшие к нему с торжищ и переторгов, с аукционов и по залогу, – меняла сносил в подвалы днем, боясь темени, хотя внизу царил постоянный мрак. Пахло плесенью, тленом и тем смрадом от гниющего, порченого, залежалого товара, от которого горло забивает непроходимой затычкой. Пятнадцать ступенек вниз были скользкими, будто облитыми жиром или помоями, и Момон всякий раз боялся упасть. Он опускался лестницей осторожно, крадучись, словно воровски попадал в чужое житье. Момон был полон неиссякаемой страсти, и, сожигаемый ею насквозь, весь высохший, почернелый и безволосый, он казался себе наисчастливейшим человеком на свете. Он мысленно перебирал всех знаемых на Москве богачей и радовался, что превзошел их в своей удаче, а подобного капиталу навряд ли знавал мир. Чего стоят красавицы со всем их изощренным, но неуловимо и безвозвратно тающим телом, утехи праздные и вино, почести по службе отечеству и хвалы подвигу по сравнению с тем идолом, коему служил Момон.
Момон сошел с последней ступеньки, из-под ног с противным, замораживающим душу писком выскочила крыса. От неожиданности скопец вздрогнул и захолодел. Это показалось ему дурным предзнаменованием. Откуда было взяться в подземелье этим мерзким существам, коих, пожалуй, не бывало на складах с той давней злоумышленной истории. Вспоминать – и то худо, дурно на сердце, будто скверное чего съел. Момон резко взвел свечу над головою, широкий рукав халата скатился, обнажив тощую руку, пальцы скользнули по потолку, покрытому слизью. Камень будто сочился ворванью, отчего и пол был покрыт ею на вершок, жижа смачно хлюпала под отопками. Момон шел с иным чувством, в довольной его душе было нынче непонятное смущение и некоторая робость, кою он давно уж позабыл, властвуя над людьми. Он изучил людские пороки, и собственное сердце по сравнению с ними казалось безгрешным и чистым. Но этот мрак, едва разбавленный жидким светом свечи, поколебал уверенность – Момон не шел по собственным владениям, но как бы крался, из-за каждого угла поджидая нападения. Крыса все так же бежала где-то впереди, скрытая теменью. Она дерзко стучала когтями, не пугаясь хозяина, и каменные стены удесятеряли ее топот. Скопцу казалось уже, что от него удаляется вестник беды. Момон вспомнил стародавнюю историю, представил себя в положении апостола Миронушки, как того объедают крысы, и захолодел. Он покосился на тупичок, заложенный кирпичом, там, наверное, все еще жил дух его врага. Господи, отчего не остановил его руку? Зло за зло, и нет ему предела. Откуда тогда в изощренном уме Клавди Шумова вдруг нарисовалась необычная казнь, непотребное отмщение за коварство и обиду, схожее с теми языческими мрачными обычаями, кои давно уже канули во тьму столетий. Может, кто изворотливый подсказал? Ну кабы начитался бульварных романов, где можно бы почерпнуть всяких историй, но за всю жизнь Момон не открыл ни одной книги. Лучшей и самой откровенной исповедальной книгой для него были истертые счета, на коих он прикидывал цены чужих жизней и решал человечьи судьбы. Он ворочал такими капиталами, в голове из цифр слагались такие вавилонские башни, сочинялись такие хитроумные ловушки, коим бы позавидовал любой министр финансов не только России, но и любой запредельной страны.
Но картина мести пришла из детства. Он вдруг вспомнил, как в Дорогой Горе Онисим Малыгин за проказу закрыл сына в сарае да и позабыл о нем; а когда утром открыл амбарчик, сын его был объеден крысами, и только бахильцы, сшитые из морского зайца и пропитанные ворванью, остались целехоньки. Тогда, помнится, сколько пересудов было на деревне, и та история, оказывается, сохранилась в памяти. Клавдя сквасил в дальнем тупичке три пуда мяса, привадил туда московских крыс, а когда обжились те, он по случаю заманил Миронушку в подвалы и забыл там. Наверное, рвался старик на волю, обломал ногти о железные двери, поминал Бога и просил мгновенной легкой смерти, стенал и хрипел. Разве можно представить положение того страдающего, обезумевшего человека? Да и чем мог помочь ему Клавдя, чем мог помочь бедняге, коли сам о ту пору находился в Петербурге. Несчастный Миронушко, святой человек, спасаясь от крыс, выбросил из сундука товар, заполз и заперся крышкою: твари попортили сундук, прогрызли насквозь, но, однако, достали старика. Там и нашел Момон дочиста объеденные кости, схоронил в тупичке, оплакал невинную жертву обильными слезами и поставил в церкви Николы на Драчах пудовую свечу. Из того случая Момон добыл для себя еще одну полезную науку: дерево гниет и портится, его легко проточит крыса и выест жучок-точильщик. И он заказал себе дюжину железных сундуков всякого размера. Но тогда, двадцать лет назад, он и не помышлял, что столько товару скопится в его схоронах; он поначалу укладывал эти штуки материи, коробки и ящики поровнее, во всем любя порядок, но после кидал все в груду, как бы это была куча простого, никому не нужного старья, и тогда сыр пармезан и головки голландского перемешались с китайскими орехами, а дамские чулки – с картузами индийского чаю и французского табаку; богатые с чернью ружья торчали из сокровищ стволами вверх, но вместо паутины висели на стволах пуховые колпаки и женские ночные чепцы. Сырость брала свое, и даже старинный металл поддавался, трухлявел, материя линяла, золотообрезная бумага расползалась, модные сюртуки и панталоны прокисали. Но все это творилось в недрах развала, невидное глазу, ибо испортившееся скрывалось под новыми приобретениями Момона. Он порою, тревожимый смутными подозрениями, выхватывал из гор уже неведомого скарба трость с серебряными монограммами и пытался хотя бы приоткрыть завесу недвижимого, открыть край скопищ и завалов, чтобы проверить сохранность добра. Но тут же силы покидали Момона, трость натыкалась на золотой портсигар, тот цеплялся за часы, и оказывалось, что вещи уже давно скрепились, спаялись в непобедимое содружество, неподвластное Момону. А с сундуками было и того чуднее: Момон заполнял их поочередно, опечатывал и, скоро позабывая содержимое, однако хорошо помнил общую ценность каждого. Так он подходил к крайнему сундучку в железной оплетке с изящной насечкой по медной крышке и, легко пиная ногою, говорил вслух с нескрываемым удовольствием и самодовольством, будто хвалился перед кем-то, стоящим за спиною: «А этот дядька стоит миллион». В сумерках подвала слово «миллион» и самим Момоном воспринималось по-иному, с невольным душевным трепетом, будто в сундуке таились не сокровища, но схоронился огнедышащий, никому не ведомый дракон. Что стоит этот скарб? Тлен лишь и прах, но при виде его кровь бежит пуще и страсть не потухает. Только сундуки с сокровищами неподвластны времени, их не выест ржа, не смоет вода, не обгложет сырой воздух. Золото не гниет, в этом твердо был уверен Момон. А значит, вместе с золотом сохранится, не погибнет и хозяин их, вечный владыка.
«... Боже мой, когда же это было-о? Да чтобы мужик миром правил? И будет, и будет. Матушка моя, Павла Шумова, отправилась, бывалоче, в полной потере памяти в белокаменную к батюшке царю, чтобы похлопотать за непутевого сына Яшку, пошла и потерялась, как в воду канула. Но не знала, не ведала, христовенькая, что из ее блаженного нищего чрева сам царь-государь народился. Эх, кабы знатье», – вздыхал Момон, вспоминая мать. О брате единоутробном не печалился, словно и не было того, но матушка частенько навещала во снах и все наущала сына:
– Отдай ты, парень, эту шкатулку, верни безделицу. Ведьма от тебя не отступится, видит Бог. Зачем изобидел ее, сердце вынул? Не лежится ей тамотки, не лежится.
– Ай верно, матушка, – отвечал во сне Момон, – что оченно я беспокоюсь, да кому верну сию вещицу, коли померла баба. Можно сказать, очии ей закрыл.
– А ты поди в прежнее место и заверни безделицу обратно. На-ко, скажи, да поди от меня прочь без обиды. Из твоих белых ручек красна река протекла, черные слезы, горькая печаль. Поди, дитятко, поди, баженой. В золотом соловье белы черви. Заедят они тебя поедом...
С трудом открыл Момон самый великий из всех железный сундук, застопорил крышку на откидном упоре, без опаски голову просунул в нутро, свечою посветил. Дорогой металл тускло блеснул и обманчиво.
И сказал Момон, побарывая невольную задышку:
– В золотом соловье белы черви. Заедят они меня. – Достал из-за пазухи шкатулку, положил поверх чьих-то ожерелий и подвесок, старинных талеров, луидоров и наполеондоров. И такой сиротливой показалась она, а может, и самому не захотелось расставаться. Помедлил – и вернул обратно за пазуху...
Глава вторая
Из судебного дознания. «Всегда мрачный и грозный, Сумароков делался еще мрачнее и суровей, когда долго не видал крови. Во время истязаний, которые едва могла вынести натура человеческая, он кричал неистовым голосом: „Катай его, нечестивца“. Окруженный всегда казаками, Сумароков возил с собою орудия казни: розги, палки, плети. У него было два приема сечения: обыкновенный и с пересыпкой. Сначала били по спине палками, а потом по свежим ранам всыпали порцию розог. Всюду этот зверь находил предлог для экзекуции. Плохо вспахана земля – секли, нечисто на дворе иль в избе – секли, прорехи на рубашке иль сорочке – секли. Боясь доноса, он забрал у крестьян чернила и бумагу и отвез все это на сохранение в волостное правление...»
Беда всегда неожиданна, и свалилась она на голову березовского исправника Сумарокова как снег на голову, когда, казалось, на всем белом свете не сыскалось бы силы не то чтобы одернуть владыку иль примерно наказать его, но и прикрикнуть, на место поставить. А беда пришла от кафтанника, коему и вовсе не пристало чиниться и сердце иметь на высокую власть. Красноярский первогильдийский купец Сидоров для перевозки графита с верховьев Тунгуски на оружейные заводы Златоуста покупал у тамошних туземцев оленей, сбивал тысячные аргиши, и пожаловался ему остяцкий князек Ангулей на постоянные притеснения. В те же времена побывал Сидоров в Обдорске, где закладывали на верфях шхуну, стоял на постое у купца Скорнякова, и, выслушав жалобы смертельно больного и неправедно обиженного старика, дал тому клятвенное заверение постоять за купеческое сословие. Да и сам Сидоров немало перенес от исправника, да, знать, пришло время отомстить за чинимые обиды, лопнуло терпение, перелилось через край, и стал купец действовать со всей присущей ему решимостью. Имея большие связи в столице, как известный в России золотопромышленник, он добился расследования, и так случилось, что по возвращении Сумарокова из долгой экспедиции встретил его в Березове чиновник особых поручений из Петербурга.
Больше года длилось следствие, и по суду за лихоимства выпала подполковнику Сумарокову гражданская казнь, прилюдно на торговой площади сломали над его головою шпагу. И велено было, «лишив его всех особенных лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ и не подвергая телесному наказанию, сослать на житие в Архангельскую губернию». Так Сумароков снова оказался в Мезени, где и приписан был к мещанскому обществу. Не то наказание, что лишили всех прав и оставили без средств к существованию, но самое горькое, что вернули обратно в заштатный городишко на краю России, откуда так не чаял Сумароков вырваться. Ну за дело бы покарали – куда ни шло, тут смири гордыню, навостри душу; так ведь за строгую праведность понес казнь, за незыблемую веру государю, что интересы его соблюдал средь туземного народишка, не давал разбежаться по лесам, не дозволил спиться. «Боже мой... привезли на посмешку, на издевательство и презренные взгляды и забыли тут, словно в могилу запехали живым. Какова благодарность, а? Вот тебе, Никита Северьяныч, за службу верную Владимир первой степени, вот тебе и Анна на шею». Запить бы впору, да ни копейки за душою и от казны никакой подмоги, а к рукоделию не приучен. Не в покрутчики же набиваться потомственному дворянину, кашу хлебать из общего котла. А из благородных кого взять (того же полицмейстера, иль судью, иль городничего Судоплатова), так и руки не попадут, брезгуют, нос воротят, будто прежде не знавали, когда в силе был. Нынче с Сумароковым знаться за великий грех. А мещане разом все позабыли, так и норовят в спину выкрикнуть злорадно: «Отыгрались кошке мышкины слезки». И куски подают из окна, как нищему иль убогонькому: «На Христа ради хлебца, покушай, мужичок».
И то, что с белого коня ссадили, на посмешище выставили, заставили волочиться на аркане с доскою на шее «лихоимец и вор», было тошнее всего. Что было, продал Сумароков. Нынче последний кафтан, если бы позарились на него, снял бы с плеча да и снес в кабак; но никто не купит сермягу. Голод не тетка: прижмет – волком взвоешь. Голодный укусил бы и камень, да зуб неймет. Днями отсиживался Сумароков в каморе, стыдясь выйти на люди; хорошо, если хозяйка сжалится, позовет на чай да рыбы кислой поставит помакать. Темными вечерами, перемогая стужу, выходил на гору, тоскливый, злой, стегал по сапогам своедельной плетью. Сам резал на клин нерпичьи ремни, вымачивал в кислом молоке, насаживал на можжевеловую рукоять. И когда пробовал в каморе с протягом, то даже воздух обжигался. Вот и вся наука Никиты Северьяновича, все его ремесло, но и им не прокормишься: каждый мужик свою ременку в сапоге носит, он и полгроша пожалеет на такую покупку.
Незаметно манеры терялись, за один лишь год огрубел Сумароков, одичал, ногти на руках и ногах стали железными, будто загнулись. Нашло спасительное отупение, и порою вовсе хорошо становилось бывшему исправнику, кабы не донимали холод и голод. И баня не шла впрок, мутила душу, когда являлся в жилье помытый, будто с новой изнеженной шкурою, и тогда вся прежняя жизнь вспоминалась, и становилось Сумарокову тошно. А в следующую осень пронесся по Мезени слух: дескать, в губернский тюремный замок требуется заплечный мастер. Сумароков поначалу усмехнулся, а после надолго задумался...
В сентябре 1852 года бывший березовский исправник Сумароков Никита Северьянович стал заплечным мастером Архангельского тюремного замка. Обер-офицерский двубортный мундир темно-зеленого сукна с выпушками, гусарскими галунами и вызолоченными пуговицами он сменил на холщовую белую рубаху и армяк. Вместо шаровар с оранжевой выпушкой Сумароков получил грубого сукна брюки, а пехотную, с темляком и кожаной портупеей, шпагу заменил на плеть, сработанную шорником тюремной караульни. Смотритель Волков, седой как лунь, съевший зубы на тюремной должности, выдал кормовые деньги, но не сразу, попридержал тридцать копеек серебром, сказавши, что за ними следует явиться дня через три. Да тут же приказал снять усы, которые по должности полагались прежде Сумарокову. При этих словах, сказанных небрежно, с плохо скрытой издевкою, Сумарокова будто ожгло, он вскинул голову и сверкнул запавшими глазами. Но жест этот не произвел особого впечатления на смотрителя, он лишь набычился, исподлобья вновь оглядел нового ката и прикрикнул вдруг:
– Ну ты, злодей!
– Я не позволю! Не сметь так со мною обращаться! Я вольный человек дворянского звания!
– Ну ты, злодей, – уже тише буркнул смотритель и вышел из караульни, шибко чем-то недовольный.
Скоро явился брадобрей, намылил палачу скулья и скоро снял жидкую бороду и длинные навостренные усы – прежнюю гордость Сумарокова. Как говорят, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Коли напросился на грешную службу, так терпи, милый, смири душу и не рви ее понапрасну. Но Сумароков никак не ожидал подобной встречи, и обращение с ним, как с вором или бродягою, унизило его совершенно и бросило в крайнюю растерянность. Сразу он не сумел достойно ответить смотрителю, и сейчас, с намыленными щеками, ощущая прикосновение жирного, тяжелого живота цирюльника, он сочинил уничтожающую речь, пушил Волкова на чем свет стоит, и с каждой фразою, что появлялась в голове, Сумароков от растерянности переходил к гневу. Он вдруг забыл о нынешнем своем унизительном положении, и его исправничье сердце уже уготовило смотрителю Волкову примерное наказание. Сумароков, наверное, натворил бы чудес, да остерегли солдаты, свободные от караула. Они любопытно таращились на новичка и щерились довольною улыбкой. Ведь на веку не бывало, чтобы в палачи, куда и подневольного мужика силой не затащишь (настолько это презренное занятие), вдруг напросился дворянин, да и не просто белой кости выходец, но бывший гроза, березовский исправник, слухи о коем через арестантов доходили даже сюда, в Архангельский острог. «Напился нашей кровушки-то, ой напился! – рассказывали они с непонятным удовольствием. – А нынь как все повернулось!»
Как ни готовил себя Сумароков к нынешней службе, но превращение из исправника в палачи произошло неожиданно. Зрелую, закостенелую натуру лишь могила исправит. Как ни зажимай себя, как ни принуждай и ни смиряй, но характер себя выкажет.
Из такого разряда людей был Сумароков, самолюбивый без меры человек, с болезненною гордыней, кою могла бы заглушить лишь мать-сыра земля. Он, в одиночестве размышляя о будущей службе, прежде чем согласиться на нее, всячески хитрил пред собою и утешал себя тем, что возьмет себя в руки, самолюбие подальше упрячет, но пять лет своих отмучается в тюремном замке, с тем чтобы после, скопив деньжонок, иную жизнь наладить. А там, быть может, помилование выйдет и пенсион назначат за долгую, беспорочную службу. Купит он небольшое имение, выгодно женится на помещичьей перезревшей девице да и заживет в свое удовольствие на старости лет, окруженный потомством.
Крайне обиженный, в мрачном состоянии духа, Сумароков в сопровождении сторожа миновал тюремный двор. Почти год он отсидел под следствием в Петропавловской крепости, и сейчас новую тюрьму Сумароков невольно сравнивал с прежнею и уже несколько презирал ее за провинциальную серость и неказистость, за какую-то простоватость и домашность устоявшегося быта. Камеры были распахнуты, и арестанты свободно разгуливали по коридорам, кто-то резался в карты, иные в ремешок, шла торговля булками, собранными в милостыню от доброхотов купцов и жалостливых баб. Жизнь шла своим чередом, с теми же интересами и правилами игры, что и на воле: хитрый облукавливал, сильный покорял, слабый унижался и терпел. На тюремных жильцов Сумароков смотрел с высокомерием, а те озирали нового палача с опаскою и некоторым страхом, ибо многим еще не вышло по суду наказание и они ждали своей участи. От одних лишь подобострастных взглядов Сумарокову сделалось ровнее, он вдруг почуял свою силу и сразу возгордился ею. Не прошло и часа, как он оказался в тюрьме, но он уже смотрел на нее и на обитателей ее как на свою вотчину. А что, впрочем, изменилось? Поменял власть на власть, и еще неизвестно, какая из них больше. И, уже оглядывая камеры взглядом хозяина, Сумароков вспомнил свою одиночку с уважением. «Там был порядок, там даже страдать полагалось больше, чем в иных каторгах, даже сам порядок навевал суровость, от коей слабые сходили с ума. Да, там был порядок, – решил Сумароков. Его душа полицейского особенно любила порядок и суровость. – Попадись он мне тремя годами ранее, я бы поначалу снял с него стружку, кислую шерсть сострогал, а после бы устроил правеж, – с озлоблением подумал Сумароков о смотрителе, уже видя в нем кровного врага. – Он бы у меня постоял под выучкой, так белый свет с овчинку-с...» От этих мыслей Сумарокову вовсе полегчало. В палаческую комнату он уже входил хозяином, презрительно отвесив нижнюю губу.
В комнате, тускло освещенной полдневным светом, было все серым, того грязного цвета, от которого приступает уныние. На кровати, кинув нога на ногу, возлежал будущий сотоварищ Сумарокова, старший палач Король. Разорив тюремную церковь, он недолго бегал, был скоро пойман и водворен обратно в замок. Он сразу напросился в палачи, но десять лет каторги так и висели на нем – в случае худой службы Королю предстояло закованным в ручные и ножные кандалы, после изрядного битья, брести по этапу в Сибирь. Ему было за пятьдесят, но выглядел он куда свежее от неопределенности своего вида, смуглого, цыгановатого, и только седая шевелюра да запавший беззубый рот несколько выдавали возраст. Он был жиловат, круто скручен, а такие люди изнашиваются медленно; они скорее усыхают, подвяливаются, чем старятся. Иному уже за семьдесят далеко, а он все как подросток, скор на ногу и на поступки.
Король встретил подручного с ухмылкою, зверино, для острастки сверкнул черными глазами, цвиркнул слюною на грязный, затоптанный пол.
– Располагайся, мужичок, – дурашливо взмахнул он рукою, будто дарил весь белый свет. – Да ты уважай, будь другом. Я уважливых страсть люблю.
С этими словами Король осекся и замолчал от того неведомого страха, который внезапно приступает к нам порою, когда мы видим человека с застойным оловянным взглядом. «Лупоглазые-то шибко злые», – сразу приметил Король. Он был по натуре сметливым человеком, мокрых дел не любил, а если и пугал кого, то лишь для острастки, но не для власти. Король был вольным человеком, это нужда его принудила в палачи; он не любил ставить людей на колени, но страсть хотел, чтобы уважали его, и потому наваливался арапом, давил словами. Он сразу смекнул, что за человек пред ним и которой породы.
– Вон постеля ваша, милостивый государь. Может, с дороги отдохнуть хоцця или чего другого извольте-с, так вы не стесняйтесь, справляйте свои надобности!
Король встал, услужливо принял из рук Сумарокова баул. Сумароков же молчал, мглистым недобрым взглядом оглядывая предстоящее житье, и приказал убрать помещение. Король никогда не был шестеркою и по должности нынешней сам мог давить подручного, но тут не восстал, принес лохань с водою и принялся мыть комнату. Сумароков сел на кровать, широко расставив ноги, и глядел, как елозит на коленях его сожитель, презирая его и ненавидя. И вдруг повалился на кровать, не брезгуя застиранным бельем, и с наслаждением растянул замлевшие члены. Он как-то скоро, легко заснул, и в томительном сне пришла к нему соблазнительная «ночная бабочка», коих, бывало, он с удовольствием сек в кордегардии.
Глава третья
На одном из долгих переходов через Сыгву и Ляпин встретился торговым людям ободранный дикий человек неопределенного возраста, коего можно было назвать и древним стариком по угрюмо заросшему обличью, до костей изъеденному морозом и голодом. Он назвался Донатом и шел из неведомого им беловодского согласия. Одежда на его плечах истлела от ветхости, но скиталец, несмотря на уговоры, только и снял ее затем, чтобы постирать и подштопать, а после вновь надел на голое тело, он не давал прикасаться к своему платью, почитал его за святое и что-то говорил о Беловодье, темно и невнятно. Приказчики были из поморского согласия, ласковым обхождением подняли беднягу из могилы, пока добрались до Печоры. Возле Илыча, попрощавшись сердечно, странник пошел прочь по реке, а появился уже в Чердыни. Судьба, видимо, крепко благоприятствовала ему и стерегла от звериной никудышной смерти. Оттуда он отправился на Светлояр, несколько раз нырял, пытался проникнуть в святой град Китеж. На одном из холмов Донат Богошков вырыл себе землянку и там прожил лето, питаясь скудно и держа тело в привычной строгости. Он каждое утро спускал на озеро самодельный кораблик с горящей свечою и наблюдал, как гонит его ветер, и все ждал, когда явится из озера настоятель града Китежа и пригласит Доната в гости. Но когда собиралась толпа паломников, Донат взбирался на матерую сосну, от земли голую сажени на три, и кричал зычно, чему учил Елизарий: «Было Беловодье, да сгибло от вашей лености и гордыни! Над тенью града Китежа наущаю вас, дети мои! Внемлите искреннему простодушному слову моему. Сгибло Беловодье, и неча более стремиться туда, каждый сам себе постройте Беловодье в своей земле и в своей душе. Не шатайтеся понапрасну, от пустого шатанья земля меркнет, как старая дева. Душу устраивайте в братней любви, любите всех...» Прослышал о бродяге становой пристав, прибыл с полицией брать его к допросу с пристрастием. Но допрежь был Донат Богошков остережен богомольцами и отправился окольными дорогами к Нижнему Новгороду и далее на Архангельск с единственной мыслью – побывать в отчем доме; хоть и никого из родичей не осталось на земле, уж кровь, казалось, должна остыть, ведь никто вроде бы не манил на Мезень, но что-то неукротимо позывало в родимые места. Думалось, дойти бы только, глянуть украдкою, одним глазком, да коли судьба выпадет, то и помереть там. Обуреваемый лихорадкою, спешил Донат, мало где приворачивая по адресам; ему не нужна была подорожная по казенной надобности, почтовые станции не держали его, ямщицкая гоньба не попирала; скрытые староверские пути надежно, скоро вели скитальца от деревни к деревне.
В марте пятьдесят третьего года он оказался в Архангельске, но море до Мезени было закрыто льдами. Донат решил навестить Соловецкий монастырь. Отбыл Богошков с Соловецкого подворья вместе с послушником Ефимом Харитоновым, полагая за месяц обернуться. А весь путь таков: из Архангельска до мыса Орлова почта шла сухим путем по берегу моря, от мыса Орлова – водою тридцать пять верст к острову Клуксолмам до монастырского скотного двора, а там опять же пятнадцать верст до монастыря сухим путем. Лошадьми без проволочек добрались до мыса Орлова, а там отправились на монастырской мореходной лодке прямо в монастырь. Кроме послушника оказалось еще человек пять богомольцев да мальчонка по обету, сын одного из поморян, назначенный отцом в трудники. Был мальчонка не по летам серьезен, из глаз его, пронзительно-синих, расширенных от непонятного и тайно увиденного, не сходила болезненная печальная поволока. Заросший русым кудрявым волосом, он часто утыкался в малицу отца, словно бы искал защиты от непогоды, и крестьянин с одутловатым лицом, прокопченным ветрами, мало похожий на родителя этого мальчишки, с кроткою, бережной лаской гладил отрока по лицу.
Донат уместился на тюки, средь трудового народа, и почувствовал ту полузабытую свободу на сердце, с какою легко и смирно живется на свете. Так почудилось, что на родине милой и окружают его давно знакомые люди. Небо было серым, низким и тоже кротким, с него сыпался с тихим шорохом такой же кроткий неутомимый снег, засалившаяся вода с натугою разваливалась надвое под носом лодки. Но ветер стоял попутный. Сзади лодки болталась на привязи лодчонка-душегубка, она порскала по мелкой волне и невольно притягивала взгляд. Все напоминало родные края, и синие бычьи лбы, наступающие с берега на море, постоянно тревожили сердце; за ними, если удариться в полуночную сторону, и было Помезенье. Когда обжились в лодке, обустроились, пошли разговоры.
– Вот смотри ты на экое чудо. Кому страх, а нам самое обыкновенное дело, – начал одутловатый крестьянин, очередной раз оглядываясь на душегубку, рыскающую на привязи. – Ты-то, братец, с каких будешь мест?
– С Нижнего Новгорода, – коротко отозвался Донат и невольно смутился.
– Дак тебе, поди, все внове? А наш-то брат помор ухитрился плавать в экой лодчонке на море-окияне, да если случись, так и вдвоем, значит, да под полный груз, когда вровень с бортами, за нашвы-то чуть не льется. Сиди и не дыши, чуть маленько на сторону колыбнулся, голубушка и черпнет, что ложка ухи. Ну а потом известное дело куда – ко дну за рыбой. Обыкновенно в тихую-то погоду да коли близко, так она ничего, голубушка, она своего не выдаст, – говорил помор о душегубке, как о родном близком человеке. – Ну, а в непогодушку-то разве отпетый да шальной какой, примерно, сунется, а тому, как известно, море-окиян по их колена, такой отчаюга и беспримерный к подвигу человек.
Помор замолчал, зевнувши, и с некоторою тоскою, столь необычной для умудренного человека, оглядел сына, растерянно упершегося взглядом в небо: тонкая шея встала из глубокого круглого ворота холщовой рубахи, и видно было, как по упругой жиле течет напряженная жизнь. Донат не снимал взгляда с мальца и чувствовал свое родство с ним, будто бы в одном горе потерялись, одной болезнью занедужили и сейчас ждали помощи от монастыря, где сымется тягость. А разговор не умер, он затеплился, и Донат пил те слова, как хмельной настоявшийся мед: душа его тихо тосковала.
Лишь ночью достигли благополучно Соловецкого острова, вошли в Березовую губу. Было морозно, лунно, море задумчиво чернело, едва мерцая перьями волн. У пристани встретил монах, и все, топая бахилами, отправились по скалистой тропе.
С неделю, наверное, пробыл Донат Богошков в обители, отстоял молебен по отцу-матери и с той же монастырской почтой отправился в Архангельск. Из прежних попутчиков оказалось двое: тот, одутловатый лицом, рыжебровый крестьянин из Пурнемы Василий Абрамов да смуглый басалай с холщовым, туго набитым мешком за плечами. Съездил человек на промысел, отоварился, а теперь подале с глаз, пока не замели. Был басалай слегка пьян, и хмельные глаза горели нестерпимым огнем.
Отходили из Березовой губы в самых благих намерениях, располагая к утру встретить Орлов мыс. А был второй день апреля.
Ночью в десяти верстах от мыса Орлова лодку застигло льдом; вытащились и заночевали у костерка. Чаю сварили, повечеряли чем Бог послал, так думая утром уже в бане намыться. Улеглись в лодке, сгрудились, и скоро сон взял свое. А пока спали, неожиданно подул крепкий юг, и отнесло бедняг обратно за Анзерский остров. Снег сыпал большой, сплошняком, куда влекло, где таскало – и невдомек. Лишь на третий день материковый ветер отпустил, снег кончился, и богомольцы нашли себя посреди ледяной пустыни, где воды и воробью не напиться. Хоть плачь, а надея лишь на себя, неоткуда ждать подмоги...
Глава четвертая
И приснилось Сумарокову, что он у позорного столба голый, от стыда не знает куда глаза деть, а зеваки регочут, свистят и улюлюкают, тычут пальцем: «Глядите-кось, наш исправник-то голый, да и с пустой казной». Никита Северьянович глянул на себя и поначалу испугался: Господи, где подобает достоинствам быть – там пустынно, словно никогда и не имелось. «Как мне теперь нужду-то справлять?» – снова ужаснулся Сумароков, но тут палач сломал над головою шпагу, да неловко у него получилось, небрежно, и концом шпаги порвало кожу на голове. Потекла из раны кровь, лицо залило, и, позабыв про стыд, обеими руками схватился Сумароков за рану, стараясь остановить кровь. И тут обрадовался, что ему и вовсе не стыдно стоять голым, ибо у него стыда нет, а значит, обе руки свободны. И он чего-то закричал, радый, что и тут вывернулся...
– Ваше благородие, а ваше благородие! – Король толкал Сумарокова в плечо, шепелявил.
Сумароков со стоном открыл глаза, не понимая, где он. Какой-то смуглый щербатый мужичонко над ним, неряшливая седая волосня завесила глаза, и Сумароков от неожиданности отпрянул, но тут же оправился, перевел дух.
– Я думал, вас черти на сковороду тягнут. Ну, думаю, пропал наше благополучие. Дай, думаю, ослобоню от напасти, – меж тем говорил Король, и с лица его не сходила та небрежная ухмылка, от коей в иное время оскорбился бы Сумароков. Но темя у Сумарокова взаправду ныло, он осторожно потрогал пальцем, нащупал длинный бугорок шрама, поморщился. От гражданской казни осталась эта отметина, как напоминание позора. Домогались и на душе оставить, ан нет, не по-ихнему вышло. Королю же сожитель показался вдруг слабым, достойным жалости, и он принялся утешать его, чтобы тут же взять верх. Но он не ведал тайного Сумарокова, живущего по своим законам. От жалости смерда Никиту Северьяновича лишь коробило, он кривился и воротил нос. А тому думалось, что Сумарокову плакать хочется.
– Вы шибко не переживайте. Это не тем позор, кто секет, но тем, кто под плетью. Вы-то не спытали, вашего брата не секут нынче, а я спытал. Как разложат да пропишут плетью ижицу вдоль спины да поперек, вот тут и вскричишь. – Король говорил скороговоркою, частил и подмигивал темным глазом, но в голубом с кровяными прожилками белке слоилась звериная сторожкость.
Нет, не прост Король: кандальные этапы, каторга и долгие бега слепили из него особую породу. Королю бы просто высечь арестанта, да и дело с концом; а он, вишь ты, хотел исполнить с той любовию и чистосердечием, от коей не томится душа. Размышления палача уязвили Сумарокова. Король будто прочитал его мысли и желанья.
– Ну ты, филозоп! От тебя смердит. Пшел прочь! – грубо оборвал Сумароков сожителя и прогнал, как собаку. Но смутно пожалел, что сурово высказался.
Ой худо начиналась новая жизнь, сплошные стычки. «Норов надо бы преломить, а то надорвешься, Никита Северьяныч, раньше времени. Хватит тебе одного врага, что нажил с первых тюремных шагов в лице смотрителя Волкова. И ты, смотритель, гляди! Придет мое времечко, воленс-ноленс, и я тебя постегаю».
От этой почти неисполнимой затеи Сумароков невольно повеселел, улыбнулся Королю, подмигнул и взбил повыше подушку:
– Ну да ты почаще мойся, я к тебе и приобыкну.
Король тут же простил недавнюю обиду, проглотил ее. Брань на вороту не виснет. Это же не кулаком в харю, когда юшкой умоешься и сам не знаешь за что. Тогда-то обидне-е... Он робко подсел с краю кровати и к Сумарокову и принялся развивать давешнюю мысль. Видно, не так уж просто и легко жилось Королю в нынешней должности, коли он постоянно оправдывался перед кем-то. Третий год справлял Король палаческую должность, приняв ее от Гаврилы Киприянова, бывшего пономаря, но вот привыкнуть не мог к тому презрению, что пеленою неслышно окутывало арестанта. Сумарокову, тому легко жить. Ему-то чего тужить, верно? Он хоть и прошлый, да барин. А барин барина завсегда не спокинет. Неладно станет Сумарокову иль тошнехонько, он собрал манатки да и прочь с тюремного замка, только и видали его. Им, барам, везде поблажка. Их на черствый кусок посади, тыном железным огради, чтобы не было доступа, а все одно отыщется из ниоткуда сдобный калач. Но и этого им покажется мало, и начнут они ныть, да стонать, да жаловаться на немилосердную жизнь с такою слезной мольбой, что невольно пожалеешь и смилостивишься. А ему, Королю, неоткуда ждать милости; только заартачься, заневольничай, тут тебе и выложат по филейным частям тридцать обещанных плетей да и сошлют в каторгу.
– Наша работа хлебная. При желании озолотиться можно, – шепелявил Король неразборчиво, но Сумароков понял.
– Да?! – Он задрал брови, разыгрывая недоумение.
– Ну, – заторопился Король. – У нас каждый в горсти. Ты, барин, прежнюю службу не жалей. Пропади она пропадом. Во всякой службе ты подневольный человек, всякий с тебя спросит да норовит побольнее поддать в самый дых. А здесь ты сам себе голова, и каждый пред тобою трусит, заискивает и боится. Всякому шкура своя мила, ну как ее не поберечь, а? Я-то прежде бегал этой должности, а нынь раскусил. По мне она, тепло-о, сытно. Хлебная работка...
– Я по интересу, а не ради выгоды какой, – вдруг выдал себя Сумароков и подивился, с какой легкостью признался в самом сокровенном.
Всякую работу можно оправдать, ежели сыщется к ней душевный интерес. Ведь иному головы рубить – нет важнее ремесла: тот человек себя кладет во главу мира. Сумароков еще не приступил к должности, он еще не разобрался в тонкостях будущего дела, но уже неисповедимыми путями почуял необыкновенность его. Ката страшатся, от него бегают, пред ним самый гордый склонит выю. Пред царем, поди, с таким страхом не клонят голову, как пред заплечным мастером. Исправника иль губернатора взять, ежели исхитриться, всякий обмануть может; но палача не провесть. Ты как пред судилищем, ты распят на дыбе, ты растелешен. Нет пущей неволи, чем под плетью заплечного мастера. Все в его желании, все в его старании, все в его власти. Вот даже, к примеру, рылом не понравился, иль не так смеется, как прочие, иль криво ходит человек – и это тебе жутко не по нутру. И ты его выходишь розгами с особым ожесточением, как кровного врага своего, и посчитаешь суровость эту за особую правду.
– Я по интересу в палачи попросился, – повторил Сумароков. – На чужих слезах не наживаюсь...
– А я что, а я что? Мне самому кусок в горло нейдет. Я лишь про то, к примеру, ежели захотеть, так озолотишься. С кого полтину, а с кого и четвертной. Ведь не просишь, не-е. Сами пехают, только смилостивься. Ну как тут не взять? Работка, скажу вам, намахаешься – плечо изноется. Не дармовой хлеб кушаем. Да чего я, сами все увидите...
В иных местах России не хватало деревьев для прутьев. В 1849 г. Таврическое и Херсонское губернские правления обратились к Киевскому с просьбой прислать для Таврической губ. 6000 пучков березовых розог, а для Херсонской 2000, так как в этих губерниях не было березовых лесов и не из чего было делать розги.
Порка вызывает у известной породы зевак некое сладострастие: от одного лишь вида униженного возникает у них тот несравненный жар, коий бывает лишь от редкого, необычайного чувства. Что такое случается с человеком, когда душа вроде бы мгновенно забывает о добросердии и жалости, глаза окутывает некая пелена жестокости и любопытства, и тело необъяснимо бросает то в дрожь, то в пот, и зевака забывает все на свете, не в силах совладать с собою. Мало ли народу сбегается на торговую площадь на казнь вроде бы из пустого любопытства лишь, и многие, в обычное время люди самые порядочные, толпятся, порою потупив взор, лишь из жалости и сострадания, а меж тем ни жалости, ни сострадания в тот момент нет и в помине, а лишь сладострастие и желание продлить сие удовольствие.
Если с зевакою случаются подобные перемены, когда жестокость, неслышно вливаясь в душу, вытравляет там все самое порядочное, то какой же необыкновенный розжиг плоти и духа наступает в палаче, добровольно записавшемся в кнутовые мастера.
Зевака опоминается и сознает, что в точности повторял мысленно все движения палача и горел, быть может, большей страстью, чем он, и тогда стыд заливает лицо, и спешит он прочь с торговой казни, проклиная себя и свою незадачливую жизнь. Сколько таких, давших слово никогда больше не бывать на торговой казни, но каждый раз какая-то необъяснимая сила тянет туда вновь и вновь...
Но нет более кнута[99] . С 1845 года прекратилось в России сечение кнутом. Палачам было приказано зарыть в землю кнут, чтобы сам вид его не возбуждал в народе горестных и ненавистных чувств. Но как знать, быть может, для самого-то палача, истинного и страстного, попавшего на сию должность не по принуждению, а по сердечной охоте, вековечное ремесло вдруг несколько потускнело и утратило ту необходимость, которая и укрепляет, держит руку и душу заплечного мастера.
«... Оказывается, озолотиться можно. Эк сколько тут всякой выгоды. Шкуру-то иному спускаешь, да и опять же ко всей выгоде, Никита Северьяныч. Пошто не жить, верно? Будто никуда не уходил с исправников. Одно худо, что нет постоянно французской сладкой водочки». Сумароков набил трубочку табаком, затянулся, кислый камерный воздух разбавило сладковатым дымом. По коридору гулко ходил сторож, протяжно зевал, оттуда доносило вонью сальницы. Король посапывал, с головою завернувшись в одеяло, лишь торчали наружу босые зароговевшие ноги. В зарешеченное оконце слабо брезжило, паутинный свет скользил по ступням Короля, и они казались костяными, скотскими, случайно попавшими сюда с могильника. «Копыта, не ноги», – подумал с тоскою Сумароков и неожиданно пожалел себя, расслабился. На злости держался человек, на гордыне, лишь постоянное раздражение и желчь крепили его. Он пеплился изнутри, пустел, но тихо горел. Собственной минутной слабости более всего пугался Сумароков, ибо тогда грядущая жизнь казалась бессмысленной и противной; потому сразу злобился он, искал причины вспылить. Оказывается, в самом унизительном состоянии можно сыскать свои выгоды, и тогда крохотные подаяния почудятся королевскими. Хорошо тем, кто ничего не имел, но как, оказывается, трудно терять. «Тварь ведь, тварь, – со злобою протянул Сумароков, мысленно обращаясь к сожителю и ненавидя его. Это согрело его, успокоило и обратило в русло новых мыслей. – Я же в могилу к червям сошел вживе и вот любопытствую, несчастный человек, как растаскивают они меня по мясинкам. Извольте доложить, Никита Северьяныч, милостивый сударь, какие же здесь прелести открылись вам? В какой круг ада соизволите еще спуститься? Мо-ло-дец, одним словом. Озолотиться мож-но-о. Да у меня, скотина, когда на имение арест наложили, одной пушнины взяли двадцать возов и денег тыщ двести. Да подо мной, почитай, вся Сибирь стояла. Но скуш-но-о, господа. Везде скушно...»
– Ты не трусь, братец, – вдруг глухо донеслось из-под одеяла; куль заворочался, показалась лохматая голова. Только тут вспомнил Сумароков, что нынче приступает к должности при Короле. «А впрочем, Никита Северьяныч, вы не упали, но возвысились. Подручный Короля, да-с». – Ты только гонору не теряй. Я тебе преподам науку.
Сумароков неожиданно стерпел фамильярность.
– А с чего нашли-с, господин палач, что я трушу-с?
– Чую! Впервой-то как сечь, все трусят. – Король пошел к параше, шумно помочился.
Сумароков с любопытством наблюдал неряшливую фигуру в исподнем, криво стоящую, и не испытывал брезгливости.
– Эту науку, господин палач... нет, господин главный заплечный мастер, всякий исправник преподать может, – вдруг похвалился Сумароков, и тонкие губы сошлись в упрямую жесткую щель. – Аль на себе не знавали-с, клейменый?
– Спытал, барин, спытал. Премного благодарен за науку.
В кордегардии пороли мужика за богохульство.
Был он в больших, не по росту сапогах, узкоплечий, но с лохматой неуклюжей головой и внимательными водянистыми глазами. Было жаль на него смотреть, как снимал он заношенный синий кафтан и полосатые холщовые штаны, путаясь в гаснике, не в силах совладать со шнуром. Потом он лег на лавицу, служитель принес охапку розог. Король был в алой рубахе, перехваченной шелковым шнуром, голову он намаслил, и она блестела, борода казалась ухоженной, завитой. Смуглый, суровый, с запавшими сухими щеками, он внушал к себе уважение. Сумароков поймал себя на том, что с робостью смотрит на ката и с той заискивающей улыбкой и подобострастием, когда боятся вызвать внезапный гнев. Король перебирал розги, при этом морщился, укоризненно качал головою. Лицо его побагровело от воодушевления, и неожиданно на лбу и висках проступили клейма «ВОР».
Несчастный пошевелил спиною, острые лопатки проросли, и тщедушное тело словно бы приподнялось над лавицей. Служитель зачитал приговор, встал в сторонке, скучая и ковыряясь в зубах; на сюртуке немецкого покроя виднелись пятна сальной подливы. От служителя пахло неперегоревшей едою. Один солдат сел на ноги, другой зажал меж колен голову несчастного, и тот казался ополовиненной скотской тушею. Только синие вздрагивающие жилы показывали состояние мужичонки.
На всю эту картину Сумароков неожиданно посмотрел иными, незнакомыми глазами, будто никогда прежде не видал наказаний. Прежде он и сам нередко сек, бивал со страстию и тем возбуждением и запальчивостью, кои овладевают гневным, скорым на руку человеком. В те минуты все праведно, и ты вершишь не свою волю и прихоти, но едино служишь отечеству, блюдя его нравственность и крепость. Порою своей плети нет, так выхватишь у казака да для острастки и науки пропишешь ижицу, чтобы чуял проказник свою вину да и гордился после, что сам исправник сек. А когда охолонешь, вытрешь платком сопревший лоб и с укоризною глянешь на поротого, то и ждешь лишь одной благодарности и мольбы в глазах.
Но тут никакого гнева не испытывал Сумароков к мужичонке, он его прежде не знавал, по делу он не проходил, службы не правил. Кто-то донес, что виновник обозвал батюшку пианицей, и теперь его надо изрядно поучить. Король засучил рукава, обнаружил волосатые кисти; прикинул на вес розгу, лениво взмахнул, прикрикнул привычно: «Берегись, ожгу!» Служитель перестал ковырять в зубах, строго поглядел на палача и на голую спину несчастного, сверил силу удара, остался доволен. В глазах солдата, сжимавшего голову, засветился интерес. И вот это живейшее любопытство пробудило Сумарокова, ладонь его, сжимавшая розгу, завлажнела, и с неожиданной решимостью, не чуя руки, он полоснул по белой рыхловатой коже. По спине прошла судорога, поперек ее лег багровый желвак...
– Руки не чуешь, братец, – вскричал Король жестко. – Так-то плечо вытягнешь, занеможешь. Ты его эдак, эдак богохульника. – Король ударил со свистом, розга ровно легла вдоль предыдущей, а третий удар поперек зачеркнул рубцы. – Городи огорожу, городи. – Король на замахе остановил руку, с гордостью оглядел спину. – Эк ты какой квелый. – И ударил с каким-то особым, трудно уловимым искусством.
Несчастный сдался и тоненько взвыл, заверещал.
На десятом ударе Король истратил, измочалил розгу, но новой не взял, стал учить подручного:
– Тощой ты больно, барин. Хлебца надо кушать. Да ниче, на этой должности скоро заматереешь. Пиши да зачеркивай, пиши да зачеркивай. Глаза-ти открой, не мешок выбиваешь.
Солдаты скалились, чиновник скрывал улыбку, строжился, в кордегардии стоял густой запах пота. Служитель считал звонко, чеканил голосом, словно хвалился собой и своей службой. Чиновник тринадцатого класса, он внезапно позабыл о своей постоянной униженности, воспрянул, и прежде пониклая голова с превосходством вскинулась и затвердела. На двадцатом ударе плечо Сумарокова онемело, рука казалась пустой, но он пересиливал себя единственно из упрямства.
«Плеть бы сюда, мою плеть – иное дело», – вдруг подумалось, и Сумароков зажегся злобою. Все поплыло в голове, жар заструился по костям, пришла легкость, но внезапно ворвался густой, бесцеремонный голос служителя, проткнул вязкую пелену:
– Тридцать... Эй, стой! В холодную захотел, кат?
Сумароков опомнился, перевел дыхание, с потухающей злостью взглянул на чиновника, от безумного взгляда служителю стало не по себе.
В комнате Король учил подручного:
– Ты как постелю выбиваешь. Слышь, приятель? А ты с протяжкой. – Король почуял свое превосходство и сейчас отыгрывался, испытывая к Сумарокову легкое презрение, смешанное со страхом. – Ты жиганул, конечное дело, и протяни суку, дай ему вздрючку, чтобы спиной дольше чуял. Ты бил по злобе?, зря силу тратил, а надо в науку. Мы на что с тобою поставлены? В науку поставлены. Ты его, барин, не щади, но и не злобись. Человек нито, не скотина, право. Ты на него маненько осердись, но не по злобе?...
Сумароков лежал на спине, вытянувшись, и не мог найти места правой руке. Тягуче ныло плечо, рука налилась неугасаемым жаром, и чесалась ладонь. Он посмотрел на сырые, вздувшиеся мозоли, усмехнулся.
Ладонь чесалась, зудела всю ночь и дала покою лишь под утро.
Глава пятая
– Ну так что, братцы? За старшего средь нас положим Ефима Николаевича Харитонова. Ну я-то, конечное дело, молодший средь вас, и не мое бы дело толк толковать. Так не осудите, братцы. И порешим, чтоб беспрекословну быть, как батюшке поклонимся Ефиму в ноги, чтобы он над нами встал.
– Ну дак чего ж, дак чего ж... И мы, ежели подумать, не лыком шиты, – загомонили богомольцы, однако охотно соглашаясь иметь над собою атамана. – И мы со старухой с косой не раз чаи пивали. Ну да Ефимке свычнее, он, почитай, с моря не вылазит.
– Знать, согрешили чем, вот Господь и наказал, – высказался Абрамов, и взгляд его, не мешкая, остановился на басалае. – Это не ты ль, ухорез, чего натворил? А ну-ка, братцы, пошшупаем, чего у него в мешке?
И не успел басалай спохватиться и оборониться, хотя какой обороны мог он сыскать середка моря, как мужик с неожиданной ухваткой выпотрошил мешок, и вывалились на лед мужская шуба енотовая, да полушубок желтый, вышитый на груди, да женская шубка курпейчатая. Басалай побледнел, его вороватые скорые глаза от бешенства покрылись изморосью.
– А ну, положь, где взял, конская калышка. – Басалай надвинулся на Абрамова, и мужик струсил, отступил. – На чужое-то привык, раззявился...
Басалай спихал рухлядь в мешок, натуго перехватил горловину, уселся, победно расправив неширокие плечи, обтянутые малицей, но улыбка на лице была дрожащей и заискивающей. Когда затевал промысел, не думалось же вот так угодить, как кур в ощип. Пил воду, а подавился костью. Все хорошо скроилось, да худо сшилось.
Снег сыпал, сеялся, с тихим шорохом скатывался из высокого зеленеющего неба, устилая ледяное поле мерцающей, выбивающей слезу холстиной. И куда ни повернись, куда ни направь взгляд свой – равнина без конца без краю, и нечем зацепиться глазу, утишить душу. Надолго ли хватит скудного пропитанья, надолго ли хватит разума, чтобы управлять телом и подвигать его к бессмысленному пути; все одно смерть. Лечь бы поудобнее, накрыться с головою овчиной, а после под полуденным ветром оторвет льдину и понесет ее к вратам, где кончается жизнь. Сколько раз уже Донат прощался с жизнью, что ныне и страху-то нет; будто давно не живет он, а только тень его бродит по земле-матери.
– Ты, клейменый, отныне тебе неотступно в тягловой лямке быти, – сказал Донат.
Басалай спокойно надел лямку, и прочие тоже впряглись в тягло, послушник по компасу-матке отыскал направление, и потянули страдальцы лодку по ледяному полю к Зимнему берегу на восток. И лежало им пути сто верст. Наконец лед кончился, черная дымящаяся вода распростерлась. Спихнули лодку, сели на греби, к концу дня увидали в отдалении признаки гор. И вот подошли к берегу, уже различили огни в становых избах, вроде бы запах дыма и жилья доносился.
Но внезапно море заколыбалось, бельками покрылось, вспенилось, буруны встали, и с полуночной стороны ударило шквальным ветром. И напрасно последние силы тратили страдальцы, упираясь в греби, так что кочета гнулись, готовые выломиться. Как скорлупу яичную, подняло их на долгий гребень волны и отмахнуло обратно в голомень[100] . Сколько бились тут, не вспомнить уже, а очнулись лишь под ночь, обессилев и покорно упав на телдос лодки. С утра ветер кончился, охотно посмеявшись над путниками, пошел робкий снег, и снова погибающие приковались к веслам, без сна попадали к Зимнему берегу. Пал мороз, вода застекленела, и покрылись страдальцы ледяной пленкой, залубенели. На их глазах лед стал стремительно расти; как чудовищные звери, вздымался он из воды; пластины карабкались, всползали друг на друга, залавливая, погребая лодку. Сонные, прозябшие, в мокрых рубахах, мужики выскакивали из лодки, отпихивали льдины.
Так провели они день, пока не затихло море. Снова вытянули лодку, сменили белье, оделись во все сухое, простились друг с другом, падая в ноги и прося прощения. Донат троекратно целовал клейменого, его запеченное лицо, испятнанное язвами, лобызал черные гноящиеся губы и просил прощенья. Учитель Елизарий беловодский стоял перед глазами как живой и напутствовал Доната. Басалай плакал и давал обет не воровать более, если быть живу. Все плакали, не стыдясь, и Донат тоже заплакал, чувствуя странное отупление и покой на сердце. Потом страдальцы сгрудились на дно лодки, чтобы согреться, загрузили себя одеяльницами и наконец забылись спасительным сном.
Какие сны им виделись, они бы и сами не припомнили, но только утром они снова выползли на лед и, кое-как разломавшись, снова потянулись к Зимним горам. В полдень, посоветовавшись, решили послать за помощью охотника. Вызвался Василий Абрамов; с посохом из можжевела и с горбушкою за пазухою он смиренно отправился к берегу и пропал безвестно. Ночью снова подул всток, лед взломало, и гибнущих отнесло обратно, откуда они с такою натугою тянулись двое суток. Перед рассветом четырнадцатого, потеряв последние силы, плаватели решились на крайний шаг: бросили лодку, тяжелое платье, поклажу, тулупы и одеяла и налегке пошли к берегу в одном платье. Пятнадцать верст они спешили из крайних сил, стараясь согреться ходьбою, но обмороженные ноги с трудом несли их. С версту от земли им встретился тонкий лед, не поднимающий человека. Трое остались на льду, дожидаясь участи, уже бессилые что-либо предпринимать, а послушник монастырский решился продолжить путь, чтобы спасти товарищей. Они простились и расстались, с надеждою наблюдая, как ползет кормщик по баграм, перетаскивая их поочередно, и лед проминался под ним, как скорлупа. Закрыть бы глаза, не видеть всего этого, но то напряжение, с каким гибнущие следили за товарищем, согревало их. Послушник уменьшился с собаку, потом с кошку, но они все упирались взглядом, словно бы этим помогали. И когда исчез послушник из виду, уже неспособные держаться на ногах, страдальцы опустились на лед. А послушнику неожиданно повезло. На припае попался крестьянин из Зимней Золотицы Михайло Нахалов с сыном. На расстоянии версты они проломили лед, провели лодку и приняли гибнущих. Те уже лежали грудою, сохраняя крайнее тепло. Их загрузили внавал, закатили в лодку, немощных до крайней степени. Какой же печальный вид представляли путники сейчас; без слез невозможно было смотреть на них. С неделю ухаживал Нахалов за спасенными, как за своими детьми: кормил с ложки, помогал в нужде, калил избу, чтобы невольные гости протомились жаром. И они пришли в чувство, выбрались из обморока и снова захотели жить.
Басалай лежал у двери на примосте, кустистая бороденка задиралась в потолок. Вор гугнил, не умолкая, плевался и корил себя, что кинул мешок с рухлядью. Он приценивался сейчас к добыче и так полагал, что кинул по зряшному поводу не менее двухсот рублей.
– Это ж собаке под хвост... Валяются деньги-то? Скажи мне, валяются? Все из-за вас, сволочей!
– Эй ты, побойся Бога, – окликивал хозяин, но без строгости в голосе.
Донат лежал возле басалая и улыбался, слушая гугню. Каждое живое слово возвращало к жизни его большое тело. Неизвестно отчего, но радость эта росла, переполняла сердце, и Донат только посапывал в лад своим неясным мыслям и ласково улыбался.
Все нравилось сейчас Донату – и эта прокопченная зимовейка с каменицей из валунов, и сажный потолок с лохмотьями гари, и душный запах кислой рыбы, и полысевшие шкуры, от которых приторно тянуло зверем. Становье пахло родиной так ласково, печально и полузабыто, будто Донат уже вернулся в родимую избу далекого детства, когда живы были родители. Донат разглядывал помороженные руки, похожие на оковалки, бессильно лежащие на одеяльнице, и даже ноющая тоскотная боль доставляла неожиданное слезливое чувство. «Хозяин-то что за удивительный человече, – думал горячо Донат, часто встречая глазами взгляд хозяина, его густую курчавую бороду, текущую от глаз, и прямой, с горбинкою нос с чуткими, тонко вырезанными ноздрями. – Что-то звериное и доброе. Сколько же усердия в нем. Жизнь-то не ахти, окоченеть можно от нее. И никто куска хлеба задарма не даст. Так пошто Беловодья-то у них не состроится?»
Донат разглядывал Михайлу Нахалова с особой пристальностью и той любовью, которая неслышно перетекает в другую душу и находит там ответный позыв. Никогда прежде не замечал Донат в себе столько жалостливого, добросердного внимания к иному человеку, что-то отомкнулось в душе после долгих страданий, и прежний жар отмщения и злобы вовсе потух. Чем более страдал Донат, тем мягче, доверчивее и ласковее становился он: страдание выкроило, построило в нем иную душу. Когда хозяин долго пропадал на воле, Донату тосковалось.
– Ну как там? – спрашивал с ласкою.
– А ничего на воле-то, отче. На воле завсе хорошо, на то она и воля зовется, – отвечал Нахалов, но по карим глазам виделось, что мужик думает упорно об ином.
– Трудно, поди, вам здесь живется? – однажды спросил Донат.
Ему вдруг захотелось поведать о Беловодье, но что-то неожиданно остановило его. Он вдруг подумал, что стал забывать счастливую землю и порою принимает ее за красивый сон. Толпы толпами стремились, отыскивая обетованную страну, но никто не верил Донату, что она была. А нынче захотелось обнадежить Михайлу Нахалова. Только вор рядом, смутный басалай, напоминающий Симагина, от него исходит та душнина, от коей запруживает горло.
Но Михайло Нахалов, видно, сам постоянно думал о Беловодье.
– А где легко-то? Это наши батьки бегали, искали Беловодье, благословенную землю, а мы уж не бегаем. Нет этих земель, – убежденно сказал поморец. – Где гриб рожен, там и пригожен. А жить-то нам можно бы предовольно, только к труду руки приложи да палки в колеса не ставь. Всего-то в нашем краю премного. Зверя-то на промыслу выстанет да заревет на трубе иерехонской, дак как твоя орда несметная. Иль, опять же, птицы возьми пролетной иль боровой, иль той же рыбы. Весло окуни в воду – стоймя стоит в рыбьем стаде. Коли кто лентяй лишь, дак он мимо рта завсе пронесет. Тут ему хоть гору дарового хлеба, так он возле той горы и помрет, не вставши. Видишь ли, ему лень руку ко рту поднести. Есть такой народец, ему на роду написано. Хоть ты озолоти, у него все промеж пальцей. Это есть такая порода, лешачья порода, крестьянскому сословию клеймо. Тут хоть расстарайся ему помочь, однако из этого состояния его не вытянешь. Да, может, лучше и не тревожить его, а то ударится, бедняга, в кабак, зальется вином да такую шутку вытворит, после которой нашему брату и не заспится одному. Пусть уж лучше лежит на печи да на балалайке бренчит.
Нахалов, довольный собою, засмеялся и с лихостью прихлопнул себя по ляжкам. И так у него откровенно получилось, с таким удовольствием он высказался, радый похвалиться постороннему человеку, что у всех, кто лежал в становье в самом бедственном положении, сразу полегчало на сердце.
– Да видим, что первостатейный ты мужик. Лет-то тебе много ли, скажи? – спросил Донат.
Его занимала эта искренность, и он невольно умилялся ею. В Беловодье-то все такие мужики кряду.
– Нащет годков коли интерес, так с бабкой боле не сплю.
– Тебе ж не больше сорока?
– Может, и сорок, а нагрешили – хватит. Восьмерых настругали, пора остепениться. А то какой пример детям подаем? Старшие-то уже вовсе на подросте, к гулянке тянет. Вот, скажут, татка с мамкой на постели валяются с игрищами. – Мужик смущенно улыбнулся, но что-то, видно, тяготило, чуждое его искренней натуре. И он безо всяких вопросов признался вдруг: – Но ежели по правде, так обет дал: более не стричься и бабы не знать...
– Зарастешь – запинаться о волосье будешь. Падешь и с голоду помрешь.
– Подымут...
И поведал Нахалов, как в третьем годе бегали они для промысла на лодье Данилы Кузнецова и двенадцать человек схоронили на Матке. Выслушали не перебивая, и долгое молчание воцарилось в зимовейке. Кто-то хлюпал отсыревшим носом, кто-то пристанывал, тетешкая возле груди занывшие, обмороженные руки. И каждый, наверное, в эти жалостные минуты вспоминал близкого человека, когда-то погребенного во льдах. Ведь у кого из поморян не случались прежде такие горестные минуты, когда, видя конец, надевал страдалец белую смертную рубаху, уже не чая спастись. А выйдет на берег, в бане сымет запаршивевшую шкуру, за столом умягчит ноющее сердце да отоспится, насколько позволит стосковавшаяся жена, – и опять помор как новенький грошик, готов он столкнуть с берега карбас и плыть в голомень, послушный компасу-матке, Полярной звезде и нажитому знанью. И сам черт тут не устрашит, ибо, в какие бы медные трубы ни пролез поморянин, он никогда не давал обета не пускаться более в море. Все, что осталось позади, – как горестное светлое поминанье, очищающее душу, не дающее зачерстветь ей. Но раз пронесло – значит, не судьба, значит, не приспел срок.
Вечерний морозец на воле выжимал воду: льды с хрустом подымались над закоченелыми бережинами, как невиданные звери, грудились в ропаки, испуская длинный стон. Куржак рисовался на бычьем пузыре окна, освещенный неверной луной. На воле-то синё, смертно, морозно, а тут, подле каменицы да под овчинами, как хорошо слышать пусть стонущее, но свое тело. «Брат-цы-ы, живы ведь мы!»
Сам же хозяин и нарушил внезапно поминальную тишину и, укрепив бодростью голос, вскричал:
– А что, мила-и!.. Нам ли на жизнь жаловаться? Мыто живы и солнушко увидим, а?
– Оно конечно – неча скулить, – согласно поддержали из темноты.
По последнему насту сын пригнал лошадей. Загрузились, зарылись в сена, закутались в малицы да совики, никакому морозу пушкой не прошибить – и с миром прибыли в Зимнюю Золотицу к избе Нахалова. Заехали на взвоз; Нахалов садил мужиков на закорки и таскал в светелку, жарко натопленную к приезду страдальцев. Повалил всех на полу (уже и постели были налажены) и, не призывая на помощь жену, сам обиходил болезных, накормил с ложки, в нужде помог. И еще с неделю ходил за нечаянными гостями и словом худым не попрекнул. А как понял, что ожили постойщики, вернулись к жизни, выправил себе отпускной билет у волостного старшины и по первой воде сплавил страдальцев в Архангельский город. Но на той же неделе задержали Доната на пристани, потребовав вид на жительство иль отпускной билет.
Глава шестая
Из истории блокады на Севере в 1855 году
От архангельского военного губернатора к жителям Архангельской губернии. 2 марта 1854 года
«Государь император Высочайше соизволил объявить Архангельскую губернию на военном положении. Нет сомнений, что каждый из жителей Архангельской губернии, услышав это объявление, задумается, что это значит. Сим дается знать, что хотя война еще не объявлена, но скоро может возгореться, если враг наш не оставляет злого намерения защитить турок против нас, православных.
Зная, что жители Архангельской губернии народ смышленый, бесстрашный и всегда отважный, я надеюсь, что они с Божьей помощью не дадут врагу пользоваться нашими трудами...»
«С бывшего у реки Кулой неприятельского трехмачтового винтового судна, не поднимавшего флага, на трех парусных катерах без флагов было отряжено около пятидесяти человек вооруженных английских солдат и офицеров для промера на реке Мезени, на которой хоть они с приливом морской воды 19 июня были в виду Мезени, но со следующим же отливом воды возвратились к морю.
На обратном пути отряженные приворачивали в деревню Семжу, где сожгли судна: шхуну 3-й гильдии купца Виктора Шевкуненко, мореходное судно мещан Василия и Степана Калинцевых и некрытый мореходный карбас крестьянина Степана Филатова. Покушались сжечь и деревню, но оставили, вместо этого взяли в деревне восемь куриц, трех петухов, застрелили девятнадцать голов разного мелкого скота, увезли с собой и не заплатили денег. Были в некоторых крестьянских домах и в питейном, сломав у последнего замок, но ничего не взяли, так как ничего не нашли, ибо все, что можно было спрятать, крестьяне перед этим случаем вывезли и спрятали за деревней».
Из народных слухов. «После того как от Неноксы ушли и от Соловков, подошли англичане в устье Двины к Мудьюгу. Навстречу им скрытно двинулась бурса зверобойная с Зимнего берега. Во главе ее был долгощельский мужик Егор Буторин. Он хитрый был человек, куда как хитрован. Начинил ковригу хлеба порохом, приспособил курок от кремневого ружья, и поп крест начинил порохом. Подняли белый лоскут, будто встречают победителей иль сдаются, и подошли к английскому эскадренному судну. Они все на якорях стояли. Подошли (а на каждом карбасе китобойном по двадцать гребцов с каждого борта), поднялись на корабль. Впереди поп с крестом, за ним Егор-мужик с караваем, посередке солонка с солью сидит. Он каравай бросил под ноги англичанам, а поп крест кинул в машинное отделение: единственное было паровое судно. И быстрехонько в карбас и давай отгребаться в сторону. На носу пушчонка стояла, так в упор еще несколько ядер кинули. Тут из-за Мудьюжского мыса бурса выкатила, карбасов тридцать, да у каждого мужика по ружью. Пришлось эскадре поднимать якоря и отчаливать.
Подошли к Мегре – там ни одного мужика; какой был скот – порезали и ушли. Под Койдой встретили карбас тоньской, полный семги; обошлись мирно, рыбу забрали, деньги выплатили. Потом в устье Мезени попали в Семжу. Народ весь подался в лес. Остался только дед Матля 105 лет, еще крепкий старик, кулаком из любого мог дух вышибить. Англичане его напоили допьяна, какой скот был – порезали, деньгами дали деду и ушли. Когда вернулся народ семженский, то узнали про деньги, отняли у деда, стали делить да и подрались...»
«А Яшка-то Шумов из Дорогой Горы что учудил: страху не знает мужик. А был он на семужьей тоне, когда англичане объявились и нужно было весть дать в Мезень. Испекли они житнюю кулебяку с кислой рыбой и спрятали в нее донесение волостного старшины. Поплыл Яшка на карбасе, тут с английского фрегата его и взяли в плен. Допрос учинили, дескать, куда да зачем. А Яшка-то врать, дескать, вот, попал в беду, в морской унос. В сундучок капитан поглядел, там в тряпице кулебяка, и такой от нее шибко худой дух идет, что с англичанином тем дурно сделалось. Он и говорит, поди, дескать, прочь да на глаза не попадайся боле, и дал в дорогу бутылку рому. Прибыл Яшка в Мезень, доложился о неприятеле, и после крымской кампании ему серебряная медаль вышла и золотые часы. Сам царь его в Питер вызвал, спасибо говорил...»
Из донесения военному губернатору. «4 июля 1855 года неприятельский парусный фрегат остановился в двух верстах от берега, где дозорили выборные охотники деревни Дорогая Гора Мезенского уезда, и послал на четырех гребных судах до ста человек, которые вышли на берег, имея при себе белый флаг, и отправил с этим флагом четырех человек. Сии, не доходя до рыбацких становий четырехсот сажен, остановились. Для переговоров с неприятелем были посланы сельский писарь Плотников и крестьянин Петра Чикин, которые держали вроде переговорного флага – привязанный к шесту белый платок. Переводчик с фрегата, обратившись к писарю, сказал:
– Мы требуем у вас волов, овец и коров за деньги, которых сколько угодно берите, и воевать с вами не будем, мы вас любим.
На это крестьянин Петра Чикин отвечал:
– Волов у нас вовсе нет, а овец и коров мало, и продать вам нельзя, ибо на это предписания от начальства не имеем.
– Если не дадите волов, – сказал переводчик, – то подойдем ближе к берегу, сами возьмем, а деревню сожжем.
Но писарь и крестьянин Чикин снова отвечали:
– Нет вам ни коров, ни овец.
Потом переводчик спросил:
– Кто у вас начальник?
– Голова, – отвечали ему.
– Просите у головы о выдаче волов, – сказал переводчик, – и придите сюда. Я здесь дожидаться буду.
Вернувшись с переговоров, писарь Плотников и крестьянин Чикин рассказали обо всем унтер-офицеру Федорову и крестьянам и затем с согласия сельского начальства дали знать, что нет для супостатов ни волов, ни овец, ни коров и что больше переговоров не будет. А коли охота есть и сунутся до деревни, то получат должный отпор. Тогда все выходившие на берег люди отправились по своим гребным судам, из коих одно пошло к фрегату, а остальные три вдоль берега к устью реки Мегры».
Глава седьмая
Вдвойне украсилась жизнь Сумарокова, когда отыскался в тюремном замке враг и в будущем предстояла суровая борьба; и хотя был палач в угнетенном, подневольном состоянии, но оно лишь усиливало и обостряло чувства. Много ему порассказывали про смотрителя Волкова, что палачей он не любит с давних лет и когда рассердится на сторожей иль арестантов, то их обыкновенно милует, построжив лишь словесно, но сам меж тем бежит в комнату палачей и немилосердно бьет их самолично, приговаривая: дескать, умысел затаили? А кто вам, ироды, поверит, я вас голодом заморю. И Королю намедни досталось строго и без особого повода. Волков приволок ката в караульный дом и, пока секли заплечного мастера, разложивши на лавке, стоял в ногах и восклицал: «Я тебя до смерти задеру и в землю загребу».
– Ну и как посекли, с перцем аль без перца? – ухмыльнулся Сумароков, выслушав рассказ палача.
– Изрядно поучили, мастера. И то скажу, барин, без науки кто живет? Больной да старый, кому на погост пора. Голова наша – темный кладезь, верно? Мало ли что учудит без присмотру. Что вздумается ей – накуролесит. Тут и упредил меня смотритель, дескать, паря, не зарывайся шибко, шерсть на шкуре не завивай. А то противу завитой шерстки ой больно. И-эх, и-эх! – Король сам себя азартно стегнул по ляжке, отшиб руку, потряс перед собою и засмеялся, довольный жизнью. Он любил ту жизнь, какая ему выпадала, и нимало не держал зла на судьбу свою. – Без порки-то куда, барин? Без порки народ весь разбредется, рассыплется в пыль. Его и не соберешь.
– Куда собирать, дурак?
– На войну, поди, призовут иль еще по какому делу стабуниться. Ежели не пороть, так никакого устава не сыщешь, управы не найдешь, верно, барин? – Король подмигнул. – Да мало нынче порют, вот беда. Наш брат скоро не у дел будет. Говорят, розги повывелись. Врут аль как?
– На наш век хватит. А как лучше-то, мужик? Чтоб тебя секли иль других сечь?
– По мне бы, дак всех надобно, без разбору, окромя детей малых и стариков старых. Разложить хорошенько, спустить штаны иль задрать подол да по мягким местам чтоб, с расстановочкой. И-эх, и-эх, чтобы неповадно. Кто порки-то не спробовал, ваше благородие, тот, значит, и жизни не спытал.
Король неизвестно чему рассмеялся, скинул опорки, возлег решительно на кровать и мягко потянулся. Сумароков понял намек и позеленел, но сразу не нашелся что ответить иль побрезговал связываться.
– Мне то обидно, – продолжал меж тем Король, уставившись в потолок, – что вышло там всяческих ограничений. Барина не посеки иль там купчишку, попа за бороду не выволочи[101] . А чем лучше-то они, ежели копнуть? Как лапоть ни плети – без кочедыка не обойтись. Вот вы, барин, чем отличны от меня? Та же вонючая требуха, та же изношенная шкура. Мою шкуру ежели взять, то она противу вашей куда выгоднее потянет, она без износу, нещадно поротая и дубленая. Куда хошь поставь, на подметки возьми или, опять же, на переда... Нет, коли бить, так всех бить, чтобы без обиды. Иль вовсе тогда не пороть. Обидно? Обидно-о. – Король не досказал, повернулся к стене, затих.
Сумароков помрачнел: только тут дошло до него, как обманулся он, позабыв о последнем указе. Сколько люду внезапно ускользнуло из-под его руки. Даже паршивенького гимназистишку не выволочи; темный мещанин тебе в рожу плюнет, а ты утрись, не смей, жди приговору. А там, в суде, тоже все заодно, друг по дружке горой стоят. Ты меня сегодня спас, я тебя завтра. Вот тебе и власть, Никита Северьяныч. Побродяжку кинут тебе иль вора клейменого, от которого мать родная отступилась, вот и пори его, тяни руку, пока не отвалится. И это твоей гордости утеха?
– Ты меня с собою не ровняй, слышь, скотина? Я на тебя управу везде сыщу, чтобы не забывался, – вспыхнул Сумароков, и нижняя костлявая челюсть его задрожала от обиды.
Он полез под кровать, чтобы достать из укладки плеть и выбить из негодяя кислую шерсть. Но внезапно раздумал Сумароков иль поленился открывать висячий замок, но только застыл на мгновение на четвереньках, вдыхая заплесневелые запахи житья. Король же оставил слова Сумарокова без внимания, только плоские литые лопатки напряглись под полосатой рубахой. Он украдкой пошарил под подушкой, и острое лезо воровского хитрого ножичка остудило пыл. Лопатистой широкопалой ладонью Король дотянулся до плеча, заросшего седым кудрявым мохом, и лениво почесал. Не поворачиваясь, глухо заговорил вновь, серьезно, сосредоточенно. Видать, тюремная долгая жизнь настроила Короля на размышления.
– А вот как, барин, полагаете, ежели всех секчи без разбору, сколько палачей надо, а? Веселая бы жизнь пошла. Ты слышь. Никита Северьяныч? – Вопрос застал Сумарокова врасплох, стоящим на коленях. Он поднялся, отряхнул пузыри серых пестрядинных штанов, пожал плечами. А Король поразился внезапно пришедшей на ум мысли, порывисто повернулся на правый бок, изумленно вылупил черные глазищи. – Сколько нашего брата запонадобится? Цельное войско, почитай, не менее. Одежи одной пошить да кормежки – с ума посходить. Иль друг по дружке секчи? Ныне ты меня, завтра я тебя... Да нет, тут слабина может выйти, осечку дать. Начнут взятки совать, ловчить, маслом подмазывать. Опять никакой строгости. Ежели бы досмотр особый.
– Досмотр, досмотр, – визгливо перебил Сумароков, срываясь на крик. Король одним лишь своим присутствием выедал на душе Сумарокова язвы, а должность, на кою заступил вдруг, показалась бессмысленной. – Бога тебе мало? Какой еще досмотр, каторжная шкура... Всех сечь – и точка.
Ну я так, к слову лишь, – виновато протянул Король, внутренне смеясь над сожителем. Недолго тебе прыгать, барин, ой недолго.
Но Сумароков уже вспыхнул, и трудно было залить сердечный жар. И вовсе бестолково, сам пугаясь своих слов, Сумароков вдруг спросил, будто кто тянул его за язык:
– Эй ты, вахлак! А царя кто будет сечь? Другой царь?
– Эвон куда замахнулся. Царя нельзя, не-е, – убежденно протянул Король, пугливо оглядываясь на дверь. – Разве на отца-батюшку подымешь руку? Хоть опять же и тебя возьми. И неуж на отца родимого руку вздымешь?.. За нашего государя сам Бог хлопочет... Но, однако, смелой ты, барин. Гляжу не надивуюсь, сколь ты хват. Топор-то востер, да дерева без топорища не ссекешь. И не боишься, барин?
– Скотина! Я привык, чтобы меня боялись. Я с тобой пока ласково, но ты остерегись!
– Сразу и собачиться, – тихо пробурчал Король, отворачиваясь к стене и замолкая.
Уже через неделю смотритель Волков выказал свой характер.
В караульном доме он попросил офицера, чтобы тот снаряжал с палачом такого конвойного, который бы не давал Сумарокову ходить по рынку более четверти часа. Сумароков едва успевал дойти до рынка и прицениться к телячьей вырезке, готовясь поторговаться, как солдат грубо приказывал поворачивать обратно. И так повторялось трижды. Напрасно Сумароков гневался на солдата, тот был нем и безгласен.
Старик смотритель с белой младенческой головою, тихо шаркающий по тюремным коридорам в подшитых катанцах и за рюмкой хереса в одиночестве вспоминающий кампанию двенадцатого года, с такой яростью невзлюбил Сумарокова, что знай бы про то палач, с ним бы сотворилось худо. Свой дух Волков внес даже в палаческую комнату, по-всякому наговорив Королю на подручного, дескать, тот имеет характер буйный, самый что ни на есть разбойничий и не даст ему, Королю, умереть своей смертию, но во сне убьет обязательно, и что он, Сумароков, поступил в сию должность по душегубству. Выслушав остережения смотрителя, Король хоть и стал скрытнее и податливей, но нарисованный смотрителем облик Сумарокова показался куда ближе. Король взял слова смотрителя на веру, нимало не сомневаясь в них, и теперь смотрел на подручного иными глазами, не перечил, добровольно ухаживал за жильем, топил печь и выносил парашу. Знай бы смотритель о впечатлении от своих слов, он, пожалуй, взял бы их обратно.
Еще при заступлении в должность смотритель недодал Сумарокову по тридцать копеек с каждого кормового рубля и вот однажды приказал явиться для получения недостающих денег. Жил Волков на втором этаже в небогатых покоях и обычно принимал у себя в крохотной боковушке, коя считалась за кабинет. Он сидел за массивным столом возле окна, когда вошел Сумароков, дернул за шнур звонка и был почти неразличим, лишь намечался неясный силуэт, да волосы прозрачно пушились, открывая массивный покатый лоб. Смотритель не пригласил палача войти, но пальцем указал место возле порога, чем сразу унизил Сумарокова. Он вспыхнул, побледнел, пронзил смотрителя грозным взглядом. Но тот сидел, склонившись над бумагами, а может, делал вид, что пишет, и так продолжалось минут двадцать. Посчитав выдержку достаточной, смотритель неспешно вышел из-за стола, приблизился, внимательно изучая Сумарокова младенческими, широко распахнутыми глазами. Веки были нежно-розовыми, без ресниц. Сумароков уставился на смотрителя не мигая и не отводя взгляда. Так они постояли какое-то время, и в этом затяжном молчании чуялась близкая гроза от неприкрытой вражды. Сумароков покачивался с пятки на носок, больно сцепив за спиною руки.
– Вам нехорошо-с? – участливо спросил смотритель, но Сумароков уловил в голосе издевку.
– Нет, отчего...
– Как службу несете, господин палач?
– Как нельзя лучше. Стараюсь по мере сил и возможностей, ваше высокоблагородие.
– Ну уж, ну уж. Практика?
– Жалею, что знакомство с вами не случилось ранее. Весьма жалею...
– А то? – Смотритель не выдержал тяжелого взгляда, уронил голову...
– Таким, бывалоче, слуга к порогу рюмку выносил. Терпеть не мог я лакеев, – холодно отчеканил Сумароков каждое слово.
Пушистые волосы на голове смотрителя вздыбились, и кожа на темени побагровела. Сумарокову показалось, что старика нынче хватит удар. «Вахлак, чернильная душа, и что таких держат на службе?» – подумал он равнодушно и сразу остыл сердцем, расслабился, все так же мерно раскачиваясь на ногах.
– Смир-на-а! – вдруг завопил смотритель и, наверное, сам испугался своего визгливого голоса, вздернул головою, зрачки его тупо застекленели, и Сумароков невольно испугался, увял. – Кровопийца, тупая скотина, свинья! Ты не мог себе, кроме как на сей должности, заслужить хлеба. Так знай, жизни я тебе не дам. Не дам! – вновь взвизгнул смотритель. – Я тебя изведу со свету, пока сам живой...
– Не смейте так со мной вести себя, – пробовал защищаться Сумароков, позабыв, что он подневольный палач. – Сам господин губернатор не позволял себе подобной распущенности! Вы низкий, недостойный человек!
На этом слове речь Сумарокова скоро кончилась, хлесткий удар по лицу лишил его всяческой способности соображать.
– А смею, коли правды хотите слышать!, – торжествующе вскричал смотритель. – Душе своей вняв и рассудку – смею, да-с! – И ударил со второй руки, так что голова Сумарокова качнулась и губы закровенились.
– И не стыдно вам? Как рука поднялась на дворянина, – потерянно прошептал Сумароков, выбитый из прежнего своего уравновешенного состояния. – Ведь стыдно должно быть, чтоб беззащитного так унизить. – Невольные слезы выплавились на глазах палача, но они лишь более взбесили смотрителя, усмотревшего в этом бесстыдную игру.
– Жи-вот-ное-е! Ты подвел дворянский род. Осмотритесь, кровожадный, кто подле тебя в каморе... вор из воров, но и те ближе к Господу Богу. Он защитит их... не оставит без призрения... У тех надежда есть исправиться хоть там, куда призовут после смерти... хоть там быть в чистоте. Тебе, иуда, нигде нет ходу... Прочь с глаз моих, прочь, мерзкое животное!
Смотритель выдернул из штанов широченный плат, резко встряхнул его и судорожно вытер ладони. Его трясло всего, и вислые подагрические щеки посинели от удушья.
Сумароков уже спускался лестницею, но все еще слышал, как яростно топал ногами и что-то бессмысленно кричал наверху смотритель. Совершенно убитый подобною встречей, Сумароков едва волочил ноги, проклиная и жизнь свою, и бешеного старика смотрителя, придумывая ему всевозможные кары. По камерам уже каким-то образом пронесся слух, и арестанты толпились у распахнутых дверей и отпускали всякие непристойные шутки, нимало не убоясь палача. Да и навряд ли кого видел сейчас Сумароков. И может, впервые за эти дни он почувствовал всю унизительность настоящего своего положения: он оказался отринутым от всех, как бы за непреодолимой пропастью, и ничья рука помощи не протянется навстречу, чтобы помочь перебраться по шаткому, неверному мосточку. Не успел Сумароков дойти до своей комнаты, как его догнал сторож и приказал следовать за собою.
Сумарокова отвели в подвал, в давно не топленную секретную, куда, по обыкновению, помещали особо дерзких проказников, и заперли за ним дверь. Но даже отъявленным шишам и бродягам давали в секретную тюфяк, одеяло и подушку, и сердобольный смотритель приказывал через день носить горячих штей. Сумароков же пять суток провел на голом дощатом топчане в окружении крыс, и лишь по утрам сторож просовывал в окошко ломоть хлеба и кружку воды. И метался Сумароков по холодной, снедаемый угрюмыми, непросветными мыслями; более всего был поражен он своей нынешней беззащитностью, и чувство это, прежде неведомое ему, доводило до отчаяния его сумасбродную душу.
Смотритель спешил исполнить свои угрозы.
Глава восьмая
Война особых хлопот Поморью не принесла, но жизнь вроде бы обновила, и теперь отсчет времени пошел от замирения с англичанином. Пересудов и баек хватало на долгие зимние вечера, а норовистые, характерные люди пошли на деревне по иному счету, пред ними не грех было и шапку сломать. С Летнего да с Терского берега приносили новые вести; но они уже не тревожили, но забавляли досужий ум. Натерпевшись страху, про страх тот позабыли; получившие отличия за храбрость обмыли те награды в кабаке и вновь впряглись в тягловую лямку будничной долгой жизни; кто в сражениях не был иль по страху удалился в леса со своими домочадцами, те вроде бы слушали байки, открыв рот, но в душе тлела не то чтобы обида, но непонятная ревность, и они как бы ненароком при случае пытались ущемить рассказчика, подпустить едкость, уязвить, уколоть, обязательно вызвав смех. Иной же герой, нацепив медаль на затрапезный кафтан, щеголял по улицам, хвалился собою, и в кабаке за косушкою вина его военная история выглядела столь необычною, что рассказчик наш и сам поначалу смущался и дивился ей; но новая рюмка вина делала свое дело, он уже позабывал прежнее свое смущение и наполнялся довольством собою и особым, незнаемым прежде счастием, пока хмель не ронял молодца с ног на заплеванный пол, но тут приступал половой и самым обычным мужицким образом выволакивал молодца на улицу в снежный завал, где и забывался герой, беззаботно подложив под кулак голову и нимало не беспокоясь о своей жизни. Пока-то спохватывалась его баба и по чьему-то наущению с вопом бежала к вертепу, где валялась распьянцовская душа, и, закатив благоверного на санки и примотав веревками, волокла домой, не скупясь на бранные слова...
Так примерно катилась Яшкина жизнь, лишь с тем отличием, что оставался он бобылем, а жена его Тайка шлялась неведомо где, и слухи, что доносила народная молва, были один чуднее другого. То ли стала она святой и занесена в святцы; иль замерзла под забором с пудовыми веригами на шее; другие говорили, что видели в Питере, где знахарит она и в великом почете у важных господ, а на званки по случаю ездит в своей карете и в мужьях у нее какой-то чиновный бобер. Иные толковали, что предалась баба распутству, правит злодейскою шайкой и ездит на мужиках верхом, после справляя бесовский шабаш. Ах ты, прости Господи, сколь причудлива и пространна человеческая молвь, сколь рассыпчата она и прихотлива: ты ее дверью прищемишь, а она в печную трубу лезет и корчит зверские рожи. Русский народ любит лить колокола, таких чудес загнет семь верст до небес, такого наизмышляет, что и сам не верит после, а плюется лишь своим же байкам. Яшка же слушал басни насупясь, коротко похохатывал, будто всхлипывал, и всем видом выказывал небрежение к бабе своей, ухмыляясь, подпуская всякие гадкие сальности и скаля зубы, но сам-то глубоко в душе все принимал близко к сердцу и пил горькую. Ушла баба в темные ходы и унесла с собою в торбе Яшкину душу. Сказала ведь на прощание: «Похожу и вернусь, а ты жди». Тогда он лишь рассмеялся злобно, скрепя сердце и не выдав отчаяния, плюнул в узкий след жены, но слюна не впиталась в дорожную пыль, свернулась в комочек от жары, засохла и превратилась вдруг в сероватый мутный камешек с паучком внутри. Жена скрылась за дорожным извивом, а Яков поначалу пнул безразлично тот камешек и машинально пошел следом. Потом поднял, положил в карман и долго носил в кафтане, пока не потерял где-то...
«Не судьба, ах не судьба, – размышлял он порою. – Зачем покусился на чужое? Чужое-то меж пальцев растечется да где-то себя и выкажет. Вот и случилось: крестовый брат в Сибири коротает, баба ушла, и темные деньги уплыли, не принеся счастия. Все она, все она, сука. Воля и добрую жену портит, а порченую – вдвое. Лупить бы пуще, так небось ноги бы мыла да воду ту пила. Поставила печати, присушила, а самой и след простыл. Он и поверил. Басни бабьи, а дурак-то и любит».
И мужик ведь удачлив, а в избе все паутиною заросло, запустошилось. Несчастному человеку и деньги не впрок. Но в войну когда отличился и медаль вышла за храбрость, Яшка вроде бы образумел, в ум пришел и так решил, что жизнь переменилась. Сей слезами – радостью пожнешь; но по этому присловию не приходила радость, в бездну падал мужик. И так понял он, что война остерегла, дала знак иному направлению жизни.
И сказал себе Яшка: «Баста, слеза камень точит. Вот пойду в питейный дом, распоследнюю косушку выпью и начну новую жизнь». Надел рубаху новую, кафтан с медалью, сапоги вытяжные, в жилет золотые часы с золотой цепью. Вступил в кабак, с порога огляделся, сразу часы выудил из кармашка, время посмотрел. И столь счастлив он был, такою улыбкой озарился его изможденный серый лик, что многие питухи позавидовали Шумову. Но закричали: «Ерой, с тебя привальное! Откуль прибыл, с каких краев?» Степенно прошел Яков к стойке, заказал целовальнику четверть вина, обернулся, опершись локтем о прилавок, бороду огладил и сказал громко, хмельно:
– У царя-батюшки на свиданке! Здоровкался, вот как с тобой, Тима Клоп.
Маленький рыжеватый мужичок, обозванный Клопом, побагровел, смешался на миг, но, ища поддержки от сотоварищей, оглядел всех и воскликнул:
– А ну ври!..
– А и не вру! – твердо, увесисто сказал Яков. И эта уверенность поколебала на миг, такими словами понапрасну не кидаются. – Вот и часами государь одарил. На, говорит, носи и помни. И как нужда будет, то приходи. – Он добыл из кармашка тяжелые часы, взвесил на ладони, будто выверяя ценность.
– А ну-ко дай глянуть. Русскому человеку дай пощупать. Ты его на слово не проймешь!
Подходили, открывая часы, слушали тик, дивились, на зуб пробовали. Яков ревниво следил, слегка подаваясь вперед грудью, ибо цепь золотая мешала держаться прямо, а вовсе отпускать часы от себя даже на мгновение было жаль. Так, счастливый и искренний, как ребенок, призывающий всех радоваться своей удаче, ходил Яков по питейному дому, загребая ногами опилки, а сам меж тем и одну стопку пригнул, и другую. Тут кто-то из новых вошел в кабак, более сметливый на трезвый ум, тоже глянул на часы и вдруг говорит:
– Вре-ешь. Коли от царя, дак где подписка, что от царя? Стырил где, а нам хвалишься!
– Это я стырил?
– Ну а кто ж, не я, верно?
Он повертел часы и небрежно сунул их обратно Якову. Тот остолбенело, моргая пушистыми ресницами, глядел на мужика, слова заклинило в горле.
Значит, я стырил? – повторил он.
– Ну дак... Вот и пропьем.
– Выходит, украл?
С этими словами Яков бережно положил часы в кармашек жилетки, застегнул кафтан на все пуговицы, пригладил седые волосы на две стороны и вдруг со всего размаху сунул кулак в рыло Фоме неверующему. Того и перекосило разом, юшка потекла, он и вскричать не может, лишь бестолково мычит да месит кулаками пустой воздух.
Беды терпети – надо каменное сердце имети. А у Яшки оказалось оно восковым. Захлестнула его ярость, забылся он, и, в душе воскликнув обреченно, он разом зачеркнул всю свою будущую жизнь, кою с такой ласковостью наметил. И еще раз по второй скуле чесанул он обидчику. И что тут поднялось. Кабак вскипел, и тайная ревность в душах питухов кинулась в головы, смешалась с хмелем. И пошли они на враля и тут бы смяли его, да зашел волостной старшина, грозно оценил картину.
– Ты чего? – подошел к Якову и ткнул в грудь пальцем. – Ты чего, ерой, шебутишься? Не все допил?
– Да вот, не верят, что у царя был. Подпись, говорят, где? А мне на што она? Мне и подарок на што? Я царю руку целовал. – Яков сунул ладонь в нос старшине, тот откачнулся. – Чего качаешься, чего брезгуешь? Ты царя видел? Ты руку целовал? Да тебя, вонючего козла, и на порог не пустят, как нехристь ты и трус. Он мне качается, а ну цалуй, пакостник!
На этих словах речь Якова Шумова кончилась, его скрутили и отвели в холодную. Подержав три дня, старшина взял подписку о невыезде и обещал по истечении времени хорошей порки.
– Как по суду выйдет порка, так и высеку, ерой!
Но тут, проездом с Печоры, побывал в Дорогой Горе первогильдийский купец Михаил Сидоров, он нанимал мужиков на нефтяные прииски, сулил большие деньги. Ему-то и пожаловался Яшка о своей нынешней нестерпимой жизни. Выслушав любопытную историю, Сидоров, не мешкая, отписал в Петербург письмо:
«... Крестьянин Мезенского уезда Яков Шумов во время военной кампании в июле 1855 года проявил храбрость и смекалку, за что был награжден медалью и представлен государю и был его императорским величеством лично принят и осчастливлен подарком через г. министра Двора золотыми часами. Явясь с этими часами в место своего жительства, Шумов подвергся от своих собратий, а главнейше от волостных начальников преследованию за самохвальство, так как, по мнению крестьян, царский подарок должен быть украшен или портретом Государя, или сделанной надписью, а на подаренных Шумову часах нет ни того, ни другого. Шумов, доказывая действительность полученной им царской милости, дозволил себе дерзкие выражения и даже действия против волостного начальства и крестьян, за что был отдан под следствие и суд и теперь находится в самом горестном положении. В бытность мою крестьянин Шумов умолял меня довести до сведения Вашей светлости его нижайшее прошение исходатайствовать всемилостивейше ему прощение за дерзости, в какие он невольно был увлечен, отстаивая свои права на полученную награду...»
Теперь спокойно жди милости, – утешал купец Якова. – Царь усердных слуг не забывает и не оставит без помощи. Да сам-то не балуйся, держи себя в строгости.
Сидоров уехал из деревни следующим днем, а затем, не дождавшись всепрощения, бежал из Дорогой Горы и безродный сын, бобыль Яков Шумов.
Он отправился в Русь искать жену...
И пришел Яшка в Москву, навестил Рогожское кладбище, но там о бабе его не слыхали. Правда, кто-то из богомольщиков припомнил, что лет пятнадцать тому явилась к скопцам пророчица из Поморья, вещала им, но после по суду вышла ей Сибирь, и она пропала там. Стал Яшка искать по белокаменной, по меняльным лавкам, по подворьям и кабакам пристанное скопческое место, но всякий раз, когда речь заходила о «белых голубях», все замыкались, отводили взгляд в сторону иль заминали разговор, будто речь шла о запретном и необычайно страшном. Хулить хулили, всякими поносными словами обкладывали, бранили нещадно, дескать, это и не люди вовсе, а вылюдья с лисьими хвостами и волчьими головами; сунь такому палец в рот, всей руке пропасть; от их алчности стоном стонет Москва православная, все сокровища под себя загребли, и не одна душа христианская уже загинула, заручившись помощью скопца.
– А вот где они живут, кто правит ими, куда направить стопы свои?
– Прошу прощения, милостивый государь, потому как не мое то дело, и не знаю я, не знаю-с. Темное дело, скажу тебе, братец, весьма темное, – закатывал глаза разговорчивый во хмелю кабацкий завсегдатай, занюхивая рукавом рюмку желудочной. – Бесы потому как, а с бесами не сладить... Ты бабу, говоришь, свою ищешь? Да ты наплюй на нее, потому как радоваться должен. Баба с возу, кобыле легче. Нет, парень, шутки, гляжу, шутишь, кто в наше время по бабе страдает? Ты небось с сыскной полиции, а после мне и отмстится. – И собутыльник хитро подмигивал глазом, дескать, знаю ваши штучки. – А впрочем, помогу, через мою крайнюю неприязнь к ним. Ты после пополудни сразу поди-тка в трактир Горячева да и поспрашай Момона. Момон все знает. Он любит там щец вчерашних за три гроша поесть и тысячное дельце сварить. Вот уж тебе и скажу-у...
Так Яшка оказался в трактире Горячева, спросил у хозяина про Момона, и тот, поколебавшись слегка, показал взглядом на худенького, узкоплечего человечка, в одиночестве сидящего за столиком в углу залы. Яшка подошел, бочком сел на стул, сломал с головы шапку. В серые окна лился яркий полдневный свет, и совершенно нагая голова Момона сияла, как отглаженная деревянная колотушка-киянка, которой конопатят стены. Уши стояли высоко, причудливо изогнутые, острые, хрящеватые. Они, наверное, хорошо и далеко слышали. Момон сидел, задумчиво углубившись в еду, ел мерно, не глядя в залу, и уши двигались в лад челюстям. Яшка пожалел этого лысого старичка и глубоко вздохнул. Момон отвлекся от щей, взглянул мимо, сквозь просителя, в углах губ застрял мокрый капустный лист. Челюсть у Момона оказалась мощной, бульдожьей, глаза же были разноцветные, разбежавшиеся к вискам.
«... Боже мой, признать ли? Эко диво с человеком. Прежде был такой проказник, пронырливый парнишко с круглым, мясистым лицом, но как перевернуло, как переиначило его. Да тут любой из соседей, кто с малых лет знал Кланьку, пройдет мимо и скорее опустит взгляд, только чтобы не выдать своих чувств. Брат ли? И неуж так переменило, перелицевало его?»
– Кла-ня-а? – решившись, тихо позвал Яшка, еще не веря глазам своим. – Братец мой любезный. Ты ли, сукин сын?
В пестрых глазах Момона пробудился интерес, сначала мелькнуло во взгляде недоверчивое, почти злобное, но, стараясь скрыть истинность чувств, он торопливо опустил голову, помешал ложкой в остывших щах и вдруг вскочил, вскричал тонко, с подвизгом и близкою слезой в голосе:
– Брат мой! Брат! – Обежал вокруг стола, потянул растерянного Якова за рукав, прижался к широкой груди, украдкою принюхиваясь, и уловил хмельной дух. Он вминал костистое лицо в пропахшую заношенную поддевку и повторял однообразно, прискуливая: – Брат ты, ой брат мой! – Но сам меж тем раздумывал, куда повернуть встречу. Решил сразу: «Отыскал, скотина, небось явился денег просить, а я тебе кукиш с маслом, на-ко выкуси дулю в нос. Понюхай, больно ли хороша?» – Ой как рад я, как рад, Яшенька. Брат мой, ты явился, мой брат. Никого на белом свете, окромя тебя. Как глаза закрою, так и стоишь в очию, весь живой прямо. Ах ты Господи, прости. Все думаю, пошлю братцу гостинец, пусть вспомнит. Грошик лишний заведется – и направлю с попутьем. А грошик, зараза, он круглый, к рукам не льнет, но все норовит прочь... Ну ты садись, давай рассказывай. Как там да што? – Момон не давал вставить слова. – Ты небось голоден? Как я сразу не догадался. Щец хочешь? Раздели трапезу, выкушай. На? мою ложку, хлебай, не стесняйся. Видишь, как живет твой младший братец. Не удал, ой не удал, вот и бедствую, сирота, всеми кинутый... Эй, половой, пару чая, гость у меня. Да штоб на одной ноге. Ой, брат, брат, как я по тебе соскучился, как истосковался.
Момон по-собачьи склонил голову к плечу и с пристрастием и ревностью оглядел обличье брата, позавидовал: а красив мужик, красив. Будто цыган. Седина в бороду – бес в ребро. Небось кот-котище, не одну юбку на голову задрал. Но глаза тоскливые, знать, не сладко. И спросил с искренней жалостью:
– Тебе худо, братец? Ты не скрывай, любезный, доложись. Я вижу, что тебе худо.
– Да нет, отчего ж, – откликнулся Яшка, жалея братца и отчего-то стыдясь его.
Стремясь побороть сердечную сумятицу и пробудить родство, Яшка протянул руку и широкой мозольной ладонью накрыл ладонь Момона; но почудилось, что коснулся лягушачьей лапки. Момон неторопливо выдернул ладонь, его скопческая натура не терпела всякой лепости, тем более от еретика.
– Нет, тебе худо. Ты не кобенься, коли я говорю, – приказным тоном настаивал Момон. – Такие, как ты, помирают, по глазам вижу. Таким домовину заказывают да живых в гроб и кладут загодя.
– Ври, да не завирайся! – вспыхнул Яшка, но тут же сбавил тон.
Может, и не брат напротив, а луканька играет с Яшкой, водит за нос и сейчас устроит пакость. Он торопливо перекрестился, но брат не сгинул, на желтом костяном лице играла едкая усмешка. Господи, от одной матери пошли, но из разного семени, и вот развело братьев по земле, будто чужеродных и постылых. Искренняя радость скоро сгорела, и сейчас Яшка томился. Ему захотелось щелконуть братца по лбу, как бывало в детстве, турнуть его хорошенько, чтобы знал он свое место, не забывал обычаев крестьянского рода.
– Ты вот ушел, да и пропал. Отрезанный ломоть, значит. Но если со мной и взаправду худо?
– А-а-а! – торжествующе засмеялся Момон и потряс костлявым изогнутым пальцем. – Воробья на мякине не проведешь.
А Яшка с новой тоской подумал: «И чего галится, скотина? Нет бы за-ради встречи привальное на стол. Брат как-никак, в кои-то годы свиделись».
– Худо мне, Кланька, ой худо, коли шляюся по земле, как басалай. Все бросил, ничему не рад. Ты не запамятовал, поди, что баба моя как ушла из дому, так и с концами. Пятнадцать лет бродит, стерва такая. – Яшка с надеждою воззрился на Момона. – Ушла и душу мою унесла. Ищу тепериче, как без души-то, а?
– Не знаю, не видел-с, нет-нет, – сурово отказался Момон. – И отчего взял, что она здеся? Сучка, тьфу на нее, пакостливое племя. Ты, братец, их беги, от них блудом пахнет. А увидел бы на Москве, за версту бы обошел. Таких блудниц на осинах весить.
Момон загорячился, зарозовел, глаза заискрились от возмущения, словно бы в этом презрении к женской породе скопец и черпал силу. «Все правда, как говорят, – подумал Яшка и неожиданно смутился, разглядывая братца. – Эвон, себя колоколов лишил, сронил колокола-то, и ничто не гудит в нем. Порося-то обкладывают, так его в жир кидает. А тут кожа да кости, чем и держится только. Знать, не в коня корм. Боже сохрани от экой напасти». Яшка готов был заплакать, в три ручья зареветь от жалости к братцу и самому себе, что вот так беспутно кончается, угасает прежде ветвистый род Шумовых. Родила мати двух сколотных, наблудила в подворотне на навозной куче да и кинула в сиротстве на нужду и грех. Думно ли было когда, что мужик из поморского сословья будет бродить по земле, как баран обкладенный, нимало о том не сожалея. Яшка пересилил какое-то тайное отвращение, вгляделся в испитое, желтое лицо братца, в его голый бабий подбородок, и спросил, пока не веря:
– И неуж не тянет?
– ...?
– На баб-то и неуж не тянет? Неуж природа не позывает?
Момон сухо, скрипуче засмеялся и вновь побагровел бугристым, отполированным черепом: вены набухли, надулись синие веревки. Удивительно скоро кровь бросалась ему в голову.
– Дурак, – зашипел он, перекосясь, шмурыгая носом. – Кто родит детей, тот червей да змей родит, да еще поросей грязных. Тот проказу плодит. Ублажай, ублажай преисподнюю свою. Вот ужо скоро грядет час, придет расплата на вас, грешников, закорчитесь и завопите, как поджаривать вас примутся. А я буду дровишки подбрасывать.
– И не пощадишь? – На Яшкиных губах задрожала смутная, смущенная полуулыбка, в черных завлажневших глазах, как в зеркалах, Момон увидал себя. – Вот как хошь, братец, но я во сне вижу часто-о. Будто тетешкаю младенца голого на руках, а он, толстокореныш, пузыри пускает. И таково-то мне весело, на удивление! Скажи, отчего грех детишек стряпать да чтоб полную лавку?..
– Дурак! Бес-то в бабу заселился, взял в полон да и разбойничает, разжигает ее. Ты поди к нам, Яша-а. Нас Бог особо метит милостью, – вдруг зашептал Момон: ему нестерпимо захотелось похвастаться своей удачей, открыть богатство. Пожалуй, за последние десять лет он не знал подобной искренней минуты и испугался ее, гневно пожурил себя за слабость. Знать, не изжил еще сатану, не изжил лепость из груди, вот и точит она, почуяв слабину.
– Куда это к вам?
– А ты пуще присмотрись. Ты вон какой худой, одна смерть. К нам придешь – вся хворь из тебя как в сито... Но ежели хошь знать, баба твоя у нас за богородицу, – легко солгал Момон, увидев вдруг в Яшке будущего скопца, своего апостола.
И то сказать: двоим лучше, нежели одному, ибо если упадет один, то другой подымет товарища своего. Но, спохватившись, Момон вновь стал прежним, сторожким и чутким, он принялся торопливо выпроваживать брата из трактира, сославшись на дело. Упаси Боже, еще примется братец денег просить. Не страшил Момона и диковатый, вспыхивающий Яшкин взгляд, но лишь подстегивал к решительности. Яшка же упорствовал, выпытывал про жену, ему не терпелось видеть ее.
– Завтра, завтра, завтра, – настаивал Момон. Яшка понял, что брата ему не одолеть. Рукавом поддевки он почистил медаль на груди и с неохотою и с тоскою, словно бы чуя остерегающий глас, поплелся из трактира. Момон проводил его со странным чувством покоя и тревоги в груди, вновь уселся на прежнее место дожидаться должника. Краем глаза Момон еще какое-то время следил в окно: Яшка застыл на перепутье, крутил головою, не зная, наверное, куда податься. И Момон мимолетно пожалел, что зря не пригласил брата на ночевую.
Домой вернулся Момон еще засветло: с порога оглядел свое жилье и поразился его угрюмой запущенности, той заплесневелости и скверному духу, что бывает лишь в сытых старинных подвалах. Но по постоянной привычке он обозрел комнату с осторожным пристрастием, чтобы почуять, не бывал ли кто здесь в его отсутствие, не покушался ли на капиталы. Момон зашторил зарешеченное единственное оконце, зажег свечной огарыш и, взяв в руки шандал, обследовал комнату, заглянул в альков. Но успокоение не приходило; было такое чувство, что из угла присматривает за хозяином кто-то злой и настырный. И вновь смутно пожалел Момон, что так легко отшил брата. Сейчас бы кинул ему тюфячок на пол, поговорили бы всласть перед сном. Господи, как же переиначить душу, так вылепить ее, чтобы она ни по чему не ныла, не страдала? Столько лет не был в родных краях, вроде бы и позабыл вовсе, ан нет, сочит сукровицей душа, не может зарубцевать ранку. Чего хорошего оставил в Дорогой Горе? Мякинный кусок, попреки, да потычки, да чужой постылый угол. Ему ли, Момону, жалеть прежнюю неурядливую жизнь? Ха-ха. Родина... Что за придумка шиша-находальника, коего мутит бесконечная дорога. Вот он и бредит теплом, уютом, горбухой ситного. Но он, Момон, не побродяжка, не шатун, но чистый агнец, Божий сын, наместник Бога на земле. Многим ли на миру выпало экое счастье, коли богатству его нет цены и счета. Смейся, Момон, пляши, потирай руки над новою жертвой: завтра после пополудни торг и очередное имение заносчивого барина продадут с молотка с тем лишь, чтобы погасить предъявленные Момоном векселя. Худо ли с каждого рубля, пущенного в оборот, иметь три? Радуйся и торжествуй, «белый голубь»...
Но отчего же неможется, тоскнет грудь, дыханье спирает?
С непонятной прежде ненавистью, словно бы собирался раздавить гада, подошел Момон к конторке, достал шкатулку, нажал ногтем потайной пенек: распахнулась крышка, запел золотой соловей, играя крохотным горлышком и щелкая клювом. Не чудо ли? Исхитриться надо, экую механическую штуковину изладить.
– Тонкость-то какая, братец! – воскликнул Момон, будто Яшка был возле. – Все люди – скоты, так и норовят подкузьмить, и лишь эта тварь послушна твоей воле, и никакого-то в ней дурного умысла.
Соловей отпел, захлебнулся, Момон захлопнул безделицу, взвесил ее на руке. Шкатулка жгла и тревожила ладонь. Момон с тоскою представил грядущий долгий вечер, снял с огарыша наплывы, душащие крохотное пламя. И, наверное, впервые ему не захотелось жить: будущее быванье увиделось столь долгим и муторным, что он невзлюбил его. Прежде ему ни разу не подумалось: «Для кого же я тружусь?» Но сейчас он пожалел себя и почуял от странного подарка гнетущую тревогу. И вдруг ему стало весело, он забегал по горенке, расщедрившись, запалил полдюжины свечей, помолился пред образом Селиванова, встал подле конторки и написал завещание. По нему после смерти Момона все имение и капитал наличными и всяким товаром и недвижимым отходил скопческому кораблю Ивана Несмеянова, где умерший был первым апостолом. Внизу же Момон приписал: «Безделицу, весьма мне дорогую при жизни, каковая в виде соловья и оченно поет, я завещаю любезному братцу моему Якову Шумову...»
Момон вдруг почувствовал поначалу облегчение; но душу кольнуло безотчётно, и скопец нарочито рассмеялся. «Баба-то мне грозила: я твоя смерть. На-ко выкуси, проказа сатанинская, я крестом на тебя. Может, завтра и подарить? Пусть братец в ножки падет да расцелует. Имение, капитал, безбедной жизни лет тридцать в деревенской глуши. А ежели распорядиться с умом, то эвон в какую гору шагнуть можно. Я-то с рубля начинал, мне никто щедрых подарков не делывал, я огорбател через свои каждодневные труды».
Момон встряхнул на завещание из песочницы, свернул небрежно бумагу и сунул в дальний ящик конторки, чтобы забыть тут же. Он посчитал свое предприятие за игру, прихоть души. Но уже с неизъяснимой жалостью погладил шкатулку. Последние волосы на затылке легче бы выдернуть, чем распрощаться хоть с крохотной песчинкою своего капитала. «Эк расщедрился, дурак, – укорил Момон себя. – Таким непутевым братовьям и полушки не подобает. Коли обелится, тогда и одарю».
Но Момона не отпускало чувство, что соловей уже отпел для него, чужой хозяин явится завтра и завладеет. Ему захотелось спрятать соловья подалее, и, не глядя на усталость, Момон отпер дверцу и спустился в подвалы. При виде сокровищ скопец сразу позабыл прежние опасения – вместо шаркающей, согбенной походки в нем родилось что-то королевское, величественное. Момон не ступал, но шествовал липкими от слизи переходами, и свеча в вытянутой руке горела бестрепетно. Сначала Момон замыслил спрятать шкатулку в груде лежалого товару, но сразу и оставил свое намерение... «Изменник, ничтожная тварь, изменник. В сундук его, в самый наиглавнейший сундук, пусть поет в темнице, предатель». Момон с натугою, дивясь слабости рук, поднял крышку, приладил упор, сунул голову в полумрак сундука, тускло мерцающий. Почудилось, что там лежат не сокровища, но груда железной и медной изношенной утвари, требующей починки. Поборов сомнение, Момон поставил шкатулку, нажал секретный пенек. Момон услышал, как щелкнул замок, отпахнулась крышка, звонко вскрикнул первое коленце золотой соловей. Момон пожалел, что худо видит его, не бьют в глаза бриллианты, усеявшие подножье певца, и резко потянулся за свечой, стоявшей возле ноги. Он ударил локтем по небрежно поставленному упору, медная крышка обрушилась краем своим на слабую шею скопца и раздавила ее. Момон и понять ничего не успел, как отлетела его жизнь.
А соловей исходил, заливался азартным пением, радый жертве. Механическое сердце его не уставало.
Глава девятая
– Сведет он нас со свету. Не даст житья! – с искренним страхом воскликнул кнутофильный мастер Король, узнав о страданиях своего подручного.
Сумароков лишь кривил тонкие язвительные губы и молчал, передергивая от озноба плечами. Он намерзся в секретной, и сейчас вся палаческая одежда, наброшенная сверху, не могла отогреть Сумарокова. Водянисто-белый взгляд бы отсутствующ, заглублен.
– Но палача не тронь, палача не задий! Он карающая десница Божия! Иль не так? – Король в который раз гнулся в поклоне и преданно заглядывал в глаза подручному, распластанному в постели, искал в них ответного гнева: пустой, неотзывчивый взгляд более всего удручал Короля. Уж коли барина свели в секретную, уж коли его нежной шкуры не пощадили, так чего ждать ему, клейменому кату, по ком каторга плачет. Сулили же время, когда последний станет первым. А случилось, что и униженного, стоптанного под ноги нещадно попирают кому не лень.
– На палача подыми руку – рука отсохнет! Взгляни косо – глаз вытечет. Скажи худо – на языке типун выскочит. Вот ужо отомстится ему! – утешал Король.
– Я его скоро похороню, – после долгого молчания наконец отозвался Сумароков таким угрюмым тоном, отчего мурашками взялся Король.
А ведь не пугливого десятка человек. Но прежде березовского исправника знали далеко по-за Сибирью как скорого на расправу. Словами по-пустячному не бросался, но коли посулил во гневе – исполнил. Такой уж атаман из атаманов. А ведь глиста по виду, соплей перешибить, право дело, ничего не стоит. И что особенно восхищало Короля, вот такой никошной, невзрачный человечишко и был грозою сибирских поселенцев.
– А позвольте опять же полюбопытствовать, каким таким случаем исполнится? Не на смертоубийство же пойдете, барин? Может, лабазнику подмешать от бешенства, он и успокоится, потишает норовом.
– Сам подохнет, собака...
И более ни слова не добавил Сумароков, а Король не домогался, зная крутой нрав сожителя. Ему льстило, что в подручниках ходит барин, и отныне прозвище «Король» обретало особый смысл. И среди палачей, значит, есть Король и его слуга. И опять же: коли барин в палачах, почему бы и Королю не стать катом? Сказывали, что прежде на Руси был такой царь, который головы самолично рубил на плахе, и однажды тремя топорами в одну казнь сронил восемьдесят четыре головы. Горячо было, и нервы щекотало, да одно плохо – топоры тупились, менять приходилось, а пока привыкнешь к топору, не так ладно и верно получалось. А красиво же – с одного удара чтоб...
Вечером Сумароков изложил свое мстительное и весьма бесхитростное предприятие, в коем все строилось на натуре смотрителя Волкова. Король слушал, дивился лукавости Сумарокова и после заключил весело:
– Его салом да по его же сусалам.
Они для виду еще поторговались. Король побаивался продешевить, но согласился исполнить умысел за три рубля серебром, впрочем, тайком сомневаясь, что из этой затеи выйдет что-нибудь стоящее.
И вот двадцать пятого декабря, в праздник Рождества Христова, все и случилось. Правда, одно обстоятельство слегка поколебало Сумарокова. Когда все арестанты были в тюремной церкви, палач увидал возле себя крупного, плечистого человека с безмятежным, чистым лицом. Они обменялись случайными взглядами и оторопели, молились истово, стараясь не замечать друг друга и не зная, как себя повести. Так казалось: стоит забыться на миг – и исчезнет, растворится померещившийся ненавистник, как мара иль призрак. Но напруженное дыханье напоминало, что не сон с ними, не привидение возле. Сколько гнались по России друг за другом, каких только не сулили напастей, теряя разум, но по насмешке судьбы обоих зафлажили, покрыли ковами, заперли в стены.
– Господи, прости несчастного, – прошептал Донат. – Дай остаться ему в полном разуме, дозволь быть человеком.
Сумароков же, услышав жалостные слова, вскипел:
– Тебе ли жалеть меня, тварь? Да знаешь ли ты, червь, кто я ныне? Я рука Господня и каждому воздам кару!
– Глупец, несчастный глупец, – горестно прошептал Донат. – Ты думаешь, что ты слуга Господний, а ты лишь подручник сатаны. Молись пуще и проси милости...
Сумароков вдруг растерялся от этой умиротворенности слов, и Донат, едва слышно, пугаясь будущего ответа, спросил:
– Одно ответь мне, кат: живо ли наше Беловодье?
У Сумарокова язык присох, он опустил глаза, и Донат понял: исполнили братья отцов завет. Ему вдруг показалось, что от Сумарокова источается невыносимое зловонье, и Донат задвинулся в гущу склоненных арестантов. Он положил на пол шапку вместо подручника, встал на колени и принялся класть поклоны, плача в душе и начисто забыв нечаянную встречу.
Но Сумароков был выбит из прежнего равновесия; он понуро вышел из церкви, коридорами тюрьмы, встречая зоркие взгляды сторожей, отправился к себе. И Сумароков поначалу удивился, когда нашел свою дверь распахнутой. Он добыл огня, увидал на полу топор и нож. Его сундучок был вытащен из-под кровати и яростно взломан, а все нехитрое имение палача валялось посередке комнаты. Не осматривая разоренной комнаты, Сумароков сразу же поспешил в тюремную церковь, где заканчивалась служба, и пожаловался смотрителю Волкову на учиненное бедствие. Зачем понадобилась палачу эта пиеса? Только ли из-за обиды он сочинил сей спектакль и в нем же играл главную роль и волка и овцы? Смотритель был крайне недоволен, что в столь светлый праздник Рождества ему помешали отслужить литургию, он даже поначалу ничего и не понял, но усы его распушились не от известия, но при виде ненавистного ему человека. Младенчески-голубые, наивные глаза смотрителя полыхнули таким обжигающим пламенем, что будь Сумароков сотворен из другого теста, то прожгло бы беднягу насквозь. А Сумароков стоял подле с самым смиренным выражением, будто не смея поднять глаз; такой унылой и печальной была его жалкая поза, такой просительно-робкой и ничтожной гляделась вся фигура Сумарокова, что не сжалиться над страдальцем мог лишь бесчувственный человек. И на это свое впечатление нажимал Сумароков, когда изображал несчастного, а его фарисейская душа меж тем расцветала. Ему бы сразу и уйти, а он нарочито стоял, вызывая к себе жалость, и по общему шевелению молящихся арестантов, по их мгновенным взглядам он понял, что слышали все.
«Ах ты тля, жалкий человечек, устрою я тебе плепорцию, – с радостью подумал Сумароков, изрядно рассчитывая на гордую наивность смотрителя. – Я знаю, ты кобениться будешь, старик. Тут я тебя и прищучу. Вот ужо прижгу пятки, запоешь лазаря».
Видно было, как боролся с собою смотритель, как передергивало его, как всею душою презирал и ненавидел он бывшего исправника, подрядившегося в палачи, и его тоже не оставляла радость от внезапного известия, что вот и отмстилось кату.
– Поди, кат. После, после, – зашипел недовольно смотритель и вновь принялся мелко креститься.
Сумароков вернулся к себе с горестной миной на лице, сел на кровать, сложил руки на коленях и стал поджидать смотрителя. Тот явился через час, встал на пороге, сцепил руки на животе: маленький, седой, благообразный старичок. Позади торчал Король. Он плутовато подмигнул Сумарокову, и тот понял, что дельце сварилось, а покраденные деньги уже переданы на волю. Пусть-ка старик поищет, а коли не будет стараться, ему же в вину. Смотритель шагнул в комнату, небрежно пнул сундучок, крышка отвалилась совсем.
– Ну что у тебя, кат? – спросил он скрипуче, с брезгливостью в лице.
Единственный человек травил Сумарокову его тюремную жизнь, и от него надо было освободиться. Хоть нынче же, вот взять и убить. Сумароков не терпел людей, которые презирали его. Полный ненависти, он сутулился на кровати, как квелая, сонная рыба, и вопрос смотрителя скользнул мимо сознания. Лишь сцепленные намертво пальцы хрустели в наступившей тишине.
– Как видите, ваше благородие, обидели-с, – зашептал за плечом Король, угодливо изогнувшись.
– Молчи, вор!
– Обокрали, ваше сиятельство! – вдруг очнувшись, завопил Сумароков на всю тюрьму. – Раздели до нитки. Последний капитал несчастного, униженного человека похитили злодеи. Батюшка, господин смотритель, наше благоденствие, не оставьте без милости. Разыщите его, разыщите! – Сумароков кричал с такой яростью и слезой в голосе, что и самый-то равнодушный человек пожалел бы.
– Ну что вопишь! Что-о! Обокрали его! А что красть, сделай заявление!
– Четвертную похитили, наше благополучие. Последнюю, можно сказать, надежду...
– Вот вопрос: однако откуда у тебя деньги?
– От скромного житья, по копейке собирал, копил, всячески ущемлял себя. Я потомственный дворянин, а влачу...
– Не дворянин ты, – оборвал смотритель, – но мерзкое животное. Запомни: ты живот-но-е! И перестань кричать, иначе сведу в секретную.
– Не перестану! Буду вопить! В сговоре, а-а, значит, и вы в сговоре? Все видят, как измываешься ты над царевым слугою. Я жизни не пожалел для отечества, слышь, старый мухомор! – Сумароков подскочил к смотрителю, вцепился в высеребренную пуговицу парадного мундира и принялся лихорадочно выкручивать ее вместе с мясом. – Вот так я тебя, вот так. Какой ты поручик? Ты тля, швабра, а не офицер! – продолжал кричать Сумароков, брызжа слюною в лицо смотрителю. – Смир-на-а! Пред тобою подполковник, прошу не забываться. Погляди на себя, заштатный крючок из инвалидной команды, шелудивый пес. А гонору-то в нем, а гонору! Тебя и держат лишь из жалости, из жалости держат. И все смеются над тобою, выживший из ума старик. Таких поручиков я сотнями раскладывал, перья летели, и раз – и раз... Он святошу из себя строит, папиньку, отца-благодетеля. Шут гороховый, измыватель, растлитель. Я слыхал, ты с мальчиками молоденькими...
– Замолчите-с, прошу вас, замолчите, – побледнел смотритель, сказал шепотом, едва слышно.
Губы его посинели, старчески блеклые щеки затряслись, кончик носа побелел, мешки под глазами налились сыростью, и стало видно вдруг, какой он древний и немощный. Король слушал тирады Сумарокова с ужасом: он впервые видел, чтобы так разговаривали с тюремным смотрителем, от коего зависит вся и без того не сладкая затворническая жизнь. Ему казалось, еще одно слово – и смотритель сделает что-то страшное с палачом иль со стариком будет худо. Стукнет паралик – и нажился человек. Вспомнились слова Сумарокова. «Сам сдохнет».
– Меня обокрали, а вы не принимаете решительно никаких мер. Действуйте, черт возьми, действуйте! Я вам приказываю! – продолжал кричать Сумароков. Одна пуговица осталась в его руке, и, будто не замечая, он небрежно откинул ее в угол.
– Замолчите-с! – решительно оборвал смотритель, вырываясь из наваждения, и ударил палача по лицу.
– Вы все видели? Он ударил меня! Но время изуверов и сладострастных похотников миновало. Нет, вы все видели? Этот жалкий старик...
Сумароков так и не договорил, да и не было в том нужды: смотритель круто развернулся и удалился в свои покои. Ждали грозы, примерного наказания бунтарю, но все кончилось благополучно. А Сумароков так искусно вошел в игру, что долго не мог успокоиться, возбужденно бегал по палаческой комнате, распиная ногой собственные вещи. Он уже сам поверил в свое несчастье, что его обокрали, унизили, оболгали. Никогда в жизни не бивали Сумарокова, но здесь, в тюрьме, какой-то плюгавый старикашка уже дважды позволил себе рукоприкладство. «Я так не оставлю, я доведу случившееся до его императорского величества, я всех поставлю на ноги». Щека горела от удара, и, прислушиваясь к буре внутри себя, Сумароков вдруг почувствовал странное удовлетворение. Ему было хорошо, что его ударили, его унизили и растоптали, было хорошо от буйства, от фарисейства и лжи. Оказывается, столько тонких удовольствий на свете, мимо которых мы проходим, не замечая. Что там женщины, вино, карты? Куда тоньше страдать от чувства, что ты унижен и растоптан в грязь...
– Ему не жить, – сказал Сумароков убежденно, когда палачи остались одни. – Он сам сдохнет. Я знаю эту щепетильную натуру.
К следствию, образумившись, смотритель Волков приступил на третий день, когда все следы были давно сокрыты, и арестанты отзывались совершенным незнанием дела. Сумароков же времени не терял и написал жалобу, повторяя при этом. «Я низложу диктатора. Я заставлю уважать палачей!» Бедный большеголовый старик, не зная о несчастье, уже превратился в злодея, диктатора, растлителя детей мужеского пола.
«Гражданскому губернатору Владимиру Филипповичу Пефтлеру и кавалеру от помощника заплечного мастера архангельской городской тюрьмы Никиты Северьянова Сумарокова, бывшего дворянина и кавалера
ПРОШЕНИЕ
Душа страдает и томится от той немилости и разбоя, что творит ныне смотритель тюремного замка Волков, лишь желание справедливости и должного порядка принуждает меня обратиться к покровительству Вашего Превосходительства, а чинимые притеснения не дают мне молчать. Вот я, пиша вам сейчас, почти теряю рассудок от той обстановки, в коей мы вынуждены прозябать. Комната, в которой живут палачи, весьма для здоровья вредна от сырости и нечистоты, а наиболее в зимнее время холодна и угарна, из которой если не выйти на улицу, то можно в короткое время угореть до смерти. А смотритель по двору ходить не дозволяет, за ворота не выпущает, а когда сердится на сторожей, то бьет нас, палачей, насильно выволачивает из комнаты в караульный дом, в котором и наказывает розгами безвинно. Двадцать пятого декабря случилась у меня покража, но вместо того, чтобы заняться расследованием, смотритель Волков ужасно на меня кричал, называл животным, садистом и кровопийцей, и это при всем народе. И как же после того я стану исполнять свою должность, которую считаю почетной и необходимой для государственного порядка и пошел на нее из личных побуждений и в здравом уме. Смотритель вместо того, чтобы сделать обыск всем сообща арестантам, объявил мне, что деньги никуда не скроют, найдутся, и тем самым уже сокрыл учиненное арестантами. Есть подозрение, что деньги были похищены арестантом Иваном Павловым и были переданы на хранение вдове Анне Коткиной, а та успела передать на волю. А смотритель закрыл на это глаза. Он дозволяет Коткиной во всякое время иметь свидания не только с родственниками, но и со знакомыми у себя на кухне, что противно всем правилам и инструкциям, данным для руководства ему, смотрителю, тем более что Коткина по важности своего преступления ни под каким предлогом не может быть допущена ни с кем для свидания, и если могла быть допущена, то не иначе как в караульном доме в присутствии унтер-офицера или ефрейтора, и то в воскресенье или табельные дни. Итак, смотритель, где видит для себя явную пользу, допускает иметь арестантам с родственниками и знакомыми свидания у себя наверху, в противном же случае приказывает выводить арестантов в караульный дом.
Вышеупомянутый арестант Павлов, постоянно занимаясь у смотрителя деланием столов, ширм и т. п. вещей и пользуясь снисхождением и доверием, по содействии его, смотрителя, доставал водку и неоднократно делал такие буйства, что нередко даже выламывал стекла у дверей, и все эти поступки всегда оканчивались тем, что смотритель для протрезвления посадит в секретную, но никогда не решался доводить до сведения его высокородия, зная, что в противном случае Павлов будет требовать возмездия за сделанные вещи. Кроме того, смотритель явно дозволяет Павлову иметь у себя наверху связь с арестанткой Коткиной, через что самое неоднократно происходили драки между Павловым и Курицыным, который еще до заключения в тюремный замок имел любовную связь, нередко случалось и то, что Курицын при встрече на коридоре с Коткиной наносил ей побои за то, что она решилась в настоящее время сблизиться с Павловым.
Что касается до ранее производимых им, смотрителем, злоупотреблений, то он, Сумароков, готов раскрыть таковые пред лицом его Высокородия. Арестант Шестаков подтвердит их, ибо, занимаясь у смотрителя в течение двух месяцев письмоводством по канцелярии, он знает все его поступки. Но как смотритель пригласил его к себе для занятий с платою по три руб. сер. в месяц, но таковых, несмотря на все его настояния, не имеет и по настоящее время получить, тогда как оный неоднократно обещался ему выдать, а при первом числе сего месяца беспременно хотел отдать самому или записать деньги эти на приход.
Смотритель, явясь двадцать восьмого ноября к нам в комнату и заметив какой-то беспорядок, вместо того чтобы обойтись кротко и человеколюбиво, поднял шум и крик по всему коридору, называл к тому же неприличными словами, как-то: животный и т.п. – и укорял содеянными поступками, отчего он, Сумароков, в пылу гнева своего не мог действительно ударять и решился напомнить смотрителю, что при неоднократном посещении г. Прокурора он никогда не замечал, чтобы его высокородие обошлись с ним невежливо, тем более грубо и дерзко, но смотритель, невзирая на все это, приказал отвесть меня в нетопленную секретную, где я ночевал на голых досках, тогда как простым арестантам выдавал всегда постель, которых в настоящее время смотритель всеми силами старается вооружить против меня.
В справедливости вышеизъясненных обстоятельств могут подтвердить находящийся на арестантской кухне повар Герасим Тюрин, сторож при тюремном замке унтер-офицер Андрей Ермолаев. Если хоть что-нибудь от меня несправедливо, готов понести тягчайшее наказание, как за ложный извет».
Из дознания. «... Он, г. Прокурор, считает, что написанное палачом верно. Содержащийся коллежский секретарь Никандр Шестаков постоянно с утра до вечерней зари занимался письмоводительством по канцелярии, и все книги у смотрителя ведутся Шестаковым, тогда как на основании существующих узаконений строго вменяется смотрителям в обязанность ни под каким предлогом не допускать арестантов к письмоводству. Смотритель же до такой степени скрытен, что сам переписал те бумаги, которые следуют или, лучше сказать, подаются его Высокородию.
В тюремном замке замечены следующие неисправности: в цейхгаузе нет никаких запасных вещей, у арестантов волосы на голове не подстрижены; в отделении женской больницы трех– и четырехлетние дети моют полы вместо взрослых; ключ от тюремной церкви оказался под подушкой у одного из арестантов; билеты у арестантов были до крайности испачканы, то стряпчий в течение страстной недели заменил новыми; арестантка Марья Плотникова получала орехи от рядового Павла Роева; немец Фелькнер ходил в город давать уроки немецкого; баня топится раз в две недели, хотя положено раз в неделю, покража четвертного билета у вольнонаемного палача Сумарокова не расследована должным образом и следы не найдены; по показаниям арестантов, оный палач был смотрителем Волковым неоднократно биваем через рукоприкладство, и сей палач ныне находится в крайне угнетенном состоянии духа...»
Смотритель Волков был вынужден по старости и немощности своей подать в отставку, что он и сделал. Через два месяца в губернских ведомостях появилось объявление: «Назначено в продажу с публичного торга имущество, оставшееся после смерти отставного поручика Волкова, заключающееся в ношатом платье и других вещах по оценке на 87 руб. 77 коп. Это имущество продается за неявкою для получения оного наследников. Торг будет производиться семнадцатого марта с 12 часов пополудни».
Глава десятая
После семнадцати лет скитаний Донат Богошков вновь оказался в Архангельском тюремном замке, в прежней камере, а жизнь его окончательно замкнулась острогом. Будто вчера Донат вышел в этап, но весенняя распутица и бездорожье пересекли дорогу, и вот пришлось вернуться обратно. Но это лишь кажется нам, что жизнь наша равномерно длится от рождения до кончины: мы взрослеем, старимся, мучаемся и ложимся на жальник. Нет, наше быванье на земле похоже на дерево, которое по веснам одевается листвою, а по осени замирает в спячке, раздевшись и погрузившись в снега; жизнь наша многажды замирает и вспыхивает с новой силой, и лишь ты, занятый собою, этой будничной серой чередою дней, не замечаешь случившихся с тобою перемен...
Вошел Донат в камеру, отыскал свободное место, раскинул соломенный тюфяк, наладил белье, уселся на постель и, оглядев с пристрастием новых сожителей, почувствовал себя так мирно и покойно, будто, наскитавшись по чужим странам, наконец вернулся в родные домы, где никто уже не потревожит и можно дать отдых занемевшим членам.
По суду Донату Богошкову вышло шестьдесят плетей. Ему объявили приговор, заковали в ножные кандалы и отвели в особую камеру, где несколько дней он пробыл в одиночестве, пребывая в коротких раздумьях, нимало не жалуясь, не ропща на судьбу свою. Приходил священник, но Донат не принял его. Тюремный священник смерил Доната взглядом и, не противясь, ушел. Донат вспоминал прежнего себя и дивился смятенности прежней натуры, тому розжигу, что постоянно владел душою.
Как хотелось ему тогда убить любостая-прелестника Сумарокова, с какой жаждою томился он по той крови и с неведомым упорством шел по следу. Думалось: прольется кровь – и настанет облегчение, замирится скорбящее сердце, утихнет грудное жжение. Но ведь не поднялась тогда рука на исправника. Знать, есть мера мщенью, не переступи ее, ибо тогда ты сам скатишься в вертеп безумства. Слышь-ка, палач Сумароков, еще не настал час кары, опомнись, заплечный мастер, войди в разум. Перед казнью не о себе пекусь, но о тебе. Я не держу на тебя зла и под тяжкой плетью, помирая, быть может, в крови и слезах, более не нашлю на тебя проклятья. Но знай, что каждая капля крови, что брызнет на тебя из несчастного, распятого тела, прожжет кафтан твой, и в том месте на теле родится незаживаемая язва. И станешь ты прокаженным, побитым любострастной болезнью: заболеешь ты жаждою крови, и от этой охоты уже не напиться ею. Не рад я, палач, что мое проклятье достигло тебя и отразилось. Может, последнюю ночь живу я на свете, но нет сожаления и страха: завтра клочьями полетит мое мясо, и кровь мою подхватит родимый ветер и горстями кинет в толпу зевак, и не отвернуться им от кровавой росы. Не боюся я, не страшуся грядущего, ибо для этого, быть может, и рожден был. Братья мои, беловодцы! Настигну я вас и смиренно поклонюся за науку. Отец мой духовный, Учитель Елизарий, не устрашусь я и не дрогну; ежели где встретите на горних долах матушку мою да татушку, низко кланяйтесь им. Господи, если ты есть, дай руке палача мощи, а сердцу – силы, чтобы не колыбнулся его хитрый, изворотливый ум, чтобы не легла на душу его жалость. Нет ничего хуже жалости твоего врага, ибо она так же нечиста, как и его помыслы...
– Сошлись больным, – попросил Сумароков первого палача. – Хочу я знатно проучить этого злодея.
– Только не озлись. Мужик смирёной. Шкуру-то спусти, а душу его оставь в теле, – говорил Король, пристально глядя на подручного.
Смущал его лихорадочный, суетливый взгляд зарозовевших глаз, будто подпалило подручного изнутри. Согласился Король на просьбу Сумарокова, но втайне боялся чего-то, корил себя.
– А на что тебе его душа, кат? – насмешливо спросил Сумароков, последний раз оглядывая палаческое одеяние: сапоги яловые начищены, черная поддевка обихожена, круглая мерлушковая шапка направлена, плеть-треххвостка залежалась в ящике без работы. – Ее, быть может, давно Господь заждался, иль нет? Там тоже работники нужны, обед чтоб сварить, одежду направить, за слугами присмотреть. Может, пустим душу на волю?
– Злодей ты, барин! Я злодей, но ты пуще меня...
– Но-но, рваная ноздря!
– Да я к тому, что ежели озлишься, барин, то плечо занапрасно вытягнешь и должность тебе не исполнить. Я к тому лишь: шибко в азарт не входи. А так-то секи, милок, твоя воля. Коли душа лежит, дак почто не постегать.
– Попробуй такого жеребца засеки, – вроде бы оправдываясь, пробурчал Сумароков и неожиданно смутился.
Ранним утром тринадцатого июня 1857 года в тюремной конторе осужденного Доната Калинова Богошкова облачили в чистое белье, покрыли длинным черным суконным кафтаном и черной круглой шапкой, на грудь повесили квадратную черную доску с белыми крупными буквами: «За богохульство». Но обихаживали столь вежливо, словно и не чаяли принять обратно в тюрьму. Душу Доната Богошкова царапнуло от ласкового обхождения, но он покорно отдался в руки служителей. Ему нравилось чистое шероховатое белье, пахнущий свежестью кафтан, еще не надеванный, не знавший чужого тела. Кафтан оказался впору, нигде не подпирал, не морщил. Портной бы сказал, любуясь могучей фигурой арестанта: как влитой, будто на тебя, милок, сшит. Вывели Доната во двор, еще серый, сумеречный, небо не пробудилось, было тускло-матовым, солнце пока не играло. Тюрьма глазела из окон, иные бродили по двору, вдыхая густой июньский воздух и мечтая о вольных благословенных днях. Подумал, усмехаясь: это он-то, Донат Богошков, богохульник. Мыслим ли больший навет?
Посреди двора поджидала с ночи угрюмая высокая колымага, понурый возница в сером сидел на козлах, широко расставив ноги и спрятав голову. Нахохленному человеку было скучно с утра, он упрямо, длинно зевал, мимолетно оглядываясь и торопя Доната, и снова застывал в прежнем птичьем состоянии.
Звеня железами, Донат подошел к колымаге, двое служителей помогли подняться на возвышение, туго притянули согнутые в локтях руки к двум торчащим по бокам сиденьям-столбикам. Лошади тронулись, сторожа зачем-то прощально махнули рукою. Было странно ехать спиною к лошадям, двор отступал нелепо, будто осужденный пятился к пропасти, с каждым аршином приближаясь к ее краю. Открыли ворота, «фортунка» вывернулась на набережную и остановилась: торопливо стал сочиняться кортеж. Впереди встал жандармский унтер-офицер, за ним полувзвод солдат с белобрысым усердным барабанщиком с самодовольным лицом; проходя мимо колымаги, он зачем-то азартно проиграл дробь, отчего лошади вскинули морды; по бокам колесницы встали четыре конных жандарма с начищенными бляхами; замыкал шествие полувзвод солдат. Утро прояснилось, обещало стать добрым; вся Двина от таможни и далее, куда хватал взгляд, цвела парусами, набережная была розовой от шиповника, и в отдалении маревили, подымаясь от земли, золоченые купола церквей. Мещане торопились по своим делам, бежали пирожники и сбитенщики, торговцы везли рыбу с пристаней, из-под рогож торчали еще влажные, незакостеневшие хвосты; с криками катили по сходням бочки, ворванный и смолевой дух, казалось, подымался облаком и мешался с запахом диких ветвистых роз; всхлапывали на реях паруса, кто-то солено матюкался, у кабака плакал пьяный; всем было дело в этой жизни, все приноравливались к ней, как могли, и позорная колымага у караулки была тоже необходимым дополнением к мерному человечьему существованью.
Донат вернул блуждающий взгляд к телеге и лишь тогда увидел палача, невольно вздрогнул. Он и не заметил, когда появился кат из караулки и пристроился к задней грядке позорной колымаги впереди полувзвода солдат и вот сейчас с жесткой улыбкой изучал жертву, загодя примерялся к ней. Вот уж воистину перст указующий, чтобы в который раз столкнуться на бескрайних российских землях. Кабы гонялись друг за дружкой, охотились, а то ведь давно уже пугались невидимой неразрывной связи, той цепи, что незримо сковала; но куда деться, коли прикованы к единой железной штанге и продолжать им общий этап до конца бренных дней. И вот опять сошлись снова на роковой росстани, и уже не разминуться, не разойтись добром, даже если б захотели этого оба.
Донат вперился взглядом в палача, в его землистое, худое лицо. Какое бы обличье ни принимал бывший уездный исправник, какую бы личину ни надевал, Донат сразу бы признал его, будто он нес печать прокаженности на челе. Был палач в долгополом чистом кафтане, в красной палаческой рубахе, на голове высокая мерлушковая шапка, откуда выбивался светлый легкий волос; ухоженные сапоги с заправленными в голенища плисовыми полосатыми шароварами сияли пуще солнца, и в них можно было глядеться. Но взгляд Сумарокова, погруженный в темные проваленные обочья, был суров и неприступен, будто этим взглядом палач подготавливал жертву к будущим мученьям. Дескать, смирись, бродяга, а я уже охулки на руку не возьму, сниму с тебя шкуру со всем усердьем да и повешу сушиться, но коли не стерпишь, сердешный, и отправишься в дальний путь без возврату, то и там не жалуйся, будто я поскупился на плети.
Донат обсмотрел палача ровным взглядом и остался доволен: пощады не встретит от кнутофильного мастера, все помнит, нечестивец, и поныне лишь живет худой памятью, злобной и темной. У такого быстрее сердце лопнет, душа вылетит облачком в свирепый рот, чем смилостивится он вдруг иль зажалобится.
– Что пялишься, злодей? Чего уставился, бродяга? Не терпится? – свистящим шепотом окрикнул Сумароков, но пугливо оглянулся, как бы не расслышали.
За травлю и брань и самому можно схлопотать порку в кордегардии. Палач не как рыба, ему и полагается быть глухим. Донат не ответил, все с той же усмешкою сдвинул ноги вместе, и его стоптанные пыльные сапоги оказались подле лица ката. Тому даже пришлось пугливо посторониться, ибо так выходило, что заплечный мастер словно бы раздумывал: целовать их иль нет? Раздалась рассыпчатая барабанная дробь, и кортеж тронулся похоронным шагом мимо Соборной пристани, Воскресенской улицы и Александровского сада к Торговой площади, где уже кипел торговый люд, стояло вавилонское столпотворение.
Барабанная дробь мелко сыпалась, храпели жандармские лошади, волнуясь и прижимаясь к телеге, вокруг колымаги загустело народом, нетерпеливые кричали, возбуждая и зажигая толпу: «Богохульника везут!» Бабы плевались вослед, для спеленатого по рукам-ногам грешника у них скорее бы сыскалась слеза и ласковое слово. Но вот подъехали к эшафоту, тюремный священник поднес к губам арестанта распятие, и Донат поцеловал, не осмелился отказаться. На телегу поднялся Сумароков с деревянной узкой коробкой на ремне; коробка скатывалась на живот и мешала палачу, пока отвязывал руки арестанту. Ладонь у Сумарокова была узкая, с длинными пальцами, но необычайно цепкая, хищная, ее прихват Донат почувствовал сквозь поддевку и машинально подивился: «Поднаторел в палачах-то, налился силой». Он покорно сполз с телеги, по лестнице взошел на помост, гремя кандалами. Раздалась воинская команда, солдаты обогнули эшафот саженях в трех, на своих высоких лошадях выстроились жандармы, оголили сабли. Донат спокойно, с ясным взглядом смотрел на приготовления и не чувствовал ни малейшего страха. На эшафот поднялся вслед за палачом человек в форме со шпагой у левого бока. Снова громко скомандовали, солдаты брякнули ружьями, народ обнажил головы, снял свою мерлушковую шапку палач, потом стянул суконный малахай с головы осужденного и кинул в угол помоста. Человек в форме зачитал приговор с перечислением всех проступков арестанта. К эшафоту подходил народ, больше всего женщины из простых, деревенские бабы и мещанки, и бросали на помост медяки, и только это бренчанье и нарушало мертвую тишину, возникшую во время чтения приговора. Чиновник дочитал приговор, только однажды полуобернувшись к Донату и смерив его долгим оценивающим взглядом, словно удостоверялся, а тот ли человек перед ним, – и покинул эшафот. Он спускался по лестнице долго, преисполненный достоинства, и потом во все время экзекуции маячила внизу его темно-синяя фуражка и высокие уши. Палач окончательно вошел во власть, содрал с Доната кафтан, бросил его на помост, где валялась шапка, и цепями, висевшими на позорном столбе, приковал его за локти. Смотри, народ, на богохульника и бойся: каждого, сотворившего зло, ждет неизбежная кара.
Наступили для страдальца самые мучительные минуты, когда затылком ты ощущаешь столб, руки туго стянуты назад и некуда отвесть взгляда, а народ, скопившийся внизу, жарко и едино дышащий, похож на стоголовое хвостатое чудище. Тут его голова, а тело, причудливо изгибаясь, утекает далеко к торжищам, и там, опутав сотни палаток, питейных домов, ларей и магазинов, затаилось в ожидании. На миг Донат ослабел и затосковал, долгие нарочитые сборы, эта торжественность происходящего отнимали силы. Тут даже самое стойкое сердце начинало недоумевать и волноваться. Может, и вправду ты совершил что-то такое, что тебя надобно выставить на поучение? Донат опустил взгляд на толпу, ища в ней поддержки, она слилась в единое, едва колышащееся месиво. Люд глазел с равнодушием и жалостью, радый развлечению и еще тому, что, слава Богу, не его там выставили на посмотрение у черного столба. Он очнулся от боли, толпа по-прежнему колыхалась, кто-то, заметив движение арестанта, вскричал изумленно:
Здоров наш вор-то!
Донат воспрянул. Палач меж тем усердно готовился, его разжигало и слегка лихорадило. Он одного испугался вдруг: как бы не опозориться, не показаться смешным. Это его пугало всю жизнь. Судорожно глотая крупным острым кадыком и уже прея под ранним ярым солнцем, Сумароков через голову стянул поддевку, оправил кумачовую рубаху с черной опояской, все складки согнал назад и сам себе показался ладным, молодым и стройным. Когда проходил мимо Доната, не удержался и прошептал с радостным вызовом:
– Помучаю, но засеку. Молись пуще, богохульник.
– За тебя молюся, Июда! Чтобы рука твоя не отсохла, но могла справить нужду.
Палач стоял спиной к Донату, он медленно складывал поддевку, поверх ее мерлушковую шапку. Палач раздумывал, подыскивая такие слова, чтобы они оказались больнее плети.
– Не отсохнет моя рука, еретик, – сказал он свистящим шепотом и, приблизившись к позорному столбу, стал упорно разглядывать арестанта. – Потому не отсохнет, что Бог мне в помощь.
Народ заметил что-то неладное, загомонил, зашевелился, кидая взоры на жандармов. На веку такого не было, чтобы палач во время казни вел беседы с осужденным. И не то досадовало, что разговорились двое на помосте, тянули время, но то, что не слыхать было их крепких слов. А говорили, видать, ненавистно, ибо оба вдруг ожили, переменились. Палач опомнился, торопливо открыл коробку, где лежали орудия казни, понес по краю платформы, показал ее ушастому полицейскому чиновнику, потом вынул два длинных ремня с пряжками и крученую треххвостую плеть. Плеть развернул с шиком и проволок по доскам, показав толпе ее жесткое, гибкое тело. В этом хвастливом движении было тоже что-то сладострастное, похотливое, и Донат, глядя на ползущую черную змею, на тонкие побелевшие пальцы палача, понял вдруг, что смерть, однако, явилась. Донат готовился к ней всю жизнь, и, когда она приблизилась вплотную, он вдруг растерялся. Плоть вышла из повиновения души, плоти хотелось жить. «Господи, помоги выстоять», – вдруг взмолился Донат, но отчего-то с последними словами мысленно обратился к безликой, но глазастой толпе; ему вдруг почудилось, что народу жалко страдальца, он скорбит, он плачет вместе с ним, что смерти-то он не желает.
Палач все так же ходил по эшафоту размеренно, неторопливо, он играл на сцене один и сам выстраивал драму по своему разумению. Палач и король в одном лице соединились: он мог миловать, мог и в гроб вогнать. Никто во всем мире не мог сейчас остановить палача, дать меру его гибкой руке и жалости окоченевшему сердцу. Палач вошел в роль и поразился тому истинному глубокому наслаждению, что вдруг овладело им. Он налаживал дыбу, устанавливая ее под назначенным углом, – и это доставляло сладостное чувство. Он будто к недозволенной прекрасной женщине сейчас пробирался в спальню, робея слегка, но и млея оттого лишь, что никто его не схватит за руку и не осудит. Ему ремесло надо показать, похвалиться уменьем, развлечь толпу, вызвать из разомлевшей несчастной утробы, распяленной на кобыле, такой собачий вой пощады, который бы пробил все закутки Торговой площади и отозвался бы в каждой заблудшей душе, втайне помышляющей о грехе.
Палач освободил Доната от цепей, подвел к кобыле, предупредительно помог возлечь на доску, пахнущую чужой кровью, и принялся прикручивать ремнями руки и ноги. Тело Доната взмолилось, взбунтовалось. Даже в самые несчастные мгновения так не приневоливали его ширококостную натуру. Донат напрягся, и как ни бился палач над распростертым телом, не мог плотно прижать его к кобыле.
– Ты поддайся, ну что ты кобенишься, собака? Ты поддайся, – просительно шептал палач, жарко дыша в затылок арестанта.
На какое-то мгновение он даже растерялся, не зная, как поступить и к кому воззвать, чтобы помогли. Но кто хозяину помощник в его-то доме? Назвался груздем – полезай, дружище, в кузов и не жалуйся.
– Вот и не поддамся, Июда. Королю бы поддался, а тебе нет. – Донат вдруг уверился, что охотнее бы принял смерть от вора.
– А я из тебя все одно душу вон!
– Вон и не вон. Тебе сопли на кулак мотать, а не спины чесать.
Палач со злостью задрал рубаху к голове жертвы, спустил исподники, заголив филейные мяса. Крепко замешан мужик, и постная воздержная жизнь лишь задубила шкуру. Палач приценился к телу, заметил крохотное родимое пятно и решил первый ожог положить на родовую отметину. Пусть все отзовется в злодее, перевернется в нем, и, как знать, от того удара сразу отлетит его собачья душонка в ад. Наступила жуткая тишина, даже базар, казалось, замолк и вымер; все оторвались от заделья, от своих расчетов и рукобитий, от прилавков и торговых лотков и застыли в ожидании. Донат, распяленный, лежал на наклонной доске, чувствуя ласковое солнце. Он не видел себя со стороны и не знал, какой он сейчас униженный со спущенными на сапоги портами и небрежно задранной на голову рубахой. Неряшливо обнаженный, он худо походил сейчас на человека, и отчетливо видимые, еще не старые мяса приковывали взгляд и вводили в некоторое смущение, отчего случайные барышни отворачивали голову и подсматривали украдкою. «Скорей бы кончал, что ли, – подумал равнодушно Донат. – Тешится, сладострастник. Поди, с бабами не может, вот и тешится на чужой шкуре. Живым не отпустит». Подумалось, будто о ком другом. За долгие годы мыканья на белом свете Донат так притерпелся к лишеньям, худо воспринимал их, принимая уже за истинную полнокровную жизнь. Есть сухарик и глоток воды, не болят кости, не жжет грудину – вот и хорошо. Он приучился жить без крыши над головою и без женского догляда, он стал истым странником, коему пологом служило чистое небо, а периною сама земля. «Чего робеть? Ну посекут, шкуру спустят, разделают мясо по сортам. Эко диво! Донат, Доня, Донюшка, а ну воспрянь! И неуж труса празднуешь? Хвалился же: с радостью лягу на плаху. Еще и спины не почесали, а жмуришься».
Донат слышал, как длинно вздохнул палач и отступил куда-то, потерялся. Может, началось? Обыкновенно палачи кричат перед первым замахом: берегись, ожгу! А тут молчком. Змея и та шипит, прежде чем ужалить, дескать, остерегись.
Подбородок упирался в доску, заломило шею, и Донат решился посмотреть на палача, завернул голову набок и одним глазом увидел его. Присогнутый, с опущенными руками, палач походил на прикаспийского тарантула, коих Донат навидался, скитаясь. Палач распустил плеть по эшафоту, слегка подтянул ее, красуясь, и вдруг побежал, прикусив губу и вытаращив глаза. Удар, как выстрел, рассек тишину. Он был новичок, этот палач, он еще переживал и полнился злостью. Это через годы душа его опустеет и работа покажется надоедным ярмом.
Боль вонзилась в голову, словно не по хребтине полоснули, а по шее, и вот сейчас голова качнулась и лишь чудом осталась на плечах. Но Донат не крикнул, не обрадовал толпу, не разжалобил жалостных, лишь глаз, уставленный на палача, накалился.
Палач метил в родимое пятно, он норовил его рассечь, но промахнулся.
Он успокоил себя тем, что не диво засечь с трех ударов, но пусть злодей помучается.
Донат слышал, как набухла спина и что-то скользко, змеисто потекло, холодя кожу. «Как это, однако, больно», – подумал Донат.
Палач снова отошел, подскочил и с хуканьем протянул по спине, метя в рыжеватое родимое пятно. И там, где пересеклись два удара, шкура лопнула и обнажилось синее мясо.
Но Донат смолчал. На десятом ударе он подумал отрешенно, тупо: «А ничего, терпеть можно» – и закрыл глаза.
Палач уже не разбегался, но сек, остервенясь. Спина Доната почернела, обуглилась, кровь текла ручьем на крашеные доски и скопилась лужицей на помосте. Душа уж в которой раз покидала страдальца, но, сжалившись, возвращалась обратно.
Шестидесятая плеть оказалась вялой, небрежной, сечь покойника было грешно и зряшно. Палач открыл веко арестанта и вдруг увидел осмысленный, памятный глаз. Палач оторопел поначалу, но и обрадовался непонятно чему и украдкою скользнул ладонью по густой вспотевшей волосне мужика. Он торопливо добыл из коробки клеймо, приставил ко лбу Доната и, размахнувшись, резко ударил. Голова откачнулась, окрасилась кровью, смешанной с краской индиго. Отныне носить Донату Богошкову нестираемую печать: «С. П.» – ссыльнопоселенец. Как ни бегал Донат от печатей, как ни скрывался от них, но государева рука настигла.
Два служителя снесли Доната в телегу и отвезли в тюремную больницу. Палач же, переведя дыханье, собрал орудия казни в коробку, надел поддевку и принялся медленно собирать валявшиеся на помосте медяки. Когда он нагибался, медь переливалась и звенела в карманах широких шаровар.
Базар кипел, жил своей жизнью. Всеми забытый палач спустился с эшафота и в сопровождении солдата отправился в тюрьму – место своего постоянного жительства. Палач излил сердечную горечь, сейчас ему было удивительно хорошо, но хотелось спать.
Эпилог
Прошло десять лет.
Яков Шумов все так же скитался по России, искал жену. Порою он забывал, куда и зачем он идет. Но иногда Таисья вставала в памяти столь отчетливо, что он тосковал до сердечной боли и длинно стонал. Золотого соловья Яшка носил в холщовой сумке, потихоньку выковыривал бриллианты и проживал их; бархатное подножье потускнело, но механическая птичка не жаловалась и пела столь же усердно. Яшка прошел Русь, миновал Украину, заглубился в Молдавию и там, на берегу Днестра, однажды попал в женский монастырь, захудалый и бедный, с тремя десятками старых монахинь, едва сводящих концы с концами.
Монастырь когда-то стоял в дубняке, но позже лес свели, и он оказался вдруг сиротски беззащитным, притулившимся к известковой розоватой горе, из изломов которой текли светлые, щемящие зубы ключи. К этим гремучим родникам изредка попадал случайный паломник, и от их скудного подаяния монастырь еще как-то жил. Яшка забрел сюда, как во сне, не соображая своего пути, ибо многие тропы, коими он исходил, сами ложились под ногу и толкали вперед. Он приблизился, влекомый усталостью, пожелал помолиться и испить из ручья. Железные ворота были распахнуты, видимо, до поздней ночи, пока возможны богомольцы с подаянием; одна половинка приперта камнем. Стена низкая, сложена из каменьев не столько для защиты от вражины, сколько для означения монастырской земли. Справа стоял птичник. Всякая птица кормилась, трясла зобами: индюки раскачивали красным куском плоти, похожим на червя, и гнусаво, противно кричали; скрипели гуси, досадуя на жизнь и вечно от кого-то ограждаясь; сыто, лениво болтали утки. Две монахини, худо и грязно одетые, как и подобает для такой работы, ухаживали за птицей. Одна крошила в ведро початок кукурузы, другая же стояла на пороге сарая и сыпала пшено. Она была осадистая, плотная, в черной заношенной рясе и сальной поддевке, седые волосы выбивались из-под плата клочьями. Старица разглядела паломника и застыла на мгновение. Сколько монахинь повидал за эти годы скиталец, во многих обманывался поначалу, принимая их за заблудившуюся жену. Эта же старуха была настоль кургуза и присадиста, столь неряшливо обихожена, в кожаных стоптанных чунях на босу ногу, что Яшка сразу же отвел взгляд, посчитав нескромным разглядывать старицу в ее обычной крестьянской работе.
Монахиня вышла из ворот птичника уже без поддевки, скосив голову, еще раз обозрела монастырского гостя. Яшка поймал ее глаза, длинные, молодые, налитые спелой березовой зеленью. Он вздрогнул и чего-то испугался вдруг. Он смутно подумал: «Если жена стала такой же кургузой и некрасивой, так зачем же он ищет ее? Лишь удостовериться, что жива, и после забыть насовсем? Иль вернуть в родные домы и изводить ее ежедневно попреками до гробовой доски? Иль остаться возле, нанявшись привратным сторожем? Вот ушла, злодейка, и душу унесла с собой...»
Справа от ворот высилась колокольня, и старица скрылась в проеме низких дощатых дверец. Яшка проводил ее взглядом и замялся в странной нерешительности и тревоге. И вдруг сверху колокола рассыпали такой веселый перезвон, так радостно заухали, затенькали, заспорили, завздорили, после мирно засмеялись, и сотни серебряных осколков посыпались на Яшкину голову, что стало скитальцу необыкновенно легко, и он подумал вдруг, что здесь конец его пути. Его подхватило, как на крыльях, и он побежал наверх деревянной истертой лесенкой и как бы воткнулся головою в стопудовый колокол. Он гудел столь раскатисто, вещал и звал с такою ярою силой, что тело мужика будто обломилось и плотно заложило уши.
Монашка стояла как бы вне колокольни, на деревянной площадке, без чуней, в одних шерстяных носках, плат был присбит к затылку, и что-то яростно светилось в зеленых русалочьих глазах. С десяток веревок было натянуто на нехитром приспособлении, и монашка прихватывала их вроде бы не сильно, щипала, как струны, и колоколята ладно и согласно отзывались. Что она играла, Бог знает, но столько азарта, столько сноровки, столько лада и радости было в музыке, что скиталец ошалел. Ему было счастливо, он оторопело глядел на старуху, уже зная, кто она. Он пробовал позвать ее: «Тая, Тасенька», но птичий голосишко никнул, увядал в широком, вольном перезвоне. Но вот старица погасила звонницу, ласково погладила царь-колокол и сошла с помоста, колокольный радостный воп еще струился в голубой небесной полынье, утекая ввысь и вновь возвращаясь оттуда.
Старица с улыбкою посмотрела в задранное лицо скитальца и сказала кротко, будто они и не разлучались:
– Ты пришел?
– Тая, ты почто наврала? – зажимая рыданья, ответил Яшка. – Ты обещала скоро вернуться.
Таисья молчала.
– Что же ты с собой наделала... Ну, закоим все это? – Яков взял жену за руку. – Хватит, Тая, мыкаться. Идем домой...
«Военному губернатор-адмиралу Владимиру Ивановичу Хрущеву от заплечного мастера архангельской городской тюрьмы Никиты Северьяновича Сумарокова
ПРОШЕНИЕ
С ноября 1852 года нахожусь я в архангельском тюремном замке заплечным мастером, исполняю свою обязанность в должном порядке. Вашему Превосходительству имею честь доложить, что я поступил в настоящую должность с собственного согласия, будучи в 1851 году причисленным в г. Мезень в мещане, никаких средств не получал от казны, а прожить было весьма трудно, не имея никакого рукоделья. Урожденный я Курской губернии, лишенный дворянского сословия и сосланный на жительство, ныне вознамерился вступить в законный брак с дочерью отставного рядового Дмитрия Павлова Лопатина девицею Пелагеей Лопатиной. Милость, сделанная вами, будет незабвенна, и в нещасной моей жизни жена всегда принесет мне развлечение.
Ежели мне не дозволите жениться на оной девке Пелагее Лопатиной и разрушите все мои стремления к будущей жизни, то прошу меня от оной должности заплечного мастера уволить».
Ответ правителя канцелярии. «... В просьбе о женитьбе и вольной квартире заплечному мастеру Никите Северьянову Сумарокову отказать. Ввиду его близорукого зрения и неспособности будущей быть в палачах, отправить его обратно по месту бывшего жительства и приписать в мезенские мещане...»
9 августа 1867 года ссыльнопоселенец Донат Калинов Богошков бежал из Обдорска на шхуне купца Сидорова. Благополучно миновали Маточкин Шар, когда навстречу попалось мореходное судно архангельского рыботорговца Вешнякова. Плыли на нем на Новую Землю тридцать монахов, чтобы там построить самый северный монастырь.
«Куда, святые отцы, попадаете?» – крикнул Донат.
«Пострадать едем...»
«Возьмите меня с собою...»
«С охотою ежели, так почто не...»
Пристали, забрали Доната, отправились дальше. Но в Белушью губу зайти не смогли, оказалась забитой льдами. Помахали становью горестно и решились пока зимовать на Богошковских островах, где сорок лет тому повалился на отдых Калина Богошков. Подновили старцы зимовье, подправили крест отважному помору да с тем и остались в зиму, принялись страдать за православных.
И все тридцать слегли от скорбута, обручились с цинготной бабой, отважно схоронились под крест.
Весны Донат Богошков дождался один.
Подсыпал каменьев в гурии на могилы покойных монахов, чтобы тела их не растащили псецы, помыл становье, пообсмотрелся на острову и стал жить дальше.
Долготерпив русский человек.
Примечания
1
Шняк – поморское судно. (Здесь и далее примеч. автора)
(обратно)2
Матка – Новая Земля.
(обратно)3
Прибегище – пристань.
(обратно)4
Чищеница – лесной сенокос.
(обратно)5
Хваленка – девушка на выданье.
(обратно)6
Совик – верхняя одежда из оленьих шкур.
(обратно)7
Тобоки – зимняя обувь из оленьих камусов (шкура с ног).
(обратно)8
Выть – еда.
(обратно)9
Сколотный – незаконнорожденный.
(обратно)10
Одевальница (одеяльница) – меховое одеяло.
(обратно)11
Поносуха – низовой ветер.
(обратно)12
Божатка – крестная мать.
(обратно)13
Забой – сугроб.
(обратно)14
Домовина – гроб.
(обратно)15
Костыч – косоклинный сарафан.
(обратно)16
Порато – очень.
(обратно)17
Загунь – замолчи, отстань.
(обратно)18
Плешивик – одуванчик.
(обратно)19
Тайбола – чащобный, дикий лес.
(обратно)20
Хонга – высохшая на корню ель.
(обратно)21
Ужище – толстая веревка.
(обратно)22
Навина – расчистки в лесу.
(обратно)23
Полуночник – ветер с северо-востока.
(обратно)24
Нагорные ветры – южный, с материка.
(обратно)25
Ошкуй – белый медведь.
(обратно)26
Малица – верхняя одежда из оленьих шкур.
(обратно)27
Свалились – ушли.
(обратно)28
Разволочная изба – промысловая изба зверобоев.
(обратно)29
Вонный амбар – амбар для хранения вещей и припасов.
(обратно)30
Кочедык – инструмент для плетения лаптей.
(обратно)31
Телдоса – настилы в лодке.
(обратно)32
Шугай – верхний праздничный наряд.
(обратно)33
Загусеть – покрыться плесенью, затвердеть.
(обратно)34
Петрухич – незаконнорожденный сын Петра.
(обратно)35
Шолнуша – место в избе, где обряжается хозяйка.
(обратно)36
Майна – прорубь.
(обратно)37
Дединка – жена дяди.
(обратно)38
Лопатина – женские наряды.
(обратно)39
Бурса – промысловая артель.
(обратно)40
Харавина – тюленья шкура с салом.
(обратно)41
Шадрины – оспины.
(обратно)42
Каяф – богатый крестьянин в Поморье
(обратно)43
Печищанин – деревенский житель.
(обратно)44
Коротенка – род женской шубейки.
(обратно)45
Место – постель
(обратно)46
Суземье – тайга.
(обратно)47
Шкивидор – артельщик, промышляющий укладкой корабельных грузов
(обратно)48
Заедки – пряники, орехи.
(обратно)49
Удивленная – испуганная
(обратно)50
Икота – распространенное на Севере заболевание нервной системы.
(обратно)51
Котляна – зверобойная артель.
(обратно)52
Лайда – травянистая сырая низина.
(обратно)53
Плешивых рубить – поморский старинный обычай-заговор.
(обратно)54
Уножье – дощатый настил в лодке.
(обратно)55
Корга – каменистая мель.
(обратно)56
Сулой – встречное, заворотное течение.
(обратно)57
Паморока – легкий обморок. (Здесь и далее примеч. автора)
(обратно)58
Попажа – дорога.
(обратно)59
Лещадь – камень.
(обратно)60
Лафтак – кусок, лоскут.
(обратно)61
Отелепыш – неловкий, неуклюжий парень.
(обратно)62
Упыриться – сердиться, дуться.
(обратно)63
Шаять – тлеть.
(обратно)64
Веред – болячка, ушиб
(обратно)65
Репище – огород.
(обратно)66
Кабат – широкая и длинная рабочая рубаха
(обратно)67
Аргиш – олений обоз
(обратно)68
Зобе?нька – корзина для сбора милостыни.
(обратно)69
Уросить – брыкаться.
(обратно)70
Охлупью ехать – ехать верхом на лошади без седла.
(обратно)71
Груделая – недозрелая.
(обратно)72
Обязательное условие.
(обратно)73
Вешница – ледоход.
(обратно)74
Раньшины, шняки – поморские суда.
(обратно)75
Повапленный – недвижимый.
(обратно)76
Калишки – обрезанные, укороченные валенки.
(обратно)77
Станок – почтовая станция.
(обратно)78
Пали – стоячие заостренные бревна.
(обратно)79
Ворга – болотистое мелколесье.
(обратно)80
Кулижка – лесная поляна
(обратно)81
Сам Селиванов, очевидно, был полный скопец, ибо в своих «Страдах» он пишет: «Когда я пошел в Иркутск, то у меня было товару только за одной печатью, а как пришел из Иркутска в Россию, то вынес товару за тремя печатями».
(обратно)82
Урман – распадок.
(обратно)83
Мег – колено реки.
(обратно)84
Нодья – костер.
(обратно)85
Виска – пролив.
(обратно)86
Чунки – санки.
(обратно)87
Елань – возвышенная и открытая равнина.
(обратно)88
Чаруса – топь, непроходимое болото.
(обратно)89
Ослоп – дубина.
(обратно)90
Понюжальник – плетка.
(обратно)91
Подлазурщик – шпион.
(обратно)92
Крень – косослойное дерево.
(обратно)93
Семендыр – маленькая минога.
(обратно)94
Какой хлеб едали на Руси в лихолетья: 1. Хлеб из белого оленьего мха. 2. Хлеб из желтого болотного мха. 3. Хлеб из оленьего мха с соломой. 4. Хлеб из мхов на оленьей крови. 5. Хлеб из сосновой коры немоченой. 6. Хлеб из сосновой коры с малой примесью ржаной муки. 7. Хлеб из пихтовой коры. 8. Хлеб из рябиновых листьев. 9. Хлеб из соломы. 10. Хлеб из рябиновых листьев с соломой. 11. Хлеб из мха, соломы и рябины. 12. Хлеб из соровых трав. 13. Хлеб из соломенной и древесной муки. 14. Хлеб праздничный с половиной ржаной муки. 15. Праздничный хлеб из одной ржаной муки. 16. Хлеб из муки ржаной, привозимой с Чердыни. 17. Хлеб из собственной ячменной муки.
(обратно)95
Заедки – сласти, лакомства.
(обратно)96
Чучалка – чучело птицы для приманки.
(обратно)97
Матка – компас.
(обратно)98
Из описи, произведенной судебным секретарем Карташевым по смерти первогильдийского купца Клавдия Петрова Шумова по прозвищу «Момон»:
«Денег в ценных бумагах, ассигнациях, золоте, серебре, бриллиантах, жемчугах, в сокровищах и в прочей расхожей монете других государств на тридцать один миллион рублей. А кроме того, лежалого, сопрелого и всякого товару, годного к пользе, а именно: очки, лорнеты, меха собольи, куньи и песцовые, театральные и зрительные трубки, карманные и ручные часы, косметические товары, шпильки, бумага александрийская, книжная, комнатная, золотообрезная, пропускная, картузная, хлопчатая, белье дамское, волосы, гарус, гребни, губа грецкая, мужские и дамские шляпы, наколки, блонды, ленты, кружева, аграмант для обшивки бурнусов, ружья и охотничьи приборы, зеркала, серебряная и фарфоровая посуда, игрушки детские, скрипка, клавикорды, картины, дамские перчатки, резиновые мужские и дамские галоши, карты игральные, колпаки, конфекты, краски всякие, кружева, ладан, лапша, сыр пармезан, голландский, английский, горох, ликеры, масло репное, гарлемское, мыло греческое и венецианское, бобы, орехи, олово, перья страусовые, скатерти, статуэтки, канифас, батист, клеенка, помада, табакерки, трости, чулки шелковые, атлас, гроденапл, саржероп, флер, камлот, стамед, сукна касторовые, вина – венгерское, бержерак, эрмитаж, шато-марго, пикардон, рекомор, фронтильяк, лупиньяк, сенлион, тинто» и т.д.
(обратно)99
Кнут приготовлялся из ремней бычьей или коровьей шкуры, тонко нарезанной и заостренной.
(обратно)100
Голомень – открытое море.
(обратно)101
К середине XIX века телесному наказанию не подлежали все дворяне, их дети, дворяне иностранные, султаны сибирских киргизов, почтенные граждане, купцы первых двух гильдий с женами и детьми, духовенство, их жены, вдовы, дети, монахи, высшие чины магометанского таврического исповедания, глава еврейского духовенства гахам. Мещане и купцы могли быть наказаны телесно лишь по приговору уголовного суда.
(обратно)





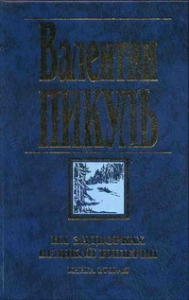

Комментарии к книге «Скитальцы», Владимир Владимирович Личутин
Всего 0 комментариев