Юрий ИВАНОВ Карибский сувенир
ОТ АВТОРА
Уже несколько лет я убегаю от зимы. Лишь только спадут с деревьев листья и засвистит холодный ветер, как только первые морозы скуют свежим прозрачным льдом реки и озера, я покидаю родной порт Калининград и отправляюсь в многомесячный рейс к берегам незнакомых жарких стран. Уж так случается, что в очередной научно-поисковый рейс приходится уходить поздней осенью, а возвращаться домой летом, когда уже отцветает сирень. Так случилось и в этот рейс, о котором я рассказываю в своей книге. На судно мы пришли в теплых пальто и меховых шапках, а уже через полмесяца щеголяли по палубе в одних трусах. Ушли зимой — вернулись летом. И так — год за годом, рейс за рейсом.
Я очень люблю землю. Землю, которая не раскачивается под ногами. Люблю землю — ее поля, леса, реки и озера. Там, в море, я грущу до сердечной боли о запахе свежего сена и тоскливом теньканье синицы в тихом еловом лесу.
И очень люблю море. С самого детства мечтал о встрече с ним. И встреча состоялась — я стал моряком, работаю в голубых океанских просторах.
Море меня многому научило. В походах я узнал, что такое шторм, что за мерзкая штука морская болезнь. Познакомился с одуряющей тропической жарой, с живительной силой ливневых струй, хлещущих по перегретой солнцем палубе, с экваториальной влажностью, от которой по ночам мучительно ломит суставы рук и ног. Познал въедливую морскую тоску, вползающую в душу, когда неделями кругом одна вода… одна вода. Вдали от родных берегов я научился по-настоящему ценить морскую дружбу, понял, как щедро океан открывает свои тайны тем, кто любознателен.
Море… Атлантический океан. Хочется, чтобы все знали, как он прекрасен! Как чудесно уйти в его манящие широты, а потом вернуться домой. Вернуться возмужавшим, просоленным морскими брызгами и ветрами, с погрубевшими ладонями и посуровевшей душой…
Говорят, моря, океаны разъединяют материки. Нет. Моря, океаны соединяют материки и дальние страны. По морю, по океану можно достичь берегов незнакомых земель. И там, вдалеке, найти новых друзей. И там, вдалеке, в чужих странах, остро и осязаемо почувствовать, как дорога Родина!
Осень. Желтые листья слетают с мокрых деревьев. В комнате прохладно. На полу стоят чемоданы. Жду телефонного звонка. Товарищи по пути в порт заедут за мной: снова в рейс…
Нас опять ждет море, новые встречи в дальних краях. Возможно, мы побываем и в тех странах, в портах которых уже бросал якорь наш теплоход. Как-то нас встретят там? Более дружелюбно или, наоборот, неприветливо?.. Ведь пока создавалась книга, в мире прошло немало событий, значительно изменивших политическую обстановку в некоторых странах, о которых упоминается в «Карибском сувенире».
Звонок… Это мои друзья. Сейчас они заедут за мной, и уже сегодня мы покинем порт. Снова уйдем в океан: далеко и надолго. Будем искать новые районы лова.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С чего начинается рейс? Пробиваемся через льды. Судно смотрит в воду. Беспокойный пролив Ла-Манш. Пожиратели кораблей. Знакомство за миской супа. История, услышанная в Маунст-Бей. Ирландское море.
С чего начинается рейс? Судно только что отвалило от стенки, и за пеленой снега еще не успели растаять темные замерзшие фигурки провожающих. Еще матросы ловят последние взмахи рук тех, кто остается на берегу, как из судовых динамиков раздается твердо и категорично: «Команде произвести малую приборку…» Вот, пожалуй, с этого момента и наступает морская жизнь. С этой команды и начинается наш новый, полугодовой рейс.
Зябко поеживаясь, мы спешим в каюты. Мы — это четверо сотрудников Атлантического научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, «научники», как называют нас на судне: помощник капитана по научной части Виктор Жаров, инженер-гидролог Николай Хлыстов, гидрохимик Валентин Брянцев и я. Все мы живем на суше, но часть своей жизни проводим вдали от родных берегов, в открытых океанских просторах.
— Закрывай дверь, — говорит Виктор, зябко потирая руки, — сегодня минус двадцать.
— Скоро отогреемся… — Утешая его, я захлопываю дверь. Скоро — это через полмесяца. Через пятнадцать-шестнадцать суток мы уже будем в тех широтах, которые в географии называются «тропики». Через две с половиной недели мы уже будем ходить по палубе в трусиках.
А пока — иллюминатор затянут тонким морозным узором, в каюте прохладно, а за бортом скрежещет, скрипит лед: судоходный канал от порта к морю замерз и теплоход еле двигается, ломая острым форштевнем толстые, сверкающие цветными огоньками в лучах проглянувшего сквозь тучи солнца ледяные глыбы.
Да, до тропиков, до знойных берегов Бразилии и Кубы, куда держим мы путь, еще далековато. И можно, пожалуй, заняться малой приборкой. Тем более, что старпом в отношении судовой чистоты очень строг, и попадаться в стенгазету, в раздел «А вот наши грязнули», совсем не хочется.
— Виктор Леонтьевич, зайдите к капитану, — раздается из динамика.
Виктор без сожаления отдает мне веник и, захватив папку с рейсовыми документами, поднимается наверх, в капитанскую рубку. Виктор уходит, а я осматриваю каюту: итак, с чего начать? Пожалуй, с пола. Вернее, с палубы — ведь на судне нет полов.
Пошаркав веником по палубе, я сажусь на диван.
Глаза привычно скользят по знакомым предметам: две, одна над другой, койки; маленький, детских размеров, диванчик; такой же столик, два рундука — шкафчики для вещей, умывальник, зеркало, полка для книг и динамик. Вот и все. Была еще в нашей каюте висячая керосиновая лампа — это на всякий случай, мало ли что в море может случиться, но в море, как видно, она никому не пригодилась, и ее кто-то унес. Может, взяли на память…
Были еще графин и два стакана, но вся стеклянная троица разбилась во время шторма в прошлом рейсе, где-то у берегов Гренландии. Да и ни к чему они: когда в умывальнике есть вода, ее приятно пить прямо из-под крана. Я говорю «когда есть», так как вода в умывальнике бывает не всегда — во время работы в тропиках ее экономят и дают лишь три раза в сутки по десять минут. Запасаться водой тоже неразумно: через несколько часов она нагревается до тридцати градусов и становится безвкусной. Поэтому ее лучше пить прямо из-под крана.
Вот такая моя, вернее, наша с Виктором каюта. Его койка верхняя, моя — нижняя. Койки мы разыграли еще на берегу — тянули спички. Тесновато, прохладно на севере и душно на юге, но вместе с тем очень уютная и удобная каюта. Это третий мой океанский рейс. Третий дальний, полугодовой. Первый рейс — на теплоходе «Орехово»; за экватор, в южное полушарие, ходил на среднем рыболовном траулере «Обдорск», а теперь в восточную, тропическую часть Атлантического океана иду на научно-поисковом судне «Олекма».
Суда, на которых мне приходилось совершать дальние путешествия, в том числе и «Олекма», — суда-близнецы. Все они сооружены руками немецких рабочих в городе Штральзунде, все из одной серии «Океан». Суда предназначены для работы в открытых океанских просторах: им не страшны штормы, ураганы, плотные, непроницаемые туманы и большие расстояния.
«Орехово», «Обдорск», «Олекма» — на борту каждого из теплоходов чернеют буквы СРТР — средний рыболовный траулер-рефрижератор. На таких судах ловят рыбу. Они оборудованы холодильными камерами, чтобы замораживать улов. Суда нашего института несколько переконструированы и используются как научно-поисковые. На них можно искать, ловить рыбу и вести научную работу.
Так случилось, что все рейсы я совершил в одной и той же каюте: в каюте по левому борту, номер «22». Вот и сейчас я опять навожу в ней малую приборку и считаю ее своей каютой.
Застелив койку, протерев тряпкой зеркало, стены, диванчик, осматриваюсь: пожалуй, все, с приборкой покончено. Теперь осталось совсем немного: я пришпиливаю к стенке над диваном календарь, а над своей койкой рисунок — похожий на утюг красный пароход с фиолетовым, в виде изогнутой колбасы дымом, вылетающим из трубы, и тонконогими человечками, прыгающими по палубе. Под одним из человечков стоит жирная зеленая точка — это я. Внизу подпись: «Папе от Риты». Вот теперь всё — каюта приняла совершенно жилой вид. Теперь можно идти; моряки не говорят «плыть» — идти в самые далекие, в самые неизведанные края. Туда, где злое, жгучее солнце, где днем нет теней, а в прозрачной синей воде около бортов судна шныряют вечно голодные акулы.
— Инженерам научной группы, к капитану! — приглашает судовое радио.
Убрав веник, я поднимаюсь наверх.
— Садитесь, ребята, — приглашает капитан и сам садится за стол, на котором разложена карта Атлантического океана. — Давайте посмотрим еще раз районы, где нам предстоит работать.
Капитан закуривает сигарету, кивком предлагает закурить и устраивается в кресле поудобнее. О капитане «Олекмы» я уже слышал давно. Это один из лучших капитанов нашего института. Молодой, энергичный, любознательный, отличный мореход — так отзываются о нем те, кто плавал на «Олекме» вместе с Валентином Николаевичем Лутошкиным. У него решительное, с чуть выпуклыми глазами и крупными чертами лицо, крепкие, с толстыми пальцами руки; широкие плечи обтягивает мохнатый шерстяной свитер.
— Как вам известно, — начинает Жаров, щурясь от сигаретного дыма, — в целях оказания экономической помощи Кубе в Карибском море и Мексиканском заливе работает группа советских рыболовных судов, в том числе и несколько научно-поисковых. Задача заключается в том, чтобы помочь молодой республике развить свою рыбную промышленность, а также отыскать в малоизученных районах Карибского моря и западной, экваториальной части Атлантики районы, богатые промысловой океанической рыбой: марлинами, тунцами, макрелями и другими. Такая же задача стоит и перед нами — нам необходимо обследовать тропические воды Атлантики, а также отыскать промысловые районы в Карибском море. Впоследствии мы дадим промысловые рекомендации как нашим друзьям на Кубе, так и промысловому рыболовному флоту Советского Союза. Одновременно перед нами стоит целый ряд других важных и интересных задач: изучить биологию рыб Атлантического океана, химический и биологический состав его вод, собрать коллекции морских обитателей. Попутно мы будем работать в Северном море, в проливе Ла-Манш и Ирландском море — там обнаружены скопления ставриды и необходимо будет провести контрольные траления.
— Где начнем работы? — спрашивает капитан.
— Вот здесь. — Виктор наклоняется над картой и ставит красным карандашом кружок у выхода из пролива Скагеррак в Северное море. — Через все море, до Ла-Манша, эхолотная съемка. Затем контрольные траления в проливе и Ирландском море. Здесь мы поработаем с неделю. Далее — переход к мысу Кап-Блан, там мы должны наловить или получить на советских судах наживку, потом спускаемся вдоль Африки южнее, заходим за водой и свежими продуктами в порт Дакар и начинаем трансатлантический разрез — от Африки через весь океан до Южной Америки.
После захода в порт Рёсифи, делая небольшие разрезы, протяженностью четыреста — пятьсот миль, вот такими зигзагами будем подниматься на северо-запад и одновременно искать рыбу. А затем — Карибское море, Мексиканский залив, Куба. А оттуда — домой. Рейс интересный, сложный. В те места, куда мы идем, еще не направлялось ни одно научно-поисковое советское судно. Мы будем первыми.
Виктор кладет карандаш и, почесывая подбородок, смотрит на капитана, ожидая вопросов. А тот молчит, барабанит пальцами по карте. Глаза ого скользят по голубому полю карты, и мне кажется, что он в этот момент представляет себе весь рейс: тысячемильные утомительные переходы через моря, заливы и проливы; лед, забивший водный путь между Данией и Швецией; шквальные ветры, которые наверняка набросятся вскоре на судно, и бесконечные дни рейса — дни, наполненные сложной работой, работой без выходных, без укороченных суббот. Длинная вереница душных, жарких дней вдали от Родины, в малоисследованных уголках Атлантического океана.
— Ну что ж, — вздохнув, прерывает он молчание и щелкает зажигалкой, раскуривая затухшую сигарету, — как устроились?
Его глаза неторопливо пробегают по нашим лицам. Коля Хлыстов, сухощавый, широкоплечий парень с резкими чертами лица, пожимает плечами: дескать, это ведь не гостиница — теплоход. Застелили койку, прибили фотографию жены на стенке у изголовья — вот и все устройство. Валентин Брянцев на вопрос капитана улыбается: раньше он ходил на Севере, на судах старых конструкций. «Олекма» по сравнению с ними — комфортабельное судно!
— Все в порядке, — за всех говорит Жаров, — устроились хорошо.
— Ну что ж, — поднимается капитан, — надеюсь, что мы сработаемся и то, что предусмотрено рейсовым заданием, будет выполнено. А сейчас все свободны.
Балтика встречает нас сильным ветром и крутой волной. Я с неприязнью гляжу на серые, будто взмыленные, в белой пене валы — не переношу качку. По крайней мере, в первые три-четыре дня плавания. Эти первые три-четыре дня, первые недели нового рейса бывают, пожалуй, самыми тяжелыми. Кажется, и не в первый раз идешь в море, но перемена привычных условий береговой жизни вызывает какие-то определенные трудности. Шум машины, резкий запах солярки, качка, теснота, новые люди. Ко всему этому ведь нужно привыкнуть!
Дни летят быстро. Довольно скоро уже перестаешь замечать шум работающего двигателя. Он напоминает о себе лишь тогда, когда машина внезапно останавливается. Запах солярки перестает лезть в горло, к качке привыкаешь, а всю команду уже знаешь по именам.
Но все это не сразу. Пока же я знаю только своих — Виктора, Николая и Валентина. И еще одного Виктора, Виктора Александровича Литуна — старшего помощника капитана судна. С ним мы ходили на СРТР «Орехово» два года назад.
Вечером долго не могу заснуть. Койка кажется слишком узкой, короткой и очень жесткой. В подушке перьев — с одной курицы, не больше. Она, как блин, сплющивается под головой, и ее приходится свертывать вдвое, чтобы голова не оказалась на уровне пяток.
Жена говорила: «В море так неудобно… ну зачем тебе оно?» Неудобств действительно многовато, но не о них я думал на берегу, когда добивался участия в этой экспедиции. А об интереснейших встречах с обитателями морей и океана, о маленьких открытиях, которые всегда бывают в любой экспедиции… Я думал о Бразилии и Кубе, джунглях Южной Америки, в которых мечтал побывать, крокодилах, на которых рассчитывал поохотиться, и если не с ружьем, то хотя бы с фотоаппаратом. Я думал о веселых мулатах, которые любят петь и танцевать самбо, о барбудос с острова Свободы. О каких же трудностях могла идти речь? Нет, не мог я остаться на берегу. И добился своего, хотя это было и нелегко сделать. Все складывалось против меня. Директор института хотел, чтобы я остался на берегу, так как не были разобраны до конца коллекции, доставленные из предыдущей экспедиции. Врачу на медицинской комиссии не понравился мой левый глаз, и вместо себя пришлось на свидание с окулистом послать товарища по работе. Жена говорила, что ей все это надоело, и что уже пора остепениться, и что… В общем, жена есть жена.
Но я иду в рейс. По своему опыту я знаю, что никогда не следует откладывать что-либо на «потом».
Ночью всех разбудил сильнейший толчок и отвратительный скрежет: теплоход с ходу налетел на кромку льдов, забивших подходы к Зунду — проливу, разделяющему Швецию и Данию. Всю ночь лед скрипел, пищал за переборкой, где-то около моих пяток. Судно то останавливалось, то пятилось назад и с разбегу наскакивало на ледяное поле.
Шли с мизерной скоростью, две-три мили в час, оставляя позади черную, забитую льдом воду.
Утро серое, холодное. Необычно выглядит в эти зимние дни пролив. Зунд — оживленнейшее судоходное место. Сотни судов — танкеров, сухогрузных теплоходов, фруктовозов, рыболовных траулеров и пассажирских лайнеров — спешат обычно по нему из Балтийского моря в Атлантику, а другие — навстречу, из Америки и жарких краев в порты Прибалтийских стран. Но сейчас Зунд почти пустынен: владельцы судовых компаний, учитывая сложные условия плавания в эту зиму по датским проливам, резко сократили перевозки в их водах.
Лед толстый, тяжелый. «Олекма» с трудом, медленно преодолевает метр за метром, режет, раздвигает серые ноздреватые льдины. Кое-где виднеются черные полыньи, в которых плавают сотни зимующих уток.
Заметив приближающееся судно, утки обеспокоенно крутят головами, приподнявшись, хлопают крыльями, а потом плотными стаями поднимаются с воды и летят над битым льдом, отыскивая место поспокойнее.
Капитан нервно шагает по рубке. Подняв воротник куртки, выходит на крыло мостика, озабоченно осматривает борта теплохода — краска счищена, как будто кто-то большой и сильный усердно поработал гигантской металлической щеткой.
Валентин Николаевич не спал всю ночь. Веки его глаз опухли, покраснели. Пойти бы полежать. Но какой тут сон, когда в проливе сорваны или сняты все навигационные знаки? А фарватер узкий, опасный.
— Последнего лоцмана забрал, — говорит капитану старший помощник капитана, высокий белокурый парень, Виктор Литун. Говорит и кивает на идущий впереди шведский грузовой теплоход «Орландер».
На его борт только что вскарабкалась из лоцманского катера маленькая, цепкая фигурка.
Капитан поднимает бинокль, внимательно осматривает чистую в этом месте воду. Да, лоцманских судов больше не видно… Что же делать? Ждать? Но сколько времени уйдет на ожидание? Нет, ждать нельзя. Пожалуй, следует рискнуть.
— Давай за «Орландером», — говорит он Литуну, — держись за ним. Проскочим. Кстати, он и лед нам разведет.
Старпом удовлетворенно кивает головой и переводит ручку машинного телеграфа на «полный вперед». Внизу, в машинном отделении, раздается сигнал: дзннь-дзииь, и теплоход, быстро набрав скорость, пристраивается к «Орландеру». Тот уже опять вошел во льды и ломает, раздвигает их своей широкой серой грудью, оставляя позади узкую кашеобразную дорожку, по которой пробираемся мы.
Днем проходим мимо Копенгагена. Он раскинулся по левому борту судна. Столица Дании так близка, что отлично видны улицы города, ярко раскрашенные дома, рекламы, вереницы автомобилей и толпы датчан, спешащих по улицам и площадям. Но вот дома, зеленые шпили кирх и замков Копенгагена остаются позади. Их сменяет поросший лесом высокий берег, по откосам которого сбегают к воде виллы, коттеджи, а наверху раскинули свои руки-крылья ветряные мельницы.
Вскоре домов становится больше, виллы уступают место многоэтажным домам и административным постройкам. Видны суда, портовые краны. А вот и гранитная набережная. На ней стоят люди и бросают в полыньи хлеб: тысячи чаек мечутся над водой, падают в нее, дерутся из-за каждой корки. Суровая, необычная зима стоит в этом году, и птицы голодают.
От ярко раскрашенного причала с большой светящейся надписью «Благодарим вас за посещение Дании» отваливает сверкающее стеклом и белым металлом не совсем обычное судно — короткое, широкое, с громадным залом посредине. Зал ярко освещен, и нам хорошо видно, что в нем стоят легковые автомобили и небольшие автобусы. Это теплоход-паром. Через каждые полчаса такие паромы отходят от датского берега или пришвартовываются к нему, вплывая в специальные туннели, из которых автомобили, сгруженные с парома, выезжают прямо на одну из площадей города. Паромы курсируют по строгому расписанию между шведским и датским берегами, и их опасаются капитаны всех судов: паром мчится напрямик, не уступая никому дороги, лишь сердитыми гудками предупреждая всех о своем приближении.
Паром проносится мимо, расшвыривая со своего пути льдины, а мы, несколько сбавив ход, чтобы уступить ему путь, отстаем от нашего «Орландера». Тот врезается в новое ледяное поле и с каждой минутой уходит от нас все дальше и дальше.
Вечереет. В быстро наступающей темноте мы теряем дорожку, пробитую во льду серым «Орландером», и вскоре застреваем. Рядом с нами стоят вмерзшие в лед еще десять польских и немецких траулеров. На них, как видно, люди примирились с участью — ждут утра. Утром, наверное, придет спасательный буксир и разобьет, разрушит белое поле. А пока на одном из траулеров пиликает губная гармошка, двигатели молчат, отдыхая от схватки со льдом.
Пришел капитан. Он несколько часов отдохнул и немного посвежел… Походил по рубке, вышел на крыло мостика, долго смотрел на лед, обдумывая что-то, невесело хмыкнул: вот ведь история, опять завязли… Где-то там, севернее, пробивает лед советским судам спасательный буксир «Гермес». Сюда он сможет вернуться к обеду следующего дня. Опять потеря времени, простой. Собственно говоря, что в этом особенного? Вон ведь, стоят теплоходы… гармошка играет. Ничего не поделаешь — стихия! Против нее не пойдешь. Вмерзли — и точка: жди буксира. А пока можно картину прокрутить, например «Самогонщики». Это же такая штучка, что живот от смеха болеть начинает… Или в шахматишки сгонять… А завтра придет буксир — и потащились за ним потихонечку.
Но нет, время не ждет. И так скорость во льдах ни к черту. И пускай на других судах пиликает гармошка, люди смотрят фильмы, играют в шахматы. Нам нужно идти.
— Давай потихоньку назад, Виктор Александрович, — говорит он вахтенному штурману, — а потом разгончик и вперед… Будем пробиваться.
Малый назад… Колотый, мелкий лед, прихваченный вечерним заморозком, густ, как круто сваренная каша. Он сердито шипит и неохотно пропускает корму. Десять метров назад… двадцать… еще пяток. Теперь — вперед! Разрезая ледяной пудинг, теплоход бросается вперед, наскакивает на толстую ноздреватую льдину, подминает ее под себя, давит. Льдина всхлипывает, кряхтит и звонко лопается. Появляются длинные черные трещины. Со скрежетом обломки льдины теснятся к корпусу судна, сдирают своими острыми краями краску.
— Неплохо! — говорит капитан. — А ну-ка, повторим!..
И снова тот же маневр: назад… разбег… бросок на ледяное поле. На стоящих рядом судах смолкла гармошка. На палубе появились плечистые люди в свитерах и цветных шерстяных колпаках. Они наблюдают за нами, смеются, что-то кричат. А «Олекма» упрямо бьет, давит, режет форштевнем льды. И вскоре черные коробки «норвежцев» остаются позади. А потом мы увидели, что один из вмерзших в лед траулеров зашевелился, застучал двигателем и неуверенно двинулся вслед за нами.
Да, труд наш не пропал даром: через несколько часов «Олекма», вырвавшись из ледяных тисков, нащупала в темноте дорогу, оставленную «Орландером», прибавила ход и благополучно миновала Зунд, а затем и другие датские проливы: Каттегат и Скагеррак.
Северное море удивительно тихо и спокойно: волнение полтора-два балла, чуть заметный ветерок гонит лохматые клочья тумана и дружески подталкивает судно в корму. Я поднимаюсь на верхний мостик и, спрятав нос в меховую шапку, с подозрением вглядываюсь в светло-зеленые, такие миролюбивые и добродушные сейчас волны. Просто не верится, что в эту зимнюю пору Северное море способно быть таким тихим и кротким. Проходит день, сутки — море все такое же спокойное. Как видно, старик Нептун, изо дня в день раскачивающий его штормами и бурями, утомился и успокоился, прикорнув где-нибудь в уютном уголке между осклизлыми валунами в зеленой морской глубине. Ну что ж, спи, старикан, отдыхай, а «Олекма» пересечет Северное море… Мы идем по нему хорошим ходом с северо-востока на юго-запад, торопимся к Ла-Маншу…
И уже не просто идем, а работаем. Лишь только «Олекма» миновала проливы, в ходовой рубке включили специальный гидроакустический прибор — эхолот. Это глаза рыболовного судна. Эхолот глядит вниз, в морскую глубину. Он тщательно просматривает водную толщу, и, как только обнаружит в ней косяк рыбы, на движущейся в приборе ленте появляются зубчатые штрихи: прибор, как говорят промысловики, «пишет» рыбу. На этой ленте видно все: рельеф дна и глубину, на которой находится косяк.
Рядом еще один прибор. Называется он «фишлупа». Принцип его работы тот же, что и у эхолота: посылаемый из прибора электросигнал, встретив на своем пути в воде какое-либо препятствие, возвращается обратно на судно. Но если в эхолоте косяк рыбы «зарисовывается» на бумаге, то в фишлупе он изображается на экране в виде яркого электрического всплеска. В отличие от эхолота, фишлупа может просматривать рыбу не только по вертикали, то есть те косяки, что находятся под теплоходом, но и те, что оказываются в водной толще впереди ищущего рыбу судна.
Но пока эхолот не «пишет» рыбу. Ее, по-видимому, здесь нет. Ну, а если приборы обнаружат плотные косяки, то мы проведем контрольные траления и сообщим в порт координаты, где была найдена рыба. Эти сведения передадут на суда, работающие в Северном море, и они придут, обловят косяки.
Но пока приборы ничего не нашли. Рыбы нет. Трал лежит па борту, свободные от вахты матросы отдыхают, отсыпаются после суматошных предотходных дней и ночей, когда судно ремонтировалось, загружалось. Лишь четыре раза в сутки весь экипаж дружно и быстро собирается вместе: на завтрак, обед, полдник и ужин. Вот и сейчас по судовому радио разносится знакомый голос Виктора Литуна:
— Команде на ужин!
Хлопают двери кают, стучат по трапам матросские сапоги. Механики, штурманы, научники — все спешат в салон, который расположен около камбуза, в кормовой части теплохода.
Потягивая носами, заглядывая по пути на камбуз, молодые крепкие парни проходят в салон, рассаживаются за столами, намазывают на толстые куски хлеба едкую горчицу, солят и посыпают их перцем… Салон небольшой, «игрушечный», как и все помещения на «Олекме», но достаточно вместительный и уютный. В нем четыре стола. За одним сидят капитан и штурманы, за другим — механики, за третьим — палубная команда, за четвертым — научники, боцман, радист, мастер по добыче рыбы. В общем, «сборная», как нас называет кок, команда.
Как правило, все знакомства на судне начинаются в салоне, за столом. Камбузный матрос Аркадий приносит большую кастрюлю.
— По куску, — говорит он.
«По куску» — это значит, что в борще лежит, томится в горячей душистой жидкости по куску мяса на каждого, кто сидит за столом.
— Ну что ж, по куску так по куску, — соглашается боцман и по традиции первым берется за поварешку.
Боцман, Сергей Петрович Сорокин, сидит напротив меня. Он высокий, худощавый, но широкоплечий, костистый. Лицо смуглое, с небольшими светлыми глазами, глубоко упрятанными под бровями; на голове курчавые золотистые волосы, окружающие бронзово-красную лысину.
— По куску так по куску, — задумчиво повторяет Петрович, как его все зовут на судне, и ловко выуживает из кастрюли большущий кусок мяса, потом мозговую косточку, которая идет не в счет, и несколько поварешек густого борща. Подумав немного, Петрович добавляет еще юшки, как он называет жидкость, и передает ложку соседу — гидроакустику Виктору Васильевичу Колесникову, мужчине могучего сложения.
На «Олекме» к дяде Вите, как его почтительно величают матросы, все относятся с уважением: люди всегда и везде почтительны к сильным людям. Получив от боцмана поварешку, которая в его большущей руке кажется игрушечной, дядя Вигя наклоняется над кастрюлей и бормочет:
— После боцмана здесь уже ничего не вытралишь… — Акустик так же, как и его сосед, любит погрызть косточки из борща, но на этот раз ему приходится довольствоваться только мясом.
Поварешка идет по кругу: бригадир, рыбмастер, радист Слава, Коля Хлыстов, Валя Брянцев и, наконец, я. Когда очередь доходит до меня, на дне кастрюли остается лишь один кусок мяса, чуть прикрытый лохмотьями капусты, да сиротливо жмется в уголке картофелина с черным глазком посредине. Поварешка жалобно шаркнула по днищу кастрюли. Заглянув в нее, боцман подзывает Аркадия:
— Ну-ка, поднови, дружок…
Аркадий добавляет туда борща, и я благодарно улыбаюсь боцману.
— Давай жми… — подбадривающе подмигивает мне Петрович. — Дохловаты вы немного, поправляться нужно.
Я перестаю улыбаться и налегаю на борщ. Действительно, по сравнению с матросами я выгляжу весьма дохловато. Рядом со мной сидят широкоплечие, крепкие парни; у них прекрасный аппетит. Должно быть, работа у рыбака тяжелая, и, чтобы не уставать и быть всегда энергичным, нужно хорошо, по-морскому есть. Уф, ну и порция! На берегу я бы, наверное, никогда не одолел такую миску, а здесь — ничего… Большущая порция борща, второго и кружка компота легко и непринужденно упрятались в моем желудке. И, вытерев, как все, мокрый лоб, я неторопливой, отяжелевшей походкой отправляюсь в свою каюту.
Северное море проскочили за двое суток. Нам просто повезло. В прошлом году в это же время, когда шли за экватор на СРТР «Обдорск», мы ковыляли по нему почти пять суток. Почти пять суток трепал нас жестокий шторм и отвязался от теплохода лишь в Ла-Манше. А в этот раз всего двое суток. Просто удача!
Из рубки приходит Жаров.
— Где мы сейчас? — спрашиваю я его, отложив в сторону карандаш и толстую тетрадь.
— В полусотне миль от Английского канала, у юго-восточного побережья Англии. — Достав из рундука свитер, он добавляет: — Есть хорошие записи. Будем тралить.
Тралить? Это интересно! Люблю, когда рыбу ловят тралом.
Всегда, даже в самом маленьком улове, можно отыскать что-нибудь интересное. Одевшись, я поднимаюсь вслед за ним.
Жаров и капитан стоят у эхолота, смотрят на бумажную ленту, по которой прибор рисует черные елочки и зубцы, советуются, думают. Подумать есть о чем: косяки — вот они, черные сплошные зигзаги. А елочка — это рисунок совершенно реального дна.
— Топляки… Уж очень костлявый грунт, — задумчиво почесывает подбородок Валентин Николаевич, — трал запросто потерять можно.
Я подхожу ближе. Да, уж грунт так грунт. Не дно, а какая-то гребенка. Только не равнозубая, а с острыми зубьями различной величины: ржавые, забытые всеми топляки — суда, которые когда-то гордо рассекали синюю воду морей и океанов…
— А вот смотрите, здесь чисто… — стучит по стеклу прибора Жаров. — Я думаю, нужно все же попробовать. Надо узнать, что здесь за рыба.
— Ну что ж, наука требует жертв. Раз надо так надо, — соглашается капитан и подходит к микрофону. — Внимание! Палубной команде приготовиться к отдаче трала! — разносится его голос по судовым помещениям.
Поеживаясь, потирая носы, щеки, выскакивают на палубу матросы. Все они кажутся очень толстыми, большими — на каждом надет ватник, а поверх — прорезиненные рыбацкие куртки и брюки на подтяжках, заправленные в высоченные, с раструбами сапоги.
Теплоход замедляет бег, разворачивается правым бортом под ветер, ложится в дрейф. Тотчас под него подкатывается крутая зыбь. На ходу судно ее просто не замечает: дескать, зыбь, подумаешь! Он легко пересекает длинные пологие волны, разрубает их пополам острым форштевнем и бьет своим винтом. Когда же двигатель останавливается и судно ложится в дрейф, зыбь тихо и незаметно подкрадывается к судну и начинает с ним забавляться: теплоход резко кренится ей навстречу, потом с каким-то неприятным скрипом заваливается на другой борт и снова стремительно кренится. Откуда-то из металлического нутра судна слышится звон, грохот и сердитые крики кока: что-то там у него на камбузе полетело, а щи, наверное, выплеснулись на раскаленную плиту. Зыбь все сильнее и сильнее раскачивает «Олекму». Я смотрю на палубу — она резко накреняется то в одну, то в другую сторону на двадцать — тридцать градусов. А матросы подготавливают трал и согласно, будто по команде, раскачиваются вместе с судном, легко и привычно удерживая равновесие. И кажется, что подошвы их сапог накрепко прибиты к дощатому палубному настилу.
— Ну как там? — свесившись с мостика, нетерпеливо спрашивает капитан.
Бригадир Яков Павлович Болтенко не отвечает. Наверное, он не любит разговаривать во время работы. А может, просто не слышит — тесемки его шапки туго затянуты на подбородке, а на голову накинут капюшон прорезиненного плаща. Что-то сказав ребятам, он подходит к концевой части трала — кутку, вместе с матросами сбрасывает его за борт. Ветер отгоняет судно от трала, и громадный сетчатый мешок расправляется в воде, растягивается длинной колеблющейся кишкой. В это время бригадир включает траловую лебедку, в волны тяжело плюхаются носовая и кормовая доски; там, в глубине, вода ударяется в них и раздвигает трал, раскрывает его огромный зев, в который попадается рыба. Вслед за досками в воду уходят ваера — толстые металлические тросы, при помощи которых трал буксируется за судном.
Ваера туго натягиваются, гудят, вибрируют. Я гляжу, как они режут волну, и представляю себе трал. Там, в глубине, он как бы летит над самым дном. Рыбьи косячки бросаются от него в сторону. А другие мчатся прямо в трал и застревают, сбиваются плотной массой в кутке.
— Одни клочья достанем, — беспокоится Валентин Николаевич и тревожно смотрит на ленту эхолота: опять топляки пошли.
Топляки — погибшие суда — остались здесь еще со времен второй мировой войны. Потопленные подводными лодками, пикирующими бомбардировщиками или взорванные самой командой, они опустились на дно, их постепенно засосал ил. Но не совсем: из грунта остались торчать погнутые мачты, пробитые осколками и снарядами трубы, искореженные, в железных ржавых лохмотьях рубки. Таких металлических обломков много в Северном море, на Балтике, в проливе Ла-Манш. О корпуса погибших кораблей часто цепляются рыбацкие тралы, и железо сбривает с трала всю его оснастку, оставляя на ваерах лишь рваные куски сетчатого полотна — дели.
— Выбирать трал! — дает команду капитан. Заработала лебедка. Свесившись с борта, заглядывает в воду боцман: идет трал или нет. Вскоре из воды, гулко булькнув, вынырнули доски, а за ними показался и сам трал.
— Цел! — кричит с палубы боцман.
Цел, да не совсем. Матросы стынущими руками выволакивают снасть на мокрую палубу. Да, рискованная подводная прогулка не обошлась для трала благополучно: снизу сетного мешка зияет дырка. Метров так шести длиной.
А улов? В кутке трепыхаются с десяток рыбин: скумбрия, треска, плоский, как блин, скат. Как видно, вся рыба благополучно миновала наш судовой камбуз, покинув трал через пропоротое железом отверстие.
Тралить в этих местах нет смысла, хотя рыба и есть. Можно, конечно, отыскать между топляками чистые полянки, но у нас для этого нет времени — ведь это не основная наша работа, а попутная. Вахтенный штурман перекидывает ручку машинного телеграфа на «полный вперед», и теплоход ложится курсом на Ла-Манш. Как только судно дало ход, оно сразу же стало устойчивым. И опять форштевень «Олекмы» с ходу режет пологую зыбь, а винт взбивает, вспенивает изуродованную волну.
Вот и Ла-Манш, Английский канал, как его еще называют. Много раз мне приходилось проходить его. Но каждый раз, как только судно входит в Ла-Манш, я спешу на верхний мостик, расположенный над рубкой, чтобы полюбоваться обрывистыми берегами и вереницей проходящих, словно на параде, больших и маленьких кораблей.
Сейчас на английском берегу лежит глубокий снег. В стране Альбиона стоят жестокие морозы. Привыкшие к мягким, теплым зимам, англичане бедствуют. Их жилища не приспособлены для больших холодов. Достаточно сказать, что многие дома, например, в Лондоне не имеют парового отопления и оборудованы наружной канализацией, которая очень часто выходит из строя. Газа, которым отапливаются дома, не хватает, и люди простужаются в своих промороженных жилищах.
Ла-Манш. Из всех стран мира можно увидеть здесь суда. Вот спешит осевший в воде танкер с красным крылатым конем на голубой трубе — знаком фирмы. А навстречу ему прыгает с волны на волну ярко-белый теплоход. У него корпус ледокольного типа, на фок-мачте оборудована застекленная смотровая вышка. Название, в переводе с английского «Зверобой», говорит само за себя. Теплоход идет в забитые айсбергами и ледяными полями холодные прибрежные воды Гренландии охотиться на тюленей. А вот спешит в какой-то из европейских портов, наверное в Гавр, красавец лайнер «Флоренция». Он весь блестит, сверкает громадными окнами-иллюминаторами, белыми палубными надстройками, бесконечным рядом спасательных шлюпок. В бинокль хорошо видны застекленные галереи, плавательный бассейн, вокруг которого сидят в шезлонгах мужчины и женщины в купальных костюмах. И снова — танкеры, лесовозы, теплоходы и густо дымящие, старые, износившиеся калоши-пароходы. Больше всего встречается английских, американских, западногерманских, норвежских и нидерландских торговых судов. Да это и понятно: из имеющихся во всем мире 33 тысяч торговых судов на долю перечисленных пяти стран приходится 10 260 пароходов и теплоходов.
Ла-Манш. Большая, хорошо проторенная судоходная дорога. Но этот отлично знакомый капитанам всех стран мореходный путь не так уж безопасен. В канале действуют очень сильные течения; здесь разыгрываются сокрушительные штормы, выбрасывающие теплоходы, как щепки, на обрывистые скалы. Опасны и коварные мели. Недаром у моряков Ла-Манш, так же как Бискайский залив и пролив Святого Лаврентия, известен под названием «кладбище кораблей».
Сотни судов закончили свой последний путь в его водах. А теперь ржавеют, гниют в вязком илистом грунте. Одни погибли во время первой и второй мировых войн, когда пролив был напичкан английскими и немецкими минами, другие разбились о прибрежные скалы. Многие суда стали жертвами знаменитых отмелей Гудвин. В прилив эти опасные мели покрываются четырехметровым слоем воды. В отлив же уровень воды понижается настолько, что в твердом песке застревают даже мелкосидящие рыбацкие боты. Песок цепко держит свою жертву и уже не выпускает судно, быстро засасывая, поглощая его… Если бы этот песок раскопать, то под его многометровым слоем можно было бы найти остроносые галеры, корабли смелых викингов с деревянной головой дракона на носу, бригантины, многопушечные бриги и многие-многие металлические суда: колесные, паровые, дизельные.
Английские моряки дали этим мелям очень точное название — «пожиратели кораблей».
Вот почему капитан опять стоит в ходовой рубке. Он внимательно всматривается вперед, проверяет по карте названия маяков, мимо которых проходит наш теплоход.
Ла-Манш проскочили благополучно и быстро — за одни сутки. Нам очень помог попутный ветер: он все время ровно, силой в пять-шесть баллов, подгонял нас в корму и надстройки. Теплоход догонял попутные волны, взлетал на их гребень и несколько мгновений мчался, как бы оседлав движущийся водяной вал, а потом соскальзывал с него, чтобы взбежать на другую волну. Волны плевались соленой пеной и злобно шипели вслед. И в их шипении мне чудилось: «Экий ты прыткий… Погоди же… Вот мы тебя!» Ну что ж, рейс долгий — все впереди. Может, волны и исполнят свою угрозу, может, и пошвыряют наш теплоход, расшумевшись, взбесившись штормом. А пока мы скачем по их горбатым спинам, оставляем позади Ла-Манш и вплываем в Атлантический океан.
Он встречает нас недружелюбно: зло засвистел, завыл в снастях, толкнул своим упругим водяным плечом судно в правый борт, в левый, швырнул тяжелую волну на палубу. Вода прокатилась по палубе, обшарила все закоулки, слизнула какой-то ящик и, забулькав, залопотав, вылилась обратно в океан через сточные отверстия — шпигаты. Но океан не успел поиграть с нами — «Олекма» изменила курс и шмыгнула в небольшую бухточку Маунст-Бей, расположенную на юго-западном побережье Англии. Здесь мы должны были встретиться с СРТ-4234, чтобы передать запасные тралы.
Ночь пришлось простоять на якоре — сильная зыбь, вкатывающаяся в бухту из океана, помешала передать рыбакам снасти. К утру волнение утихло, яркое солнце осветило фиолетовые воды бухты, рыжие обрывистые откосы берега и маленькие белые дома городка Лизард. Здесь живут рыбаки. Их небольшие парусно-моторные боты ловят треску и селедку в Ла-Манше и соседнем бурном Ирландском море. А те, кто не решился связать судьбу с рискованной профессией, кто остался на берегу, — те обрабатывают каменистую почву. С судна хорошо видны небольшие земельные участки, разграниченные друг от друга высокими стенами, сложенными из серых валунов. От этого маленького городка с его однообразными домиками, с небольшой площадью в центре, на которой высится приземистая церковь, а напротив вросло в землю старое здание бара; от унылых лысых склонов, на которых не видно ни одного деревца, и угрюмых прибрежных откосов веет такой скукой и унынием, что хочется поскорее покинуть эту бухту…
А вот и СРТ-4234. Черный, глубоко сидящий в воде траулер спешит к нам. СРТ — средний рыболовный траулер, наиболее распространенный тип рыболовного судна. Это настоящий морской труженик, способный промышлять рыбу в любых условиях: в тропиках, под безжалостными лучами африканского солнца, и среди льдов, где-нибудь на севере Атлантики. Такой траулер может выдержать битву с любым штормом, ураганом. Во время бури он, как утка, ныряет в волнах; ныряет, прыгает по волнам до тех пор, пока у разбушевавшейся природы не иссякнут силы. И тогда «сеертешка», как его называют рыбаки, деловито залопочет мотором и пойдет куда-нибудь ставить сети или тралить рыбу…
Рядом со мной стоит Валентин Брянцев.
— «Сеертешка»… ах ты калоша, — говорит он, вглядываясь в знакомые очертания приближающегося судна, — все еще шлепаешь!
Да, еще шлепает по волнам, по морям, шлепает и трудится, добывает для страны многие тонны рыбы этот черный, как жук, потрепанный на вид траулер. Хотя уже год назад он мог тихо лежать в серой водяной мгле, по трубу увязнув в иле.
Помню, как я прочитал в прошлом году в одной из заметок газеты «Маяк» такие строки: «Гигантская волна с ревом обрушилась на беспомощный, потерявший управление траулер»… «Неужели все?» — подумал я.
«Потерявший управление»… Страшно это звучит — судну потерять управление в открытом, сотрясающемся десятибалльным штормом океане. Именно так и случилось с СРТ-4234 в прошлом году. Тогда на нем помощником капитана по научной части плавал Валентин Брянцев. Они искали рыбу на банке Джорджес. Выполнив всю программу работ, пошли домой. И тут случилось несчастье: вышел из строя двигатель, судно потеряло управление. Все бы еще ничего, но начавшееся волнение с каждой минутой усиливалось, и вскоре волны начали швырять судно с гребня на гребень, валить с борта на борт. Вода, свободно разгуливающая по судну, сорвала и унесла спасательные лодки, плотики, погнула трубу и стала заливаться через нее в машину. А тут еще ветер… ураганный, сокрушительный. Он налетел с юга, подхватил траулер и понес его на скалы острова Ньюфаундленд… Прошли сутки, двое, трое. Полузатопленный, изуродованный теплоход все ближе и ближе подносило к камням, у подножья которых кипела вода. Штурманы каждые шесть часов определяли местонахождение траулера и сообщали: «…до берега осталось двадцать четыре… восемнадцать… двенадцать… шесть часов…» Шесть часов! И все будет кончено. Голодные, измученные штормом люди — весь экипаж судна собрался в рубке. Чтобы не упасть, они изодранными в кровь пальцами цеплялись за приборы, держались друг за друга. Шесть часов. К терпящим бедствие уже вторые сутки спешит спасательный буксир, но поспеет ли он? Волны выбили в рубке двери; стекла, со звоном выскочившие из окон-иллюминаторов, впились своими острыми краями в лица, руки. Волны врывались в рубку и жадно облизывали своими пенными языками дрожащих от холода людей.
«Осталось часа полтора…» — сказал вахтенный штурман, убрал приборы в ящик и закрыл его на ключ: по-видимому, они больше не понадобятся…
Полтора часа… девяносто минут. Уже слышен оглушительный грохот налетающих на берег, дробящих скалы волн. Над самым судном несутся, цепляясь за него лохматыми краями, сизые, насыщенные влагой тучи. Лишь изредка среди них мелькает белесый диск солнца.
Девяносто минут! Девяносто минут жизни… Это очень немного. Но в эти девяносто минут неожиданно изменилось направление ветра, и воздушный поток с той же силой, с какой гнал разбитый теплоход к скалам, погнал его прочь от них, в открытый океан.
Но и там стало не легче: нахлебавшееся воды судно стало терять устойчивость, оно все резче кренилось и вдруг легло на борт… Потом, страшно заскрипев, вновь выпрямилось и стряхнуло с себя воду. А помощь уже близка — вот он, буксир! Траулер опять лег на борт, скрылся среди кипящего водоворота… Вот тогда-то автор заметки, один из тех, кто был на буксире, и подумал: «Неужели все?»
Но нет, не все. Люди на СРТ, рискуя быть смытыми за борт, сумели получить трос и закрепили его на траулере. Трос рвался и раз и два, и снова траулер валился на борт, и у всех замирало сердце: вот сейчас… сейчас он перевернется вверх килем! Но нет, не перевернулся, и люди снова ловили в ледяной воде трос и снова закрепляли его на исковерканном носу терпящего бедствие корабля. И буксир, напрягаясь, содрогался от днища до клотика, разворачивал СРТ на волну… А люди из рубки смотрели на толстый буксирный трос, и он казался им тонкой, ненадежной ниточкой жизни… Оборвись она — и все, смерть. Но моряки упорно боролись с природой и победили, осилили ее.
— Тогда в рубке гибнущего траулера я пообещал себе: выберусь живым из этой заварухи — никогда в море больше не пойду… — заканчивает свой рассказ Валентин и, усмехнувшись каким-то своим мыслям, сбегает по трапу на палубу.
Черный «сеертешка» уже подошел к «Олекме», и кто-то машет рукой, кричит:
— Валька, старик, давай сюда!
Отвратительно Ирландское море в феврале: шторм, шквальный ветер, плотные снеговые завесы.
На «Олекме» тихо: шторм рыбаку не помеха. Когда штормит, а двигатель работает четко, рыбаки лежат на койках а сладко спят, привычно вцепившись руками в ограждение копки, чтобы во время сильного толчка не очутиться на палубе.
А вот я спать не могу. Тело мое ерзает по койке взад-вперед, на лбу горячая испарина, в горле застрял горький, противный комок. Шторм играет на мне, как на гармошке: когда теплоход кренится на левый борт, тело мое растягивается, когда судно валится на правый борт, кажется, что тело мое сжимается… Но что поделаешь? Знал, на что шел. И я покорно растягиваюсь и сжимаюсь.
— Есть хорошие записи, будем тралить, — говорит, войдя в каюту, Николай Хлыстов, — поднимайся, пойдем в рубку…
— Тралить? В такую болтанку?
— А что делать? Не дожидаться же нам, когда все стихнет. Времени нет. А посмотреть, что за рыба, нужно обязательно.
Траление было тяжелым. Пока отдавали трал, пока его выбирали, люди на палубе промокли до нитки. Промокли, устали, но улов дал нам ответ на наш вопрос — рыба, расписавшаяся на эхолотной ленте, оказалась ставридой.
Удовлетворенно попыхивая сигаретой, капитан поставил на карте Ирландского моря кружочек: теперь сюда можно послать промысловое судно. Отсюда рыбаки уйдут не с пустыми трюмами…
Противное Ирландское море! Какое-то гнилое, туманное. То шторм, то мокрый снег или плотный туман. Или все вместо. Нам очень хотелось побыстрее расстаться с негостеприимным морем, но покинуть его можно было, лишь обследовав определенный участок моря площадью почти в 5000 квадратных миль. И «Олекма» день за днем бороздит серую, в клочьях пены воду. Бороздит море зигзагами-галсами, просматривая толщу воды своими электрическими глазами, отыскивая притаившиеся в глубине моря косяки рыбы.
Но всему приходит свое время. Обследовав банки Мелвилл-Нолл и Коберн, мы покидаем Ирландское море. Судно ложится курсом на зюйд, к Африке. Впереди — долгий переход. Лишь у мыса Кап-Блан мы застопорим на некоторое время двигатель судна.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Сигнал бедствия. Африканский мыс Кап-Блан. Остерегайтесь морского черта! Рыба с боевым названием. Пять предостерегающих пятен. Лангусты. Рыба-пила. Тропические страсти.
Бискайский залив принял нас как эстафету у Ирландского моря и, забавляясь, стал подбрасывать на своих крутых, густо-фиолетовых волнах. Волны играли теплоходом — они «кикали» судно, пинали, толкали, пытаясь закружить его в кипящем водовороте.
Ох уж этот Бискай! Вечные ветры, дующие одновременно чуть ли не со всех направлений; низкие рваные тучи, цепляющиеся за гребни волн; бесконечная фантастическая пляска воды под разухабистые мелодии ветра, мечущегося в лютой злобе среди надстроек теплохода. По временам переполненные влагой тучи низвергают холодные ливни. И тогда весь мир сужается, становится тесным: дальше фок-мачты ничего не видно. Вода и ветер хотят остановить нас, повернуть назад, испугать своей необузданной силой…
Но нет, где им! Не раз благополучно пересекала «Олекма» этот беспокойный залив. Минует, пересечет его с севера на юг и сейчас. Судно упрямо карабкается с волны на волну, врезается в ливневую стену и пропарывает ее насквозь своим острым, задорно вздернутым носом.
Бискай не остановил нас. Мы оказались сильнее его. А может, мы благополучно миновали залив потому, что одному из научников пришла с берега радиограмма: «Бискай зпт пощади моего мужа и всех его друзей зпт они хорошие тчк».
Итак, Бискайский залив позади. Но не всем удается благополучно пройти его. Когда мы достигли вод Португальского побережья, радист поймал сигнал «SOS» («спасите наши души»). Взывало ко всему миру гибнущее судно… От нас оно было слишком далеко, да и нет необходимости идти к нему: настроившись на волну терпящих бедствие, кидал в эфир короткие торопливые сигналы радист спасательного французского буксира: «…иду на помощь… подтвердите согласие на спасение… согласие на спасение… подтвердите… подтвердите…»
Подтвердить согласие на спасение? Что за чепуха! Может, насмешка какая-нибудь? Нет, тут все правильно. Терпящее бедствие судно обязано дать свое официальное согласие на спасение. И при первой же возможности капитан гибнущего теплохода обязан подписать специальный акт. Сначала подтверждение на спасение, по возможности — подпись под актом, а потом — помощь. Подписанный акт — это громадные деньги, которые получает владелец спасательного буксира от владельца спасенного теплохода…
Как хищники, таятся в бухточках и морских портах, вблизи от крупных судоходных путей мощные, обладающие большой скоростью спасательные буксиры. В штурманской рубке дежурят штурман и рулевой, в машинном отделении держит ручку на рычагах двигателя моторист. Вслушиваются в голоса эфира чуткие уши радистов. Кто-то там поет о любви, кто-то передает радиограмму с берега на идущий куда-то далеко теплоход: «…ко мне больше не возвращайся…» Где-то звонко потрескивают грозовые разряды, стрекочут какие-то радиокузнечики… А это, что это? Радист подстраивает приемник, и радиорубка наполняется тревожными сигналами: «Всем… всем… всем… потеряли управление… спасите… согласны любые условия…»
— Тонет, голубчик! — вскрикивает радист, лихорадочно записывает координаты терпящих бедствие и бежит к капитану…
Вахтенный матрос сбрасывает с причального кнехта швартовые концы, моторист поворачивает рычаг, и буксир, взревев своими мощными двигателями, выскакивает из укрытия навстречу шторму… Терпящие бедствие — это ведь богатейшая добыча!..
В синей дымке остались по левому борту рыжие берега Португалии, обрывистые прибрежные откосы Испании. На фоне алого вечернего заката промелькнули справа от курса теплохода угрюмые, черно-фиолетовые горы Канарских островов.
Третьи сутки подгоняет нас к Африке, к мысу Кап-Блан, ровный, силой в четыре-пять баллов северо-восточный пассат. Идти с попутным пассатом одно удовольствие: к нашим одиннадцати милям хода дружелюбный ветер прибавляет еще одну-другую милю в час…
Душно, жарко. На солнце термометр показывает плюс тридцать градусов. В каютах — не продохнуть. Уже почти тропики. Почти, но еще не тропики, хотя и жарко и душно, хотя мы миновали пустынные, унылые земли Марокко и идем сейчас вдоль песчаного побережья Испанской Сахары.
Валентин Брянцев с большим нетерпением дожидается того момента, когда он очутится в тропиках. Раньше Валентину приходилось работать в Северной Атлантике, куда он совершил двенадцать рейсов. Северное, Балтийское и Норвежское моря, прибрежные воды Исландии, Фарерских островов, Гренландии и Канады; знаменитая банка Джорджес, где добывают прекрасную рыбу — морского окуня и серебристого хека, — все это знакомые места, где ему приходилось работать. А вот тропики — это для него новинка.
Торопя события, Валя одним из первых на судне надел легкую тропическую робу: рубашку-безрукавку, короткие брюки — шорты — и сандалеты. По вечерам он подолгу стоял у карты, вывешенной в салоне, и мерил ее циркулем, подсчитывая, сколько миль осталось до Северного тропика. За ним и начиналась новая, долгожданная географическая среда.
— Вы не на карту смотрите, — сказал ему однажды кок, — а на боцмана. Как только он сбросит ватные брюки, так и тропики…
Валентин посмеялся над замечанием мудрого кока, но тем не менее стал больше посматривать не на карту, а на боцмана.
Спустя два дня после разговора в салоне боцман явился на обед в трусиках: час назад теплоход пересек Северный тропик.
А еще через сотню миль на фоне ярко-голубого неба и светло-зеленой воды мы увидели желтую полоску земли, врезавшуюся в океан, и на самом ее краю, над пенными бурунами, — белую башню маяка. Это тот самый мыс Кап-Блан, к которому из Ирландского моря проложил курс капитан нашего судна.
«Олекма» огибает мыс, и на траверсе его мы видим громадный корпус плавучей базы «Актюбинск». Круглый год плавучие базы «Балтика», «Актюбинск», «Ногинск» и другие курсируют между Калининградом и районами промысла. С продуктами, топливом, свежей пресной водой, с газетами, кинокартинами и письмами спешат морские исполины в Норвежское и Северное моря на мелководные банки Джорджес и Флемиш-Кап в тропики. Как челноки, снуют они между промыслом и портом, снабжая промысловые суда всем необходимым и доставляя в Калининград изготовленные в море консервы, рыбий жир, кормовую муку и свежемороженую рыбу.
Вот и сейчас к одному из бортов «Актюбинска» приткнулся большой морской рыболовный траулер. Здесь он сдает плавбазе свой улов.
Итак, топливо и наживка. Вот что нужно нам от базы. Тридцать тонн горючего и две тонны рыбы — только и всего. А там — идем в Дакар за свежими продуктами, и прощайте, африканские воды.
Штурман, курс на зюйд-вест, к Бразилии!
«Актюбинск» все ближе. Его надстройки, рубка, труба, массивные стрелы все выше и выше возносятся в синее небо. Чем ближе мы подходим к плавбазе, тем все больше как-то мельчаем перед этим океанским исполином. И вот громадная черная туша нависла над нами: откуда-то сверху смотрят на нас любопытные лица актюбинцев.
Где-то на уровне клотика нашей фок-мачты хлопнула дверь, и на крыле мостика плавбазы показался полный мужчина в трусиках. Капитан, наверное. А может, вахтенный штурман. Если бы хоть в фуражке был. А так не различишь — на трусиках никаких нашивок.
Полный мужчина бросил сверху вниз равнодушный взгляд с видом охотника на слонов, увидевшего из своей засады длинноухого зайца.
— Как насчет топлива и наживки? — бодро крикнул в мегафон Валентин Николаевич.
— Наживки? — переспросил тот, наверху, и, поковыряв пальцем в ухе, поморщился: дескать, что это там внизу за козявка крутится. — Наживки? Дадим наживку…
— Можно швартоваться? — радостно откликнулся капитан.
— Очередь, — торжественно и сердито раздалось с неба. Человек с «Актюбинска» повернулся боком и мотнул головой: к плавбазе подходил БМРТ «Мамин-Сибиряк».
— Но ведь нам всего тридцать тонн горючего… да рыбешки — сардинки для наживки. На час работы! — забеспокоился капитан. — Мы очень торопимся, спешим!
— Все торопятся. Все спешат. Подойдете после ноля, — безапелляционным тоном закончил разговор человек в трусиках и повернулся к нам своей широкой бронзовой спиной.
Капитан плюнул в мутную воду и скомандовал рулевому:
— Право на борт!
— Есть право на борт! — отозвался тот, и «Олекма», обиженно запыхтев двигателем, проскочила мимо плавбазы.
В ноль часов, в темноте, опять подошли к базе, быстро и аккуратно пришвартовались к ней. Была небольшая волна, покачивало. Однако суда не стукались друг о друга — между ними, как черные блестящие бегемоты, бултыхались в воде резиновые кранцы. От трения металла об резину кранцы скрипели и глухо, негодующе урчали. Механики подсоединили к резервуарам «Олекмы» шланг, и по нему, пульсируя, как по огромной артерии, побежало топливо.
— Ну что ж, еще час-другой, и тронемся, — удовлетворенно сказал капитан. — Давай, Виктор Леонтьевич, иди смотри наживку.
Жаров перебрался на борт плавбазы и исчез в одном из ее бездонных трюмов, где хранились подготовленные к перевозке в порт тысячи тонн замороженной рыбы. Его долго не было. За это время нужные нам тридцать тонн горючего были уже перекачены на «Олекму», второй штурман закупил на плавбазе сигареты, а матросы передали письма: в ближайшие дни «Актюбинск» снимался в порт.
Наконец появился Виктор. Согревая окоченевшие пальцы дыханием, он куда-то бежал. Через полчаса появился вновь и перебрался на «Олекму».
— Ну как дела? Что с наживкой? — нетерпеливо спросил капитан, спустившись из ходовой рубки навстречу Жарову.
— С наживкой плохо. Сардины нет, а ставрида и скумбрия крупная. Конечно, и эту рыбу можно использовать для наживки, но уже не тот эффект будет.
— Что же делать?
— Придется брать ставриду. Будем отбирать мелкую. Другого выхода нет.
Через два часа «Олекма» отвалила от борта плавучей базы. Теперь мы с наживкой и можем идти ловить тунцов. Жаль только, что это ставрида, а не сардина. Уже давно замечено, что на ставриду крупные океанические рыбы, которых мы идем промышлять, ловятся значительно хуже, чем на сардину.
Вечером в нашу каюту зашел Валентин Николаевич. Он был очень расстроен: и так времени в обрез, а тут вместо двух-трех часов потеряли около плавбазы почти двое суток.
— В прошлом рейсе мне приходилось тралить в этом районе. Иногда попадалась сардина. Пожалуй, следует хоть на день задержаться, пошарить с тралом.
— Давайте попробуем, — согласился Виктор, — а вдруг да и зацепим косячок.
Очень интересно тралить в восточной части Атлантики: здесь такое обилие всевозможных рыб, что, когда улов оказывается на палубе, просто глаза разбегаются! Бывает, что трал вылавливает сразу до двадцати — тридцати видов различных рыб, а также моллюсков, раков, крабов и других экзотических обитателей теплых океанских вод. Порыться в таком улове — просто удовольствие. Интересно, что попадется нам сегодня?
Этот же вопрос интересует, по-видимому, и чаек. Поодиночке и шумными белокрылыми эскадрильями слетаются они невесть откуда и, хрипло поприветствовав друг друга, а может, нас, рассаживаются вокруг теплохода. Чайки в районах промысла отлично знают, что это за штука — трал. И гул траловой лебедки они воспринимают как сигнал к сытному обеду. Знают, желтоносые, что и на этот раз найдется чем поживиться. Вместе с чайками прилетают и красивые, ослепительно белые, с черными краями крыльев крупные птицы из семейства альбатросов — олуши. В отличие от крикливых, суматошных чаек, теснящихся к судну, олуши держат себя солидно: опускаются на воду в отдалении и молчаливо наблюдают за нами своими светло-зелеными глазами.
Звякнул телеграф: стоп машина. Начинаем выборку!
Заслышав напряженный гул траловой лебедки, чайки и олуши взмывают в воздух и с криками, в которых слышится боль никогда не утоляемого птичьего аппетита, носятся над водой. Сверху им уже видно, как из глубины поднимается к поверхности океана трал. А вот и он — всплывает и качается в небольших волнах.
За окнами института лютовал мороз — зима была необычно суровой. Выл холодный ветер, потрескивали от стужи деревья, а мы, сотрудники Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, стояли перед картой Атлантического океана и обсуждали, сколько градусов жары сейчас в Бразилии, на Кубе. Туда держит путь наше судно. Путь за экватор. В моря Саргассово и Карибское.
— Олуши летают, но в воду не бросаются, — говорит акустик и совершенно убежденно заканчивает: — Значит, сардины нет.
Он стоит рядом с капитаном, опершись на край мостика. Стоит и смотрит, наблюдает за птицами: действительно, олуши летают, кружатся над тралом, но в воду не бросаются.
— Нет сардины, — повторяет дядя Витя и наваливается грудью на мостик. Наваливается, и мне кажется, что от этого его движения судно резко накренилось на правый борт. Уж очень большой и тяжелый наш добродушный, вечно спокойный дядя Витя.
Да, олуши в воду не бросаются. Обычно когда в трале есть сардина, то некоторые из сардинок выскальзывают через ячеи трала в воду. Олуши, заметив их, пикируют вниз и хватают зазевавшихся, помятых тралом рыбешек.
На этот раз в трале оказалась только крупная рыба — ярко-красные, зубастые пагеллюсы, которых в магазинах именуют морскими карасями. Ничего себе, хороши караси! У них такие мощные и острые зубы, что попадись пагеллюсу любая, самая хищная и самая злая щука, от нее одни жабры останутся. Тут же, среди карасей, тяжело ворочается угорь. Но только не простой, а океанский — величиной в рост человека. У него толстое, окрашенное в светло-песчаный тон тело, узкая зубастая морда.
Окружив улов, матросы внимательно рассматривают рыб. Раньше многие из матросов работали на Севере и поэтому видели лишь одну селедку. А тут вон какие чудища!
— Хорош! — говорит один из матросов, Виктор, крепко скроенный сероглазый парень. Говорит и толкает угря сапогом по его узкому, длинному рылу.
Сначала рыба отворачивается от сапога, а потом, получив еще один удар, внезапно бросается вперед и накрепко вцепляется длинными белыми зубами в кожаный каблук.
— Кыш… куда ты! — испуганно вскрикивает Виктор, вырывая ногу, из цепких рыбьих зубов.
Все посмеиваются: попало Витьке! Вот тебе и рыбка — не было бы сапога, прокусил бы угорь матросу ногу. Да, конечно бы, прокусил. И рана очень долго бы болела — с зубов в нее попали бы остатки полуразложившейся пищи, действующие на организм человека как сильный яд. Ну что ж, все обошлось благополучно: просто посмеялись над испуганным лицом Виктора, и все. Но это было хорошим уроком для всех — рыб в тропиках, особенно незнакомых, следует остерегаться. Среди них есть такие, которые представляют для человека серьезную опасность.
Да вот, кстати, одна из таких рыбок, которых следует опасаться, — морской черт. Вернее, морской чертенок, потому что рыба совсем небольшая — чуть больше ладони. Чертенок большеголов, с широченной пастью, по краям которой разрослись какие-то отростки и бородавки; кожа у него скользкая и пупырчатая, как у лягушки.
Чем же интересен и опасен морской черт? Интересен тем, что ловит мелких рыбок и рачков оригинальным способом: он их удит. Да, рыба удит рыбок. Ловко орудуя грудными плавничками, морской черт зарывается почти весь в ил, оставив снаружи лишь свою большую пасть и глаза. Устроившись поудобнее, черт во всю ширь раскрывает большой рот — дескать, рыбки, где вы? Подплывайте, подплывайте. Но всякая рыбья мелочь, шныряющая около дна, обходит сторонкой гостеприимно распахнутый чертов рот. Тогда морской черт начинает их подманивать маленькой живой удочкой. Эта удочка, видоизмененный первый луч спинного плавника, называется по-латыни «илициум». Она очень гибка и подвижна, а на самом кончике имеет утолщение, извивающееся, как живой червячок. Настроил свою удочку коварный черт, играет червячком над самым раскрытым ртом и терпеливо ждет. Только в изумрудных глазах маленькие огоньки прыгают: ну скорее же подплывайте. Одна рыбешка заметила червяка, подплыла к нему поближе и только хотела его проглотить, а черт — р-раз! — захлопнул свою пасть, проглотил незадачливую рыбешку. Проглотил и опять изготовил удочку.
Вот этим и интересен скользкий, такой неприятный на вид морской черт, рыба, относящаяся к отряду ногоперых. Ногоперыми они называются потому, что при помощи грудных плавничков эти рыбы могут ползать по дну, подкрадываться поближе к стайкам резвящейся рыбьей мелочи. Встречается черт в Атлантическом океане почти во всех широтах — и в теплых и в холодных водах. Причем на севере Атлантики морские черти вырастают до одного метра в длину. Во многих северных странах рыбаки приготавливают из черта изумительные копчености. Это, пожалуй, единственные из чертей на нашей планете, от которых человек получает некоторую пользу.
Ну, а чем же опасна для человека эта рыба? Опасна она своими спинными шипами-лучами. Они у черта острые и твердые, как иглы. Эти иглы легко прокалывают толстую кожимитовую подметку и вонзаются в мякоть ноги. Уколы очень болезненны: нога распухает и боль от ступни распространяется до самого паха.
— Чертей-то мы ловили! — говорит мне Валентин и показывает на ярко сверкающих голубоватым серебром узких и плоских рыбин. — Ну, а это что за рыбехи?
Рыбехи, заинтересовавшие Валентина, имеют звучное воинственное название — рыбы-сабли. У них небольшие глазастые головы с выдающимися вперед нижними челюстями, сильные, как маленькие стилеты, зубы. На спинах и брюшках рыб мелко трепещут нежные прозрачные плавнички. Рыбы формой своего тела очень напоминают остро отточенные клинки. Отсюда а произошло воинственное название — рыбы-сабли.
— Сабля… — вступает в разговор Коля Хлыстов. — В следующем трале будут рыбы-ножны.
— Нет, я серьезно, — смотрит вопросительно на Николая Валентин, — просвети серого, отсталого человека.
— Ну что ж, это можно, — соглашается Николай. — Так вот, впитывай в себя знания, как губка. Лекция — бесплатно… Записывай: рыба-сабля входит в отряд окунеобразных, по-латыни «перкиформес», в подотряд сабли-рыбы. К этому подотряду относится лишь одно семейство — те самые рыбы-сабли, по-латыни «трихиуридае». Рыбки эти водятся в теплых водах и вырастают до полутора метров. Вот, пожалуй, и все. Да, мясо у них очень нежное и вкусное, из них приготовляют прекрасные консервы; эта рыба промысловая. Э-э… осторожнее, не надо совать ей палец в рот — оттяпает. Ясно?
— Ясно, — говорит Валентин, — ну, а это что за зверь?
Валентин поднимает за хвост плоскую, как блин, рыбу, подносит поближе к лицу, рассматривая ее блестящую спину.
— Надоел ты мне, как любопытный ребенок: кто да что… Литературу нужно читать! Хоть ты и химик, но должен знать рыб, с которыми имеешь дело.
— Никакая литература не заменит человеку личного контакта с животным миром, — философски говорит Валентин и притрагивается к плоской рыбине пальцем другой руки.
Мы с интересом ждем — сейчас его дернет током. Ведь это же скат-торпедо. Но что такое? Валентин не вскрикивает и не роняет рыбу.
— Не дергает?.. — разочарованно спрашивает Николай.
— Нет… — настораживается Валентин. И более внимательно рассматривает ската.
Да, ската-торпедо стоит рассмотреть повнимательнее. Плоский скат, лишенный зубов и не умеющий быстро плавать, вооружен особыми электрическими органами, расположенными в его головной части. Органы эти способны в воде вырабатывать электроэнергию силой разряда до ста вольт. Стоит только какому-нибудь морскому животному дотронуться до ската, как тот включает «батарею», и обескураженный хищник, которого неожиданно шарахнуло током, бросается от ската-торпедо наутек.
Всем, наверное, приходилось видеть на электрических столбах страшное изображение: оскаленный череп, пробитый электрической молнией. Он предупреждает: не подходи, опасно! Вместо черепа на ярко-шоколадной спине ската природа нарисовала пять синих, в белых ободках, предостерегающих пятен. Стоит хоть раз какой-нибудь рыбе прикоснуться к скату и получить удар электрическим током, как она, увидев впоследствии на спине «торпедо» эти пять бело-синих кружков, уплывает от ската подальше.
— Значит, торпедо… — задумчиво говорит Валентин и протягивает к спине рыбы руку. — Нет, не дергает.
— Зарядка кончилась. На воздухе рыба очень быстро расходует свою электроэнергию и не способна ее восстановить, — заканчивает Коля.
Брянцев осторожно берет ската за хвост и бросает его в воду: пускай плавает. Просто жаль, что такая интереснейшая рыба может напрасно, бессмысленно погибнуть.
Боцман и матросы быстро разбирают, сортируют рыбу. Мелочь летит за борт, где ее прямо на лету подхватывают чайки; крупная — в морозильную камеру.
Большой любитель рыбных блюд, Петрович тщательно, с большим вниманием отбирает рыбу для океанической ушицы.
— Зубан пойдет, — объясняет он мне, — мясо у него белое, тугое, вкусное. Но из одного зубана настоящей океанической ушицы не получится. Для хорошей ушицы нужна разная рыба. Вот мы и положим сюда рыбу-саблю, она дух и вкус даст… пяток отоперок. — Он бросает в таз несколько пузатых серебристо-зеленых рыб. — Они очень хорошо развариваются и бульону густоту дают.
Кок относит отобранную рыбу на камбуз, а палубная команда, очистив палубу от рыбьей слизи, чтобы во время работы не поскользнуться, вновь отдает трал: нужно успеть, пока светло, сделать возможно больше тралений.
Очередной трал не принес нам сардины. Он был почти пуст: всего с десяток рыбин — зубаны, отоперка, несколько извивающихся сабель и большущих усатых морских раков — лангустов.
— Лангусты! Вот это да! — радостно потер руки боцман.
— Лангусты? Отлично! — обрадовался только что вышедший на палубу старший механик судна, «дед», как их обычно называют в море, Анатолий Александрович Сафронов.
Я с удивлением посмотрел на них обоих — что могло их так обрадовать? А Петрович и «дед» осторожно, вежливо отталкивая локтями друг друга, уже копались в трале, освобождая хрупкие рачьи лапы и усы от ячей, в которых они запутались. Двух раков вытащил и отложил в сторонку боцман; одного, самого крупного, успел прибрать к рукам стармех.
— Чучело будешь делать? — ревниво спросил Анатолия Александровича боцман.
— Чучело, — подтвердил тот, прищуренными глазами рассматривая свою добычу, — а ты их небось в котел? Тебе бы только на камбуз да в тарелку.
— Так ведь это ж лангуст! Морской рак! — с воодушевлением говорит боцман, любовно притрагиваясь к колченогим лангустовым ногам. — Вот здесь, в этих лапах, такое мясо! Ух, какое вкусное!..
Боцман не ошибся — рак-лангуст считается одним из изысканных блюд американской и европейской кухни. И порция лангустовых ножек в ресторанах Нью-Йорка или Парижа стоит дорого: такое блюдо не многим по карману. Ловят лангустов специальными ловушками, имеющими вид длинных деревянных ящичков, в которые животное забирается в поисках пищи. Пойманных раков помещают в цистерны с проточной водой и везут за тридевять земель, где их дожидаются гурманы-толстосумы. Во время транспортировки за лангустами тщательно следят: подкармливают их, чтобы раки не отощали, следят за температурой и соленостью воды, очищают цистерны от погибших животных. Мороженые или консервированные лангусты свои вкусовые качества теряют.
— Есть хорошая запись, — говорит капитан бригадиру, спустившись на палубу, — ну-ка, попробуем, Яков, еще раз-другой.
Боцман с сожалением откладывает лангуста в сторону: он только что отточил нож. Но делать нечего, придется идти к тралу.
Петрович уходит к правому борту, а я сажусь рядом с Анатолием Александровичем и наблюдаю за его ловкими пальцами. Мне и самому приходилось много раз делать чучела лангустов для институтского музея, но хочется посмотреть, как его будет делать «дед». «Дед» еще очень далек от дедовского возраста, и большинство из обитателей нашего теплохода зовут его просто Толя. «Дед» Толя невысок, но кряжист, крепок. Капитан и команда ценят его за дружеское, товарищеское отношение ко всем и за знание своего дела: ведь недаром «Олекма» считается одним из быстроходнейших судов этой серии.
— Итак, начнем, пожалуй, — говорит Анатолий, устраиваясь поудобнее на скамейке. Рядом лежит нехитрый инструмент: пинцет, нож и прожженная проволока.
Р-раз — в сторону положены два длиннющих и гибких, как хлысты, лангустовых уса. По цвету они как шлагбаум перед железнодорожным переездом. Лангуст, напоминающий обыкновенного, но только без клешней рака, отчаянно барабанит хвостом по палубе, но успокаивается, как только острый нож стармеха проникает под его твердый, в острых мелких шипах панцирь. Препаратор-любитель делает несколько точных движений и, как крышку с коробки, снимает с затихшего животного его хитиновый покров. Отложив панцирь в сторону, Анатолий отделяет от туловища животного хвостик, известный под названием «шейка», а затем начинает очищать от внутренних органов туловище. Несколько секунд ярко-черные, прикрепленные на подвижных основаниях глаза дрожат, потом сникают. Глаза рака очень напоминают телескопчики — они поворачиваются каждый в свою сторону, а когда рак спит, прячутся в специальные углубления — пещерки.
— Мясо! Мясо не выкидывай! — кричит от противоположного борта боцман. — Мясо, оно на вес золота!
Анатолий усмехается и говорит мне:
— Нет в океане такого животного, которого не испробовал бы Сергей Петрович. Удивительный знаток всевозможных морских блюд!
Пододвинув поближе кастрюлю, он осторожно опускает туда белое как снег, с тонкими красными прожилками лангустовое мясо.
Да, у Анатолия задатки и вкус настоящего, профессионального препаратора. Через полчаса лангуст уже собран и прикреплен к картону. Он как живой стоит, чуть приподнявшись на своих колченогих лапах, глаза напряженно смотрят вперед, усы лихо откинуты назад.
— Ребятишки будут довольны, — удовлетворенно говорит Анатолий.
Ребятишки — это учащиеся одной из школ Калининграда. После каждого рейса Анатолий берет такси и везет в школу удивительных животных, добытых в жарких дальних краях: крабов, раков, рыб, чучела птиц, громадных, с ладонь величиной, африканских бабочек, аккуратно пришпиленных к отшлифованным дощечкам из красного дерева. У ребят уже собралась богатейшая коллекция, созданная руками Анатолия Александровича Сафронова. Конечно, и сейчас ребята с нетерпением ждут: что же им привезет из Южной Америки дядя Толя?
Очередное траление было столь же неудачным, как и предыдущее: сардины опять нет. Но что поделаешь? Не так-то легко выловить в океане, где обитают сотни различных видов рыб, косяк именно той рыбы, которая нам нужна. Здесь приходится рассчитывать лишь на удачный случай.
— После полдника сделаем еще одно траление, и хватит, — решает капитан, — а сейчас пусть люди отдохнут часок…
Освободившись от трала, боцман с непостижимой быстротой разделывается со своими лангустами и, промыв мясо соленой водой, спешит на камбуз.
— Команде пить чай! — категорически, тоном приказа извещает по радио второй штурман, стоящий на вахте Виктор Александрович Шорец.
Еще совсем недавно он был морским офицером, капитаном первого ранга. Поэтому в его разговоре и даже в простой фразе «пить чай» звучат командные нотки.
От кружки горячего крепкого чая никто не откажется. Тем более, что сегодня «на чай» приготовлены душистые, сочные лангусты. Ярко-красные ножки раков заманчиво торчат из кастрюль, распространяя очень вкусный запах.
Ну-ка, что из себя представляет хваленый деликатес? Пододвиньте-ка сюда кастрюльку. Ножки звонко хрустят и разламываются пополам, обнажая нежнейшее мясо, очень напоминающее камчатских крабов.
Но рассиживаться некогда. Вот и динамик уже хрипит: Шорец, прежде чем передать что-либо но радио, долго дует в микрофон. Сейчас он прикажет:
«Команде — на постановку трала!»
Я не ошибся. Бросив ножки, шейки-хвостики и обломки усов-хлыстов, матросы спешат на палубу.
Что же нам принесет третий трал? Неужели опять пустышка или никому не нужная сейчас экзотика?
Валентин Николаевич и Жаров с надеждой смотрят в воду. Оба молчат, оба сосредоточенно попыхивают сигаретами.
— Олуши бросаются в воду — значит, рыба есть, — уверенно говорит акустик и наваливается грудью на крыло мостика.
Мне хочется сказать: «Осторожнее, перевернете судно». Но я молчу — еще обидится. А олуши действительно бросаются в воду: высмотрев там внизу, в прозрачной воде, помятую тралом рыбку, они пикируют вниз и почти без всплеска исчезают в океане. Вынырнув, торопливо заглатывают каких-то рыбешек и снова, взбадривая себя хриплыми, похожими на воронье карканье криками, взлетают в воздух.
— Хоть бы сардина… — слышу я голос Виктора Жарова. — Хоть бы…
Трал у борта. Натужно гудит лебедка, наматывая на свои барабаны стальной трос-ваер. У борта бултыхается разбухший от рыбы куток. Рыба… много рыбы! А там что за чудище ворочается в трале, запутавшись в дели длинным, с шипами, как зубья у пилы, рылом?
— Так это ж мамочка! — восклицает боцман, свесившись за борт.
Что еще за «мамочка»? Что-то я не помню, чтобы хоть одна рыба Атлантики носила такое название.
Трал приподнимают над водой, и теперь я могу уже лучше рассмотреть рыбу — так ведь это не что иное, как рыба-пила!
Через несколько минут куток тяжело опускается на палубу; один из матросов развязывает его, и на горячие палубные доски выливается живым водопадом мелкая серо-зеленая рыбешка — отоперка. Ах ты черт! А мы-то думали, что в трале сардина…
Но ничего не поделаешь. Трудно поймать сардину вот так, наскоком. Могло, конечно, и посчастливиться, только на это и надеялись. Но нет, не повезло нам. И придется крючки нашего яруса наживлять ставридой.
Ну, а что же делать с пилой? Она запуталась в трале и сердито шевелится в нем. Шевелится так, что крепчайшая капроновая сеть трещит и расползается.
— Придется ее успокоить, — говорит боцман и достает тяжелую кувалду, которой глушат акул.
Несколько ударов… Рыба перестает шевелиться и покорно ожидает своей участи. Пока рыбу освобождают от трала, я припоминаю все, что когда-то читал о ней.
Относится «мамочка», как назвал рыбу-пилу боцман, к отряду акулообразных. Но, несмотря на родство с акулами, рыба-пила — спокойное, миролюбивое существо, почти не имеющее врагов. Ее рыло, оканчивающееся грозной пилой, внушает морским хищникам опасение, и они обходят рыбу-пилу стороной. Но для чего же рыбе пила? Только ли для того, чтобы защищаться в случае нападения на нее более крупных животных? Конечно нет. Выше я назвал морду рыбы-пилы рылом. Это название как нельзя лучше подходит для костяной пилы: ею рыба роет вязкий ил, а затем заглатывает мелких донных животных, добытых из грунта.
Обитает этот вид рыб в теплых тропических водах, обычно в устьях, впадающих в океан рек, где обильно развивается донная фауна — множество мелких живых организмов, за которыми и охотится рыба-пила. Например, на западном побережье Африки рыба-пила обитает в устье реки Жеба. В предыдущем рейсе «Олекма» работала в том районе, и тралы часто приносили на борт судна длиннющих песчано-серых рыб, вооруженных устрашающей пилой. Кстати, там их и окрестили «мамочками». Дело в том, что на «Олекме» плавал профессор-ихтиолог. Когда была поймана первая рыба-пила, огромная, почти семиметровой величины, профессор так обрадовался, что сказал, обращаясь к пиле: «Ах ты пилочка… мамочка ты моя…»
— Порядочек, — слышу я голос боцмана, и в тот же момент раздается его нервный крик: освобожденная от трала почти шестиметровая, сильная рыбина взмахнула неожиданно хвостом, и, не обладай боцман с детства природной резвостью, получил бы он хорошего шлепка.
Когда «мамочку» успокоили, хвост ее привязали толстым, сезалевым канатом к железной скобе, и вся палубная команда во главе с бригадиром уселась на рыбину верхом. Только боцман отказался.
— Внимание, — сказал я, — снимаю!
Но не успел еще нажать на затвор, как рыба напряглась, а при слове «снимаю» рванулась, порвала канат и расшвыряла любителей фотографироваться в разные стороны.
Долго еще билась на палубе рыба, хлестала о борт мускулистым хвостом и скребла своей пилой палубу. Но участь ее уже была решена. С нее содрали грубую, толстую шкуру, свернули ее и убрали в морозильную камеру. Потом из нее получилось превосходное чучело.
Много интересного увидели мы во время поиска сардины. Океан не скупясь преподносил нам подарки: зубастые пагеллюсы, угри, лангусты, рыбы-сабли, пила-рыба. Но вот косячок сардины, который был нам так нужен и ради которого мы мочили свой трал в мутных прибрежных водах, косячок жирной серебристой рыбки остался непойманным… и гуляет теперь сардина в фиолетовом водном сумраке, откармливается на обильных подводных лугах.
Мы больше не можем задерживаться. Впереди еще очень долгий путь. Впереди еще заход в Дакар. Пора убирать трал.
— Ну что ж, в Дакар? — говорит Жаров капитану.
— В Дакар, — отвечает тот и поднимает к глазам бинокль: навстречу нам спешит, грузно осев в воде, крупное судно. Подкрутив окуляры, Валентин Николаевич уверенно определяет: — БМРТ…
БМРТ — это значит большой морозильный рыболовный траулер. Такие, как стояли в очередь под разгрузку у плавучей базы «Актюбинск». Много я видел и в порту и в море таких траулеров, но всегда еще и еще раз с удовольствием рассматриваю прекрасные рыболовные теплоходы БМРТ, созданные советскими кораблестроителями. Очертаниями своего корпуса эти большие траулеры напоминают комфортабельные океанские лайнеры.
Судно быстро приближается к нам. Его белые надстройки все выше поднимаются над водой. Вскоре уже простым глазом можно прочесть название судна: «Изумруд». С большой скоростью траулер проносится мимо — спешит сдать улов. А там — опять на промысел. БМРТ — настоящий плавучий завод по добыче и обработке рыбы. В его вместительных трюмах изготавливаются консервы, рыбий жир, кормовая мука, а в морозильных камерах рыба замораживается. В таком виде она долго сохраняется, не теряя своих вкусовых качеств. Траулер проходит мимо, и нам хорошо видна корма со слипом — площадкой, наклоненной к воде под углом в 40°. В отличие от других типов рыболовных судов, на БМРТ применяют кормовое траление — трал опускают в воду с кормы, по слипу. Так же его и поднимают с уловом на судно: по слипу втаскивают на кормовую палубу.
Крупная волна от траулера качнула нашу «Олекму», и она приветливо накренилась вслед удаляющемуся судну. Из крикливой стаи чаек, спешащей за «Изумрудом», отделилось несколько птиц и полетело вслед за «Олекмой». Наверное, им очень понравился наш небольшой белый теплоход. Ну что ж, если вам очень хочется совершить дальнее путешествие, летите за нами… И тогда из Африки вы попадете в воды Южной Америки…
Вечером мы, научники, собираемся в судовой лаборатории. Она расположена в носовой части судна, в полубаке. Сразу же после Дакара мы начнем проводить большие и сложные гидрологические и ихтиологические работы. Поэтому сейчас разбираем, подготавливаем свое имущество.
В лаборатории два стола: большой и маленький. Большой занимают Хлыстов с Брянцевым, маленький — мы с Виктором. Еще я сумел отвоевать после получасовых дебатов небольшую полку, на которую поставил аквариум, положил тропический шлем и коробку с инструментом.
Аквариум, шлем и коробку с инструментом я беру во все экспедиции. В море аквариум не пустует: в нем поселяются различные морские обитатели — рыбы, раки, моллюски. В этой прозрачной банке, склеенной из органического стекла, жили полосатые морские змейки, пестрые коралловые рыбы, меланхоличный осьминог и злой краб, угрожающе раскрывавший клешни, стоило лишь постучать по стеклу ногтем. А из прошлой экспедиции я привез в аквариуме для зоопарка большущих, с кулак величиной, травяных улиток. Они водятся в пальмовых чащобах, на берегу африканской реки Вольта.
Шлем мне подарил веселый гвинейский рыбак. Шлем я надеваю, когда слишком печет тропическое солнце. А инструмент мне нужен для работы — в экспедициях я препарирую рыб. Снимаю с них шкуры, чтобы на берегу изготовить для институтского музея чучела: ведь всем интересно посмотреть на обитателей голубого континента…
Коля и Валентин осторожно открывают ящик за ящиком и достают из них пробирки, колбы, баночки, бутылки, сосуды с дистиллированной водой, кислотами, щелочами и еще с какими-то другими химикатами. Оборудование очень хрупкое, из тончайшего стекла, поэтому так осторожны мускулистые мужские руки, достающие из ящиков прибор за прибором.
Между делом Валентин расспрашивает нас об Африке. Главным образом его интересуют ядовитые змеи, скорпионы, муха цеце и крокодилы. Мы уже не раз бывали в Африке и с удовольствием поддерживаем разговор. Почему бы и не рассказать о черном континенте?
— Змей в Дакаре до черта, — начинает Николай, — они живут, думаешь, где? В пустыне? Отнюдь нет… Змеи живут прямо в порту. Под сваями. Бывает, идешь днем в город, в увольнение, а они на раскаленных причальных кнехтах лежат. Греются. А вечером так вообще черт знает что: только соскочил с судна на пирс, а у тебя из-под ног — вжик! Думаешь что? Змея… Так что имей в виду. Это тебе Африка, а не что-нибудь!
— Скорпионы, — продолжаю я, — так те прямо в иллюминатор залетают. Бах! И под одеяло… А вечером берешь ты книжечку, закуриваешь сигаретку, ложишься и…
— Постой, — поднимает от приборов глаза Валентин, — насколько я знаю, скорпионы не имеют крыльев и поэтому не могут летать.
— Правильно. Они не летают, а прыгают. Разбежится по пирсу и прыг! Ну, а мухи цеце, так те вообще… Бьешь-бьешь их полотенцем перед сном, а они все летят, летят…
— А помнишь, Николай, как к нам на судно крокодил по якорь-цепи взобрался? А мы в этот момент с тобой в шахматы играли на палубе… — самым серьезным тоном начинает припоминать африканские случаи Жаров.
— Троглодит? — недослышал Николай. — Как же, помню. Вскарабкался на клотик и трое суток не слезал оттуда. В судовом журнале об этом записано. Можно прочитать.
Валентин посмеивается, но в его глазах все тот же вопрос: ну, а как же все-таки насчет мухи цеце? Или каких-то там других ядовитых мушек, которые иногда залетают в каюту через иллюминатор и кусают спящего человека?
Мы знаем, что его волнует. Это волнует немного и нас. Из второй тунцеловной экспедиции, состоявшейся в 1960 году, вернулись не все… И где-то здесь, на африканском берегу, шумят пальмы над небольшим холмиком красной обсыпавшейся земли, в головах которого стоит столбик с пятиконечной звездой. Под теми пальмами в чужой, далекой земле лежит штурман — молодой паренек, романтик, любитель путешествий. Он был хорошим спортсменом, веселым расторопным парнем. Он был смел и смеялся над теми, кто пугал его акулами, хищными морскими щуками-барракудами и другими опасными для человека африканскими обитателями. Акулы и барракуды не тронули веселого парня, хотя он купался там, где не решались войти в воду даже местные жители. А вот какая-то летающая козявка опустилась на широкую крепкую грудь человека и… Шумят теперь над обсыпавшимся земляным холмиком кокосовые пальмы.
На другой день за завтраком кок вместе с хлебом поставил на стол тарелки с белыми таблетками.
— Всем по две… — сказал он и ушел на камбуз.
Горькие белые таблетки «бегумаль». Очень сильнодействующее средство. Это на всякий случай, если ночью какая-нибудь отвратительная летающая козявка залетит через иллюминатор в каюту и сядет на грудь спокойно спящего человека…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мыс Зеленый, полуостров Кап-Вер, остров Горе. Сенегал, Франция и нефтяная фирма. Бакланы бросаются в воду. Сонная кавалерия. Хищники на асфальте. Красная антилопа.
Мыс Зеленый, полуостров Кап-Вер, остров Горе, порт Дакар… Все эти названия мне давно знакомы. Я знал, что мыс Зеленый совершенно не зеленый, а серо-песчаный, очень унылый, непривлекательный; что остров Горе — это базальтовая скала, поднявшаяся метров на пятьдесят над океаном. На вершине ее сооружена старинная крепость с чугунными пушками, направленными в открытый океан, у подножья кипит пенный прибой, а с юго-восточной стороны острова стоит небольшой, в красных черепичных крышах городок с торчащими кое-где пальмами.
Мне хорошо знакомы эти места, потому что траулеры, на которых я работал, часто бывали в районе Сенегала, и мы много раз проходили мимо порта Дакар. Но стоять в порту не приходилось.
А вот теперь наш курс к пирсам Дакара. Теперь-то мы не пройдем мимо одного из крупнейших и красивейших городов западного побережья африканского материка.
Мыс Зеленый. Этим мысом оканчивается полуостров Кап-Вер, с южной стороны которого и расположен порт. Лишь только судно завернуло за мыс, как сильный попутный ветер и крутая волна, подгонявшие нас от самого мыса Кап-Блан, пропали и судно вошло в спокойные, тихие воды. Сразу стало жарко: с берега сухим, жгучим дыханием дохнула на нас Африка. Чуть заметный, горячий, как из раскаленной духовки, ветерок опалил наши лица, прошелся по каютам, коридорам теплохода, изгоняя из укромных уголков прохладный морской воздух.
А вот и первые аборигены Сенегала: навстречу нам плывут две лодки, напоминающие своим строением узкие длинные корыта, к носу и корме которых приделаны острые полутораметровые клювы. Этими клювами, поднятыми от днища под углом вверх, лодки, как ножами, режут воду и, выскакивая из нее, разрубают мелкую волну.
Быстро летит время. В работе, нелегком рыбацком труде стремительно мчатся сутки за сутками. Впереди путь через Атлантический океан, в Южную Америку. Чтобы пополнить запасы продовольствия и воды, мы заходим в порт Дакар — столицу африканской республики Сенегал. Первыми нас встречают морские птицы — бакланы. Освещенные жарким тропическим солнцем, они молча сидят на камнях, торчащих из воды. У птиц черно-фиолетовые спины и тонкие, змеиные шеи. Заметив в воде стайку рыб, бакланы бросаются в волны и, быстро работая перепончатыми лапами, догоняют добычу.
Многие жители Африки приручают бакланов. Надев птицам на шеи колечки, охотники выходят на лодке в тихий залив или лагуны. Бакланы ныряют, ловят рыбу, но проглотить ее не могут — колечко мешает, и они выплевывают рыбок в лодку. В конце лова хозяин лодки снимает кольца и бросает птицам по рыбе — за работу.
В пирогах — люди с красными повязками на головах. Говорят, что сенегальцы самые черные люди на земле. Один из гребцов приветственно поднимает над головой весло, с которого падают тяжелые капли, и обнажает в улыбке белые зубы.
На палубе «Олекмы» почти все, кто свободен от вахты. Матросы, механики, штурманы одеты в светлые рубашки, чисто выбриты. Яркими искрами вспыхивают объективы, щелкают затворы фотоаппаратов: снимать здесь есть что — глазам открывается живописный вид на город, вздымающийся из воды утесами небоскребов, бухта с многочисленными теплоходами.
Дакар… Белостенный современный город, поднявшийся на песчаном побережье, будто фантастический мираж. Дома, дома… Они уступами карабкаются на возвышенность и там громоздятся своими многоэтажными, в одежде стекла и металла, прямоугольниками. У их подножья застыли пальмы, а по широким улицам бегут стайками муравьев автомобили и автобусы.
Основан Дакар в 1857 году французскими колонистами у западного берега бухты Горе, между мысами Дакар и Бель-эр. Еще в прошлом веке появились в этих краях люди в пробковых шлемах и с карабинами в руках. Огнем и оружием обосновались они здесь, создав колонию французская Западная Африка. Место для порта было выбрано удачно: тихая глубоководная бухта могла вместить большой флот, а подступы к ней надежно прикрывались пушками, которые вскоре были установлены на неприступном острове Горе.
…Дакар. На многие километры раскинулся город по высоким прибрежным холмам. Далеко с моря видны его белые небоскребы: отели, правительственные здания, жилые дома. На одном из них, президентском дворце, развевается государственный флаг республики — зелено-желто-красное полотнище с черной звездой на желтом фоне. Напротив сенегальского флага виднеется другой, сшитый из трех кусков материи — красной, синей и белой. Флаг на крыше дворца — новенький, яркий. Красно-сине-белое полотнище уже выцвело на солнце, поистрепалось по краям, но сам флаг, флаг Франции, еще крепко держится в этой стране на позеленевшем бронзовом флагштоке.
А вон там полощется на горячем ветру, дующем где-то над крышами небоскребов, еще один стяг: желто-зеленый, с двумя буквами посредине — «БП». Он поднят выше всех. Даже выше новенького флага республики Сенегал.
— А это чей? Что за страна? — спрашивает кто-то.
Страна? Республика? О нет, всего-навсего фирма, торгующая горючим и смазочными материалами. Дела ее, видно, идут в этой африканской республике неплохо, если частный фирменный флаг вознесся в голубое небо выше президентского дворца…
Проходим мимо острова Горе. Черно-красные скалы его отвесной стеной обрушиваются с южной стороны в воду. На вершине — амбразуры бастионов, дальномерные установки, узенькие, зарешеченные окошки тюремных камер.
Дакар. Вот он, красивый современный город с прекрасными зданиями-небоскребами, с благоустроенными улицами, сверкающими витринами громадных магазинов.
Раннее утро. Рядом с нами чуть покачивается, отражаясь в спокойной воде, белый итальянский пароход; дальше — английский танкер с голубой трубой; черный, как трубочист, норвежец и заваленный каким-то грузом по самую рубку, грязный, густо-дымящий длинной трубой греческий пароход, постройки, по-видимому, девятисотых годов.
Солнце только что появилось над бухтой. Его лучи дробятся в воде, отражаются в стенках громадных серебряных баков-хранилищ, установленных на берегу. На баках — коллекция эмблем соперничающих, борющихся друг с другом фирм, поставляющих горючее; желтая раковина фирмы «Шелл», крылатый конь фирмы «Мобил», огненная звезда «Тексако» и все те же две буквы «БП» на зеленом фоне. Больше всего баков с буквами. Как видно, не сдюжить здесь против них ни раковине, ни звезде, ни крылатому коню.
Дакар. Почти на каждом углу раздаются жалобные крики нищих. Слепая женщина с ребенком обращается к прохожим за помощью. Но нет, прохожие скупы и равнодушны к ее просьбам. И редко-редко звякнет в миске брошенная кем-нибудь медная монета. Нищие, безработные. Их еще очень много в этой молодой африканской республике.
Раннее утро. Рядом с нами чуть покачивается, отражаясь в спокойной воде, белый итальянский пароход; дальше — английский танкер с голубой трубой; черный, как трубочист, норвежец и заваленный каким-то грузом по самую рубку, грязный, густо-дымящий длинной трубой греческий пароход, постройки, по-видимому, девятисотых годов.
Солнце только что появилось над бухтой. Его лучи дробятся в воде, отражаются в стенках громадных серебряных баков-хранилищ, установленных на берегу. На баках — коллекция эмблем соперничающих, борющихся друг с другом фирм, поставляющих горючее; желтая раковина фирмы «Шелл», крылатый конь фирмы «Мобил», огненная звезда «Тексако» и все те же две буквы «БП» на зеленом фоне. Больше всего баков с буквами. Как видно, не сдюжить здесь против них ни раковине, ни звезде, ни крылатому коню.
Показался лоцманский катер. Лоцман ловко, как кошка, взбирается на высокий борт танкера с голубой трубой и уводит его в порт. Другой лоцман исчезает в рубке изящного итальянца, третий влезает на грязный борт грека, четвертый поднимается на палубу черного норвежца. Нам лоцмана не хватает. Проводив нетерпеливым взглядом удаляющиеся суда, мы посматриваем на часы: стоянка в порту небольшая и так жаль каждой напрасно потерянной минуты! Уж очень хочется познакомиться с городом поближе, повнимательнее. Хочется подольше побродить по твердой земле.
Медленно тянется время. С каждой минутой солнце набирает силу и все беспощаднее поливает нас раскаленными лучами. Рубашки становятся мокрыми, неприятно прилипают к спине.
Вместе с Валентином Брянцевым мы стоим на верхнем мостике и оглядываем город, столицу молодой африканской республики.
Лишь в 1960 году Сенегал получил самостоятельность. Страна стала свободной, но недавние хозяева — французы еще цепко держатся в своей бывшей колонии.
— Африка… вот она какая! — задумчиво говорит Валентин.
Но вот наконец-то снова показался лоцманский катер. Пожилой плотный мужчина в нейлоновом свитере поднимается по трапу и соскакивает на палубу.
— Город от порта далеко? — спрашиваю я у Коли Хлыстова. (Он в Дакаре был уже раз шесть.)
— Близко. Рукой подать, — кивает он головой куда-то влево. — Вышел из проходной — и сразу главная улица начинается.
— Это хорошо. А вот, помню, в Такоради мы часа полтора до города добирались. На другой день увольняться в город желающих не было.
В это время судно проходит через узкие, ворота бетонных волноломов и поворачивает не влево, откуда до города рукой подать, а в противоположную сторону, направо.
— Неужели на дальние пирсы? — растерянно почесывает подбородок Николай. — Раньше нас туда не загоняли.
Раньше? Все может быть. А теперь нас гонят в самый дальний угол порта. Да еще в какой! В цементный. Прямо к покрытым белой легкой пылью цементным складам. Через каких-нибудь полчаса после швартовки весь теплоход покрывается толстым слоем тончайшего цемента. Едкая пыль оседает па лице, на потной спине, шее. От цемента тело начинает гореть, как будто всех нас посыпали толченым перцем.
Как только «Олекма» пришвартовалась к пирсу, на борт вбегает молодой невысокий негр в темно-синей куртке и зеленой кепке. На его рукаве краснеет повязка.
— Дружинник… — смеются ребята.
Но негр не дружинник, а метчмен — портовый служащий, который будет следить за порядком около судна и не пропускать на него посторонних.
Увидев капитана, метчмен приветственно помахивает рукой:
— Хеллоу, кеп Валентин!
«Кеп» приветливо кивает в ответ головой: они старые друзья. В последний заход в Дакар, в прошлом году, метчмен выглядел совершенно по-иному: кожа его лица была не черной, блестящей, как сейчас, а серой. На лбу и между бровей — крупные капли пота. Негр дрожал и зябко прятал шею в воротник куртки. Его мучила лихорадка.
«Хины…» — попросил он у русского капитана.
Валентин Николаевич дал ему лекарство, которое действует против лихорадки значительно лучше хины. На другой же день метчмену стало лучше. И вот теперь он жив-здоров и приветственно помахивает капитану рукой.
Деловито осмотрев теплоход, метчмен становится к трапу. Мы подходим поближе, знакомимся. Показав на зеленую кепку, Ахмед говорит:
— Сувенир… рошка Гришка.
Все ясно: какой-то русский моряк Гриша подарил Ахмеду, нашему новому знакомому, кепку.
Распахнув на груди куртку, Ахмед показывает еще два сувенира: значок «ГТО» второй ступени и «Альпинист СССР».
Пронзительно скрипнув тормозами, возле судна останавливается легковой автомобиль «фольксваген». Приехал еще один знакомый нашего капитана — шипшандлер Джон Булч. Он снабжает иностранные суда различными товарами и материалами. Особенность специальности сделала Булча настоящим полиглотом: он может разговаривать почти на десяти языках. В том числе и на русском, который он считает одним из труднейших языков; особенно его смущают труднейшие для произношения шипящие буквы «ш» и «щ». За то, что снабжением русских судов в Дакаре в основном занимается он, Булч, коллеги прозвали шипшайдлера русским консулом.
— Как дошли? Все о'кей? — говорит он Валентину Николаевичу и протягивает ему сильную загорелую руку.
Наконец все формальности окончены и можно отправиться в город. Сунув в карман сенегальские деньги с изображением полунагих негритянских красавиц, мы сходим с судна и идем по длинному бетонированному причалу.
Полдень. Тени затерялись где-то под ногами; жарко и душно, как в парилке. Только пахнет не вениками, а чем-то очень сладким, приторным. Как видно, где-то рядом с портом находится кондитерская фабрика. Вода у пирсов зеленовато-синяя, прозрачная. Около самой ее поверхности шмыгают стайки крупных, до полуметра, острорылых рыб-сарганов. А за ними наблюдают внимательные птичьи глаза. На мачтах затонувшего около самого пирса судна сидят несколько десятков черных, отливающих на солнце фиолетовым пламенем бакланов. У них тонкие, змеиные шеи и глаза, похожие на тщательно отполированные кусочки изумрудов в белой оправе. Иногда то одна, то другая птица срывается с мачты и как-то лениво плюхается в воду. Наверное, им не столько хочется поймать верткого саргана, сколько просто остудить свое перегретое солнцем тело. Вынырнув, баклан тяжело взлетает на мачту, долго, перебирая перепончатыми лапами, устраивается на ней, а потом расставляет крылья, чтобы просохли. В этот момент бакланы очень напоминают молчаливых, ушедших в созерцание своего внутреннего мира монахов: птицы совершенно равнодушны ко всему, что их окружает, — к пробежавшей с высунутым языком собаке, к проходящим мимо людям и ко мне, щелкающему затвором фотоаппарата.
Тут же, на каменной глыбе, торчащей из воды, сидят изящные, с черными хохолочками на голове белые чайки. Они более подвижны и значительно подозрительнее своих степенных соседей — бакланов. Услышав щелчок затвора, птицы нервно вскрикивают и устремляются ввысь.
За потопленным суденышком стоит армада яхт. Борта их сверкают белизной, надстройки окрашены в зеленый, красный, синий цвета; ослепительно блестит надраенная медяшка. На носу названия: «Жанна», «Брижитт», «Татьяна», «Мариетта»… Имена чьих-то жен, невест, дочерей. Яхты привязаны канатами к стволам старинных пушек.
Оставив яхты и укрощенные пушки позади, мы выходим за ворота порта. Около самой портовой ограды, спрятавшись в скудной тени каких-то корявых, с серой сморщенной корой деревьев, приютились десятки бедно одетых людей. Лица и кожа их тел такие же пыльные и серые, как кора скрюченных засухой деревьев. Завидев нас, люди оживляются. Они поднимаются с земли, отряхиваются, застегивают ветхие грязные рубашки. На их осунувшихся лицах жалкие улыбки: может, нужно поднести сумку? Фотоаппарат? Или проводить в город?..
Долго едем молча. Впереди громоздятся небоскребы. Но нас не радуют их прекрасные, стройные силуэты. Мы думаем о людях, которых встретили у дороги. Может быть, они строили эти многоэтажные дома. Но жить в них им не по карману — разве безработный может оплатить квартиру?
Дорога узкая и длинная. Справа — склады, слева — невысокие постройки с дымящимися трубами. Вдоль улицы стоят и сидят на тротуаре сухощавые люди в военной одежде. В руках у каждого — узда. А на узде — лошадь. Лошади стоят около людей, сонно опустив головы, отмахиваясь от мух длинными хвостами. Лошади поджарые, низенькие и длинные. Они очень напоминают гончих собак.
Сонные люди, и такие же сонные, неподвижные лошади. Это сенегальская кавалерия. Кавалеристы вывели своих лошадей подышать свежим воздухом. А заодно и сами на время покинули казармы и теперь мирно дремлют на раскаленном асфальте.
Внимательным взглядом путешественника, оказавшегося в чужой, далекой стране, я смотрю лошадям под ноги: где-нибудь здесь должны быть воробьи. Интересно, какие они, сенегальские воробьи? Вот, например, африканские вороны хоть и кричат так же, как наши — кра-а! — но в Африке они не серые, а черные, с белой грудью. А воробьи? Но воробьев не видно. Вместо них над асфальтом появляется большущая тень, и около задних ног одной собакоподобной лошади опускается гриф. Ни лошади, ни сонные кавалеристы не обратили на него никакого внимания.
Грифов мы видели и раньше: в Конакри, Такоради, Теме, Аккре. Днем они обычно спят на деревьях, крышах домов или просто на земле, в парках, а после обеда слетаются на городской базар, роются в мусоре, отыскивая выброшенную кость или протухшую рыбью голову.
Оставив позади лошадей, дремлющих конников и скучающего грифа, мы выходим на небольшую площадь. В центре ее возвышается на специальной тумбе полицейский-регулировщик в пробковом шлеме, надвинутом на самые глаза. Регулировщик ловко, как фокусник, играет своей белой палочкой: взмахнет — и поток машин мчится по дороге, пересекая площадь наискосок. Снова взмах белой магической палочкой — и автомобили, скрипнув тормозами, замирают на месте.
Жарища. От нестерпимых солнечных лучей кажется, что вот-вот вспыхнет или вздуется пузырями кожа, а регулировщик одет в черный суконный китель, в котором не будет холодно даже во время небольших морозов. Китель глухо застегнут на бронзовые пуговицы; поверх кителя — белая портупея с пустой револьверной кобурой.
— Ну, куда? Как ближе в город? — спрашиваю я у Николая.
Тот не успевает ответить: регулировщик, как бы угадав, что нас интересует, показывает палочкой на одну из улиц. И мы отправляемся по ней.
Первое, что бросается в глаза в начале улицы, — это громадный фирменный магазин по продаже автомобилей. Не один, а три под одной крышей. Это отделение трех конкурирующих крупнейших фирм: французской «Ситроен», американской «Форд» и западногерманской «Фольксваген». За громадными зеркальными окнами плотными рядами стоят новенькие автомобили: старомодные, с крыльями и навесными багажниками «ситроены»; длинные, с мощными двигателями, сверкающие пластмассой и никелем «форды» и похожие на божьих коровок малолитражки из Западной Германии. Яркие рекламные плакаты уверяют покупателя, что в этом (французском, американском, немецком) магазине ему посчастливится приобрести лучшую автомашину. Французы убеждают посетителя надежностью своей машины, американцы — современностью и скоростью, а немцы — дешевизной и экономичностью.
Магазины пусты. Покупателей нет. Продавцы сидят на скамейке, пьют охлажденный кока-кола, курят сигареты и рассказывают анекдоты. Добродушные лица, улыбки. Но по вечерам, собравшись каждый в своем магазине, продавцы и представители фирм долго совещаются, обдумывают, как бы сделать так, чтобы конкурирующий магазин прогорел, лопнул ко всем чертям.
Улица круто поднимается в гору и становится шире, современнее. Дома в десять, пятнадцать, тридцать этажей. Все больше и больше магазинов, гуще ярко одетая толпа, сильнее автомобильное движение, плотнее чадный фиолетовый воздух над мостовой.
Толпа, движущаяся по тротуарам, состоит в основном из чернокожих людей; в автомобилях, мчащихся по улице, в основном люди с белой или чуть смуглой, подпаленной тропиками кожей…
Магазины, магазины. Всюду гостеприимно распахнуты двери, увешаны товарами витрины, завалены различными вещами прилавки.
Покупателей очень мало. Зато несметное количество продающих в магазинах и на улицах. Пожалуй, каждый второй из прохожих что-нибудь продает: очки, гребешки, платочки, часы. Несколько человек в ярко-красных балахонах несут на плечах слоновые бивни, украшенные сложной резьбой; седой старик, спешащий подпрыгивающей походкой — он босиком, а асфальт жжет ступни ног, — постукивает в барабан: он продает тамтам…
Шум, говор, пронзительные крики зазывал. Завидев нас, они отчаянно кричат: «Рошка, сюда! Рошка!..» Звенят колокольчики, и пищат дудки, которыми пользуются владельцы магазинов, чтобы привлечь внимание. Заунывные выкрики-стоны откуда-то из-под ног: это около стен домов и прямо на тротуаре сидят и лежат нищие — жалкие калеки и уроды, слепые, безногие, в грязных одеждах, голые, голодные дети. И, покрывая весь этот невообразимый шум, гремят, заливаются над дорогой, сердито рявкают сигналами автомобили и резко, властно врезаются в барабанные перепонки свистки регулировщиков уличного движения.
Вот один из «фордов» не успевает вовремя затормозить и врезается в тележку с рыбой. Отчаянно голосит владелец повозки — только что она была полна рыбы, а теперь рыбы нет: любопытные под шумок быстро растащили все, что было в повозке, и все, что упало на асфальт… С ревом сирены в толпу въезжает полицейский автомобиль. Размахивая дубинками, полисмены разгоняют толпу. А вот и нарушитель — молодая женщина в узеньких брючках. Блюститель порядка, сдвинув на затылок пробковый шлем, втолковывает ей что-то и, разложив на багажнике бумаги, составляет акт. На лице женщины полнейшее равнодушие ко всему: к акту, полисмену, разбитой тележке, смятому радиатору.
Спасаясь от жары и уличного шума, заходим в один из магазинов.
— Рошка, о'кей! — вежливо приветствует нас продавец.
Мы хотим купить какой-нибудь сувенир, но сразу видим, что попали не туда: на полках дорогостоящие приемники, телевизоры, магнитофоны. Здесь же коллекция ножей, начиная от перочинного, с перламутровой ручкой ножичка и кончая обоюдоострым стилетом. Есть тут и страшные ножи — «джага», у которых сверкающий клинок выбрасывается сильной пружиной из рукоятки. Заметив наш внимательный взгляд, продавец, улыбаясь, протягивает руку за джагой, но я отрицательно качаю головой, и мы покидаем магазин.
И здесь же на раскаленном асфальте трудятся те, кто живет в трущобах. Целый день, с утра и до позднего вечера, вырезают они из красного и черного дерева фигурки слонов, антилоп и других экзотических животных, надеясь на то, что кто-нибудь из туристов или моряков купит эти украшения.
В соседнем магазине продаются игрушки. На одной витрине веселые, улыбающиеся физиономии нейлоновых, капроновых и пластиковых белокурых игрушечных девочек и мальчиков, а с другой полки нацелены в веселые кукольные лица игрушечные пушки, пулеметы, ракеты. Зловеще напряглись готовые к бою танки, хищные, со скошенными крыльями сверхзвуковые самолеты…
В салоне пластинок мы увидели рядом с твистом пластинку, на которой написано: «Бородин. Половецкие пляски», и песни Дунаевского. Пластинки упакованы в такие яркие, с красивыми иллюстрациями обложки, что трудно оторвать глаза от этого разнообразия красок.
Магазинов так много, что их обилие вскоре утомляет, и мы спешим выйти в центр города, в его деловую часть.
Стоит отойти немного в сторону — облик города резко меняется: на тротуарах становится просторнее, магазинов меньше, но они больше, богаче, со многими отделениями; появляются книжные лавки и киоски. Нас с Виктором больше всего интересуют книги, и мы подолгу роемся в них. Любой книжный магазин Дакара оформлен по одному, выработанному торговой практикой образцу, исходящему из потребностей, запросов посетителей магазина. Зайдя в любую книжную лавку, можно сразу же понять, что в основном читают в этом городе. К сожалению, чаще всего покупатели уносят из магазинов комиксы и яркие журналы типа «Жизнь парижан». Этой литературе в любом магазине отводится главное место: центральная часть торгового зала, центральный прилавок. Книжек очень много, по содержанию они очень разные, но внешне очень похожи друг на друга: небольшой, карманный формат, яркая обложка, убористый текст на плотной желтоватой бумаге. Названия крикливые: «Убийство в монастыре», «По кровавым следам», «В двадцать два вы будете убиты», «Закон белого человека»… В магазине есть и другие книги: по истории, географии, прекрасно изданные книги о животном мире Африки, труды, посвященные второй мировой войне. Но около этих прилавков покупателей почти не встретишь.
До центра города мы в этот день так и не добрались: невдалеке от книжного магазина мы обнаружили мастерскую но изготовлению сувениров и долго простояли там, любуясь изумительным мастерством сенегальских резчиков по дереву и кости.
Собственно говоря, «мастерская» — название чисто условное. Все — материалы, из которых изготовляются сувениры, сами резчики, инструменты и изделия, — все это находится под чистым знойным небом, все расположено на горячем асфальте, по которому бегают, открыв от жары рты, большие бирюзовые ящерицы.
Зажав меж сухих, угловатых колен чурбан красного дерева, резчик, молодой мускулистый парень, внимательно осматривает его, думает, прикидывает: дескать, что же из него сделать? Небольшой гулкий тамтам, гибкую фигурку негритянки или слона? Посоветовавшись со стариком соседом, парень берет остро отточенную стамеску, деревянный молоток и снимает с твердого чурбана первую большую стружку… Завтра мы посмотрим, что у него получится. А вот у соседа, совершенно черного, высушенного годами и солнцем человека, получается великолепный слон. Не безвольная глыба мышц с уныло повисшим, будто пожарная кишка, хоботом, а чем-то разъяренное животное, опасное в эту минуту для всего живого, что только есть в Африке. Чуткие уши его оттопырены, сильный хобот, напрягшийся для удара, вскинут на взгорбленную спину, грозно выставлены вперед вырезанные из кости белые клыки. Наверное, слон учуял охотника или злого носорога, идущего через джунгли напролом… Любовно оглядывая прищуренными глазами творение своих рук, резчик осторожно подправляет острым ножом уши, подчищает акульей шкуркой толстые, как тумбы, ноги слона…
Рядом трудится другой резчик; около него на полке шеренга черных фигурок, сделанных из эбенового дерева. Фигурки удивительно похожи друг на друга: широкие носы, упрятанные под брови настороженные глаза, упрямо сжатые рты. Резчик бросает внимательные взгляды на прохожих — может, кто заинтересуется сделанными им фигурками? Бросает взгляды на прохожих и, не теряя времени, скребет твердое и тяжелое, как чугун, дерево. На полках крокодилы, львы, орлы, пироги, чучела колючих рыб, лук со стрелами, рога антилоп на лакированных дощечках. Все это создали терпеливые, умелые руки народных художников. В каждую вещицу вложены большой труд, выдумка и вдохновение.
Время нашего увольнения истекает. Как обычно, первого выхода в чужой город всегда не хватает, чтобы более или менее познакомиться с ним. Ну что ж, Дакар, до завтра!..
Вечером у нас на «Олекме» гости — трое матросов с испанского парохода, стоящего рядом. Смуглые, черноволосые парни Хуан, Мигель и Антонио очень энергичны и подвижны. Особенно маленький широкоплечий Хуан. На голове его красуется ярко-синий берет, рубаха без единой пуговицы просто связана узлом на мускулистом смуглом животе. Жестикулируя, Хуан рассказывает, что он рабочий из Мадрида, слесарь. Но безработица погнала в море на этом жалком корыте, с которого даже крысы уже сбежали. Год назад покинули они испанские берега, нанявшись на старый частный траулер, но заработки плохие. А дома ждут мать, жена и двое бамбино — ребятишек… А судно! Ох уж это судно! Стоит им попасть хоть в небольшой шторм — и конец, буль-буль… На нем даже радиостанции нет, чтобы попросить помощи. А вместо того чтобы ремонтировать, капитан лишь богу молится, надеется, что небо не допустит гибели этой лоханки с религиозным капитаном в дырявой рубке. Узнав, что я коллекционирую разные монеты, Хуан высыпает мне в ладонь горсть медяков. Я протягиваю ему значок с изображением крейсера «Аврора». Хуан, прищурив глаза, оглядывается через плечо на черный силуэт испанского судна и быстро прячет значок в самый глубокий карман: советский значок — это очень опасно. Из-за него можно остаться без головы…
На другой день уходим в город рано утром. Мы спешим — в обед отход. Очень хочется взглянуть на центр города, пройтись по улицам и площадям его деловой части. И мы ускоряем шаг, хотя ноги мучительно болят: намяли еще вчера.
Миновав узкие окраинные улицы, выходим к зданию парламента. Около его металлической ограды расхаживают взад-вперед два смуглолицых солдата. Они внимательно осматривают редких прохожих и стискивают в руках короткие пистолеты-пулеметы. Солдаты мерно прохаживаются по тротуару, а на них с высокого гранитного пьедестала надменно смотрит один из завоевателей Сенегала, бронзовый французский генерал. На выпуклой его груди зеленеют медали и ордена. Усатое лицо, похожее на морду собаки из породы сенбернар, самодовольно. Генерал еще твердо стоит на своем пьедестале, а за его широкой спиной упряталось в тени пальм белое здание французского посольства, с потрепанным флагом, укрепленным на крыше.
Эта бронзовая фигура напротив президентского дворца очень символична. Мне вспомнилась Гвинея, тоже совсем недавно бывшая колонией Франции. Там, в столице Гвинеи — городе Конакри, бронзовые французские генералы и миссионеры покинули свои пьедесталы. Они валяются, уткнувшись носами и презрительно сжатыми губами в землю, на одном из старых кладбищ…
Отчаявшись получить работу, лежат под жгучими лучами солнца голодные, бездомные люди.
В центре города тихо и знойно. Вокруг большой площади хоровод многоэтажных домов, вонзающихся крышами в голубое небо. Зазывают, лезут в глаза яркие вывески ресторанов, дансингов, отелей. В ожидании состоятельных хозяев застыли вдоль тротуаров сверкающие автомобили.
Небоскребы, отели, автомобили, магазины, в которых можно купить абсолютно все — от знаменитой дакарской стеклянной посуды до камчатских крабов. В тени роскошных домов и богатых магазинов — группки молчаливых людей. Руки их, соскучившиеся по работе, глубоко засунуты в пустые карманы брюк. Это безработные.
Мы идем по прекрасной улице красивейшего города Африки и слышим все тот же жалобный, заунывный стон-просьбу: около стены сидит слепая негритянка с ребенком. Мимо них проходит молодая женщина с большущей собакой на поводке. Француженка равнодушно проходит мимо, а пес обнюхивает негритянку и скалит острые клыки… И я еще раз подумал: долго ли вот так, как этот пес на негритянку, будут скалить французские колонизаторы свои клыки на молодую республику?
— Ну что ж, кое-что мы о Дакаре узнали, — говорит Виктор и смотрит на часы. — Не пора ли домой?
Домой — это значит на наш теплоход, олицетворяющий для всех нас в этом далеком путешествии частицу Родины. Сопровождаемые толпой мальчишек, чистильщиков ботинок, мы отправляемся в порт. Жаров поторапливает нас. Но на одной из улиц мы все же останавливаемся около резчика по дереву. Парень, который вчера размышлял над куском красного дерева, уже держит в руках изящную, стройную антилопу. Изогнув тонкую шею, она наклонилась, чтобы утолить жажду.
Парень поднимает голову, протягивает мне антилопу: «Купите… память об Африке…» Я беру антилопу в руки, внимательно разглядываю ее — вещь сделана превосходно. Чувствую, как настойчиво не спускает с меня глаз смуглый скульптор: ведь сегодня он еще ничего не продал.
Я хотел купить куртку, но приобрел красную антилопу. Пускай стоит на моем письменном столе. Напоминает об африканской стране Сенегал…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Трансатлантический разрез. Зона мертвых вод. Маленький фантастический мир. Удивительные находки. Охотники за морскими летучками. Как поймать акулу.
Кругом океан, а сверху небо. Рано утром, когда солнце еще не взошло, небосвод окрашен в нежнейшие розовато-зеленые тона. Постепенно, по мере того как за горизонтом поднимается солнце, небо загорается оранжево-желтым огнем. Но вот на востоке появляется ослепительная красная полоска — это солнце как любопытный глаз заглядывает в ожидающую его природу. Светило поднимается из-за горизонта тяжело, неохотя. В эти утренние минуты алый, как будто набрякший, переполненный жаром солнечный диск похож на перезрелый африканский помидор. Кажется, ткни в него чем-нибудь острым — и расплескается своим пламенным соком светило, обагрит весь мир жгучей влагой… Но нет, некому расплескать солнце, и оно, поднатужившись, вылезает на линию горизонта. Это не простая полоска океана — восточный горизонт для солнца как стартовая линия. А финиш — полоска горизонта на западе. Сделав еще одно усилие, солнце подбрасывает свое тяжелое тело вверх и начинает многочасовой бег по голубому полю небосвода.
Океан, небо и солнце. Изо дня в день вода, синева над головой, жгучие лучи, нацеленные в спины, головы, плечи.
Ни встречного судна, ни чаек — бескрайняя голубая пустыня.
Уже вторую неделю пересекаем мы Атлантический океан с северо-востока на юго-запад. Где-то очень далеко за кормой осталась душная, знойная Африка, далеко впереди — Южная Америка. В этих пустынных местах, где разрезает сейчас своим острым форштевнем теплые воды наша «Олекма», не проложены судоходные линии. В этих краях не встретишь рыбацких судов: слишком далеко от берега, сюда даже чайки не залетают.
Прошел уже месяц, как мы покинули порт. За месяц мы опять привыкли к тесным, душным каютам, к постоянно раскачивающейся, колеблющейся под ногами палубе. Кожа наша стала смуглой, желудки — вместительными, ладони — твердыми, мозолистыми. И если в первые дни дальнего похода нас, научников, пугали гигантские морские порции борща и каши, то теперь мы съедаем все без остатка и иногда, после особенно тяжелой работы, заглядываем на камбуз с просьбой:
— Кокочка, а нельзя ли повторить?
И, как правило, судовой кок — добродушный и веселый Иван — охотно откликается на такую просьбу. Кок наш большой любитель музыки и песен. По вечерам вместе с камбузным матросом Аркадием он распевает песни под аккордеон и в такт щелкает ложками. Кок участвует во всех самодеятельных концертах и декламирует по судовому радио стихи. Хороший музыкальный парень Иван Корнищак. И камбуз содержит в порядке: все там блестит, сверкает. Но что-то не везет ему в этом рейсе, вернее, не ему, а нам: то суп недосолит, то второе пересолит. Когда ему об этом говорят, кок всегда оправдывается:
— Судно, ребята, качнуло, рука дрогнула — и соль в картошку бах! Невозможно работать, как по кочкам везут!
Если же обед получился хороший и рука кока не дрогнула, то Корнищак стоит в дверях камбуза и на матросские слова: «Спасибо, Ванюха» — вежливо кивает головой, украшенной поварским колпаком.
К сожалению, так бывает значительно реже. Чаще же, услышав гневные возгласы из салона, он оставляет в камбузе Аркадия, а сам уходит в каюту, валится на койку и делает вид, что спит…
Итак, месяц позади. Позади утомительные переходы по скованным льдами проливам, работы в Английском канале и Ирландском море, траления на пути в Дакар. Это все позади.
Теперь мы делаем очень важную и сложную работу: трансатлантический разрез.
Трансатлантический — значит через весь океан. От материка к материку. Мы делаем разрез — через Атлантический океан от Африки до Южной Америки.
Когда смотришь на океан, то кажется, будто вода в нем везде одинакова — синяя и горько-соленая. Но в различных частях океана и на различных глубинах свойства воды совершенно различные. Около устьев рек, впадающих в океан, вода опреснена. Опресняется она у берегов во время периода тропических дождей: дождевые воды скатываются с суши и смешиваются с океанической водой. На поверхности вода, прогреваемая солнцем, более теплая, нежели в глубине. В океане можно обнаружить холодные и теплые течения. Океаническая вода различается и по содержанию кислорода, фосфора и других химических элементов.
Рыбакам, ведущим промысел в морях и океанах, очень важно знать свойства воды промыслового района. Сардина, например, не переносит опресненных вод. Во время периода дождей косяки сардины поспешно покидают прибрежные, шельфовые участки океана, где эту рыбу обычно промышляют, и опускаются на глубины. В это время сардина очень плохо питается. Рыба находится как бы в полусонном состоянии. Кончился период дождей, и громадные косяки сардины устремляются к побережью, на мелководья. Здесь рыба находит для себя обильную пищу. Миллионы мельчайших живых организмов кишат в хорошо прогреваемых солнцем прибрежных участках океана.
Очень чутко относится рыба к содержанию в воде кислорода: та же сардина немедленно меняет место обитания, если процент кислорода в воде понизился.
Тунцы же — рыба, которую мы идем искать, — болезненно реагируют на изменение температуры воды и солености. Маловероятно, например, обнаружить тунцов в открытых океанических водах, где температура понизилась до плюс шестнадцати — восемнадцати градусов.
Рыбаки, особенно тунцеловы, должны отлично знать гидрологическую характеристику промыслового района. Если сельдь, морского окуня, скумбрию, ставриду, треску, сардину и некоторые другие виды промысловых рыб рыбаки успешно находят с помощью специальных поисковых приборов, то тунцов ни эхолотом, ни фишлупой в водной толще не обнаружишь. Ведь они скороходы. Если сардина или ставрида перемещается с места на место большими плотными косяками и медленно, то косяки тунцов очень разрежены и мчатся со скоростью до 20–30 миль в час.
Электрический глаз эхолота не успевает их заметить. Прибор не «пишет» рыбу.
Так как же искать тунцов?
Выше говорилось, что тунцеловы должны отлично знать, что из себя представляет промысловый район. Поэтому наше поисковое судно, которое послали в далекие широты, чтобы найти тунцов, делает трансатлантический разрез. Сделать разрез — это значит провести серию наблюдений, станций, расположенных по прямой линии с интервалами через определенное расстояние. Серия станций, разрезов позволяет познакомиться с водной массой района: определить содержание в воде солей, кислорода, фосфора, а также температуру на разных глубинах.
Нелегко в штормовую погоду тралить рыбу: судно валится то на один, то на другой борт, и палуба то взлетает к самым тучам, то черпает пенную холодную воду. Но рыбаки «Олекмы» умелы и сноровисты. Трал за тралом уходит в воду и возвращается на судно с морскими обитателями — рыбами, раками, крабами.
Нам важно разыскать в океане воды с наиболее благоприятными условиями, при которых бурно развивается жизнь. Тепло, свет, кислород, соответствующее количество минеральных солей, растворенных в воде, способствуют развитию мельчайших одноклеточных водорослей — фитопланктона. Там, где имеется фитопланктон, появляется масса мельчайших живых существ, пожирающих одноклеточные водоросли, — зоопланктон. А зоопланктон привлекает к себе мальков, личинок и мелких стайных рыб. За рыбами охотятся косяки тунцов. Сюда тунцы приходят кормиться. Тут мы ставим ярусы и вылавливаем их…
Вот так и находим тунцов.
В том районе, где мы работаем сейчас, кислорода и фосфора маловато. Здесь мало фитопланктона и зоопланктона, почти нет мальков. Сюда тунцы не придут. Здесь им голодно.
Через каждые два градуса на карте, что составляет сто двадцать миль в натуре, — станция. Они чередуются одна за другой: два градуса, сто двадцать миль, двенадцать часов хода — станция. И снова: градусы, мили, часы — станция, станция… Ночь ли, день ли, обед ли или ужин — через определенное время теплоход останавливается, и вахтенный штурман извещает по радио:
— Внимание, станция!
Во время станции мы с Жаровым ловим специальными сетями планктон и рыбьих мальков, Коля Хлыстов с Валентином Брянцевым измеряют температуру и берут пробы воды с различных глубин, от одного до тысячи метров.
Первыми начинаем работать мы с Виктором. Сначала добываем ихтиопланктон — рыбьи личинки, мальки. Для этого к металлическому тросу на расстоянии в пятьдесят метров друг от друга прикрепляются три конусообразные ихтиопланктонные сети-сачки, сшитые из крепчайшего шелк-полотна. Сетки опускаются в воду и буксируются за судном; одна на глубине в 150, другая в 50 метров, а третья около самой поверхности воды. Буксировка длится десять минут. Мельчайшие живые организмы, зоопланктон, фильтруются сквозь сито, а те животные, что покрупнее, и, в частности, мальки рыб остаются в сетке, — они попадают в металлический, с сетчатым дном стакан, которым оканчивается сачок.
— Ну как, можно? — спрашивает Владик Терехов, судовой мастер по добыче рыбы, который стоит у лебедки.
— Давай! — командует Жаров. И я бросаю прикрепленную к тросу-ваеру первую сеть за борт.
Владик включает лебедку, барабан сматывает с себя стальной тяжелый трос, который, увлекая за собой одну за другой сети, исчезает в воде. Чтобы трос с сетями не попал под винт, судно во время траления ихтиопланктона делает «циркуляцию» — все время идет по окружности.
— Стоп! — поднимает Жаров руку.
Владик ставит лебедку на стопор и подходит к нам. Все трое мы стоим у борта и смотрим в воду — там, вытянувшись конусом, мчится около самой поверхности верхняя сетка. В ее широко раскрытый зев врываются тугие струи воды, бьются в сито, бурлят в прозрачном шелковом сачке. Виктор с тревогой смотрит на сеть — только бы не лопнула, не оторвалась.
Ночью ихтиопланктонная сеть кажется наполненной не водой, а полыхающим серебристо-голубым пламенем. Голубой свет бьется, мечется в сетке. Кажется, что ловим мы не мальков, а лунный свет, который трепещет, колеблется в волнах… Но это все-таки не лунный свет, а особые морские организмы набились в нашу сетку и распространяют вокруг себя яркое холодное свечение.
Взглянув на часы, Жаров кричит вахтенному штурману:
— Стопорьте машину!
Теплоход замедляет свой бег. Владик включает лебедку и вытягивает ваер вместе с сетками на палубу. Теперь нужно очень осторожно извлечь улов и поместить его в банки с раствором формалина. Для каждой сетки — своя банка. Ведь каждая сеть принесла улов со своего горизонта, со своего океанского этажа. Три сетки — три этажа. И на каждом этаже свои обитатели. Ну-ка, кто там попался в наши сети? Виктор снимает крышку металлического стакана, и в банку шлепается шевелящаяся серо-красная масса. Очутившись в воде, масса распадается на маленьких живых существ: рыбьи мальки, рачки, медузы. Все это микроскопическое зверье носится, мечется в банке.
— Ишь, разбегались, — говорит заинтересовавшийся нашим уловом боцман. — Вот я в книжке читал, что один чудак, Банбад, что ли, на плотике от Африки до Америки плыл. И питался всякой ерундой. Говорит, что и планктон есть можно, что он вкусный. Попробовать бы, а?
— Не Банбад, а Бомбар, — поправляет боцмана Виктор и опасливо отодвигает в сторону банку с планктоном. А потом поясняет: — Это верно. И Бомбар, и знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал, который тоже плавал на плоту через океан, утверждают, что планктон не особенно вкусен, но очень питателен. Ведь в планктонных организмах содержится до пятидесяти — шестидесяти процентов жира. Между прочим, американцы уже пробуют добывать планктон в промышленных целях. Из него получаются очень неплохие продукты, напоминающие по вкусу крабов.
Убрав сетки и улов, мы идем с Жаровым к глубоководной лебедке. На тросике, перекинутом через блок-счетчик, уже подвешена другая сеть, похожая на ихтиопланктонную, но меньшего размера. Сшита она из более плотного сетчатого полотна. В нее попадаются и те организмы, которые обычно проскальзывают через сито ихтиопланктонной сети… Этой сеткой мы облавливаем зоопланктон с глубины от ста метров до поверхности воды. Сетка опускается на глубину сто метров, а потом поднимается.
На этот раз нам попался огромный зубастый морской угорь. Извиваясь, он долго прыгал по палубе — угри очень живучи, — пока не попал в холодильную камеру. Угря заморозили, чтобы привезти в порт, в музей института.
Вылив в бутылку из металлического стаканчика улов, я уступаю место Хлыстову и Брянцеву, а сам спешу в лабораторию, чтобы повнимательнее рассмотреть содержимое банок.
— Личинку угря выловили! — такими словами встречает меня Виктор.
— Угря? Не может быть! Угри же в Саргассовом море нерестятся… Только там и можно найти их личинки. Об этом во всех учебниках по ихтиологии сказано.
— И тем не менее вот она, самая настоящая личинка угря…
Были в трале и длинноусые морские раки — лангусты. Как самые обыкновенные речные раки, они пятились от цепких матросских рук и грозно шевелили усами. Но участь их была печальной: все они очутились в судовом камбузе или были выпотрошены на чучела.
Шумным водопадом, как живое серебро, выливается из трала рыба на палубу, трепещет, бьется, разбрасывая вокруг, как легкие брызги, сверкающую чешую.
А это что еще за чудище ворочается на сырых досках? Плоское, песчано-оранжевого цвета, шкура без чешуи, скользкая и вся покрыта беловатыми веснушками; широкие плавники, похожие на крылья, маленькие янтарные глазки, рот как щель, расположенный снизу головы. Это рыба-ангел. Так ученые назвали крылатую рыбу. У ангела спокойный характер: он неторопливо плавает около дна среди водорослей, добывая пищу — мелких рачков, крабов, моллюсков.
Холодные моря остались позади. Мы в тропиках. И как бы первым вестником новой географической среды на палубу «Олекмы» залетела глазастая серебристо-фиолетовая летучая рыбка. Вот она лежит, распластав, словно крылья, широкие грудные плавники, с помощью которых она летает, вернее, планирует над водой, спасаясь от хищных рыб.
А это одна из хищных рыб открытых океанских просторов, которая так любит поживиться нежным мясом морских летучек. Корифена — сильная, зубастая рыба.
С палубы судна часто можно видеть, как, преследуя летучек, корифены выпрыгивают за ними из воды. Но у корифен нет крыльев, и они шлепаются в волны. А там за ними зорко следят акулы. Чуть замешкается корифена — и очутится в зубастой акульей пасти.
Жаров пододвигает ближе лампу, и я с недоверием смотрю в плоское стеклянное блюдечко. В нем быстро перебирают лапками мелкие рачки-креветки и лежит удивительное, сантиметров шести длиной существо: плоское, как неширокая, в сантиметр, ленточка, сужающаяся к краям и с маленькой рыбьей головкой. Плоская рыбка совершенно прозрачна, через ее тело можно читать. Поэтому она и называется «стекловидная личинка». Рыба-личинка напоминает листок какого-то необыкновенного подводного растения — все ее прозрачное тело разграфлено белыми жилками, сходящимися к белому стерженьку, тянущемуся параллельно краям в середине тела рыбки. Эти жилки и стерженек — будущий костный скелет угря. Через увеличительное стекло хорошо виден маленький рот и две черные точки по краям головы — глаза малька. Да, сомнений быть не может — это личинка обыкновенного речного угря.
Здесь, в такой дали от пресноводных рек, в этих теплых тропических водах, угревые личинки? Все правильно, никаких ошибок. Ученые уже давно установили, что европейский речной угорь размножается не в тех реках, где живет, а за многие тысячи миль от родных мест.
В определенное время созревшие угри, самцы и самки, покидают привычные места обитания и отправляются в дальнее рискованное путешествие. Наш пресноводный угорь, живущий в реках европейской части России, спускается вниз по течению, выходит в Балтийское море, минует датские проливы, Северное море, пересекает Атлантический океан, держит курс на Саргассово море, находящееся в юго-западной части Атлантики. Много трудностей и лишений испытывают рыбы во время путешествия. В течение всего перехода они не питаются, не отдыхают; сутки за сутками, извиваясь своими телами, они плывут и плывут через океан. Плывут без компаса и карт, но инстинкт не дает сбиться им с пути и выводит к намеченной цели. В Саргассовом море они нерестятся и, обессиленные, измученные, погибают.
Личинки, появившиеся из икры, совершенно не похожи на своих родителей: они плоские и прозрачные. Личинки сбиваются в маленькие стайки и начинают не менее сложный и рискованный путь из Саргассова моря в пресноводные реки. Путь, длящийся почти три года. Почти весь океан они преодолевают в теплых быстрых струях попутного течения Гольфстрим. Во время путешествия личинки усиленно питаются и быстро растут. Тела беззащитных мальков прозрачны, поэтому в воде они становятся невидимыми…
— А возможно, это личинки и не речных угрей, а морских, — говорит Виктор. — Осторожнее!.. Клади в баночку. На берегу разберемся…
Я опускаю личинку в фиксирующий раствор. На берегу разберемся.
— А вот посмотри-ка еще… Узнаешь? — пододвигает мне Жаров другое блюдечко. — Ну и чудеса! А эти-то рыбехи как сюда попали?
Лежат на дне блюдечка, чуть трепещут мизерными плавничками три маленькие рыбки, каждая сантиметра в полтора. У них серые толстенькие тела, массивные тупые головы. Во рту виднеются, сверху и снизу, по два сросшихся вместе белых зуба, напоминающих клюв попугая. Это мальки рыбы-кувалды из отряда сростночелюстных.
Чтобы было ясно, почему мы так удивились, обнаружив этих рыбешек, выловленных посредине Атлантического океана над водной пропастью в пять тысяч метров, следует рассказать о них несколько подробнее.
Рыба-кувалда свое название получила за короткое головастое тело. Обитает она в мелководных прибрежных водах, среди известковых коралловых зарослей. Питается кувалда кораллами, различными моллюсками. У рыбы сильные острые зубы. Как острозубцами, откусывает она твердые коралловые отростки, будто кусочки сахара, разгрызает раковины моллюсков, выедая из них хозяина, прячущегося между створок. Но знаменита рыба не только своими сокрушительными зубами и способностью раздуваться, будто шар, во время опасности. Некоторые ее внутренние органы, особенно во время размножения, ядовиты. И если мясо кувалды плохо промыть, то знакомство с блюдом из этой рыбы может окончиться очень сильным отравлением.
Любопытно, что кувалда обитает на мелководье. Так как же попали малоподвижные, медленно плавающие, беспомощные ее мальки в самый центр океана, более чем за тысячу миль от берега? Чем и как питаются маленькие кувалды? Ведь с их «скоростью» самую медлительную букашку вряд ли догонишь. Это тоже одна из загадок, которую задал нам океан.
— Вот еще интересная зверюшка, полюбуйся, — продолжает демонстрировать Жаров. Говорит и что-то осторожно кладет мне на ладонь.
Повернув ладонь к лампе немного боком, я по бликам света увидел, что на моей руке лежит плоский, прозрачный, как будто вырезанный из тонкой пластмассы жук, своей формой напоминающий очертания большущей жужелицы. Что это за жук, из какого класса, отряда, семейства, мы даже и представить себе не можем. Жук отправится в Калининград, и там ученые все определят. Нам лишь известно одно: раньше никому из нас не приходилось слышать о подобных прозрачных пластмассовых жуках. Я осторожно убираю его в специальную баночку и прячу туда же этикетку с указанием, где, когда и на какой глубине поймано это существо.
— А это светящийся анчоус… — узнаю я несколько черно-фиолетовых рыбок величиной с мизинец, попавшихся в одной из сеток.
У рыбок большие глаза, которые сразу обращают на себя внимание. Анчоусы — обитатели глубоководных, нижних этажей океана. Там они живут и только ночью поднимаются к поверхности воды поохотиться за мальками. Там, в глубинах, всегда темно. И чтобы все же хоть что-то увидеть в сплошном мраке, природа подарила рыбкам большие и очень чувствительные глаза. По ночам анчоусы поднимаются из глубин к поверхности воды и носятся маленькими стайками за разной рыбьей: мелкотой. А светящимися анчоусы называются потому, что они действительно светятся: на черно-бархатном фоне тела ярко сверкают фиолетовым пламенем вкрапленные в кожу пластинки.
— Ну, а у тебя что там? — спрашивает Виктор и берет у меня банку с уловом планктона. Берет, взбалтывает и смотрит на свет: какая-то серовато-желтая водичка.
Но эта грязноватая водичка приведет в восторг любого, если на нее посмотреть через сильные стекла бинокуляра. Мой улов не менее интересен, чем тот, который мы только что добыли: ихтиопланктонными сетками. Вот я выливаю «грязную» водичку в стеклянное блюдечко, настраиваю бинокуляр и надолго замираю.
Сильные увеличительные стекла проникают в необыкновенный мир. В водичке кипит, бурлит фантастическая жизнь. Десятки, сотни, тысячи мельчайших живых существ, самых разнообразных, самых удивительных форм и строения своих маленьких энергичных тел, носятся, шныряют в блюдечке. Тут и мизерные медузки, напоминающие то пульсирующий фиолетовыми или розовыми стенками воздушный шарик, то стремительно мчащуюся ракету или раскрытый зонтик. Тут прыгают и скачут в воде маленькие злые рачки… Они нападают на других хрупких полупрозрачных обитателей блюдечка и с жадностью вонзают в них свои цепкие клешни. И еще какие-то другие рачки, чуть побольше тех, что с клешнями. Большие рачки нападают на маленьких и рвут их сильными мохнатыми ножками. Какие-то прозрачные дирижабли все время летают в воде, вздрагивая чуть заметной голубоватой оболочкой. Они обволакивают собой и больших и маленьких рачков, и те, очутившись внутри дирижаблика, мгновенно замирают, как видно пораженные насмерть сильнодействующими ядами.
— Иди возьми у штурмана координаты станции, — отвлекает меня от зоопланктона Жаров, — да надо развешивать сети на просушку.
С сожалением оторвавшись от окуляров, я выливаю водичку из блюдечка в банку и капаю в нее формалин. Жизнь в банке мгновенно замирает. Маленький, затейливый и такой страшный мир погибает.
В штурманской рубке беру координаты станции — ее широту, долготу — и заглядываю к лебедке: работа у ребят тоже подходит к концу. Гудит лебедка, наматывающая на барабан тонкий трос. Николай, стоя на специальной выдвижной площадке, снимает с троса батометры — приборы, измеряющие на нужной глубине температуру и берущие на том же горизонте пробы воды.
По вечерам, когда все на судне, кроме вахтенных, спят, свет в нашей лаборатории еще горит. Николай и Валентин делают химический анализ воды, Виктор склонился над картой Атлантического океана, вглядывается в его голубое поле. Вот прямая линия, пересекающая океан, наш трансатлантический разрез. Черные квадратики, нарисованные через каждые два градуса, — станции. Первая, шестая, пятнадцатая. И что ни квадратик — то остановка в океане. Ночью ли, днем ли — работа с шелковыми сетками, гул лебедки, сматывающей трос, который уносит в океанскую глубину белые батометры.
Океан! Только находясь в его просторах, можно представить себе, какую же прорву воды налила природа на поверхность нашей планеты! Вторую неделю режем мы его своим разрезом, режем, спешим от материка к материку по зыбкой, колеблемой пологой волной сине-зеленой поверхности, а до Южной Америки нам еще идти и идти.
Редко бывают в этих широтах теплоходы, а тем более научно-поисковые суда; кстати, подобного разреза, какой делаем мы, еще не делали ученые ни одной страны. Редко бывают в центральной Атлантике научные корабли, поэтому так скудны и неточны сведения об этих районах океана. Может быть, поэтому длительное время существовала теория, будто эти просторы Атлантики — водная пустыня, лишенная жизни, мертвая зона. Так вначале думали и мы. Однако новые станции показали, что тропическая, центральная часть Атлантического океана богато населена планктоном и мальками рыб, которые находят здесь благоприятную среду для своего развития. Они, в свою очередь, привлекают стаи летучих рыбок, косячки анчоуса, а также дельфинов, которых нам неоднократно приходилось наблюдать. Станции подтвердили наше предположение, что в этом районе можно промышлять крупных океанических рыб. Скоро и мы будем ставить ярусы.
А пока делаем станции. Днем на каждую станцию уходит всего два-три часа, ночью приходится возиться дольше.
Когда судно ложится в дрейф и на нем вспыхивают прожекторы, освещающие таинственную фиолетовую глубь, то полюбоваться невиданным зрелищем сплываются разнообразные морские обитатели.
Первыми появляются летучие рыбки. Они прилетают откуда-то из темноты и, шлепнувшись в освещенный круг, замирают под ярким электрическим светом. Расставив свои широкие большие крылышки, летучки грациозно плавают по самой поверхности воды, напоминая миниатюрные реактивные самолетики. Поглазеть на освещенный теплоход приплывают и прилетают разные летучки. Одни величиной с мизинец. Крылья-плавнички у них маленькие и почти треугольные, как у сверхзвуковых летательных аппаратов. Но эти рыбешки как раз очень плохие летуны. Они способны делать над водой лишь небольшие прыжки, всего в метр-полтора длиной. Чаще нас посещают летучие рыбки величиной с ладонь. Они неплохо летают и прыгают по воде «блинчиками». Но иногда в освещенную полосу вплывают большущие, величиной до сорока сантиметров, крылатые существа. Движения их спокойны, неторопливы. Они то прижимают грудные плавники-крылья к телу, то разводят их в стороны. У этих летучек крупные, в полголовы, глаза и выпяченный вперед подбородок. Чешуя на них блестит, как поверхность космических ракет. Кажется, что всем своим невозмутимым видом рыбы говорят: мы здесь хозяева, мы ничего не боимся. Но вот рыбки заволновались, метнулись в одну, в другую сторону и стремительными скачками бросились прочь. Только одна осталась — самая крупная и самая спокойная. Завороженная искусственным солнцем, повисшим над ее головой, она осталась на том же месте. И это погубило ее: из темноты к ней бросилось какое-то стремительно промелькнувшее в воде существо, и рыба, оставив после себя на воде несколько чешуек, исчезла.
Что такое? Куда пропала рыба? Что с ней случилось?
Я внимательно вглядываюсь в воду и вижу: на границе света и темноты мелькают в мелких прозрачных волнах чьи-то белесые крупные тела. Рыбы? Пожалуй, нет.
В этот момент одна очень любопытная рыбешка грациозно выпрыгнула из темноты и легко заскользила по поверхности воды, демонстрируя свое стройное тело и скошенные к хвосту прозрачные, в жилках тонких опорных косточек плавнички… Ей, видно, хотелось показать свое мастерство: она то медленно плыла, чуть заметно шевеля хвостовым плавником, то кружилась на одном месте, то делала несколько небольших прыжков-па и, как бы устав, замирала, поглядывая на нас большими глазами. Долго мы могли бы любоваться самодовольной рыбешкой, но из темного океана к ней бросились одновременно три белесых тела. Рыбка взметнулась в воздух, шлепнулась в воду, и тотчас ее стройное тело облепили, ломая прозрачные крылья-плавнички, гибкие, в пупырышках присосков щупальца. Кальмары! Вот кто подстерегал рыбок около освещенного борта теплохода. Разогнав летучек, они, осмелев, сами вплыли в освещенный круг и предстали перед нами во всей своей красоте. В воде животные поражают изящным очертанием тела, стремительностью и подвижностью. В воде кальмар напоминает стрелу с утолщенным древком: все его десять щупалец собраны вместе, крепко сжаты и вытянуты вперед острым наконечником. Плотное, мускулистое тело оканчивается, как оперением, треугольным хвостовым плавником. У основания щупалец, на голове сверкают, светятся в воде перламутровым светом громадные глаза. Плавает кальмар в воде по принципу реактивного двигателя. Через особое отверстие — подвижный хрящевой патрубок — кальмар засасывает в себя воду, которая наполняет пространство между телом и плотной хрящевой тканью-мантией, покрывающей кальмара, а затем резко сокращает мышцы, мантия прижимается к телу, и вода с большой силой выбрасывается через патрубок-сопло. Струя воды сообщает кальмару большую скорость. От него редко спасается даже самая быстро плавающая рыба. Бросившись на добычу, кальмар протягивает к ней свои щупальца; в самый последний момент щупальца раскрываются невиданным живым цветком, обхватывают голову, тело рыбы, и присоски накрепко прилипают к трепещущему телу жертвы. Схватив рыбу, кальмар, не разворачиваясь, бросается вниз, в глубину, и исчезает в темноте. Не разворачиваясь? Значит, у животного есть «задний ход»? Да, есть. Уж так замечательно устроен «реактивный двигатель» кальмара. Трубка-сопло поворачивается в любую сторону, поэтому кальмар может двигаться вперед и назад. Во время охоты на летучек кальмары от возбуждения как бы загораются — в их полупрозрачных телах вспыхивает розоватый огонь. Таким самовозгоранием кальмары отпугивают от себя крупных хищных рыб, которые не против полакомиться вкусным, упругим кальмарьим мясом.
В северных и южных от экватора широтах в глубинах обитают кальмары, достигающие гигантских размеров. На этих животных, ныряя за ними более чем на полукилометровую глубину, охотятся киты-кашалоты. Но, прежде чем проглотить это морское чудовище, кашалоту приходится выдержать настоящий бой. Китобои часто находят на теле китов, в головной части, страшные, по нескольку метров длины рваные раны. Ну, а какой величины все-таки могут достигать кальмары? Об этом красноречиво свидетельствуют оказавшиеся в желудках кашалотов непереваренные остатки кальмаров со щупальцами 8—10 метров длины. Значит, все животное достигало длины 12–15 метров!
К нам такие кальмары не приплывали. Их вообще очень редко видели люди. Ну, а тех кальмаров, что кружились около нашего теплохода, мы распугивали, опуская в воду планктонную сетку или трос с батометрами. Наиболее же назойливых животных ловили после окончания станции.
Ловят кальмаров очень просто — на спиннинг или обыкновенным сачком. При ловле спиннингом на леску вместо блесны надевается тяжелая приманка в виде свинцовой рыбки со щеточкой крючков на конце. Кальмар хватает ее, и щупальца накалываются на крючки. Ну, а сачком ловить и того проще. Важно только, чтобы у него ручка была подлиннее. Кальмара просто накрываешь, прихлопнув его сверху, как обычно ловят сачком бабочку. При небольшом опыте, чтобы поймать животное наверняка, нужно резко и быстро опустить сачок позади животного. Кальмар, услышав шум, тотчас бросается назад и влетает в сетку. В сачке он подпрыгивает и, выбрасывая через сопло остатки воды и черной, как тушь, жидкости, производит звуки, похожие на недовольное фырканье.
Умелый кок приготавливает из тушки кальмара отличное, очень красивое на вид жаркое, похожее внешне на золотистую, хорошо прожаренную картошку. Только эта картошка чуть попахивает рыбой и упруга, как разогретая на солнце резина.
А однажды где-то в самом центре океана нас посетил совершенно неприятный гость — толстомордая двухметровая акула. Ночь была черная, непроглядная. Теплоход сильно раскачивался на крутой зыби, и площадка, с которой мы опускали в воду приборы, то взлетала вверх к самым звездам, то кланялась океану. Развеселившиеся волны чуть ли не лизали нам пятки своими пенными языками. В один из моментов, когда вода была совсем рядом, Валентин слабо вскрикнул и раньше времени опустил прибор в воду: на него из освещенных прожектором волн внимательно смотрели с отвратительной жабьей морды маленькие, со зрачками как у кошки, глаза.
— Акула! — нервно сказал Валентин и торопливо сошел с площадки. — Ребята, в таких условиях я работать не могу. А вдруг я поскользнусь и…
— Ерунда! — сказал Николай, рассматривая длинное акулье тело, кружащееся под нами. — Ведь это не «людоед», а обыкновенная акула-бык.
— Ах, так? Значит, не сожрет? — уточнил Брянцев, вновь возвращаясь на площадку и все же с опаской поглядывая вниз.
— Конечно, нет, — продолжал его успокаивать Николай, — разве немного покусает… Ведь у рыбки в пасти три сотни зубов. Ну, руку отхватит или ногу. Только и всего…
Неуверенно посмеиваясь, Валентин продолжал свою работу, но был очень рассеян и все время посматривал вниз. А акула кружила внизу, неторопливо шевеля большими острыми плавниками. Полная своего акульего достоинства и самодовольства, она купалась в лучах электрического света и иногда поворачивалась на бок, показывая свое толстое, ослепительно-белое брюхо.
— Что, жрать хочешь? — крикнул ей сверху Николай. Акула подтверждающе пошевелила хвостовым плавником: дескать, да, ужасно я голодная сегодня.
— Да, тяжело тебе, — сказал акуле Николай и кинул в воду старую, испачканную в солидоле перчатку.
Акула ткнулась в нее носом, а потом разинула пасть, показав пять рядов превосходнейших зубов, и — ам! Нет больше перчатки.
Увидев ее треугольные, остро отточенные зубы, Валентин уронил в воду картонный угломер, который акула тотчас проглотила, и категорически заявил:
— Уберите ее! Так работать невозможно!
Убрать акулу с удовольствием согласился стоящий на вахте матрос Володя Пузыня. Пригладив пальцами свои щегольские узенькие, будто ниточка, усики, он деловито осведомился:
— Где она? Ах, вот эта? Угломер сожрала? Ну что ж, я всегда готов помочь науке…
Он сбежал на палубу, взял крепкую капроновую веревку с металлической проволокой, на конце которой укреплен крупный крючок. На тот крючок Володя насадил кусок мяса и швырнул его в воду к самому акульему носу. Та только рот разинула от удивления: вот приятный сюрприз! Проглотив мясо, захлопнула пасть и, ощущая приятную тяжесть в желудке — еще бы, то ничего не было, и вдруг перчатка, угломер и, наконец, кусок мяса, — поплыла прочь. Поплыла, но не тут-то было: Володя крикнул: «Кушай на здоровье!» — и с силой дернул веревку. Рыба от страшной боли выпрыгнула свечкой из воды, с шумом шлепнулась обратно, а потом с гулом ударилась своим под центнер весом телом в борт теплохода.
Акула отчаянно боролась за свою жизнь, но Пузыня был сильным и упрямым парнем. А кроме того, он хотел помочь науке. В частности, нервному Валентину Брянцеву.
— Оградим науку от акул! — радостно кричал Володя, подтягивая добычу к судну.
Там уже дожидался его третий штурман с винтовкой в руке и наклонившийся над водой боцман с острым багром. Прогремело несколько выстрелов, вода окрасилась кровью. Обессилев, акула успокоилась, несколько багров вцепились в ее упругое тело, жаберные щели, и вскоре рыба тяжело ворочалась на палубе. Участь ее была решена: длинным ножом боцман отсек ей голову и плавники. Тем же ножом он вскрыл желудок, извлек из него угломер и, рассматривая перчатку, сказал:
— И кто это разбрасывает общественное имущество?
Угломер отдали Валентину, а окровавленное тело бросили в воду. Услышав всплеск, Валентин наклонился над волнами и презрительно сказал:
— Тоже мне — «бык»! Плавают тут всякие… и еще угломеры глотают.
Между прочим, история с акулой на этом не окончилась. Во-первых, Петрович вырезал из головы челюсть, очистил ее от мышц, упругих пленок и высушил на солнце. А потом подарил нам. И теперь челюсть висит в лаборатории и скалит свои острые зубы над головой Валентина. А он даже внимания на это не обращает. Во-вторых, в последнее время кок усиленно кормил нас манной кашей. Я отлично понимаю кока: ведь манную кашу приготовить легко — бросил крупу в кипящую воду, подсыпал соли, положил сливочного масла, и все в порядке. А ту же картошку нужно чистить, мыть, жарить и стоять около раскаленной плиты — смотреть, чтобы она не подгорела. То ли дело кашка! Кипяток, крупа — и порядок. Но для матроса манная каша разве пища?
— У меня от манной каши зубы уже шатаются, — жаловался Петрович, — какой с нее толк? Совсем обессилел…
И вот, разделывая акулу, боцман вспомнил, что кто-то когда-то говорил ему, будто вареные акульи плавники — удивительно вкусная штука. Деликатес почище лангустов. Плавники были отрублены, сварены и в ту же ночь съедены.
На другой день Петрович к завтраку не вышел. Мы подумали, что он так насытился плавниками, что терпеть до обеда будет. Но и в обед он не появился в салоне — живот болел.
— Ну, как плавнички? — спросил я его, встретив на палубе.
Вид у боцмана был печальный — щеки ввалились, спина согнулась, губы обметало; сразу ясно — человек нездоров.
— Плавники? Тьфу, пакость. Жесткие, будто подметки, а вкус как у столярного клея… Так есть хочется, но не могу — всего выворачивает…
С камбуза вкусно пахнуло жареным мясом и картошкой: кока как следует отругали и он упрятал манную крупу в кладовку. Боцман, расширив затрепетавшие ноздри, втянул в себя воздух. В его глазах было страдание, как у лишенной зубов лисицы, увидевшей жирную курицу…
ГЛАВА ПЯТАЯ
Встреча на экваторе. Тропический ливень. Фотоохота в океане. Две тысячи крючков. Марлины. Необыкновенное превращение корифены. Живая голова. Берегитесь акул!
День на двадцатом градусе западной долготы и нуле градусов широты начался для нашего судна не совсем обычно. Вместо традиционного утреннего: «Команде завтракать…» — радио торжественно провозгласило:
— Всем выйти на палубу!
На палубу? К чему бы это? Что случилось?
Мы с Виктором спрыгнули с коек и выскочили из каюты; везде хлопали двери, команда спешила выполнить необычное указание.
На палубе, освещенной ярким утренним солнцем, за одну ночь все изменилось: около правого борта судна стоял большой бассейн с водой, сооруженный из досок и брезента, а под фок-мачтой возвышался трон, около которого с пузатой бочки, с надписью на выпуклом боку «Ром», весело скатился черный пиратский череп с костями…
Теплоход замедлил бег, и вахтенный штурман возвестил:
— Внимание! Всем построиться у правого борта к встрече Нептуна! Ноль градусов широты! Двадцать пять градусов вестовой долготы! Глядите за борт — «Олекма» пересекает линию экватора!
А это руководитель научной группы на «Олекме» Виктор Леонтьевич Жаров. После каждого траления или яруса он рассматривает справочник-определитель, чтобы узнать, что за рыбу удалось нам выловить из океанских глубин. Заинтересовался определителем и Владик Терехов, судовой мастер по добыче и обработке рыбы.
Когда «Олекма» пересекала экватор, познакомиться с советскими рыбаками пришел сам Нептун. Вот он вручает ключ от экватора капитану судна Валентину Николаевичу Лутошкину.
Я не успел заглянуть за борт, чтобы увидеть заветную линию, разделяющую нашу планету на два полушария: северное и южное. Не успел, потому что над палубой мелодией самбо рявкнул включенный на полную мощь динамик. Музыка была такая веселая, такая огненная, как будто она бесконечно долго была заключена в темном металлическом нутре динамика и теперь-то наконец вырвалась на свободу. Под эту сочную мелодию, раскачивая мускулистыми бедрами и притопывая голыми ступнями, из-за борта теплохода вылез Нептун. Вылез, прошелся по палубе в ритме бразильского самбо и замер перед нами во всей своей Нептуновой красоте и мощи. На лысеющей голове лихо заломлена картонная корона, в мускулистой руке — бамбуковый трезубец с фанерным наконечником, сивая до пояса бородища, такие же расчесанные деревянным гребнем волосы, ниспадающие на плечи из-под короны, жесткие усы, как стрелки компаса, торчащие в разные стороны, и традиционная, в дырках тельняшка.
Набрав в грудную клетку побольше воздуха, Нептун приподнялся на носках и зычно гаркнул:
— Здравствуйте, молодцы! — Приветствие было произнесено с таким усердием и силой, что усы отскочили и повисли на нижней губе.
— Урра!.. — ответили молодцы, окружая Нептуна.
— Свита, ко мне! — серьезным, требовательным голосом произнес Нептун и, отвернувшись, выудил пальцем застрявший во рту ус.
В тот же момент из-за борта «Олекмы» выскочили черные до безобразия черти и звездочет, он же по совместительству доктор. Свита, прикрытая лишь набедренными повязками из сезали и украшениями в виде колец, бряцающих на жилистых шеях, зашумела, загалдела, произнося какие-то непонятные слова, и, размахивая короткими толстыми копьями, оттеснила команду к правому борту.
Нептун, тяжело поднимая толстые волосатые ноги, взобрался на лючину и, устроившись в кресле поудобнее около винной бочки, распорядился позвать капитана. Настроение у Нептуна отличное: глаза весело поблескивают, нос и щеки приятно розовеют, по добродушному его морского величества лицу бродит ласковая, почти нежная улыбка. Прислушиваясь к чуть заглушённой музыке, он пришлепывает по люку пятками и нежно, как любящий отец на своих сыновей, посматривает на нас с высоты своего трона.
Капитан явился в фуражке с золотыми листьями на козырьке и ярко сверкающим «крабом» на околыше. На нем белая рубашка, галстук, ботинки и даже брюки. Я говорю «даже», потому что почти целый месяц мы щеголяли по судну в одних трусах и босиком. Поэтому вид человека в брюках и ботинках со шнурками вызвал в команде веселое оживление.
— Кто такие, откуда и куда? — вопросил морской царь и между делом почерпнул из бочки кружку рома.
— Русские рыбаки. Идем из Советского Союза. Держим путь к Бразилии и на Кубу. Ищем рыбу, Нептун. Просим тебя пропустить нас в Южное полушарие и оказать помощь в этом важном и трудном деле, — бодро ответил капитан. Ему уже не раз приходилось встречаться и беседовать с повелителем морей и океанов. Поэтому он знал, как нужно вести себя с ним и его свирепой свитой. Знал и поэтому быстро сообщил важнейшие сведения о нашем судне. Капитан хлопнул ладонью по бочке: — А это тебе, старик, бочка отличнейшего рома марки «Мантилла»… Угощайся, Нептун, и вы, черти, тоже.
Нептун опрокинул кружку с душистой, терпкой жидкостью, покрутил головой, крякнул и, вынув откуда-то из-под бороды соленый огурец, с хрустом надкусил его.
— Мда… — сказал (он, вытерев навернувшуюся на глаза слезу, появившуюся, по-видимому, от радости и умиления, что увидел нас. — Мда… так по печенкам и ударило. Да… так вот: вы мне нравитесь, парни, и ты, капитан, и все остальные. Наслышан я зело, что русские — отважные и смелые ребята, а посему разрешаю вам искать рыбку в моих владениях и с радостью пропускаю вас в Южное полушарие. А вот вам и ключик… Алло, отставить… — неожиданно не хрипловатым царским баском, а трезвым голосом произнес Нептун и помахал над головами чертей громадным, в метр величиной, ключом от Южного полушария. (Те, потихоньку толкая друг друга локтями, черпали из бочки поллитровой кружкой ром «Мантиллу») — Желаю вам счастливого плавания и всяческих удач!.. — закончил свою кратенькую речь Нептун, поднялся и вручил капитану ключ.
Черти, бросив кружку, схватили пики, подняли их в воздух и радостно закричали!
— Урра! Да здравствует Нептун!..
Черномазые черти заметно повеселели. Они нетерпеливо потирали руки, возбужденно переговаривались между собой и оценивающим взглядом осматривали притихший экипаж «Олекмы».
— А теперь я желаю познакомиться с каждым из команды этого прекрасного судна, — возвестил Нептун и выкрикнул: — Подать мне сюда старшего помощника капитана, Литуна Виктора Александровича! Есть такой?
— Есть… — отозвался Литун, поспешно стягивая с себя рубашку.
И вовремя: чумазые черти подскочили к нему и, радостно повизгивая, принялись обнимать, тискать старпома, оставляя на его теле жирные черные пятна.
— Подойди поближе, отрок, — улыбнулся ему Нептун.
Черти, побросав свои копья, подхватили старпома и потащили его к врачу-звездочету. Тот выслушал его полуметровым стетоскопом и, повернувшись к Нептуну, доложил, склонив голову в остроконечной шапке:
— Мурлы, бурлы, турлы! Аминь!
— Достопочтенный звездочет, он же придворный эскулап, сообщил мне, что ваше сердце и легкие в норме. Соответствует ли это истине?
— Соответствует! — поспешно выкрикнул Литуи, судорожно дергая головой. Один из чертей старательно намыливал ему лицо кистью для покраски потолков. — Соответствует! — еще раз крикнул он, выпуская розовые с голубым отливом мыльные пузыри.
Нептун удовлетворенно кивнул головой, черти поднатужились и с визгом, свистом, смехом швырнули старпома в чан с водой.
И началось. Матросы, механики, штурманы один за другим подходили к Нептунову престолу и тотчас попадали в жадные руки чертей. Почти у всех здоровье оказалось «мурлы, бурлы, турлы», и поэтому после благосклонной улыбки Нептуна очередного крестника, весело и непринужденно пританцовывая под мелодии самбо, разрисовывали с головы до пяток черной краской, ставили на спину или чуть ниже громадную, с тарелку величиной, печать с изображением трезубца посредине и с улюлюканьем швыряли в чан с водой. После этого очередному крещеному подносилась Нептуном чарка-кружка рома и диплом с указанием, где, когда и на каком судне моряк пересек экватор и обмыт океанской водицей в соленой купели.
Почти у всех здоровье оказалось преотличным, только вот у Сани-механика что-то с животом. Побаливает. Может, можно миновать купель? Обойтись кружкой рома?
Нептун озабоченно хмурит брови: больного через экватор пускать нельзя. Вот ведь напасть — на судне оказался больной!..
— Подлечить!.. — распорядился морской царь. И челядь его рванулась к больному.
Саня, как заяц, попавший в капкан, забился в дюжих руках чертей. А потом испустил отчаянный вопль: откуда-то из-за трона выкатили клизму — резиновый шар-буек, налитый полусотней килограммов соленой воды.
— Лопнет, пожалуй… — с сомнением покачал головой Нептун и почесал трезубцем себе спину. — Так как твой животик, друг мой?
— Здоров!.. Я отлично себя чувствую! — во всю силу своих легких возопил отрок, шарахаясь в сторону от толстого резинового шланга.
— Ну и слава аллаху… — миролюбиво вздохнул Нептун и кивнул головой.
Саня, подброшенный руками чертей, взвился в воздух, будто снаряд, выброшенный катапультой, и, трепеща ногами, плюхнулся в бассейн.
Последним крестили дядю Витю. С большим трудом его перевалили через борт бассейна. Своим телом он выплеснул из бассейна почти всю, воду, а вынырнув, потребовал не одну, а две кружки рома, так как по своему объему и росту он больше любого члена команды не менее чем в два раза. Сочтя довод разумным, Нептун согласился и выдал дяде Вите еще одну порцию душистого крепкого напитка.
Под конец торжества над палубой теплохода оглушительно ударил гром и сверкнула молния. Нептун поднялся из своего кресла, стукнул трезубцем о лючину и торжественно потребовал:
— Да будет дождь!
И хлынул дождь. Вернее, не дождь, а сокрушительный тропический ливень. Тугие водяные струи сбили с Нептуна корону, сорвали сезалевую бороду и обнажили широкое добродушное лицо второго штурмана теплохода Виктора Александровича Шореца… Ливень хлестал холодными пресными струями по чертям, смывая с них жирную черную краску из сажи и солидола, набедренные повязки. Черти, как ребятишки, прыгали по палубе, подставляли ливню лица, спины, плечи; набирали свежую вкусную воду в рот и пускали фонтанчики…
Все были рады дождю — на судне пресная вода расходовалась очень строго, а тут воды сколько хочешь! Появились мочалки, мыло. Постепенно белеющие черти и крещеные прыгали, скакали в водяном хаосе, терли друг другу спины, намыливали головы, а кто-то уже стирал рубашку.
Ливень был очень кстати. Он сэкономил судовую воду и подтвердил авторитет Нептуна, как одного из могущественных богов планеты, бога, с которым можно вот так, совершенно запросто, встретиться в океане.
Ливень прошел, унесся куда-то прочь; палуба опустела. Матросы разобрали чан, унесли кресло и забытый капитаном гигантский ключ из красного дерева. Лишь в уголке, около лаборатории, как недолгая память о посетившем нас божестве, стоял трезубец с нанизанной на фанерное острие размокшей царской короной…
На судне все стихло — ночью будем ставить ярус и капитан разрешил команде отдыхать. Все разбрелись по каютам, а я пошел на самый нос судна охотиться на летучих рыб. Охотиться с фотоаппаратом. Перед самым отходом в рейс мне удалось приобрести прекрасный телеобъектив «МТО-500». К нему с помощью Петровича я приспособил небольшой приклад, спусковой крючок, и получилось маленькое, но дальнобойное фоторужье. И теперь я иногда охочусь: на чаек, олуш, дельфинов. А вот сейчас — на летучих рыбок.
Мне очень нравится фотоохота. До чего же приятнее сфотографировать, предположим, летящего над камышами крякового селезня, чем грохнуть по нему из ружья и поднять потом из воды окровавленный, в кружках зеленой ряски комок перьев…
Фотоохотой я занимался и на берегу и в море в предыдущем рейсе. На мою пленку попались крупные африканские ящерицы, забавные, с вращающимися в разные стороны независимо друг от друга глазами, хамелеоны, мартышки, прыгающие в ветвях кокосовых пальм, злые сухопутные крабы, разные тропические птицы и даже крокодилы с ганской реки Вольта. Раньше у меня был совсем небольшой, одиннадцатисантиметровый объектив, и приходилось во время фотоохоты испытывать большие трудности. Теперь же мощность телевика увеличилась в пять раз, и это значительно расширило возможности охоты с фотоаппаратом.
И вот — летучки. Так хочется сделать снимок, на котором было бы видно, как рыбка, расправив свои блестящие плавнички, подобно большущей, сверкающей всеми цветами радуги стрекозе, стремительно летит над водой.
Но сделать такой снимок очень трудно: летучки выскакивают из воды совершенно не в том месте, где их ожидаешь. Или плюхаются в волны раньше, нежели щелкнет затвор фотоаппарата.
Свесившись с судна, я гляжу в воду: вот несколько рыбок мчатся под самым форштевнем теплохода. Еще несколько мгновений, и, оставив на воде кружки, как от брошенного ловкой рукой плоского камня, рыбки взлетают в воздух… Эх, опять не успел! Пока наведешь на резкость объектив, рыбок уже нет. Скоро руки мои устают, и я просто любуюсь быстрыми, стремительными летучками. Они взлетают то поодиночке, то целыми стайками. Одни рыбки взлетают и тотчас плюхаются обратно в воду, другие уносятся на сто — сто двадцать метров вперед или в сторону от судна. Собственно говоря, рыбки не летают, а парят: разогнавшись в воде, они выскакивают в воздух, их подхватывают теплые струи воздуха, поднимающиеся от воды. Рыбка в течение тридцати — сорока секунд планирует, пока страшное железное чудовище, напугавшее их, не остается позади. Способность рыб на время покидать родную стихию спасает их от многочисленных врагов, в частности от хищных рыб, которые не против поживиться нежным мясом летучки.
— Внимание! Через десять минут станция! — разносится над палубой радиоголос.
Станция? Ну что ж, придется фотоохоту отложить. Конечно, только на время, — домой я обязательно должен привезти отличный снимок: над пенной водой летит серебряная рыба…
Вечером мы четверо долго сидим в лаборатории, склонившись над картой: нужно решить, где будем ставить первый ярус. Смотрим на карту Атлантического океана, пересеченного наискосок нашим трансатлантическим разрезом. Рядом схема самого разреза. Океан как бы разрублен от своей поверхности до глубины в тысячу метров. На схеме мы заглядываем в океан как бы сбоку: на листе бумаги он похож на многослойное пирожное. Но только линии, обозначающие температуру воды на различных глубинах, идут не параллельно. Они то опускаются вниз, то подскакивают вверх… В одном месте, соответствующем тому району, где сейчас находимся мы, видно, как из глубин поднялся к поверхности, пронзив толщу океана, острый пик. Это глубинные воды, проникшие в поверхностные слои океана. Тут образовался так называемый термоклин — глубинные и поверхностные воды перемешались и создали условия для бурного развития жизни в этой точке океана.
— Вот здесь и надо ставить ярус, — говорит Коля Хлыстов, поставив на карте черточку. — Показания по фосфору, температуре и кислороду, а также наличие термоклина — все говорит о том, что здесь может быть рыба. Ставим ярус тут…
На карте — черточка. А в океане — это пространство чуть ли не в сто квадратных километров. Да, нам известно, что здесь обязательно должны быть крупные океанические рыбы: тунцы, марлины, ваху. Но как лучше поставить ярус, чтобы движущиеся, рыскающие в этом участке океана рыбьи косяки прошли не вдоль яруса, стороной, а натолкнулись на него и обнаружили бы крючки с наживкой?
Район, который мы выбрали, словно громадный универсальный магазин со множеством дверей, в которые вплывают рыбы. Но район-магазин мы нашли, а вот как обнаружить двери, через которые рыбы вплывают в магазин или через которые покидают его? Ставить ярус направлением с севера на юг? Или с запада на восток? А может, с северо-запада на юго-восток?.. На этот вопрос нам уже не ответить. Будь мы промысловиками, мы поработали бы здесь две-три недельки и поставили бы яруса во всех возможных направлениях. И выбрали бы такое из них, которое бы обеспечило хорошие промысловые уловы. Но времени у нас в обрез, и мы ставим ярус по ходу нашего судна: с северо-востока на юго-запад. Расчет такой — убедиться, что здесь есть рыба, что район для лова выбрали правильно.
Итак, ярус. А что же это за штука и как им ловят рыбу? Ярус ничего общего не имеет ни с каким-либо видом сетей. Ярус — крючковая снасть, наподобие обыкновенного перемета: веревка, к которой привязаны на поводцах крючки. Но от обыкновенного речного или озерного перемета океанский перемет-ярус отличается своими размерами — он достигает гигантской величины: до шестидесяти морских миль (свыше ста километров). И оснащен такой «переметик» несколькими тысячами крепчайших крючков, способных выдержать до пятисот — шестисот килограммов живого веса.
Ставится ярус рано утром, и поэтому на другой день уже в четыре часа, еще в темноте, палубная команда была на ногах.
Вся снасть до выметки ее в океан разобрана на части: отдельно, в больших ящиках, лежит хребтина — крепчайший капроновый шнур, к которому крепится все остальное снаряжение яруса. В других ящиках, поменьше, свернутые поводцы с крючками; в сторонке громоздится груда пенопластовых поплавков и бамбуковых вешек с цветными флажками на концах.
— Начали! — командует бригадир Яков Павлович Болтенко. — Боцман, буй!
Боцман, поднатужившись, швыряет за борт, в темноту, концевой буй — шест с тремя флажками, к которому привязан конец хребтины. Судно идет малым ходом, и хребтина, увлекаемая вешкой — буем, извиваясь, будто змея, выползает из корзины и пропадает за бортом.
— Поводец! — говорит Яков Павлович, и один из матросов при помощи клевантов — металлических колец — соединяет поводец с хребтиной.
Другой матрос насаживает в этот момент на крючок наживку — рыбку и бросает поводец в воду. В воздухе он раскручивается и растягивается в воде на всю свою десятиметровую длину. Через каждые десять поводцев к хребтине прикрепляется поплавок или вешка. Вот и вся операция.
— Поводец… поводец… поплавок… поводец… — слышится голос бригадира. Вскоре он умолкает — матросы уже знают порядок выметки яруса, и дело идет быстрее…
Через два часа, к рассвету, двадцать километров океанского перемета ушло за борт. В воду полетела последняя вешка, судно развернулось и пошло вдоль яруса к его началу, откуда он будет выбираться. А команда отправилась по каютам — часок-другой отдохнуть. Пока команда спит, рыбы найдут нашу наживку, заглотают ее и… В общем, очень бы хотелось, чтобы рыбы обнаружили наш ярус. А то могут и не заметить его: ведь что для океана какие-то двадцать километров! Даже не для океана, а для того района, который мы обнаружили, — как иголка в поле. Вот если бы мы ставили промысловый, стокилометровый перемет, вот это было бы да! Но мы работаем коротким поисковым ярусом — времени, времени не хватает! Ведь на постановку промыслового яруса нужно потратить двенадцать часов! А потом столько же его выбирать!
Свесившись с верхнего мостика, я заглядываю в воду, туда, где в волнах прыгают белые поплавки и раскачиваются из стороны в сторону уходящие за горизонт вешки. Интересно, кто из подводных обитателей уже заметил наживку? Кто из морских рыб проглотил какую-нибудь из них и теперь рвется из стороны в сторону, пытаясь освободиться от жала крючка, вонзившегося в челюсть?
Сейчас мы это узнаем — команда собралась на палубе, и, пока боцман вылавливает «кошкой» концевую вешку, матросы выкуривают по последней сигарете: потом будет некогда.
— По местам, — говорит Яков Павлович. Он стоит на небольшом помосте у левого борта судна, около специальной машины — ярусоподъемника.
Принцип действия машины не сложен — хребтина зажимается между вращающимися навстречу друг другу шкивами. Шкивы, обутые в резину, крутятся и за счет трения вытягивают хребтину, которая тут же укладывается в ящик. Гудит ярусоподъемник, хребтина прячется в ящик, а матросы отстегивают от нее поводцы, вешки, поплавки. Поводцы тут же на специальной машинке койлаются, то есть скручиваются и укладываются в ящики; поплавки относятся в сторонку, чтобы не мешали работать.
Натужено гудит машина. Гудит, выволакивая из воды тяжелый намокший ярус. Быстро мелькают матросские руки, заполняются ящики с поводцами, растет штабель поплавков. Гудит ярусоподъемник; в его сердитом гудении мне чудятся нотки нетерпения: дескать, а где же рыба? Действительно, рыбы пока нет…
Жаров, Виктор и Брянцев стоят у борта и нервно курят. Я не курю, но тоже нервничаю, и тоже стою у борта, и с нетерпением заглядываю в воду: где же рыба? Сегодня мы, научная группа, как бы сдаем экзамен: будет рыба, значит, не подкачала наука, а вытащим «пустышку», что тогда? Конечно, бывают и просчеты, но не хотелось бы, нет…
— Рыба! — кричит бригадир.
Хребтина туго натягивается; прикрепленный к ней поводец гудит, будто басовая струна, и режет воду; внизу, в синец глубине, мечется какое-то крупное, взбесившееся от боли существо.
И снова работа, поиск рыбы. На этот раз мы не тралим, а ловим рыбу ярусом — многокилометровым океанским переметом. С напряжением всматривается в бурлящую воду бригадир: попадется сегодня что-нибудь или нет?.. А на мостике берет координаты судна старший помощник капитана Виктор Литун. Уже много рейсов совершил он в далекие теплые моря. И всегда точно определяет местонахождение теплохода по солнцу, звездам и маякам…
Мы спешим к лазпорту — отверстию, через которое на палубу судна поднимается рыба. Ну-ка, где она, голубушка? Кто сидит на крючке, кто первый из морских обитателей окажется на палубе «Олекмы»? Поводец отсоединяют от хребтины, и Петрович с матросом Виктором Герасимовым, коротко остриженным парнем, состоящим из одних упругих мышц, подтаскивают рыбину к лазпорту. Краснея от натуги, боцман и матрос упираются ногами в палубу и, напрягая все силы, выводят рыбину из глубины к поверхности. Ну, еще немного, ну, еще чуть-чуть… У лазпорта уже дожидается ее, крепко сжимая в руках багор, Виктор Жаров. Первую рыбину, попавшуюся на ярус, ему хочется извлечь из океана самому.
— Подтягивайте!.. Еще чуть-чуть! — просит он, наклоняясь над водой.
В этот момент, всплеснувшись, из волн выскакивают длинный острый бивень и фиолетовая голова с выпученными глазами.
— Марлин! — восклицает Жаров и, нагнувшись, вонзает острие багра в упругое тело.
От страшной боли рыба делает мощный рывок, капроновый шнур звонко лопается, а багор выскакивает из рук Жарова и вместе с рыбой исчезает под днищем судна в вскипевшей окровавленной воде. Боцман испуганно ахнул, но нет, не ушел марлин — багор накрепко привязан сезалевым канатом к борту судна. От ярусоподъемника бегут матросы, сильные руки вцепляются в канат, и вот уже показался кончик багра… Снова видна остроносая марлинья голова, и в нее тотчас впиваются еще несколько багров. Утомленная рыба всплывает и, широко разинув рот, выплевывает розовую пену. Марлин еще пытается вырваться — он ворочается в воде, хлопает по волнам метровым хвостом, но нет, уже поздно. Люди там наверху, на палубе судна, сильнее его. Через несколько мгновений под команду Петровича: «Еще разик!..» — марлин переваливается через борт. Вот и все. Рыба на палубе.
Глаза ее быстро тускнеют, по телу волнами прокатывается судорога. Кожа становится то почти черной, то светлеет и покрывается поперечными сине-фиолетовыми полосами…
Вокруг рыбы стоят люди. Матросы дымят сигаретами, заглядывают в необъятную рыбью пасть, шлепают по марлиньему телу. Вот уж рыбка так рыбка! Только увидев такого красавца, только выловив такую рыбину, понимаешь, почему рыбацкие суда покидают свои порты и идут промышлять рыбу за тридевять земель. Мясо у тунцов и марлинов очень вкусное, оно пользуется большим спросом на мировом рынке. Японцы, например, ходят ловить марлинов и тунцов к берегам Южной Америки.
— Хороша рыбка! — почесывает затылок Яков Павлович. — Недаром я все колдовал про себя: «Ловись рыбка большая и маленькая…»
— Ох и рыбочка, — поддакивает ему пахнущий гороховым супом кок, — из одной такой можно с тысячу рыбных блюд приготовить!
— По местам, ребята! — прерывает его бригадир. Матросы расходятся, кок спешит на камбуз, а боцман помогает мне и Жарову подтащить марлина к весам.
— Ого! Неплохо — триста шестьдесят килограммов, — говорит Виктор, и я записываю вес рыбы в специальную книжку.
Затем мы измеряем марлина. Петрович извлекает из рыбы желудок. Конечно, не особенно приятно копаться в рыбьих желудках, но ни одна рыба, пойманная в рейсе, не минует наших рук. Все они будут взвешены, измерены, и все, что окажется в их желудках, будет изучено. Очень важно знать, чем в этих широтах питаются рыбы.
— Записывай, — диктует Виктор, — содержание желудка: кальмары, мелкие рыбы-сабли, анчоус и фахаки…
— Фахаки? — удивляюсь я и, отложив карандаш, подхожу ближе.
Да, никаких сомнений: из желудка марлина извлечены с десяток небольших колючих, словно ежики, рыб-фахаков.
Фахак? Ну и что же? Нет, меня удивило не то, что марлин наглотался этих колючих рыбешек, а то, что под нами глубина пять километров. И до берега еще миль шестьсот. Фахаки же, как и рыбы-кувалды, обитают в мелководных прибрежных водах. Значит, вчера или позавчера марлин обедал у побережья Южной Америки, а сегодня, покрыв громадное расстояние, оказался у нашего яруса и, заколдованный заклинаниями Якова Павловича, клюнул на злополучную ставридку. Найденные в желудке марлина прибрежные рыбы еще раз подтверждают, что марлины в поисках пищи совершают переходы со скоростью до тридцати — сорока миль в час…
Все промысловики, добывающие рыбу на крючковые снасти, считают поимку морского исполина, достигающего веса до пятисот килограммов, большой удачей.
Между прочим, марлин — одна из немногих рыб, которая вошла в большую литературу. Это о ней писал Хемингуэй в своей книге «Старик и море». Рыба, которую выловил старик, была марлином.
— Еще! — раздается возглас бригадира.
Еще рыба? Ну конечно! Оторвавшись от своих размышлений, я спешу к борту судна и вижу — выскакивает, как бы подброшенная мощной пружиной, из воды ярко-золотистая, с поднявшимся дыбом спинным плавником макрель. Плавник ее трепещет, и на его светло-синем фоне ярко выделяются черные пятна; по всему телу рыбы рассыпались мелкие голубые звездочки… Сделав в воздухе сальто, рыба звонко шлепается в волны, а затем вновь подбрасывает свое тело над водой. Но что это? Вместо ярко-золотистой на крючке бьется светло-розовая, в черных пятнах рыба. Опять всплеск, отчаянный рывок, и рыба взлетает над вспенившейся водой. Но странно: уже не розовая, а зеленовато-желтая. Может, это три разных макрели? Нет, одна, все та же «корифена», как она называется по-латыни. Только рыба все время от страха и возбуждения меняет свою окраску. Боцман подтягивает ее к лазпорту и рывком выкидывает на палубу. В то же мгновение Виктор Герасимов опускает на ее плоскую голову деревянную кувалду, и макрель успокаивается.
Мы наклоняемся над макрелью и, отражаясь в ее злых, янтарно-медового цвета глазах, рассматриваем широкое, сжатое с боков тело, узкую голову с выдающейся вперед нижней челюстью.
— Будто пес… — говорит боцман, осторожно трогая кончиком ножа острые рыбьи зубы. — Ишь разинула свою пасть.
И действительно, в профиль рыбья морда удивительно напоминает сплюснутую голову злого мопса или боксера.
Золотистые макрели, корифены, встречаются в теплых тропических водах почти всюду. Много их у берегов Африки в районе, где промышляют сардину советские тральщики. Корифены кружатся там стаями, дожидаясь, когда после разборки трала в воду будет смываться рыба, непригодная для переработки.
Золотистая макрель — наиболее популярная рыба у судовых рыболовов-любителей. Как правило, если судно лежит в дрейфе, дожидаясь очереди сдавать улов на плавбазу, рыболовы собираются на корме судна и опускают в воду примитивные снасти: веревку с большим крючком, наживленным сардинкой… Заметив наживку, макрель стремительно бросается к ней и с ходу заглатывает, да так, что обычно попавшаяся на крючок уже не срывается.
— Еще один! Тунец! — слышится радостный голос Якова Павловича.
Неужели тунец? Схватив багры, мы спешим в лазпорт. Ведь мы тунцеловы, а поймали пока марлина да макрель. Торопливо натянув на руки перчатки, чтобы не обжечь ладони, боцман наклоняется над водой, тянет.
— Вьюноша… — говорит он. — Совсем легкий.
Действительно, из воды показывается некрупная тунцовая голова. Она совсем черная и такая блестящая, будто покрыта лаком. Петрович дергает, и… на палубу падает одна голова. Больше ничего нет: все тело, начиная от грудных плавников, начисто объедено акулами. Подводное убийство произошло, как видно, только что. Голова еще жива: она поводит глазами, разводит окровавленными жаберными крышками, а среди лохмотьев мышц бьется, отсчитывая последние секунды тунцовой жизни, сердце…
Я поспешил в каюту за фотоаппаратом, а когда вновь выбежал на палубу, то рядом с загубленным тунцом билась крупная акула. У нее была узкая голова, длинные плавники, изогнутые, будто кривые кинжалы, темная, почти черная спина и свежно-белое, раздувшееся, словно бочка, брюхо. Акула яростно скалила зубы, грызла палубу, забивая себе пасть щепками, и молотила тонким, но очень сильным хвостом.
— Берегитесь хвоста! — крикнул Хлыстов матросам, которые столпились около отвратительного морского зверя.
Да, акульего хвоста следует опасаться: одного его удара достаточно, чтобы, как спичку, переломить ногу человека. Даже если акула слегка, чуть-чуть коснется своей шершавой шкурой человеческой кожи, то оставит о себе долгую неприятную память — очень болезненную, незаживающую рану. Акулья шкура покрыта как бы мелкими, очень острыми зубками. Этими зубками акула и снимает, будто рашпилем, полосы кожи с ног или рук неосторожного рыбака.
Помахивая кувалдой, боцман крутится вокруг акулы. Вот он размахнулся, стукнул по плоской упругой голове. Но акула и не почувствовала удара. Она продолжала хлестать хвостом, сокрушая стоящие в уголке бочки, и совершила несколько прыжков, подбрасывая свое гибкое, будто из каучука, тело на метр-полтора над палубой. Боцман стукнул еще раз-другой, вытер пот.
— Что за черт! — ругнулся он и взглянул на акустика. — Ну-ка, Витя, тюкни ее!
Громадный, весь налитый силой и здоровьем, дядя Витя неторопливо подошел к акуле, окинул ее взглядом, потом, взяв в одну руку, осмотрел кувалду, занес ее над головой и — рраз! — со страшной силой грохнул кувалдой по… палубе. Головка дубовой кувалды развалилась на три половинки, раскололась, как гнилой орех.
— Поосторожнее! Всю палубу разобьешь! — забеспокоился Петрович, увидев в палубном настиле глубокую вмятину. — Опять же имущество губишь…
— Так подержи ей голову, — огрызнулся дядя Витя, хватая другую кувалду, — а то крутит, мотает башкой туда-сюда.
Следующий удар пришелся прямо по акульему темени.
— Аж слюна из нее брызнула!.. — удовлетворенно сказал боцман. — Ну-ка, что у тебя там в пузе?
В акульем пузе оказался препорядочный кусок того самого тунца, голову которого мы только что бросили в океан. Тунец и небольшая рыбешка, которая была насажена на крючок яруса. Маленькая рыбешка испортила акуле весь этот день…
Вскоре на ярус попался второй марлин. На этот раз белый. Очень красивый, с острым, как штык, носом и прекрасными очертаниями стремительного тела. Он был небольшим, всего пятьдесят килограммов весом. Через полчаса на крючках оказались еще три таких же белых марлина. Как видно, шли они все небольшой стайкой и пересекли линию яруса. А тут уж трудно было удержаться, чтобы не проглотить по рыбешке, повисшей в прозрачной воде.
На этом и окончился наш первый ярус: пять марлинов, несколько макрелей и три акулы. Улов неплохой. А главное, мы выяснили, какая рыба водится здесь и какой примерно улов могут взять в этом районе промысловики.
Вечером Жаров нарисовал на своей карте узенькую черточку с красными флажками по краям, изображающую наш первый ярус. Под черточкой написал, каких рыб мы поймали, и поставил несколько цифр — улов в килограммах.
Скоро таких черточек-ярусов на карте будет много. Черточки с указанием разведочных уловов помогут промысловикам ставить свои ярусы в тех местах, где есть рыба.
После первого яруса жизнь стала интереснее. Теперь очень однообразная и поэтому быстро надоедающая работа на станциях стала перемежаться с ловом рыбы.
Почему-то от работы с ярусами у берегов Бразилии я ожидал каких-то океанских сюрпризов — встреч с новыми, ранее незнакомыми рыбами. Но рыбы, попадающиеся на крючки, были самые обычные — все те же марлины, акулы-быки и бульдогообразные макрели. В общем, такие же обитатели океана, с которыми нам уже не раз приходилось знакомиться в районе Африки в предыдущих рейсах.
— Подожди, — утешал меня Жаров, — это только начало. Вот подойдем поближе к Бразилии, там обязательно что-нибудь интересное на крючок зацепится…
А Бразилия была уже совсем недалеко. Однажды над нашим теплоходом трижды пролетел бразильский патрульный самолет с изображением краба на зеленом фюзеляже. И с утра до позднего вечера разносятся по теплоходу мелодии очень хорошо запоминающихся самбо: Бразилия готовится к карнавалу.
Раз в год вся страна в течение трех суток поет и танцует. Поют и танцуют все — от чистильщика обуви до министров. К карнавалу долго готовятся; газеты, журналы, телевидение, кино, радио — все работает на карнавал. Рано утром приятный женский голос задает радиослушателям вопросы: «А ты готов к карнавалу? Какие самбо ты умеешь танцевать? В каком костюме выйдешь на улицу родного города?» Радиостанцию города Форталезы сменяет сочный мужской голос: «Говорит радиостанция Ресифи-Пернамбуку!» Тотчас каюта наполняется нежнейшей экзотической мелодией, и все тот же голос спрашивает у нас, у всей своей громадной страны: «А ты разучил новое самбо?» И снова — мелодии. Один танец сменяется другим, другой — третьим.
Иногда ритм танца неожиданно прерывается, и в эфире разносится встревоженный, торопливый голос.
— О чем это он? — спрашиваем мы нашего судового полиглота Валю Брянцева. — Что у них там случилось? Никто не хочет разучивать самбо «Моя крошка хочет танцевать»?
— Нет, совсем не то… Французская эскадра… миноносцы, авианосец… приближаются к территориальным водам, к берегам Бразилии, — морща лоб, неуверенно переводит Валентин.
Ах, вот в чем дело! Только вчера об этом уже передавало московское радио: бразильцы арестовали в своих водах французские суда, ведущие хищнический лов лангустов, и теперь им на выручку спешат французские военные корабли.
— Может быть заваруха, — комментирует Валентин, закуривая сигарету. — Бразильцы готовят свой флот, стоящий в Ресифи, к встрече…
Все может быть… А пока тревожный голос умолкает, и в каюту опять врывается огненный вихрь звуков очередного танца.
Разрез, станции и ярусы. Ярусы, станции и разрез. И еще — мелодии самбо из веселых городов Ресифи или Форталезы. Вот так и бегут наши дни по волнам беспокойного синего Атлантического океана. Вот так и бегут дни: душные, жаркие. Тропики и качка… Во время качки любопытные волны как бы стараются заглянуть в иллюминатор, и поэтому его приходится завинчивать наглухо… Но стоит его закрыть — температура в каюте подскакивает до плюс тридцати трех градусов… И влага. Мокрые простыни, сырая, тяжелая, сплющенная блином подушка… В общем, тропическая экзотика. По ночам от влаги и духоты мучительно болят и затекают руки, ноги. Просыпаешься, щиплешь, трясешь руки и не чувствуешь их… Потом застоявшаяся кровь с болью тысячи иголок, вонзившихся в мышцы, начинает пульсировать в кровеносных сосудах, и до самого утра руки ноют тупой болью. Душно, влажно. Вентилятор уже давно надорвался, перегорел. И теперь уныло раскачивается из стороны в сторону на столе: чтобы не упал, я привязал его веревкой к вбитому в переборку гвоздю.
Ярусы — через день. Через день мы поднимаемся в четыре часа утра и целый день до вечера медленно и безропотно поджариваемся на палубе, в лучах раскаленного солнца. Теперь мне совсем нестрашно попасть в ад на горячую сковороду — в аду грешники только и делают, что поджариваются; мы же, обмываемые расплавленными лучами с ног до головы, не только поджариваемся, но к тому же и работаем. Солнце… Ух, какое оно тут беспощадное! От него нигде не спрячешься, никуда не убежишь… Оно отражается миллиардами маленьких солнц от воды и опаляет влажным жаром наши лица, тела… От яркого света в глазах будто стекло битое насыпано. У многих матросов растрескались, кровоточат пересохшие от жары губы. Улыбаться и то больно. Поэтому на палубе совершенно не слышно смеха.
Солнце раздражает людей, утомляет нервную систему. Матросы, механики, задыхающиеся в синем едком чаду, стали раздражительными, грубыми. Все мы люди северные, и очень трудно привыкнуть к таким щедрым солнечным ваннам…
Ярус. Гудит машина, отмеряя километр за километром выползающую из океана хребтину. Подъемник вытягивает из воды ярус, поводцы, поплавки, вешки и то небольшую акулу, то злую макрель, то тяжелого, грозящего нам своим толстым крепким бивнем марлина.
А это что? Кто там такой, окрашенный в небесно-голубой цвет, крутится, бьется в воде? Что-то интересное, новое. Ну-ка, боцман, ну-ка, дорогой Сергей Петрович, подтягивай поводец! Багор впивается в рыбье тело, и мы выволакиваем из воды длинную, тонкую, с ярко-голубой спиной акулу… Она так и называется «голубая». Действительно, как будто полоска неба упала на шершавую акулью спину да так и осталась на ней навсегда. Акула вяло, безвольно шевелит плавниками, белое ее брюхо, дряблое, как старческие щеки, вздрагивает и колышется. Акула как-то неохотно, лениво грызет палубу и смотрит на нас скучным, унылым взором. Боцман быстрыми ударами длинного ножа отсекает хищнице голову и передает стармеху. Тот, уединившись в сторонке, поранив пальцы об острые, будто бритвы, зубы, вырезает из нее челюсть. А потом подвешивает на солнце сушиться. И я вспоминаю о ребятишках-школьниках — это для них старается, не жалеет своих пальцев дядя Толя…
Иногда нас навещают дельфины. Грациозно изогнув свои спины, украшенные острым треугольным плавником, они плавают около теплохода, показывая время от времени свое мастерство управлять телом в воде и воздухе.
Среди них есть замечательнейшие акробаты! Вот один из дельфинов, разогнавшись, выпрыгивает из воды на два-три метра в воздух и почти без всплеска, ласточкой ныряет в волну. А другой, стройный, блестящий, сделанный будто из черной резины, выскальзывает из воды и делает в воздухе нечто вроде сальто. Поодиночке и группами дельфины подпрыгивают в воздух навстречу солнцу и голубому небу. Подпрыгивают и делают над водой разные фигуры — то шлепаются в океан боком, то солдатиком — хвостовым плавником вниз… Мы с завистью наблюдаем за их игрой. Нам бы тоже понырять, поплавать! Но нам нельзя — в воде шныряют акулы, и капитан беспокоится за наши жизни…
Нам нельзя, а дельфинам можно. И они без устали бултыхаются в волнах, фыркая от удовольствия. Когда им это надоедает, животные собираются плотной группой под самым форштевнем судна и несколько часов плывут вместе с нами.
Сверху очень хорошо видны их идеально сложенные, сильные тела; длинные заостренные носы и клапаны — дыхало, расположенные на затылках. Клапанами, когда дельфины выдыхают испорченный и вдыхают свежий воздух, животные производят звуки, похожие на довольное пофыркивание лошади.
У животных жесткое, пахнущее рыбой мясо, но исключительно вкусная печень. Добыть дельфина очень просто. Для этого берется бамбуковый шест, и к его концу прикрепляется острый метровый штырь диаметром чуть толще карандаша. К другому концу шеста привязывается короткий шнур с поплавком. Прямо с носа идущего судна бамбуковое копье вонзается в спину дельфина, он делает резкий оборот, и проволока-штырь закручивается вокруг тела животного. Убитого дельфина находят по буйку. Таким способом нам приходилось иногда охотиться в Гвинейском заливе. Но нужно быть очень осторожным: дельфин может рвануться, и если шнур от буйка захлестнется вокруг руки или ноги гарпунера, тот сразу же окажется под килем судна.
Бегут дни нашего рейса: станции, ярусы, рыбья слизь и кровь на палубе, ослепительное солнце и душная каюта. Иногда встреча с каким-нибудь теплоходом. Встретились, просигналили приветственно друг другу прожекторами: «Как звать, откуда?» Познакомились, пожелали счастливого плавания — и снова волны, соленый ветерок, безжалостное солнце. Да еще добродушные дельфины, деловито пофыркивающие у бортов «Олекмы».
Вечер. Стало чуть прохладнее — морской ветер продул немного каюты, стало легче дышать, и быстро забылись трудности прошедшего дня. Те, кому стоять ночную вахту, спят. Володя Пузыня готовит фотоувеличитель: комсорг судна, радист Слава, поручил ему сделать фотогазету. Наш сосед по каюте, второй механик Владимир Коновалов, корпит над тетрадками и учебниками — он студент-заочник Калининградского технического института рыбного хозяйства. Ему нужно подготовить много контрольных работ, и поэтому свет в его каюте не гаснет до глубокой ночи.
И научники не спят. Валентин Брянцев зубрит самоучитель испанского языка, а Николай просто лежит и смотрит па фотографию жены. Что-то давно радиограмм нет. Как-то она там?
Да. Конечно, ждет и тоскует. Так же как и наши жены. И поэтому не хочется ни читать, ни зубрить иностранные языки. Хочется вот так лежать и смотреть на снимок. Или бродить по каютам, разговаривать с друзьями и гнать от себя мысли, что прошло лишь два месяца. А впереди еще много-много дней разлуки. Еще много-много морских миль, отделяющих нас от того дня, когда судно приткнется бортом к знакомому пирсу родного порта и ты сбежишь с теплохода навстречу радостным глазам, сверкающим из-за букета совсем ненужных цветов.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Самбо ведет в Бразилию. Порт Ресифи, штат Пернамбуку. Город пахнет кофе. «Греве» — значит забастовка. Облик авениды. Битва за человеческую душу. О чем говорят деньги. Поездка в Олинду. Футбол по-бразильски. Как был захвачен теплоход «Санта-Мария».
Мелодии самбо, как радиокомпас, ведут нас к берегам Бразилии. Веселые, бесшабашные или, наоборот, очень лиричные, грустные, они разносятся по всему теплоходу. Гремят барабаны, кастаньеты, мурлыкают аккордеоны, всхлипывают трубы… Ритм самбо витает над палубой, мечется среди надстроек теплохода, разносится над океаном и исчезает где-то у белого от зноя неба…
На судне идет покраска. В каютах никого нет — все на палубе. Матросы с банками белил карабкаются по мачтам, надстройкам. Механики чистят до ослепительного блеска медяшку в машинном отделении, мазюкают суриком и чернью лебедки; дядя Витя, зажав в руке кажущееся игрушечным ведро, трудится над трубой. Мы красим свою лабораторию.
Всем нам очень хочется, чтобы «Олекма» была красивой. Поэтому с такой тщательностью моем, чистим, драим свой теплоход, а потом одеваем в праздничный наряд красок… Из динамиков разносится веселая музыка, кисти наши весело прыгают и танцуют по переборкам, оставляя на металле яркие, сочные следы.
А Бразилия все ближе. В сизой, колеблющейся от жары дымке уже виднеются высокие берега, покрытые изумрудной зеленью. Все чаще встречаются иностранные теплоходы, идущие из бразильских портов. Они тяжело осели в воде — наверное, везут в своих трюмах знаменитый бразильский кофе. Знаменитый черный душистый кофе, который пьют во всех уголках земного шара.
Накануне захода в порт Ресифи, где нам предстоит пополнить запасы воды и свежих продуктов, мы все собрались в каюте, чтобы проверить знания о стране, по земле которой уже завтра нам предстояло шагать. Увы, сведения о Бразилии, которыми мы располагали, оказались весьма скудными. И главное, никто не знал португальского языка, на котором разговаривают бразильцы. Лишь Валентин мог с грехом пополам составить несколько примитивных фраз. И то не на португальском, а на испанском языке. Но эти языки очень сходны, и испанцы могут объясниться с португальцами. Однако, прослушав фразы, произнесенные Брянцевым, мы, абсолютно не разбирающиеся в языках Пиренейского полуострова, откуда португальский перекочевал в Бразилию, усомнились, поймут ли нашего общего друга бразильцы.
Что касается Жарова, Хлыстова и меня, то оказалось, что весь наш запас испанских слов, с помощью которых мы собирались объясняться с местным населением, состоит из трех понятий: «салют», «амиго» и «беса ме мучо», то есть «здравствуйте», «друг» и «целуй меня крепче». Если первые два слова — «здравствуйте» и «друг» — можно с грехом пополам вставить в любой разговор пальцев и жестов, то с фразой «беса ме мучо» нужно быть весьма осторожным…
Поздно ночью берег запылал заревом огней большого города.
Это Ресифи, столица бразильского штата Пернамбуку. Ресифи — город почти с миллионным населением, занимающим по величине третье место в стране, после городов Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Ночь прошла без сна, в разговорах. Волновало многое: как встретят нас на бразильском берегу, как будут относиться к русским людям жители этой крупнейшей страны Южной Америки? Ведь наша «Олекма» — второе судно после научно-исследовательского теплохода «Михаил Ломоносов», направляющееся в порт Ресифи. Меня беспокоил вопрос: а можно ли там фотографировать?
Поднялись с восходом солнца и увидели Бразилию: десятки крупных судов на рейде, рыбацкие катамараны, спешащие в открытое море, а дальше, над водой, — город с белыми, голубыми и розовыми небоскребами. Вправо и влево от него убегают золотистые полоски пляжей, рощи пальм с густыми шапками листьев, и над ними — сверкающие стеклами окон коробки отелей.
На самом малом ходу — здесь много мелей — подгребаем, как любит выражаться наш капитан Валентин Николаевич, поближе и становимся в длинный ряд теплоходов, ожидающих лоцманов. Около нас громоздится корпус американского сухогрузного теплохода с рубкой, расположенной на самом носу. Чуть дальше — покачивается голубое судно с названием «Маргарита», а левее застыл, как будто не очнувшись еще от ночной дремы, большой теплоход с красным флагом, перечеркнутым белым крестом. Пока мы гадали, кому принадлежит судно, капитан заглянул в справочник и сообщил нам, что флаг швейцарский! Мы удивились — маленькая горная страна, удаленная от морей и океанов, и вдруг теплоход, принадлежащий ей, у берегов Бразилии. Но оказывается, многие страны без выходов к морским путям имеют свои морские суда. Например, флот той же Швейцарии насчитывает 22 теплохода. Имеют свои корабли Чехословакия, Венгрия и другие неморские государства.
Валентин Николаевич задумчиво смотрит в бинокль и почесывает подбородок — да, очередь большая. Как видно, все причалы заняты и придется долго ждать, когда найдется свободное местечко для «Олекмы». А хочется скорее на берег — может, там, на улицах города, еще бушует карнавал, а мы мотаемся по палубе и каютам, не находя себе места.
— Лоцманский катер! — оживляется Валентин Николаевич. — Интересно, к кому он идет?
Да, катер — небольшой, красный, с полосатым лоцманским флагом на небольшой наклонной мачте. Катер вырывается из портовых ворот и, постукивая двигателем, мчится прямо к нам. Десятки биноклей следят в этот момент с различных судов за маленьким катером — конечно, всем хочется побыстрее сойти на берег. Катер лихо подкатывает к «Олекме», и через планшир грузно переваливается пожилой смуглый человек с гладко зачесанными, блестящими волосами и большими карими глазами в мелкой сетке морщин.
— Салют, амигос! — приветственно машет он нам рукой и, наклонив голову к вздернутому правому плечу, спешит в ходовую рубку.
Через полчаса мы входим в тихие портовые воды, и к «Олекме» один за другим подваливают старомодные, обшарпанные катера: прибыл портовый врач — мистер Фернандо, таможенники в форме и фуражках с высоченной тульей, на которой золотятся большущие кокарды с орлами, якорями, молниями, пушками. Потом подходят катер шипшандлера — портового снабженца продуктами — и суденышко конца прошлого века с портовыми полицейскими, затянутыми в белые портупеи.
Вид у чиновников усталый, измученный. Глаза ввалившиеся, лихорадочно блестят, ноги то ли заплетаются, то ли выделывают совершенно непроизвольно какие-то замысловатые кренделя.
Заметив наши участливые и слегка удивленные взгляды, один из таможенников, высокий парень с усами-щеточкой на верхней губе, снял фуражку, помахал ею и устало улыбнулся.
— Карнавал, амигос… карнавал… — Карнавал? Значит, мы все же успели?
— О но… — закачал головой замученный карнавалом амиго. — Сегодня уже конец… Трое суток танцевали, а сегодня все. Финиш…
Надвинув на лоб фуражку, он, как и все, пританцовывая и чуть раскачиваясь торсом, поспешил в салон, чтобы оформить необходимые документы, акты и справки.
А пока в каюте капитана и в салоне суетливые люди, трескуче и звонко переговариваясь, заполняют многочисленные документы, лоцман ведет судно мимо причалов, мимо трехмачтового парусника, покидающего порт, мимо приткнувшихся к портовой стенке двух эсминцев, мимо многочисленных теплоходов и пароходов. Лоцман выискивает местечко для «Олекмы». Ага, вот, пожалуй, сюда можно втиснуть наш теплоходик. Звучит одна команда, другая, звенит машинный телеграф, дающий команду то «стоп», то «малый назад», и вот «Олекма» прижимается своим нарядным корпусом к шершавой, в черном мазуте бетонной стенке пирса…
Вроде бы и не было никого на пирсе, вроде и не наблюдал никто за нашей швартовкой, но через несколько минут у серо-голубого борта «Олекмы» собираются десятки людей.
— Салют!.. Буенос диас, амигос! — звучит с берега, и к нам тянутся крепкие мозолистые руки.
Мы с удовольствием пожимаем их: широкие мозолистые руки рабочих, _ узенькие ладони женщин, грязные — портовых мальчишек… Всем очень хочется получить от русских какой-нибудь сувенир: монетки, значки, спичечные коробки и особенно русские папиросы. Дружный смех вспыхивает в толпе, когда пожилой полицейский безуспешно пытается закурить папиросу, взяв ее табаком в рот…
— Желающим идти в увольнение — записаться у вахтенного штурмана! — сообщило судовое радио.
Бразилия. Первое впечатление — город пахнет кофе. Кофе — везде. Под ногами, в вытянувшихся вдоль причалов складах, над головой — там со скрежетом и металлическими стонами портальные краны переносят со складов на теплоходы душистые мешки. Сверху на нас сыплется звонкий кофейный дождь… Но вот хруст под ногами замолк, и мы вышли из портовых ворот. К автобусной остановке нас проводил портовый полицейский, придерживая руками громадный кольт, болтающийся на поясе. Прежде чем отправиться с нами, он замкнул ворота порта на огромный замок. Пока полицейский вел нас через улицу, пока долго объяснял что-то, все время повторяя незнакомое слово «греве… греве», автомашины, нагруженные кофе, длинной вереницей столпились у замкнутых ворот и отчаянно на разные голоса выражали свое нетерпение.
Ну вот и автобус. Садитесь в него камарадес… три остановки—и главная площадь… Билет стоит семнадцать крузейро. Счастливо отдохнуть, амигос!
Полицейский козыряет, закуривает русскую папиросу и, пуская из волосатых ноздрей дым, неторопливо направляется к воротам. А мы садимся на мягкие кресла — три остановки, и будет центральная площадь. Однако почему же не едем? Я смотрю на мальчишку-кондуктора, тот кивает на глазастого паренька-шофера, а шофер кивает головой на свои часы — обед! Ну что же, ничего не поделаешь. Мы поднимаемся, но парни перекидываются друг с другом выразительными взглядами: дескать, люди, видно по всему, приезжие, издалека — и вдруг такой прием! Парни переглядываются и торопливо убирают бутерброды с колбасой. Шофер прыгает на сиденье, машина, взревев, срывается с места… Глазастый шофер решил прокатить нас с ветерком — громадный автобус, звонко сотрясаясь всей своей металлической утробой, мчится по улице с бешеной скоростью. Шофер все время нажимает на сигнал, и из-под самого радиатоpa автобуса испуганно шмыгают в сторону «форды», «виллисы» и прочая автомобильная мелочь… Минуя все остановки, на которых стоят нетерпеливые очереди, автобус выскакивает на центральную площадь и, заскрипев тормозами так, что по нашим телам пошла гусиная кожа, останавливается. Мелких денег у нас нет, и я отдаю кондуктору бумажку в тысячу крузейро. Тот швыряет ее в огромную провизионную сумку и вынимает из нее толстенную пачку денег — сдачу… Я разделяю деньги на две пачки и засовываю их в карманы, которые раздуваются на моих бедрах…
Ресифи. Крупный бразильский порт, столица штата Пернамбуку, Мы впервые вступили на землю Южной Америки и были восторженно встречены темпераментными бразильцами. Город Ресифи очень красив. Он современен и no-южному живописен. Широкие улицы-авениды, тропическая растительность, розовые, белые и голубые дома с громадными окнами, тихие, тенистые парки и глубокие реки, в различных направлениях пересекающие город.
— Аста ла виста! До свиданья, амигос!.. — говорит Валентин и добавляет по-русски: — Вы отличные парни!..
Мы жмем парням руки, а те хлопают нас по спине и, ухмыляясь, кричат вслед:
— Гуд бай! Гуд бай!..
В Южной Америке есть свои, весьма стойкие, хотя порой и трудно объяснимые традиции. Например, в Аргентине не рекомендуется ходить по улице без галстука. На такого вольнодумца неодобрительно косились бы прохожие. А вот в Бразилии франты щеголяют чуть ли не во фраках. Жарища, тропики, а мужчины — в черных костюмах, в длинных брюках. Ух и зверская же жарища!.. Сверху — расплавленное светило, а снизу — раскаленный асфальт. Горячие струи воздуха поднимаются от него и, попадая в брючины, как в трубы, жаркими волнами омывают, высушивают ноги, изгоняют влагу из наших тел. Слизывая с губ соленые капельки пота, мы вспоминаем крупнейшие африканские города — Аккру, Конакри, Дакар, Кейптаун — и вздыхаем: там мы щеголяли в шортах. А здесь нельзя — традиция… хотя во время карнавала на улицах можно появляться даже нагишом. Но это только во время карнавала…
Жарко не только нам. Жарко всем. У полицейского, стоящего в тени большого дома, из-под белой каски текут за воротник струйки пота. Он внимательно рассматривает нас и быстро, как эквилибрист, крутит резиновой дубинкой перед лицом — нагоняет прохладу. Утирает пот с лица пожилой мужчина с пачкой красных листков в руках. Он сует их в карманы проход жим и усталым, охрипшим голосом выкрикивает все время одно и то же:
— Греве! Греве!..
Жарко всем. Духотища! Рубашки на мужчинах промокли и прилипли к спинам; узкие платья на женщинах повлажнели и плотно облегают стройные тела. Невесть откуда взявшаяся грязная собачонка, вывалив из раскрытой пасти трепещущий язык, стоит у края тротуара, подставив бок тонкой струе воды, бьющей из какой-то трубы…
— Греве!.. Греве!.. — раздается громкий, усиленный мощными репродукторами голос.
— Греве?… Что же это такое? — морщит лоб Валентин.
— Греве! Греве!.. — громыхает между каменных утесов-домов, скачет гулким эхом по мостовой сердитый, взволнованный, требовательный радиоголос…
На улицах Ресифи можно увидеть горы кокосовых орехов. Орехи содержат в себе прохладное сладковатое молоко. Чтобы утолить жажду, длинным ножом — мачете — обрубают у ореха верхушку и пьют белую вкусную жидкость.
Он разносится из автомобиля, на котором установлены два динамика: один темным зевом смотрит вперед, другой обстреливает словами, фразами, длиннющими предложениями, перемежающимися все тем же коротеньким «греве… греве… греве…» Автомобиль двигается прямо посредине улицы, и человек, сидящий справа от шофера, что-то торопливо говорит в микрофон. Говорит, требует, угрожает. А сзади автомобиля с рупорами ползут десятки автобусов, троллейбусов и легковых машин. Автомобиль с динамиками едет все медленнее и наконец вообще останавливается, перегородив улицу поперек. Все движение замирает, образуется гигантская пробка; автобусы, автомашины истошно сигналят, но над их возмущенными руладами гремит мощный человеческий голос: «Греве!.. Греве!! Греве!!!» Люди скапливаются на мостовой, людской поток выплескивает с тротуаров и окружает автомашину. И вот уже только рупоры видны над их головами. Замолкли автобусы, а голос безвестного агитатора набирает все больше и больше силы и хлещет по людским лицам, по их барабанным перепонкам все тем же решительным словом «греве». Люди, внимательно вслушиваясь в слова, рвущиеся из динамиков, сами что-то тревожно и негодующе кричат и ловят красные листки, падающие откуда-то сверху… А из подворотни одного из домов, затягивая на ходу ремешки касок, уже идут к автомобилю пятеро высоких широкоплечих полицейских. Выставив вперед плечи, они врезаются в толпу, и через несколько минут радиоголос умолкает.
Что же происходит? Может, революция? Или реклама какого-нибудь нового лечебного препарата?.. Что же это за слово — «греве»?
— Забастовка!.. — хлопает себя по лбу Валентин. — «Греве» — это значит забастовка!
Да. Забастовка. Сегодня бастуют работники типографий, газет и служащие торговых предприятий. Они требуют улучшения условий труда, повышения заработной платы на шестьдесят процентов и удлинение оплачиваемых отпусков.
«Бастуйте все!» — призывают плакатики, пришпиленные к стенам домов. «Ты с нами, приятель?» — вопрошают листовки, шелестящие под ногами. «60 % — не меньше!» — требуют надписи, перечеркнувшие мелом рекламные объявления и двери магазинов. «Мы не можем так больше жить! Янки грабят нас! Долой ами из бразильской экономики! Дядя Сэм, прочь с бразильской земли!» — требуют белые, красные, зеленые листки.
Если же поехать в порт, то можно увидеть голубой океанский простор и расправившиеся паруса уходящего в рейс старого корабля.
Забастовка. Типографии не работают, редакционные залы газет пустуют; закрыты все магазины… Хотя нет. Не все. Один из магазинов осторожно раскрыл свои стеклянные двери. Как видно, хозяин его решился рискнуть — он сам стал за пустой прилавок в ожидании покупателей: ведь когда все остальные магазины закрыты, можно сделать большую выручку. А вот и покупатели — густая толпа хлынула к стеклянным дверям, загалдела, заволновалась возле сверкающих витрин… Но что это? Звенит стекло, блестящие брызги сыплются на тротуар. Хозяин поспешно опускает металлические жалюзи, толпа свистит, угрожает.
Машина с рупорами сворачивает в боковую улочку, полицейские, расстегивая ремешки касок, исчезают в одном из подъездов, пробка рассасывается, толпа растекается по тротуарам. А мы идем по центральной улице Ресифи, авениде Куаррапес. Идем просто так, без каких-либо определенных целей и планов. Просто идем и смотрим вокруг.
Авенида Куаррапес — широкая и красивая улица. Правда, на ней маловато зелени, но дома современные. Все они — высоченные, многоэтажные, с громадными, без переплетов окнами, облицованные цветной блестящей плиткой. Улица перескакивает мостом через реку Беберибо, который отражается в ней своей круто изогнутой аркой. На каменных перилах моста сидят дети и пожилые мужчины читают газеты и журналы. Мальчишки и девчонки стрекочут, как кузнечики, и облизывают языками дымящееся холодом мороженое. Юноши, девушки сидят спиной к прохожим. Сидят, свесив ноги над мутной водой, и, прильнув друг к другу, шепчутся о чем-то.
А рядом с влюбленными напряженно смотрят в воду заросшие щетиной, плохо одетые люди. Это краболовы. Вот один из них тянет за веревку из воды корзину, в которой лежит зловонный кусок мяса. Вцепившись в него клешнями, копошатся крупные сине-зеленые крабы. Презирая выставленные навстречу руке мощные клешни, краболов вытряхивает добычу в другую корзинку, прикрытую тряпкой, и вновь опускает снасть в реку.
И здесь же портовый мальчишка-краболов, добывающий себе и своим родным средства для существования. Он не видит ни голубого неба, ни океанского простора, ни корабля, покидающего город. Он видит лишь вязкий ил и в нем норки крабов.
Пронзительно звенит звонок, и мы пересекаем улицу; снова звонок — и поток автомобилей, застывших на мгновение, срывается с места. Машины, выстреливая в прохожих едкими дымками из глушителей, мчатся по авениде, а мы не торопясь идем по тротуару. Улица приводит нас на окраину города. Пригороды Ресифи зеленые, чистые. Рядами выстроились небольшие одноэтажные бунгало, приютившиеся под кронами пальм и других тропических деревьев. Почти вся жизнь такого бунгало на виду. Передней, фасадной стены как бы нет, ее заменяют легкие металлические решетки — жалюзи, отделяющие комнаты дома от улицы. В ветвях деревьев свистят, щебечут желтые, зеленые и синие попугайчики. Иногда стайкой они слетают с дерева на тротуар, чтобы искупаться в оставшейся там от ночного ливня луже.
С окраины в центр города возвращаемся к вечеру. Становится прохладнее; распахиваются двери сотен кафе, дансингов, баров, ресторанов. На улицу выплескивается плотная толпа ярко одетых ресифян. Над остывающим асфальтом гремят мелодии самбо, несущиеся отовсюду: из дверей баров, из раскрытых квартирных окон. Вспыхивают рекламы. Синие, зеленые, желтые огни пляшут, плещутся по стенам домов, прыгают над городом. Огненные буквы торопливо вычерчивают фразы, предложения: «Курите бразильские сигареты „Голливуд“!», «Пейте бразильский кофе!», «Лучшее вино — Мартини! Пейте только Мартини!», «Кофе! Пейте лучший в мире бразильский кофе!»
Да, говорят, что действительно бразильский кофе — самый вкусный, самый ароматный, самый крепкий кофе в мире. Всюду можно увидеть людей с маленькими чашечками в руках. Кофе… вкусный, душистый бразильский кофе. Но нам почему-то хочется не кофе, а бутылку холодного, с росой на стекле, пива… Мы заходим в бар и садимся за столик. А вслед за нами вваливается в бар веселая, шумная толпа молодежи: девушки в тельняшках, индейских головных уборах из перьев, купальниках, украшенных гирляндами цветов. Глаза юношей сверкают из-под пиратских повязок, мушкетерских шляп и картонных рыцарских шлемов. Двое парней — в императорских тогах. Бармен вежливо улыбается: да, да, он, конечно, все понимает — карнавал уже окончился, но молодежи так хочется повеселиться! Молодость, молодость!.. Бармен улыбается и нажимает на кнопку музыкальной электромашины. Бар наполняет мелодия самбо. Она мечется по тесному помещению бара, сотрясает его стены, рвется через окна и дверь на авениду Куаррапес…
В баре становится тесно. Прохожие, привлеченные музыкой и смехом, теснятся в узких проходах между столиками; мужчины и женщины становятся на цыпочки, чтобы посмотреть: собственно говоря, в чем там дело? В чем дело? Здесь танцуют! Что, задним не видно? Сейчас всем будет видно! Одна из девиц в одеянии из цветочных гирлянд сбрасывает туфли и прыгает на стол. Ее лодыжки мелькают среди бутылок, с этикетки одной из которых невозмутимо смотрит на маленькие ступни одноглазый пират с кинжалом за поясом: дескать, эка невидаль, в его время точно так же танцевали во всех кабаках приморских портов.
А бармен? Он тоже невозмутим, как одноглазый пират: стоит за стойкой и читает газету «Новое Румос», выходящую в Рио-де-Жанейро. Почти вся газета посвящена пребыванию в Бразилии советских космонавтов Николаева и Поповича.
Утомленные танцовщицы и их кавалеры допивают «белую лошадь» и рассчитываются: за вино, музыку, разбитый стакан и испорченную скатерть. Вот теперь все в порядке. До свиданья, господа. Бармен убирает осколки стекла, заменяет скатерть и подходит к нам.
— Самбо? — спрашиваю я, провожая взглядами парней и девиц, садящихся в длинные, как сигары, фыркающие автомобили.
— О но! — восклицает бармен и прижимает руки к сердцу. Потом поясняет по-английски: — Это но самбо, господа. Это черт знает что… Золотая молодежь… а самбо на столах не танцуют, о нет, господа. Самбо вы могли увидеть на карнавале. А сейчас я не могу ничего вам посоветовать… Желаете пива еще?
Нет, мы больше не желаем пива.
В баре стало тесно, душно. Пора уходить. Расплачиваясь, я с сожалением замечаю, что симпатяги парни из автобуса недодали ровно пятьсот крузейро… Жаль. Очень жаль. Нет, не денег, а того, что глазастый парень и его приятель поступили с нами нечестно.
— Вот жулики! — восклицает возмущенно Валентин. — А я им еще руки жал, разные красивые слова говорил…
— Они просто ошиблись, — убежденно говорит Николай, и мы выходим в прыгающий нервный свет реклам.
Широкая улица, проспект по-бразильски — авенида. В разных странах, в разных городах улицы имеют свой совершенно определенный облик и характер.
Мне вспоминаются вечерние улицы крупнейших немецких городов — Берлина, Лейпцига, Дрездена, Галле. По вечерам они оживленны, но оживление какое-то деловое, сдержанное. А к одиннадцати-двенадцати часам ночи улицы даже Берлина быстро пустеют; становится меньше автомобилей, прохожих, и в наступившей тишине далеко слышен стук каблучков спешащей куда-то женщины… Главная улица Гибралтара, Мэйн-стрит, кажется мне жадной, ненасытной пиявкой… В своем начале, около порта, улица шумная, многолюдная. Но чем дальше в город, прохожих на ней становится все меньше и меньше — улица-пиявка всасывает моряков и матросов в полуподвальные кабачки, где их ожидают пиво и виски. До глубокой ночи слышны на Мэйн-стрит пьяные, скандальные голоса и хриплые матросские песни на разных языках мира… Облик африканских улиц совсем иной. Они пустеют очень рано. На них тихо, как в пустыне. Лишь цикады звенят без устали, да откуда-то снизу, из-под ног, доносится до одинокого пешехода мирный сладкий храп — это спят, подстелив под себя плакаты «Посетите экзотический материк!», бездомные люди с черной кожей…
Облик вечерней бразильской авениды не похож на облик иных улиц, иных городов и стран. Чем ближе к ночи, тем гуще становится людской поток на тротуарах. Тротуары не могут вместить всех неторопливых, никуда не спешащих прохожих, и уличная толпа выплескивается на мостовую, нервируя шоферов, которые неистово наигрывают на клаксонах своих автомобилей и что-то кричат, пытаясь перекрыть своими голосами шум улицы. Но где там! Прохожие не слышат ни автомобильного вяканья, ни отчаянных выкриков шоферов, потому что над авенидой грохочут тысячами труб, тысячами барабанов и аккордеонов, стучат миллионами кастаньет сотни мелодий. Они рвутся отовсюду: из окон квартир, из карманов мужчин и сумочек женщин — все миниатюрные приемники настроены на вечернюю радиоволну ресифийского радиоцентра. А ресифийское радио по вечерам транслирует лишь мелодии самбо, перемежающиеся рекламой сигарет «Голливуд», вина «Мартини» и напитка кока-кола.
По вечерам дома Ресифи пустеют. Как бы подчиняясь чьему-то властному призыву, ресифяне оставляют свои квартиры. Пожилые люди выносят стулья, кресла и рассаживаются плотными рядами вдоль стен домов. Молодежь спешит в скверы, парки, но скамейки там заняты, и парочки рассаживаются на гранитных набережных и перилах мостов… Однако это не мешает всем чувствовать себя превосходно. И, пожалуй, любой влюбленной паре кажется, что мир крутится вокруг них, а они — в центре этого мира.
Густая толпа, музыка и разноцветный рекламный дождь, льющийся с темного неба на головы и широкие плечи негров, на прически и стройные фигурки мулаток, — вот облик улиц этого бразильского города. И характер улицы — немного легкомысленный, немного бесшабашный.
Оживленная толпа, музыка. Шумная, веселая улица… А ведь днем ее облик был иным: в полдень здесь митинговали бастующие и вместо смеха разносились над асфальтом взволнованные речи руководителей забастовки… Да, днем улица была тревожной, а сейчас дневные волнения забыты. Уж такой здесь живет народ.
Оглушенные, пришибленные беснующейся рекламой и сорвавшейся с тормозов музыкой, мы идем по улице к порту. Синие, желтые, красные, зеленые огни прыгают по лицам прохожих, выхватывая из темноты то широко раскрытые, то прижмуренные в смехе глаза.
Мужчины, женщины, негры, мулаты, белые — бразильцы, бразильцы, бразильцы… Народ в Бразилии красив. Красивы и мужчины и женщины. В этой стране произошло удивительное смешение рас… Португальцы из Европы, негры из Африки, индейцы с реки Амазонки… Да, удивительно красивы бразильцы! Правильные черты лица, матовая смуглая кожа. Гордая походка и прямой взгляд из-под мохнатых ресниц. Можно часами любоваться плечистыми высокими мужчинами и стройными худощавыми женщинами.
— Пора на судно, пора… — говорит Николай, взглянув на часы.
Уже пора. Да здесь уже и близко: вот и памятник какому-то португальскому миссионеру, вот и ворота в порт… Подходим к памятнику; около него шевелится большим многоногим животным толпа… Ну-ка, что тут происходит? Простите, амигос, что это за женщина и что это за матрос с девушкой?
Посредине толпы возвышается над всеми худощавый матрос в берете, и к его плечу жмется густоволосая девушка в полинялом платье. Она держит матроса за руку, шепчет что-то, приподнимаясь на носочках, и дергает его: уйдем отсюда, уйдем побыстрее! Но за другую руку, вцепившись в синий форменный, с золотым якорем рукав, парня держит пожилая женщина. Платок спал с ее седой головы, на кончике крупного, с небольшой мохнатой бородавкой носа дрожат очки. Женщина размахивает перед лицом матроса книжкой, на переплете которой краснеет крест, и что-то торопливо визгливым голосом говорит.
— …тернистый путь нашего учителя… спасителя… Отрекись от дьявола, сын мой… тебе… загробная жизнь… — переводит отдельные слова Валентин Брянцев.
Ах, вот в чем дело: на наших глазах происходит битва за человеческую душу, борьба добра со злом… Пожилая матрона в черном — рядовой боец Армии Спасения. В ее лице представлен на этом клочке земли у подножья бронзового памятника сам всевышний… Ну, а где же противоположная, борющаяся сторона, где дьявол? Да вот же — девушка в застиранном платье и парень с парохода.
Толпа с интересом наблюдает за бескровной битвой. Тем более, что матрос явно колеблется… Куда же идти — на вечер евангелистов или на танцы? Он то внимательно прислушивается к словам матроны и смиренным голосом объясняет ей что-то, то улыбается и косит веселым взглядом на обеспокоенное лицо девушки. Голос матроны звучит все громче. Он вязко лезет в уши и застревает там, как замазка. И просто хочется поковырять в ухе мизинцем, чтобы выколупнуть оттуда застрявшие визгливые звуки… А матрона все повышает свой голос: лицо ее как в росе, на полной шее прыгает золотое распятие. Девчонка же ничего не говорит. Она смеется, встряхивая густыми волосами, и поводит круглыми плечами… В одно из мгновений матрона гулко чихает, очки соскакивают с ее носа и повисают на черной веревочке. Матрона близоруко щурит глаза — вся толпа слилась в безликую массу. Замолкнув на полуслове, она отпускает матроса, и он с девчонкой исчезает в тени деревьев.
На судне ко мне подходит Виктор Литун. Подходит и отдает пакет. Смотрю — деньги. Считаю — пятьсот крузейро… Откуда?
— Двое парней приходили. Один высокий такой, глазастый. Говорят, что недодали сдачу в автобусе. А когда догадались, что вы русские, а не американцы, пришли в порт. И вот деньги принесли…
Спать не хочется. Слишком много впечатлений, чтобы заснуть. Виктор лежит на койке и со словарем читает «Новое Румос».
Я сижу у лампы и рассматриваю бразильские деньги. Деньги говорят о многом. Например, английские монеты очень долговечны: в Гибралтаре мы расплачивались монетами, отчеканенными еще в 1898 году! По изображениям, выбитым на монетах Сенегала, можно познакомиться с животным миром Африки: на франках изображены антилопы, слоны, львы. На одной стороне бразильских бумажных денег в овале изображен кто-либо из великих людей. На другой стороне — первые португальцы на реке Амазонке, покорение индейцев, крещение аборигенов, победа португальских войск над датчанами, вторгшимися в страну, провозглашение республики. На других бумажках — рыбацкий катамаран, несущийся по океанским волнам; крупнейший и красивейший цветок мира — виктория-регия; девушка-бразилианка с нежным красивым лицом.
Деньги в Бразилии очень красивы и очень дешевы. Курс крузейро все время колеблется, но лишь в одну сторону — по отношению к доллару он резко падает вниз.
— Вот в газете написано, — говорит мне Виктор, — что в тысяча девятьсот шестьдесят втором году автомобиль «фольксваген» стоил семьсот двадцать пять тысяч крузейро, а в тысяча девятьсот шестьдесят третьем — миллион шестьсот тысяч…
Да, нехватка валюты, рост цен, падение курса крузейро: страна находится в тяжелом экономическом положении. Кому же обязана Бразилия образованием такого критического положения в своей экономике? В первую очередь Соединенным Штатам Америки, которые в течение долгих лет высасывали из Бразилии колоссальные ценности.
И вот почему простые люди страны так ненавидят американцев.
— Что там есть в газете интересного? — спрашиваю я Жарова.
— Много интересного. Вот, пожалуйста: передовая статья газеты «Правда» — «Триумф коммунизма», опубликованная в газете от седьмого января тысяча девятьсот шестьдесят третьего года. Корреспонденция на пол-листа «Полемика в СССР о социалистическом реализме в искусстве». А вот рекламируются советские книги. На, смотри сам. Спать буду…
Я беру газеты. Один из номеров «Новое Румос» целиком посвящен нашим космонавтам, специальное приложение к газете от 21 марта 1963 года — проблемам коммунизма… В других газетах почти треть материалов посвящена социалистическим странам; тут же корреспонденции из СССР, ГДР, Польши. А вот большая реклама советских книг. «Читайте книги о Советском Союзе», — рекомендует своим читателям газета. Какие же книги она рекламирует? Это — «История СССР», «Конституция СССР», «Физическая география СССР», «700 000 километров в космосе» Г. Титова, «Советская адвокатика», произведения В. И. Ленина, М. И. Калинина.
Бразилия интересуется Советским Союзом. Бразильцам очень хочется знать, как устроено наше общество, как мы живем. Я аккуратно складываю газеты и вспоминаю тысячи улыбок, которыми встречали нас сегодня на улицах веселые ресифийцы, их крепкие пожатия и приветственные возгласы: «Вива Совьетико, вива коммуниста!» И как приятно в далекой незнакомой стране в руках рабочих видеть газеты, со страниц которых мелькают знакомые слова, не требующие перевода, названия, имена, со страниц которых смотрят на пас дорогие каждому советскому человеку лица!
На другой день около судна скрипнул тормозами зеленый автомобиль, и из него выскочил невысокий подвижной мистер Фернандо, портовый врач. Накануне он предложил нам свои услуги в качестве гида и вот сегодня приехал, чтобы показать наиболее интересные места Ресифи и его окрестностей. Быстро собравшись, мы, четверо научников и капитал, разместились и «джипе», и Фернандо погнал машину по городу. Сначала побывали на пляже.
— Посмотрите, какая красота! — взмахивает Фернандо рукой в направлении вытянувшегося на несколько миль золотого песчаного берега.
«Джип», мягко осев на рессорах, останавливается у одного из отелей, возвышающихся над кронами пальм. Песок пляжа совершенно белый и такой мелкий, будто его специально мололи. Песок поскрипывает под ногами, а мы, сбросив ботинки, спешим к грохочущему накату. Свежий соленый ветер ударяет дружески в лицо, в грудь; горьковатые капли падают па губы, и их приятно слизывать языком. Давно ли мы с моря? Да всего сутки! Но глаза наши с любовью пробегают по неспокойной, в крутых горбатых волнах поверхности океана, а ноздри с наслаждением втягивают чуть резковатый от гниющих водорослей запах моря…
Пляж почти пуст. Чуть в стороне резвится толпа голых ребятишек, гоняет резиновый мяч по песку; другая группа из ребят поменьше носится с визгом друг за другом, а потом с разбегу шлепаются животами в воду. Наверное, детский сад. Правее от ребятишек стоит под лучами солнца, подняв к синему небу лицо, молодая стройная женщина. Несколько мальчишек ловят песчаных крабов, живущих на берегу около воды. Крабы вырывают в сыром песке норки и сидят около них, внимательно оглядываясь во все стороны. Завидев человека, крабы мгновенно шмыгают каждый в свою нору и считают, что они уже в безопасности. Но не тут-то было. Мальчишки-краболовы как раз этого и ждут. Опустив на песок корзину с добычей, один из мальчуганов засовывает в нору острый металлический прут с крючком на конце и, безжалостно придавив краба ко дну норки, поддевает его железным жалом. А потом вытягивает наружу. Краб щелкает клешнями, но все это напрасно — через несколько мгновений изуродованное животное с выломанными клешнями падает в корзинку…
Народу на пляже становится больше. Появились еще какие-то мальчишки-футболисты. Соорудив из стопок одежды ворота, они с радостными воплями начинают кикать мяч. А потом появляется группа парней. И тоже с футбольным мячом. Чувствуется, что в футбол они играют неплохо: парни подолгу держат мяч в воздухе, играя с ним, как фокусники, головой, плечами, грудью, коленками, и точно бьют в сторону вратаря из различных положений. После того как Бразилия стала чемпионом мира по футболу, в стране началось массовое увлечение этим видом спорта. В футбол играют в джунглях и в городах, в детских садах и министерствах. Куда бы ни пошел — отовсюду раздаются тугие удары и азартные выкрики: проводится очередная встреча.
Узнав, что мы русские, парни бросили мяч. Сигареты «Лайка» вызвали бурю восторга — все, конечно, знают о подвиге этой отважной космической собаки. Тут же один из парней, Роберто, назвал по фамилиям всех советских космонавтов и сказал, что неделю назад прочитал книгу Германа Титова о путешествии в космос. Он тоже мечтает стать космонавтом. Но эта мечта навряд ли осуществится… Чем они сейчас занимаются? О, футбол — их самое любимое развлечение: каждый день после работы они приходят сюда с бутцами и мячом. Работа? Все работают в порту на складах кофе. Таскают мешки. Каждый мешок — полцентнера. Едкая кофейная пыль забивает ноздри, рот, легкие.
Фернандо торопит, и мы прощаемся с парнями.
Снова несемся по Ресифи. Фернандо все жмет и жмет па акселератор — день короткий, а успеть сделать нужно многое: посмотреть Олинду — древнюю столицу штата, побывать у него в гостях, а потом успеть на городской стадион. Там сегодня играет команда пожарников со сборной клубов города.
Шины автомобиля мягко шуршат по горячему асфальту, Дорога послушно бежит под колеса «джипа».
Въезжаем на одну из центральных площадей города, на которой голубой колонной из бетона, стали и стекла возвышается самое высокое здание города — «Банку Бразилейру».
На площади и прилегающих улицах все магазины открыты, и покупатели, входя в магазин, поздравляют продавцов: они победили. Правительство штата пошло навстречу трудящимся и значительно повысило им заработную плату, обязав владельцев частных магазинов сделать то же самое.
А в углу площади — трибуна и толпа. Чей-то нервный, взволнованный голос гудит среди бетонных стен небоскребов:
— Радиожурнал Респфи-Пернамбуку… — А дальше оратор произносит какие-то цифры, цифры, цифры…
— Что, опять кто-нибудь бастует?
— Нет, — смеется Фернандо, — это радиоцентр разыгрывает лотерею. Вон видите стоит новенький автомобиль «аэровиллис»? Это главный приз.
Люди с карандашиками и бумагой в руках тесно обступили трибуну, на которой быстро вращаются блестящие колеса, и вслушиваются в голос диктора.
Крутятся блестящие колеса, скачут, прыгают белые шарики с цифрами. Карие, черные глаза с надеждой всматриваются в цифры — ах, как бы хотелось выиграть этот автомобиль!..
Дома я тоже покупаю лотерейные билеты и тоже надеюсь, что выиграю автомобиль. Только не «аэровиллис», а обыкновенный «Москвич»…
На улицах — какие-то приготовления. На мостах и вдоль набережных рек развешиваются гирлянды лампочек и бумажных цветов. Заметив наши вопросительные взгляды, Фернандо поясняет:
— Сегодня день пожарника. Вечером большое гуляние.
На минуту останавливаемся около небольшого бара, напротив женского колледжа, — очень хочется пить. На стене бара белеет большой плакат, сообщающий, что 26 и 27 марта в Рио-де-Жанейро состоится конгресс солидарности стран континента с Кубой.
Когда выходим из бара, нас приветствует дружный девичий крик — все окна колледжа забпты смуглыми черноглазыми девчонками:
— Барбудос! Бородачи! Вива Куба! — кричат они, приняв нас за кубинцев…
Город остался позади. Освещенные вечерним солнцем, на нашем пути вырастают высокие зеленые холмы, и среди них — гора Олинда, с крепостью-церковью на вершине, сооруженной в 1535 году.
Город Олинда — древняя столица штата. Раньше, в период португальского владычества, она была вторым, после Сальвадора, городом страны.
Интересно происхождение названия. Говорят, что, когда первый португальский губернатор сошел на землю Бразилии, он увидел эту гору, покрытую пальмовым лесом, и воскликнул: «О, линда!» — что по-португальски означает: о, как красиво! Здесь же, на этой горе, и был сооружен первый город штата, получивший название «Олинда».
Мотор «джипа» гудит натужно, тяжело — едем в гору. Справа и слева мелькают среди пальм старинные каменные дома с характерными для испанской и португальской архитектуры балкончиками. Фернандо ловко крутит рулем и рассказывает.
Португальцы были когда-то одними из лучших мореплавателей нашей земли: всем известны имена Магеллана, Васко да Гама. В Бразилии португальцы появились первыми из европейцев. Вот на этом пляже, у подножья горы Олинда, высадились они со своих каравелл. После отчаянного сопротивления индейцы были вынуждены признать португальского короля. Три века властвовали здесь иноземцы. Лишь в 1822 году Бразилия освободилась от Португалии. Однако проходит еще более полустолетия, прежде чем Португалия признала свое поражение в Бразилии.
Все выше и выше карабкается автомобиль. Улочки каменные, узкие. На первом этаже окон нет; окна на втором — узкие, как бойницы. В этих каменных щелях гремели когда-то выстрелы, звенели мечи и копья о стальные латы, свистели оперенные стрелы и гулко бухали португальские аркебузы, начиненные свинцом.
Вот и вершина горы; каменный крест — памятник всем, кто погиб на этом холме, кто сложил здесь свои головы.
Сверху открывается океан с силуэтами теплоходов, залитый огнями город Ресифи, и кругом него — горбатые холмы, похожие на заснувших диковинных животных…
А за нашими спинами из раскрытых дверей монастыря раздаются торжественные аккорды органа и стройные высокие женские голоса. Мы подходим ближе: идет вечерняя служба. Из последних рядов полутемного, освещенного лишь свечами храма глядят на нас из-под белых накидок любопытные черные глаза. Христовы сестры перешептываются, улыбаются. Потом откуда-то из глубины рокочущего величественным гимном помещения выплывает черная, как грачиха, желтолицая монахиня с поджатыми губами. Она окидывает нас недружелюбным взглядом и закрывает тяжелые резные двери. Звуки затухают. Они доносятся до нас, как из глухого, мрачного подземелья.
Садимся в машину и проезжаем мимо высоких резных дверей. На мгновение я представляю себе, как там, за дверями, душно и жарко, какие унылые лица у нарисованных на стеках святых… И становится очень жаль тех, которые нам только что украдкой улыбались, а теперь, наверное, уставившись глазами в гранитный, выщербленный веками пол, выводят тонкими голосами мелодию очередной молитвы.
Машина скатывается с холма и мчится в наступившей темноте к Ресифи.
А вот и дом Фернандо.
Мы поднимаемся на второй этаж, где нас встречает жена доктора — миловидная молодая итальянка Джузеппина. Фернандо ведет нас на открытую веранду и рассказывает, что совсем недавно вот на этих же стульях сидели американские ученые и коллеги-доктора с крупного научно-исследовательского судна. Сначала все было хорошо, но потом, после пятой бутылки джина, один из ами захотел танцевать с Джузеппиной рок-н-ролл. Та отказалась, и американский коллега обозвал ее, а заодно и Фернандо цветными свиньями. Доктору ничего не оставалось делать, как прервать «приятную» беседу и попросить «коллег» покинуть дом.
3а разговорами время летит с космической скоростью.
Фернандо смотрит на часы и, вскрикнув, вскакивает:
— Ведь мы опаздываем на футбол! Скорее!
Подхватив пиджаки, мы скатываемся с лестницы и прыгаем на сиденья воющего от нетерпения автомобиля. «Джип» срывается с места и, пронзив темноту фарами, с бешеной скоростью обгоняя автобусы и автомобили, мчится к Ресифи… Улицы, ведущие к стадиону, все забиты транспортом, и мы петляем по каким-то закоулкам, пробираясь к стадиону в объезд. Наконец — стоп, дальше пути нет. Бросив «джип» в глухом переулке, мы спешим проходным двором к стадиону. Фернандо куда-то убегает, а мы минут десять ждем его, зябко ежась от неистового рева, несущегося с трибун. Наконец появляется Фернандо. Он не один — вместе с ним коллега-врач, работающий на стадионе. Через боковой вход мы проникаем на стадион и долго, наступая на чьи-то ноги и падая на чужие колени, пробираемся на свои места. Втиснувшись между Фернандо и полным мужчиной, который размахивает над головой пиджаком и дудит в медную трубу, я растерянно осматриваюсь: внизу — освещенный прожектором прямоугольник футбольного поля с мечущимися игроками, а кругом — тысячи разинутых, извергающих отчаянные вопли ртов… Я вспоминаю финальный матч на кубок СССР по футболу в Лужниках и усмехаюсь: московские болельщики — молочные котята по сравнению с бразильскими любителями футбола. Труба соседа верещит на самых высоких нотах — центральный нападающий пожарников с изображением пылающего факела на спине, оставив позади всех защитников команды соперников, мчится к чужим воротам. В них нервничает длинноногий, одетый в черный свитер вратарь. Он мечется от стойки к стойке, сбрасывает с головы шапочку, что-то отчаянно кричит срывающимся голосом и наконец, присев и вытянув вперед руки, замирает посредине ворот. На мгновение стадион замирает, а потом взрывается с силой водородной бомбы: пожарник приближался к воротам соперников со скоростью спасающейся от голодного льва антилопы. Его ноги мелькали с такой частотой, что буквально исчезали из глаз. Вот это бег! Вот это рывок! Ворота противников уже близко… еще секунда, другая и… бах! Вратарь вместе с мячом влетел в сетку и остался там лежать, закрыв в отчаянии лицо руками. Дружный рев всколыхнул, казалось, сами небеса… И если там, как утверждают некоторые, есть рай, то святые в этот момент наверняка грохнулись в обморок. Все вскочили с мест, завизжали, завыли, захрапели трубы, затрещали трещотки, закрякали резиновые клаксоны. В темное небо взлетели шляпы, трости, пиджаки. Уже мяч поставили на середину поля, уже он взлетел под самые небеса, но болельщики сборной клубов никак не могут простить гола, который, по их мнению, забит из положения вне игры. Игроки сборной, жаждущие расплаты, ринулись в ответную атаку. На несколько минут стадион затих. Он лишь тяжело дышал, набираясь сил перед новым всплеском страстей. И вот игрок сборной грубо сбит, и судья ставит мяч на одиннадцатиметровую отметку. Удар! Мяч, выброшенный будто баллистой, а не ногой человека, просвистев в воздухе, влетает в ворота и бьется, словно рыба, в сетке… В то же мгновение сотни болельщиков, бросаются с трибун на поле… На стадионе творится что-то невообразимое: шторм достиг ураганной силы. Доктор Фернандо кивает нам головой — пожалуй, лучше уйти. Да, пожалуй, он прав — дольше находиться на стадионе небезопасно.
Фу… наконец-то выбрались; вот и «джип». Нам пора на судно. Вскоре мы выезжаем на авениду Куаррапес и застреваем в автомобильной пробке: посредине улицы, с оркестром, в ярко блестящих черных шлемах шествуют герои дня — отряды пожарников. Потом в небо взлетают разноцветные огни фейерверка, загорается иллюминация, а у моста, над темной водой реки Беберибо, вспыхивает ярким пламенем специально отстроенный для праздника дом. Звучит сигнал тревоги, пожарники приставляют к стенам дома лестницы, как кошки, карабкаются по ним и орудуют короткими топорами с ловкостью и силой хорошо натренированных пиратов, идущих на абордаж. Нет, пожар погасить не удалось. Дом сгорел дотла. Но это нисколько не испортило настроения жизнерадостным пожарникам: еще громче заиграли оркестры. Начались танцы.
— Нам уже пора, — торопим мы Фернандо.
— Сейчас самое веселье начнется! Пожарники с моста в воду будут бросаться, а потом… — уговаривает тот.
— Нет, мы очень устали, да и не хочется опаздывать из увольнения.
Вот и припортовая улица. На ней сегодня тихо — все в центре города. Тихо. Лишь по тротуару шаркают швабрами уборщики, собирая в кучи уличный мусор.
Последний день нашей стоянки в порту можно назвать днем встреч. Ранним утром на судно пришел со своим миловидным секретарем, Иванеттой, известный ресифийский адвокат Кловзен Мело. В Ресифи его зовут красным адвокатом. Красным потому, что он ведет в основном дела рабочих и безработных; он защищает интересы простого народа. Мело сообщает нам, что после успешной забастовки торговых служащих хорошо обстоят дела и у газетчиков: в это время они ведут переговоры с представителями местных правительственных кругов. Затем разговор переходит на другую тему, и адвокат говорит, что сейчас на судно придет интереснейший человек.
— Да вон и он! — прерывает себя Мело. — Хеллоу, Кампелло, идите сюда!
На палубу судна легко прыгает высокий седеющий, с симпатичным мужественным лицом человек. В его движениях, взгляде очень внимательных глаз чувствуется большая энергия и собранность.
— Это Кампелло, корреспондент «Коммершл джорнэл», друг Энрико Гальвао… Помните португальского революционера Гальвао, захватившего со своими друзьями океанский лайнер «Санта-Мария»?
Энрико Гальвао? Знаменитый рейс «Санта-Марии»? Как же не помнить! В шестьдесят первом году мы на СРТР «Орехово» ловили рыбу в Гвинейском заливе и пристально следили за сообщениями из Москвы о мятежном корабле. И теперь живой участник этих событий стоит перед нами.
Мы уже направляемся с Кампелло в каюту, чтобы поговорить при помощи словаря, как на пирсе появляются еще два не совсем обычных посетителя. Один, еще крепкий, но совершенно седой мужчина, вобрав в себя выпуклый живот, откашливается и приятным грудным голосом затягивает: «Очи черные, очи страстные»… Очи? При чем здесь очи? И что это за старики? Эти люди — русские.
— Дорогие соотечественники! — говорит густым басом певец. — Нас в Ресифи всего трое: я — Борис Барсуков, Костя Крючкин и Жора Полетаев. Костя сейчас в джунглях, а мы вот двое пришли… Давай, Жора.
Жора, сутулый старик с безволосой, будто кегельный шар, головой, широко разевает беззубый рот и дребезжащим голосом затягивает: «… не поехать ли нам к „Яру“, разгулять шампанским кровь…» Второй подхватывает песню, и, взявшись за руки, оба певца осторожно сходят на палубу… Оба они приехали в Бразилию еще в пятнадцатом году из Западной Белоруссии. Ехали, наслышавшись, что Южная Америка — это рай. Рай показался им адом: осушали болота, в которых кишели змеи и аллигаторы; валили, съедаемые гнусом, лес; работали на кофейных плантациях, орошая кофейные кусты своим соленым потом… Трудно, было, но привыкли, женились на бразилианках, обзавелись семьями.
— А водочка у вас есть? Русская, хоть рюмка… и кусок русского черного хлеба? — неожиданно прерывает свой рассказ Борис Барсуков.
Трудно отказать в таком желании бывшему соотечественнику, и мы вместе с Кампелло идем в каюту. Здесь Кампелло рассказывает, а Барсуков, с наслаждением вдыхая запах черного хлеба, переводит его рассказ.
…Португальский лайнер «Санта-Мария», курсирующий на океанской линии Лисабон — Ла-Гуайра (Венесуэла) — Курасао — Майами — Лисабон, совершая свой очередной рейс, прибыл в двадцатых числах января 1961 года в Венесуэлу. На судне было тысяча сто шестьдесят пассажиров. В Ла-Гуайра на борт «Санта-Марии» поднялось всего несколько человек с небольшими тяжелыми чемоданчиками в руках. Новые пассажиры почти все были молодыми крепкими парнями с решительными лицами. Лишь один из них пожилой мужчина. Он высоко держал голову, в его походке чувствовалась выправка военного человека. Это был Энрико Гальвао, португальский революционер, бывший генерал-губернатор португальской колонии в Африке — Анголы, политический беженец, разыскиваемый португальской тайной полицией.
Пассажирами на «Санта-Марии» были в основном туристы — американцы, испанцы, итальянцы, французы. Люди обеспеченные. В море их погнала скука и жажда приключений.
В Венесуэле судно простояло несколько суток. За это время туристы совершили увлекательные поездки в южноамериканские джунгли на собственных автомобилях, которые путешествовали вместе с хозяевами во вместительных трюмах лайнера. А как только судно отвалило от стенки, переполненные впечатлениями, шумные, говорливые люди поспешили в рестораны, бары, дансинги лайнера.
В десять часов вечера на теплоходе начался грандиозный костюмированный бал: в одном из громадных залов собрались почти все пассажиры. Гремела музыка, звенели стаканы, хлопали в потолок пробки, и пенное шампанское тугой струей било в хрустальные фужеры.
Все было обычно: бал, смех, танцы — ведь для этого и отправлялись в дальнюю морскую прогулку состоятельные буржуа. Все было обычно: в штурманской рубке ходил от иллюминатора к иллюминатору, по временам заглядывая в экран радиолокатора, изящный, в сверкающей белизной рубашке вахтенный штурман; точно выполнял его команды вахтенный рулевой; дежурил на радиостанции радист, а в машинном отделении чутко вслушивались в гулкий ритм механического сердца вахтенные механики.
«Санта-Мария» шла в темноте курсом на Майами со скоростью двадцать одна миля в час. Все было рассчитано до минут и секунд: теплоход никогда не опаздывал. Фирма неукоснительно и твердо держала свою марку.
Все как обычно. Обычные пассажиры, обычный рейс. Так думал капитан лайнера, так считали офицеры судна и сами пассажиры.
В первом часу ночи в каюте, которую занимал седеющий пассажир с выправкой военного, состоялось не совсем обычное свидание не совсем обычных пассажиров. Среди собравшихся не было женщин. И не было вина — одни твердые, трезвые взгляды. Поминутно открывалась дверь, и в каюту осторожно проскальзывала тень с чемоданчиком в крепкой руке. Тень… еще одна. Еще… восемнадцать… двадцать… двадцать три.
Седеющий мужчина взглянул на часы: где же последний? Не случилось ли что? Распахнулась дверь, и вошел, сдержанно кивнув головой присутствующим, последний — двадцать четвертый.
— Все в сборе… — облегченно вздохнул Гальвао. Вздохнул и, убрав часы, поднялся из кресла. — Друзья, сегодня судно должно быть в наших руках… Приход революционного теплохода в Луанду послужит сигналом к всеобщему восстанию в многострадальной Анголе. Мы выступаем.
На уточнение деталей операции ушло совсем немного времени, всего полчаса: план атаки и состав штурмовых групп — все было спланировано заранее. В то время, когда Гальвао с группой заговорщиков дожидался прихода судна в Венесуэлу, другая, большая часть революционеров была в составе 1163 пассажиров. В течение всего рейса через океан они изучили судно, чтобы в нужную минуту не запутаться среди многочисленных переходов, палуб, трапов и кают, чтобы быстро и точно выйти к намеченным объектам.
Защелкали замки чемоданов — в них была форма и оружие: короткие автоматы, крупнокалиберные пистолеты, гранаты… Быстро бегут минуты, но и люди не мешкают: уже надеты зеленые куртки, черные береты, брюки с большими карманами, в которых легко умещаются пистолеты и запасные обоймы. В руках автоматы, на рукавах отличительные красно-зеленые повязки…
В час сорок пять минут, разделившись на три группы, люди Гальвао покидают каюту и, прижимаясь к стенам, пугая притаившиеся в укромных уголках парочки, направляются в штурманскую рубку и радиостанцию. В машинное отделение спускаются шесть человек, возглавляемых помощником Гальвао, судовым инженером по образованию, Пайве.
В ходовой рубке и на верхней, прогулочной палубе уже загрохотали выстрелы. Кто-то из машинной команды остановил двигатель и выключил свет: теплоход погрузился в темноту и, пройдя милю по инерции, закачался на волнах, подставляя свой белый корпус сильному ветру…
Увидев людей с автоматами, вахтенный штурман выхватил из стола в ходовой рубке пистолет и выстрелил. В то же мгновение, раненный автоматной пулей, он упал около гирокомпаса… Через несколько минут штурман очнулся, шатаясь выбрался из рубки, бросился в капитанскую каюту. Капитан «Санта-Марии», Марио Симонис Майа, торопливо застегивая крючки кителя, распахнул дверь, и на порог каюты упал мертвый, залитый кровью человек. Капитан не успел достать даже пистолета — люди Гальвао, бежавшие вслед за штурманом, уже наставили на него автоматы. Капитан, покорно отдав им свое оружие, вернулся в каюту…
Сам Гальвао, возглавивший группу по захвату радиостанции, ворвавшись в радиорубку, приставил пистолет к виску радиста, который, поняв, что на судне творится что-то неладное, включил радиопередатчик. Но вместо сигнала тревоги он, косясь глазами на вороненый ствол, чуть вздрагивающий около его головы, радировал в Майами и в Лисабон представителям фирмы: «Связи неисправностями двигателя судно задерживается тчк Принимаем срочные меры устранению поломки…»
Наверху гремели выстрелы, и по палубам стучали ботинки бегущих людей, а внизу, в машинном отделении, Пайве, загнав в угол механиков, торопливо разбирался в сложном оборудовании… В первую очередь — свет, скорее свет! Большинство пассажиров еще ничего не знают, но когда испуганные темнотой и выстрелами люди ринутся из всех помещений на палубы, их ничем не остановишь. Даже автоматами. Они сметут заговорщиков и сами передавят друг друга, бросившись к спасательным шлюпкам… Пайве, лихорадочно покусывая губы, ходил от двигателя к двигателю, но с таким сложным устройством ему раньше сталкиваться не приходилось. Но вот один из механиков кашлянул, и, когда Пайве взглянул на него, тот, стараясь не привлекать внимания товарищей, мигнул на один из электрогенераторов. Через несколько секунд вспыхнул свет, а спустя минут десять главный двигатель тяжело, неохотно вздохнул, а потом мерно и покорно застучал громадными поршнями. «Санта-Мария» вздрогнула, и винты вспенили воду. Но теперь путь ее был не на север, в Майами, а на восток…
Ночь прошла в тревоге. На верхних палубах, прижав к бедрам автоматы, застыли парни в беретах. Люди Гальвао дежурили в рубке, на радиостанции и в машинном отделении, и котором Пайве горячо убеждал механиков помочь ему. И вскоре он нашел таких людей: несколько человек стали к управлению механизмами.
Утром 21 января 1961 года Гальвао обратился по радио ко всему насчитывающему 400 человек экипажу теплохода, пытаясь склонить его на свою сторону. Часть моряков откликнулась на призыв и стала выполнять указания революционеров. После этого Гальвао сообщил пассажирам о событиях прошедшей ночи и под страхом смерти потребовал полного подчинения…
Некоторые из любителей приключений думали, что все это — и стрельба и непонятные призывы — продолжение вчерашнего маскарада.
Но суровый вид людей с оружием в руках был достаточно внушителен, и пассажиры забились в свои каюты, проклиная и туризм, и «Санта-Марию», и бал, под шум которого люди Гальвао штурмовали судно…
После ночной схватки на лайнере оказалось шестеро раненых. В том числе и судовой врач, который минут двадцать отстреливался из своей каюты. Встал вопрос — что делать? Пожертвовать людьми, но зато на некоторое время держать в заблуждении фирму, а самим уйти подальше, в открытый океан? Нет, так поступать нельзя. И Гальвао прокладывает курс к острову Сент-Люсия, в группе Малых Антильских островов. Когда с теплохода на рейде сгружали в лодки раненых, уже через час почти весь мир знал о том, что произошло двое суток назад в Карибском море на португальском пассажирском теплоходе. Местные корреспонденты неплохо заработали в тот день на удивительных корреспонденциях: двадцать четыре человека захватили в свои руки громадный лайнер и полторы тысячи человек, находящихся на борту «Санта-Марии».
В тот же день в погоню за мятежным кораблем бросились по просьбе португальского правительства американские скоростные эсминцы, базирующиеся в Пуэрто-Рико, а в воздух поднялись самолеты. Погоня! Как охотничьи собаки, еще не учуявшие след, рыскали серые эсминцы по океану. В радиорубках радисты не отходили от приемников, дожидаясь сообщений от шнырявших под облаками самолетов.
На «Сайта-Марии» знали, что за ними будут гнаться военные корабли.
Спустившись в машинное отделение, Гальвао приказал Пайве выжать из двигателей все, что можно. А в штурманской рубке он начертил на карте курс судна — галсами, вдоль Бразильского побережья… Все время меняя направление, в течение четырех суток лайнер ускользал от погони. Но на пятые сутки над его мачтами пронесся с воем американский самолет. Сделав несколько снимков, самолет засек местоположение теплохода и улетел. На другой день в американских газетах появились фотографии — по океану, разрезая острым форштевнем воду, мчится красавец теплоход. Но вместо замалеванного на носу названия «Санта-Мария» на рубке красуется далеко видимая надпись «Сайта-Либердаде». Так приказал Гальвао переименовать теплоход…
В тот же день судно настигли эсминцы и приказали застопорить машины. На это Гальвао радировал: «Если кто попробует меня остановить, я потоплю теплоход… Дорогу „Санта-Либердаде“!» И эсминцы пропустили мятежный корабль…
Быстро летело время. Гальвао мерил шагами каюту, хмурился, грыз кончик карандаша. Что делать? Люди устали, не спят ни днем ни ночью… Среди пассажиров и команды — подозрительное волнение, переговоры. Всю эту ораву нужно поить, кормить. А если они замыслили что-то недоброе: ведь есть же и среди пассажиров храбрые люди! Стоит кому-нибудь из них овладеть хоть одним-двумя автоматами — и положение на теплоходе станет критическим… Следить, следить за ними надо, глаз не спускать… Но глаз-то, глаз на полторы тысячи озлобленных, недовольных людей не хватает. Остается одно — от пассажиров и большей части команды необходимо срочно избавиться. А там — в Анголу! Да, избавиться. Но где? Высадить их в Бразилии? Крупный бразильский порт Балем уже совсем рядом. Но как их встретят бразильские власти? Нет, в Бразилию нельзя. Как же быть? Ведь на рейде такую массу людей не высадишь в лодки — наверняка будут жертвы…
Постучали в дверь, вошел Пайве и протянул Гальвао радиограмму: «Бразилии произошла смена правительства. Президентом стал Жоао Гуларт…»
— Это мой друг, — облегченно вздохнул Гальвао, — он примет нас. Курс — на Ресифи…
В Ресифи «Санта-Марию» ожидали 900 корреспондентов, кинооператоров и фотографов, съехавшихся в Бразилию со всех концов земли. Среди них был и Кампелло, который знал Гальвао и раньше. И не только знал его, а выполнял многие ответственные поручения. В том числе ездил в Конго и в одной из пограничных деревень встречался с руководителями ангольских повстанцев. Вот почему он на специальном судне вышел навстречу «Санта-Марии» и через сутки был на борту мятежного корабля. У Кампелло, как и у всех тех двадцати четырех, был в руке тяжелый чемоданчик: впереди предстоял сложный и опасный путь в Анголу…
В Ресифи «Санта-Мария» прибыла 2 февраля 1961 года. Пассажиры покинули борт судна, сошла на берег и часть экипажа. Однако судно не вышло в Анголу: португальское правительство предугадало намерение Гальвао — у берегов Анголы уже дожидались «Санта-Марию» военные корабли. И революционеры вынуждены были отказаться от своих намерений. На пятые сутки двадцать пять мужчин в беретах и с красно-зелеными повязками на рукавах покинули теплоход…
Восстание на теплоходе послужило сигналом к усилению борьбы ангольских патриотов против португальских колонизаторов… И здесь, в Бразилии, мы внимательно следим, как по другую сторону океана, в Анголе, разгорается пламя освободительной войны. И мы верим — победа не за горами! — заканчивает рассказ Кампелло.
Мы выходим на залитую солнцем палубу. Двадцать пятого революционера хорошо знают в Ресифи — портовые рабочие, толпящиеся на пирсе, приветственно машут ему рукой. Он торопится в редакцию, и мы с Николаем провожаем Кампеллу до авениды Куаррапес. Провожаем журналиста, друга Энрико Гальвао, и прощаемся с городом, с Ресифи — сегодня «Олекма» покидает Бразилию. Проходим в последний раз через площадь к «Банку Бразилейру», где все так же стоит никем не выигранный автомобиль «аэровиллис»; мимо многочисленных магазинов, из-за прилавков которых нам приветственно кивают головой продавцы; мимо полицейских, настороженно осматривающих наши фигуры из-под белых шлемов; мимо памятника двум отчаянным парням-летчикам, совершившим в 1927 году беспосадочный перелет Лиссабон — Ресифи. Напротив памятника под густым деревом громоздится гора кокосовых орехов. Мы отдаем последние крузейро и здесь же, надрубив орехи острым мачете, пьем сладковатую холодную жидкость. Вот теперь и все: прощай, бразильский город Ресифи! Прощай!..
На обратном пути в порт, у дома командующего военно-морскими силами в Ресифи, наблюдаем интересную церемонию — военные моряки приветствуют посетившего их министра сельского хозяйства Бразилии.
Моряки одеты в ослепительно белую форму. На голове у них лихо торчат острыми краями вперед пилотки особой формы, смуглые руки сжимают тяжелые винтовки. Министр — полный седой мужчина — поздравляет от имени правительства моряков с победой: эсминцы «Санта-Пара» и «Пернамбуку» отогнали от берегов страны французскую эскадру, которая пришла из Европы, чтобы освободить арестованных французских ловцов лангустов.
Выслушав речь, моряки проходят мимо министра стройными колоннами: лица парней горды и строги. Конечно, боя не было, но надо обладать настоящим мужеством и отвагой, чтобы на этих старых, плохо вооруженных стальных калошах выйти против современных боевых кораблей французского флота.
На судне все готово к отходу: провожающие стоят на пирсе, звучат последние слова приветствий.
— Со швартовых сниматься… — командует капитан, и теплоход медленно отваливает от стенки.
Люди на берегу машут руками. В каютах гремит бразильское самбо «Прощание»: «Когда пароход покидает берег, одним он везет радость и веселье, другим оставляет грустные воспоминания…» И хотя наше судно никому веселья не везет, и хотя на этом берегу по нему особенно никто скучать не будет, но всем нам в этот момент очень грустно.
Прощаясь с Бразилией в тот солнечный весенний день, мы и не подозревали, что в стране зреет заговор военных, что страна стоит на пороге трагических событий.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Тропическая экзотика. Несколько слов о коках. Происшествие в Фарерской бухте. Сейбл. Остров Святого Павла. Олуши и крабы. Необыкновенный обыкновенный тунец. Знаменитый профессор и протоптерусы. Рыб ловят… лопатами.
Океан встретил нас неприветливо — крупной, валкой волной и одуряющей, под тридцать пять градусов жарой. Океан словно злился, что, изменив ему, мы трое суток провели на земле.
Поэтому, как только «Олекма» выскользнула из портовых ворот, океан налетел на теплоход и толкнул его сначала в левый, потом в правый борт. И так толкает нас уже третьи сутки. Океан волнуется, трясет своей фиолетовой шкурой под днищем «Олекмы», а солнце нещадно палит. Воздух такой горячий, что, врываясь в легкие, он обжигает, высушивает их. От него в гортани и груди першит, будто туда насыпали толченого красного перцу…
И вдобавок мухи. Миллионы мерзких злых тварей налетело в последний день стоянки в Ресифи в каюты, коридоры, в салон и на камбуз теплохода. Наверно, мухам чертовски надоело мотаться по ресифийским помойкам, и они решили немного проветриться, глотнуть морского воздуха. Густыми гудящими тучами мухи носятся по всему теплоходу, толпами лезут на камбуз, чтобы выяснить, что сегодня будет на обед; десятками ползают по штурманским картам и картушке компаса, чтобы узнать: а куда мы держим путь? Мухи чувствуют себя как дома. Они обнаглели и не дают никому и нигде ни минуты покоя.
Но хозяева судна все-таки мы. Вечером, когда переполненные впечатлениями от первого дня морского путешествия мухи, забившись в укромные щели, засыпают, мы собираемся на палубе и решаем, как их уничтожить.
Рефрижераторный механик, наш профорг Коля Яковлев, предлагает провести газовую атаку: задраить все судно и внутри его открыть баллон с аммиаком. Коля гарантирует, что за полчаса все мухи будут лежать лапками кверху. Но есть опасения, что лапки могут поднять и олекмийцы, — аммиак выветривается плохо. От газовой атаки отказались и решили бить мух обыкновенной подметкой.
На другой день по судну раздавались резкие, как пистолетные выстрелы, удары. Начался, как выразился боцман, «варфоломеевский день» для мух. Мы с Николаем, привязав к палке кусок резины, сделали обыкновенные хлопалки. Там, где мы проходили, мушиные трупы буквально усыпали палубу. Стармех стреляет мух резинкой от трусов, а Саня, механик, гоняет их по каюте и коридору полотенцем. Саня утверждает, что муха долго в воздухе держаться не может — от перенапряжения сил и отчаяния у нее разрывается сердце, и она валится па палубу замертво.
К вечеру мух на «Олекме» стало меньше. На другой день к вечеру пошел дождь, температура сразу же упала на десять градусов, и мухи совсем исчезли.
Кажется, холодно ли, когда красная жилка термометра показывает плюс двадцать пять? Оказывается, холодно. Привыкнув к постоянной жаре в тридцать — тридцать два градуса и задыхаясь при тридцати пяти, мы буквально дрожали и синели, когда красная жилка увядала до плюс двадцати пяти, а боцман и матрос Вася Носов простудились и слегли с высокой температурой.
Да и мы чувствовали себя отвратительно: тяжелая голова, которую нельзя резко повернуть, потому что в виски тотчас впиваются острые иглы, боль в суставах и глазах. Влажность ужасная — все белье мокрое, хоть выжимай.
Работать в таких условиях тяжело. Но что поделаешь? Тропики! Знали куда, в какие условия шли работать. Знали и поэтому не жаловались друг другу, а глотали пачками норсульфазол, старались не делать головой резких движений, работали на станциях, ставили ярусы. А когда ложились спать, то с надеждой думали о завтрашнем дне — может, завтра выскочим из полосы ливней и душного клочковатого тумана, который, будто стеклянная вата, забивает нам легкие.
Но прошла почти неделя, прежде чем мы закончили работать в «Гнилом углу». Так прозвали матросы неуютное, сырое местечко в океане к северо-востоку от южноамериканского материка.
И снова солнце. Жарко, но жара умеренная — плюс тридцать. Такая температура в открытом океане переносится легко, мы уже привыкли к ней.
Жарко и сухо. Свежий ветер разгуливает хозяином по каютам и выветривает, изгоняет остатки сырости, клочки тумана, осевшие на переборках зеленоватой плесенью. Люди повеселели: прошли все болезни, недомогания и матросы работают, перебрасываясь шуточками.
Придерживаясь руками за планшир, вышел из каюты Петрович, раскачиваясь, прошелся по палубе и тяжело опустился на люк. Он похудел, осунулся, но в светлых глазах уже сверкают огоньки. Привычным хозяйским взглядом он окидывает палубу, надстройки. Потом глаза его надолго останавливаются на ярко-оранжевых рыбьих балыках, подвешенных на ветерке с правого борта, под мостиком.
— Созрели уже? — спрашивает он кока, который стругает рубанком доску.
— Готовы, — с радостью отвечает тот.
Мы облегченно вздыхаем: раз Петрович заговорил о еде, значит, дело пошло на поправку. А ведь он был очень плох, и капитан уже с тревогой размышлял — не идти ли в ближайший порт?
Отрезав боцману кусок сочащегося янтарным жиром тунцового балыка, кок опять берется за рубанок: во время болезни Петровича он исполнял кое-какие мелкие боцманские работы.
Строгает кок, как будто играет с инструментом, легко, непринужденно. Рубанок уютно чувствует себя в больших, сильных руках, удовлетворенно покряхтывает и легко снимает сухие душистые стружки. Они шуршащими спиралями падают на палубу, кок наступает на них голыми ногами и, прикусив сосредоточенно губу, нежно поглядывает на доску…
Я любуюсь работой кока и вспоминаю его кислое, брезгливое выражение лица, когда он стоит на камбузе и, подцепив большущим черпаком борщ, сморщившись от презрения к себе и к этому борщу, пробует, вытягивая вперед губы, бордовое варево… Морщится потому, что знает: уже обед, а борщ, наверное, как всегда, недопрел или пересолен. И опять кто-нибудь из команды будет недоволен, и опять кто-нибудь, возмущенно постукивая ложкой о миску, будет говорить, да так, чтобы было слышно на камбузе: «Ну и варево, черт бы его побрал!.. А вот в прошлом рейсе плавал я на „Острове“, так вот там был кок так кок!.. Шеф-повар из ресторана… Готовил — за уши не оттянешь! Работа была зверская, а на берег пришли — словно поросята…» И вечером, вместо того чтобы отдыхать, кок читает толстую книгу о вкусной и здоровой пище. Листает страницы, вглядывается воспаленными от горячей плиты глазами в мудреные рецепты новых блюд и, слюнявя карандаш, делает какие-то расчеты. Кок не лентяй. Он старается. Он встает на судне раньше всех и, добросовестно подчиняясь рецептам, готовит все новые и новые блюда. Но опять почему-то оладьи получаются твердыми и черными, а пирог, словно замазка, залепляет рот, намертво склеивает челюсти.
Да, непонятная это штука — кулинария!.. То ли дело— рубанок! От чистенькой доски, обработанной умелыми руками, глаз не оторвешь…
Как бы уловив мои мысли, Иван Петрович отрывается от работы, смахивает с лица капли пота и, разминая пальцами ласково шуршащие стружки, говорит мне:
— Я запах свежих стружек люблю больше, чем запах самой лучшей отбивной… — Погладив рукой доску, он добавляет: — Понимаешь, Николаич, я раньше столяром был. Топор и рубанок из рук не выпускал. А потом захотелось в море, захотелось дальние страны повидать. Бросил все и пошел на камбуз: с коками всегда в пароходстве плохо, ну и поверили мне — думал, чего там! Плеснул воды, кинул крупы, и порядок. А ведь не кок, столяр я…
Ах вот в чем дело! Кок-столяр. Ну что ж, в море всякое бывает. В одном из рейсов я плавал с коком-часовщиком, в другом — с коком-парикмахером. Кок-часовщик кормил команду одними консервами и блюдом, под интригующим названием «шукрат», — варевом из картошки, капусты и макарон.
Все свободное время кок-часовщик сидел на корме и, воткнув в глаз лупу, ковырялся во внутренностях наших часов. С тех пор, вот уже третий год, часы мои то уходят вперед на десять минут в сутки, то отстают. И тоже на десять минут. Главное — часы уже никто не берется ремонтировать…
Во время плавания с коком-парикмахером от щей пахло тройным одеколоном, а мы ходили подстриженные «под бокс».
На палубу выходит камбузный матрос Аркадий и многозначительно смотрит на Ивана Петровича. Тот с сожалением убирает инструмент, счищает за борт стружку и спешит на камбуз, где его дожидаются дышащие паром щи и чавкающие кипящей кашей кастрюльки.
Как когда-то, в начале рейса, судовое радио приглашает всех членов научной группы собраться у капитана.
— Заходите, рассаживайтесь, — приглашает Валентин Николаевич, доставая из шкафчика холодные бутылки с кока-кола. — Давайте, Виктор Леонтьевич, коротенько о проделанной работе…
На столе — та же карта Атлантического океана, только теперь ее голубое поле исчерчено линиями, помечено кружочками, квадратами с цифрами станций и красными черточками ярусов, поставленных нами в океанских просторах.
— Итак, коротко о том, что мы сделали за прошедшие два месяца… Во-первых, трансатлантический разрез, представляющий большой интерес для науки. Затем, изучены воды океана с восточной стороны Бразилии. Общая длина разрезов семь тысяч восемьсот километров, на которых произведено более ста морских научно-исследовательских станций. Собрано большое количество проб; поставлено около двух десятков ярусов. На основании собранного материала вот эти участки океана в широтах… — Жаров назвал долготу и широту, его карандаш очертил на карте сплюснутые окружности, — в этих широтах можно вести промышленный лов крупных океанских рыб: марлинов, голубых и белых, а также — в виде прилова — золотистую макрель и акул.
Он на минуту умолк, хлебнул из стакана и взглянул на капитана. Тот кивнул головой. Жаров продолжил:
— Что нам предстоит дальше? После захода в Ресифи, как вы знаете, мы начали вторую программу наших обследований западно-экваториальной части Атлантики. Нам предстоит сделать разрезы протяженностью в семь-восемь тысяч километров вдоль северо-восточной части Южной Америки: около Бразилии, Суринама, Французской и Британской Гвианы. Ну и соответственно — станции, ярусы. Затем, после захода в Парамарибо или Джорджтаун, мы проведем в Карибском море третью часть наших исследований. Вот и все. А там — домой…
— Как со временем — в срок уложимся?
— Пока из графика не выбиваемся.
— Ну что ж, отлично… Завтра утром поднимайтесь пораньше — будем проходить вблизи острова Святого Павла, — говорит капитан, ткнув пальцем в черную точку на карте.
Остров Святого Павла, принадлежащий Бразилии, — груда рыжих скал, торчащих из океана. Находится он вдалеке от проторенных морских путей, и поэтому на земле совсем немного людей, видевших остров своими глазами. Островок, единственными обитателями которого являются птицы да крабы, настолько мал, что его очень трудно найти в океанских просторах даже при очень большом желании. Суда, побывавшие около острова, можно пересчитать по пальцам. Среди них — корабль «Бигль», на котором плавал знаменитый ученый Чарлз Дарвин. Увидим ли мы этот остров? Но поиски и остров — завтра, а в этот вечер мы собираемся в лаборатории и вспоминаем разные истории про острова. Валентину Брянцеву часто приходилось работать у Фарерских островов, на севере Атлантики. Проходить судну в этом районе довольно сложно. Но если зайти к островам с подветренной стороны, то в глубоких тихих бухтах можно спрятаться от урагана, выждать, когда иссякнет его буйная сила. Природа там суровая и величественная: голые аспидно-черные скалы, вылезающие отвесными базальтовыми кручами из такой же черной воды. Со скал с шумом и плеском обрушиваются в спокойную воду шхер белые водопады. На островах обитает множество одичавших баранов. О них Валентин говорит особенно охотно. Может быть, потому, что, когда их старая ржавая калоша пряталась в одной из бухт от шторма, молодой, любопытный баран засмотрелся на траулер и сильнейший порыв ветра, гуляющий в острых вершинах, сдул его со скалы в воду… Вахтенный штурман крикнул: «Баран за бортом!» — и сыграл водяную тревогу. Матросы с неимоверной быстротой, понимая, что каждая секунда промедления грозит гибелью несчастному животному, спустили за борт шлюпку и с такой яростью налегли на весла, что лодка не плыла, а летела по бухте. Вот и утопающий: баран уже нахлебался воды и не блеял, а лишь кряхтел и заглядывал благодарными глупыми бараньими глазами в озабоченные лица своих спасителей.
Акулы. Эти мерзкие хищники вредили нам в течение всего рейса. Они выедали рыбу вместе с кусками трала, набрасывались на тунцов, попавшихся на крючки, и рвали живых рыб в клочья. На снимке слева один из тунцов, побывавших в акульих зубах.
Но акулы и сами часто попадались на крючки. И среди других — вот такая удивительная рыбина с плоской широкой головой, за форму которой акула получила название «молот-рыба». Глаза у нее расположены по бокам головы, а серпообразный рот с тремястами зубами— снизу. На фотографии (внизу) автор книги с акулой-молот.
Коля Хлыстов вспоминает про остров Сейбл. Остров находится у побережья Канады. Интересен Сейбл и опасен тем, что он… передвигается. Сложен остров из мелкого песка с ракушечником и летом покрыт изумрудной травой. С той стороны, что ближе к берегу, остров омывают воды течения Гольфстрим. Они размывают берег с запада и переносят песок на восточную сторону. И остров постепенно перемещается. Ученые считают, что со временем остров Сейбл вообще исчезнет: мощное течение смоет его с мелководья в океанскую глубину…
Затем разговор возвращается к острову Святого Павла, или, как его именуют бразильцы, Сан Паулу. Найдем мы его или нет?
— Боюсь, что нет, — немного помолчав, убежденно говорит Жаров. — Год назад здесь работали паши суда «Оскол» и «Остров». Однако на том месте, где должен был быть этот Святой Павел, ставили ярусы…
Очень хочется увидеть заброшенный в просторах океана кусочек каменистой земли, и я не соглашаюсь с ним. Немного поспорив и решив, что утро вечера мудренее, мы расходимся по каютам.
На другой день поднялись рано. Прекрасная видимость обнадеживала — тем теплоходам, о которых говорилось выше, приходилось искать остров во время тропических ливней. Точно определить свое местонахождение в океане было трудно.
— По моим расчетам, через час-полтора подвалим к острову, — говорит старпом и кивает головой на руку. — Вот часы на сигнал поставил. Как задребезжат, так и увидим те таинственные камни.
Почти все собрались на верхнем мостике. Бинокли нетерпеливо шарят по горизонту: ну где же он? Неужели проскочим?
— Вижу! — неожиданно раздается голос дяди Вити из ходовой рубки. — До него еще десять миль!
Дядя Витя смотрит в океан через экран радиолокатора. И там, на зеленоватом поле, виднеется несколько темных точек — остров.
А мы еще целый час дожидаемся, пока на руке Виктора Литуна задребезжит сигнал. Как только он прозвучал, мы увидели гряду темных скал, одетых в воротник белого прибоя.
Тишина. Почти штиль. Глубина вокруг острова четыре-пять тысяч метров, поэтому подходим к острову почти вплотную. Скалы его залиты сверху донизу белым птичьим пометом. А вот и первые обитатели острова — над судном закружились птицы. Они удивленно не то хрипло крякают, не то каркают и рассматривают нас желтыми глазами. Одна из них, олуша, полетав немного и покрякав, облила верхний мостик зловонной белой струей, а потом как ни в чем не бывало уселась на клотике фок-мачты. Такого прощать нельзя! Коля Яковлев вскарабкался по мачте, схватил птицу за ее оранжевую перепончатую, как у утки, лапу… Ну и галдеж же подняли остальные олуши!.. Они летали над палубой теплохода, на которой сидела, очумело ворочая во все стороны тонкой шеей, наша пленница, и отчаянно кричали. По-видимому, на острове любопытная птица оставила свое гнездо, и птиц просто выводила из себя ее легкомысленность. Немного придя в себя, олуша разбежалась и, тряхнув на прощание своим коротким, грязным хвостом, взлетела.
А над островом черно от взметнувшихся в небо птичьих тел. Ветерок со Святого Павла доносит до нас тошнотворный запах помета и гниющей рыбы. Скалы покрыты таким толстым слоем гуано, что им бы можно было удобрить многие тысячи гектаров земли. Это очень цепное удобрение, в нем содержится много минеральных веществ. Разработки гуано ведутся на многих островах Тихого и Индийского океанов. Пытались вывозить удобрения и с этого острова. Однако предприниматели были вынуждены отказаться от этой затеи — остров находится слишком далеко от материка и не имеет бухт, в которых можно было бы грузить гуано… Так гуано и осталось миллионным капиталом, брошенным посреди океана…
Между прочим, из-за тысяч птиц, обитающих на острове, бразильское правительство не смогло построить здесь небольшой автоматический маяк — птицы буквально заливали постройку своим пометом. И сейчас лишь маленькая часть недостроенного маяка торчит из-под толстого слоя гуано.
В бинокль хорошо видны скалы с узенькими карнизами, на которых сидят птицы. Они то срываются группами в воду в поисках рыбы, то возвращаются на скалы к своим гнездам — отвоеванным друг у друга маленьким площадкам. На них лежат по одному, по два зеленоватых каплеобразных яйца: один конец тупой, а другой очень острый. Такое яйцо, если даже его подталкивать, не свалится вниз, в пропасть, оно будет крутиться па одном месте.
Бинокль опускается вниз, к подножью скал, на торчащие из воды камни. Но что это? Глаза, что ли, устали? Кажется, будто камни шевелятся… Нет, дело не в глазах — камни действительно шевелятся! Но только не сами камни, а тысячи коричневато-зеленых большущих крабов… Сильная волна пенным шлепком сбрасывает крабов прочь с камня. Но стоит ей схлынуть, как на обломок скалы со всех сторон карабкаются сотни плоских глазастых существ. Более крупные отталкивают, щиплют своими клешнями слабых, мелких крабов и занимают самые лучшие места — в центре камня, где больше солнца и тише волна. Но крабы не только нежат под лучами солнца закованные в панцири тела. Они зорко следят за птицами. Вот одна из них уронила в воду рыбу — тотчас крабы дождем сыплются с камня вниз. Надо полагать, что сейчас там, в глубине, произойдет короткая схватка из-за нежного рыбьего мяса. Через несколько минут от рыбы ничего не остается: сильные крабьи челюсти-жевала пережуют все — мясо, кости, плавники, чешую и жабры… Кроме крабов, у острова много и раков-лангустов. Во французской лоции сказано, что их можно добывать здесь при помощи обыкновенной палки с гвоздем…
— Такую снасть можно сделать запросто, — говорит Петрович, внимательно и настойчиво вглядываясь в каменное капитанское лицо.
Мы поддерживаем боцмана — действительно, всего час-другой, и набьем полную лодку раков, наловим крабов, а я сделаю фотографии птичьего царства. Ведь вон там есть маленькая бухточка — как раз для нашей лодки. Час-другой, но зато сколько впечатлений!
— Яешню можно превосходную заделать, — вставляет свое замечание кок, — говорят, яйца диких уток очень питательны.
— Нет тут уток, — решительно возражает капитан, — а яичницу ты все равно пережаришь или пересолишь… Штурман, полный вперед!
Не соблазнили мы капитана ни лангустами, ни яичницей. «Олекма» ложится на левый борт, и вот остров уже исчезает за кормой, а мы, поскрипывая зубами от разочарования, расходимся по рабочим местам. Разрешения на посещение острова у нас нет…
Ну что ж, прощай, Святой Павел! Разошлись наши дорожки и навряд ли сойдутся еще когда-нибудь.
Медленно, неторопливо потекли однообразные душные трудовые дни: утром, днем и глубокой ночью — станции, через день, а то и каждый день — ярусы. Ребята научились быстро и сноровисто управляться с гигантским переметом, и теперь на постановку и выборку яруса уходит в два раза меньше времени, чем в начале рейса. Вот и сейчас ярусоподъемная машина вытягивает из воды мокрую хребтину, поводцы, поплавки…
Бригадир с вечной сигаретой в зубах стоит на помосте. Одной рукой он держит рычаг, регулируя скорость вращения шкивов на ярусоподъемнике, другой подправляет хребтину. Рядом Владик Терехов. Чуть щуря светлые, немного близорукие глаза, он укладывает хребтину в ящике. Он, как всегда, с открытой головой и без рубашки. Широкие плечи его и сильная спина гимнаста окрасились в светло-шоколадный цвет, а волосы на голове стали совершенно белыми. Владик давно соорудил себе деревянную кровать и спит под открытым небом. Спит даже тогда, когда с низких лохматых туч сыплет мелкий, въедливый дождь, — закаляется.
У борта, встав на специальную скамеечку, коплает, то есть скручивает поводцы, худощавый молчаливый Вася Носов. На голове его повязан носовой платок, а на груди синеет татуировка: «В любви счастья нет». Однако все матросы считают, что Васька самый счастливый: накануне выхода в рейс он женился на симпатичной бойкой девчонке и получает каждую неделю от нее по две-три радиограммы. Получив от радиста белые, испещренные нежными словами, он забирается куда-нибудь подальше от шума и вчитывается в текст очередной радиограммы. А потом смотрит в воду и улыбается своим, наверное, очень хорошим мыслям…
Вместе с Васей скручивает поводцы матрос первого класса Володя Пузыня. Он фотограф и делает с помощью «Киева» превосходные снимки.
— Кадр нужно суметь поймать. Чтобы в снимке содержание было… — любит говорить он, когда показывает свои фотография: безработных, валяющихся под крючковатым деревом у портовых ворот Дакара, самодовольную физиономию гибралтарского полицейского, занявшего позицию около матросского кабачка «Без руля и без ветрил», тонкую фигурку бразилианки, танцующей самбо…
«Ловец кадров» плавал раньше штурманом. Но что-то сделал не так, и послали его в рейс простым матросом. Но это не отразилось на характере Володи. Он посмеивается и скручивает поводцы. И среди команды считается одним из наиболее трудолюбивых парней. В свободное время, вместо того чтобы поспать лишний часок, Пузыня сидит в штурманской рубке над картами или ловит в вечернем небе секстантом звезды, решая сложные астрономические задачи.
Буйки и вешки подхватывают из воды два дружка, два Витьки — Виктор Герасимов и Виктор Ломакин. Второго, в отличие от первого, зовут еще Санчо. Оба Виктора — крепкие, мускулистые парни. Они похожи друг на друга. Может, потому, что всегда работают с какой-то особенной приподнятостью. Все у них получается быстро, хорошо.
По вечерам Герасимов запоем читает, а Санчо ломает голову над алгебраическими примерами, готовится в рыбопромышленный техникум. За его плечами десять классов. Но этого, конечно, маловато — техникум, техникум нужно кончать, а там и об институте можно будет подумать. На политзанятиях Санчо всегда задает массу сложных, интересных вопросов, а Витька, его дружок, обычно дремлет где-нибудь в сторонке или же листает книги.
От сильнейшего рывка хребтина сорвалась с роликов машины, туго натянулась и густо, басовито загудела.
— Стоп машина! — закричал Яков Павлович. — Ярус порвем!..
Штурман метнулся к телеграфу. Внизу, в утробе теплохода, тревожно звякнул звонок, и судно замедлило свой бег, остановилось…
— Что там у тебя? — спросил капитан, выглянув из рубки.
— А черт его знает… Рыбина какая-то здоровенная зацепилась. Ишь тащит… будто трактор… — Бригадир свешивается за борт.
В прозрачную воду вертикально уходит хребтина, а там, внизу, крутится что-то очень большое, серебристо-голубое.
— Марлин, наверное, — небрежным тоном говорит бригадир.
Крупные марлины были для нас уже не в диковинку. Сейчас подтянем, приподнимем его голову над водой, а потом всем скопом осилим, вытянем на палубу. Только и всего.
Жаров тоже смотрит в воду. Смотрит внимательно, пристально, а затем радостно и немного испуганно вскрикивает:
— Ребята, так это же тунец!
Тунец? Такой громадный? Только бы не упустить!
Тунцы, как правило, оказывают сильное сопротивление. Поэтому в голосе Жарова вместе с радостью звучали испуганные нотки: рванется рыбина как следует — и тю-тю! Только ее и видели!
Багры крепко стиснуты в руках — только бы не упустить, только бы он не сорвался.
— Давай, Петрович, давай, родной, подтаскивай поближе… стоп! Ну и рыбка!
— Обыкновенный тунец, — возбужденно говорит Жаров. — Воздуха, воздуха дайте ему глотнуть!
«Обыкновенный» — так называется один из видов тунцов. «Обыкновенный»! Вот так обыкновенный: из воды показывается громадная голова с широко открытой пастью и тяжеленное, массивное тело. Оно содрогается от усилий, рыба напрягает свои мускулы, но, как видно, тунец очень долго бился на крючке: он почти не сопротивляется, а лишь широко раскрывает жаберные крышки и вращает громадными глазами, в которых отражаются наклонившиеся над ним матросы. Уже все багры впились в тело, в жабры и пасть рыбы. В страшном усилии вздулись мускулы, покраснели от натуги лица парней, пот мелкими каплями оросил плечи, спины…
— В воду прыгну, если упустим! — грозится Жаров. — А ну, ребята, взяли! Еще раз!.. Еще!..
Но нет, не взять руками такую рыбку: не под силу. Тут нужна техника. Володя Пузыня ловко накидывает на тунцовую голову канат, Петрович становится у лебедки, включает ее, рыба, чуть трепеща плавниками, выползает из воды и плюхается на палубу своим грузным телом. Несколько минут рыба как-то вяло бьет метровым хвостом по палубному настилу, а потом затихает…
— Ах ты, слоненочек!.. — ласково говорит Жаров, звонко похлопывая тунца по тугому боку.
Я понимаю радость Жарова — ведь наша экспедиция тунцеловная, а пока мы ловили только марлинов да макрелей. И вот наконец первая ласточка почти в полтонны весом!
— Теперь дело пойдет, — возбужденно говорит Жаров, липкими от рыбьей слизи руками выуживая из пачки сигарету, — пойдет дело…
Он оказался прав. Через полчаса около первого обыкновенного тунца забился второй, затем третий, четвертый… И все здоровяки. Отличный улов! Промысловики со своим более длинным ярусом смогли бы взять здесь многие тонны ценнейшей рыбы. И они будут брать ее. Только крючки следует сделать покрепче: когда мы выбрали всю снасть, то обнаружили около двух десятков разогнувшихся крючков. Если бы не эта беда, то двадцать таких же рыбин-слонят могли оказаться на палубе нашей «Олекмы».
Этот день для нас был радостным: после нескольких посредственных по улову ярусов мы наконец нашли в океане район, представляющий большой интерес для промышленников. Мы не случайно натолкнулись на тунцов, а именно нашли их — еще накануне, склонившись над картами температур, течений и химических характеристик этого места, Хлыстов и Брянцев заявили: здесь должны быть богатые скопления рыбы. И вот они — красавцы тунцы, известные у всех рыбаков мира под названием «курица с плавниками». Такое название рыбам дали за исключительно вкусное и нежное мясо.
Боцман с матросами, радостно чертыхаясь, ворочают на палубе тяжелые туши, разделывают их и отправляют в морозильную камеру.
Обыкновенные тунцы… Вот где нашли мы их! В тропиках обычно встречаются тунцы желтоперый, большеглазый, длинноперый, пятнистый и полосатый. Самые крупные из них — большеглазые, достигающие веса в 100–150 килограммов. Обыкновенные же тунцы предпочитают более холодные, северные воды Атлантики. Они великаны среди тунцов. Иногда попадаются рыбки весом 600–700 килограммов!
Поймать двух-трех таких рыбий значительно интереснее, нежели, предположим, двадцать—тридцать тунцов желтоперых или полосатых. Поэтому некоторые рыболовные фирмы, в частности шведские и норвежские, предпочитают обыкновенных тунцов всем остальным видам.
В Северном, Норвежском и Ирландском морях, па мелководных банках у побережья Канады тунцы подплывают к рыболовным судам во время выборки сельди. Не боясь людей, они выедают объячеившуюся сельдь вместе с сетями. По-видимому, некоторые из тунцов, так же как корифены в Гвинейском заливе, кормятся у рыбацких судов и держатся около них, дожидаясь выборки сетей. Нередко рыбакам удается ловить их, бросая в воду селедку, насаженную на большие крючки. Но делать это надо осторожно.
Однажды один из сотрудников нашего института чуть сам не попался тунцу. Когда рыба весом килограммов в триста клюнула и потянула капроновый шнур, рыболов в азарте намотал конец снасти себе на ладонь и потянул тунца на палубу. Но силы были далеко не равные — тунец рванул так, что наш уважаемый ученый шлепнулся на скользкие от рыбьей слизи доски. Тунец ушел в воду и потащил рыбака к борту… Все замерли — еще мгновение и… В этот момент большой узел, завязанный на шнуре, попал в расщелину и затормозил стремительный бег взбесившейся рыбины. В следующее мгновение шнур, выдерживающий тонну мертвого груза, лопнул, как нитка…
Но как же все-таки ловят обыкновенных тунцов? Только ли на ярус? Нет. Норвежцы и шведы добывают этих сильных тяжелых рыб при помощи электрических удочек. Лишь только тунец хватает наживку — включается ток, мгновенно парализующий рыбу. Не теряя ни секунды, очумевшего тунца затаскивают на палубу и отсекают ему голову. Если же рыболовы зазевались и рыба пришла в себя, то она ударами хвоста способна разнести в щенки маленькие деревянные боты рыболовов. Лов обыкновенных тунцов сопряжен с серьезной опасностью. Но люди в надежде на заработок идут на риск.
В поисках пищи обыкновенные тунцы совершают переходы в несколько тысяч миль. Бывает, что, рыская по океану в поисках пищи, тунцы надолго задерживаются в том районе океана, где находят обильное питание. По-видимому, один из таких кормовых районов мы и обнаружили… В последующие дни уловы были такими же добычливыми. На крючках бились обыкновенные тунцы.
Удачный улов воодушевил людей. По вечерам все стали собираться на палубе. Возобновился захиревший судовой шахматный чемпионат. Лучшими шахматистами на судне оказались Пузыня и Валентин Николаевич. Из научников неплохо играют Виктор и Николай. Это два старых соперника, сыгравших друг с другом сотни матчей в различных морях, заливах и проливах земного шара. Оба они и в жизни и в шахматах совершенно различные люди. Хлыстов — быстрый, порывистый, Жаров — неторопливый, внимательный. Хлыстов играет в бешеном темпе. Играет легко и непринужденно, а переставляя фигуры, стучит ими об доску так, что сотрясается деревянная голова у короля противника. Во время игры Николай любит распевать песни и делать каверзные ходы: подсовывает слабые фигуры, а когда торжествующий противник берет их, то оказывается — это ловушка. Тут же Хлыстов переходит в наступление и шахует жаровского короля…
В отличие от Николая, Виктор играет очень осторожно. И, прежде чем пойти, то протягивает к фигуре руку, то убирает ее. Наконец берет фигуру, ставит ее с упором, как будто ввинчивая в клетку, и, не отрывая от нее руки, еще раз окидывает настороженным взглядом все шахматное поле. При этом он всегда говорит:
— Ну-с… что же делать дальше?
— Сдаваться, — отвечает Николай и, громыхнув своей фигурой по доске, делает очередной каверзный ход.
…А на палубе в это время, в самом ее центре, у носового трюма, ярко краснеют огоньки папирос и слышны голоса: матросы рассказывают друг другу разные морские истории. Когда все истории и происшествия иссякают, вспоминают профессора, с которым команда плавала в предыдущем рейсе. Впечатлениями о нем обычно делился Петрович.
— До чего же хороший мужчина был… — задумчиво начинает боцман, — вежливый, обходительный. Если когда и ругался, то потом всегда «простите» говорил. Кушал так, что смотреть приятно: пару мисок борща хлобыстнет, а потом еще второе, косточку погрызет и баночку литровую компотику выпьет… Но уж работает — страшно смотреть: в пять часов уже на ногах. Сидит себе, что-то под нос напевает и ножичком в рыбьих животах ковыряется. Четырнадцать, пятнадцать часов за столом с рыбами высиживал. А тралы — так всю рыбу руками перещупает! И только нас подгоняет: давай траление, еще, еще, еще… Всю команду загонял! Очень работящий мужчина был, очень…
— Рыб ему в мешочке там подарили, в Дакаре… — замечает кто-то из тьмы.
— Да, рыб… Две штуки. Это ему знаменитый профессор Кодена, тот, что определители рыб тропиков составляет, подарочек преподнес. В шелковом мешочке… Так рыбки в том мешочке до самого Калининграда и маялись. На иллюминаторе висели…
Живые рыбы в мешочке? Загнул, наверное, боцман! Но нет, боцман говорит чистейшую правду: привез профессор из далекой знойной Африки в прохладный туманный Калининград двух рыб. И не в аквариуме, а именно в шелковом мешочке.
Обычно рыб ловят удочкой или сетями. А этих рыб, о которых сейчас пойдет речь, добывают… лопатой. Да, самой обыкновенной. И не из воды, а выкапывают, будто картошку, из земли. Что же это за рыбы, обитающие в земле, словно черви? Называются они протоптерусами. Живут во многих африканских реках, плавают, ловят мелких рыбешек, лягушек, червей и другую живность. Но вот наступает засуха, реки мелеют и, наконец, совсем пересыхают. Все живые обитатели мутной воды гибнут. А протоптерусы? Высыхают вместе с водой? Нет. Они закапываются в сырой ил, сворачиваются клубком и засыпают. Не на день, не на два, а на весь период засухи, длящийся почти три месяца. Кожа протоптеруса выделяет особую слизь, которая, смешавшись с илом, образует вокруг рыбы нечто вроде твердого кокона. Но сон рыб не всегда бывает спокойным — жители ближайших к речке деревень берут лопаты и идут на пересохшую речку. Они раскапывают потрескавшуюся от зноя землю и вынимают из сухого ила тяжелые шары-коконы с протоптерусами. Дома их хранят в прохладном месте, впрок.
Захочется свежей рыбки — принесет хозяйка в дом кокон, расколет, как куриное яйцо, и бросит извивающуюся рыбину на сковородку…
Ну, а если протоптерус удачно избежит этой неприятности, то, как только на истосковавшуюся по влаге землю упадут тропические ливни, река вновь наполняется водой, кокон намокает и разваливается. Рыба выплывает и начинает охотиться: за время длительного поста она очень изголодалась и теперь рыскает в речке в поиске добычи…
Вот таких-то двух рыб и подарил советскому ученому Александру Николаевичу Пробатову французский профессор Кодена. Подарок очень оригинальный и дорогой — такие рыбы в СССР есть лишь в Московском зоопарке. Два месяца раскачивался шелковый мешочек около иллюминатора. А когда судно пришло в родной порт, Александр Николаевич налил в аквариум воду и опустил в нее илистые коконы. Земля набухла, рассыпалась, и рыбы выплыли; вылупились, словно цыплята, из илистых яиц. Выплыли и набросились друг на друга: протоптерусы — хищники и когда голодны, то пожирают более слабых, себе же подобных рыб. Пришлось их рассадить в разные аквариумы и срочно позаботиться о питании: накормить жирными неповоротливыми лягушками. Теперь злые протоптерусы живут в аквариуме Калининградского зоопарка. Живут, плавают в аквариуме и, наверно, удивляются — отчего же не пересыхает река?
Постепенно голоса на палубе смолкают. Наконец и боцман, тяжело вздохнув — может, оттого, что слушатели разошлись, или потому, что с берега, из дому, давно нет радиограмм, — тоже уходит.
Судно, чуть раскачиваясь, бежит по лунной дорожке навстречу луне. Где-то над мачтами нежно и таинственно попискивают не земными, а морскими голосами невидимые птицы. Иногда они налетают на фонари ходовых огней и разбиваются насмерть.
Отправляемся по каютам и мы. Уже поздно, и завтра рано вставать, но спать что-то не хочется. Сначала мы лежим молча и смотрим в открытый иллюминатор, в котором раскачивается черно-бархатное небо в россыпи крупных дрожащих звезд. Потом вспоминаем институт, наших общих друзей. Где-то они сейчас? Что делают? Сидят ли в институтских кабинетах и пишут отчеты о прошедших рейсах, составляют ли прогнозы на уловы рыбы или, как и мы, бороздят воды Атлантического океана? Конечно, одни корпят над научными трудами в кабинетах, а других, как и нас сейчас, раскачивают волны океана. Так уж всегда: одни на берегу, другие в море…
— Серега Кудерский где-то у Кейптауна, — говорит Виктор, — а потом они пойдут в Индийский океан.
— Рем Берников — в Гвинейском заливе… А Карасев уже, наверное, возвращается домой… Они работали у Багамских островов. Интересно, нашли они рыбу или нет?
— Рыбу? Конечно, нашли… — Над моей головой запищали пружины.
Сейчас мой сосед повернется на другой бок и, наверное, заснет. А я еще полежу вот так, с открытыми глазами. Подумаю о друзьях, об институте.
Я люблю свой институт. Здесь работают энергичные люди, пропахшие соленым морским ветром и свежей рыбой. Люди очень интересные, много повидавшие, побывавшие в далеких страдах, знающие, что такое ураганы, жажда и тяжелый рыбацкий труд.
В институте много лабораторий. Очень важных, нужных. В них за плотно прикрытыми дверями сидят серьезные люди в белых халатах. Ученые… Лаборатории, лаборатории… В одних создаются новые орудия лова рыбы, в других совершенствуются, изобретаются поисковые приборы, чертятся карты, составляются промысловые атласы, пособия для рыбаков, изготовляются новые виды продуктов из рыбы.
Но главная лаборатория нашего института — море, океан. Здесь, в океанских просторах, испытываются новые приборы, новые орудия лова, созданные в институте; здесь, в океане, мы ищем и находим рыбу для нашей страны.
И когда я думаю об институте, то представляю себе океан. Жизнь, работа — моя и моих друзей — связаны с этой синей беспокойной громадиной. Я провожаю в океан друзей; я жду их возвращения из очередного рейса. Или сам ухожу далеко и надолго… А иногда в открытом океане, в этой удивительной природной лаборатории, происходят прекрасные волнующие встречи: кто-то идет домой, в порт, а кто-то уходит от родных берегов все дальше и дальше. Навстречу трудностям, навстречу новым открытиям…
— Слушай, гаси свет, — раздается недовольный голос Виктора, — совесть надо иметь…
Щелкает выключатель. В каюте становится темно.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Ритмы Гвианы. Тунцы рвут ярус. Рыбы летят на палубу. Корзины на фок-мачте. Бычий глаз и свистулька. Владелец костяного панциря. Креветки. Осьминог. Акулы идут в атаку. Подводные санитары. Вода поет.
В иллюминаторе капитанской каюты — синее небо и ярко-синий океан. Только здесь, в тропиках, можно увидеть такую густую водную синеву. Только здесь, под жарким южным небом, природа находит в своей палитре такую необыкновенную, синюю, удивительно синюю краску. Находит и щедро, не жалея, расходует ее…
Океан сегодня тих и спокоен. Несколько дней он бушевал. А теперь — отдыхает. И, как отдыхающий после тяжелой работы человек, легко и спокойно дышит пологой, неторопливой зыбью. Она подкатывается под судно с левого борта, лениво шлепнув его в шершавый от наросших за рейс ракушек и водорослей борт, проскальзывает под килем и мчится в сторону Южной Америки, а теплоход вежливо клонится ей вслед, словно прощается.
Тихо, Прохладно. Да, здесь, в районе Гвианы, выдаются иногда изумительные дни: солнечные, с небольшим ветерком и прохладные, с температурой в двадцать семь, двадцать восемь градусов.
Когда «Олекма» подходит ближе к материку, в бинокль видна неровная полоска земли, как бы отрезанная от океана белой ниточкой пенистых волн, а дальше — фиолетовые, горбатые взгорья.
Это — Южная Америка. С неделю мы шли мимо покрытых лесами холмов. Там, на материке, расположены одна за другой три латиноамериканские страны, три Гвианы — Французская, Нидерландская, Британская. Мы не знаем, что представляет из себя каждая страна, но различаем любую из них по мелодиям, несущимся с незнакомого берега.
Лишь только смолкли сочные запоминающиеся ритмы самбо и гостеприимная веселая Бразилия исчезла в знойной дымке по левому борту «Олекмы», как эфир наполнился раскатистой, чуть картавой французской речью и песнями с повторением чуть ли не в каждой слов «амур» и «Пари»… «Любовь» и «Париж» — это работает радиостанция города Кайенны, столицы Французской Гвианы, колонии Франции в Южной Америке. Потом замолкла Кайенна, и на смену картавым дикторам и певцам вступили в эфир голландцы. Их язык и песни очень напоминают немецкий язык и немецкие сентиментальные песенки. Транслирует свою музыкальную программу главный город Суринама — Парамарибо. А вот и англичане. Бравурная английская музыка, рокот джазов забивают, подавляют лирические голландские напевы. Теперь чуть не в каждой песенке упоминается имя Джонни… Но вот и знакомые мелодии: песни из американского кинофильма «Серенада солнечной долины», итальянские «Романтика» и «Чао, бамбино»… А это? Мы все четверо были в лаборатории, когда из динамика раздалась удивительно знакомая, наша, русская мелодия. Брянцев прошипел: «Тише!»—и поднял указательный палец. Но мы уже и без Валькиного предостережения застыли, замерли: над «Олекмой» разносилась песня «Подмосковные вечера»… И у нас был вечер. Солнце уже клонилось к горизонту, океан полыхал алым пламенем. Над водой с усталыми криками летели чайки. На горизонте чернела полоска чужой земли. Оттуда доносился до нас влажный терпкий запах тропического леса. Оттуда примчалась к нам прекрасная мелодия, как необычный, неожиданный привет далекой Родины. В эфире — радиостанция города Джорджтауна, столицы Британской Гвианы.
Вскоре нам предстоит заход в Джорджтаун. И мы познакомимся с мужественным свободолюбивым народом. Мы будем первыми русскими рыбаками, посетившими маленькую экзотическую страну, расположенную на севере Южной Америки.
А пока мы продолжаем наши работы: делаем станции, ставим ярусы, измеряем, взвешиваем рыб и копаемся в их внутренностях. Определяем, чем питалась рыба, когда нерестилась, какова ее упитанность.
Вот и сейчас судно лежит в дрейфе — через час начнется выборка яруса. Через час загудит ярусоподъемник и потащит на палубу мокрую хребтину с поводцами, на которых бьются тунцы и акулы. Через час… А пока я сижу в капитанской каюте и Валентин Николаевич, попыхивая сигаретой, рассказывает о себе…
Океан. Он был всегда рядом, у самого подножия сопки, на которой стоял их дом. Если подняться повыше, то глазам открывалась бескрайняя тихоокеанская ширь и просторная, в окружении лесистых сопок Авачинская бухта. Туда, в океан, на промысел камбалы и селедки уходили рыбацкие суда. Уходили и, прощаясь с городом, протяжно гудели: «До встречи, друзья! Мы скоро вернемся!» Много пар глаз из окон небольших домов Петропавловска-Камчатского провожали серые коробочки, спешащие в открытый океан: возвращайтесь побыстрее! И суда возвращались. Один за другим СРТ, грузно осев в воде от улова, обшарпанные, с помятыми боками, уходили в бухту, затем в мелководный ковш, где находились причалы, и радостно, весело вскрикивали: вот мы и дома! А некоторые СРТ не вскрикивали, а хрипели — как видно, сильно простыли… Но и в их сиплом хрипении слышалось все то же — вот мы и вернулись. Но случалось, что суда не возвращались. Ведь Тихий океан не такой уж тихий. И на гулкий пирс не сбегали обветренные бородатые рыбаки, и жены не бросались в их объятия.
Петропавловск-Камчатский хорошо знаком и мне. На далекой Камчатке я проработал семь лет. Я знаю этот замечательный город, в котором почти каждый третий мужчина — моряк или рыбак. Там трудно не стать рыбаком: океан рядом и он манит людей. В городе кричат над асфальтом чайки, пахнет солью и гниющими водорослями. Там на улицах стоят памятники в честь Беринга, знаменитого мореплавателя Лаперуза и капитана Кларка, командира корабля, на котором плавал легендарный Кук. Там, на сопке Любви, возвышается обелиск в честь русских моряков, разгромивших два века назад англо-французскую эскадру, а пригород Петропавловска носит название «Сероглазка» в память отважной сероглазой девчонки, подносившей во время битвы с чужестранцами патроны русским солдатам, засевшим на сопке. Там, посунувшись в воду острым носом, стоит на мертвом якоре теплоход «Теодор Нетте», воспетый Владимиром Маяковским.
В этом городе прошло детство Валентина Николаевича. Четырнадцатилетним мальчишкой он нанялся юнгой на старый, дряхлый пароход и вот уже двадцать лет в море. Юнга, матрос, затем после окончания Петропавловского мореходного училища — третий штурман, второй. Потом — старпом, и, наконец, ему доверяют теплоход. Он становится капитаном. Десять лет водит рыбацкие суда по морям, по океанам…
— Когда первый раз тонул, нахлебался здорово, — говорит Валентин Николаевич. — Поклялся — если спасусь, никогда больше в море не пойду… А потом опять тонул и опять клялся. Ну, а на берегу заноет, засосет в груди — быть без моря? Трудно… И спешишь, торопишься в контору: «Братцы, не могу! В море хочу…»
Да. Вот так: без моря уже трудно представить свою жизнь.
Во многих морях-океанах побывал Лутошкин. Но особенно хорошо знает Атлантику. Он «облазал» Атлантический океан от туманных холодных вод Гренландии, где серыми призраками плавают исполинские, дышащие морозом ледяные горы — айсберги, до знаменитых «ревущих» сороковых широт Южного полушария, в которых вечно штормит и ветер без устали ревет, воет.
Валентин Николаевич — один из старейших капитанов нашего институтского флота, хотя сам он еще очень молод: ему едва перевалило за тридцать лет.
Пуская синий дымок в иллюминатор, капитан рассказывает, а я гляжу на карту и представляю себе путь советских рыболовных и научно-поисковых судов из самого западного порта нашей страны, Калининграда, путь в неизведанные широты… Сначала рыбаки осваивали теплые рыбные заливы Вислинскин и Куршский. Потом — походы за салакой и треской в Балтийское море. Освоившись с его строптивым, неуживчивым характером, калининградские рыбаки минуют датские проливы и выходят в Северное море на знаменитую скоплениями сельди Доггер-банку.
— Тяжело тогда было, — говорит, задумчиво поглядывая в иллюминатор, Валентин Николаевич, — очень тяжело: оборудование паршивое, опыта лова рыбы в новых районах — никакого… Мучались с тралами — страшно вспомнить: пока отдашь трал, семь потов по спине в сапоги скатятся… Помню, был у нас на судне научный сотрудник — чудесный, веселый и энергичный человек. Так он отпустил бороду и поклялся сбрить ее лишь тогда, когда мы поймаем за одно траление с тонну селедки… Выросла у него бородища, словно веник, а мы всю тонну зараз подцепить из моря не можем. Наконец поймали! А тот ученый привык к своей бороде и не бреется… Пришлось его связать и обкорнать тупой бритвой…
Лутошкин вспоминает ветеранов калининградского рыболовного флота. Многие из них, такие, как Алексеев, Прокус, Сухондяевский, стали известными капитанами. Ныне Герои Социалистического Труда, они прошли в те годы славный путь морепроходцев, исследуя, осваивая просторы Северного, Норвежского, Ирландского морей, районы Ньюфаундленда и Девнсова пролива; они первыми проложили путь советским рыбакам в южные широты и за экватор.
Далекий, трудный и опасный путь. Не все возвращались домой из далеких экспедиций, но освоение необозримой голубой целины не останавливается ни на день: суда под красным флагом все дальше и дальше уходят от родных берегов.
Послышались голоса, матросы вылавливали концевую вешку — час дрейфа миновал. Валентин Николаевич затушил окурок и отправился в ходовую рубку. А я — на палубу. Там около весов меня уже дожидался Жаров.
Это был особенный ярус: наживка кончилась и почти половину крючков пришлось наживить летучками. В этих широтах их очень много: маленькие, сверкающие крыльями-плавничками эскадрильи постоянно взлетают из-под форштевня теплохода. А по ночам летучие рыбки, привлеченные светом, летят в сторону судна и ударяются в его борта, оставляя на металле блестящие чешуйки и белые полоски от высохшей слизи…
Прошедшей ночью судно с включенными прожекторами лежало в дрейфе: механики ремонтировали ярусоподъемник. И множество летучек «взлетело» на теплоход.
К утру вся палуба была засыпана мертвыми рыбками. Их собрали в ведра и наживили на крючки яруса. Интересно, понравятся летучки тунцам пли нет?
Поправились. Уже на шестом крючке бился крупный, в два центнера весом, обыкновенный тунец. Затем вытащили тунца, объеденного наполовину. А далее начались одни неприятности: то ли летучки очень понравились тунцам, то ли рыбы, где мы охотились, было много, но тунцы разодрали наш океанский перемет на куски. Несколько рыб мы вытащили на палубу, а остальные растащили остатки яруса по океану. И, может, какой-нибудь из тунцов, «слоненок» весом в полтонны, рыскает где-нибудь на мелководных банках у побережья Канады, а за ним тянется кусок хребтины километра два-три длиной, с поводцами и поплавками. Все может быть.
Провозившись с ярусом почти весь день, матросы, уставшие и злые, разбрелись по каютам, а потом отправились ужинать.
— Ешьте, ребятки, ешьте… — говорит матросам кок, прислонившись к косяку двери в камбуз. — Ишь, бедняги, заморились. Вам сейчас хорошо питаться надо. Так я сегодня специально побольше в суп мяса набросал.
Суп был мясной. С макаронами и картошкой.
— Побольше, говоришь! — вдруг раздается зловещий голос Витьки-Санчо. С этими словами он выуживает что-то из супа ложкой. — А это что, кокша, любуйся… — Санчо протягивает под нос коку ложку. В ней в окружении блестящих кружочков жира плавает толстая разварившаяся сороконожка.
— Так это что, подумаешь… — растерянно бормочет кок, — животное… безобидное… Бежала, может, голодная, нюхнула дух супный, голова у нее закружилась… она и брык в котел. А может, в макарону забилась и…
— Эх, ты! «Нюхнула!.. В макарону забилась»!.. Так надо макароны продувать, прежде чем в котел бросать, — не может успокоиться Виктор. — По стопам Щукаря идешь?..
— Да нет же, нет… — оправдывается искренне расстроенный кок. — Ну чего такого? Она ж не ядовитая… В крайнем случае, продезинфицировалась. Кипятком ее шарахнуло, всех-всех микробов враз побило…
Инцидент с сороконожкой кое-как замяли. На другое утро Иван Петрович отличился: испек преотличные пирожки с мясом.
Рыба, которую мы брали у Кап-Блана, на «Актюбинске», кончилась, а без наживки ярус — что обыкновенные бельевые веревки. Нужно тралить… Опять в ходовой рубке деловито застучал эхолот, и электрический глаз уставился в морскую глубину. Что же он увидел там? Ровное, как стол, дно… затем — яма, небольшой пригорок, снова — ровный грунт… небольшая стайка рыб, промелькнувшая стремительно около самого дна над зарослями водорослей. А это? Темная жирная полоса у грунта — это уже косяк, и порядочный.
— Стоп машина… — перебрасывает ручку телеграфа второй штурман Виктор Александрович Шорец, наш судовой академик.
Двигатель послушно подчиняется команде, на палубу, к разостланному у правого борта «Олекмы» тралу, спешат матросы, боцман, бригадир. Пока остальные разбирают трал, готовят его к подводному путешествию, Петрович поднимает на фок-мачту корзину. Обыкновенную корзину. Для чего же? Корзина или черный шар на мачте — международный сигнал, предупреждающий всех, что судно работает с тралом.
Ловить рыбу тралом куда интереснее, нежели ярусом. На ярус попадаются почти все время одни и те же рыбы — даже тоска берет: что ни крючок, то надоевшая марлинья, тунцовая или злобная, оскалившаяся акулья морда…
То ли дело трал! Порой в трале оказывается столько интересных рыб, что не знаешь, какую рассматривать. Правда, промысловики любят, чтобы трал был наполнен рыбой преимущественно одного вида: селедкой, треской, окунем, а здесь, в тропиках, — сардиной. Но ведь «Олекма» судно не промысловое, а научно-поисковое.
Мы с Жаровым с нетерпением ждем очередного улова и потом копошимся в груде рыбы, отыскивая интересные виды рыб, раков, крабов и разную прочую донную живность для научной коллекции.
Вода у побережья Гвианы — мы подошли сейчас к ней поближе — мутная, желто-зеленая. Здесь в океан впадает множество речек, несущих ил. Видимость в воде неважная: трал уже всплыл, подтянутый к борту «Олекмы» тросами-ваерами, а что в нем, разобрать пока трудно. Но вот матросы поднимают на палубу сетные крылья и сам куток — в нем трепещет с полтонны какой-то рыбы. Виктор Герасимов дергает за веревку, которой стянут снизу куток, и на палубу выливается шумным серебристым водопадом рыба.
— А!.. Барабулька! — слышу я боцманский голос. — Жаркое из нее получится преотличное. Где кок?
Да, почти весь улов — барабулька; небольшая, окрашенная в розовые тона рыбка, формой своего тела и головы очень напоминающая наших речных и озерных пескарей. Только расцветка другая, пестрая, яркая, да сами рыбки значительно крупнее своих пресноводных сородичей.
Среди барабульки ворочаются несколько крупных плоских, похожих на окуня рыбин, покрытых ярко-красной чешуей. Глаза у «окуней» — большущие, выпученные, словно в изумлении или страхе.
Красные рыбы имеют не совсем обычное название — «бычий глаз». У испанцев же и у кубинцев она известна под именем торо — бык…
Бычий глаз попадается довольно часто. Колючие скользкие рыбины накрепко застревают в ячеях трала, поэтому их ненавидят все рыбаки: шипы — торо — очень больно царапают ладони.
А вот рыба-свистулька. Что же, она свистит? Нет, конечно. Так почему же — свистулька? А просто так. Многими странными названиями рыбы обязаны фантазии тех ученых, в руки которых впервые попала та или иная рыба. Каких только названий нет! «Морской черт», а чего в нем от черта? «Рыба-ангел»… почему ангел? «Звездочет», «рыба-солдат», «львиная голова», «кувалда» и, наконец, «бычий глаз». А теперь еще и «свистулька»… По-видимому, ее окрестили так за длинную, узкую, словно дудка, голову с маленьким ртом. Голова рыбы-свистульки составляет одну треть. Но вся эта длиннющая голова имеет на конце лишь маленькое отверстие — рот, в который у полутораметровой рыбы не входит даже мизинец. Глаза у нее находятся около самого основания головы, а дальше — сужающееся к концу тело, покрытое не чешуей, а плотной блестящей кожей розового цвета.
Любимое место обитания свистульки — мелководные прибрежные участки океана, густо поросшие водорослями. Здесь, в колеблющихся подводных джунглях, свистульки затаиваются, приняв вертикальное положение. В такой позе они напоминают водоросль. Долгие часы висит так среди водорослей рыба, пока около нее не окажется мелкий зазевавшийся рачок или какая-нибудь беспутная рыбешка. Тогда свистулька стрелой бросается вперед, и маленький рот торопливо проглатывает добычу.
— Держите, Юрий Николаевич! — окликает меня Виктор Герасимов и бросает какую-то рыбу.
Я не успеваю ее поймать, и рыба гулко, будто камень, ударяется о палубные доски. Ах, это кузовок!
Забавнейшая рыбешка, из которой без особого труда можно сделать прекрасный тропический сувенир. Все тело кузовка покрыто костяным, почти треугольным в поперечном сечении панцирем. Рыбка напоминает рыцаря, закованного в латы. Снаружи видны лишь выпуклые, всегда немного удивленные глаза, выразительные розовые губы и хвостовой плавничок, торчащий из панциря на упругом стебле. Кузовок, как в сейф, надежно упрятал свое тело в костяной панцирь. И редко находятся в океане рыбы, желающие позавтракать или пообедать кузовком. Но чтобы еще более обезопасить себя от хищников, кузовок вооружен четырьмя обоюдоострыми кинжалами, расположенными попарно на голове в виде выставленных, как у бодливой козы, рогов и позади тела, под хвостовым плавником. Всех кузовков матросы разобрали себе по каютам: если его выпотрошить, то получится отличное чучело. Только вместо глаз нужно вставить стекляшки да, перед тем как чучело сушить, следует зажать в картонки плавнички, чтобы они не сморщились и не потеряли своей формы.
Тот же Герасимов приносит две раковины: одну большую, завитую в спираль, а другую оранжевую, двухстворчатую. Обе створки-крышки ее, словно у ежа, покрыты острыми твердыми иглами: моллюск, так же как и любое животное, живущее в океане, приспосабливается к защите от хищников. Конечно, такой моллюск, упрятавший свое нежное тело в покрытую острыми колючками твердую скорлупу, не каждому по зубам. Но в желудках рыб-кувалд мне приходилось находить осколки самых твердых раковин, искрошенных твердыми рыбьими зубами. В том числе и вот такой — оранжевой, со створками в шипах-иглах.
В груде рыбы Петрович обнаружил шесть крупных креветок. Он заботливо отложил их в сторонку и прикрыл брезентом, но Жаров увидел креветок и тотчас отобрал их у боцмана:
— Для анализа, Петрович… ничего не поделаешь.
— Да они старые… твердые, как морковки, — говорит вслед Виктору догадливый Петрович, но уже поздно: мы поспешили за Жаровым в лабораторию.
Пока Виктор листал определитель, чтобы выяснить, что это за креветки, к какому виду они относятся, Коля налил в большую колбу воды, бросил в нее щепоть соли и поставил хрупкий сосуд на электроплиту. А Валентин принес с камбуза хлеб. Что за анализ без хлеба.
— Ну как, определил? — нетерпеливо заглянув через плечо Жарова, поинтересовался Николай. — А то вода уже запузырилась…
— Все в порядке, кидай их, родимых, в колбу… — дал разрешение наш научный руководитель, и несчастные рачки, испуганно шевеля черными, будто бусины, глазами, шлепнулись в кипящую воду. И тотчас покраснели. Может, даже оттого, что ученые люди устроили им такой постыдный анализ — через несколько минут их прозрачные тела захрустели в наших руках…
— Как морковки, — снисходительно улыбнулся Жаров, стряхивая с бороды прозрачные скорлупки, — побольше бы таких «овощей».
Как будто кто-то его слышал там, в океане. В очередной трал вместе с плоскими серебристыми рыбами хлороскомбрусами и вомерами, которых можно вполне использовать для наживки, попалось с полсотни креветок, немедленно упрятанных боцманом в большой котел. Во время обеда в салоне был устроен настоящий пир.
А я взял несколько живых рачков и, посадив в аквариум, стал наблюдать за ними. Креветки — стайные ночные животные. Быстро-быстро перебирая ножками, плавают они около самого дна в поисках пищи. Когда креветка плывет в воде, кажется, будто она идет, торопливо семеня своими лапками.
Среди рыб оказался и небольшой зеленовато-коричневый осьминог. Скользкий, хрящеватый, он распустил во все стороны сильные, в бородавках присосков ноги-щупальца и стискивал ими мелкую рыбешку. Чуть полузакрытые его глаза были очень выразительны и печальны: животное жалобно сопело упругим патрубком, пытаясь засосать воду, но вместо воды внутрь тела врывались струи горячего воздуха. Эх ты, восьминогий детеныш-звереныш! В скверную историю ты попал. А ведь забрался в трал, наверное, из любопытства?
— Пускай живет… — встретив мой взгляд, говорит Сергей Петрович и, подцепив осьминога лопатой, кидает за борт, в воду. — Да, пускай живет. Он мне совсем не нужен. Тем более, что на память о нашей неожиданной встрече в районе Гвианы у меня останется отличный снимок: осьминог позирует, лежа на палубе, раскинув в стороны свои ноги… Кот!.. — подталкивает ногой Петрович одну из рыб.
Действительно, это морской кот. Следует отдать должное — боцман с «Олекмы» прекрасно разбирается в рыбах. Я больше чем уверен: Петрович знает рыб Атлантики намного лучше некоторых ученых-ихтиологов, которые изучают этих же рыб по картинкам, сидя в кабинете. Сергей Петрович наделен ценнейшим человеческим качеством — любознательностью. У него отличная зрительная память, и он легко запоминает названия почти всех рыб. В прошедшем рейсе боцман все время помогал профессору, а сейчас и нам, выбирая из трала то одну, то другую рыбешку, рака или краба, как тех креветок или вот эту плоскую рыбину с кошачьим названием.
Улов разобран, рыба отправлена в морозильную камеру. Матросы моют из шланга палубу, а Владик с Яковом Павловичем штопают трал — он весь в дырах.
— Что за чертовщина, — сердито бормочет бригадир, орудуя иглицей и крепкими нитками, — откуда столько дырок? Если бы за кораллы цеплялись, то и кораллы в трале были. Но кораллов нет, а дырки есть. Весь трал так и светится.
Действительно, трал словно решето. Как будто кто-то выгрызал рыб, застрявших в ячеях, вместе с делью.
Новое траление объяснило все: когда набитый рыбой, только что заштопанный трал подтащили к борту, вслед за ним из мутной глубины выплыли акулы. Их было много. Десятка три.
Акулы… Сколько раз приходилось читать о них! «Акулы», «приключения» — эти слова всегда рядом. И вот настоящее приключение с акулами. Акулы не из книжек, а настоящие живые хищники… Акулы крутятся, кружат возле самого борта «Олекмы», тычутся мордами в распухший от рыбы траловый куток и жадно, торопливо выгрызают вместе с делью застрявших в ячее плоских серебристых вомеров.
— Они же мой трал сожрут! — в отчаянии кричит бригадир. — Ребята, гоните их!
Электрическая лебедка медленно выволакивает из океана трал, и, помогая двигателю, матросы вцепляются крепкими пальцами в ячеи кутка. Вспухли мышцы, на лбах набрякли жилы. Метр за метром выползает куток из воды, а хищники словно взбесились: вода от их тел бурлит, пенится. Акулы вгрызаются в трал зубами и повисают, не хотят отпускать ускользающую рыбу. Матросы бьют их по плоским головам, тычут остриями в маленькие злые глаза. Трехметровые рыбины с плеском падают в волны и там огрызаются, словно псы, норовя схватить багор зубами.
В воду просто страшно смотреть: акул там стало еще больше. Они мечутся в небольших волнах, подхватывая выплывающих через дыры в кутке рыб. Свесившись с борта, я фотографирую акул, но вода кипит, судно качается, и мне никак не навести на резкость. Вдруг приходит мысль: а если поскользнусь? Упаду в воду?.. Отшатнувшись от борта, я откладываю аппарат и тоже хватаю длинный острый багор… Потом второй штурман, Виктор Александрович, и Жаров принесли ружья и начали расстреливать акул с мостика. Плеск воды, грохот выстрелов, крики чаек, мечущихся над теплоходом: ну и местечко! Выстрелы не особенно-то пугали акул — пули, словно резину, прошивали тела хищников, не нанося им серьезного вреда…
Наконец трал на борту.
— Весь в дырах! — восклицает Яков Павлович, повернув возмущенное лицо к капитану.
Но тот лишь плечами пожимает: «Что поделаешь? Наживка-то нужна!»
А акулы все кружатся, шныряют возле судна. Матросы смотрят с отвращением на хищников: ух, мерзость! Сколько же рыбы исчезает в их необъятных желудках!
Очистив палубу, матросы начинают делать акулам всякую пакость: привязывают к рыбкам консервные банки, бутылки и перегоревшие лампочки. И акулы проглатывают рыбок, а вместе с ними и консервные банки, бутылки из-под кока-кола и лампочки. Потом кто-то связал хвостами двух вомеров и швырнул их в воду. Тотчас две акулы проглотили по рыбке и начали дергаться в разные стороны, пытаясь освободиться от веревки, торчащей у каждой из пасти. Затем в воду швырнули одну крупную акулу, попавшуюся в трал, вспоров ей брюхо. Сначала акулы рассматривали окровавленную рыбу как бы с любопытством; казалось, что они обнюхивают ее. Потом одна из акул проплыла через пятно крови, расплывающееся в воде сизым облачком, и, ткнувшись в торчащие из живота кишки, рванула их… Сразу же и остальные зубастые твари набросились на раненую акулу. Та взметнулась из воды, захлестала во все стороны хвостом, вцепилась в чей-то бок зубами, но сопротивление было бесполезным — все новые и новые акулы набрасывались на ослабевшую хищницу и рвали ее тело на куски. Вода кипела, на поверхности взбилась розовая пена…
Акулы продолжали преследовать теплоход еще несколько дней. Почти каждое траление означало неприятную встречу с ними. После каждого траления приходилось штопать трал, но нем опять появлялись дыры, в которые можно свободно просунуть голову.
В один из тралов попались рыба-пила, губки, медузы и десятка два различных крабов. Рыба-пила была такая же, какую мы выловили в районе Африки: почти пятиметровая, окрашенная в песчано-зеленоватый цвет, с метровой пилой, украшенной белыми, прозрачными зубами… Запутавшись в трале, она возмущенно фыркала и колотила хвостом, как кувалдой по наковальне. Пришлось немало повозиться, чтобы извлечь ее из кутка. Освободив ее от дели, мы бросили рыбу в океан. Бултыхнувшись в волны, рыба поплыла прочь, хлестнув на прощание по воде огромным хвостом.
Медузы, набившиеся в трал, очень похожи на прозрачные, студенистые шары. Раньше нам не приходилось встречать таких, и я нескольких медуз, как и многих рыб из предыдущих тралов, заформалинил.
Интересной оказалась и одна из губок — светло-оранжевая, плоская, словно гусиная лапа. На вид губка очень напоминает подводное растение. Но это — животное. На теле губки находится множество маленьких отверстий — ртов. Через них губка всасывает в себя воду и отцеживает из нее мелкие живые организмы, которыми питается.
Мне всегда доставляет удовольствие разбирать уловы, в которых встречаются крабы. На этот раз их в кутке оказалось несколько десятков. Одни из них — плоские снизу, округлые сверху. Клешни этих крабов широкие, массивные. Ими краб прикрывается от врагов, словно дверями: прячет под себя ноги и прижимает к телу широкие зубчатые клешни-дверки. Только глаза выглядывают из ямок-пещерок. То один глаз, то другой, а то и оба вместе выпрыгнут на упругих стебельках, осмотрят все вокруг и тотчас шмыгнут обратно, в укрытие. На панцирях крабов густо алеют, словно опознавательные знаки, большие пятна.
Другие крабы — плоские, синие с зеленым оттенком. Клешни у них длинные и тонкие. Непонятно, как краб может что-либо схватить такими хилыми мягкими клешнями. Как он на дне океана но запутается в водорослях? Но, несмотря на свои рахитичные клешни, синие крабы ведут себя более агрессивно: смело раскрывают навстречу матросским рукам свои клешни, пытаясь ущипнуть за пальцы.
В Атлантическом океане живут десятки различных видов крабов. Одни из них совсем маленькие, с ноготь мизинца. Живут они на плавающих в воде водорослях-саргассах; другие — крупные, с панцирем величиной с тарелку, — типичные обитатели дна. Здесь они находят себе пищу, прячутся в водорослях и среди камней. У крабов много врагов. За ними охотятся люди, рыбы, на юге Атлантики — тюлени-крабоеды и осьминоги. Обнаружив краба, осьминог хватает его своими щупальцами, подтягивает к мощному, похожему на клюв попугая рту и разгрызает хитиновый покров панциря краба, словно орешек. Особенно осьминоги опасны для крабов во время линьки.
Краб растет скачками. Сам панцирь не растет — увеличивается в размерах тело животного, упрятанное в панцирь. Наступает такой момент, когда крабу становится очень тесно в своей скорлупе. Он прячется где-нибудь между камней и затаивается. Там, в укромном местечке, панцирь его лопается, и краб вылезает из него, слоено из старой, тесной одежды. Линялый краб покрыт не панцирем, а тонкой кожицей, которая лишь со временем, напитавшись особыми веществами, становится твердой. Вот в это-то время, пока крабы мягкие, за ними с особенным рвением и охотятся осьминоги. Они плавают по дну, засовывают щупальца в расщелины. Обнаружив мягкого, слабого краба, мгновенно разрывают его на части.
Крабы питаются в основном падалью. Словно подводные санитары, они рыскают по дну, отыскивая погибших рыб и других животных. В том месте, где лежит крупная погибшая рыбина или в приливной полосе гниет занесенный песком сдохший дельфин, крабы буквально кишат.
* * *
А время течет. Медленно, когда помнишь о нем, когда смотришь на календарь и подсчитываешь дни: сколько прошло, а сколько еще осталось… И быстро, если в работе забываешься. Опять педеля… две, месяц промелькнули!..
Вот уже и третий месяц на исходе. События, большие и маленькие, интересные, забавные, а порой и грустные, работа — все это поглощает дни и недели, отпущенные нам на нашу дальнюю экспедицию.
Рейс подходит к концу.
Здесь, у берегов Британской Гвианы, мы отпраздновали день рождения Николая Хлыстова: ему стукнуло тридцать лет. Тридцать! Пожалуй, самый лучший, самый хороший мужской возраст. Когда еще рукой подать до прошедшей юности. Возраст, когда еще хочется просто так, из любопытства, вскарабкаться на раскачивающуюся мачту и когда в висках можно неожиданно обнаружить седой, упругий, словно проволока, волос.
Тот день начался для нас неважно: мы плохо определили место постановки яруса и матросы вытащили пустышку — на весь океанский перемет попался один беспутный марлин. И тот не клюнул, а зацепился за крючок хвостом. «По-видимому, просто кончил жизнь самоубийством!» — сказал Владик Терехов.
Мы сидели в душной и жаркой, будто газовая духовка, лаборатории, притаившись, как мыши, и слышали недовольный голос боцмана, шумевшего на палубе:
— Будь я адмиралом Флинтом, за такой ярус на рею некоторых вздернул бы! Или в трюм — на цепь!..
К счастью, боцман не грозный пиратский адмирал и, по-видимому, никогда им не будет. Поэтому мы делаем вид, что не слышим его возмущенных выкриков.
А вечером собираемся в каюте Хлыстова и, поздравив его с днем рождения, пьем кислое вино. На бутылках, в которых заключена эта невероятнейшая кислятина, красуется веселенькая этикетка с надписью «Столовое». Мы глотаем желтую жидкость, от которой лицо сводит судорогой и потом его нужно долго растирать ладонями, чтобы согнать с лица ужасную гримасу.
Настроение неважное, кислое… от усталости и вообще от тропиков. Все же мы северные люди, и нам хочется домой; хочется в лес — не в пальмовый, а в обыкновенный русский лес, где растут березы и ели, где на едва заметном ветерке трепещет серебряными листьями осина, где пахнет мхом, сыроежками и еловой смолой. Где распевают не диковинные заморские птицы, а нежно и печально тенькают обыкновенные синицы.
Хочется домой; хочется к тем, кто с нетерпением ждет нашего возвращения. Домой… Мы торопимся домой, а сами знаем — там, на родном берегу, мы будем торопиться в новый дальний рейс. Уж так бывает всегда. Так было, и так будет…
А Николаю мы подарили высушенный нос пилы-рыбы, пожелали ему прожить еще столько лет, сколько на пиле зубов, которых оказалось шестьдесят четыре, и все расписались на той пиле черной и красной тушью.
Мы недолго сидели все вместе: веселья не получилось. Все очень устали. А тут еще этот ярус-пустышка… Скоро Жаров ушел в каюту, а я вышел на палубу. Хотелось немного побыть одному.
С черного неба глазели на теплоход звезды и деловито излучал свет месяц. Напротив него виднелась крупная яркая звезда — Венера. Месяц тянулся в ее сторону острыми рогами. Месяц и звезда. Где-то я видел это и раньше… Ах да, на флаге Турции. Между прочим, эта же эмблема, срисованная с ночного южного неба, является официальным гербом и изображена на флагах Соединенною Королевства Ливия, Пакистана и Туниса.
Месяц. Здесь, в тропиках, он иногда похож на плывущую лодочку с загнутыми круто вверх носом и кормой. А иногда эта лодочка переворачивается вверх килем. Вот и ковшик Большой Медведицы — он тоже перевернут вверх донышком. Такого не увидишь дома.
Я перешел к другому борту и наклонился над водой. Она светилась голубоватым пламенем и… пела. Да, вода, соприкасаясь с двигающимся судном, издавала тончайшее мелодичное пение. Как будто тысячи мизерных фанфар играли на самых высоких нотах. Казалось, вот-вот маленькие музыканты надорвутся и пение смолкнет. Но музыкант — сильный-сильный океан. И я впервые услышал, что он, гремящий и воющий густым басом во время шторма, может петь так нежно…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Гвиана — страна, в которой живут индейцы. Суринам, Парамарибо. Пять разноцветным звезд. Неприятные посетители. Встречное интервью. Агенты конкурирующих фирм. Американский город глазами европейца. «Мистер Тарас Бульба». Едем к караибам. Индеец с реки Сарамакки. Джунгли. Кайман. Страшные пираньи. Прощальные слова.
Берег показался сразу. Прохладный ветерок, пробежавший по самым волнам откуда-то с океана, наткнулся на горячую сизую дымку, толкнул ее, заколебал и развеял. И мы увидели темно-синюю полоску суринамской земли.
Суринам? Ведь мы же собирались в Британскую Гвиану? Собирались, но заход не состоялся — мы уже были на пороге Джорджтауна, когда получили от капитана порта телеграмму, что в порту началась забастовка. И что он очень сожалеет, но не может обеспечить нас ни лоцманом, ни топливом, ни водой…
Тогда мы направились в соседнюю Гвиану, в Нидерландскую, которая называется Суринам, в порт Парамарибо. От Джорджтауна это совсем рядом — каких-то сто двадцать миль. Эти мили «Олекма» проскочила быстро. Когда мы на другое утро проснулись и выскочили на палубу, к нашему судну ужо спешил, раздувая пенные водяные усы, лоцманский катер. Ловко развернувшись, он приткнулся к правому борту судна, и на палубу «Олекмы» поднялся подтянутый, стройный суринамец. На фок-мачте теплохода затрепетал белый с пятью звездами, соединенными черным кругом, государственный флаг Нидерландской Гвианы, и «Олекма», подчиняясь смуглой уверенной руке, двинулась к берегу.
В третий раз чужой, незнакомый берег будет принимать нас. Теплоход входит в неширокую року. Вода в ней мутная, цвета какао.
Река, как и страна, называется Суринам. Течение быстрое, сильное. И хотя двигатель «Олекмы» работает на полную мощность, теплоход еле-еле ползет мимо подступившего к самой реке леса. Деревьям тесно в непроходимых влажных джунглях. Они теснятся на берегу, они вошли в реку: корни многих деревьев растут в воде. И кажется, что деревья стоят на ходулях.
Река Суринам, страна Суринам.
Слово совершенно незнакомое, ничего не говорящее русскому человеку. Об этой стране мало книг, об этом кусочке земли, расположенном в северо-западной части южноамериканского материка, очень редко пишут в газетах. Суринам — это новое открытие для нас, и поэтому так внимательны наши глаза, скользящие но мутной воде и берегу.
Я то спускаюсь в ходовую рубку, чтобы познакомиться с лоцманом, то поднимаюсь на мостик, потому что в воде что-то плывет и нужно обязательно взглянуть: а что же там плывет?
Валентину кажется, что навстречу нам могут плыть только крокодилы. И, завидев в воде темный предмет, он кричит мне с мостика в ходовую рубку, через переговорную трубу:
— Крокодил!.. Быстрее!..
Сунув блокнот в карман, спешу к нему. Но вместо крокодила вижу ухмыляющуюся брянцевскую физиономию и бултыхающееся в мутной воде черное бревно или кучу переплетенных, спутавшихся сучьев. Бревна и сучья — только и всего. Но я увидел то, чего не заметил Валентин, — на бревне сидят рядком три крупных баклана, а над сучьями порхает фиолетовая бабочка величиной в две ладони. Почти под самым берегом ходят в мелкой воде белые цапли и птицы, очень похожие на них: такие же длинноногие, голенастые, тонкошеие… Но только с клювом в виде детской лопаточки. Что же это за птицы? Ах да, колпицы! Птицы, которые, как и белые цапли, очень редко встречаются в Европе.
С каждой минутой, с каждым часом нашего недолгого, четырехчасового путешествия по реке Суринам блокнот мой заполняется короткими записями, а на фотопленку попадают прекрасные пейзажи: прибрежные деревушки с домишками под крышами из пальмовых листьев, рыбаки, выбирающие под крики мелких острокрылых чаек мокрые сети…
Я уже знаю, что пять звезд на белом суринамском флаге не случайно раскрашены в разные цвета. Пять звезд — белая, коричневая, черная, желтая и красная — означают пять основных народностей, составляющих население Нидерландской Гвианы. Это белые, которых в стране меньшинство, креолы, индейцы, индонезийцы и негры.
Многие из нынешних жителей Суринама не по своей воле оказались в этих краях. Три века назад работорговцы привезли сюда для работы на плантациях сильных черных людей, закованных в кандалы и брошенных в душные, грязные трюмы парусных кораблей… В 1863 году ввоз рабов в страну был запрещен. Получив свободу, негры поселились на берегах быстрых порожистых рек. Первым прибежищем для них были леса, в которых они сооружали для себя примитивные жилища, и поэтому их до сих пор называют по-голландски «боенехерс», то есть «лесные негры».
Эмигранты тысячами ехали в Суринам — после освобождения негров многие плантации оказались без рабочих рук; индийцы, яванцы и китайцы отправились в дальнее плавание в расчете спасти себя от голодного существования. Они подписывали кабальные договоры, и многие из них погибли, изнуренные нечеловеческим трудом и тропической лихорадкой в джунглях, на лесных разработках или на кофейных плантациях. А те, кто выжил, по окончании контракта оставались в Суринаме — старая родина была слишком далеко. Вместо билета на обратный путь через два океана люди приобретали домашние вещи, строили дома и подписывали новые контракты. Так происходила колонизация страны, а коренные жители, индейцы, оттеснялись все дальше и дальше от океана, в непроходимые лесные дебри, в болота, кишащие ядовитыми змеями и насекомыми. И теперь бывших хозяев этих земель—индейцев (караибов, аровог, трие и ояна) — осталось совсем немного — около 4 тысяч человек.
— Нью-Амстердам, — говорит лоцман, ткнув пальцем в показавшийся небольшой поселок.
— Нью-Васюки… — шепчет мне Валентин.
Да, уж действительно, этому нью-поселку слишком далеко до столицы Нидерландов: на берегу, под пальмами, сгрудилось десятка два-три одноэтажных, окрашенных в розовый, зеленый и желтый цвета домиков. А перед ними уставились в реку черными жерлами десять старинных пушек. Когда-то Нью-Амстердам был просто фортом, защищающим подступы к расположенному выше по реке городу Парамарибо. Но уже много столетий грозные орудия молчат, и их черные стволы обвили гирлянды ярких тропических растений.
— С утра Суринам течет в океан, а с обеда океан втекает в реку, — продолжает прерванный разговор лоцман, — и вода здесь никогда не бывает чистой. Она насыщена илом. И жители Парамарибо хоть и живут на берегу реки, но никогда не купаются… А вот и город.
Река плавно поворачивает вправо, и открывается вид на небольшой городок. Как, это и есть Парамарибо? После Дакара и небоскребов Ресифи мы с удивлением смотрим на столицу Суринама: низкие деревянные дома под шапками кокосовых пальм.
— Анкор… — командует лоцман, и якорь, бултыхнувшись, погружается в воду. Лоцман жмет нам руки и, приветливо улыбаясь, желает весело провести время на берегу.
На смену лоцманскому катеру подходит другой. Он перегружен — на палубе и в каютах катера множество пассажиров. Белые, черные и желтолицые люди в форме и просто в черных пиджаках заполонили нашу палубу и поднимаются в капитанскую каюту. Здесь и капитан порта—смуглолицый полный суринамец с усиками; бородатый полицей-комиссар с тяжелым револьвером на боку и очками на массивном носу; портовый врач, несколько суровых таможенников; еще полицейский, по только без очков и сухой, как изголодавшийся клоп; пятеро корреспондентов от двух конкурирующих газет, переводчик. Прибывшие толпятся в капитанской каюте, топчутся в коридорах, снуют по трапам, заглядывая в каюты, машину и в гальюн. Лица их суровы и неулыбчивы. Капитан порта плотно усаживается на диван в капитанской каюте, рядом с ним размещаются полицейский в черных очках и несколько таможенников. Они требуют документы и начинают в них внимательно разбираться.
Мы с тревогой посматриваем в лица официальной суринамской публики и вспоминаем, что Суринам зависит от Голландии.
Голландцев меньше всего в Суринаме: всего около двух процентов. Но эти два процента держат крепко и пока уверенно всю власть, всю экономику страны.
Предчувствие не обмануло нас. Через несколько томительных часов полицейский комиссар сообщил, что посещение суринамского берега нам запрещено. После этого вся официальная публика покинула «Олекму», оставив на судне дежурного таможенника, корреспондентов и представителя одной из торговых фирм. Таких представителей в иностранных портах называют агентами.
Проводив катера унылым взглядом, я поднимаюсь в капитанскую каюту, где беседуют капитан и агент. Брянцев переводит. Агент — высокий симпатичный голландец — неторопливо пьет столичную, закусывает черной икрой и расхваливает Суринам, природу страны и трудолюбивых черных… Быстро убавляется содержимое бутылки, но дело не сдвигается с места: вместо цен на продукты мы слышим рассказ об индейском племени ояна, которых зовут трехпалыми за то, что они перевязывают себе на руках пальцы.
Хочется узнать, что за топливо предложит нам агент, а слышим рассказ о том, что караибы до сих пор охотятся при помощи лука и отравленных стрел. Кстати, агент может помочь нам приобрести лук и стрелы. Отравленные ядом — кураре — подороже, а простые подешевле.
— Стрелы, кураре… Все это очень интересно, но нас интересует картошка и морковка. Понимаете? Кар-тош-ка! Мор-ков-ка! А не кураре, черт возьми!.. — волнуется капитан. И, смахивая с лица пот, говорит Брянцеву: — «Черт возьми» не переводи…
Щуря от удовольствия глаза, агент доедает бутерброд с икрой и вежливо улыбается:
— Ах, морковка… Эта прозаическая картошка… Да, да, все понимаю. Придется съездить на берег. Выяснить кое-что. Через часик все будет известно… Кстати, отличная икра. Не найдется ли на судне лишней банки?..
Агент уезжает, а мы с Брянцевым начинаем беседовать с корреспондентами. Вернее, говорят лишь двое — Брянцев, сносно знающий английский язык, и один из корреспондентов— мистер Хофвук. Остальные четверо молчат или же односложно говорят «йес, йес» и кивают головой. Мистер Хофвук в белой рубашке с галстуком-бабочка, но без пиджака, затянут в узкие серые брюки и втиснут в узконосые ботинки. Он в темных очках, за пояс заткнута прокуренная трубка, на пальцах несколько колец. Он весь какой-то острый, угловатый. Лицо длинное, вытянутое, будто кто-то взялся за подбородок и челку мистера Хофвука и потянул в разные стороны. Потянул так сильно, что лицо стало узким и длинным, словно клин. Рядом с Хофвуком очень полный, с круглым как арбуз, добродушным лицом негр. Он очень внимателен, вслушивается в каждое слово, напряженно всматривается в наши лица и торопливо пишет, пишет, заполняет странички толстого, как и он сам, блокнота… Остальные корреспонденты — трое молодых симпатичных парней: двое креолов, смуглых, черноволосых, и совсем юный индеец, скромно устроившийся на краешке дивана…
Во время тралений в тропической зоне Атлантического океана мы познакомились со многими обитателями теплых тропических вод.
Нередко в наши тралы попадались креветки — небольшие полупрозрачные, хрупкие рачки с тонкими усиками. Они нам понравились не за свою шустрость и длинные усы, а потому, что креветки очень вкусны.
А вот рыба-мышь. Тело ее плоское, пестрое и все покрыто, словно водорослями, кожистыми заусенцами. У рыбки длинный тонкий нос и рот с розовыми, словно накрашенными помадой губами. А на животе у подводной мыши особые плавнички, при помощи которых это забавное существо ползает по дну, выискивая себе корм.
Каракатица. Малоприятное на вид, хрящевитое, скользкое морское животное. В головной части ее туловища расположены щупальца с присосками.
Поведением каракатицы очень недоволен остался боцман: оказавшись на палубе, каракатица извергла из себя густую и черную, как тушь, плохо смываемую жидкость.
Привлекла внимание всей команды забавная рыбка — кузовок. Ее тело заключено в твердый костяной панцирь. Такую броню сможет разгрызть не всякий морской хищник. А чтобы обезопасить себя еще больше, кузовок вооружился острыми кинжальчиками, расположенными над самыми глазами. Словно рога, они торчат на голове.
А это — коралловая рыбка, которую зовут в Южной Америке «изабелита». У нее красивое, в коричневых пятнышках тело и рот, наполненный не зубами, а упругими щетинками. Ими рыбка перетирает жесткие подводные водоросли, которыми питается.
Вместе с кузовком оказался в трале и краб. Посаженный в аквариум, он забился в угол и ушел в глухую защиту — прикрыл себя мощными клешнями. Только два глаза, словно перископчики, выглядывают наружу и настороженно осматривают банку — откуда ожидать опасность?
Интересно наблюдать за поведением рака-отшельника. У него сильные, покрытые твердой хитиновой броней клешни, головогрудь и нежная, незащищенная задняя часть тела, которую он прячет в раковину. Так он и таскает всюду с собой раковину-домик. Живет как отшельник— никого не пускает к себе в раковину… В случае опасности рак забирается в домик почти целиком, снаружи остаются лишь клешни. Когда же раковина становится тесной — ведь рак растет, — он подбирает себе новое жилье: ракушку побольше, повместительнее.
Нередко оказывались на палубе «Олекмы» и скользкие, непривлекательные на вид осьминоги. Судорожно стиснув своими щупальцами рыбу, небольшой осьминог замер на горячих досках, залитый лучами тропического солнца. Маленького детеныша осьминога матросы пожалели и бросили в океан. К сожалению, большие осьминоги нам в трал не попадали. По-видимому, они очень осторожны — ведь некоторые натуралисты считают осьминогов самыми умными существами океана… А возможно, крупные головоногие моллюски, к которым принадлежат осьминоги, таятся на больших глубинах, куда не доходит наш трал.
Богат и разнообразен животный мир Суринама. Невдалеке от города, в устье реки Суринам, на отмелях живут колониями красивейшие птицы земли — розовые фламинго. Изящно изгибая тонкие шеи, они разгуливают по воде, вылавливают мелкую рыбешку.
Здесь же, у прибрежных кустарников, обитают и белоснежные, с острыми желтыми клювами цапли.
Почти к самому городу Парамарибо подступают непроходимые джунгли. Природа собрала здесь богатейшую коллекцию тропических растений и деревьев, которыми никогда не устанешь любоваться.
Учеными и рыбаками «Олекмы» был обнаружен район, в котором можно вести промышленный лов тунцов.
Рыбаки называют тунцов «курицей с плавниками». Ради таких рыб стоит идти через весь Атлантический океан. Недалек тот день, когда и в магазинах нашей страны появится нежное мясо тунцов.
Большущий тунец попался на крепкий крючок яруса. Рыба отчаянно сопротивляется, бьется, пытается сорваться с багра. Но матросы, вцепившись в рукоятку багра, все выше и выше поднимают тунца из океана. Силы рыбы иссякают. Через несколько мгновений тунец будет на палубе.
Со многими интересными обитателями океана довелось познакомиться олекминцам за время рейса: с громадной акулой-лисицей, у которой хвостовой плавник равен длине тела, с морской черепахой и со смелым ночным хищником — кальмаром.
А у Бермудских островов на один из крючков яруса клюнул дикобраз. Да, да, дикобраз!.. Но только не сухопутный, а морской. Действительно, лишь дикобраз может похвастаться такими острыми и длинными колючками, которыми рыба защищает себя от хищников. А защищаться надо.
Взгляните, какие страшные у акулы зубы! Правда, эти акулы, чьи челюсти сушатся на ветерке, уже никому не причинят зла — их челюсти везут рыбаки «Олекмы» домой как оригинальные тропические сувениры.
Мистер Хофвук задает нам вопросы о нашем путешествии, а мы задаем ему вопросы о географическом положении Суринама, о его истории… И Хофвук, надо сказать, как собеседник человек весьма приятный, охотно отвечает на наши вопросы. Вскоре корреспонденты так увлекаются, что начинают говорить все подряд, припоминая наиболее интересные и важные детали о Суринаме. Валентин переводит, а я едва успеваю записывать…
История страны начинается в 1499 году, когда на ее живописных берегах высадились испанские искатели страны Эльдорадо (золотой страны), лейтенанты знаменитого мореплавателя Америго Веспуччи — Алонсо де Охеда и Хуан де ла Коса. Здесь искали они легендарные сокровища. В том, 1499 году впервые пролилась кровь индейских воинов, пытавшихся защитить свою землю от иноземцев… Спустя сто лет в Гвиане появились решительные и пронырливые люди, приплывшие на своих каравеллах из далекой Голландии. Оттеснив индейцев от устья реки Суринам в джунгли, они основали на ее берегу, в 26 километрах от океана, опорный пункт… Где? Да вон он, видите крепость на берегу, как раз напротив судна? Здесь в 1613 году и укрепились голландцы. А позднее около форта вырос город, получивший название Парамарибо. Голландцы цепко ухватились за богатую гвианскую землю. После долгой борьбы с претендовавшей на этот же кусок южноамериканской земли Англией Суринам по договору Бреда был присоединен к Нидерландскому королевству.
Возвращается агент. Быстрой походкой делового человека он входит в кабинет капитана, где мы беседуем, и удобно устраивается в кресле: о нет! Он не смеет прерывать нашу беседу: «Продолжайте, господа, прошу вас, продолжайте!»
Попыхивая душистым дымком, мистер Хофвук продолжает рассказ, останавливаясь лишь на главном: территория страны — 142 800 квадратных километров. Почти одна треть ее покрыта непроходимыми лесами, в которых еще и сейчас небезопасно появляться чужому человеку — отравленная стрела караиба может поразить его из-за каждого куста…
Экономика страны? Да, вы догадались: Суринам — страна аграрная. Здесь выращивают сахарный тростник, кофе, хлопок и какао. Эти продукты являются основными предметами экспорта.
— Кончай, — сердитым голосом буркнул мне на ухо капитан. Я осторожно толкнул ногой Брянцева, и тот очень быстро закруглился. Корреспонденты толпой повалили из каюты, а капитан, нервно потирая руки, посмотрел на агента:
— Ну как?..
Агент сокрушенно развел руками и шумно вздохнул:
— Мне очень-очень жаль, — он даже руки прижал к своей груди: ну так ему жаль! — но увы… Фирма вас обслуживать не может… Да, да… очень, очень жаль…
Я взглянул в капитанское лицо — под его напрягшейся кожей задвигались желваки, губы плотно сжались, как бы сдерживая рвущиеся на свободу злые слова: впору сказать агенту что-нибудь такое, по-русски емкое, и треснуть по столу кулаком — видите ли, ему жаль! Ах, ты…
Но капитан но стукнул кулаком, что поделаешь — нельзя. В таких рейсах нужно быть не только умелым судоводителем, но и терпеливым дипломатом. И капитан вежливо улыбнулся, поднялся:
— Ну что ж, спасибо за разговор. Надеюсь, что вам уже пора в свою фирму?
— Да, да, конечно… — заторопился агент. Протирая очки, он еще раз сокрушенно вздохнул: — Так жаль, что мы вынуждены вам отказать. Придется русскому судну идти в другой порт…
— Там видно будет, — уже не совсем вежливо ответил Валентин Николаевич и потеснил агента к двери. — Прошу вас, не споткнитесь. Вот порог… а вот и трап. Гуд бай.
Когда агент ушел, капитан в сердцах плюнул и, прошептав что-то, залпом выпил стакан вина.
— Что делать будем? — обеспокоенно спросил вошедший в каюту Жаров.
— Не пропадем. Есть же в Парамарибо фирмы, конкурирующие с этой. А если есть, то… (За иллюминатором послышались голоса и мирное лопотание успокаивающегося двигателя. Подошел еще какой-то катер.) Да вот и конкуренты…
Капитан не ошибся. Через несколько минут в каюту поднялись трое смуглолицых суринамцев: седой, с выпирающим из брюк животом мистер Биерфлит, сухощавый, подвижный мистер Крони и пахнущий ромом и табаком мистер Дасс. Все трое — представители местной судоходной компании. Мистер Дасс сел в кресло и тотчас задремал, он был явно не в форме и не принимал в переговорах почти никакого участия. Лишь иногда открывал свои ласковые пьяные глаза и, оттопырив толстые губы, вежливо бормотал: «Йес, сэр… йес…» Биерфлит тоже все время молчал, лишь улыбался и согласно кивал тяжелой, мокрой от пота головой. Все переговоры вел мистер Крони.
Через час с вопросами снабжения все было решено: представитель фирмы мистер Биерфлит отпустит нам завтра горючее и воду, а шипшапдлер мистер Дасс снабдит продуктами. Биерфлит согласно кивнул головой, а мистер Дасс, с трудом разлепив тяжелые веки, нежно проворковал: «Йес, сэр… йес…»
Гости уже собрались уходить, как примчался катер капитана порта и молодой чиновник в мундире, поднявшись к капитану, сообщил, что «русским разрешено сходить на берег, но не более пяти человек в день». Валентин Николаевич вопросительно поглядел на смущенного мистера Крони, на переставшего качать головой Биерфлита и проснувшегося шипшандлера. По пять человек в день. Это значит, что если всем нам побывать на берегу, потребуется целая неделя! Как видно, кто-то там, в Парамарибо, уж очень хочет, чтобы мы ушли в другой порт.
— Господа, — сказал Валентин Николаевич, — я вынужден отказаться от ваших услуг. Такие условия нам не подходят. Мы снимаемся с якоря и уходим в Кайенну…
— Но, но, — воскликнул мистер Крони, — у фирмы есть связи в правительстве, и мы обо всем договоримся! Я гарантирую! Завтра люди «Олекмы» смогут выйти в город.
Мистер Биерфлит кивнул головой и вновь заулыбался, мистер Дасс икнул и произнес: «Йес, сэр… йес».
Катер унесся к темнеющему берегу. А мы спустились на палубу, где команда механиков уныло стукала костяшками по столу, соревнуясь с командой штурманской рубки.
…Минуя таможенника, внимательно осматривающего наши фигуры, и подозрительные глаза двух полицейских, приставленных к судну, мы проходим по гулкому пирсу и сразу за проходной порта оказываемся на одной из улиц Парамарибо. На мгновение мы останавливаемся, немного оторопев от ярких красок, от шума и гама улицы. Мимо нас спешат, торопятся люди. Кажется, что мы попали не в город, населенный обычными жителями, а в оживший этнографический музей: индийцы в белых одеждах и чалмах; индианки в красных, синих, желтых сари; маленькие японки в брючках из блестящей шелковой ткани; плосколицые китайцы, индонезийцы; высокие мускулистые негры в цветных накидках и босиком; европейцы в черных очках и пробковых шлемах; индейцы с длинными блестящими, черными как смоль волосами; мальчишки, всех цветов и оттенков, с криками гоняющие по асфальту консервную банку, — все это предстало нашим глазам, все это двигалось мимо нас, наполняя улицу разноголосым говором, смехом, криком погонщика, толкающего заупрямившегося, облепленного репьями ослика.
Трудно сказать, красив Парамарибо или нет. Пожалуй, все тропические города красивы. Они ярки своей богатой природой, растительностью. Таков же и Парамарибо; нам бросаются в глаза великолепные пальмы, рядами выстроившиеся вдоль домов; так же как и во многих африканских городах, на улицах столицы Суринама множество цветов, с любовью рассаженных в сквериках, вьющихся по деревянным решеткам, прибитым к стенам, свисающих гирляндами из распахнутых окон.
Я вспоминаю широченные авениды Ресифи, белые небоскребы Дакара, просторные площади Конакри, каменные улицы-щели Гибралтара… Нет, все не то. Здесь все другое. Здесь нет широких улиц. Улицы Парамарибо узкие; здесь нет небоскребов — одноэтажные и двухэтажные дома, деревянные, с маленькими окнами, прикрытыми от жары жалюзи. Дома ярко раскрашены: уж если дом красный, то он ярко-красный, если зеленый, то уж он зелен, словно молодая трава. В Парамарибо нет просторных площадей — площади города малы настолько, что кажется, будто бронзовым и мраморным памятником тесно на них… Улицы Парамарибо не кружатся, не вьются спиралями, как в некоторых южных городах, а ровные и тянутся параллельно друг другу: любую улицу можно окинуть взглядом из одного конца в другой. Одни из них обсажены пальмами, другие — ветвистыми деревьями различных пород, в густых кронах которых гнездятся различные птицы.
Словом, Парамарибо очень уютен.
— Ну, куда? — спрашивает Жаров.
— Пойдемте направо, — предлагает Николай.
— Нет, отчего же… лучше налево, — говорит Брянцев.
С Хлыстовым он дружит уже четырнадцать лет, но редко бывают случаи, когда мнения и предложения Николая совпадают с мнениями и предложениями Брянцева.
— Тогда пойдем прямо, — решает Виктор.
Мы неторопливо идем по улице, а она так же неторопливо и неназойливо показывает себя, открывая нам свои маленькие уличные тайны. Вот на приступке дома сидит маленькая кукольная старушка и, приветливо улыбаясь нам всеми своими морщинами, дымит толстой сигарой, прихватив ее двумя оставшимися во рту зубами. Чуть дальше дремлет, прислонившись к шершавому пальмовому стволу, ушастый ослик. Увидев нас, он раскрывает рот и, как бы зевая, громко и скрипуче произносит: «И-ааа!..» — похлопав ушами, он снова открывает рот, но передумывает: уж больно жарко… Передумывает и, сомкнув мягкие пушистые губы, прикрывает глаза длинными ресницами… Тут же, у ног осла, дремлет и его хозяин — угловатый узкоплечий мужчина. Человек уткнулся носом в колени. В глаза бросается сопревшая от пота синяя рубаха с красной надписью на спине «кока-кола» и большие, потрескавшиеся от жаркого асфальта ступни, заботливо поставленные на смятую газету… Из дверей небольшого магазинчика с сумятицей иероглифов на вывеске выглядывает лобастая собачья башка. Собака лежит поперек двери, свесив голову и лапу с порога… Лежит и чуть морщит нос — наверное, видит во сне противную соседскую кошку. А посетители входят в магазин, переступая через пса, как через бревно, ничуть не опасаясь за свои ноги.
Сзади гремит, грохочет консервная банка. Это догоняет нас стайка мальчишек, встретившихся нам около самого порта. Забежав вперед, они кричат нам: «Ребята, смотрите! Бородачи, бородачи идут!» Оказывается, в Парамарибо никто из мужчин не отращивает бороды. И поэтому наши бороды производят на суринамцев большое впечатление. Мы идем по улице словно знаменитые киноартисты — нас всюду встречают любопытные взгляды. Мы все время на виду… От того первого крика «баба-мен» из маленькой парикмахерской, как черти из шкатулки, выскочили трое цирюльников. Они загородили нам дорогу и, звонко щелкая ножницами, предложили свои услуги. Мы отказались, но брадобреи не хотели лишить себя хорошего заработка, который сулили им наши бороды, и шли за нами, щелкая ножницами, два квартала. Эта история повторялась несколько раз. От одного слишком настойчивого парикмахера, тащившего за нами кресло, зеркало и все свои принадлежности, мы с полчаса прятались в универсальном магазине, а потом отсиживались в общественном туалете, осторожно выглядывая в окно — ушел или нет? К счастью, на него обратил внимание полицейский. И настойчивый цирюльник покинул свою позицию, погрозив на прощание в сторону туалета сухим черным кулачком, в котором были зажаты машинка для стрижки волос, две гребенки, кисточка и ножницы…
Так бродим мы по городу, заходим в некоторые магазины, где нам предлагают всевозможные товары, поставляемые в основном из Японии и Голландии; читаем забавные вывески над барами и кафе: «Гонконг», «Аллигатор», «Под пальмами», «Копенгаген» (два столика, покрытых мухами, четыре стула, в углу — стойка, за которой дремлет, положив голову на ладони, пожилой негр), «Синяя птица», ресторанчик «Иван», в котором нет ни одного русского блюда. В сквериках мы рассматриваем памятники: гипсовый — какому-то голландскому миссионеру, мраморный — усатому мужчине, на голом, плохо отшлифованном черепе которого превосходно устроилась крупная изумрудная ящерица. А вот бронзовый бюст человека, имя которого известно в Южной Америке не менее, чем Петр Первый или Суворов — в России. Это знаменитый полководец, снискавший себе громкую славу подвигами в борьбе угнетенных народов Америки против испанцев и португальцев.
— «Симон Боливар, — читает Валентин надпись на гранитном цоколе. — Гроза португальцев и испанцев… совершивший со своей освободительной армией героический переход через Американские Кордильеры…»
Мы переходим улицу, чтобы взглянуть на дом правительства, упрятавшийся в тени пальм. Вступив на проезжую часть, дружно поворачиваем головы налево… Д-зззы!.. Резкий визг тормозов: около нас замирает длинный, приплюснутый к асфальту «форд», в машине негодует шофер с усиками. Ах да! Простите; ведь здесь же левостороннее движение… Мы вежливо раскланиваемся с успокоившимся шофером и идем дальше. Доходим до середины улицы и дружно поворачиваем головы направо… В то же мгновение раздается отчаянный сигнал — мы отскакиваем, но все же мотоциклист-японец налетает на Колю Хлыстова. Тот каким-то чудом успевает одной рукой подхватить падающий мотоцикл, другой — летящего носом на асфальт мотоциклиста, а потом, прихрамывая, спешит за нами — черт бы побрал это непривычное движение!
Вечереет. Все тише на улицах. Закрываются магазины. С тротуаров исчезают прохожие, собаки, ослики. Все меньше и меньше автомобилей. В восемь часов улицы мертвы. Лишь из окон ресторанов доносятся приглушенные голоса, чуть слышна музыка да около кинотеатров прогуливается молодежь, дожидающаяся начала сеанса.
У нас еще есть время, и мы идем в кино. Сегодня в крупнейшом кинозале города показывают американский кинофильм «Мистер Тарас Бульба». Купив билеты, мы входим в прохладный полупустой зал, устраиваемся в удобных креслах и с интересом глядим на экран, готовясь встретиться с хорошо знакомыми, близкими сердцу героями. Мелькают кадры, играет музыка. На экране появляются то рекламно-красивые мужчины и женщины, то звероподобные физиономии одетых в невероятнейшие костюмы казаков. Пьяные оргии сменяются кровавыми стычками, стычки и пьянки сменяются «народными» украинскими плясками, более похожими на соревнования танцоров по буги-вуги или твисту. И снова пьяные дебоши, и снова натуралистически кровавые сечи… Сечи, во время съемок которых, пожалуй, было больше искалечено статистов, нежели во время настоящих битв запорожцев с поляками. Ну, а каков же сам «мистер» Тарас Бульба? В фильме он пьет литровыми кружками вино, купая в нем свои полуметровые усы, да в моменты протрезвления с кровожадным выражением рубит длиннющей кривой саблей «проклятых ляхов», которые словно снопы валятся под ноги взбесившихся коней. Почти весь фильм посвящен трагической любви американоподобного (черные блестящие волосы, высокий рост, ослепительно белые зубы, стопроцентная американская улыбка) Андрея к красавице польке. Мы покидаем кинозал и с полчаса молча идем по тихой улице, пытаясь изгнать из своей памяти душераздирающие крики истязуемых и умирающих людей, вытаращенные от ужаса глаза, раны, плещущие кровью.
К порту проходим по одной из старинных городских улиц, застроенных более двухсот лет типичными голландскими домами с окнами в частых переплетах, с высокими кирпичными крылечками, бронзовым молотком, чтобы стучать в дверь, и зарешеченным фонарем, освещающим подъезд.
Угомонился, успокоился город; где-то стукнули закрывшиеся на ночь рамы — по ночам здесь температура падает на шесть-семь градусов. Успокоились, заснули люди, но город не спит — в черном ночном небе мелькают небольшие летучие мыши, напоминающие маленьких ушастых собачонок; тревожно и нежно покрикивают какие-то ночные птицы, и оглушительно, самозабвенно заливаются цикады.
Под нашими ногами гудят, упруго прогибаясь, доски пирса.
Из-под самых ног разбегаются в разные стороны громадные, в палец величиной, портовые тропические тараканы. Днем они сидят, забившись в щели, а вечером вылезают на пирс и бегают по доскам, грозно шевеля длиннющими усами. Неприятные, отвратительные и небезопасные насекомые — от их укусов на теле образуются долго не заживающие нарывы.
Рано утром лоцман переводит наше судно в другое место — на несколько миль выше по течению, к топливной базе. Напротив нее, почти посредине роки, виднеется корпус двухтрубного немецкого грузо-пассажирского теплохода, затопленного командой в последние дни второй мировой войны. Около самого пирса растет громадное баньяновое дерево, покрытое светло-серой, какой-то морщинистой корой. На его ветвях сидят несколько бурых орлов. То одна, то другая птица иногда слетает с дерева и долго кружит над берегом — там, в вязкой серой тине, копошатся небольшие рыбы-верхогляды. Они названы так за свои глаза, которые разделены каждый как бы на две половинки. Двумя половинками глаз рыбы видят, что делается под водой, а двумя другими — что происходит над водой. Рыбы отлично видят большущие черные тени, мелькающие около самой поверхности роки, и при появлении орлов затаиваются в иле.
После обеда мы с Валентином отправляемся в городской ботанический сад, а Николай с Жаровым уходят в центр города кое-что купить. Мы же еще накануне потратили свои гульдены и теперь обходим магазины стороной.
Ботанический сад расположен на окраине города. Это обыкновенный тропический парк, кусок леса, отвоеванный у джунглей. Проложены дорожки, поставлены скамейки и посажены характерные для Южной Америки виды деревьев и пальм.
При входе в сад стоят высокие, с редкими ветвями, но все усыпанные красными цветами деревья, называемые местными жителями «кофелито». В их прозрачных кронах суетятся крикливые желтые и зеленые птицы, гоняющиеся друг за другом. Между цветущими деревьями красуются стройные кокосовые пальмы. Тут же пальмы с густой шапкой как бы расчесанных листьев и бутылкообразными стволами; очень красивы веерные пальмы, панайи и банановые деревья с широкими, длиной в полтора-два метра листьями, спускающимися к самой земле… Дальше — плантация кустов с орехами кола. Орехи кола, содержащие в себе возбуждающие, наркотические вещества, заключены в фиолетовые дынеобразные отростки, висящие на тонких стволах. Эти орехи сделали знаменитым американский напиток кока-кола: раньше в него добавлялись орехи — кола. Но в последниe годы американцы придумали заменитель, и от орехов кола в напитке сохранилось лишь одно название.
Рядом с плантацией кола виднеется плантация риса, а чуть дальше — помидоров. На помидоровой плантации работают школьники — они окапывают растения небольшими лопатками. Завидев нас, они бросают лопатки и, окружив, начинают гадать — кто мы? Шведы? Норвежцы? Датчане?.. Когда же говорим, что мы русские, мальчишки поднимают восторженный крик: русских они еще никогда не видели. Особенно их удивляет то, что мы коммунисты. Мальчишки рассматривают нас со всех сторон, трогают руками и задают разные наивные вопросы. А потом просят сфотографироваться с ними и прислать фотографии в школу номер 100 имени графа Цинзендорфа, во второй класс «Д»… Один из мальчиков объясняет, что в соседней школе есть фотография, на которой ученики одного из старших классов сфотографированы с американцами. Но, если они получат снимки из России, соседи, которые страшно дерут носы вверх, просто лопнут от зависти…
Вечером мы с Жаровым и капитаном оказываемся в гостях у владельца фирмы, обслуживающей нас, — мистера Лихтфельда. Он приехал за нами на прекрасном немецком автомобиле «оппель-капитан» и отвез в свою виллу на окраине города. В небольшой, но очень уютной вилле приятная прохлада — работают охладительные калориферы.
Мистер Лихтфельд, пожилой, но очень подвижный, энергичный мужчина, рассказывает, что его предки — французы — приехали в Гвиану более ста лет назад. Прадед его имел фамилию Леже, но во время всесуринамской переписи населения голландцы переделали все иностранные фамилии на свой манер. И Леже получил новую фамилию — Лихтфельд… Прадед, дед и отец хозяина дома женились на местных женщинах, и теперь, как выразился мистер Лихтфельд, он «почти чистокровный суринамец»…
Пока Виктор расспрашивает Лихтфельда о его фирме, я роюсь па книжных полках и встречаю много знакомых фамилий: Лев Толстой, Чехов, полное собрание сочинений Тургенева, «Тихий дон» Шолохова. Тут же много книг о шахматах и среди них — сборник избранных партий Ботвинника, Смыслова и Кереса.
Через полчаса Лихтфельд везет нас к своему другу, старому моряку Шеппарду, который очень просил познакомить его с русскими.
Шеппард, невысокий полнеющий мужчина в очках, встречает нас на пороге своего дома и долго трясет наши руки.
Во время второй мировой войны он, будучи капитаном минного заградителя, был спасен советскими военными моряками…
Из прихожей, на стенах которой висят картины, изображающие парусные корабли, мы, как по трапу, поднимаемся на второй этаж в «ходовую рубку».
«Ходовой мостик» весьма уютен: здесь есть все, что напоминает о море, — секстант, компас, карты, подзорные трубы, флаги и коллекция старинных револьверов, развешанные по стенам секундомеры, циркули и приборы для определения силы ветра. И вместе с тем сделано все так, чтобы в «рубке» можно было хорошо отдохнуть: вместо узких жестких морских диванчиков вдоль стен поставлены широкие мягкие кушетки; направо шкафчик с книгами и журналами, налево телевизор, а чуть в сторонке стойка, как в любом баре. С той только разницей, что перед ней есть еще рулевое колесо. Но рулевое колесо отличается тем, что оно состоит из винных бутылок. И, потянув за любую из ручек, можно вытащить либо бутылку джина, либо бутылку виски. Мы же вытащили бутыль холодного пива и с удовольствием выпили за оригинального хозяина «ходовой рубки», за тех, кто погиб в прошедшую войну, и за то, чтобы больше никогда люди разных наций не стреляли друг в друга…
Потом я листал журналы и разглядывал револьверы, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении поддельными, а капитан, Жаров и Лихтфельд философствовали о жизни.
Новый день был очень суматошным.
Мы получили воду, горючее, но не обеспечили себя продуктами: у мистера Дасса еще не прошел запой, начавшийся в день нашей встречи, и всеми делами по закупке продуктов занималась его крикливая, скандальная супруга, метавшаяся между магазинами, рынком и своим непутевым мужем, господином Дассом, который все время пытался, прихватив две бутылки джина, сбежать в джунгли.
С самого утра на «Олекме» опять появилось множество чиновников, которым требовалось оформить кипу всевозможнейших бумаг. А тут еще эта беспокойная супруга мистера Дасса. Продукты на судно она привозила по частям и все время почти вдвое-втрое увеличивала на них цены. Словом, вместо того чтобы идти в город, наши судовые знатоки английского языка Виктор Леонтьевич Жаров и Валентин Брянцев вынуждены были потеть над различными справками и актами. А мы с Николаем сошли на берег.
— И я хочу!.. — крикнул нам Валентин из иллюминатора капитанской каюты.
Выглядел он плохо: ночью побаливала ушибленная накануне нога и Валентин сомкнул глаза лишь под утро.
— «Ты не хмурь печальные глаза!» — сказал ему в ответ Николай текстом известной пиратской песни. — Мы тебе из джунглей костыль из красного дерева привезем…
Слова о костыле не взбодрили Брянцева: он вздохнул и отвернулся от иллюминатора. Наверное, опять склонился над очередным актом…
А мы уже спешили по утренним улицам Парамарибо к конторе мистера Лихтфельда, откуда нас обещали подбросить па автомобиле до местечка Ойткэйк, к утреннему боту, курсирующему по реке Сарамакке…
Бот маленький и пузатый. Он только что пришел с низовий реки, и на деревянную пристань высыпали смуглые креолы, плечистые, мускулистые негры, хлопотливые индонезийцы. Многие из них спешили в Парамарибо на базар и несли корзинки, бидоны, вязанные из травы кошелки, наполненные различными продуктами.
Хрипло откашлявшись, бот издал прощальный гудок и отвалил от пристани. Сильное течение реки толкнуло его в деревянные обшарпанные борта, в тупой форштевень, обитый ржавой железной полосой. Но ботик, с чавканьем выплевывая из трубы охлаждения мутную, грязную воду, выбрался на середину реки.
Наше путешествие по реке, стиснутой с двух сторон густым, опутанным лианами лесом, было коротким. Через час мы уже покинули бот, а еще через несколько минут нас окружила шумная толпа мальчишек. Перебивая друг друга, они предлагали показать нам все достопримечательности местечка Сантигрон: жилища буш-негров, дома яванцев и креолов, плантации риса и сахарного тростника.
— Мы хотим посмотреть крокодилов, — сказал Николай, и ребята растерянно замолчали: тут дело посложнее, чем дома и плантации.
— Аллигаторов? — переспросил один мальчуган и решительно дернул Николая за руку. — Идемте. Я покажу…
Сантигрон — небольшой городок, с небольшими домами и несколькими магазинами. Городок тихий, спокойный, населенный трудолюбивыми буш-неграми, обрабатывающими плантации, находящиеся вблизи от поселка. Предводимые нашим симпатичным тонконогим гидом, мы быстро вышли на окраину Сантигрона и остановились перед небольшим домом, около которого лежала легкая долбленая пирога, а к стене было прислонено весло.
— Здесь живет караиб, — сказал мальчишка, сделав большие глаза, и, кивнув на бревно, вошел в жилище.
— Караибы прекрасные охотники, — сказал я с уважением.
— Да, я где-то читал про них. Стреляют маленькими отравленными стрелками, выдувая их из трубок, — тихо сообщил мне Николай. Потом добавил: — Когда-то я мечтал увидеть живого индейца.
Я тоже мечтал о такой встрече. Мечтал, и вот сейчас эта встреча произойдет. Но где же он, американский индеец? Караиб?
Ожидая хозяина, мы осмотрели жилище. Стены дома искусно сплетены из пальмовых листьев и соединены узкими рейками, а крыша опускается от самого конька до земли. Над входом висит веревка с сырым бельем, а у дома под крышей лежит несколько сухих тыкв — в них хранят воду.
А вот и хозяин дома! Из дверей, нагнувшись, вышел высокий скуластый мужчина. Чуть приплюснутый нос, плотно сжатые, резко очерченные губы и спокойный, внимательный взгляд подчеркивали характер человека — решительный, волевой.
— Гуд мориинг, — сказал мужчина и протянул нам широкую мускулистую ладонь. — Джон Харт… Что бы вы хотели?
Порывшись в карманах коротких холщовых брюк, он достал пачку американских сигарет «Кэмел», зажигалку и закурил, ожидая нашего ответа. Мы с Николаем переглянулись: сигареты и зажигалка — вот тебе и караиб! Индеец! Ах уж эта зажигалка! Щелкнув, она зажгла сигарету, но чуть-чуть не затушила всю романтику нашего знакомства с настоящим караибом…
— Они хотят аллигаторов, — объяснил мальчик, — посмотреть природу…
Харт понимающе кивнул головой и, подставив сухую тыкву, сел напротив нас. Выпуская из ноздрей струйки дыма и еще больше щуря от него глаза, индеец поинтересовался: кто мы? Откуда? Русские?.. Гм, русские… Он опустил голову, поскреб ногтями в голове и, загибая пальцы, стал перечислять:
— Шведы — знаю, датчане — знаю, американцы были, — один длинный бутылку виски подарил, англичане — знаю… один толстяк весло мое увез… А вот русские — не знаю.
Николай начал объяснять, где находится Россия, но, видя, что караиб ничего не понимает, махнул рукой и спросил, может ли он быть нашим проводником в джунгли и показать там что-нибудь интересное.
— Могу, — ответил Харт. Говорил он на плохом английском языке. Пожалуй, еще даже более плохом, нежели тот, которым пытался выдавать за английский Николай. Но то, что оба они плохо знали язык и произносили только отдельные слова или куцые фразы, помогало изъясняться. — Могу, я многих людей водил в джунгли. И возил на лодках. Меня все знают на Сарамакке. И буш-негры, и караибы, и аровак… Я знаю язык таки-таки, но я имею мало времени. Один месяц…
— А мы еще меньше, — успокоил его Николай, — всего один день.
Харт подумал, загасил сигарету о твердую, будто камень, голую пятку и понимающе кивнул головой: всего день! Ну что ж, о'кей! Он поднялся и махнул нам рукой: дескать, пойдемте…
— Покажет аллигаторов, — сказал мальчик. Аллигаторов! Живых. Вот здорово… Николай ткнул меня в бок кулаком и шепнул:
— А если какой из них кинется на нас? Может, сказать, чтобы он ружье взял?
Я пожал плечами — кто его знает…
Харт подвел нас к маленькому сарайчику, сооруженному из кольев, и открыл дверь, приглашая войти внутрь. В нос ударил резкий сладковатый запах. Когда глаза привыкли к темноте, мы увидели, что под крышей сарайчика висят подвешенные к жерди четыре или пять небольших крокодилов. Пасти их были широко разинуты, а чтобы челюсти не сдвигались, во рту виднелись палочки.
— Кайманы, — сказал Харт, — сувениры…
Ах, вот в чем дело! Харт делает чучела кайманов, которые продаются в одном из магазинов Парамарибо по десять гульденов за штуку. А мы-то думали!..
— Пойдемте, — тронул Харт меня за рукав, — на реку. Вместе с мальчишкой он стащил лодку в воду, взял весло и кивнул нам головой. Мы сели на дно лодки, на сухую траву. Харт столкнул пирогу с мели и легко вскочил в нее…
Весло у него однолопастное, узкое и длинное. Он то отталкивался им от дна, то подгребал. Плыли вдоль самого берега, порой задевая головой лианы и различные растения, свешивающиеся в воду с прибрежных деревьев. Лес на берегу плотный, непроницаемый. Деревья, обвитые лианами, теснились друг к другу. Живые деревья и канатообразные лианы поддерживали засохшие, погибшие. У оснований стволов громоздились гнилые сучья, обломанные ветки, покрытые ядовито-зелеными пушистыми мхами… А лианы лезли в вышину, обвивая своими гибкими плетями стволы деревьев… На лианах тоже растения— кусты с острыми, словно кинжалы, листьями. Из зеленых и синеватых кинжалов торчали оранжевые цветки на полупрозрачных желтоватых стебельках. С лиан свешивались к самой воде седые, будто нерасчесанные, бороды лишайников, а может быть, и мхов. По ним бегали оранжевые насекомые с крупными твердыми крыльями… Тут же летали, сверкая, как драгоценные камни, зеленые и фиолетовые мухи. Они то срывались с кустика, то дружно, как по команде, садились на кинжалообразные листья. Харт показал веслом вверх, в гущу ветвей баньянового дерева. Там сидели, плотно прижавшись к стволу, две мартышки. Увидев, что мы заметили их, животные метнулись в чащу и скрылись… А вот стайка небольших желтых попугайчиков. Они перелетают с ветки на ветку и, переворачиваясь вниз головой, выискивают что-то на серой морщинистой коре.
В одном месте Харт резко повернул лодку к берегу, и мы оказались в небольшой чистой речушке, впадающей в реку Сарамакку. Здесь царил густой сумрак, воздух насыщен резким запахом гниющих растений. Пригнув головы, мы плыли в этом зеленом тоннеле. Казалось, что сверху, из хаоса ветвей, вот-вот упадет на нас какой-нибудь ядовитый паук или холодная зубастая змея. Может, где-то над нашими головами затаилась знаменитая анаконда? Нервы так напряжены, что, когда у берега речушки, под кустарниками, что-то громко всплеснуло, мы с Николаем вздрагиваем и испуганно глядим на расходящиеся по воде круги.
— Кайман? — спрашивает Николай Харта.
Тот несколько минут молчит — в это время мы объезжаем торчащее из воды дерево, — а потом говорит:
— Нет. Это не кайман. Кайману там делать нечего. Это ахиоемара… зубастая рыба… большая, в пол-лодки. Ее и кайманы боятся…
— А какие еще рыбы есть в речке? — интересуюсь я.
— Какие? Разные. Есть прари-прари. У нее голова большая, широкая. Мясо невкусное, жесткое… Есть рыба коеви… эта вкусная. И еще есть рыба кви-кви… Очень хитрая рыба. Она вся покрыта панцирем, а на голове — усы. Трудолюбивая рыба… все время в иле копается, корм ищет…
Чувствовалось, что Харт с удовольствием говорит об этой рыбе. К сожалению, недостаток английских слов не позволил поговорить нам подробнее о рыбах.
— А еще есть рыба пирен… очень плохая рыба. Я ее покажу…
Минут через десять зеленый тоннель кончился. Речка немного расширилась, слева показались чистый берег и легкое строение под травянистой крышей. Лодка ткнулась в мягкую коричневую землю, и мы выскочили из нее. Харт наполовину вытянул лодку из воды, зашел в хижину, а через минуту вышел оттуда с длинным ножом — мачете.
— Идемте, — сказал он, и мы послушно двинулись за ним по едва заметной тропинке.
Харт и мальчишка шли босиком. Мне все казалось, что какое-нибудь существо, притаившееся в траве, может укусить их. Но они шли совершенно спокойно и даже не глядели под ноги. Иногда Харт взмахивал мачете, разрубая лианы, или мальчишка указывал нам на кустики, покрытые круглыми, похожими на наш репей колючками. Уже сотни таких колючек впились нам в брюки и носки. Они немилосердно царапали кожу, но выдергивать их было некогда — Харт шел быстро, и мы едва поспевали за ним.
В джунглях всегда душно и влажно. Воздух насыщен испарениями и резкими, терпкими запахами, от которых слегка кружилась голова. По лицам и спинам струился ручейками пот. Мы дышали широко раскрытыми ртами и слизывали с губ едкие соленые капли.
А кругом ключом била жизнь: стрекотали, цвиркали цикады, в глубине леса призывно, таинственно вскрикивала птица, и ей с другой стороны леса отвечала другая. В нескольких шагах от нас села на сухой кустик черно-синяя птица с длинным хвостом и клювом, словно у попугая. Она без всякого интереса посмотрела на нас и склевала с кустика сухую ягоду.
— Кофутбой, — назвал ее мальчик.
Птица, как будто услышав свое имя, приветливо закивала нам головой, а потом, вскрикнув, улетела.
Вокруг пылающего фиолетовыми цветами куста суетятся несколько длинноклювых маленьких колибри. Головы их и шеи отлиты словно из золота: ослепительные искорки вспыхивают в оперении, да так ярко, что невольно зажмуриваешь глаза. Подлетев к цветку, колибри всовывает в него длинный клюв и, трепеща крыльями, как бы повисает на одном месте. Выпив нектар, колибри перелетает к другому цветку, к третьему…
И снова над головой сомкнулся зеленый, непроницаемый для солнечных лучей свод. Ноги наши давно уже мокрые. С тоской поглядываю я на усыпанные колючками, изжеванные брюки.
Харт предостерегающе поднял руку над головой, а потом поманил нас к себе. Он осторожно раздвинул ветки, и мы увидели медленно текущую, почти черную воду, а на берегу — небольшого, в метр, крокодила. Крокодил, как видно, услышал шаги, приподнялся на лапах н настороженно смотрел в нашу сторону желтыми, с узкими зрачками глазами. Харт крикнул, крокодил бросился к воде и вдруг остановился, упал, задергался и начал колотить но земле и воде своим хвостом. Харт подбежал к нему, и, когда подошли мы, животное уже судорожно подергивало лапами. На одной из них была туго затянута упругая петля; несколько таких же петель я заметил в траве. Они были накрепко привязаны к вбитым в землю кольям, а около петель валялись зловонные куски мяса.
Не теряя времени, Харт перевернул каймана на спину и быстрым, ловким движением распорол ему брюхо. Пока мы с Николаем выдергивали из носков колючки, индеец снял с крокодила шкуру, как одежду, и, взяв ее за хвост, начал полоскать в воде. У берега было очень мелко; шкура плохо полоскалась, и я показал ему рукой: дескать, зайди поглубже. Харт усмехнулся и покачал головой:
— Но… нельзя…
Бросив шкуру, он срубил ветку, достал из кармана бечевку и привязал к ее концу кусок мяса. А потом, словно удочкой, забросил мясо в воду. Через несколько минут в том месте, где лежало в воде мясо, вода закипела. Харт приподнял его над водой, а мы увидели вцепившихся зубастыми ртами двух плоских широких рыбин, покрытых переливающейся зеленой и синей чешуей. Рыбы упали в воду, а потом сначала одна, а затем сразу три выскочили из воды и вценились опять в мясо, пытаясь оторвать от него хоть кусочек. Харт резко дернул палку, и две рыбины вместе с мясом шлепнулись в траву. Я поспешил к ним, протянул руку, но, услышав предостерегающий крик Харта, отдернул ее. И вовремя: одна из рыб, звонко щелкнув зубами, чуть не схватила меня за ладонь. Одним взмахом мачете индеец отсек рыбе голову и осторожно взял ее за жаберные крышки. Зубастая пасть рыбы судорожно разевалась.
— Пирен, — сказал Харт и бросил рыбью голову в черную, с едва заметным течением воду, — плохая рыба. Корову, человека съест. В такую реку входить нельзя: пирен съест…
Пирен. Я уже понял, с кем имею дело, — страшная рыба Америки — пиранья. Реки, в которых обитают эти рыбы, опасны для всех: для коней, быков, людей. Рыбы стаей набрасываются на оказавшееся в воде животное и буквально дочиста, до скелета, пожирают его. Даже кайманы и те побаиваются больших косяков пираний — слабый, больной или израненный крокодил тоже становится добычей этих беспощадных рыб.
Через час мы вернулись к нашей лодке и отправились в Сантигрон.
Уже темнело, когда мы поднялись на борт «Олекмы», где около горы продуктов, отмечая что-то в блокноте, бродил Валентин.
Парамарибо покидаем поздно вечером. Кок, боцман и кто-то из матросов стоят на палубе, облокотившись на планшир, и переговариваются, делятся впечатлениями.
С берега, как прощальный привет, несется пронзительный звон цикад. Мимо проплывают, таинственно подмигивая красными глазами, бакены.
— Неплохой городишко, — слышится задумчивый голос кока, — тропический… Только и здесь настоящих волосатых пальм я не видел.
— Каких это — волосатых? — удивляется боцмаи.
— Да как у нас в ресторане были. С мохнатыми такими стволами. В кадках стояли. А у здешних стволы лысые, словно побритые.
Огни Парамарибо тускнеют, быстро отстают. Вот и окончилась встреча с этой далекой страной. В бинокль еще видны опустевшие улицы Парамарибо, освещенные синими, желтыми и белыми лампами реклам. Река делает поворот, и за кормой судна становится темно. Прощай, Парамарибо… Креолы, негры, индейцы, индонезийцы… прощайте все. И ты, Харт, приоткрывший нам тайны твоих родных джунглей, и вы, мальчишки из школы имени какого-то графа Цинзендорфа. Прощайте, забавный чудак Шеппард. Скучаете небось в своей комнате-рубке? Прощайте, суринамцы. И ты, безвестный настойчивый парикмахер. Жаль, что лишил я тебя небольшого заработка. Но ведь борода мне пока нужна: я иду на Кубу, а там все мужчины бородатые. Мне же хоть чем-нибудь хочется походить на людей острова Свободы…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Море страшных легенд. Саргассы. Антильское ожерелье. Исчезновение кока. Пролив Мона. «Орион» над мачтами. Древние флибустьерские места. Рыба-молот, вату и барракуда. Синий людоед. Праздник у острова Гаити. Морская лисица.
Мимо судна, как растрепанные рыжие парики, плывут водоросли. Это саргассы, покрывающие многие тысячи квадратных миль водной поверхности в западной части Атлантического океана. Место, где живут плавающие водоросли, называется Саргассовым морем… С каждым днем водорослей встречается все больше и больше. Сначала в воде колыхались отдельные пучки, потом появились группки, а теперь встречаются поля саргассов. С каждым днем водорослей за бортами все больше.
Мы идем в Саргассово море. В юго-западной его части мы будем продолжать поиск тунцов.
Идем в Саргассово море вдоль островов. Их острые гористые вершины маячат с левого борта: острова, острова, острова… Острова тянутся от Южной Америки до Северной — Малые Антильские, Багамские острова, Большие Антильские острова.
Всю эту цепь островов называют Антильским ожерельем. Действительно, если посмотреть на карту, то похоже, что кто-то бросил на голубое поле океана тяжелое ожерелье. Нитка, скрепляющая то ожерелье, порвалась, и хищные любители драгоценностей из разных стран торопливо расхватали отдельные бусины.
Антильских островов очень много. Больших и маленьких. Каждый имеет свое название, и почти около каждого из них на голубом поле карты написано мелкими буквами: «Фр.», «Брит.», «США».
Но возле самого большого острова ожерелья нет мелких букв. Это дорогая всем нам Куба. С каждым днем мы приближаемся к острову Свободы.
А пока идем работать в Саргассово море и в центральную часть моря Карибского, чтобы хорошо изучить эти районы, чтобы дать соответствующие рекомендации молодой малоопытной рыбной промышленности революционного острова.
Минуем остров Барбуда. Много веков назад здесь был высокий действующий вулкан. Теперь жерло его разрушилось и больше не грозит никому ни огненной лавой, ни раскаленным пеплом. Вокруг острова бьются океанские волны в рифы, окружившие остров почти со всех сторон.
— Какой красивый остров! — говорю я капитану, рассматривая в бинокль рыжие откосы древнего кратера, зеленые леса у подножия деревушки.
— Паршивый, отвратительный остров, — отвечает капитан, — погляди-ка влево… Видишь?
Я смотрю влево — на рифах громоздится груда ржавого искореженного железа: по-видимому, обломки были когда-то быстроходными судами.
— Да, когда-то были, — усмехается капитан, — а ты говоришь «красивый»… Этот рыжий хлам на рифе мне весь пейзаж портит. Как увижу такой лом, так и представляю себе, каким толчком был остановлен бег судна… как оно лезло, карабкалось с ужасным скрежетом на риф… как врывалась с грохотом и ревом в трюмы вода… кричали гибнущие люди… А на рифах Барбуды погибло десятка полтора судов. Идя взгляни на карту — они там все изображены значком: крестик в продолговатом овале.
Время на переходах тянется обычно медленнее, чем во время поиска. Матросы начинают опять шкрябать судно — сдирать старую краску, суричить очищенные места. После работы в Карибском море судно будет покрашено заново, чтобы войти в Гавану чистым, свеженьким. С утра покрасили коридор. Старший помощник капитана предупредил всех:
— Внимание! Коридор покрашен — краску на лапах не разносить! А то некоторые идут по коридору и руками за стены хватаются…
Ну что ж, распоряжения начальства нужно выполнять. Ходим по коридору, словно по натянутой проволоке: сильно качает, и приходится балансировать корпусом и поднятыми над головой руками, чтобы удержать равновесие. Это сложно, но мы стараемся и краску на «лапах» не разносим.
Боцман помог сделать мне громадный сачок — зюзьгу, и я вылавливаю им водоросли. От них исходит малоприятный лекарственный запах.
Саргассы окрашены в рыжий цвет. На стебельках водорослей небольшие листики и множество кожистых шариков, наполненных воздухом. На этих шариках водоросли и держатся на плаву. Каждый крупный пучок саргассов — это маленький плавучий мир со своими характерными обитателями. Приглядываюсь внимательно — по стебельку ползет почти прозрачный плоский крабик-планес. Он величиной с пуговицу от рубашки, но вооружен такими же клешнями, как и самые большие океанские крабы. Эти клешни наводят ужас на других, еще более мелких обитателей плавучего мирка. А тут повис, уцепившись хвостиком за стебелек, миниатюрный морской конек — рыбка, по форме напоминающая шахматного коня. Конек не плавает, а перепрыгивает с веточки на ветку. В следующий улов мне вместе с саргассами попались рыбки, которые, будто горошины, высыпались из сачка и звонко запрыгали по палубе, — маленькие рыбки с желтыми глазами и прозрачными плавничками. Тела их покрыты твердой розовой скорлупой, поэтому они и прыгают, словно горошины. А вот рыбка покрупнее, она чуть поменьше моей ладони. Интересно, что рыба эта сама попалась в сачок. Она плавала вместе с водорослями — таилась в тени саргассов. Когда же я подцепил тугой рыжий комок, рыбка испуганно метнулась вслед за водорослями и очутилась в сачке. Рыбка эта — спинорог. Она плоская, зеленовато-синяя, с острой зазубренной колючкой на спине, о которую можно больно поцарапать руку. Губы у спинорога мясистые, розовые, и он ими все время шевелит, словно считает шепотом.
Спинорогов мы часто вылавливали вместе с водорослями: прячась под ними, рыбки совершают дальние путешествия. В случае же опасности спинороги забиваются в самую середину водорослей, но это их не всегда спасает: в желудках тунцов мы иногда находили комки водорослей, а в них — спинорогов и россыпи рыбок-горошин.
Саргассово море встретило нас удивительной тишиной, прохладным ветерком и нежарким солнцем. Штиль. Не море — зеркало, в которое заглядывают толстые, белые облака и прозрачные серебристые тучки.
Море пустынно. Мы работаем в стороне от пассажирских линий и торговых путей. Сутки за сутками бороздит «Олекма» зеркальные саргассовы воды. Горизонт чист — нигде ни дымка. Мы ищем здесь рыбу, но без успеха: уловы на ярус небольшие. Попадаются совсем маленькие желтоперые тунцы, весом не больше сорока — пятидесяти килограммов, макрели да тощие белые марлины с синими поперечными полосами.
— Как в тельняшках, — говорит про них боцман, — ишь, матросы!
Мы были на самом краю моря, несколько севернее Антильских островов. Но и здесь поражались обилию плавающих водорослей. Погруженные в воду, они плыли и плыли мимо судна, и казалось, что вода не голубая, а желтая.
Море. Саргассово. Одно из немногих морей, завоевавших у моряков всего мира не менее дурную славу, нежели вечно неспокойный Бискайский залив. Про это море ходят самые невероятные легенды. «Море призраков», «обитель мертвецов», «таинственное море» — так называют эту часть Атлантики в различных приключенческих рассказах, повестях и романах. Чем же снискало Саргассово море столь необычную популярность?
Во всем виноваты водоросли — саргассы, которые покрывают всю поверхность моря. Для обитания саргассов здесь благоприятные условия, и они разрастаются в море в громадном количестве. Вокруг моря действует своеобразное круговое течение. Оно невидимым обручем удерживает водоросли — завихрения вращаемых течением вод как бы сбивают водоросли к центру моря. Там их накапливается такое количество, что в древние времена парусные корабли вязли в них и мореплаватели страдали от жажды, голода и проклинали тот день, когда решились, экономя время, идти через Саргассово море напрямик. Вот тогда-то и стали возникать легенды о кораблях-призраках, населенных мертвецами, будто те корабли, как и водоросли, сбиваются течениями в самый центр моря, и там покачиваются на чуть заметной волне десятки, сотни галер, в весла которых вцепились желтые руки скелетов; о бригантинах и корветах с капитанами на мостиках, глядящих из-под треуголок пустыми глазницами…
Вечереет. Прямо по нашему курсу опускается в море пылающий солнечный диск. Я стою на верхнем мостике. В этом таинственном море закат очень красив! Прозрачное, насыщенное голубым, зеленым, оранжевым цветом небо; алая, вспыхивающая белыми искрами вода; живописные облака, опустившиеся па линию горизонта.
Облака… Да нет же! Это не облака! Это корабли… Я напрягаю зрение и вижу их розовые, истлевшие паруса, сгнившие, болтающиеся лохмотьями ванты, поломанные мачты. Из черных бойниц какого-то брига зловеще глядят в нашу сторону чугунные пушки, и матросы, прильнув к ним, ждут команды от командиров. Призрачные корабли не стоят на месте; да, они двигаются! Они направляются в нашу сторону… Я вижу, как шевелится гнилая парусина, пытаясь уловить ветер, как высохшие люди в красных головных повязках протягивают в нашу сторону тонкие, словно плети, руки… Мертвые корабли распухают, разрастаются на глазах… Они надвигаются, молчаливые, зловещие, словно омытые, окрашенные кровью в рубиновый цвет. Окрепшие ветром паруса одного из кораблей выросли над самыми мачтами «Олекмы». Я уже слышу глухой стук. Это готовится идти на абордаж его лихая команда. Еще нмемного, еще, и… и в этот момент солнце прячется за горизонт. Солнце прячется, и немые призраки исчезают — это всего-навсего живописные облака. Вода, водоросли и живописные к вечеру облака. Вот, пожалуй, и все, что можно обнаружить в «таинственном» Саргассовом море. Ну, а если уж ко всему тому прибавить фантазии, тогда и появится какая-нибудь новая легенда.
В Саргассовом море с нами не произошло почти никаких необычных, таинственных историй, если, правда, не считать исчезновения кока. Исчезновение кока произошло через неделю после того, как у него кто-то стащил «Книгу о вкусной и здоровой пище». День-два кок грустил, даже похудел. Он бродил по судну и замогильным голосом спрашивал: «„Вкусная и здоровая пища“ потерялась… Вы не находили?» Нет, мы ее не находили. С вкусной и здоровой пищей мы распрощались, пожалуй, в тот момент, когда вступили на палубу «Олекмы»… Погрустив день-два, в течение которых мы питались консервами, чаем и черствым хлебом, кок опять появился на камбузе. Первый же его обед, приготовленный без поваренной книги, нас всех привел в восторг: были превосходнейшие щи, отличные котлеты и чудесный компот. И еще поджаристые, хрустящие булочки. Во время этого обеда в салоне царило радостное оживление, нарушаемое лишь веселыми выкриками:
— Кокша! Щей еще… лей по планшир!
— Кокочка, еще второго. Ну не жмись… Да не оскудеет рука дающего!
За несколько этих удивительных дней команда заметно окрепла, лица матросов приятно округлились, и работа шла с прибаутками и смехом. А потом… потом кок исчез. Его пропажу обнаружил камбузник Аркадий в десять часов утра, когда уже нужно было вовсю шуровать на камбузе. «Пропал кок…», «Петрович исчез…» Тревожный слушок змейкой проскользнул в каюты, в машинное отделение, на палубу. Судно остановилось, прекратили выбирать ярус. Матросы, боцман, бригадир начали шарить по судну, разыскивая злосчастного кока. Заглянули под чехлы в шлюпки — иногда кок после совсем плохого обеда любил отдыхать в них, чтобы не беспокоили. Но в шлюпках нет. Посмотрели под плотики — иногда он отдыхал и там, — тоже нет. На мостике нет, в каютах нет. Нигде нет. Вахтенный штурман, поднявшись на верхний мостик, шарит биноклем по морю — может, выпал, бедняга, и взывает сейчас о помощи, отбрыкиваясь пятками от акул? Но нет, горизонт чист… И вдруг откуда-то послышался придушенный отчаянный крик.
— В трюме!.. — сказал капитан и, облегченно вздохнув, смахнул с лица испарину. — В кормовом… Ну-ка, давайте его сюда!
Гулко лязгнула лючина трюма, и из его сырой темноты, щуря заспанные глаза, зевая и вежливо прикрывая рот ладонью, выбрался наш Иван Петрович. Оказывается, полез он в трюм за подсолнечным маслом, а лючина мешала работать, ее и закрыли. «Сейчас откроют», — решил кок, присел на мягкий тюк с сетями, потом прилег… И приснилось ему что-то очень-очень хорошее, домашнее, не то уютные стоптанные шлепанцы, в которых он любил выходить в свой сад, в зеленом городке Виноградске, не то еще что-то.
Вот и все, что произошло с нами в Саргассовом море. И теперь, вспоминая о плавании в его спокойных водах, я буду знать, что, кроме таинственных кораблей-призраков, там бывают и не менее таинственные исчезновения поваренной книги и ее владельца — судового кока.
Покинув Саргассово море, мы направились в прославленное когда-то пиратами Карибское море. И если дурная слава моря Саргассова создавалась в основном писателями, то Карибского— такими знаменитыми в свое время людьми, как пиратские адмиралы Дрейк и Морган, как полулегендарная кровавая личность капитан Флинт, и другими адмиралами, капитанами и просто владельцами корсарских судов, на мачтах которых развевался черный флаг с белым ухмыляющимся черепом. Несколько столетий свирепствовали в Карибском море отчаянные корсары, подстерегавшие на судоходных путях купеческие корабли или бригантины соперников.
О тех сражениях и схватках могли бы рассказать фиолетовые глубины Карибского моря, в которых еще и сейчас догнивают деревянные корпуса, обшитые листовой медью. А где-то на островах в укромных пещерах таятся несметные сокровища, может навсегда ускользнувшие от человеческих рук. Последним, кто пиратствовал в этом море, был знаменитый «чистый пират», адмирал Френсис Дрейк. Чистым он называл себя потому, что, в отличие от других пиратов, работавших, предположим, на Британию и грабивших французские корабли или, наоборот, работавших на Францию и грабивших английские суда — в отличие от них Дрейк работал только на себя: он грабил и топил все суда подряд, под каким бы флагом они ни встречались на его пути. Но адмирал знаменит не только пиратскими набегами, а тем, что он сделал замечательное открытие: открыл пролив, ныне носящий его имя. Изгнанный из Карибского моря, преследуемый судами англичан и французов, он решил перебраться в Тихий океан, обогнув Южную Америку. Однако в Магеллановом проливе его ждала засада; узнав об этом, Дрейк спустился еще дальше на юг и обогнул Огненную Землю, установив тем самым, что Южноамериканский материк не соединяется с Антарктидой, как до того предполагали ученые и мореплаватели.
Ранним солнечным утром «Олекма» вошла в пролив Мона, отделяющий остров Пуэрто-Рико от острова Гаити, и с хорошей скоростью, подгоняемая Гвианским течением, вливающимся в море, понеслась по мутноватой, грязной воде. В небольшой волне бултыхаются волосатые кокосовые орехи, зеленые бамбуковые стволы, переплетения сучьев и еще какой-то хлам… Над мачтами низко летают птицы. Острокрылые, черные, с белой манишкой на груди и длинными раздвоенными хвостами. Таких мы раньше и не видели. По левому борту маячит угрюмый скалистый остров Десечео. Показывается более крупный остров Мона, излюбленное корсарами местечко: в его бухточках когда-то таились стремительные, быстроходные корабли. На острове Мона жили и береговые пираты: по вечерам они зажигали, как маяки, огни. Суда, спешащие после дальнего плавания запастись свежей водой и провизией, шли на эти огни и разбивались о рифы. И все, что было в их трюмах, делили между собой море и люди, разложившие предательские огни.
На острове Мона давно нет тех грубых примитивных пиратов, способных под вопли брошенных в муравейники жертв бочонками вливать в себя ром. Остров Мона, находящийся в центре одного из важнейших проливов Карибского моря, уже давно оказался в цепких американских руках. На нем сооружена американская военная база. И, может, сейчас на острове звучит команда и солдаты в костюмах цвета хаки бегут к скорострельным пушкам и, тренируясь, наводят их на небольшой рыбацкий теплоход, идущий вдоль острова…
Солнце, голубое небо, небольшой прохладный ветерок, дующий с норд-оста, черные длиннохвостые птицы над фок-мачтой, остров Мона с правого борта. И еще — песня… Судовой «радиомен» Слава приготовил ее специально для Карибского моря. Над палубой, надстройками несется к голубому небу и солнцу насыщенная романтикой и соленым ветром, гудящим в снастях, песня:
Капитан, обветренный, как скалы, Вышел в море, не дождавшись дня, На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина…«Пьем за яростных, за непокорных… только чуточку прищурь глаза… В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса…» — песня, полная романтики и соленого ветра, гудящего в снастях. Сколько раз мы пели эту любимую студенческую песню на берегу! Пели и представляли себе и яркое солнце, и свежий ветер, и синее дальнее море.
Дальнее море, вот оно открывается нашим глазам — синее, с фиолетовыми контурами острова Пуэрто-Рико на горизонте… Здесь, в море, родная песня, которая так здорово звучит на берегу, приняла для нас неожиданный смысл: да, вот оно, то море, о котором многие из нас когда-то мечтали! Дальнее, синее и небезопасное!
Справа по корме тают неясные контуры острова Мона; расплывается в дрожащей от зноя дымке силуэт острова Пуэрто-Рико. Всего какой-то час-два погуляли наши глаза по земле, и вот уже снова кругом море… Правда, не на столь уж долгий срок — через две недели мы зайдем в Гавану… Через две, а пока — ярусы и уже осточертевшие станции, ловля планктона, промеры и взвешивания рыб. Вон уже Жаров вытащил на солнце планктонные сетки; они дырявые, и Виктор вдевает иголку в трехметровую нитку, чтобы заштопать. Вздохнув, я спускаюсь с мостика, и в этот момент над мачтами судна с оглушительным ревом проносится сине-зеленый самолет.
— Всем покинуть палубу! — раздается голос вахтенного штурмана.
Сделав разворот, самолет опять несется на нас. Он снизился почти до самой воды, по ней даже видна рябь от разогретого воздуха, выбрасываемого двигателями… С бешеной скоростью железная ревущая махина мчится прямо на судно… Вот самолет совсем рядом… Отчетливо видны белые рубашки летчиков и розовые пятнышки их лиц. Они же врежутся в нас!.. В последнее не уловимое ни для зрения, ни для слуха мгновение громадная четырехмоторная машина, пахнув едким запахом отработанных газов, подскакивает в воздух и проносится над судовыми антеннами. Это был американский патрульный самолет. Штурман «Олекмы» записывает в вахтенный журнал его бортовые знаки, осматривает небо и горизонт в бинокль: нет, больше не видно.
Я выхожу на палубу.
— Хватит рот разевать, — ворчит Жаров, пытаясь распутать нитку, обмотавшуюся вокруг ног, — бери вторую иглу и штопай. Знаешь, как это делается? Вот так иголку втыкают и тянут. А потом снова то же самое…
Подражая Жарову, я тоже отрываю нитку подлиннее, и мы делаем на нежном шелковом теле сеток грубые рубцы.
Известно, что в Карибском море, как нигде, много акул. На первом же перемете почти все тунцы, кроме трех попавшихся в последний момент, были объедены акульими зубами. И тут же около тунцов бились толстобрюхие пакостные двух-трехметровые акулы-быки. Так их называют за толстую башку и неповоротливость. Освободив из пасти хищницы крючок, мы с чувством удовлетворения вырезали акулам челюсти, мстя за испорченные тралы. А потом выпускали в океан, где их в несколько минут разрывали на клочки другие акулы.
Скучный, утомительный и безрезультатный ярус: акулы, объеденные тупцы и снова акулы…
Но вот в воде мелькнуло чье-то тело не совсем обычной формы. Сильная рыбина так рванула хребтину, что она соскочила с роликов ярусоподъемника. Поднатужившись, ребята подтащили необычное существо поближе к борту, вода вскипела, и нашим глазам предстала отвратительная сплющенная башка с серпообразным ртом и вытаращенными глазами. Через несколько минут странная рыбина появилась на палубе. Это была акула-молот, названная так за форму своей головы. Оказавшись среди людей, рыбина несколько раз вяло махнула хвостом и успокоилась. Я осторожно дотронулся до глаза — он не реагировал на прикосновение. Бывало часто, что акулы, только что бешено хлеставшие по палубным доскам хвостами, внезапно успокаивались. Но стоило подойти к какой-нибудь из рыбин, как упругое тело вновь взметалось в воздух… Чтобы точно убедиться, что акула сдохла, следует потрогать, предположим, палкой ее глаз. Если рыба еще жива, то из расщелины сбоку глаза выскакивает твердое кожистое веко — «ширмочка». Если же «ширмочка» не двигается, можно смело ходить около акулы, не опасаясь, что ударом своего хвоста она переломит вам ноги…
Сфотографировав акулу-молот, я передал ее в руки боцмана. Петрович не пропускал почти ни одной акулы, чтобы не вспороть ей живот. Он преследовал две цели: удовлетворял свею ненависть к акулам и знакомился с содержимым ее желудка.
Акулы неразборчивы в пище. Известны случаи, когда в желудках хищников находили бутылки с записками, бинокли, капитанские кортики и даже драгоценности.
Петровичу не везло. Ничего, кроме железных банок из-под консервированных сосисок и какой-то прокисшей газеты, внутри акул он не обнаружил. Сначала мы немного посмеивались над боцманом, но потом и я взялся за нож. Дело в том, что со мной, вернее, с моим фотоаппаратом произошла крупная неприятность. Случилось вот что: мне очень хотелось сфотографировать акулу не с борта судна, а из-под воды. Но лезть в воду ради такого снимка было слишком рискованно, и я сделал небольшое приспособление для подводной фотосъемки. В кусок органического стекла вмонтировал стекло, прикрепил перед ним «Зоркий» и все это приспособление одел в тонкий резиновый мешок. Перед съемкой взводился автоспуск, и подводный фотобокс спускался в воду на бечевках. Акулы все время плавали рядом. Они с интересом отнеслись к моему изобретению и подплывали поближе: дескать, что это за штуковина болтается на веревках? В тот же момент срабатывал затвор, и я выдергивал аппарат из воды… Сделав так три снимка, я в четвертый раз замешкался, и крупный бык, быстро хамкнув, проглотил все мое сооружение… Я потянул веревки на себя, но не тут-то было: акула рванулась так, что от капроновых концов на моих ладонях остались две розовые болезненные полосы… И вот, вооружившись ножом, я вскрываю акульи животы в надежде обнаружить свой фотоаппарат. Но, увы, аппарата нет. Остается успокаивать себя маленькой злой надеждой, что у того проклятого хищника от моей камеры произойдет жестокое несварение желудка и он подохнет в страшных мучениях. Ну, а если я прочитаю где-нибудь, что в акульем животе обнаружен фотоаппарат, то немедленно предъявлю свои претензии: паспорт с номером…
Ах ты, мерзкий бык! Проглотил, как пилюльку…
Карибское море не баловало нас тунцами — уловы были средними, но зато щедро знакомило со всеми хищными обитателями. На один из ярусов мы выловили несколько рыб — ваху и небольшую барракуду. Одна из ваху, или, как ее еще называют, «королевская макрель», была почти двухметрового «роста». У нее узкое длинное тело, почти цилиндрического сечения, острое рыло и сильный короткий хвостовой плавник. Вся рыба покрыта различными пятнами и полосами синего и фиолетового цвета. Казалось, что над ее раскраской усердно потрудился художник-абстракционист — так неприхотливо и небрежно разбросаны пятна и полосы по сильному серебристому телу… Мясо у ваху вкусное, и поэтому рыба имеет некоторое промысловое значение.
Когда выдернули из воды барракуду, то кто-то из матросов удивленно воскликнул:
— Смотрите, ребята, щука!
Действительно, барракуда напоминает обыкновенную речную или озерную щуку: точно такое же тело, такая же лобастая, зубастая башка и злые желтоватые глаза. Только, в отличие от озерной, морская щука окрашена не в зеленоватый, а почти в голубой цвет, и во рту ее вместо тысячи мельчайших зубов торчат большие белые клыки.
Рыбакам морская щука известна не за свое сходство с речными и озерными сородичами, а тем, что, шныряя в прибрежных водах, барракуды нападают на купающихся и наносят им своими клыками страшные, порой смертельные раны. Жители тропических стран большинство несчастных случаев в море, обычно приписываемых акулам, относят на счет этих щук.
В отличие от акул, которые обычно не подплывают близко к берегу, барракуды стаями в десяток рыб постоянно держатся в накатных волнах, добывая себе здесь оглушенных прибоем мелких рыб. Рыбы шныряют у пляжей. Тут и происходят трагические встречи любителей понырять в волнах с барракудами.
Щуки набрасываются на человека и вырывают из его рук и ног мышцы. Между прочим, фотографии людей, пострадавших от барракуд, можно увидеть в небольшом музее на острове Горе, под Дакаром. Их собрал профессор Кодена, тот, что подарил советскому ученому рыб в мешочке. И право, после знакомства с фотографиями пропадает всякое желание идти на тропический пляж купаться.
Вслед за небольшой барракудой на палубе оказалась крупная светло-синяя рыбина, одно название которой сразу же заставляло обходить ее: на горячих палубных досках лежала акула-людоед… Вернее, она не лежала. Она извивалась массивным мускулистым телом, хлестала хвостом и грызла, то раскрывая, то закрывая от бешенства совершенно черные глаза, палубу, от которой летели мелкие щепки… Отвратительней рыбы даже среди акул нам еще не приходилось видеть. Узкая морда «маки» — под таким именем этот морской людоед известен в определителях — своей формой и, пожалуй, гнусным выражением напоминает крысиную… Так же, как у крысы, из пасти маки торчат длинные, изогнутые внутрь острейшие белые зубы. Их так много в пасти, что дрожь пробегает по коже. Зубы растут на челюстях и нёбе; зубы лезут из пасти и колючей щеткой лежат под языком: как только какой из зубов сломается, на смену ему тотчас поднимается новый, запасной… От мерзкой рыбины исходил отвратительный запах, и, разбив ей голову кувалдой, мы поторопились спровадить маку в воду.
Станции, ярусы… Прохладная, насыщенная свежим ветерком погода осталась где-то в Саргассовом море, за проливом Мона. Штиль. Ни движения в воздухе. Духота какая-то тревожная, стискивающая грудь. Кажется, что все время не хватает кислорода и легкие торопливо заглатывают горячие порции воздуха.
— К урагану, наверное, — обеспокоенно осматривает капитан чистое, лишь кое-где подернутое прозрачной пленкой перистых облаков небо.
Карибское море славится своими ураганами. Они здесь часты. Неожиданно налетает ветер сокрушительной силы, сопровождающийся настоящими ливневыми потопами. Зародившись в центре моря, обычно где-то на семидесятой параллели, ураган, промчавшись над морем, набрасывается на притихший в ужасе берег и несется по суше, оставляя за собой смерть и разрушение. Наиболее сильный ураган в Карибском море был в 1933 году, когда, затопив несколько крупных судов, он, ворвавшись в Венесуэлу, разрушил поселки и мелкие города на ее северо-восточном побережье…
Вместе с Валентином Николаевичем мы листаем лоцию Карибского моря, просматриваем таблицы. Ага, апрель, май… повторяемость ураганов… Ну-ка, вот в этой графе… Вот: один-два раза в месяц. А в июне уже в несколько раз больше.
— Проскочим, — говорит с надеждой капитан, — а в июне мы уже дома будем… Кстати, заметил? Как будто дохнуло воздухом с кормы? По-видимому, северо-восточный пассат начинается. Как только он задует, сразу посвежеет.
Работаем у острова Гаити. В бинокль хорошо видны его возвышенности, зеленые долины, пальмовые рощи, плантации.
Здесь, на траверсе Гаити, мы отпраздновали первомайский праздник.
Было шумно и весело. За длиннющим, от борта к борту, столом собралась почти вся команда. Только вахтенные выглядывали из рубки, завистливыми глазами пробегая по всевозможным закускам, изготовленным взбодрившимся Иваном Петровичем и Аркадием, да по блестящим бутылочным бокам… Пили за мир, за счастье, за тех, кто остался дома, кто сегодня, может, грустит в чужой компании или, оставшись дома, лежит на кровати, уткнувшись в сырую подушку солеными глазами. Потом хором пели песни: про смелого барабанщика, с улыбкой упавшего на сырую землю, про девушку с голубыми глазами из горящей Каховки, про молодую гвардию, проложившую штыками и картечью дорогу к светлому будущему, и пели про бригантину, поднимающую паруса.
В разгар веселья, когда солнце уже клонилось к горизонту, кок принес блюдо с поджаристыми пирожками и, попросив тишины, сообщил:
— Эй вы, пираты! Слушайте сюда! В одном из пирогов есть сюрприз! Кто его найдет, тот будет на вечер… э-э… принцессой!..
Все засмеялись и принялись за пирожки: ах, кок, ну и придумал, в такой мужской бравой компании и вдруг — принцесса! Интересно, кто же будет принцессой? Может, дядя Витя? Или Санька? Или… В этот момент рядом с собой я услышал звонкий хруст и вскрик: Жаров подставил ладонь и вместе с поломанным зубом извлек изо рта… медную пуговицу.
— Ура! — взорвался весь стол. — Жаров — принцесса! Бородатая!
Некоторые из парней пожелали станцевать с бородатой и немного шепелявой от сломанного зуба принцессой, и Виктор выкидывал невероятнейшие па.
Солнце село, но алый закат еще долго полыхал на небе, над мачтами «Олекмы», над горами и долинами Гаити. Праздник закончился; матросы расходились по каютам — ведь завтра рано вставать на ярус… А я еще долго смотрел на быстро темнеющее море — там серыми молчаливыми тенями скользили американские эсминцы.
Тихая прохладная ночь опускалась над океаном. На небе оранжевыми сполохами догорала вечерняя заря. Я вглядывался в быстро темнеющий берег и с удивлением думал, что давно, еще мальчишкой читал о Гаити и мечтал побывать в Карибском море, увидеть остров своими глазами. Мечтал и смеялся сам над собой — слишком смелыми были мечты! И вот теперь я глядел на тот далекий экзотический остров. Его вершины растворялись в вечернем сумраке. Быстро темнело. С острова подмигивал нам одинокий огонь маяка.
Ставим последние ярусы. Настроение приподнятое: за последними ярусами будет переход в Гавану — и домой. И немного грустно: скоро нам предстоит расстаться с океаном, с этой синей солнечной далью, с вольным морским ветром, который так здорово прополаскивает легкие.
Стучит, содрогаясь своим металлическим туловищем, ярусоподъемник: грохот от него не тугой, маслянистый, с каким обычно работают двигатели, а какой-то булькающий. Может, оттого, что он ломался и стармех несколько раз ковырялся в его чреве, извлекая «лишние» детали. Теперь в машине осталась лишь цепь, передающая вращение от динамо-машины на ролики, да пара здоровенных зубчаток. Бригадир с сомнением поглядывает на свой агрегат: только бы не развалился… лишь бы выдержал. Осталось-то всего два яруса.
Мы с Виктором стоим, облокотившись на планшир, и дожидаемся, когда бригадир крикнет: «Тунец!»
В прозрачной воде мелькают серые акульи тела. Впереди них, как дозор, шмыгают голубоватые, в черных поперечных полосах рыбы-лоцманы, плавающие обычно с акулами и питающиеся остатками их жертв, да головастые рыбы-прилипалы. Прилипалы накрепко присасываются к акулам широкими овальными присосками, расположенными на голове, и болтаются на акулах, свесив вниз тонкие хвосты.
Между прочим, принцип прилипальой присоски используется в некоторых странах при спасении подводных лодок, опустившихся на большую глубину. Принцип тот же — из-под присоски выкачивается воздух, и ее уже ничем не отдерешь от корпуса поднимаемого со дна судна.
Жаров сегодня не в настроении. Стоит рядом, курит и сердито хмурится — акулы опять объедают тунцов до костей. Но вот один за другим бьются на крючках несколько крупных целых тунцов.
— Отличные экземпляры! — оживляется Шаров и кивает мне головой. — Доставай блокнот. Мерить будем.
Всех тунцов мы тщательно промеряем по специально разработанной схеме. Эти промеры, которых у нас накопилось уже много, там, на берегу, в лаборатории, будут тщательно изучены и дадут дополнительные, очень важные сведения о биологии тунцов Атлантического океана, Саргассова и Карибского морей.
— Акула! Акула… Слышишь, Николаевич? — зовет меня Петрович.
Я отмахиваюсь рукой — черт бы побрал всех этих акул.
— Да это не такая! — поворачивает ко мне свое подсушенное солнцем лицо боцман. — Глазастая и длиннющая!..
Отложив блокнот, я бегу к борту: в воде бултыхается гигантская рыбина с вытаращенными глазами. Собрав всех, кто был на палубе, мы вытаскиваем акулу на судно и несколько минут стоим вокруг тяжелого неподвижного тела, рассматривая странную рыбину. У акулы небольшая голова, с «детским», как выразился Петрович, ртом, толстое тело, крупные грудные плавники и громадный, словно лопасть галерного весла, хвостовой плавник. Рыбу измерили: при общей длине в пять метров на хвост приходилось ровно половина — 2,5 метра! Вот так хвостик! Просто трудно найти объяснение — ну, а для чего ей такой? Что имела природа в виду, наделяя акулу маленьким ртом и громадным хвостовым плавником? И глаза… Они тоже очень интересны: очень большие и находятся в глубоких глазницах, чуть ли не сходящихся своими краями на затылке. Ну, с таким строением глазниц разобраться проще: глаза могут в них закатываться зрачками вверх, и акула, не поворачивая головы, видит, что делается у нее над головой.
Акулу, которую называют «лисица», мы с боцманом и старшим механиком ободрали, а шкуру заморозили: на берегу из нее получится превосходное чучело; правда, для него нужно где-то место подыскать. Ну да ничего! Что-нибудь придумаем.
Революционная Куба. Столица республики — город Гавана. Открываются живописные городские пейзажи. Малекон — набережная города. С одной стороны ее плещется море, с другой вздымаются в голубое небо изящные, легкие на вид дома-небоскребы.
Совсем недавно в них жили миллионеры, а теперь простые рабочие и служащие Гаваны.
А это что за странное сооружение из ржавого железа? Это памятник. Памятник трагически погибшему теплоходу «Ла Кувр».
Гавана. Вдалеке виднеется купол одного из красивейших зданий городе — Капитолия. На переднем плане—президентский дворец. Рабочий с винтовкой в руках охраняет свободу республики.
Он охраняет покой и этих двух гаванских девочек — Кариды и Кармен. Народ крепко держит в руках оружие, чтобы девчонки и мальчишки Кубы могли спокойно учиться и играть.
Склонившись над картами Атлантического океана, сотрудники научной группы «Олекмы» рассказывают кубинским ученым о проделанной работе во время рейса, рекомендуют им новые районы лова.
Набережная города Гаваны — Малекон. Самое красивое место города. По вечерам здесь многолюдно: гаванцы гуляют, любуются океанскими судами, пришедшими в их порт, наблюдают за любителями рыбной ловли, провожают взглядами сверкающие мотоциклы, на которых с бешеной скоростью проносятся веселые парни из отрядов милисианос…
Рядом с нами стоит рефрижераторное судно «Казис Гедрис». Литовские моряки доставили в Гавану мороженую рыбу, выловленную советскими рыбаками на банке Джорджес. «Казис Гедрис» разгружается, а мы, получив воду, продукты и топливо, уже подняли якорь — мы идем домой. До свиданья, Куба! Желаем тебе счастья! До свиданья!
…После яруса в свободное между вахтами время матросы и механики мастерят «тропические сувениры». В прошлом году мы сушили десятками акульи челюсти, «носики» от парусников и голубых марлинов. В этом рейсе все делают себе ножи с ручками из тунцовых костей и трости из акульих позвонков. И трости получаются белые, бугристые, в живописных трещинках. Память о тропиках и мерзостных созданиях — акулах.
Ну вот и последний ярус. Он был обычным, как и все предыдущие, которые мы ставили в Карибском море: все те же акулы-быки, целые и объеденные желтоперые тунцы. Этот ярус отличался от других только тем, что он был последним.
— Вот и все… — сказал бригадир и похлопал своей жесткой, мозолистой ладонью по теплой станине ярусоподъемника.
Вот и все. Конец работе. Теперь остался длиннющий, чуть не в полземного шара, переход домой. Там «Олекму» поставят в док, счистят с ее днища водоросли и белые раковинки усоногих рачков, наросших во время рейса; промоют, прочистят клапаны стального сердца судна — двигателя, а судовые механики, чертыхаясь, впихнут в нутро ярусоподъемника все те «лишние» детали, которые были извлечены из него дружной машинной командой другого траулера.
Идем в Гавану. В корму по правому борту дует ровный северо-восточный пассат. В корпус «Олекму» подталкивает, торопит к Гаване Карибское течение. И мчится наш тунцеловный клиппер со скоростью почти двенадцать узлов в час! Мчится, несется в прекраснейший город на земле, о котором мы столько слышали, читали, а теперь скоро сами вступим на теплый асфальт его красивых улиц и площадей.
Справа показались пологие холмы. Они быстро вырастают, тянутся горбатыми, щетинистыми от лесов вершинами к знойному небу. Крутые утесы обрываются прямо в воду. Около их подножий кипит, взрывается прибойная волна; по рыжим скалам сбегают в море белые пенные водопады. А вот там изумрудная долинка, золотой песок пляжа, кокосовые пальмы вдоль него. И снова холмы, холмы… Ближние окрашены в зеленые тона лесов, с рыжими скальными проплешинами, далее холмы становятся сиреневыми, а на самом горизонте громоздятся густо-фиолетовые горы.
Ямайка. Сюда приезжают загорать на знаменитых пляжах и пить знаменитый ямайский ром. Были еще знаменитые ямайские корсары. Теперь их нет. Потомки грозных карибских разбойников выращивают сахарный тростник, кофе, какао или торгуют на улицах Кингстона, столицы Ямайки, кораллами и раковинами.
Ямайка. Когда мы проходили мимо острова, над палубой «Олекмы» гремел дивный голос Робертино Лоретти, певшего об удивительном, красивейшем острове земли, об острове Джамайка, как он произносит его название в своей песне…
На судне идет покраска. Остро пахнет суриком и белилами. Наши тела измазюканы красной, белой, зеленой и серой красками. Куда ни сунешься — всюду краска. Даже в борще и то вместе с жиром плавают островки белил: Иван Петрович и Аркадий освежают кисточками свой камбуз.
Исчез за кормой остров Ямайка. Снова кругом одна вода. Она здесь имеет почти фиолетовый цвет. Может, оттого, что под нами семикилометровая глубина — впадина Бартлет. Становится немножко жутко, когда представляешь себе семь километров черной безмолвной пропасти!
Но вот впадина позади. Проходим между островами Малый и Большой Кайман. Малого не видно, а вот Большой Кайман совсем недалеко. Своей ребристой спиной и лагуной, разинутой в виде пасти, остров действительно чем-то напоминает гигантского крокодила, приготовившегося броситься на жертву. Из воды, словно зубы, торчат его белые коралловые рифы. И на них ржавеют несколько пароходов, брошенных в пасть кайману во время сильных ураганов, которые бывают здесь.
Куба все ближе. С каждым оборотом винта мы приближаемся к острову Свободы. Штурманы с точностью до мили подсчитывают оставшийся путь до Гаваны. Мы тоже бродим циркулями по карте, вышагиваем металлическими ножками по Карибскому морю, Юкатанскому проливу, Мексиканскому заливу и перемножаем мили на часы; мы торопим время, которое течет в эти дни так медленно!..
Каждое утро, прежде чем умыться, я взбегаю на верхний мостик — не видна ли уже Куба? В то утро на северо-востоке вместо синей полоски горизонта показалась над водой зеленая цепь пологих холмов.
Это была Куба — свободная территория Америки.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Здравствуй, Гавана! Корабли не проходят милю. Прогулка по Малекону. Носят ли на Кубе бороды. Операция «Кофейня». Абстракционизм? Нет, трагедия. В раковине шумит море. Как создавался «Флота Кубана де Песка». Зачем в Гаване появился американец. Последний путь бывших. Встречи под водой. Коллеги из Баракоа. Кармен и Карида.
Небо очистилось, и солнце окрасило его в нежнейшие розовые тона. Несколько раз мелькнул огонь маяка и потух, не в силах соперничать с набирающимся сил солнцем. Оно уже поднялось над горизонтом и бросило первые лучи на обмытый ночным ливнем наш теплоход, на сторожевик, притаившийся под недалеким берегом. Солнце вспыхнуло тысячами маленьких солнц в окнах многоэтажных домов. Еще не видно улиц, не видно самого города — только дома-утесы, взметнувшиеся к утреннему небу, поднимаются из воды — синие, розовые, белые здания. Дома-утесы, сверкающие тысячами солнц. Вот уже видны и другие дома, чуть пониже. А там показался и круглый купол, блестящий, словно начищенный перед боем шлем древнего воина; чуть левее — старинная крепость на взгорке. И дома, дома, дома… Они будто на параде выстроились у берега — множество громадных, высоченных домов-небоскребов. Вдоль них тянется широкая набережная, по которой двумя потоками, один навстречу другому, уже мчатся, спешат автомобили.
Это Гавана. Столица свободной территории Америки — Кубы. В бинокль на одном из высотных голубых зданий можно прочитать: «Гавана либре!», на другом — «Патриа о муерте! Венсеремос!» А чуть дальше, от самой крыши дома до асфальтовой мостовой, низвергается поток слов: «Куба — си! Янки — но!»
Гавана. Скорее бы к пирсу, но капитан ведет судно на самом малом ходу. У него уж такая привычка — не подходить, а подползать к порту.
Раза два я говорил ему: «Слушай, ну где же знаменитая русская лихость?» — «Где? — переспрашивал капитан. — В романах Станюковича… Там морская лихость, только там. А здесь осторожность и еще раз осторожность… Пароход не велосипед. Ясно?» И все же я говорю ему:
— Ну не жмись… прибавь пяток оборотов. Ведь Гавана же!
Капитан усмехается, кладет ладонь на ручку машинного телеграфа, но оставляет ее в том же положении, на «самом малом».
А город уже близко. Чтобы рассмотреть его небоскребы, нужно задирать голову вверх. Они дружески подмигивают нам своими окнами — кто-то там просыпается в квартирах и спешит к окнам, чтобы распахнуть их навстречу синему небу, океану, свежему ветру; навстречу нам… Окна распахиваются, мелькают солнечными бликами, и в их проемах показываются люди: чья-то ребячья макушка, чьи-то широкие плечи, мускулистые руки с гирями в ладонях, чья-то стройная фигурка, закинувшая тонкие смуглые руки за голову. Руки ныряют в густых черных волосах, а потом протягиваются навстречу океану. А может, навстречу нам.
Гавана просыпается. Все больше автомобилей на ее улицах. Спешат гуськом по набережной большие машины, подметающие асфальт, выезжают на перекрестки продавцы мороженого и охлажденной воды, проходят мимо нас на утренний лов рыбацкие катера. На бортах установлены по два длинных гибких удилища, за ними тянутся, прыгают в прозрачной воде блесны. Рыбаки идут ловить марлинов, барракуд и меч-рыбу… Счастливого вам улова, ребята!
— Капитолий… — говорит Валентин Брянцев, указывая на купол с бегущим по нему бронзовым юношей.
— Какой же это капитолий! — возражает ему Хлыстов. — Вон видишь чуть дальше купол с башенкой? Вот тот капитолий. А это просто какая-то церквушка.
— «Церквушка»! — обижается Валентин. — Да знаешь ли ты вообще-то, что такое капитолий?
Уже и купола пропали, а они все спорят. Да, они спорят весь рейс, по любому случаю. Очень принципиальные ребята.
Вот и гавань. Вход в нее охраняют две крепости. С каменных стен смотрят в море десятки древних пушек. Одни из них торчат между каменных зубцов, другие упрятали свои толстые тела в гранитных ложах, выставив наружу лишь черные жерла.
— Принять лоцманский катер! — говорит капитан матросам на палубе.
Лоцман кубинец. Какой-то он? Наверное, черный, смуглый, энергичный парень, заросший густой бородой. Я трогаю рукой свою: здесь, среди кубинцев, я буду тоже как кубинец. Никто не будет на меня обращать внимания, и это позволит присмотреться к людям, о которых я столько читал и слышал…
Ну вот и катер. Я спускаюсь с мостика и спешу навстречу лоцману. Надо что-то такое сказать. Пожалуй, вот так: «Буенос диас, барбудо!» («Доброе утро, бородач!») Пожалуй, так будет хорошо. Так и скажу. С лоцманом мы сталкиваемся в коридорчике у капитанской каюты.
— Буенос диас… — начинаю я и замолкаю: лоцман совершенно рыжий и без какой-либо растительности на веснушчатом лице. Только из ушей торчат несколько рыжих волосин.
— Доброе утро, — говорит он и добавляет: — Бородач.
— Вы кубинец? — спросил я с сомнением, посмотрев на огненную голову лоцмана.
— Конечно, — засмеялся тот, — мой прадед был ирландцем. А я кубинец. Я был в горах Сьерра-Маэстра, — добавил он, пригладив ладонью свою непослушную жесткую шевелюру, и перекинул ручку машинного телеграфа на «полный вперед».
Прошли мимо гаванского маяка. На его флагштоке взметнулись два флага — Республики Куба и красный, с серпом и молотом.
В Парамарибо один из сотрудников порта, узнав, что мы идем в Гавану, поморщился:
— Зачем вы туда идете? Туда же никто не ходит. Порт-пустыня. Там ничего нет. Ни топлива, ни воды, ни продуктов. Время напрасно потратите.
— Вы были в Гаване? — спросил я его.
— О да! Совсем недавно, — ответил голландец, — простояли неделю и ушли. Нет, не рекомендую. Лучше в Венесуэлу, в Ла-Гуайра.
Голландец лгал. Гаванский порт забит кораблями. Громадные красавцы теплоходы стоят у его многочисленных причалов. «Архангельск», «Альбатрос», «Корсаков», «Металлург Амосов», — читаем мы названия советских судов. А вот братишка «Олекмы» — СРТР-9007 — и такие же, как и наше, рыболовные суда «Олюторка», «Орион», «Онега». Но в порту не только советские суда — на угольном причале разгружается гигантский пароход из Мексики; видны югославские, болгарские, английские теплоходы; длиннющий, низко сидящий в воде пароход из Генуи.
На «Олекме» появляется пожилой, с ежиком седины агент. Затем совершенно юный розовощекий полицейский чиновник с тяжеленным кольтом на боку и с поясом-патронташем, из которого торчат желтыми капсюлями вверх револьверные патроны; плечистый, с бронзовой пролысиной шипшандлер.
Шипшандлер широким добродушным лицом и приятельской улыбкой больше похож на воронежца, чем на кубинца. Тщательно обдумывая каждое слово, он рассказывает, что учится в двухгодичной школе русского языка имени Лафарга. По-русски он говорит еще неважно: «Очень трудно запомнить окончаний… окончаню… окончания! Да, русский язык сейчас очень популяр… популярни… — ох, уже эти окончаний! — популярный на Кубе». Почему у него шелушится нос? О, это от солнца! Два месяца работал на уборке тростника в провинции Матаисас. Там очень жарко. Когда день помахаешь мачете, то сахарный тростник даже ночью раскачивается, мелькает перед глазами. Было очень тяжело: замучили пожары. Контрреволюционеры… Это они спалили сельскохозяйственную станцию, расположенную под Гаваной; они губят огнем посадки молодых лесов — сосны, эвкалипта; пылали плантации тростника в провинциях Матансас, Лас-Вильяс. Да, трудно было — рубили тростник, тушили пожары, вместе с милисианос вылавливали гусанос… Гусанос? Это по-испански — черви. Так на Кубе называют контриков, мерзких червей, подонков всех мастей, которых еще забрасывают на Кубу американцы. Буквально на днях группу гусанос захватили в 13 километрах от Гаваны — в Тарара. Они пытались напасть там на студенческий городок. Теперь им не поздоровится: Фидель уехал в Москву, но у Рауля Кастро рука ничуть не мягче.
Через час все формальности окончены.
— К вечеру вас поставят в рыбный порт, там сейчас все причалы заняты. Завтра получите воду, топливо. Завтра же я привезу продукты, — сообщает штшшандлер и предлагает: — Если кто хочет, я захвачу на берег. Кто поедет со мной?
Берег. Не простой — кубинский. Я прыгаю на его каменные плиты, оглядываюсь: вдоль кромки моря уходит блестящая от автомашинных шин набережная Малекон. По ней несутся мимо меня сверкающие лаком и никелем длинные, низко сидящие на колесах «бьюики», «крайслеры», «оппели», «форды». Спешат куда-то на тяжелых мотоциклах полицейские. Низко на лоб надвинуты черные козырьки фуражек, руки в кожаных перчатках крепко сжимают рули «Харлеев», за спиной — короткие автоматы. Всюду множество ярких лозунгов: на каменном ограждении набережной вышагивают вдаль белые метровые буквы: «Куба — первая среди стран Америки страна полной грамотности». С башни старинной крепости прохожих вопрошают синие буквы: «Что ты сегодня сделал для Кубы?» Перечеркивая афишу бара-ресторана, предостерегающе алеет: «Контру — к стенке!»
На холодном, сложенном из обтесанных глыб парапете сидят мужчины и женщины. При виде иностранца поднимают руку и улыбаются:
— Буенос диас, амиго! Чеко? Поляк? Дейч?
— Русский, — отвечаю я, — не чех, не поляк и не немец, а русский!
— Русский? — удивляется один парень и с интересом рассматривает мою бороду. — Русский барбудо?
Он недоверчиво смеется и что-то говорит соседу, закуривающему большущую сигару. Тот выдыхает едкое синее облако и тоже недоверчиво смеется.
А мне почему-то не смешно. Даже грустно. Я уважаю и чехов, и поляков, и немцев, но я же русский! А одна девушка кивнула в мою сторону хорошенькой головкой и уверенно сказала своему приятелю:
— Француз!
И тот так же уверенно возразил:
— Но… абиссин… — и крикнул мне вдогонку: — Аддис-Абеба!
«Француз», «Аддис-Абеба»… А я-то думал, что с бородой мне на Кубе будет лучше. Я смотрю на прохожих и вижу черноволосых, смуглых, подвижных людей. А бородатых нет, нет бородатых. Поэтому-то все провожают меня взглядом…
— Бен Гурион… — вздыхает кто-то за моей спиной. Что? Теперь уже «Бен»? И вдобавок «Гурион»? Нет уж, хватит!.. Я перебегаю улпцу и, прикрывая бороду рукой, заскакиваю в парикмахерскую. Парикмахер, высохший, как гриб в жаркое лето, подхватывает и укладывает меня в специальное кресло. Я складываю руки на груди, он накрывает меня простыней и, нажимая на педаль, словно домкратом, поднимает кресло повыше, к своему подбородку. Протерев очки, старичок внимательно осматривает мое лицо, многозначительно хмыкает и вынимает из стола длинную узкую бритву. Он долго, слюнявя ремень, оттачивает, подправляет ее, потом выдергивает из головы длинный волос. Придерживая двумя тонкими, как у скрипача, пальцами, режет бритвой волос и, хмыкнув, осматривает сверкающее лезвие против света. Потом, насвистывая: «О голубка моя…» — долго намыливает мое лицо, а затем, оттянув на шее кожу, заносит над ней пылающий голубым светом стальной клинок с надписью «Золинген».
Через полчаса я встаю гладко выбритым, и старик, хлопнув меня по плечу, говорит:
— Русских!!
Заметив, что я лезу в карман, он восклицает: «Но!..» — и еще раз хлопает меня по плечу.
И вот я безбородый, как младенец. Ощущение такое, будто я нагой, словно в спешке забыл надеть какую-то очень важную часть своего туалета. Но это ощущение быстро проходит. Теперь уже никто не ошибается: да, я русский! Привет вам, друзья! Салют, компаньерос!
В тот же вечер я узнал, что в Гаване бородатых можно перечесть по пальцам. Даже Фидель, поклявшийся в горах Сьерра-Маэстра сбрить бороду лишь тогда, когда революция на Кубе победит полностью, улетая в Москву, немного укоротил свою прекрасную, пышную бороду. А мы-то парились в тропиках!
Сверкая белым подбородком, иду дальше по Набережной. Здесь оживленно: бегают друг за другом ребятишки, на раскладных стульчиках сидят греют на солнце свои кости старики; свесив ноги над водой, перешептываются о чем-то очень важном влюбленные; пристально глядят в воду, сжимая в руках спиннинги, рыболовы. А вот совсем необычный рыболов: молоденькая девушка лет шестнадцати. Одной рукой она придерживала ребенка, а другой — удочку.
Я тоже люблю рыбную ловлю: окуни, выуженные из какого-нибудь тихого заросшего озерка, добыча куда более интересная, чем четырехметровая акула или тунец, вытянутые из океана на ярус. Я остановился около девушки. Она назвала свое имя. Норма тоже занималась год на курсах русского языка, поэтому мы могли с ней довольно свободно разговаривать. Она показала мне свой улов — двух крупных рыбин килограмма по три, назвав их тарпанами. Тут же она сообщила, что ее сосед по квартире дядя Хосе в прошлом году выудил полутораметрового тарпана. Об этом даже в журнале «Рыболов» было написано.
Когда разговор о рыбах окончился, я спросил ее: далеко ли находится президентский дворец? Сначала она объясняла, а потом подозвала какого-то паренька, отдала ему ребенка, удочку, банку с мелкими креветками и соскочила с парапета на мостовую.
Через полчаса мы вышли к прекрасному зданию. Широкая площадь, обрамленная величественными королевскими пальмами. Под пальмами на скамейках сидели люди. Они читали газеты или пили из бумажных стаканчиков черный кофе. Здесь же прохаживался и разносчик душистого напитка. В одной руке он держал термос, в другой — стопку стаканчиков. А на его соломенной шляпе виднелась бумажка с цифрой «3», означающей стоимость одной порции кофе.
Мы осмотрели дворец, в мне бросились в глаза глубокие светлые оспины на одной из стен. Словно здесь прошлась пулеметная очередь, будто чей-то автомат оставил навечно роспись.
— Да, это пуни. Вы что-нибудь слышали об операции «Кофейня»?
Операция «Кофейня». Это уже стало историей, историей вчерашних дней, историей, участники которой из тех, кто остался жив в той операции, ходят сейчас по улицам Гаваны, а револьверные гильзы, уже остывшие, позеленевшие, но еще пахнущие порохом, — гильзы из их револьверов и автоматов можно еще и сейчас найти в густой траве около стен или втоптанными в землю возле дворца бывшего диктатора Кубы генерала Батисты.
Это произошло осенью 1957 года. На востоке страны, в горах Сьерра-Маэстра, мужали и закалялись в битве с врагами бойцы Фиделя Кастро и его сподвижников. В городе Сьенфуэгос зрело восстание в одной из воинских частей, где группа молодых офицеров под руководством лейтенанта авиации Хуана Кастиненроса готовилась выступить против существующего режима; бастовали рабочие в Мапсанильо, Сантьяго, Гуантанамо… В это же время выступить против Батисты решили и студенты Гаваны. Сорок революционных юношей, сплоченных ненавистью к диктатору, 13 марта 1957 года совершили смелое нападение на дворец с целью убить Батисту. В отчаянный, смелый бой вел студентов Хосе Антонио Эчеваррия; он был впереди. Одним из первых Хосе ворвался во дворец и, сжимая в руке кольт, побежал по гулким лестницам, разыскивая Батисту. Операция, носившая условное название «Кофейня», не удалась — Батиста избежал карающей пули.
А в это время к дворцу уже спешили полицейские автомобили, набитые вооруженными людьми, стягивались подразделения регулярных войск. В первые часы студенты добились некоторого успеха — они захватили в свои руки радиостанцию «Ре-лох», и по Гаване, по всей стране из рупоров радиодинамиков звонкий юношеский голос передал сообщение о свержении режима Фульхенсио Батисты. Потом лишь немногим из смельчаков удалось спасти свои жизни: патроны кончились, и батистовцы зверски расправились с ранеными, истекающими кровью кубинцами. Одного из студентов, участвовавших в вооруженной борьбе за революцию, Фаурэ Чомон Медиавилья, спрятали местные жители. Когда он выздоровел, помогли ему попасть в один из отрядов Кастро.
За отвагу и смелость, проявленные в боях, Чомои Медиавилья получил самое высокое звание в повстанческой армии — звание майора. После победы революции он был послом Республики Куба в СССР, а затем назначен на пост министра связи Кубы.
— Вот здесь, на этих плитах, лежали трупы студентов, — говорит Норма, — потом их погрузили в машины. Когда грузовики мчались по улицам города, на асфальт стекала кровь…
Президентский дворец. Он очень красив и величествен. Говорят, что это здание интересно своей архитектурой. Я глядел на его стоны, окна, но думал о другом. О том, что долгое время в этом дворце сидел человек, пославший на казнь тысячи кубинских патриотов.
Кровавый, жестокий диктатор Кубы Батиста бежал из дворца темной ночью под новый, 1959 год. Бежал в бронированном «кадиллаке» на аэродром, где его дожидался специальный самолет. Бежал, когда на улицы города уже входили революционные войска Фиделя Кастро.
Над нашими головами, над небоскребами лениво ползли пухлые белые тучки и большими кругами парили орлы. Сморщив нос, Норма долго глядела на них, закинув голову, потом чихнула, засмеялась и протянула мне руку:
— Мне пора.
Тряхнув густыми волосами, она побежала к набережной. Ее белая кофточка, заправленная в брючки, исчезла за пальмовыми стволами.
Узенькой улочкой я спускаюсь вниз по склону к порту и выхожу на улицу Сан-Педро. Здесь тихо и знойно. Несильный ветер с гавани несет по разогретому асфальту бумажки, какой-то мусор. Из дверей ресторанчиков доносится музыка и позвякивание приборов — гаванцы обедают. Мне тоже хочется есть, и я спешу мимо старинной крепостной стены, которая когда то опоясывала весь город, а теперь часть ее оставлена как исторический памятник. Я тороплюсь, но все же задерживаю шаги в небольшом скверике около удивительного нагромождения металла. Представьте себе груду искореженного железа и рядом гигантскую ржавую шестеренку с выбитыми зубьями. Что это — скульптура?
Проходит в испачканной мазутом куртке парень. Oн курит сигару и щурит от ее едкого дыма черные глаза. Достав сигарету, прошу у него огня. А когда закуриваю, усмехаясь, киваю головой на груду металлолома:
— Абстракция?
Но парень но смеется. Он даже не улыбается. Брови ею сходятся над переносицей суровой складкой, и он говорит:
— «Ла Кувр».
Говорит и уходит, попыхивая сигарой.
«Ла Кувр» — французский теплоход. Я вновь обхожу нагромождение искореженного металла и другими глазами гляжу на этот страшный памятник: толстое железо и сталь скручены, свернуты, растерзаны какой-то необыкновенной силой. Края бортовой обшивки разодраны в лохмотья, и из нее одиноким, мертвым глазом смотрит сплюснутая дырка иллюминатора.
«Ла Кувр» пришел в Гаванский порт весной 1960 года. Тысячи кубинцев, юношей и девушек, ребятишек и пожилых людей, в фантастических карнавальных костюмах пели, танцевали и красочным потоком, освещаемым вспышками иллюминации и прожекторов, двигались по набережной, а оттуда — к Капитолию, на ступеньках которого продолжался праздник. Весенний традиционный карнавал в этом году был весел и ярок, как никогда. Народ, завоевавший свободу, мужественно перенесший трудности прошедшего 1959 года, веселился и пел в эти дни от души. Французские моряки с «Ла Кувра» торопились разгрузить теплоход, чтобы повеселиться вместе с кубинцами.
В оставшиеся два дня праздника будет выбрана королева карнавала — самая красивая девушка Кубы.
«Ла Кувр» стоял у пирса напротив того места, где сейчас громоздится ржавое железо.
В то трудное время Кубе нужно было оружие, боеприпасы. Молодое правительство Кубы обратилось к Англии с просьбой продать оружие. Но английское правительство заявило, что под давлением Вашингтона оно отказывается продать Кубе оружие. Такой же отказ получила Куба от Франции и Швейцарии. Наконец Бельгия согласилась поставить на остров Свободы необходимое количество боеприпасов и оружия, и, несмотря на грубый нажим со стороны США, из Антверпена в Гавану вышел французский теплоход «Ла Кувр». Среди прочих грузов, закупленных в Бельгии, на его борту было 76 тонн боеприпасов, в которых так нуждалась кубинская революционная армия. Трудным и опасным был путь теплохода через Атлантический океан — можно было ожидать любой провокации. Но «Ла Кувр» благополучно дошел до Гаваны и стал под разгрузку. Днем и ночью матросы, грузчики и солдаты-повстанцы разгружали ценный груз. А потом Гавана содрогнулась от страшного взрыва. В небо взметнулись обломки железа, искореженные стены и крыши портовых складов, скрученная жгутами арматура, грязная вода, насыщенная илом, горящие грузовики, в кузовах которых уже над землей разрывались ящики с патронами и снарядами.
Нет, не состоялся в ту весну выбор звезды карнавала. Вместо пышного фантастического карнавального шествия по улицам Гаваны в молчаливых колоннах прошла траурная пятисоттысячная процессия. Плакали женщины, сурово сжимали губы мужчины; над рядами провожающих колыхались стволы винтовок и автоматов, в развернутые полотнища знамен падали монеты, часы, кольца, браслеты — народ собирал деньги на оружие.
На кладбище Кастро произнес гневную речь. Предупреждая агрессоров, он заявил: «Пусть они знают, что мы будем сражаться с ними до последней капли крови. Оружием, которое у нас есть и которое мы купим у тех, кто продаст нам его просто и открыто, и оружием, которое мы умеем отнимать у врага…»
Действие этого оружия было проверено двумя годами позднее на Плайя-Хирон.
Вот что означает груда железа на портовой улице Сан-Педро.
…Тихо и знойно. Каблуки мягко вдавливаются в асфальт, рубашка прилипла к спине. Идти еще далеко, и я поднимаю руку. Первая же машина — голубой «крайслер» — притормаживает, открывается сверкающая дверца, и я удобно устраиваюсь на широком мягком сиденье.
— Салют, амиго! — говорю я шоферу, молодому светловолосому парню в белой рубашке.
Тот смеется и отвечает:
— Здорово, компаньеро. С какого теплохода?
— С «Олекмы», — растерянно говорю я, вглядываясь в смуглое лицо амиго.
Через несколько минут выясняется, что шофер «крайслера» — русский инженер из «Конгломерадо пескеро», организации, строящей в гаванском порту холодильники большой емкости для рыбы и скоропортящихся продуктов.
— Вот и порт. — Тормоза машины мягко скрипнули, она осела и остановилась. — А я работаю вон в том здании. Там у нас контора. Аста ла виста, компаньеро!
— До встречи! — говорю я вслед «крайслеру» и вхожу в портовые ворота.
Рыбный порт. Резко пахнет свежей рыбой и солью. На пирсе горы ящиков, рыболовного оборудования, упрятанного под брезенты, пофыркивают двигателями бело-голубые рефрижераторные автомобили с надппсью на кузовах: «Флота Кубана де Песка». У пирса виднеются два траулера — «Олекма» и «Олюторка». Чуть дальше стоит теплоход «Корсаков» и возле него еще несколько советских рыболовных судов.
Вместе с русскими разгружают траулер «Олюторка» и кубинцы. Нет, это не грузчики — кубинцы тоже матросы с «Олюторки». С русскими парнями ходят они на промысел в Мексиканский залив, и на прохладный для них север — к Ньюфаундленду, на Джорджес-банку за селедкой. На промысле они учатся тралить рыбу, работать на лебедке, изучают сложное дело судовождения и обслуживания главного двигателя судна. Пройдет несколько месяцев, и ребята из Гаваны сами поведут корабли на промысел. А пока они еще ученики. Ученики внимательные, вдумчивые, старательно исполняющие все указания товарищей из России.
Мелькают сильные умелые руки. Картонные ящики, чуть дымясь на солнце морозом, один за другим исчезают в кузовах автомобилей-рефрижераторов. Пройдет час-другой, и свежемороженая вкусная рыба появится на прилавках магазинов, поступит в кухни столовых, больниц, детских садов.
…Прежде чем пойти на свой теплоход, я захожу на «Олюторку». Капитан на траулере мой хороший знакомый — Юрий Васильевич Парфенов. Да вот и он — стоит на палубе и поторапливает ребят: быстрее, быстрее! Мороженая рыба не терпит теплого воздуха.
Парфенов невысокого роста, но широкоплеч, крепок. Лицо у него широкое, с особым устройством рта: кажется, что он все время улыбается. Лицо молодое, да и лет-то ему не так уж много — всего двадцать девять. Всего двадцать девять, но в волосах уже серебрится седина… Сжав мою ладонь, как тисками, он ведет меня к себе в каюту и молча достает из рундука великолепную раковину. Он мне обещал выловить ракушку в Мексиканском заливе.
— Послушай, как гудит. Слышишь — в ней волны плещут и ветер в снастях свистит, — говорит он мне. — Засидишься на берегу — послушай раковину, и сразу в море потянет.
Хорошо, Юра, только ведь не забуду я море. Не забуду и без раковины…
— Ну как? — спрашиваю я его, положив раковину на стол.
— Да так, — отвечает Юрий Васильевич, закуривая сигарету, — сначала ловили в Мексиканском. Плоховато там с рыбой: очень большой прилов — всякие иглоколы, скалозубы, спинороги. Пока рыбу разберут, у матросов все руки в крови. А потом ранки мучительно болят. Соленая вода их разъедает, да на рыбьих колючках яд какой-то… Кораллы тралы рвут, акулы такие дыры проедают, что на паровозе въезжать можно. Ну, а на Джорджес-банке, там лучше: сельдь сейчас идет хорошая, нагульная. Но туда ходить дальше, да ребятишки сильно мерзнут — кубинцы. Простужаются, чихают. Да вот с коком дело дрянь — кок у нас кубинец. Хороший мальчишка, но перчит еду так, что после обеда хоть из брандспойта внутренности прополаскивай: все горит внутри.
— Когда в море?
— Ремонтик у нас небольшой. На неделю застрянем в Гаване.
— Фиделя видел?
— Как тебя сейчас. Сидел вот здесь. О своих ребятках расспрашивал. Когда уходил, по плечу меня хлопнул. Ну и ручища же у него! Думал, что ключица переломится на кусочки. Ну ладно, пойду на палубу.
Вернувшись к себе на судно, утолил голод остывшими щами. Вместе с Виктором и капитаном мы направились в управление кубинского рыболовного флота — «Флота Кубана де Песка» к представителю Государственного комитета рыбной промышленности СССР на Кубе Валерию Александровичу Джапаридзе. Он уже почти год работает на Кубе, помогает товарищам с революционного острова развивать свою отечественную рыбную промышленность. Куба со всех сторон окружена водой; море властно врывается свежим соленым ветром на улицы Гаваны, в распахнутые окна домов. Море богато рыбой — в прибрежных водах Кубы обитают тунцы, марлины, парусники.
Кубинский рыболовный флот состоял из маленьких моторных и парусных ботиков. Рыбаки примитивными орудиями лова не могли обеспечить свежей рыбой почти семимиллионное население страны. С маломощными двигателями, установленными на рыбацких лодках, страшно было уходить в дальние морские просторы. Рыбу ловили на «платформе» — мелководье, окружающем остров со всех сторон. Здесь же у берега добывали небольшое количество лангустов и креветок, которых отправляли на столы ресторанов в Соединенные Штаты Америки.
Страна на берегу богатейшего рыбой Карибского моря и Мексиканского залива — и без рыбы. Рыбу приходилось закупать в других странах, и она была не по карману простым рабочим и крестьянам.
Революционное правительство Кубы обратилось за помощью к СССР, и в 1962 году в гаванский порт вошли первые пять советских траулеров, совершивших громадный переход через весь Атлантический океан из русского порта Калининграда. А чуть раньше на Кубу приехали советские специалисты рыбной промышленности и один из опытнейших советских организаторов этого важного дела — В. Джапаридзе. Фамилия Джапаридзе хорошо знакома рыбакам Дальнего Востока и Запада нашей страны. Валерий Александрович создавал советскую рыбную промышленность на Сахалине, Курильских островах и в Калининградской области.
Вот он поднимается из-за широкого стола кабинета и направляется нам навстречу: невысокий, плотный, с энергичным волевым лицом. Работы — по горло. Рефрижераторы не успевают разгружать рыбу; не хватает транспорта, холодильников, тары. Нужно решить, как быстрее разгрузить «Корсаков» и «Альбатрос», доставивших рыбу с Джорджес-банки: нужно обдумать, куда лучше направить на добычу пять японских тунцеловов, только что прибывших в Гавану. Их Куба закупила в Токио. Надо скомплектовать новые группы юношей-практикантов; следует подумать о теплой одежде для тех, кто идет работать на Джорджес-банку, и о том, кому продать кальмаров: большое количество их попадает в качестве прилова. Нужно решить, как быть… В общем, очень многие вопросы нужно решить сейчас и потом. И вечером, и завтра утром, и послезавтра. Каждый новый день рождает тысячи новых сложнейших вопросов, которые необходимо решить самостоятельно и вместе с кубинскими товарищами из «Флота Кубана де Песка».
— Ну, как дошли? Как с рыбой? Есть? — Его взгляд нетерпеливо останавливается на картах, которые держит Жаров. — Ну-ка, давай посмотрим, что вы предлагаете.
— Вот в этом районе и в этом можно брать хорошие уловы крупного обыкновенного тунца. Но только ярусы следует переоборудовать. Надо оснастить крепкими коваными крючками, — говорит Жаров, указывая на красные кружки у побережья Бразилии.
— Тунцеловов туда можно послать? — спрашивает Джапаридзе.
— Пожалуй, можно.
— Говори точно, а не «пожалуй». Я должен знать, что они там наверняка возьмут большую рыбу, а не будут в пролове. Ну?
— Посылайте, — твердо говорит Виктор, — будет рыба.
— Хорошо, — удовлетворенно откидывается на спинку скрипучего кресла Валерий Александрович. — Ну, так как вы дошли? Где были?
Потом он сам немного рассказывает о работе советских рыбаков на Кубе. Он встает, распахивает окно и с любовью смотрит на рыбный порт.
— Представляете? Здесь ничего не было: рос бурьян, валялся какой-то хлам, из воды торчали ржавые обломки затопленного пароходика, ветер крутил едкую пыль. И тут нужно было построить рыбный порт: в Калининграде уже комплектовалась рыболовная экспедиция, шли переговоры о закупке для Кубы рыболовных судов.
Через некоторое время здесь все изменилось. Пылища, грохот, скрежет, сотни людей в военной форме. Порт строили солдаты кубинской революционной армии… Уже землечерпалки углубляют дно, работают бетонщики, сооружая пирсы, вырастают стены складов, асфальтируются припортовые участки. Порт был построен за сорок суток. И вот — Фидель Кастро, Карлос Родригес, Блас Рока, другие товарищи из правительства Кубы, советские специалисты, — все мы стоим на пирсе и смотрим вон туда, в сторону гаванского маяка: с минуты на минуту там должны показаться советские траулеры… Нервничаю: а вдруг, черти, запоздают? Смотрю на часы, говорю Фиделю: вот сейчас, через две минуты. Проходят две минуты, Фидель дымит сигарой, смотрит в сторону маяка — и вдруг показывается оттуда какая-то рыжая, с залатанными, дырявыми парусами фелюга. Брови у Фиделя подпрыгивают к самому берету. «Это что же за чудище? — спрашивает он меня, перекатывая сигару из угла рта в другой. — Это русский траулер, Валерий?» Я не успел ответить — в этот момент из-за маяка выплывают белые, все в флагах красавцы теплоходы. «Да, говорю, это русские траулеры, Фидель. Ну как?» — «Замечательно!» — восклицает он, выплевывает сигару и, прокашлявшись, затягивает потуже пояс, поправляет берет. Тогда он сказал очень хорошую речь о дружбе кубинского и советского народов, а потом часа два лазал по траулерам, знакомился с людьми, с механизмами. Лазал-лазал, проголодался и говорит: «Ведите на камбуз, есть хочу». А тут, как на грех, матросы в обед все съели. Достает кок хлеб и рыбные консервы, тарелки ставит на стол. Вынимает Фидель из кармана большущий нож: «Не надо, говорит, тарелок. В горах Сьерра-Маэстра мы ели прямо из банок. Из банок есть очень вкусно!» Очень он остался доволен нашими траулерами, их оснащением, жилыми помещениями и, уходя, сказал, кивнув головой на корабли: «Ну теперь мы одолеем море! Скоро кубинцы смогут вдоволь наедаться рыбой!»
Трудно было нам в те дни: и куда идти ловить рыбу? Где ее искать? Где хранить? На чем перевозить? Холодильнички были маленькие, авторефрижераторов не было. Ну, а консервные заводики… Представьте себе: ночью в гостиницу приезжает ко мне Торопов и с ним два кубинца с одного такого заводика. Привозят с собой две рыбины, кажется ставриду. Торопов говорит, доставили наши рыбаки на заводик эту рыбу, а кубинцы ее не берут, говорят, что плохая. А почему? «Да потому, отвечают, что наш заводской кот ее не ест». Оказывается, на том заводике роль лаборанта исполняет кот. «Что будем делать?» — спрашивает меня Торопов. «Ну, что делать, отвечаю, нужно ждать утра: кот за день нажрался рыбы и не то что скумбрию, семгу сейчас есть не будет». И действительно, утром кот слопал тех двух рыбин, и кубинцы быстро разгрузили ставриду. Вот как было: ни пароходов, ни приемной базы, ни специалистов. Ну, а сейчас, сами видите, — авторефрижераторы, склады. Там, где бульдозеры работают, строится громадный холодильник; рыбу сейчас добывают пятнадцать советских судов типа СРТР, присланных на Кубу из Калининграда, Таллина и Клайпеды, и новые суда, небольшие, но очень хорошие, мореходные, построенные уже на Кубе. И рыбы сейчас поступает в порт столько, что лишь успевай разгружать. Вот так-то.
— А чего это американец здесь стоит?
— Медикаменты привез. Помните про пленных на Плайя-Хирон, мятежников? За их головы был назначен выкуп — шестьдесят два миллиона долларов. Вот в счет тех долларов американцы и везут на Кубу разные товары. В том числе и медикаменты. Ну, а что они вывозят отсюда, вы сможете видеть завтра. Встаньте пораньше, и всё увидите. Своими глазами. Насчет топлива и воды — к моему заместителю, к Дронову. Он все сделает.
Мы уходим на теплоход, а вечером уезжаем в советское посольство на лекцию о Кубе. После лекции в порт идем пешком.
По улице помор двадцать девять мы спустились к набережной. Там на специальной площадке, чуть ли не у самой воды, освещенные лучами цветных прожекторов парни, широкоплечие крепыши, и гибкие девчонки самозабвенно танцевали лихую кубинскую румбу, и «ча-ча-ча», и «конгу» — танец, требующий невообразимой подвижности всех суставов. Давно известно, что кубинцы очень любят танцевать. Стоит лишь послышаться танцевальной мелодии, как молодежь и солидные, пожилые люди начинают притопывать ногами и раскачиваться в ритме танца.
Музыка, разносящаяся над Малеконом, и танцующие пары. А чуть в стороне, у стен отеля «Насиональ», уставились в небо тонкие пушечные стволы. «Попробуй только сунься!» — как бы предупреждают они. «Попробуй только сунься!» — так написано на стенах многих домов; так написано на специальных значках, приколотых к рубашкам кубинцев. Нет, не посмеют. Не сунутся. И поэтому гремит музыка и самозабвенно танцуют смуглые парни и гибкие девчонки.
На теплоходе мы до глубокой ночи крутим кинокартины, взятые с «Олюторки». Смотрим превосходные фильмы — «Память сердца» и «Генерал Роверо».
Вместе с нами смотрел фильмы пожилой милисиано Франсиско Вега. После дежурства он так и пришел на теплоход: с винтовкой, опоясанный патронташем, с каким-то длинноствольным, по-видимому времен «золотой лихорадки», револьвером, подвешенным ремешками к поясу. Высокий, худой, сожженный и высушенный солнцем до черноты, он отчаянно дымил сигарой, такой едкой, что запах ее дыма после того вечера еще дня два витал над палубой судна. Он дымил сигарой, выпуская густые синие клубы из ноздрей, рта и, пожалуй, даже из ушей, восторгался фильмом, в котором показывался авиационный парад в Тушино, и выкрикивал:
— О, гуд… вери-вери мач!
При этом он размахивал длинными тонкими руками, и патроны в его патронташе зловеще позвякивали — того и гляди, взорвутся. Около запястья руки у него белел глубокий шрам. Заметив, что я остановил взгляд на шраме, он взмахнул рукой в сторону американского теплохода и крикнул тонким злым голосом:
— Контра!.. Гусанос!.. Ту мору!..
Завтра? Что — завтра? И при чем тут американский теплоход «Утренняя заря»?
«Завтра» было жарким и душным с самого раннего утра. Солнце вылезло из-за горизонта с явным намерением испепелить, сжечь своими раскаленными лучами весь мир. Какой-то беспутный, нервный ветер то налетал низинками на пирс, поднимая в воздух белую едкую пыль, то вздыхал тугим душным жаром, не освежая, а опаляя тело. На небе — ни тучки; голубым куполом оно опрокинулось над городом, бухтами, спокойным, словно озеро, морем.
С утра на дороге, ведущей в рыбный порт, к пирсу, около которого громоздилась черная туша «Утренней зари», появились вооруженные люди: бойцы из отрядов милисианос, офицеры регулярных частей. Дорогу перекрыли для движения транспорта и посредине ее поставили несколько столов, а возле них картонные мусорные корзины. Около одного из столов я замечаю Франсиско Вегу. Он пожимает мне руку, протягивает сигару. Говорит, кивнув головой в направлении уже раскаленной утренним солнцем бетонной дороги:
— Вот они. Те, кто вчера владел Кубой. Кто грабил народ. Кто грабил меня. Гляди. Они идут…
В конце улицы показалась толпа людей с сумками и чемоданами. Опустив головы, расстегнув воротники рубах, с волосами, прилипшими к потным лбам, они торопливо шли прямо посредине улицы к столикам. Первым торопливо семенил ногами лысый худощавый мужчина. В одной руке он держал пачку документов, другой придерживал закинутый на плечо синий, в пятнах заграничных отельных этикеток чемодан.
Бросив его около одного из столиков, он протянул документы девушке в голубой куртке. Та просмотрела их, разорвала и бросила в корзину. Мужчина схватил чемодан и не пошел, почти побежал к американскому теплоходу.
Вега наклонился над девушкой, она что-то ему ответила.
— Владелец ресторана. Такого… номерного. Только для белых, — передал он мне.
Номерного? Да, номерного. Существовали в Гаване при Батисте такие клубы и рестораны, над входом в которые висело не название, а просто номер. В такие места мог заходить только белый. Черного, да и такого бронзового мулата, как Вега, туда бы не пустили.
Владелец ночного ресторана. Бывший владелец. Такие на Кубе не нужны. Они не хотят работать. Они мечтают о тех днях, когда Республика погибнет. И тогда на острове станет все, как было при диктаторе Батисте. Опять можно было бы грабить кубинский народ беспощадной эксплуатацией их труда на заводах, фабриках, плантациях. Тогда можно было бы опять черпать деньги из бездонных карманов богатых туристов, прибывших в Гавану поразвлечься. И тогда можно было вытолкать в шею негра или мулата, пожелавшего выпить в ресторане для белых стакан вина.
Но нет. Эти планы бывших никогда не осуществятся. Поняв бесплодность своих надежд, бывший, как и спешащая за ним толпа других разных бывших, бежит с Кубы. Ну что ж, скатертью дорога. Без вас тут будет легче!
Бывшие, бывшие, бывшие… Бывший владелец крупного универсального магазина, бывший бизнесмен, бывший плантатор, концессионер. Они идут молчаливой толпой, опустив головы. Бывшие кубинцы. Люди, предавшие свою родину. Люди, ради денег, наживы покидающие землю, на которой они родились, в которой лежат их предки. Многие из них заблаговременно продали свои предприятия и перевели денежки в Америку. Многие из них имеют в США состоятельных родственников и рассчитывают неплохо там устроиться.
Хочется крикнуть: «Люди! Вы же покидаете родину! Разве можно родину сменять на деньги, на роскошный особняк, на прекрасный автомобиль?..»
Нет. Кричать не нужно. Это же бывшие дельцы, коммерсанты, бизнесмены. Этих не перевоспитаешь, не переучишь. Среди «этих» американцы черпают резервы для контрреволюции. Кто знает, может, в этой толпе идет тот, кто заложил мину в теплоход «Ла Кувр», или тот, кто поджег в апреле месяце Центральную сельскохозяйственную станцию, на которой погибли ценнейшие материалы, или те, кто пытался уничтожить электростанцию в городе Санкти-Спиритус? А может, те, кто из-за угла стрелял в коммунистов, кто вешал за ноги председателей кооперативов или выжигал звезды на спинах девушек-учительниц?.. Ведь в мае среди тех, кто пытался покинуть остров, было арестовано четырнадцать главарей разгромленных в провинциях бандитских шаек.
Но что это? Чей-то крик, проклятия. Молодая женщина рвется прочь от картонной корзины, тянет за руку плачущего мальчугана. Но того крепко держит за руку полный, красный от гнева мужчина. Женщина и мужчина, бросивший свой баул, тянут ребенка каждый в свою сторону. Потом краснолицый отпускает детскую руку, с отчаянием кричит что-то вслед женщине, но она идет прочь, покачиваясь и зажимая уши руками… А вот еще какой-то старик, уронивший тросточку и шляпу, лихорадочно роется в корзине, отыскивая свои документы. Но документов не найти, а те, другие, злыми хриплыми голосами кричат на него. Нет, документов не найти, и старик отходит в сторону, садится прямо в пыль, и я слышу его кашляющий плач. Да, ведь это все же родина.
Бывшие. Они уходят на американский теплоход, и он вскоре покидает порт. Ну что ж, без них, без бывших, воздух на Кубе будет чище.
По дороге вслед за последними переселенцами в «американский рай» проходит, деловито постукивая двигателем, большая машина. Она вращающимися металлическими щетками подметает асфальт и спрыскивает его испаряющейся на солнце водой. Вновь появляются легковые автомобили, авторефрижераторы. Ничего не осталось от той толпы на этой земле. Словно тени, промелькнули они мимо нас, словно злые, переполненные ненавистью духи прошлого, одетые в современные костюмы, простучали они подметками ботинок и туфель по асфальту, совершив свой последний позорный путь по земле, которую они когда-то грабили, по земле, которая теперь отказалась от них.
К «Олекме» подходит автобус, и научная группа судна отправляется в Кубинский центр рыбных исследований. Институт находится в пригороде Гаваны, в местечке Баракоа, на самом берегу моря.
Автобус проносится мимо стоящих у пирса судов, вырывается на улицу Сан-Педро и с бешеной скоростью летит по набережной мимо памятников, которых здесь очень много. Величественные, грандиозные сооружения: кавалькада бронзовых мускулистых коней и бравых генералов, батареи древних пушек, многие десятки лет глядевшие в синий морской простор, поджидающие пиратские суда.
Но современным пиратам уже не страшны эти тупорылые бронзовые и чугунные чушки. Один из таких пиратов — катер контрреволюционеров — подкрался глубокой ночью к стоящему на рейде советскому судну «Баку» и с расстояния в тридцать метров обстрелял из пушек и пулеметов мирный корабль.
Автобус мчится мимо прекрасных отелей, чистых, словно умытых ночной росой, жилых домов с маленькими бассейнами-лягушатниками и детскими площадками, проносится вдоль прекрасного стадиона с вместительными трибунами, прикрытыми от солнца изящным волнистым козырьком.
Стадион и громадный спортивный зал, расположенный рядом, построены уже после революции. На Кубе любят спорт, и революционное правительство в разных районах кубинской столицы строит отличные сооружения для занятий физкультурой и спортом. Очень часто на стадионах и в спортивных залах появляется Фидель Кастро — он отличный спортсмен, в прошлом, в студенческие годы, успешно выступавший в сильнейших командах Кубы по баскетболу, футболу и бейсболу.
Остается позади стадион, мелькает многоэтажное белое здание отеля «Ривьера», автобус ныряет в глубокий тоннель, стены которого, выложенные блестящей плиткой, с ревом несутся на нас, снова выскакивает навстречу солнцу и ходко катится вдоль многочисленных роскошных особняков, спрятавшихся в тени королевских пальм и пылающих красными цветами тропических деревьев. Совсем недавно в особняках жили крупные батистовские чиновники, банкиры, владельцы заводов, фабрик, магазинов. Теперь из окон большинства домов раздаются веселые детские голоса — в них размещены интернаты, ясли, детские сады. А на асфальте перед некоторыми домами написано слово «Эскуэла». Эти особняки революционное правительство отдало народу под школы.
За особняками вдоль моря раскинулись благоустроенные пляжи с кабинками для раздевания, душем, бассейнами, спортивными площадками, барами и дансингами. При режиме Батисты большинство пляжей принадлежало частным лицам, привилегированным клубам. Гаванцы, живущие у моря, не могли попасть на пляж, — слишком дорого стоили входные билеты. Теперь вход на море стал свободным.
Город остался позади. Автобус то взлетает наверх, и тогда открывается живописный вид на густо-синее море, с светло-голубыми полосами рифовых отмелей, на пальмовые рощи и цепь холмов, то скользит по блестящей ленте асфальта вниз, в долины, с застывшим, как будто густым от жары, воздухом. Километров через двадцать мы сворачиваем к морю, с полчаса едем вдоль берега и останавливаемся перед красивым двухэтажным домом. Вот и морской институт. Захватив карты, мы выскакиваем из машины, но узнаем — сегодня институт не работает. В море мы отвыкли следить за днями недели: сегодня ведь воскресенье. Ничего не остается делать, как перенести визит на понедельник. А пока — где тут ласты и маски? Пошли, ребята, в море!
Море. Много дней, недель, месяцев бороздили мы океанские просторы. Иногда, с опаской оглядев поверхность, мы бросались в глубокую воду и с щемящим чувством любопытства и страха глядели вниз, в бездонную молчаливую фиолетовую пропасть. Но почти весь рейс резиновые ласты и маски висели в каютах на крючках. Мы смотрели на них и вздыхали — море было у нас под ногами, но оставалось недоступным я неизведанным.
И вот уже море не под нами — оно кругом нас. Набрав побольше воздуха в легкие, я ныряю в фантастический голубой мир, безмолвный и таинственный; он окружает меня со всех сторон. Вода у берегов Кубы очень прозрачная — на глубине в десять — пятнадцать метров видны мельчайшие детали дна… Но нам не нужна пятнадцатиметровая глубина — как большие нелепые лягухи, мы бултыхаемся около самого берега, где но коралловым рифам скользят волнистые солнечные блики. Подводный мир меня всегда приводит в восторг. Даже в обыкновенной лесной речушке можно увидеть такие прелестные пейзажи, которые запомнишь навечно. А тут теплое тропическое море, коралловые рифы с их разнообразными рыбками, раками, крабами, моллюсками. Рифы поднимаются со дна причудливыми колоннами. Они изогнуты в разных направлениях, скрючены, топорщатся во все стороны их твердые известковые отростки. Сотни лет мельчайшие живые организмы — коралловые полипы — строили из них твердые, словно кремень, сооружения фантастических форм. Коралловые рифы, откосы берега, сложенные из него же, рассечены трещинами, темнеют небольшими пещерками. Около них, отыскивая всякую животную мелочишку, шныряют стайки небольших рыбешек, вспыхивая в солнечных лучах разноцветными искрами. Из одной расщелины торчат клешни буро-коричневого краба. Он внимательно следит за рыбками — не подплывет ли какая чуть поближе? Из другой трещины выплыл небольшой, с указательный палец, весь покрытый колючками фахак. Спинка у этой интересной рыбки окрашена в темно-фиолетовый цвет, а брюшко совершенно белое. Мелко трепеща прозрачными плавничками, он покрутился на одном месте, внимательно рассмотрел мою маску и вдруг, испугавшись, мгновенно раздулся, превратился в круглый шарик и, стремительно перевернувшись вверх брюшком, всплыл вверх. Я погнался за ним, взял в руку и тотчас выпустил — колючки больно вонзились в кожу ладони. А фахак, выпустив из себя газы, которые образуются в его теле во время испуга или опасности, завял, словно лопнувший воздушный шарик, и, опустившись на дно, шмыгнул в нагромождение битого ракушечника. По дну мелькнула чья-то большая тень — метрах в двух от меня проплыла крупная рыбина, строением тела похожая на большущую селедку. У нее были оранжевые, словно кусочки янтаря, глаза и выдающаяся вперед, как длинный подбородок, нижняя челюсть. Рыба деловито заглянула в одну расщелину, покопалась ртом в другой, подняв при этом мутное облачко ила, и, резко метнувшись в сторону от темного грота, уплыла прочь. «Наверное, это был тарпан», — подумал я и, подплыв к гроту, заглянул в него. Сначала я ничего не рассмотрел, а потом, когда глаза привыкли к полумраку, я увидел знакомые длинные, как хлысты, лангустовые усы. Только они были не красные, в белых полосках, как у тех, что мы ловили под Дакаром, а густо-зеленые в желтых поперечинах. Колеблясь и вздрагивая, усы протянулись в мою сторону, и я схватился за один из них. Рак подпрыгнул на всех своих колченогих лапах и быстро заработал хвостиком, пытаясь вырваться. Я потянул ус к себе, и он лопнул около самого кончика. Так я и вынырнул с небольшим желто-зеленым хлыстиком, зажатым в руке. Отдышавшись, вновь ныряю. Вода упруго выталкивает меня из моря, и, чтобы удержаться около самого дна, я обхватываю ногами небольшой коралловый столбик. Обрывистый берег почти отвесно уходит вверх. Он шероховатый, весь покрыт выпуклостями и очень живописными неровностями. А ниже, у основания рифового откоса, по белому коралловому песку ползет какое-то плоское мохнатое существо. Я опускаюсь еще ниже. Да это же морская мышь! Оказывается, ты встречаешься и в этих краях? У мыши длинный острый мышиный нос, круглый, с розовыми губами рот и небольшие, изумрудного цвета глаза. Если перевернуть рыбку вверх животом, то снизу у нее можно увидеть оранжевые плавнички, похожие на лапки. При помощи их мышь ползет по дну, отыскивая мелких рачков и малоподвижных морских букашек. Увидев мою ладонь, рыбка с неожиданной прытью бросается прочь и прячется в темную трещину под берегом.
Среди кораллов невиданным фантастическим цветком растет актиния. Действительно, актиния меньше всего напоминает животное. Больше всего она похожа на карликовую пальмочку: от толстого упругого ствола, как листья, раскинулись во все стороны гибкие розоватые щупальца. Они трепещут, словно прощупывают воду вокруг себя. Стоит какому-нибудь рачку коснуться щупалец, как расположенные на них тысячи так называемых стрекательных клеток выстрелят в того неосторожного рака невидимыми стрелами, и яд мгновенно парализует его. А потом щупальца высосут из рачка кровь, лимфу, мышцы, и пустой его панцирь, развалившийся на кусочки, осыплется к подножию коварной живой пальмы. Если дотронуться до актинии пальцем, то в коже можно ощутить неприятное легкое жжение, не проходящее час-полтора. Ну, а лучше ее не трогать. Пускай себе растет, прощупывает вокруг себя воду, поджидая беспутного рачка или зазевавшуюся рыбку.
Невдалеке промелькнула небольшая, всего в метр, акула. Она гналась за стайкой длинных, узких, как лезвия столовых ножей, рыб. Вдоль берега проплыл, медленно и важно взмахивая широкими треугольными плавниками, рыжий скат величиной с тарелку, с длинным, тонким хвостом. Проплыл, как пролетел. Словно большущая бабочка пропорхнула и скрылась за одним из рифов.
Чуть дальше от берега в глубине колеблются, вздрагивают и сотрясаются от невидимых и совершенно неощутимых подводных токов воды сине-зеленые водоросли. Они густым лесом уходят в фиолетовый сумрак; манят своей неизведанностью, как манит любопытного человека любой лес. Среди водорослей мелькают чьи-то тени. Вот тускло, как бок плохо начищенного медного самовара, блеснула крупная рыба. Наверное, морской каменный окунь. В другом месте водоросли вдруг резко вздрогнули, словно между ними продралось какое-то большое существо. А у самых подводных джунглей, на их опушке, ползет по дну моллюск, прикрытый оранжевой раковиной. Раковина у него, пожалуй, даже больше, чем та, которую мне подарил Юрий Парфенов. Достать бы ее, но нет, слишком глубоко. Да и страшновато. Ладно уж, пускай ползет своей дорогой.
Еще я видел морскую черепаху. Она плавала среди водорослей и отрывала от них клочки крепким клювом, похожим на птичий. На вид неповоротливая, под водой черепаха быстро скользила над дном, делая резкие неожиданные повороты.
Повалявшись на теплых рифах, мы немного прошлись вдоль берега, но быстро вернулись — дальше начинался поселок.
Остаток дня провели на пляже, а вечером смотрели кинофильмы, взятые на «Корсакове». Вечером с помощью словаря я разговаривал с милисиано Франсиско Вегой. Окуривая меня дымом своей невероятно толстой сигары, которую с трудом можно запихнуть в рот, он рассказывает, что почти всю жизнь занимался ловлей лягушек.
— Лягушек? — удивляюсь я. — Для чего же?
— У них отрывают задние лапы, консервируют и отправляют в США. Там их подают в ресторанах. Правда, когда началась экономическая блокада, янки отказались от лягух, и теперь их отправляют французам.
Теперь Франсиско работает в порту. А лягушек ловят мальчишки. Все же это не мужская работа. Потом он мне рассказывает, что его товарищ погиб при Плайя-Хирон. Тогда там немало погибло хороших парней. Ну, а мятежники? Почти все мятежники, высадившиеся на кубинскую землю, были или уничтожены, или взяты в плен. Между прочим, недалеко от порта находится свалка американских танков. Говорят, что их привезли на переплавку с Плайя-Хирон. На этих танках контра намеревалась войти в Гавану. Но не получилось — преступники убиты или наказаны, а из их разбитого оружия получатся отличные лопаты, топоры и мачете для рубки сахарного тростника.
На другой день я нашел те танки. Как свора тупорылых, обезвреженных когда-то опасных зверей, они сбились в кучу, выставив навечно смолкнувшие пушки, зияя раскрытыми люками и растерзанными снарядами боками. На некоторых из них виднелись рисунки: тигр, оскаливший зубы, ведьма верхом на метле.
Нет, не помогли ни зубастые тигры, ни лихие ведьмы. Нет, не помогла контрреволюционерам хваленая американская техника — она была разгромлена, выведена из строя кубинскими вооруженными силами.
День жаркий, душный, и я провел его в прекрасном Гаванском зоологическом парке, где под густыми кронами деревьев было прохладно. Парк построен по вольерному типу — почти все животные находятся не в клетках, а как бы на свободе: крокодилы бултыхаются в глубоких живописных прудах; утки плавают в озерах, сбиваясь в табунки под зелеными прибрежными кустарниками; в вольерах хищников растут грациозные пальмы, а для гигантских ящериц — игуан — отведены скалистые площадки, зеленые лужайки и проточные ручьи. Только обезьяны сидят за решетками. Сидят и смотрят с тоской на высокие деревья, на которые они взметнулись бы, лишь приоткрой только дверцу клетки.
Несколько часов я бродил по зоопарку, наблюдая за животными. Молодой слон пружинистой походкой спортсмена бегал в вольере и тянул к людям похожий на пожарную кишку морщинистый хобот. Получив яблоко или чашечку с мороженым, он раскрывал рот и, благодарно вздохнув: «Хау!» — швырял яблоко или мороженое в свое объемистое нутро. Надсадно, словно у него отчаянно болел живот или просто от ужасной скуки, ревел тигр. А может, лев. Рев разносился из черной пещеры, возле которой валялись объеденные кости, а страдающего владельца костей видно не было. Напротив верблюда стояла скамейка, и я сел на нее. Верблюд, лохматый и горбатый, с каким-то ожесточением жевал колючки и сонными, полузакрытыми глазами смотрел в мою сторону. Может, размышлял: если в меня плюнуть, то достанет или нет? Так ничего и не решив, ой повернулся ко мне облезлым задом и сердито помахал коротким хвостом. А я думал о том, как верблюда везли через многие моря-океаны. Как он недоуменно шевелил ушами, прислушиваясь к гулу машин, и как его укачивало где-нибудь у Азорских островов. Может быть, ему от этого было и неудобно и стыдно: корабль пустыни — и вдруг укачало!..
На желтом песке розовой стайкой стояли фламинго. Стояли и так выкручивали, изворачивали свои длинные шеи, что мне казалось — еще одно-два неосторожных движения, и чья-нибудь шея захлестнется тугим узлом. Отчаянно расшумевшись на весь зоопарк, кричали два пеликана, а тучная, пышная пеликаниха, из-за которой, по-видимому, произошла вся эта ссора, поглядывала на дерущихся птиц желтым невинным глазом и одобрительно покряхтывала: так его, родимого… так его. Крокодилы лежали в воде, как гнилые, грязные бревна. Из их приоткрытых ртов торчали длинные и острые зубы, и мне подумалось: почему художники-карикатуристы изображают империалистов в волчьем, а не в крокодильем обличье? Ведь крокодильи зубы куда более страшные.
Потом я задержался у клеток с обезьянами. Мартышки веселой гурьбой носились друг за дружкой, устраивали посреди, клетки кучу малу и дергали пожилую, солидную мать-мартышку за хвост. А рядом грустили макаки-резусы. И, чтобы хоть чуть развлечься, что-то выискивали в своей шерсти. Около клетки стояла большая корзинка с яблоками и огромными сочными кусками арбуза. Даже в тени уже стало жарко и душно. Отчаянно хотелось пить. Выбрав в корзине кусок посочнее — кусок, весь светящийся сладким душистым соком, — я отдал его резусам. Макаки разломили арбузную дольку пополам и, причмокивая, пуская струйки сока на подбородки, стали его есть. Они так соблазнительно ели арбуз — ведь день был такой жаркий! — что я достал еще один кусок, себе.
Ночью прохладные ливневые потоки прополоскали улицы, площади, и, когда мы утром ехали в Морской институт, город, казалось, стал еще красивее: ярче зеленели пальмовые листья; красным, фиолетовым и желтым цветом пестрели парки, аллеи, сады — как видно, за ночь распустилось много новых цветов; громче и веселее звенели детские голоса. А сам воздух был удивительно душист: в нем улавливались и резкие соленые запахи моря, и терпкая прелость тропических растений.
Быстро и послушно легла под колеса автобуса уже знакомая дорога; вот и институт. Нас приветливо встречают директор, молодой кубинский ученый и научные сотрудники — почти все молодые, только что окончившие университет ребята.
На большом столе шуршат карты, кальки, различные схемы и диаграммы. Докладывает о проделанной работе в районе Бразилии и в Карибском море Виктор Жаров. Он почти свободно изъясняется по-английски, и сотрудники института внимательно слушают его, а потом, после отчета, сами вступают в разговор, касаясь различных проблем освоения новых промысловых районов.
Потом мы совершаем небольшую экскурсию по институту. Нам показывают уютные, отлично оборудованные лаборатории, библиотеку, подсобные помещения, институтские аквариумы с лангустами, креветками, крабами и различными рыбами.
Мы знакомимся с кубинскими учеными. Один из сотрудников института, невысокий полный мужчина, смотрит на Жарова и на приличном русском языке уверенно говорит:
— Послушайте… мы с вами где-то встречались.
— Да, мне ваше лицо тоже знакомо, — отвечает Жаров, — может, в Риге, на советско-польском совещании?
— Нет, а не в Гдыне ли, на польско-советском совещании?
— Нет. Там я не был. Постойте, по-видимому, мы виделись в Москве, на сорок восьмой сессии Международного совета по изучению моря?
— Вспомнил! Не в Москве, а в Гвинее. В 1960 году в городе Конакри. Только тогда вы были без усов. И без бороды.
Действительно, с Оконским, сотрудником Гдыньского морского института, Виктор встречался в Гвинее. Там поляки помогали гвинейцам в создании своей, отечественной рыбной промышленности, а Жаров искал тунцов в тропической зоне Атлантического океана. И судно их заходило за топливом в Конакри.
Кроме польского ученого, в кубинском институте работают специалисты и из других стран. В ближайшее время сюда должна прибыть группа советских ученых и инженеров — биологов, океанологов, гидрохимиков.
Экскурсия продолжается по великолепному институтскому парку, в котором собрана богатейшая коллекция тропических растений, и заканчивается в институтской столовой. Начался обеденный перерыв, и нас угощают лангустами в резком душистом томате, жареными бананами и еще какой-то вкусной, по-тропически терпкой снедью.
Уезжая из института, говорим не «прощайте», а «до свидания». Кто знает, может быть, мы сюда еще и вернемся!
Отход из Гаваны назначен на вечер.
Захватив фотоаппарат, я спешу в город, чтобы еще несколько часов побродить по его ставшим уже знакомыми улицам.
По Малекону мчатся сверкающие автомобили; прогуливаются парочки; свесив ноги к воде, задумчиво глядят в воду рыбаки-любители. Море сегодня неспокойно — шумит, волнуется внизу. Волны подпрыгивают и лижут пенными языками подметки рыбацких ботинок. Но люди не замечают их — все внимание сейчас в чутких пальцах, сжимающих тонкую леску, — не дрогнет ли она?
Я останавливаюсь у нагретых солнцем каменных плит: вот здесь в тот раз сидела Норма. А сейчас ее нет. Погладив грубый гранит рукой, я мысленно прощаюсь с ней, благодарю ее: по ее выразительному, подробному рассказу я представил себе, как, выставив вперед автоматы, бежали к президентскому дворцу студенты, как гулко громыхали их ноги в полутемных залах и коридорах, как свистели пули, оставляя на сером песчанике глубокие темные оспины. Там, у дворца, слушая Норму, я слышал рев мотора бронированного «кадиллака» низвергнутого диктатора, мчащего к аэродрому; там я ощутил тяжкое дрожание асфальта под ногами. Это ползли, лязгая гусеницами, тяжелые трофейные танки «Шерман» с бородатыми мужчинами на приплюснутых башнях. В Гавану вступила армия Фиделя Кастро.
А потом я пошел дальше. Заглядывал в амбразуры древних крепостей, из которых туповато смотрели в мое лицо жерла навеки умолкнувших орудий; закинув голову, разглядывал памятник — две высоченные мраморные колонны, на которых всего несколько лет назад восседал бронзовый американский орел, символически раскинувший свои широкие крылья над Гаваной. Бородачи накинули тому орлу на крутую бронзовую шею канат и, весело ухнув, сбросили ненавистный символ на мостовую. А колонны оставили — пускай себе стоят. Может, еще пригодятся. Около другого памятника — генералу Масео — было шумно и весело. Чуть в сторонке ребятишки играли в бейсбол, а другие запускали воздушного змея. На ступенях памятника сидели уличные фотографы. За небольшую плату они могли заснять любого, кто только пожелает, с бронзовым Масео. Но до генерала было высоко — его конь парил чуть ли не у самого неба, на десятиметровой высоте, и поэтому тех, кто пожелал сфотографироваться, фотограф ставил рядом с бронзовыми женщинами, окружившими постамент. Из-под черного покрывала раздавался звонкий щелчок фотоспуска: все в порядке! За снимком придите через два часа!
Здесь, около памятника, я познакомился с двумя девочками: Кармен и Каридой. Они, устроившись у монумента, играли в школу: Кармен была учительницей, а Карида — ученицей. Кармен диктовала, а Карида выполняла задания — чертила на небольшой грифельной доске кривые буквы и рисовала смешных пузатых человечков. Толпа человечков уже заполнила черную доску. Казалось, толкни их — и пойдут они гулять по городу, тонконогие, головастые создания. Заметив, что я наблюдаю за ними, Кармен засмеялась и что-то шепнула подружке. И та нарисовала еще одного человека — по-видимому, меня. Я был странно изогнут — голова в виде шарика с двумя точками и двумя палочками находилась в одной стороне доски, а туловище, соединенное с головой линией-шеей — в другой. Ах да, это потому, что вся центральная часть доски была занята другими забавными людьми.
Потом Карида, взмахнув белой от мела ладонью, уничтожила их всех и написала, чуть прикусив язык, свое имя: «Карида» — и, повернувшись ко мне, уверенно сказала:
— Русский… маринеро. Си?
— Си, — ответил я, — русский маринеро пескадор. Морской рыбак.
Подошел мороженщик, я купил что-то такое, очень вкусное: в бумажные стаканчики строгается лед и заливается подслащенным желтым лимонным соком. Все трое мы сидели на мраморных ступенях и высасывали из стаканчиков сок через тоненькие трубочки. Девочки быстро проглотили свои порции, а я мучился и с трубочкой и со стаканчиком. Трубочка почему-то продырявилась, и густой сок тяжелыми каплями капал на брюки. Карида, как взрослая, покачала головой, достала из рукава расшитый по краю синими и красными нитками платок и положила его на мои колени.
Затем мы катались на козе. Здесь, на площади у памятника, ребятишек катают в разукрашенных колясках, в которых впряжено по козе. У нас была длиннорогая пегая коза. Она сердито трясла бородой, недовольно мекала, но довольно быстро везла коляску вокруг памятника. Девочки ехали, а я шел рядом. Кармен и Кариде очень хотелось, чтобы я тоже прокатился, и они стали горячо просить об этом мальчишку-козовода. Узнав, что я русский, он согласился и даже сдул с сиденья пыль. Но я отказался от поездки — пожалел козу.
Было уже пора на теплоход, и девочки решили меня проводить. Они шли по бокам, а я нес грифельную доску. Мы шли молча, но молчание нас не тяготило — слова заменяли улыбки, которыми мы все время обменивались. В конце Малекона они остановились, и я понял — дальше им, наверное, нельзя: будут сердиться дома родители. Мне захотелось им что-нибудь подарить, но, кроме большого толстого карандаша, у меня ничего не было. В задумчивости я вынул из кармана пиджака тот карандаш. Он был граненый, красно-синий и такой тяжелый, что я всегда точно знал, в каком из карманов он у меня лежит. Увидев карандаш, дети протянули к нему руки и, поняв, что карандаш только один, смущенно спрятали свои грязноватые ладони за спину. Тогда, положив карандаш на парапет набережной, я ножом разрезал его посредине на две половинки. Красную взяла Карида, а спнюю — Кармен.
— Сувенир, — сказал я. — Аста ла виста, Карида. До свиданья, Кармен.
Кармен стала что-то горячо говорить Кариде, показывая на грифельную доску. Наверное, они решили отдать ее мне. Я покачал головой и протянул им руку. Карида повернулась, посмотрела кругом, а потом отломила от растущего у стенки кактуса колючую лопоухую веточку и подала ее мне:
— Сувенир… — сказала она, высасывая из пальца капельку крови. — Аста ла виста, русский.
У поворота я оглянулся. Девочки стояли и смотрели мне вслед. Потом они помахали руками и побежали домой, а я, все убыстряя шаги, пошел на теплоход. Кактус я посадил в консервную банку, насыпав в нее сухой серой земли. А банку подвесил на веревочках, ближе к иллюминатору.
Стемнело, когда мы покинули Гавану. Дул сильный ветер, качало, над городом неслись низкие рваные облака, и по ним обеспокоенно, то укорачиваясь, то удлиняясь, прорвавшись между туч, шарил луч прожектора.
На Малеконе зажглись огни; по набережной мчались автомобили. В бинокль я отыскал памятник Масео, гостиницу «Интернасиональ», возле которой жили Кармен и Карида.
Там, у ее стен, в небо смотрели зенитные орудия. И около них дежурили бойцы. Дежурили, оберегали покой гаванцев. Дежурили, чтобы жители Гаваны могли спокойно работать, отдыхать, читать в скверах газеты, слушать музыку. Чтобы ребята могли спокойно рисовать. Синим карандашом — волнистое море и красным — кривоватое, в колючих лучах солнце.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Флоридский пролив. Задержка у Багамских островов. Несколько перьев от белой цапли. Мне дарят дикобраза. Сквозь туман. Последние мили. Встречайте, мы вернулись!
Утро начинается с песни. Вслед за категорическим предложением старпома: «Команде подъем!» — в радиодинамике раздается звонкий щелчок, и каюту наполняет мелодия песни: «Погода шумит штормовая; родная, меня не забудь, глаза поутру после сна открывая, на карте отметишь мой путь…» Это, только открыв глаза, включает магнитофон судовой радист Слава Крупицкий. Кусочек песни с полюбившимися на судне словами он выудил ночью из трескучего, ревущего и мяукающего джазами, орущего хриплыми голосами эфира. Всего несколько поэтических строк на русском языке, прорвавшихся сквозь многие тысячи миль дальнего расстояния, через кутерьму ночного эфира. Всего несколько строк. Коротеньких, но очень теплых. Наводящих на размышления о доме, о тех близких, любимых людях, которые ждут не дождутся нашего возвращения.
Я тоже открываю глаза и выглядываю в иллюминатор: Куба давно исчезла за горизонтом. Кругом одна вода. День серый: серое, как одеяло, небо, серое, взгорбившееся волнами море. Вернее, не море, а Флоридский пролив. Поднявшись в рубку, я долго вглядываюсь на карте в его изгиб. Посредине пролива нарисованы острые стрелки, повернутые наконечниками на север, — они указывают направление сильного теплого течения Гольфстрим, струи которого, зародившись в Карибском море, по большой полуокружности устремляются к Европе.
— Где мы? — спрашиваю я Виктора Литуна.
Тот ставит точку между двумя стрелками — судно идет сейчас в центре главной струи течения. И течение ускоряет наш бег, торопит нас к родным берегам. Так и будем мы идти по течению — сначала вдоль восточного побережья Южной Америки, затем повернем на восток, и мимо Джорджес-банки и Ньюфаундлендских островов, но значительно южнее их, мы начнем пересекать Атлантический океан.
Можно было бы идти напрямик: проскользнув между Багамскими островами, пересечь Саргассово море, выйти к Бермудским островам и нацелиться прямо на Ла-Манш. Но в море существует принцип, хорошо знакомый всем сухопутным шоферам: лучше дальше, но по хорошей дороге. Действительно, двигаясь напрямик, мы бы выиграли в расстоянии, но зато много бы потеряли в скорости. Поэтому мы идем «по дуге большой окружности», как выразился капитан, несколько более дальним путем, но идем, используя попутное течение и господствующий в этот период в этих широтах попутный ветер.
Гольфстрим старается на совесть — помогая двигателю, он толкает вперед наше судно. По левому борту, в сотне миль от нас, проплывают один за другим американские города, поселки, ракетные полигоны. Откровенно говоря, когда мы миновали курортный городок Майами, я вздохнул с облегчением: здесь, в этом уютном, солнечном местечке, свило себе паучье гнездо кубинское контрреволюционное отребье. Может, и отсюда, из каких-то тайных бухт, выходили в пиратские походы их катера, как бандиты, подстерегающие мирных путников на большой дороге.
А через несколько суток бег «Олекмы» задержался: мы ставили несколько ярусов у Багамских островов. Несколько севернее их. Еще в Гаване Джапаридзе попросил «приглядеть рыбку» у Багам. И мы вновь принимаемся за привычное дело: выметываем в туманную теплую воду гигантский океанский перемет. Потом выбираем машиной мокрую хребтину на палубу. А вместе с ней и отличный улов рыбы.
Нам повезло. Океан преподнес приятнейший сюрприз: на первый и второй ярусы попались десятки двухметровых, весом по двести килограммов обыкновенных тунцов! Рыбой буквально завалили весь теплоход. И до поздней ночи мы разделывали тунцов, потрошили их и отправляли в холодильную камеру.
Вместе с тунцами попался десяток таких большущих и злых акул, что мы не решались их вытаскивать на палубу: ну их к черту! Мы просто обрезали ножом поводцы, и акулы опускались в глубину с превосходной капроновой веревкой во рту. Пускай поплавают. Еще нам попался дикобраз. Только не сухопутный, а морской. По-латыни эта рыба так и называется — «поркупина», что в переводе означает дикобраз. Поркупина очень похожа на колючего фахака. Но только она может достигать величины в метр, и колючки у нее не маленькие, как сапожное шило, а здоровенные — длиной с палец. Длинные, тонкие и очень острые. Наш дикобраз был небольшой — со школьный глобус. Очутившись на палубе, он сердито засопел и раздулся, выставив во все стороны свои иглы. Но никто его не испугался. Даже наоборот: мы с радостью бросились к нему — из таких рыб получаются превосходные чучела. Ловчее всех оказался Жаров. Схватив поводец с рыбой, он воскликнул: «Чур, моя!» — и убежал с ней в лабораторию. А мы остались с носом, стали тоскливо смотреть в воду, втайне надеясь, что на крючок попадется еще один-другой дикобразик. Но увы!.. Дикобраз был один-одинешенек. Даже в английском определителе написано, что эти рыбы, обитатели каменистых мелководий, иногда попадают в струи течений и одиночками дрейфуют вместе с ними, пока не погибают от голода. Ну что ж, ничего не поделаешь; а в лаборатории повеселевший Жаров уже сдирал с дикобраза его фиолетовую, с белым брюхом, ужасно колючую шкуру…
А потом, разобрав ярус по частям — отдельно крючки, отдельно поводцы, буйки и хребтина, — мы упаковали его в ящики, убрали в трюм и продолжали наш путь. Дни потянулись один за другим, скучные, ужасно похожие друг на дружку, ровно рассеченные на отрезки времени завтраками, обедами и ужинами. Сразу после завтрака мы садились за разные бумаги: нужно было готовить отчет по всем разделам научной и поисковой работы, проделанной нами в рейсе. Мы добросовестно скрипели перьями по бумаге, составляли графики, чертили карты течений; планшеты температуры воды и ее солености на разных глубинах и в разных районах океана, составляли карты новых районов лова. Но все равно время тянулось мучительно медленно. Все реже можно было услышать на судне рассказы о том, что кому поправилось или удивило в дальних, чужих странах. Все больше в каютах и салоне матросы и механики говорили о родине, рассуждали, что сейчас делается в городе, в котором все мы живем; все чаще вспоминали о родных и близких. Каждый прошедший день тщательно заштриховывался в настенном календаре красным карандашом. Иногда и следующий день оказывался уже вычеркнутым из календаря. А Саня-механик, так он вообще зачеркнул весь июнь — месяц, который нам нужно потратить на переход; он перечеркнул его карандашом крест-накрест. Но в иллюминаторе все так же плескался серый неуютный океан, и все так же нужно было спускаться в машинное отделение к грохочущему поршнями и клапанами двигателю.
Однажды нас посетили две птицы: красивая, ярко-белая цапля и маленькая желтая пичужка. Как они очутились в такой дали от берега? Может, ураган, вихрь унес их в океан от родных болот и кустарников, а может, отстали птицы от перелетных, с севера на юг, стай. Отощавшая цапля зябко прятала одну или другую ногу под себя и, пошатываясь от качки, бродила, поглядывая желтым глазом: нет ли чего на палубе? А изголодавшаяся пичуга залетела в лабораторию и шмыгала под ногами людей. Ей кинули крошки хлеба, но птица не понимала, что это такое, и продолжала прыгать по столам, книгам и рукописям, отыскивая мошек или каких-нибудь букашек. Вечером, тоскливо пискнув, пичуга вылетела из лаборатории, ее подхватил ветер и понес комок перьев куда-то на северо-восток. Цапля же, проглотив брошенную ей рыбу, осталась ночевать, забившись под траловую лебедку. На другое утро мы нашли на палубе лишь несколько изгрызенных перьев — цаплю сожрали судовые крысы. Они перебрались на «Олекму» еще в Парамарибо — большущие, как кошки, рыжие портовые крысы. По ночам они выбегали на палубу и подбирали все, что остается от ярусного лова: оброненную ставридку, кусочек мяса, застрявший в шпигате. Потом им стало голодно, и крысы устраивали отчаянную драку из-за каждой летучей рыбки, залетевшей на судно. И вот — цапля… Всего лишь несколько объеденных перьев. И все.
Несколько севернее тридцатого градуса северной широты «Олекму» подхватил шторм. Сильный порывистый ветер с разгона налетел на судно справа по корме и начал валять, швырять теплоход с волны на волну. Штормовой ветер принес отчаянный холод: температура упала до плюс восемнадцати-девятнадцати градусов. Привыкнув к тропической жаре, мы выстукивали по ночам зубами дробь и корчились от холода под легкими одеялами. Матросы надели ватные брюки, куртки, зимние шапки. Виктор натянул на себя мягкий, на байке, лыжный костюм и посмеивался надо мной: у меня ничего нет. Ведь я шел работать в тропики! Ну да ладно. Перебьюсь. Похожу пока в одеяле.
А в сороковых широтах мне исполнилось тридцать пять лет. Эх, время! Мы все торопим его, а зачем? Всю жизнь я тороплю время: все что-то нужно сделать, что-то нужно успеть, и торопишь, торопишь дни и недели. А они-то летят очень-очень быстро. Летят месяцы, годы. И вот уже тридцать пять… И вот мы собираемся в нашей с Виктором каюте, чтобы отметить этот день.
Он был такой же серый и скучный. Океан разгулялся не на шутку: вся «Олекма» скрипит и содрогается от наскока волн и ветра. Утомительная качка выматывает душу. Всю предыдущую ночь мы не спали: тело ерзало взад-вперед по койке. Пришлось в ноги положить чемодан. Лишь уперевшись в него ногами, я забылся под утро в тревожных кошмарах. Вот и сейчас океан бушует, воет за иллюминатором, и по столику мечутся из стороны в сторону миска с венгерским перцем, банка шпрот и полукруг колбасы. Мечутся, но соскочить на палубу не могут — привязаны. А стаканы мы не выпускаем из рук — их не привяжешь. Мы наливаем в них душистый кубинский ром, а Хлыстов курит к тому же ядовитую кубинскую сигару. Ему подарили сигару в отеле «Гавана-Либре». И вот он уже вторую неделю курит ее и все не может докурить до этикетки, перехватившей золотым пояском округлую сигарную тушку посредине.
— Давайте откроем окно, — предлагает Брянцев, — дышать невозможно.
— Плеснёт, — говорит Николай.
— Не плеснет, — возражает Валентин, — я могу даже под самый иллюминатор сесть. Спорим, что не плеснет.
— Плеснет, — упрямится Хлыстов, — но раз ты настаиваешь — садись под иллюминатор. Я уступаю место.
Валентин пересаживается, а Николай отвинчивает медные барашки.
В каюту врывается свежий, насыщенный соленой влагой ветер. Мы с наслаждением вдыхаем его, очищая легкие от табачного дыма, и Брянцев победоносно говорит:
— Вот видишь, а то надымил: вздохнуть невозможно. А еще говорил — плеснет…
В тот же момент судно резко накренилось на левый борт, около самого иллюминатора зашипели волны, и одна из них окатила Валентина с ног до головы.
— Не простудишься, детка? — спросил Николай, заботливо подавая ему мое полотенце. — Может, закрыть?
— Нет, отчего же, — упорствовал Валентин, — все же свежий воздух. К тому же два раза подряд не бывает.
Спустя пять минут волна еще раз заглянула в нашу каюту. Валентин, пробормотав: «Все же проветрили каютку», ушел переодеваться, а Николай завинтил иллюминатор накрепко и с невозмутимой миной йога, сидящего на раскаленных углях, выпустил изо рта густой клуб сигарного дыма.
Да. Вот так мы праздновали мои тридцать пять лет. Тридцать пять — в самой середине Атлантического океана. Я долго буду помнить этот день: штормящий океан, свист ветра, шипение волн за иллюминатором, ползающую на привязи по столу миску с едким венгерским перцем. И моих друзей, с которыми пройдено столько морских дорог.
Мы допоздна сидели в каюте, спорили, пели песни, планировали, где и как проведем свои отпуска. И уже загадывали — в какие широты предстоит нам очередной рейс.
Потом мне преподнесли подарок.
— Вот тебе, — сказал Жаров, — держи и помни о нас. Все пальцы искололи с Николаем!
Они подарили мне дикобраза. Того самого — раздутого, как шар, единственного за все ярусы, что мы ставили в Атлантике. Которого мне так хотелось иметь… Спасибо, я о вас не забуду, ребята. Никогда.
Уже ночь. Слава-радист долго шарил в эфире, и вдруг мы услышали наш город: Калининград передавал ночной концерт для рыбаков, работающих в Атлантике. В концерте было немного хороших песен, но мы с напряженным вниманием вслушивались в русский язык, в русские мелодии: долгие месяцы из динамиков судна раздавались чужие, порой и очень хорошие, но все же чужие мелодии, чужие мотивы… Потом Трошин спел нам морскую песню. О том, что «повсюду пришлось нам бросать якоря, мы многое, друг, повидали…» И о том, что теперь нас с нетерпением ждут на берегу.
Да, ждут! Так все же лети, время, сократи разлуку, ускорь долгожданную встречу. Мы хотим быстрее бросить якорь в родном порту.
И время летит. Остались за кормой почти восемьдесят градусов пути, почти пять тысяч морских миль, и вот уже штурман проводит по линейке новый курс: мы входим в Ла-Манш. В вечернем сумраке подмигнул нам дружелюбно маяк на мысу Лизард. Моряки называют его порогом в океан. Миновав Лизард, суда выходят в бескрайние океанские просторы. Для нас же Лизард сейчас порог перед домом: океан, серый, неприветливый, остался позади. Впереди же всего какая-то неделя пути, всего какая-то тысяча миль последнего перехода.
Ла-Манш приветливо встречает нас теплой и тихой погодой. Вода гладкая, как в лесном озере, ветер где-то затерялся, даже дыхания его не чувствуется над проливом. Но тишина и покой обманчивы: к вечеру откуда-то, из-за каких-то скрытых убежищ, выползает плотный белесый туман. Капельками холодной росы оседает он на поручнях, на всех металлических частях судна, едкой влагой орошает наши лица. Мир вокруг становится узким, тесным, дальше чем за полсотни метров ничего не видно.
Для моряков лучше громовой, ревущий шторм, лучше многобалльная буря, чем такой непроницаемый туман. То справа, то слева, то догоняя или приближаясь, раздаются тревожные вскрики теплоходов; тихо жужжа, вращается на верхнем мостике антенна радиолокатора, а в рубке уважаемый наш дядя Витя, Виктор Васильевич Колесников, напряженно всматривается в зеленоватый экран.
— Прет навстречу чудак какой-то… — говорит он, — чешет на полной скорости. Возьмите пять градусов вправо.
— Пять градусов на правый борт! — отдает приказание рулевому матросу капитан.
Тот нажимает на кнопку, и судно чуть отклоняется вправо. А вот и «чудак» — из сизой мглы вырывается, разрывая надстройками и мачтами белые легкие клочья, громадный черный, как базальтовая глыба, теплоход. На носу белеет надпись «Фиорд». Как видно, он уж очень спешит, этот глыбообразный «Фиорд». Спешит. Многие теплоходы многих стран спешили вот так же по Английскому каналу, пренебрегая правилами судовождения во время туманов. Спешили, надеясь на мощные паровые или электрические легкие судна, которые извергали в пространство грозные предупреждающие крики, надеясь на приборы и просто на везение. Но многим не повезло. Со всего хода врезались суда друг в друга и опускались на дно грудой покореженного металла. А там, где они лежат, стоят на мореходных картах маленькие значки: овальный кружок, а внутри него крестик с тремя перекладинками. Овальный кружок и три перекладинки — могила корабля и тех, кто на нем очень спешил.
— Осторожность и еще раз осторожность, — говорит мне капитан, проводив взглядом пронесшийся мимо «Фиорд». — Приборы могут подвести, а гудки — вон их сколько! Определи, какой где. И вот, когда впереди неожиданно оказывается теплоход, попробуй-ка останови судно, мчащееся на такой скорости! В тумане нужно ходить очень осторожно, — повторяет Валентин Николаевич и посылает на нос судна впередсмотрящего. Это так, на всякий случай. Мало ли, мелькнет впереди какой-нибудь деревянный рыбацкий баркасишко, который и прибор-то не заметит…
Как тени, словно призраки, проходят навстречу нам различные суда. Те, которые совсем близко, можно рассмотреть. Вот осторожно, вроде нас, пробирается в тумане небольшой белый фруктовоз «Берген»; за ним выныривает из плотной завесы красивый, с изящными обводами сухогрузный теплоход с именем «Маргарита».
Ах, туман, плотный, коварный. Скорее бы он рассеялся и выпустил нас из этого вязкого, какого-то липкого белесого сумрака. Ну, рассейся! Ну, пропусти! Ведь мы идем домой.
Заскочив в каюту, я достаю из пиджака разные мелкие деньги.
— Старым приметам веришь? — поднимает голову от бумаг Виктор.
— Нет, это я так… Боюсь, карман заржавеет.
— От денег карманы не ржавеют. Постой! Уже помчался. На-ка вот. И от меня, а то черт его знает… — В мою ладонь падают монеты.
А из нее они сыплются в тихую воду: возьми, Нептун, пропусти нас. Дунь ветерком, дай простор глазам: ведь мы спешим. Нас ждут…
Ночью туман рассеялся. Прошли узкий пролив Па-де-Кале. На берегу сверкал залитый морем огня Дувр. Подмигивали с берега, вспыхивали ослепительными звездами маяки. Вскоре мы вышли в Северное море. Туманный Ла-Манш пропустил нас. А Жаров потом еще долго смеялся надо мной, подшучивал. А мне так не смешно: там, в тумане, мне было страшно. Сознаюсь в этом…
В Северном море меня усадили за пишущую машинку — перепечатывать рейсовый отчет. И вот я сижу в радиорубке и выщелкиваю на ней страничку за страничкой различные отчетные данные: за время рейса проделано 169 океанологических морских станций, проведено около тысячи анализов морской воды на соленость, содержание в ней фосфора и кислорода, собрана богатая коллекция проб зоо- и ихтиопланктона. У северо-восточного побережья Южной Америки, в Саргассовом и Карибском морях сделано 14 разрезов; по линии Дакар — Ресифи через весь океан, от Африки до Южной Америки, проделан трансатлантический разрез, давший богатейший материал, представляющий несомненную ценность для науки. Всего с разрезами и поиском пройдено в Атлантическом океане, Карибском, Саргассовом, Ирландском и Северном морях около 23 тысяч морских миль. Подробно изучена структура вод в обследованных частях Атлантики. И главное — рыбопромышленным организациям страны мы предлагаем несколько новых районов промысла ценнейших промысловых рыб океана…
Здесь, в Северном море, мы услышали радостную весть: в сложный, длительный полет отправился на звездолете «Восток-5» советский космонавт Валерий Быковский. Мне вспомнилось, как в Парамарибо один американский турист, приехавший посмотреть в Суринам на «этих диких индейцев», похлопал меня по плечу и, упомянув последний космический полет американца Купера, на ломаном польско-русском языке сказал:
— Мы вас догоняйт! Мы вас ещо… как эта… показываю вам фига с космоса…
Мы и в Парамарибо сумели доказать тому надутому американцу в клетчатых брючках, что полет Купера не отодвинул достижения советских космонавтов на второй план… И вот теперь — в космосе Быковский. Ну что ж — догоняйте!..
Чуть позже, в проливе Зунд, мы узнали новую радостную весть: в космосе женщина! Наша советская девушка Валентина Терешкова. Я думаю, что в тот момент, когда на весь мир московское радио сообщило о новом подвиге советских людей, у многих недругов вытянулись лица. Попробуйте догоните!
Пока Валерий и Валентина совершают виток за витком вокруг Земли и посылают приветственные телеграммы всем народам, мы занимаемся своими земными, а пока, вернее, морскими делами. Матросы скребут «шкрябками» проржавевший за переход через океан металл, скребут, суричат, красят Кок с озабоченным лицом готовит последние обеды, завтраки, ужины. В салоне не жарко — прохладно, и аппетит у всех отличный. Кок переживает: продукты подходят к концу, приходится экономить на всем. И уже никому не достается по две миски гороха или борща: только по одной. А мы, научники, заканчиваем свою работу над отчетом — дочерчиваются последние схемы и графики, составляются последние справки. Сразу же по прибытии на берег мы должны сделать отчет на ученом совете института.
Сувенир мой с Карибского моря, кактус девочки Кариды, завял и пожух. Зеленая широкая лапка его сморщилась и поникла — не перенес кактус серых, бессолнечных, холодных дней Атлантики. Простудился. Погиб.
— Выбрось ты его, — сказал как-то Виктор, — мотается перед иллюминатором. Надоел. Да и свет загораживает.
В задумчивости я снял с веревок банку, поставил на стол: эх ты, кактус, кактус! Теплолюбивое ты растение! Не выдержал, скис. Хотя что с тебя, жителя тропиков, возьмешь? Мы, северяне, и то все перемерзли, переболели. И Жаров и Брянцев сморкаются и чихают уже дней двадцать. Где же тебе, кактусу, сохранить в своем хилом теле столько тепла, чтобы перенести все невзгоды дальнего перехода, чтобы не замерзнуть? Вздохнув, я выдернул его из пересохшей земли и увидел: торчат из основания кактуса белые упругие корешки. Так, значит, ты жив, старина! Жив… Наверное, было много тепла в грязноватых детских ладонях; столько тепла, что лапчатый колючий отросток сохранил его и не погиб — пророс. И я осторожно вновь засыпал ого землей — выдюжишь, доедешь до моего дома.
В Северном море тихо и тепло. Иногда нас обгоняет танкер или фруктовоз, везущий из знойной Африки бананы и ананасы. Пересекая курс, идут на промысел черные, грязноватые на вид СРТ, «сеертешки», — трудолюбивые, надежные пахари моря. Идут, чуть раскачиваясь на волне, спешат гуськом один за другим. На палубах — ни души. На переходах команда, кроме вахтенных, обычно спит. Отдыхает. Ведь когда траулеры придут на промысел, там будет не до сна.
Тихо и тепло. Матросы докрашивают, подправляют краской полубак; боцман, попыхивая сигаретой, привязывает к длинной палке кисть, а старший механик судна Анатолий Сафронов, приспособившись около траловой лебедки, доделывает модель нашего судна. Многие вечера и ночи корпел он над нею, вырезал из пенопласта спасательные лодки, плотики, трапы, сооружал мачты и надстройки. А потом собирал все вместе.
И вот теперь теплоход почти готов. Скоро он совершит свой первый и последний рейс — из судовой каюты Анатолия в школу. Чтобы ребятишки смотрели на него и мечтали о будущих дальних походах в незнакомые края.
В Северном море было тихо, а в проливе Скагеррак налетел на «Олекму» сильнейший штормовой ветер, насыщенный холодной влагой. Ветер размотал по проливу небольшие, но крутые волны. К вечеру пошел дождь, затянул все вокруг серой пеленой. Ветер, вода и дождь. Видимости никакой.
В ходовой рубке серый полумрак: здесь, на севере, еще не миновали белые ночи. Дождь омывает окна-иллюминаторы рубки; и море, и прыгающий по волнам полубак судна — все искажается стеклами, приобретает неправильные, кривые очертания. Деловито жужжат «снегоочистители» — стеклянные вращающиеся круги, вмонтированные в окна. На них дождевые капли не держатся. Через них вахтенный штурман и капитан напряженно вглядываются в серую мглу: здесь тоже очень большое движение судов и нужно быть внимательным.
— Противная погодка, — ворчит дядя Витя, заглядывая в экран радиолокатора. Он выискивает своим прибором плавучий маяк Скагенс-Рев. За ним мы повернем на юго-восток, в пролив Каттегат. — Ага… вот он. Показался, родимый.
— Я тоже его вижу, — говорит капитан, постукав по стеклу пальцем: там, далеко впереди, справа по курсу судна, вспыхнул и погас ярко-красный огонь.
Каттегат миновали без приключений: стихло, потеплело. Вот уже виден и знакомый Хельсингерский замок с позеленевшей остроконечной крышей и шпилем. Курсируют с берега датского на берег шведский сверкающие стеклом и металлом паромы. Спешат куда-то многочисленные катера, моторные лодки. Навстречу идут, может быть в Америку или в Африку, множество судов финских, немецких, польских, шведских. За ними на воде остаются в мелких волнах промятые стальными днищами гладкие водяные дорожки. Это неверно, что теплоходы не оставляют следов: вот они, протоптанные в воде дороги-тропинки. Только ветер, дующий с датского берега, искривляет, ломает их. И кажется, будто судно вел неопытный рулевой: так выгибается оставленный им след. Но вскоре и он пропадает — ветер и волны надежно заметают следы. Слышится рев сильного двигателя — навстречу несется бронированный торпедный катер с датскими опознавательными знаками. Около кормы, на вращающейся орудийной площадке, суетятся люди в блестящих куртках и желтых шлемах. Они крутят орудие, и его тонкий ствол нацеливается в нас, потом в шведский танкер. Парни тренируются.
Показался Копенгаген — острые шпили кирх, купола соборов и дворцов, заводские трубы, красные крыши домов. На аэродром, построенный возле самого пролива, садится тяжелый многомоторный самолет с надписью «САС» на фюзеляже. А посреди пролива поднимает паруса трехмачтовый парусный корабль. По его вантам, как мелкие букашки, ползают темные фигурки людей, они крепко держатся за леера и стоят на реях, распуская концы. Почувствовав ветер, паруса надуваются тугими пузырями. Еще несколько минут, и корабль, наполнив свою парусину свежим ветром, наклоняется и направляется в сторону Балтики.
Мы тоже спешим туда. К вечеру прошли маяк Дрогден, и «Олекму» подхватывают пологие пенные воды Балтийского моря, нашего родного моря…
Последняя ночь. Последние часы рейса. В каютах слышны разговоры, смех. Почти никто не спит — заснуть накануне прихода в родной порт почти невозможно. Подушка кажется ужасно жесткой, койка — невероятно неудобной. Кажется, что и двигатель работает сегодня как-то неуверенно… А вдруг что-нибудь в его металлическом нутре лопнет, сломается?.. Нет, только не это. Крутитесь, шестеренки, бегайте вверх-вниз, переутомившиеся поршни и клапаны! Скоро вы остановитесь на длительный отдых. Скоро.
Нет. Не спится. Раскрыв глаза при счете «тысяча двести сорок», я зажигаю свет, одеваюсь и отправляюсь в поход по судну.
— Чего не спишь? — спрашивает меня в рубке капитан. — Нервишки сдают?
— Сдают, — соглашаюсь я, — слабовольный я человек. Никак не могу заснуть. Где мы?
— Сорок миль осталось, — говорит Валентин Николаевич. — Вот тут мы. Совсем рядом.
Спускаюсь вниз, захожу в каюту Хлыстова.
— …тринадцать тысяч сто тридцать четыре… — говорит он мне из темноты. — Ну, чего ты? Я почти уже заснул.
— Всего сорок миль, — сообщаю я ему.
— Тринадцать тысяч сто тридцать пять, — отвечает мне сурово Хлыстов и накрывается одеялом с головой.
На корме я вижу в сером ночном сумраке склонившуюся над водой фигуру боцмана. Он курит и, положив руки на леера, напряженно смотрит в пенную воду, бегущую из-под кормы. Несколько минут мы молчим. Потом Петрович поворачивает ко мне свое лицо и, кивнув головой в море, тихо говорит:
— Прощаюсь с ним, Николаич. Боюсь, что навсегда. Двадцать лет проплавал, а в этот рейс еле-еле выпустили: что-то там в сердце врачи нашли. Уеду в Сибирь. Там леса, горы… Там так хорошо. Только вот моря нет. А как жить без моря? Как?..
Я не утешаю его. И не говорю никаких слов. Я знаю — без моря очень трудно. Без моря моряку нельзя. Невозможно.
Но время летит. И все проходит. Миновала и эта утомительная ночь. Миновали удивительно длинные сорок миль. Вот уже борт «Олекмы» стукается в портовый пирс. Вот и женщина с голубыми глазами бежит, спешит к судну. Сходни еще не спущены на пирс, и она стоит внизу, на сырых досках, а я на верху, на судне… В ее руках цветы. Она кидает их мне, и цветы разлетаются по палубе. Но я не собираю их. Я спрыгиваю на пружинящий досками пирс навстречу вытянутым рукам… Скачут, повизгивая от восторга, ребятишки, отец в растерянности так тискает руку, что из глаз выступают слезы. А может, они выступили и раньше. Все может быть: ведь я уже дома.
Вот и все. Рейс окончился. Состоялся отчет на ученом совете нашего института. Директор, Сергей Александрович Студенецкий, похвалил нас. Он сказал, что в открытые нами районы скоро отправятся промысловые суда и что нам нужно готовиться к новому рейсу. Так что отдохнете — и в новый дальний поход.
Ну что ж. Отдохнем — и в новый дальний поход. Ведь стране нужна рыба. Очень много рыбы. И мы вместе с другими исследователями голубой целины будем ее искать.
Кактус я посадил в красный глиняный горшок. И поставил его на солнечную сторону. Вскоре из сухого кактусового основания вылезли два зеленых упругих, в мелких колючках ростка. Они склонились к стеклу, к солнцу. Вместо пальм за окном шумели березы…


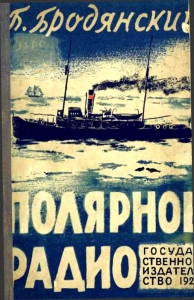
Комментарии к книге «Карибский сувенир», Юрий Николаевич Иванов (океанолог)
Всего 0 комментариев