Предисловие
Хроника мореплаваний в Тихом океане изобилует захватывающими эпизодами, удивительными и нередко драматическими приключениями. Но в этой летописи история путешествия английского судна «Баунти» представляет собой, пожалуй, самую яркую страницу. Здесь нет необходимости излагать ход событий: читатель найдет превосходный рассказ об этом плавании в предлагаемой книге.
Вряд ли также есть необходимость представлять советскому читателю автора книги. Швед Бенгт Даниельссон участвовал в 1947 году в знаменитом путешествии через Тихий океан на плоту «Кон-Тики». Уже тогда он был известен среди этнографов своими работами об индейцах Южной Америки. После экспедиции на «Кон-Тики» Даниельссон заинтересовался островами Тихого океана, особенно островом Рароиа из архипелага Туамоту. Результатом глубокого изучения жизни его обитателей явилось капитальное этнографическое исследование «Труд и быт на Рароиа». Основные материалы и идеи этого труда автор изложил в популярной книге «Счастливый остров», знакомой многим читателям в русском переводе. В этой книге, согретой искренними симпатиями к полинезийцам, Даниельссон показывает себя как незаурядный этнограф и решительный противник колониализма.
Советскому читателю известны и другие произведения Даниельссона, в том числе «Позабытые острова» (о «зацивилизованных до смерти» жителях Маркизских островов) и «Бумеранг» (об аборигенах Австралии). Эти книги закрепили репутацию Даниельссона как передового ученого и отличного рассказчика.
Ныне он выступает в роли историка. Опираясь на тщательное изучение большого материала, автор пересматривает некоторые сложившиеся взгляды на мятеж команды «Баунти».
Первым историком путешествия «Баунти» был сам Блай: когда он со своими спутниками после невероятных лишений добрался до Англии, то поспешил опубликовать подробное изложение событий, постаравшись, разумеется, снять с себя всю ответственность за случившееся. Однако вскоре выступили противники Блая, которые представили его главным виновником событий. Они рисовали его жестоким и кровожадным человеком, настоящим тираном, утверждали, что Блай подвергал подчиненных суровым наказаниям, сопровождая их издевательствами, оскорблениями, грубой бранью. В довершение всего Блай якобы обкрадывал свою команду, экономя на припасах: питание на борту судна было скудным и скверным. В конце концов люди не выдержали, и на «Баунти» вспыхнул бунт.
До недавнего времени эта версия повторялась во всех популярных работах и учебниках. Свирепым чудовищем изобразили Блая и авторы популярной трилогии о путешествии «Баунти» — американские писатели Нордхофф и Холл, а также известный актер Чарльз Лаутон, игравший капитана в фильме, поставленном по роману.
В тридцатых годах многие исследователи обратились к изучению событий на «Баунти» и личности Блая (Макейнз, выпустивший в 1931 году двухтомную биографию Блая, Монгомери, Раттер, Роусон, Эватт и др.). Их усилиями были найдены новые материалы и документы, восстановлены в мельчайших подробностях обстоятельства путешествия «Бауити» и мятежа. При этом стало совершенно очевидным, что сложившиеся традиционные взгляды страдают сильными преувеличениями и что портрет Блая нуждается в исправлении.
Даниельссон продолжает ревизию традиций. Со страниц книги встает образ энергичного, мужественного командира, наделенного сильной волей, хорошо подготовленного моряка, ученого.
Однако, как нам кажется, в пересмотре традиционных взглядов автор идет слишком далеко. Возможно, им руководит стремление оправдать незаслуженно оклеветанного человека. Но так или иначе, на портрете Блая вновь появляется ретушь: на сей раз он приукрашен.
Так, Даниельссон вообще оспаривает утверждения и даже факты, свидетельствующие о грубости и нетерпимости Блая. Отвергая обвинения его в жестокости, автор пишет: «Напротив, он был на редкость добр и человечен в обращении с командой» — и для доказательства прибегает к подсчетам: оказывается, за весь рейс Блай назначил одиннадцать телесных наказаний и общее число ударов плетью составило двести двадцать девять — «невероятно низкая цифра по сравнению с тем, что делалось на других судах в конце восемнадцатого столетия» (стр. 208). Этот аргумент не представляется убедительным: для оценки суровости наказаний их следует соразмерить с характером проступков; ведь даже сравнительно легкое, но несправедливое наказание может ранить и оскорбить очень тяжело.
В другом случае, признавая, что в обращении с подчиненными Блай был резок и сух, автор заявляет: «Это была лишь маска, на деле он очень страдал от одиночества и перенесенных невзгод». Но и здесь письмо Блая, приводимое в качество доказательства, как нам кажется, не подтверждает мысли Даниельссона (стр. 155).
Будучи добросовестным исследователем, Даниельссон не замалчивает вовсе фактов грубости и бестактности Блая, но несколько смягчает краски.
Естественно, что Даниельссон вынужден пересмотреть и вопрос о причинах мятежа на «Баунти». В самом деле, если Блай был таким превосходным человеком и командиром, то что же все-таки вызвало мятеж? Объяснение Даниельссона страдает противоречием.
Он справедливо устанавливает, что восстание имело глубокие социальные корни. Об этом свидетельствует его классовый состав: против капитана выступили все четырнадцать матросов, а лица командного состава, кроме двух, остались на его стороне. Отсюда автор делает вывод, что восстание на «Баунти» было «классовым конфликтом, восстанием угнетенных, обездоленных, нищих, бездомных моряков» (стр. 112). Они не хотели возвращаться в Англию, где их ожидали лишь тяжелым труд и лишения, они мечтали о «счастливых островах», только что оставленных позади. Они верили, выражаясь словами Байрона, что
…светлый край, где нет законов, — их, Закон низвергших, примет как родных. Где землю делят мирно, где растет Готовый хлеб на ветках, словно плод. Где нету тяжб за ниву, лес, родник…Однако тут же Даниельссон пишет, что восстание было вызвано «недовольством избаловавшихся людей строгой дисциплиной, которую ввел Блай, а также его несдержанным поведением» (стр. 111). В этих словах уже звучит нота осуждения недовольных («избаловавшихся людей»).
По-видимому, стремясь устранить это внутреннее противоречие в оценке восстания, автор утверждает, что оно вообще явилось результатом мгновенного порыва и случайного стечения обстоятельств. Все дело, оказывается, в том, что лейтенант Крисчен, человек очень впечатлительный и вспыльчивый, был накануне дня мятежа жестоко оскорблен Блаем. Следовательно, восстание вовсе не было результатом тщательно продуманного заговора, как полагал в свое время Блай, удивлявшийся тому, что заговорщикам до самого последнего момента удалось держать все свои приготовления в тайне. Даниельссон объясняет это очень просто. «Никто на «Баунти», — пишет он, — не мог проговориться по той простой причине, что никто и не помышлял о бунте» (стр. 111).
Трудно поверить, что мятеж, который в случае неудачи стоил бы его участникам головы, мог быть вызван простой случайностью и горячностью одного человека, хотя вполне допустимо, что команда не имела разработанного плана действий. Почва для восстания была. Под влиянием общего недовольства идея восстания исподволь зрела в матросском кубрике. Только в таком случае можно понять, почему первый же шаг Крисчена встретил такое сочувствие и поддержку. Как должна была накалиться ненависть к Блаю, если его высадили с корабля, бросив в открытом океане!
Если версия событий, выдвинутая Даниельссоном, отвечает истине, то матросы «Баунти» не только восстали против отличного и справедливого командира, но и проявили непонятную жестокость.
Очевидно, для правильного понимания событий на «Баунти» большое значение имеет оценка личности Блая. Посмотрим, как сложилась его судьба после возвращения в Лондон из неудачного плавания на «Баунти». Блай был направлен второй раз за хлебным деревом и на этот раз успешно выполнил эту миссию. Затем он участвовал в нескольких морских сражениях, в том числе под командой Нельсона в бомбардировке Копенгагена. Между прочим, команда корабля, которым командовал Блай, в 1797 году приняла участие в восстании английского флота против командования.
В 1805 году Блай был назначен губернатором колонии Новый Южный Уэльс (Австралия). Деятельность его на этом посту оказалась непродолжительной: в феврале 1808 года против него взбунтовался английский полк, расквартированный в колонии. Смещенный со своего поста, Блай целый год провел под домашним арестом. В конце концов на смену ему был прислан новый губернатор.
На этот раз справедливость была на стороне Блая. Причиной восстания явилась попытка губернатора положить конец злоупотреблениям в колонии и прежде всего прекратить торговлю спиртными напитками. Отсюда все восстание получило в истории название «ромового бунта». Торговля ромом находилась в руках офицеров, извлекавших большие прибыли, и действия Блая вызвали их недовольство. Позднее военный суд целиком поддержал Блая и сместил командира полка, а полк расформировал.
Итак, Блаю пришлось еще два раза иметь дело с восстаниями. Разумеется, это не дает нам оснований считать, что во всех случаях причиной был только он. Но, по-видимому, в характере Блая наряду с достоинствами были какие-то существенные пороки, приводившие его к столкновениям с подчиненными.
Высказанные соображения относятся лишь к одному вопросу, освещенному в книге, причем отнюдь не ставят под сомнение правильность изложенных фактов: речь идет лишь об их истолковании. Это никак не умаляет значения содержательной книги Бенгта Даниельссона. Его рассказ основан на строгом и тщательном изучении источников и материалов. Там, где это возможно, автор следовал источникам даже в передаче речи действующих лиц. В результате ему удалось но только восстановить со всей точностью канву событий, но и воссоздать атмосферу, в которой они происходили. И, хотя более чем полтора века отделяют нас от мятежа на «Баунти», рассказ о его судьбе захватывает читателя. Начав читать эту книгу, оторваться от нее уже невозможно. И в этом — заслуга талантливого автора.
Н. А. Ерофеев
От автора
В обширной литературе о мятеже на «Баунти» и драматических событиях до и после него преобладают, к сожалению, сухие дневниковые записи, тенденциозные полемические писания, а также романтизированные развлекательные сочинения, изобилующие ошибками и домыслами. Это тем более странно, что в архивах и библиотеках мира сохранилось множество судовых журналов, отчетов, писем и иных документов, которые позволяют вполне точно воспроизвести ход событий. Эта книга основана на тщательном изучении источников, и ее можно было бы назвать: «Истинный и исчерпывающий рассказ обо всем, что происходило на борту «Баунти» во время плавания в Южные моря в 1787–1789 годах, а также о том, что стало с главными действующими лицами драмы после мятежа». Но мой обычно столь кроткий и уступчивый издатель на сей раз безжалостно вынудил меня избрать более лаконичное название.
Хочу особо подчеркнуть, что все реплики и диалоги в тексте заимствованы из сохранившихся писем и записок самих участников исторического плавания, следовательно, они заслуживают несравненно большего доверия, чем вольные домыслы, так часто встречающиеся в литературе. Другой серьезный недостаток большинства прежних книг о «Баунти» — то, что ошибочные представления и типичные для той эпохи предвзятые суждения мятежников о встреченных ими тихоокеанских народах некритически воспринимались и преподносились как исторические и этнологические факты. Я стремился восстановить верную картину, опираясь прежде всего на исследования и наблюдения, которые сам сделал за пятнадцать лет пребывания в Южных морях.
Глава первая Королевская щедрость
Больше десяти отчаянных мореплавателей, движимых разными побуждениями (а главное, не ведая об огромных расстояниях), уже в шестнадцатом и семнадцатом веках отваживались выходить на просторы Тихого океана, но корабли у них, как правило, были такие скверные и цинга так беспощадно косила их команды, что они спешили возвратиться в Европу, не помышляя ни о каких открытиях. Поэтому Тихий океан все еще был по сути дела неизведанной областью, когда в 1768 году капитан Кук начал систематически исследовать его. Благодаря замечательным качествам Кука и настойчивой заботе о здоровье людей он за каких-нибудь одиннадцать лет сумел завершить гигантскую программу исследований.
В итоге своих смелых плаваний Кук открыл совсем новый мир, где все было иначе, чем в Европе. Чтобы понять, какой огромный интерес вызвали его путевые заметки, можно сравнить их с сенсацией, которую вскоре, наверно, произведет первый отчет о полете на другую планету. Правда, в занимательности книги о космосе еще долго будут уступать судовым журналам Кука: вряд ли космонавтам встретятся в мироздании планеты, населенные такими же интересными и обаятельными созданиями, как те, которых Кук находил на цветущих пальмовых островках, что появлялись на горизонте всякий раз, когда его корабли ложились на новый курс.
Читателей путевых заметок Кука прежде всего поражало, до чего же на зависть просто было удовлетворить две важнейшие потребности человека на островах Южных морей. Во-первых, стоило членам команды ступить на берег, как им тотчас, словно так и должно быть, предлагали красивых, пышных, пылких женщин; во-вторых, хлеб повсюду рос на деревьях. Со времен Адама и Евы никто не слышал о таких райских условиях, и ведь острова эти, пожалуй, превосходили сады Эдема: здешние очаровательницы могли вволю есть плоды хлебного дерева, не чувствуя за собой решительно никакой вины.
Теперь-то мы точно знаем, что половая жизнь полинезийцев вовсе не была такой свободной и необузданной, как воображали первые путешественники. Но хлеб действительно рос на деревьях. Речь идет о растении из семейства тутовых (в него входят также смоковница и шелковица), своей большой, развесистой кроной и глубоко вырезанными листьями напоминающем клен или вяз. Круглые и овальные плоды величиной с кочан капусты покрыты грубой зеленой кожурой, придающей им сходство с огромными лимонами.
Бесстрашные путешественники задолго до Кука видели хлебное дерево в Меланезии, Микронезии и Индонезии. Но там оно было далеко не так распространено, и плоды его не столь ценились, как на полинезийских островах в восточной части Тихого океана, поэтому в немногих книгах и отчетах о первых двух группах островов лишь изредка мельком упоминается удивительное дерево. Кук, посвятивший исследованию Полинезии особенно много времени, с присущей ему основательностью не только описал внешний вид дерева (в его первом отчете есть даже отличный рисунок), но и подробно рассказал, как ухаживать за ним, собирать и приготовлять его плоды.
По словам Кука, особенно изобиловал хлебным деревом остров Таити, и ботаник, участвовавший в его первой экспедиции в Южные моря, ученик Линнея швед Даниель Соландер, описал до десяти различных видов его (всего их около сорока, но даже опытный ботаник с трудом их различает, так как главный признак — форма плодов и рисунок листьев). Двое немецких ученых, Иоганн Форстер и Георг Форстер, сопровождавших Кука в его втором плавании, подтвердили наблюдения Соландера и добавили, что два-три хлебных дерева на весь год обеспечивают питанием таитянина: девять месяцев они дают свежие плоды, остальные три месяца в пищу идет кислое тесто, которое легко хранить в земляных ямах, выстланных листьями.
Капитан Кук сообщал, что хлебное дерево по сути дела никакого ухода не требует, достаточно посадить его. Но здесь врач-шотландец Андерсон, участник третьего плавания Кука, был вынужден поправить своего начальника. Дело в том, что Андерсон, тщательно изучив вопрос, нашел, к своему удивлению, что таитянам не нужно даже сажать хлебное дерево. «В том, что это так, — писал он, — может убедиться всякий, кто даст себе труд исследовать, где появляются молодые деревца. Он увидит, что они всегда вырастают из корней взрослого дерева, которые расходятся во все стороны у самой поверхности земли. Вот почему можно сказать, что жителям Отахеити [1], пожалуй, приходится не столько сеять свой хлеб, сколько ограничивать его распространение. Так они, видно, и делают, освобождая место для других растений, чтобы внести разнообразие в свою пищу».
Впрочем, какое-то усилие все же требовалось от таитян: плоды хлебного дерева нельзя есть сырыми, их надо приготовить — либо изжарить на костре, либо испечь в земляной печи. В первом случае островитяне просто клали собранные плоды на горящий хворост, а потом соскребали обуглившуюся кожуру. Во втором случае сначала снимали кожуру, потом разрезали мягкий плод на дольки и пекли их на раскаленных камнях. Готовая мякоть плотностью напоминает булку, а на вкус это нечто среднее между белым хлебом и картофелем. От приезжих на Таити часто можно услышать, будто плоды хлебного дерева слишком пресные, но это потому, что островитяне в угоду гостям варят дольки на европейский лад, в кастрюле; этот способ, конечно, не годится.
Пытливый Босуэлл[2], у которого было безошибочное чутье на все, что могло дать повод для спора, прочтя отчет о первом плавании Кука, немедленно спросил доктора Джонсона[2], какого мнения тот о хлебном дереве. И добавил, подливая масла в огонь:
— Меня уверяли, будто жители Таити, которым плоды хлебного дерева заменяют хлеб, громко смеялись, когда узнали, сколько трудоемких работ мы выполняем, чтобы получить хлеб, — пашем, сеем, бороним, жнем, обмолачиваем, мелем, печем.
Легко представить себе, как доктор Сэмюэль Джонсон, последовательный и бесстрашный поборник устоев английского общества и существующего порядка, возмущенно фыркнул, отвечая:
— Еще бы! Невежественные дикари всегда смеются, когда слышат о преимуществах цивилизованной жизни. Расскажите людям, которые обходятся без домов, как мы кладем кирпич на кирпич, балку на балку, причем, когда дом достигает известной высоты, бывает, что один из строителей падает с лесов и ломает себе шею, и они, конечно, посмеются над этаким безумием — строить дома! Однако из этого не следует, что лучше жить, не имея домов. Нет, сэр, — и он поднял вверх ломоть булки, — вот это будет получше хлебного дерева!
Но, за исключением доктора Джонсона, читатели записок Кука, как уже говорилось, единодушно восхищались удивительным деревом, само существование которого всеми почиталось за еще одно свидетельство безграничной благости и премудрости творца. Правда, в отличие от холодостойкого картофеля (он как раз в ту пору становился важнейшей сельскохозяйственной культурой в Европе) это тропическое растение нельзя было переселить в северные широты, поэтому огромный интерес англичан к хлебному дереву не выходил за пределы преходящего увлечения диковинкой.
Зато по другую сторону Атлантики, на островах Вест-Индии, климат жаркий и влажный, как на Таити, и многие плантаторы Ямайки и Доминики быстро поняли, что это растение может быть очень ценным для них. Нет, нет, они вовсе не собирались сами переходить на плоды хлебного дерева. Но у каждого из них на плантациях сахарного тростника работало множество рабов (преимущественно африканцев, так как коренное индейское население давным-давно было зацивилизовано до смерти), и, хотя они, разумеется, никакого жалованья не получали, их отменный аппетит ввергал хозяев в немалые расходы. Почему не попытаться удешевить производство — кормить рабов плодами хлебного дерева?
До тех пор их главную пищу составляли бананы, которые тоже очень легко выращивать. Но у банана, к сожалению, слишком хрупкий стебель и слабые корни, чуть ветер покрепче — и растение падает, а это было совсем некстати, ведь на островах Вест-Индии, как и теперь, частенько бушевали штормы и циклоны. И всякий раз бедным плантаторам приходилось доставлять для своих рабов хлеб, кукурузу и иные дорогие продукты из Англии или Северной Америки. А хлебное дерево, не говоря уже о всех его прочих достоинствах, отличалось устойчивостью — словом, оно как нельзя лучше подходило для местных условий.
К своей досаде, плантаторы быстро убедились, что перевезти желанное дерево в Вест-Индию весьма сложно. Главное препятствие заключалось в том, что хлебное дерево (во всяком случае описанные Куком таитянские виды) размножалось только побегами. Самый быстрый парусник проходил путь от Полинезии до Вест-Индии за полгода; можно ли так долго в искусственных условиях сберечь нежные саженцы?
Плантаторы начали с того, что в 1775 году на собрании своего союза, носившего громоздкое название «Постоянная комиссия плантаторов и коммерсантов Вест-Индии», торжественно приняли документ, в котором выразили готовность покрыть все оправданные расходы тому, кто возьмется поставить им партию саженцев хлебного дерева. Главную надежду они возлагали на многочисленных шкиперов, ходивших в коммерческие рейсы в Ост-Индию; было даже издано краткое руководство, как перевозить нежные побеги за тридевять земель. Составил его выдающийся английский ботаник, ученик Линнея, почетный член Научного общества в Упсале, Джон Эллис, который, кстати, был доверенным лицом плантаторов. Помимо подробного описания хлебного дерева (чтобы кто-нибудь сгоряча не навез других) инструкция содержала чертеж переносного ящика для рассады с хитроумным устройством для орошения и вентиляции. Для вящего поощрения Британское общество искусств, промышленности и коммерции вскоре посулило золотую медаль первому, кто доставит с островов Южных морей на острова Вест-Индии шесть всхожих саженцев хлебного дерева.
Но, как известно, капитан и садовник — трудносовместимые профессии, и, к великому огорчению вест-индских плантаторов, капитаны ост-индских линий почему-то не стремились стать благодетелями человечества. А тут еще Англия из-за неразумной попытки подавить мятежных поселенцев в Америке оказалась вовлеченной в битву не на жизнь, а на смерть с другими державами континента. Ничего удивительного, что даже те, кого манила скромная награда, мало-помалу забыли всю эту историю.
Однако плантаторы Вест-Индии не были столь же забывчивыми, и они снова взялись за дело в середине восьмидесятых годов восемнадцатого века, едва установился мир. По-прежнему они стремились добыть чудо-дерево подешевле, а потому применили отнюдь не новую и не забытую с тех пор тактику: они ухитрились без особого труда внушить и себе и другим, что их местная, довольно-таки узкая проблема чрезвычайно важна для всего государства и, следовательно, английское правительство просто обязано им помочь. Георг III активно вмешивался в государственные дела, а его главным советником по вопросам науки был высокородный ботаник сэр Джозеф Бенкс, который благодаря своей учености, дипломатическому дару и щедрости мецената выдвинулся в ту пору на одно из первых мест среди английских ученых. По счастливому совпадению Бенкс был хорошо осведомлен как раз в этом вопросе, ведь он участвовал в первом плавании Кука в Южные моря и вместе со своим библиотекарем, шведским ботаником Даниелем Соландером с удовольствием ел плоды хлебного дерева во время трехмесячного пребывания на Таити в 1769 году. Сметливые плантаторы начали с Бенкса и ловко «обрабатывали» его, пока он любезно не согласился лично вручить их петицию Георгу III. Проект, в котором романтика сочеталась с пользой, тотчас пришелся по душе королю, и он без проволочек повелел адмиралтейству послать корабль на Таити, чтобы собрать для вест-индских плантаторов побеги хлебного дерева.
Одновременно (королевское повеление было датировано 5 мая 1787 года) были назначены первые участники экспедиции: ботаник Дэвид Нелсон, который заботами Бенкса участвовал в последнем плавании капитана Кука, и садовник из достославных «Кью-Гарденз»[3] с чисто английским именем Уильям Браун.
Главное было возможно скорее подобрать подходящий корабль, где кроме большой команды и запаса провианта нашлось бы еще место для сотен цветочных горшков. Увы, судна, отвечающего всем этим требованиям, не оказалось в могучем военном флоте Англии, хотя он насчитывал свыше шестисот кораблей самой различной конструкции и водоизмещения, от маленьких лихтеров до стопушечных гигантов. Строить новое судно было бы слишком долго. Оставался единственный выход: незамедлительно закупить корабль, который без чрезмерных затрат можно было бы переоборудовать в плавучую оранжерею. Адмиралтейство проявило необычайную расторопность (недаром сам король интересовался этой странной затеей) и объявило, что требуется торговое судно водоизмещением не больше двухсот пятидесяти тонн, не новое, но в хорошем состоянии. Всего поступило шесть предложений, но только каботажный корабль «Бетиа» отвечал задачам экспедиции. После того как сэр Джозеф Бенкс осмотрел и одобрил судно, а владелец сбавил цену с двух тысяч шестисот до тысячи девятисот пятидесяти фунтов, 23 мая, то есть менее чем через три недели после королевского повеления, сделка была заключена. Еще через несколько дней «Бетиа» пришла на военную верфь в Дептфорде, для переоборудования и снаряжения в долгий путь; полагали, что плавание продлится не меньше двух лет. Прежде всего адмиралтейство переименовало корабль в «Баунти». Это название — его можно перевести как «щедрость» — говорило о задаче экспедиции. Поскольку корабль вдруг был возведен в почетный ранг военного, решили вооружить его четырьмя четырехфунтовыми лафетными и десятью полуфунтовыми вертлюжными пушками.
Его Величества Вооруженное Судно «Баунти» — так отныне официально назывался корабль — имело, согласно флотскому регистру, водоизмещение двести пятнадцать тонн, длину (на уровне верхней палубы) — 27,73 метра, наибольшую ширину — 7,42 метра. Как и на большинстве океанских судов той поры, надстройки отсутствовали, все каюты помещались под палубой. Для своей длины и ширины «Баунти» был довольно высоким — мостик возвышался над килем почти на шесть метров. И еще в двух отношениях судно было типичным для той поры: нос тупой, широкий, корма срезана; мачт, как и положено кораблю, три, длиной от четырнадцати до восемнадцати метров. Число рей точно отвечало размерам судна: на фок-мачте и грот-мачте — по три, на бизань-мачте — две. Наконец, по обычаю, под десятиметровым бушпритом красовалась фигура, почему-то изображавшая женщину в голубом костюме для верховой езды.
Итак, по нашим нынешним меркам «Баунти» был на удивление мал, и, даже если сравнить его с судами, на которых Кук ходил в Южные моря, — «Эндевор» (368 тонн), «Резолюшн» (462 тонны), «Эдвенчер» (336 тонн), — он покажется не очень-то подходящим для такого плавания. Зато, правда, «Баунти» сошел со стапелей всего за два с половиной года до этого и был в отличном состоянии, да к тому же адмиралтейство приняло не совсем обычную меру предосторожности: приказало обшить его днище медным листом. Тогда знали только этот способ защиты деревянного корабля от червя, который во время дальних плаваний в тропических водах был куда опаснее всех штормов, пиратов и каннибалов. Не пожалело обычно довольно прижимистое адмиралтейство и средств на улучшение оснастки, что лишний раз говорит, какое значение придавалось экспедиции.
Но как ни снаряжай корабль, успех всей экспедиции зависел в конечном счете от того, переживут ли собранные побеги хлебного дерева долгую перевозку. С присущей ему основательностью покровитель экспедиции сэр Джозеф Бенкс заблаговременно и тщательно продумал этот затруднительный вопрос, и, как только лорды адмиралтейства еще раз обратились к нему за советом, он сразу дал ясные — и, как потом оказалось, очень дельные — указания. Будучи реалистом, сэр Джозеф решил, что надо собрать на Таити не меньше пятисот побегов, чтобы довезти достаточное количество всхожих. Он советовал также посадить каждый побег в отдельный горшок и, разумеется, регулярно поливать саженцы на всем пути домой, а на этот путь может уйти до полугода.
Единственным помещением на «Баунти», способным вместить пятьсот цветочных горшков, была большая кормовая каюта, обычно служившая на военных кораблях офицерской кают-компанией, и сэр Джозеф, не считаясь с удобствами офицеров, распорядился ее расширить и превратить в оранжерею; адмиралтейство, естественно, незамедлительно выполнило его пожелание. Начали с того, что весь пол покрыли листами свинца. Затем артели столяров поручили настелить на рейки дециметровой высоты новый пол из широких досок. В досках были сделаны круглые отверстия для горшков, чтобы те не опрокинулись. На всякий случай предусмотрительный сэр Джозеф приказал также навесить в несколько рядов полки на стенах; в итоге в каюте можно было разместить целых шестьсот двадцать шесть горшков. В заключение столярам велели просверлить в полу два отверстия и под ними поставить большие бочки. Смысл этого хитроумного устройства ясен — ради экономии собирать воду, которая будет стекать из горшков. Для лучшей вентиляции под потолком с каждой стороны выпилили по три щели, а чтобы саженцы не замерзли, когда «Баунти» попадет в более холодные широты, посередине импровизированной оранжереи поставили большую железную печь, отапливаемую углем.
За ходом работ тщательно наблюдали доверенные люди Бенкса — Нелсон и Браун, которые пока составляли всю команду «Баунти». Но к концу июля было уже сделано так много, что адмиралтейство сочло нужным назначить офицера, который позаботился бы о наборе экипажа и быстрейшем оснащении корабля. Для всех последующих поколении имена Блай и «Баунти» так же неразрывно связаны между собой, как, скажем, Колумб и «Санта-Мария» или Нельсон и «Виктори», и с высот истории действительно может показаться, что Блай с первых дней, когда еще разрабатывались планы, был душой злополучной экспедиции за хлебным деревом. На деле он вышел на сцену весьма скромно и незаметно. Ведь когда Блая назначили командиром корабля, он был никому не известным офицером, лейтенантом запаса, и если его кандидатура вообще всплыла, то исключительно благодаря тому, что за него ратовало весьма влиятельное лицо.
Этим добровольным покровителем был дядя его жены, Данкен Кемпбелл, судовладелец, наживший состояние на перевозке рабов, хозяин нескольких плантаций сахарного тростника и торгового дома в Вест-Индии. С первого дня Данкен Кемпбелл был в числе тех, кто наиболее горячо добивался внедрения хлебного дерева на вест-индских островах; это благодаря ему сэр Джозеф Бенкс согласился помочь плантаторам. (Многие историки утверждают даже, будто «Баунти» первоначально принадлежал Данкену, но это неверно. Ошибка объясняется, видимо, тем, что Данкен и в самом деле предлагал адмиралтейству судно «Линке», но сделка не состоялась). Хорошо зная, насколько влиятелен сэр Джозеф Бенкс, Данкен без особого труда убедил его, что Блай — самый подходящий кандидат на должность руководителя экспедиции. Тем самым вопрос был по сути дела решен.
То, что Блай прежде всего был обязан своим назначением родственнику, бесспорно является печальным примером беззастенчивого фаворитизма, который тогда процветал в английском флоте. Но это вовсе не значит, что Блай не заслуживал такой чести. Напротив, у Блая было столько достоинств, что он, наверно, победил бы всех своих соперников, если б адмиралтейство принимало во внимание только заслуги. Больше того, смею утверждать, что по прихоти судьбы он обладал как раз темп знаниями и опытом, которые требовались, чтобы возглавлять экспедицию такого рода. Во-первых, за плечами у него были долгие годы безупречной службы на флоте. Во-вторых, он уже участвовал в плавании в Южные моря и побывал на Таити. В-третьих, он хорошо знал Вест-Индию и пользовался доверием тамошних плантаторов.
Часто можно прочесть, будто Блай был невежественным выскочкой и начал свой путь простым матросом. Но это далеко от истины.
На протяжении многих поколений предки Блая по мужской линии, как и надлежит джентльменам, были помещиками, офицерами, врачами, юристами, правительственными служащими. В соответствии с лучшей английской традицией все они, как правило, оставались верны своему родному Корнуэллу; здесь-то, в старом и достославном городе Плимуте, в семье таможенного инспектора Блая, 9 сентября 1754 года родился Уильям.
Неверно и часто встречающееся утверждение, будто Уильям уже семи лет познакомился с морем. Нет никакого сомнения, что родители очень рано решили сделать его морским офицером; известно и то, что в английском флоте даже в девятнадцатом веке брали юнгами совсем еще подростков и даже мальчиков. Но в этом случае все дело свелось к тому, что восьмилетнего Блая лишь зачислили в экипаж военного корабля. Эта предосудительная практика была очень распространена тогда в Англии, а смысл ее заключался в том, что она позволяла искусственно увеличить стаж и впоследствии быстрее продвигаться по служебной лестнице.
На деле юный Уильям Блай в семь лет только начал учиться. Об этих годах известно мало, но преподаватели у него явно были хорошие, а сам он оказался прилежным и одаренным учеником, ибо взрослым он знал математику, латинский и английский языки намного лучше большинства своих коллег. Только шестнадцати лет, то есть в 1770 году, Блай начал действительную морскую службу, причем значился матросом, хотя выполнял обязанности гардемарина. (Отсюда и ошибочное мнение, будто он начал службу матросом). Видно, Блай произвел хорошее впечатление на начальство; уже через полгода он получил и звание гардемарина. (Стоит, пожалуй, разъяснить, что слово «гардемарин» тогда обозначало должность, а не чин, как теперь, и некоторые бедняги всю жизнь оставались гардемаринами). В последующие пять лет Блай служил на трех кораблях, в том числе три года на двадцатишестипушечном фрегате «Кресчент», и основательно постиг морское дело. Этот период истории Англии был мирным, поэтому жизнь Блая не подвергалась прямой угрозе. Но морская служба сама по себе достаточно сурова и опасна, и, чтобы выдвинуться, требовалось как раз то сочетание терпения и упорства, которое отличало Блая. Самым верным способом сделать карьеру было, конечно, найти себе могущественных покровителей среди флотского начальства или в адмиралтействе. Увы, этот путь был закрыт для Блая; в итоге он и пять лет спустя все еще оставался гардемарином.
Но без конца обходить его чинами нельзя было, тем более что в начале 1776 года он в возрасте двадцати двух лет с блеском сдал теоретическую часть офицерского экзамена. Это не означает, однако, что его автоматически сделали офицером; порядок выслуги на флоте требовал, чтобы все будущие офицеры — во всяком случае в мирное время — сначала послужили унтер-офицерами. Если учесть это, а также молодость Блая, надо признать огромным успехом для него и свидетельством его заслуг, что его почти сразу назначили на заманчивый пост штурмана «Резолюшн», который вместе с «Дискавери» под командованием уже всемирно известного капитана Кука должен был выйти в Южные моря искать с этой стороны пути к легендарному Северо-западному проходу [4].
Так как экспедиция была необычная, на долю Блая выпало много новых и незнакомых обязанностей, например промерять глубину в неизведанных водах, производить сложные вычисления, чертить карты, вести переговоры с недоверчивыми островитянами и заполнять судовой журнал. Но Блай освоился удивительно быстро и выполнял все поручения, даже самые странные и неожиданные, с неизменным рвением и успехом. Особенно бросалось в глаза его высоко развитое чувство долга, благодаря которому он чрезвычайно точно исполнял все приказы. Кук, сам человек долга, проникся таким доверием к своему молодому штурману, что дал ему, в частности, лестное поручение нанести на карту только что открытые Гавайские острова. После трагической гибели Кука (Блай справедливо считал, что вахтенный офицер мог бы ее предупредить, прояви он больше расторопности и отваги) ответственность Блая еще больше возросла и, как это часто бывает, способствовала выявлению в нем новых качеств.
Во время долгого и заслуженного отпуска, который Блай получил, возвратившись в Англию в октябре 1780 года, он встретил на острове Мэн двадцатисемилетнюю брюнетку с тонкими чертами лица и мраморно-белой колеей, дочь высокопоставленного чиновника, начитанного в философии и других науках. Результатом этой случайной встречи была взаимная любовь с первого взгляда. С присущей ему энергией и решимостью Блай быстро добился руки красавицы Элизабет Бетэм, и уже в феврале 1781 года сыграли свадьбу. Ему, наверно, помог довод, к которому прибегало множество моряков и солдат до и после Блая: ссылка на ненадежные времена. Из-за неудач в Северной Америке Англия опять была в состоянии войны с Францией, Испанией и Голландией, которые полагали, что настал миг нанести решающий удар своему заклятому врагу. Положение бесспорно было весьма критическим, исход ожесточенной борьбы, как никогда в истории Англии, зависел от флота. Немедленно были снаряжены все наличные суда и подобраны команды из принудительно мобилизованных случайных людей, отставных офицеров и моряков торгового флота, ничего не смыслящих в военном деле.
Понятно, в такое время опытный моряк не мог рассчитывать на продление своего отпуска; и действительно, уже через десять дней после свадьбы Блая вызвали в Портсмут. Здесь его ждало разочарование: он снова получил унтер-офицерскую должность. Единственным утешением могло служить то, что он попал на красавец-фрегат, недавно отбитый у французов и даже, как ни странно, сохранивший название «Бель Поль». Лишь После того как в августе 1781 года его эскадра выдержала ничего не решившую, но достаточно кровопролитную артиллерийскую дуэль с голландской эскадрой у Доггербанка, он наконец-то получил долгожданное и вполне заслуженное офицерское звание. Дальше он служил пятым или шестым лейтенантом на разных фрегатах, причем до конца войны больше ни разу не нюхал пороха и участвовал только в одной опасной операции: в конце 1782 года Блай ходил на борту «Кембриджа» в составе отряда под командованием лорда Хау на выручку осажденного Гибралтара.
Как только Англия в начале 1783 года заключила выгодный для себя мир, большинство офицеров флота в благодарность за то, что они в критический миг спасли отечество, перевели в запас. Блай был в числе первых, кого уволили на неопределенный срок; как и все его друзья по несчастью, он в дальнейшем получал только половинное жалованье. Но двух шиллингов в день даже Блаю, человеку бережливому и скромному, не могло хватить на содержание семьи, которая к тому же увеличивалась — у него родилась дочь, и еще один ребенок ожидался. Здесь-то дядя миссис Элизабет Блай, Данкен Кемпбелл, и выступил впервые в роли спасителя, назначив родственника, которого почти не знал, капитаном одного из своих торговых судов. Четыре года Блай возил товары в Вест-Индию, много раз выступал представителем Данкена Кемпбелла, заключая сделки с плантаторами Ямайки. Видно, он успешно вел дела и совершенно завоевал доверие Кемпбелла, иначе тот, услышав весной 1787 года о предстоящей экспедиции за хлебным деревом, не стал бы так стараться, чтобы Блая назначили капитаном Его Величества Вооруженного Судна «Баунти».
Когда началось переоборудование «Баунти», Блай был в Вест-Индии и до самого своего возвращения в Англию 31 июля ничего не знал о шагах, предпринятых Данкеном Кемпбеллом. Но мечта вернуться на действительную службу никогда не покидала его, и он тотчас понял, какой бесподобный случай ему представляется. Даже не подумав как следует, на что он идет и что от него потребуется, Блай поспешил принять неожиданное предложение. Две недели спустя, 16 августа, он получил от адмиралтейства официальное уведомление о назначении (правда, его при этом не произвели в капитаны) и сразу же стал руководить подбором команды и снаряжением корабля. В этот важный миг жизни Блая ему было всего тридцать три года. О его внешности известно мало: он был ниже среднего роста, коренастый, темные волосы сочетались с ярко-голубыми глазами. Цвет лица «бледный, даже мертвенно бледный».
Что до его личных качеств, то, судя по немногим сохранившимся документам, все начальники считали его на редкость толковым, энергичным и добросовестным офицером.
Блай был вполне доволен своим кораблем и высказал только два существенных пожелания: укоротить все три мачты и приобрести новые, более вместительные лодки. Адмиралтейство пошло ему навстречу, причем, как выяснилось впоследствии, в первом случае — напрасно: Блаю во время плавания пришлось передвинуть реи, чтобы поднять центр парусности. Зато он был целиком прав в том, что три лодки, первоначально приданные «Баунти», слишком малы; позже он благодарил судьбу за то, что обменял их на три другие: баркас семиметровой длины, катер длиной более шести метров и шлюпку — неполных пяти метров.
По распоряжению адмиралтейства команда, не считая ботаника и садовника, должна была состоять из сорока пяти человек, что считалось обычным для судна таких размеров. Как это часто бывало, когда речь шла о дальнем плавании, командиру предоставили по своему усмотрению отбирать людей. Однако Блай в очень малой мере воспользовался этим правом, и выбор его не назовешь удачным. Среди тех, кто попал на корабль благодаря благоволению Блая (этот факт часто упускают из виду), был второй главный персонаж драмы на «Баунти», а именно Флетчер Крисчен, которому Блай помог получить должность помощника штурмана.
Флетчер Крисчен с таким же правом, как Уильям Блай, мог претендовать на то, чтобы называться джентльменом, ведь он происходил из старинного помещичьего рода, отпрыски которого обосновались и на острове Мэн и в Камберленде на западном побережье Англии. Как и Блай, Крисчен получил по тогдашним временам основательное образование, прежде чем ушел (если не бежал) в море. Уже в 1782 году они случайно оказались на одном корабле — «Кембридже» (во время похода в Гибралтар), но двадцативосьмилетний Блай был тогда новоиспеченным лейтенантом, а восемнадцатилетний Крисчен еще ни до чего не дослужился и был всего-навсего юнгой. Вряд ли они тогда близко знали друг друга. Так или иначе, когда Флетчер Крисчен спустя три года, едва став гардемарином, был уволен в запас, он через родственника просил Блая, чтобы тот взял его штурманом в свое очередное плавание в Вест-Индию на корабле Данкена Кемпбелла. Блай считал себя обязанным помочь прежде всего из-за дружбы между семьей Крисчена и родными своей жены и ответил, что, к сожалению, место штурмана у него занято, но, если Крисчен согласен на должность рядового матроса, его примут как джентльмена и он будет есть вместе с капитаном. Ничего лучшего Крисчен не мог найти и принял условия Блая.
К сожалению, портретов Флетчера Крисчена не сохранилось, но современники единодушно свидетельствуют, что у него было красивое лицо и атлетическое сложение (вот только ноги чуть кривые), нрав открытый, веселый и обаятельный. Он пользовался успехом у женщин, да и сам был к ним неравнодушен. Возможно, как раз потому, что суровый, строгий Блай был прямой противоположностью Крисчену, его влекло к Флетчеру, и во время плавания он относился к своему подопечному чуть ли не с отеческой заботой, обучал его навигации и астрономии. Дружба между этими несхожими людьми крепла; особенно она упрочилась, когда Блай сделал Крисчена канониром. Поэтому было только естественно, что Блай, став в августе 1787 года командиром «Баунти», взял к себе Крисчена. И еще двое из тех, кто ходил с Блаем в Вест-Индию, — парусный мастер Лебог и старшина Нортон — получили соответствующие должности на «Баунти». Старыми знакомыми Блая были также его товарищи по третьему плаванию Кука — толковый канонир Пековер и добродушный ботаник Нелсон; правда, сам Блай пригласил только первого, Нелсон попал на «Баунти» заботами сэра Джозефа Бенкса.
Конечно, самому набирать команду хорошо, но Блаю пришлось вскоре столкнуться и с трудностями. К тому времени утвердилось представление, будто все острова Южных морей — истинный рай (особенно для мужчин), и Блая буквально осаждали офицеры, матросы, даже гражданские лица, добиваясь должности на корабле. Особенную настойчивость проявляли, как обычно, матушки честолюбивых гардемаринов; они были убеждены, что такая экспедиция — самый приятный и скорый путь к повышению. Судовая роль предусматривала только двух гардемаринов, но жена Блая, Данкен Кемпбелл и другие родственники и друзья так горячо отстаивали своих протеже, что Блай, увы, не устоял, и на «Баунти» оказалось пять гардемаринов. Слава о соблазнах Южных морей распространилась настолько широко, что в команде не было ни одного насильно завербованного — случай, редкий для той поры. Две трети подчиненных Блая еще не достигли тридцатилетнего возраста, а самым старшим, по-видимому, был сорокалетний парусный мастер Лебог. Двадцать семь человек ни разу не пересекали экватора — лишнее свидетельство неопытности и молодости команды.
Закупая провиант, адмиралтейство тоже посчиталось с пожеланиями начальника экспедиции. Одним из многих уроков, которые Блай извлек из плавания с Куком в Южные моря, было то, что грозная цинга вызывается недостатком витаминов и защититься от нее довольно просто, надо только запастись особо питательными продуктами (то есть содержащими, как мы теперь знаем, витамин С). По настоянию Блая помимо обычного провианта — солонины, галет, муки, гороха, масла, сыра и огромных бульонных кубиков — они тогда являлись последним словом техники консервирования — были закуплены лимонный сок, солод, солодовый экстракт и кислая капуста. И уже перед самым выходом в море Блай приобрел столько живых кур, свиней и овец, сколько можно было разместить на корабле, чтобы команда хотя бы первые месяцы не меньше раза в неделю ела свежее мясо. Твердо веря, что для здоровья команды полезен регулярный моцион, и считая лучшей формой моциона пляски (!), Блай искал моряка, умеющего играть на каком-нибудь музыкальном инструменте. Как ни странно, пока корабль стоял в Дептфорде, он такого не нашел.
В начале сентября сэр Джозеф Бенкс прибыл на военную верфь, чтобы познакомиться с Блаем и проверить, как тот справляется со своими обязанностями. Молодой командир «Баунти» произвел на ученого самое выгодное впечатление, и он выразил свое полное удовлетворение тем, что увидел. Как всегда, сэра Джозефа распирали идеи, и он составил список товаров для меновой торговли на Таити. Список получился обширный. В числе прочего в нем значилось шесть дюжин сорочек, четыреста килограммов гвоздей, сорок восемь дюжин ножей, набор пил, напильников и сверл да еще целых двести тридцать четыре дюжины особых топоров того же вида, что каменные топоры самих таитян. Для женщин предназначались четырнадцать дюжин зеркал и сорок килограммов стеклянных бус. Адмиралтейство и тут незамедлительно выполнило пожелания сэра Джозефа.
Девятого октября закончилась погрузка, и лоцман повел «Баунти» вниз по Темзе к арсеналу у Лонгрича. Здесь на корабле установили пушки, и, забрав боеприпасы, Блай продолжил путь до устья Темзы, чтобы отсюда при первой возможности идти на военно-морскую базу в Портсмуте; там официально начинался поход «Баунти».
Известно, осенью погода в Ламанше капризная, бурная, и лишь со второй попытки Блай в начале ноября смог выйти в пролив, но сильный ветер отнес его чуть ли не к самым берегам Франции. С большим трудом удалось ему пробиться в пролив Спитхед у Портсмута.
Последующие две недели держалась на редкость хорошая погода с благоприятным ветром. Однако лорды адмиралтейства, к превеликому возмущению Блая, отнюдь не спешили составить подробные инструкции, а без них он не мог начинать плавание. Хотя миссис Блай снова ждала ребенка, она прибыла из Лондона вместе с четырьмя дочерьми, чтобы еще раз попрощаться с мужем; из этого видно, как супруги были привязаны друг к другу. Блай смог уделить время своей семье, так как все было сделано, оставалось только заменить кем-то матроса, который сбежал с корабля, когда они стояли на якоре в устье Темзы. Блай старался найти музыканта, но, видно, в ту пору английский флот был беден талантами, потому что единственным, кого ему предложили в Портсмуте, был полуслепой скрипач Майкл Бирн, признанный негодным к строевой службе. Но если уж Блай что-то вбил себе в голову, его не могли остановить такие мелочи, и не успел Бирн опомниться, как был зачислен на судно. Одновременно Блай предпринял несколько отчаянных попыток заменить судового врача Хаггена, который оказался завзятым пьяницей, однако тут бюрократическая машина адмиралтейства почему-то забуксовала, и замены не нашлось.
Двадцать четвертого ноября прибыли наконец инструкции и распоряжения адмиралтейства. Блаю предписывалось… сняться с якоря, «как только позволят ветер и течения», и без остановок идти мимо мыса Горн к островам Общества; на одном или нескольких островах архипелага (вовсе не оговаривалось, что непременно на Таити) забрать нужное количество побегов хлебного дерева и возвращаться через коварный Торресов пролив и мимо мыса Доброй Надежды; по пути домой зайти на Яву и заменить погибшие саженцы, если такие будут, другими полезными тропическими растениями. В заключение кругосветного плавания половина саженцев хлебного дерева должна была быть доставлена ботаническому саду в Кингстауне на острове Сент-Винсент, остальные — ботаническому саду в Кингстоне на Ямайке.
Видимо, среди людей Блая ходили самые страшные слухи (так уж было заведено: пока «Баунти» не покинул Англию, команде не полагалось ничего знать о маршруте и цели плавания), потому что вскоре бежали еще два матроса. Искать добровольцев было некогда, и бежавших заменили двумя принудительно назначенными моряками.
Двадцать восьмого ноября вся команда получила двухмесячное жалованье вперед, что позволило морякам напоследок погулять — основательно, надо думать, — на берегу. Рано утром следующего дня «Баунти» вышел в море. А 3 декабря измученная команда после безуспешного поединка с волнами и встречным ветром несолоно хлебавши возвратилась в Спитхед. Двое назначенных воспользовались случаем улизнуть; хлебное дерево их ничуть не прельщало. Блай к этому времени окончательно утратил всякое доверие к алкоголику Хаггену и заменил одного из беглецов молодым судовым врачом Ледуордом, который, как ни странно, согласился наняться матросом. Так Блаю еще раз удалось настоять на своем.
Шестого декабря с суши подул благоприятный северный ветер, и исполнительный Блай сделал новую попытку. Только он вышел в Ламанш, как ветер переменился, и юго-западный шторм загнал взбешенного Блая опять в Спитхед. Задержки из-за неблагоприятной погоды были обычными для парусных судов, большинство капитанов привыкли к ним и спокойно относились к неудачам. Но у Блая были все основания волноваться: еще неделя-другая, и он рискует дойти до мыса Горн в такую пору, когда из-за зимних штормов его нельзя будет обогнуть. Это было тем более досадно, что в начале месяца, когда в проливе держалась идеальная погода, его задержала непростительная медлительность адмиралтейства.
Шторм крепчал, и после нескольких дней нетерпеливого ожидания Блай отправил письмо в адмиралтейство с весьма разумной просьбой позволить ему в крайнем случае и на первом этапе идти мимо мыса Доброй Надежды. Отказать ему не могли, но почта между Портсмутом и Лондоном шла долго, и он потерял еще одну неделю, дожидаясь ответа. На военно-морской базе уже готовились праздновать рождество, когда ветер, сохраняя прежнюю силу, вдруг переменил направление. С мрачной решимостью Блай велел поднять якоря и ставить паруса. Точно стрела с натянутой тетивы, «Баунти» вырвался в Ламанш и исчез в штормовой мгле. Будь что будет, на этот раз Блай не собирался возвращаться!
Если не считать волокиты с инструкцией, экспедиция была вроде бы подготовлена очень тщательно. Что и говорить, на совершенствование и переоборудование судна потратили немало денег и усилий, но лорды адмиралтейства, к сожалению, не проявили такой же осмотрительности при решении другой, более сложной проблемы — при наборе команды для «Баунти». Допущенные тут ошибки во многом предопределили трагический исход экспедиции, поэтому важно уже сейчас остановиться на них.
По указанию адмиралтейства команда должна была состоять из сорока пяти человек плюс ботаник и садовник, которые рассматривались скорее как пассажиры. Столько людей и было набрано в Лондоне, но одного из матросов, сбежавших перед самым выходом из Портсмута, почему-то никем не заменили (скорее всего, не успели); следовательно, команда в начале плавания состояла из сорока четырех человек. По обязанностям она делилась так:
Навигационный персонал
один командир корабля
один штурман
два помощника штурмана
два гардемарина
два старшины
один помощник старшины
один боцман
один младший боцман
двадцать три матроса
Прочие
три плотника
один парусный мастер
один канонир
один младший канонир
один оружейный мастер
один капрал
один врач
один писарь
Итак, навигационный персонал насчитывал тридцать четыре человека, в том числе двадцать три матроса и одиннадцать лиц командного состава; соотношение как будто вполне разумное. Но если внимательнее изучить документы, выяснится, что многие, значившиеся матросами, на деле выполняли совсем другие обязанности. Среди них, как уже говорилось, были три лишних гардемарина, коим благородное происхождение, разумеется, не позволяло браться за паруса и шкоты. Матросами числились также два корабельных кока, личный слуга Блая и зять штурмана Тинклер, юный джентльмен, который скорее всего выступал в роли резервного гардемарина. Если к тому же — по справедливости — исключить помощника судового врача Ледуорда и полуслепого музыканта Бирна, нанятых в последнюю минуту, остается фактически всего четырнадцать матросов. И выходит, что экипаж «Баунти» бесспорно был неполным; тем беднягам, которые действительно несли вахту, приходилось трудиться за двоих.
Другой, не менее серьезный недостаток: у Блая не было помощника с офицерским званием. (Даже штурманы были только в унтер-офицерском чине). Из-за этого намного возрастала его нагрузка и ответственность, усиливалось неизбежное чувство изоляции, от которого даже в самых благоприятных условиях страдает командир корабля. Крайне неудобным было и то, что по заведенному в то время на небольших военных судах порядку Блай был еще и экономом, так что команда могла быть вдвойне им недовольна.
Отсутствие второго офицера и эконома объяснялось прежде всего теснотой на корабле. По той же причине экспедиции не придали солдат морской пехоты; это было, пожалуй, главной ошибкой в подготовке плавания. В ту пору практически все английские военные корабли уходили в плавание с солдатами на борту; они не только участвовали в морских сражениях, но и (в первую очередь) помогали поддерживать порядок на судне и предотвращать бунт. Посылать в столь дальнее плавание корабль с одним только капралом в качестве «блюстителя порядка» было, разумеется, вовсе не нужным риском, причем его легко можно было избежать, снарядив более крупное судно.
Блай отлично видел все эти недостатки и просчеты, но был слишком самоуверен, чтобы серьезно беспокоиться. По-настоящему его возмущало и огорчало только одно: лорды адмиралтейства, несмотря на все ходатайства Бенкса, так и не произвели его в капитаны. В какой-то мере его утешала мысль, что по возвращении он несомненно получит заслуженное вознаграждение и быстро сделает карьеру, ибо Блай ни на секунду не сомневался, что с блеском выполнит свою трудную задачу.
Глава вторая Бурное плавание
После двух бурных суток шторм унялся настолько, что команда могла позволить себе передохнуть и воздать должное традиционному рождественскому обеду, который приготовили по распоряжению Блая; главным украшением стола были, естественно, ростбиф и пудинг. Сытная трапеза придала команде новые силы, и они пришлись очень кстати, потому что уже 20 декабря погода снова испортилась. Поднялась такая волна, что Блай не решился ложиться в дрейф, а шел с ветром, оставив паруса только на фок-мачте. С облегченней он убедился, что «Баунти» на редкость надежен и устойчив, но, как ни старался рулевой быть начеку, могучие валы время от времени захлестывали палубу. Особенно страшной была ночь, матросов грозило смыть с палубы и сорвать с рей. Сильный вал обрушился на лодки, которые находились в средней части корабля, над люком главного трюма, и окоченевшим от холода морякам еле удалось их отстоять. Другая волна унесла бочки с пивом и запасные весла. Через несколько часов третьей волной разбило кормовую надстройку; при этом намочило большую часть провианта, хранившегося в кладовке под кают-компанией.
Хотя такой маневр по-прежнему грозил неприятностями, Блай под вечер 27 декабря развернул корабль и лег в дрейф; утром он распорядился откачать воду и исправить такелаж, насколько это было возможно. Мало-помалу погода улучшилась, уставшая команда смогла подсушить одежду и перевести дух. Заниматься серьезным ремонтом на ходу было слишком сложно, да и немалая часть провианта была подпорчена, и Блай принял разумное решение зайти на Канарские острова, чтобы как следует подготовиться к предстоящему, бесспорно еще более трудному и бурному участку пути мимо мыса Горн.
Бросив якорь утром 6 января 1788 года в Санта-Крус на Тенерифе, Блай тотчас послал Флетчера Крисчена, которому особенно доверял, с визитом вежливости к губернатору. Несмотря на скрытую вражду между Испанией и Англией, губернатор немедля пригласил Блая отобедать и обещал всяческое содействие. За пять дней стоянки в Санта-Крусе ревностный служака Блай успел не только проследить за ремонтом и закупкой провианта, но и провести ряд точных замеров, записать цены основных товаров, поставляемых на суда, проверить девиацию компаса, изучить местную экономику. Сверх того, он отправлял Нелсона и Брауна в ботанические экскурсии и подробно описал сиротский дом! Эта несколько неожиданная страница в летописи экспедиции за хлебным деревом заканчивается следующим суждением, очень показательным для психологии Блая: «Благодаря этому гуманному учреждению многие становятся полезными и трудолюбивыми гражданами, притом в краю, где люди бедные из-за расслабляющего климата склонны вести бездеятельное и жалкое существование, вместо того чтобы трудом и прилежанием добывать себе жизненные блага».
И еще одно свидетельство непомерного усердия Блая: он решил провезти вокруг света две бочки вина для своего благодетеля, сэра Джозефа Бенкса.
Одновременно Блай закупил почти четыре тысячи литров дешевого вина, чтобы возместить забродившее английское пиво, — оно, к счастью, уже кончалось. Но ни овощей, ни мяса не удалось раздобыть в достаточном количестве, так что единственным существенным пополнением провизии, с которым «Баунти» вышел в путь 10 января, было несколько бочек скверной солонины, две козы да небольшое количество тыкв. Команда могла лишний раз оценить предусмотрительность своего начальника, который еще в Англии запас вдоволь богатых витаминами продуктов.
Сразу после выхода с Тенерифе Блай снова проявил заботу о матросах, назначив три вахты вместо двух. Это было тогда довольно необычно, зато позволяло людям отдыхать по восьми часов, вместо того чтобы заступать на вахту каждые четыре часа. Естественно, понадобился еще один вахтенный начальник, и Блай воспользовался случаем и повысил своего протеже Флетчера Крисчена. Другой благой мерой, которую, однако, матросы приняли с меньшим восторгом, были постоянные проверки чистоты, причем всякий, у кого оказывалось нестираное белье или грязная одежда, лишался положенной ему порции рома. По примеру своего учителя Кука Блай распорядился, чтобы кубрик и каюты регулярно мыли раствором уксуса для истребления тараканов и прочих насекомых.
Одной из главных неприятностей на «Баунти» был гнилостный запах трюмной воды (ни одно деревянное судно не было совсем избавлено от течи). Блай и тут принял меры: каждый день он ставил людей откачивать воду и промывать трюм свежей забортной водой, считая, что при этом убивает сразу двух зайцев — команда совершает моцион, не дающий матросам облениться. Для той же цели Блай велел подслеповатому скрипачу вечерами часа три-четыре играть веселые плясовые мотивы. А чтобы никто не отлынивал от танцев, командир сам наблюдал за этими своеобразными упражнениями. Танцуя в качку, матросы, наверно, быстро стали искусными акробатами…
Не один из многочисленных критиков Блая называет садизмом его упорное стремление заставить матросов танцевать, но это, конечно, так же неверно, как если бы мы ударились в другую крайность и стали утверждать, что дотошная забота командира о здоровье команды всецело была продиктована бескорыстным человеколюбием. Как и в других случаях, побудительной причиной его действий было естественное желание успешно выполнить порученное дело, а надежд на успех, разумеется, больше, если люди здоровые и бодрые.
Если не считать постоянных проверок и упражнений, жизнь на корабле весь январь была, можно сказать, приятной. Преобладала ясная, солнечная погода, днем температура редко превышала двадцать пять градусов, ночью была чуть меньше — двадцать, редкие дожди позволяли пополнять запасы пресной воды и принимать освежающий душ. Заботливый Блай распорядился натянуть тент, и команда могла свободное от вахты время проводить на палубе, на свежем воздухе, развлекаясь карточной игрой и ловом акул. Только ветер подводил. При полном штиле «Баунти» с трудом проходил за сутки десять морских миль [5]. Да и в самые благоприятные дни скорость редко превышала четыре узла[6]. Вот почему «Баунти» пересек экватор лишь 8 февраля. Это событие было отмечено традиционным крещением в соленой купели, причем все прошло очень деликатно, так как Блай строго запретил всякое буйство. Это лишний раз показывает, что командир «Баунти» вовсе не был бессердечным человеком, каким его описывают многие; он проявлял и заботливость и гуманность, не обязательно преследуя при этом какие-то особенные цели.
Южнее экватора «Баунти» попал в полосу ровных и сильных пассатных ветров и стал покрывать от ста до ста пятидесяти миль в день. Уже к 17 февраля корабль прошел двадцать три параллели, отделяющие экватор от Южного тропика, и очутился у бразильского побережья на широте Рио-де-Жанейро. В тот день «Баунти» обогнал другой, несколько меньший парусник, китобоец с громким названием «Британская королева», который направлялся к мысу Доброй Надежды. От капитана Блай узнал, что «Британская королева» вышла из Англии восемнадцатью днями раньше «Баунти» и никуда в пути не заходила; получается, что по тогдашним меркам «Баунти» был быстроходным кораблем. Разумеется, Блай воспользовался случаем отправить почту; в частности, он послал своему покровителю и попечителю Данкену Кемпбеллу следующий сверхоптимистический отчет:
«Мы все в хорошем настроении, а мой маленький корабль способен совершить десяток кругосветных плаваний. Все мои люди — хорошие, усердные моряки, и меня очень радует, что до сих пор никого не приходилось наказывать. Офицеры и юные гардемарины исполнительны и старательны, мы ладим так хорошо, что все будет в порядке до конца плавания, если только я не повздорю с лекарем, который готов спать пятнадцать часов в сутки. Я намерен обогнуть мыс Горн, никуда не заходя, так как воды достаточно. Но все, конечно, зависит от ветров. На Тенерифе мы взяли добрый запас вина, дневной рацион составляет по четверти бутылки на человека плюс четверть бутылки портера. К тому же есть превосходная кислая капуста, тыква, горох, пять раз в неделю едим свежее мясо; на мой взгляд, мы живем хорошо. И команде тоже неплохо, ведь если не считать курятины, матросы получают ту же пищу, что мы; по вечерам с четырех до восьми часов они с охотой и радостью танцуют. Надеюсь доставить их всех домой в добром здравии».
На деле согласие было не таким уж полным, как пишет Блай, об этом мы знаем из позднейших отчетов и показаний. Прежде всего команда, по-видимому, жаловалась на пищу, а так как литература о «Баунти» обычно изобилует самыми ярыми нападками на Блая, справедливость требует, чтобы мы подробнее рассказали о питании на борту. Не считая дополнительного довольствия, о котором говорится в письме Данкену Кемпбеллу, каждый матрос получал рацион:
454 грамма галет в день
908 граммов солонины (говядины) два раза в неделю
454 грамма солонины (свинины) два раза в неделю
56 граммов вяленой рыбы три раза в неделю
56 граммов масла три раза в неделю
225 граммов гороха или гороховой муки четыре раза в неделю
108 граммов сыра три раза в неделю
4 литра пива в день
Как всегда в дальнем плавании, пища на вид и на вкус была малопривлекательной, но этого при тогдашних способах хранения и нельзя было избежать. Большая часть провианта хранилась в трюме в деревянных бочках, и очень скоро — особенно в тропических широтах — содержимое начинало киснуть, бродить, гнить. Точно так же невозможно было избавиться от жучков и червей — они не пренебрегали даже галетами каменной твердости. И прежде чем начать грызть галеты, моряки обычно колотили ими о край стола; стук этот сопровождал каждую трапезу на борту. Кстати, моряки отказывались есть лишь те галеты, в которых вовсе не было жучка, не без основания полагая, что, если уж жучок пренебрегает галетой, значит, для человека она и подавно несъедобна.
Чтобы перебить затхлый или гнилой привкус, корабельные коки щедро приправляли блюда перцем, солью, горчицей и уксусом. Следует сказать и о питьевой воде. Конечно, и тут дело обстояло неблагополучно, вода быстро портилась да к тому же изобиловала бактериями тифа и дизентерии. Предприимчивые английские плантаторы в Вест-Индии сумели уговорить адмиралтейство закупать у них ром и выдавать морякам; так была разрешена проблема воды: чтобы она была пригодна для питья, в нее добавляли спиртное. Как ни странно, английский флот был сравнительно поздно осчастливлен этим открытием профилактической медицины: грог был придуман только в 1740 году, причем название получил в честь своего изобретателя, английского адмирала Вернона по кличке «Олд Грог».
Но команда «Баунти» жаловалась вовсе не потому, что считала пищу скверной или несъедобной. Матросы привыкли к подпорченной провизии, лучшего онп и но ждали. Зато они возмущались всякий раз, когда им казалось, что порция мала. Насколько известно, в одном случае Блай и впрямь намеренно сократил рационы, а именно на следующий день после выхода с Тенерифе, когда срезал на одну треть норму галет; но ведь одновременно он велел выдавать дополнительно тыкву. И команде объяснили причину: путь мимо мыса Горн может оказаться тяжелым, а потому лучше побережливее расходовать запасы. Все как будто поняли, что мера разумная, и промолчали. Но сразу после экватора Блай на короткое время вообще заменил галеты тыквой из расчета фунт за два, чтоб скорее управиться с тыквами, которые портились в жару. Тут матросы дали выход своему недовольству. Услышав это, Блай поднялся на палубу и обрушил на команду страшные угрозы. Свою речь он заключил будто бы такими словами:
— Эй, вы, чертовы негодяи проклятые! Вы у меня будете траву есть, все будете есть, я вас проучу!
Многие уверяют, что Блай, который был по совместительству экономом, хотел нажиться за счет команды и потому нарочно сократил рационы. Нет никаких доказательств этого. Напротив, он ревностно следил за тем, чтобы все было по справедливости. И не без основания: на флоте, увы, процветали всякие махинации и мошенничество, все знали, что поставщики обогащаются, сбывая недоброкачественный товар и недовешивая. Поэтому полагалось открывать новую бочку перед всей командой, чтобы каждый видел, есть ли недостача. Этот порядок, закрепленный в уставе, соблюдался и на «Баунти».
И вот однажды, когда вскрывали очередную бочку, произошел случай, который бесспорно компрометировал Блая. В бочке лежал сыр, и все увидели, что не хватает двух головок. Вместо того чтобы, как обычно, спокойно зафиксировать этот факт в судовом журнале, Блай твердо заявил, что сыр кто-то украл. Тут ко всеобщему удивлению взял слово бондарь Хпллбрант и бесстрашно напомнил командиру, что по приказу писаря Сэмюэля бочку уже один раз вскрывали, когда «Баунти» стоял в Лонгриче, и две недостающие теперь головки были отправлены на квартиру Блая. Побелев от ярости, Блай пригрозил бондарю жестоким наказанием, если он не замолчит, и распорядился прекратить выдачу сыра всем (включая унтер-офицеров), пока не будет возмещена недостача. А так как один из матросов вскоре же подтвердил в кубрике слова бондаря, сказав товарищам, что сам носил и сыр и другие продукты домой к Блаю, команда, понятно, сочла коллективное наказание вдвойне несправедливым.
Улики против Блая настолько серьезны, что нам остается лишь вместе со всеми осудить его некрасивое и неразумное поведение.
Но справедливость требует сказать, что большинство офицеров флота с ведома и одобрения высшего начальства жульничали гораздо беззастенчивее. Лорды адмиралтейства откровенно позволили Блаю наживаться в меру его способностей (он ведь был экономом) и даже срезали ему жалованье на два шиллинга в день: все равно наверстает. Насколько он воспользовался этой весьма сомнительной привилегией, уверенно сказать нельзя, но в личных письмах он то и дело жаловался на свое стесненное положение, так что вряд ли ему удалось обойти мошенников, которые поставляли на корабль провиант. Одно очевидно, и это можно подтвердить как цифрами, так и многочисленными свидетельскими показаниями: Блай всегда был крайне заботлив и щедр во всем, что касалось питания команды. Жалобы на плохой стол, как известно, неизбежны на любом военном корабле, в любой воинской части. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Блай, сочиняя свое письмо Данкену Кемпбеллу, не придал никакого значения ворчанию команды.
В первой главе уже говорилось, что лорды адмиралтейства, не дав Блаю помощника, допустили серьезную ошибку. Чем дальше, тем ощутимее она становилась, и Блай решил сам выйти из положения — временно назначить одного из младших офицеров лейтенантом и помощником начальника экспедиции. Устав предоставлял ему такое право. Единственным, кому Блай по-настоящему доверял, был Флетчер Крисчен. Нет никакого сомнения, что Крисчен был самым знающим и способным моряком на корабле, к тому же он пользовался общей симпатией и уважением, его распоряжения охотно выполняли. И 2 марта Блай при всем личном составе вручил Крисчену письменное распоряжение о производстве его в лейтенанты и помощники.
Вскоре был подвергнут телесному наказанию матрос Метью Кинтал за «строптивость и неповиновение» штурману. Проступок был серьезным, и у Блая не оставалось иного выхода, как назначить порку. (Это был первый из немногих случаев, когда Блай прибег к такой мере). Правда, виновный отделался двадцатью четырьмя ударами.
В это время (9 марта) «Баунти» находился уже на широте Буэнос-Айреса, и температура понизилась до пятнадцати градусов. С каждым днем становилось все прохладнее, небо хмурилось, сгущался туман, затрудняя навигацию. Много дней Блай не мог взять высоту солнца, и пришлось регулярно промерять глубину, чтобы незнакомые течения не увлекли корабль в мелкие и плохо изученные прибрежные воды Патагонии.
Двадцать второго марта разразился шторм — очень некстати, так как «Баунти» шел как раз в опасной близости от Огненной Земли и малейшая ошибка в навигации могла стать роковой. По Блай был уверен в курсе и продолжал идти на юг, лишь чуть зарифив паруса. Ночью между облаками выглянула луна и осветила горную гряду со снежными вершинами, а когда рассвело, оказалось, что корабль находится именно там, где ему надлежало быть, у входа в пролив Ле-Мер, между юго-восточной оконечностью Огненной Земли и островом Статен. Сильный встречный ветер не пропустил «Баунти» через пролив. Беда невелика, можно было просто обогнуть остров Статен, потеряв на этом всего около суток. И 24 марта в двенадцать часов Блай удовлетворенно записал в судовом журнале: «Сильный ветер, пурга. Вошли в Южные моря под марселями в один риф и брамселями в три рифа».
Восемьдесят семь дней минуло с начала плавания; идя со средней скоростью четыре узла, «Баунти» покрыл восемь с половиной тысяч морских миль. Иными словами, маленькое судно прошло уже больше полпути, до островов Общества оставалось «всего» семь тысяч морских миль.
Чтобы обогнуть мыс Горн, Блаю необходимо было спуститься еще градуса на два южнее, и, как только позади остался остров Статен, он взял курс на юго-запад. Благодаря тому что преобладал северо-западный ветер, маневр удался, и через пять дней они прошли меридиан мыса Горн, так и не увидев одноименного острова. По-прежнему серьезную угрозу представлял собой скалистый берег Огненной Земли, изогнувшийся огромной дугой на северо-запад до семьдесят седьмого градуса западной долготы; Блай знал, что надо идти прежним курсом еще не меньше трехсот пятидесяти миль, прежде чем можно будет повернуть на север. Теперь все зависело от того, как скоро «Баунти» одолеет это расстояние: близилась антарктическая зима, и не было еще создано судна, способного противостоять ярости здешних стихий в это суровое время года.
Остров мыс Горн был пройден 29 марта. А уже 1 апреля сильный встречный ветер перешел в шторм, и Блай, которого никто бы не причислил к робкому десятку, записал в судовом журнале: «Он превосходил силой все штормы на моей памяти, таких огромных волн я еще не видел. Из-за частой перемены ветра высокие волны обрушивались на корабль с разных сторон, опасные своей неожиданностью». Блай тотчас велел зарифить все паруса и лег в дрейф, оставив крохотный штормовой фок.
Четверо суток «Баунти», кренясь и качаясь, топтался на месте носом к ветру. 4 апреля упорство Блая было вознаграждено. Шторм утих, можно было продолжать путь на запад. Однако ликовать было рано. Ветер оставался настолько прихотливым, что приходилось непрерывно следить за парусами. Всего безопаснее было бы еще полежать в дрейфе, но Блай торопился и решил любой ценой пробиваться вперед. Он шел на риск, успех зависел от правильности его действий. С одной стороны, следовало нести достаточно парусов, чтобы идти с приличной скоростью. С другой стороны, опасно было ставить слишком много парусов, можно было потерять мачты.
Из-за недостатка людей свободные от вахты матросы то и дело вынуждены были подниматься на помощь товарищам; о полноценном сне говорить не приходилось. В довершение ко всему стоял собачий холод и либо валил снег, либо лил дождь. Работать на палубе и на мачтах стало подлинной пыткой. Да и под палубой было лишь немногим уютнее. Немногочисленные печи не могли согреть помещение и прогнать сырость. Все люки, кроме кормового, уже несколько недель были задраены, и при отсутствии иной вентиляции воздух в кубрике и каютах был такой, что хоть топор вешай. Он усугублялся запахом, исходившим от сорока шести немытых тел, от уцелевших свиней, коз, овец и кур, и едким чадом из камбуза.
Как обычно, Блай в эти тяжелые дни всячески старался поднять дух моряков и облегчить им существование. Так, в каждой вахте выделялись два человека, которые сушили одежду товарищей; по утрам команда получала на завтрак горячую овсянку. Но, разумеется, лучше всего согревала и ободряла дополнительная порция неразбавленного рома, выдаваемая ежедневно по приказу Блая.
Настойчивый Блай не зря старался: 9 апреля «Баунти» прошел критический семьдесят седьмой меридиан. На сто восемьдесят градусов компаса с севера на юг перед глазами восхищенной команды простерлись дали могучего Тихого океана. Настал долгожданный миг, можно ложиться на северный курс. Скоро корабль, подгоняемый пассатом, уверенно заскользит к райскому острову Таити…
Только Блай приготовился сделать поворот оверштаг, откуда ни возьмись налетел могучий шквал. Не успели вахтенные убрать паруса, как судно стало игрушкой бури, перед которой предыдущий шторм казался нежным ветерком. Оставалось снова ложиться в дрейф и уповать на провидение. На этот раз волнение достигло такой силы, что корабль поминутно зарывался носом, и всякий раз бурные потоки захлестывали палубу, вынуждая вахтенных искать спасения на вантах и штагах. «Баунти» понесло вспять на восток, а тут еще открылась течь. Будь это пробоина, ее бы живо заделали, теперь же плотники были бессильны — выбило паклю между досками, и вода сочилась повсюду. Каким-то чудом удалось натянуть штормовой леер, и Блай поставил людей на помпы. Но и леер не всегда выручал, люди падали, получая сильные ушибы; особенно досталось, понятно, пьянице Хаггену. К счастью, никого не смыло за борт. Еще хуже волн был пронизывающий холод. На вантах матросы так промерзали, что не могли говорить. А некоторых разбил ревматизм, и они не могли даже подняться на палубу. Блай открыл большую кормовую каюту и разрешил перейти туда тем матросам, которых сырость выгнала из кубрика.
Целую неделю «Баунти» ежедневно сносило назад на пятнадцать-двадцать миль. Число больных росло. Течь усилилась настолько, что люди круглые сутки ежечасно сменялись на помпах. И к 17 апреля потрепанное судно очутилось там же, где было первого. Пять человек из-за болезни и ушибов совсем вышли из строя, да и остальные вымотались. С великой неохотой Блай решил прекратить неравный поединок и идти вокруг света в противоположном направлении (вы помните, что адмиралтейство по его просьбе милостиво разрешило такой вариант). Но прежде чем поворачивать, он собрал всех людей и сердечно поблагодарил их за умелые действия и выдержку в последние трудные недели.
Блай с самого начала отлично понимал, что в это время года очень мало надежд обогнуть мыс Горн. Менее ревностный офицер, наверно, ограничился бы вялой попыткой выполнить нелепое распоряжение адмиралтейства и поспешил взять курс на мыс Доброй Надежды. Но для Блая приказ был священнее, чем библия. Хотя он три недели выжимал все, что можно было, из себя, команды и корабля, его продолжала мучить совесть. И стоило под вечер ветру перемениться на южный, как «Баунти» снова изменил курс и пошел на запад. Разумеется, южного ветра хватило всего на несколько часов, его опять сменил западный. Это может показаться невероятным: Блай сражался с непрерывно усиливающимся ветром еще четверо суток, но «Баунти» продолжало относить назад. Возможно, он продолжал бы поединок со стихиями, если бы работоспособных матросов не становилось с каждым днем меньше. Двадцать первого апреля восемь человек числились больными, да и у остальных уже не оставалось ни сил, ни энергии. А течь усиливалась.
Наконец даже Блай не выдержал и отдал рулевому долгожданное распоряжение поворачивать назад. Приказав поднять все паруса, он со скоростью восьми узлов помчался прочь от места, где проиграл битву. Блай никак не мог смириться с неудачей и в тот же день записал в судовой журнал длинное, подробное объяснение, оправдываясь тем, что долг не позволил ему ставить под угрозу исход всей экспедиции, уже на этом этапе идя на ненужный риск. Два дня спустя, 23 апреля, «Баунти» промчался мимо острова Статен, который они впервые увидели месяцем раньше, и пошел на север, в более теплые широты. Теперь до цели плавания было так же далеко, как в самом начале, когда они только вышли из Англии.
Положение нельзя было назвать катастрофическим, но все-таки требовалось безотлагательно отремонтировать корабль и закупить свежий провиант. На новом маршруте ближайшим портом, где английское судно могло рассчитывать на хороший прием, был Каистад, в голландской Южной Африке, и Блай решил не мешкая идти туда. Подгоняемый сильным попутным ветром, «Баунти» быстро миновал Фолклендские острова и направился к островам Тристан-да-Кунья. В отличие от Фолклендского этот уединенный архипелаг посещался так редко, что никто не знал точно его координатов. Блай, конечно, не мог упустить удобный случай проявить свое рвение, и, хотя время было дорого, он трое суток посвятил поискам никому не нужных островов. Увы, его усилия оказались тщетными. Погода в это время (была середина мая) заметно улучшилась, температура воздуха продолжала повышаться. Корабль привели в порядок, и матросы снова могли проводить свободное от вахты время на палубе. А чтобы праздность их не развратила, Блай приказал по вечерам возобновить танцы. Между тем по-прежнему каждый час приходилось откачивать воду, и можно без преувеличения сказать, что в моционе недостатка не было.
Еще одна неделя прошла без всяких происшествий, и 22 мая на горизонте показалась Столовая гора [7]. Блай знал, что в это время года главная гавань ненадежна, а потому бросил якорь в другом заливе, в сорока километрах южнее. Здесь он первым делом подробно, на нескольких страницах рассказал в судовом журнале, как на судне налажены питание и вахты. Стоит привести его вывод: «Моряки не умеют сами следить за собой, а просто призывать их заботиться о собственной чистоте и порядке мало проку. За ними нужен глаз, как за малыми детьми, ведь даже только что избежав опасности, они ничего не сделают, чтобы предотвратить ее повторение». Эти слова — «за ними нужен глаз, как за малыми детьми» — показывают, как Блай понимал свою роль командира корабля.
В полном соответствии с этой чисто отеческой заботой о команде Блай по прибытии в Капскую колонию заказал множество провизии и, пока корабль стоял на якоре, выдавал команде щедрый дневной рацион, который включал килограмм свежего мяса, пинту вина, капусту, сельдерей, лук, хлеб. Проверка запасов показала, что несколько тонн мяса, рыбы и галет совершенно сгнили; их тотчас заменили свежими. Быстро пополнили запасы воды и топлива. Гораздо больше времени ушло на то, чтобы законопатить щели и починить паруса. Для ускорения работ Блай нанял нескольких плотников-голландцев. Приведя паруса, снасти, корпус в отличное состояние, закупив семена и саженцы для таитян, а также семь тонн муки, девять тонн галет, три с половиной тысячи литров вина, пять овец, он 1 июля 1788 года повел «Баунти» дальше.
Как известно, единственные крупные массивы суши между мысом Доброй Надежды и Таити — это Австралия и Новозеландские острова. Если не считать только что основанной колонии каторжников на восточном берегу Австралии (оттуда еще не поступило никаких вестей, когда «Баунти» покидал Англию), в этой части земного шара жили лишь так называемые дикари. Поэтому Блай решил сделать в Австралии только очень короткую остановку, а чтобы скорее попасть туда, он приказал идти вдоль сороковой параллели, где мощные западные ветры, которые только что зло подшутили над ним у мыса Горн, могли бесплатно поработать на него.
Решение смелое — еще ни одно судно не пересекало южную часть Индийского океана в зимние месяцы (июль — август). Но теперь люди Блая были лучше подготовлены, а так как не было нужды спускаться в антарктические воды, то и погода в общем была намного теплее, чем у мыса Горн. Конечно, случались сильные штормы, приходилось ложиться в дрейф, но это для закаленной испытаниями команды давно стало простым и привычным маневром. Примерно в середине довольно однообразного пути в Австралию Блай, к своему удовольствию, смог предаться любимому занятию: определению места. И он тотчас нашел то, что искал, — голую скалу, именуемую островом Сен-Поль; как ни странно, на сей раз карта не ошиблась.
Девятнадцатого августа — это был пятьдесят второй день плавания — впередсмотрящий увидел остров Бруни, расположенный южнее входа в гавань нынешней столицы Тасмании — Хобарта. На всех картах той поры Тасмания соединялась с материком, и, когда Блай бросил якорь в бухте Эдвенчер, он не подозревал, что это остров, отделенный от австралийского континента не только водным пространством, но и еще одним островом. Судя по всему, за одиннадцать лет, истекших с тех пор, как Блай впервые побывал здесь с капитаном Куком, в залив не заходило ни одно судно; впечатление уединенности усугублялось тем, что на берегу не было видно никаких признаков жизни. (Лишь в один из последних дней на опушке леса вдали показались совершенно нагие тасманийцы — «самые глупые и жалкие люди на свете», по словам Блая).
Блай отправил своих подчиненных за водой и дровами, назначив командирами отряда Флетчера Крисчена и канонира Пековера, которым доверял больше всех. Но полностью он полагался только на себя самого, а потому неоднократно ездил на берег проверять, как идут работы. Обнаружив какие-нибудь упущения, он по своему обыкновению не скупился на брань. Чаще всего слова его не производили никакого впечатления; понятно, он от этого приходил в еще большую ярость. В команде «Баунти» был плотник по фамилии Перселл, который вспыльчивостью и язвительностью ничуть не уступал своему командиру. До той поры эти два родственных характера сталкивались очень мало, но уже на второй день работ на берегу Тасмании они крепко повздорили, когда Блай указал, что Перселл по лености отпиливает слишком длинные поленья. Перселл разозлился и ядовито отпарировал:
— Можно подумать, вы сошли на берег только для того, чтобы лишний раз придраться.
Блай взял себя в руки и ограничился тем, что отправил Перселла на борт и дал ему другое задание. Но эта снисходительность не оправдала себя. Через несколько дней (Блай в это время был на берегу) Перселл отказался поднимать на борт бочки с водой — дескать, он плотник, а не рядовой матрос. Штурман Фраер, который руководил этой работой, доложил Блаю, но, сколько тот ни бушевал, Перселл продолжал стоять на своем. Столь открытое неповиновение ставило командира в тяжелое положение. Если бы речь шла о матросе, порка быстро привела бы его в чувство. Но корабельный плотник был приравнен к младшим офицерам, которых устав не разрешал подвергать телесным наказаниям. Обычно в таких случаях провинившегося заковывали в кандалы и по возвращении в Англию предавали военному суду. Но Блаю вовсе не улыбалось невесть сколько возить с собой арестанта, к тому же он (и Перселл, конечно, понимал это) не мог обойтись без своего лучшего плотника. Решение, принятое Блаем, говорит о его находчивости и силе воли. Составив протокол о случившемся, он лишил Перселла рациона и запретил команде под страхом порки давать ему что-либо. Перселл не пользовался особенной любовью на борту и, зная, что никто не отважится нарушить запрет, поспешил выкинуть белый флаг.
Другие младшие офицеры тоже навлекли на себя гнев Блая. Командир обвинял их в серьезных грехах — неспособности к несению службы и нерадивости. Но таких столкновений, как с Перселлом, больше не случалось и отсутствие документальных свидетельств не позволяет нам судить, насколько оправданно было недовольство Блая.
К концу второй недели стоянки у Тасмании все резервуары наполнили водой, заготовили еще тридцать тонн дров для камбуза — вполне достаточно до самого Таити. Вопреки всем надеждам на острове оказалось так мало рыбы и дичи, что команде удалось лишь несколько раз отведать свежей пищи. Задерживаться не было смысла, и, неоднократно замерив координаты и проверив компас, Блай рано утром 4 сентября снялся с якоря.
И вот уже «Баунти» снова идет южнее сороковой параллели, в полосе холодных западных ветров, которую англичане метко прозвали «ревущие сороковые». 13 сентябре единственным событием, которое удостоилось подробной записи в судовом журнале, было нежданное открытие девятнадцатого числа группы пустынных скалистых островков к югу от Новой Зеландии. Не мудрствуя лукаво, Блай присвоил архипелагу имя «Баунти»; это название сохранилось до наших дней. Тогда, как и теперь, единственными обитателями этих голых утесов были тысячи пингвинов, которые своим резким запахом и громкими криками заблаговременно предупреждают мореплавателей об опасных рифах.
Более существенны, но, к сожалению, менее подробно отражены в документах психологические конфликты, происходившие на борту в это время. Очевидно, Блай никак не мог забыть инциденты в бухте Эдвенчер, и они настолько испортили ему настроение, что он не переставал изводить своих подчиненных, особенно за обедом, когда офицеры и младшие офицеры, согласно обычаю, поочередно сидели за столом командира. Особенно уязвимым оказался Фраер, который под конец месяца отказался впредь обедать с Блаем.
Следующей жертвой «немирного сосуществования» на борту оказался доктор Хагген; он был приравнен к младшим офицерам и тоже регулярно ел с Блаем. Благодаря заботе командира о здоровье личного состава Хаггену было почти нечего делать. Но во время стоянки в бухте Эдвенчер один из матросов пожаловался на «легкое недомогание» (в действительности он страдал астмой). Хагген тотчас сделал ему кровопускание; после этого своеобразного лечения у Валентайна (как звали злополучного больного) воспалилась рука. Вскоре у него поднялась температура, началось удушье, и в конце сентября Хагген пустил в ход универсальное средство номер два: налепил на тощую грудь пациента горчичники. Блая привели в ярость не эти варварские методы лечения, которые широко применялись в восемнадцатом веке, а то, что Хагген ежедневно докладывал, будто больной поправляется. Только 6 октября, когда Валентайн был при смерти, Блай от одного из младших офицеров узнал правду. Бедняге Валентайну это не помогло, он был уже обречен и вскоре скончался, но Блай справедливо решил, что Хагген проявил крайнюю небрежность, и как следует отчитал его. Хагген счел себя обиженным и тоже отказался есть с Блаем. С тех пор его не видели на палубе, да ему и при желании было бы трудно подняться туда, ибо после описанного происшествия он стал нить больше прежнего.
А вскоре дошло до столкновения и между Блаем и Фраером. 9 октября Блай по заведенному порядку послал с писарем Сэмюэлем бухгалтерские книги на подпись Фраеру. Вместо того чтобы сразу же подписать расходы за август и сентябрь, Фраер отослал писаря обратно с заранее составленной бумагой, требуя, чтобы Блай сначала заверил ее. Это было рекомендательное письмо, в котором весьма похвально говорилось о Фраере, утверждалось, что он «не совершил никаких проступков» за время службы на «Баунти». Многие хулители Блая объясняют странный поступок Фраера тем, что тот подозревал своего начальника в мошенничестве. Но попытка Фраера обелить себя заставляет предполагать, что у него самого совесть была нечиста. Так или иначе, Блай не дал себя запугать, а вызвал штурмана и очень выразительно высказал свое мнение об этой наглой попытке шантажа. Фраер опять отказался подписывать книги, повернулся и вышел. Блай ни секунды не колебался, как поступить. Он тотчас собрал команду, достал морской устав и прочитал вслух избранные места — те, где говорилось о страшных наказаниях за неповиновение. Затем он положил бухгалтерские книги на стол перед Фраером и приказал ему либо тут же подписать их, либо письменно обосновать свой отказ. Если Фраер действительно хотел уличить Блая в злоупотреблениях, ему представился удобный случай сделать это. Но он предпочел без дальнейших возражений поставить свою подпись. Блай указывает в судовом журнале, что он сразу простил Фраера. К сожалению, Фраер его не простил; начиная с этого дня он обращался к командиру «Баунти» только по делам службы, да и то при самой крайней необходимости.
В это время «Баунти» был уже юго-восточнее Таити, пришло время поворачивать на север (подойти к острову на парусах с запада нельзя было из-за полосы восточных пассатов между Южным тропиком и экватором). Хотя с каждым днем становилось теплее и Блай по-прежнему ревностно следил за питанием и моционом, моряки все чаще жаловались на слабость, боль в мышцах, сыпь. В конце концов Хагген выбрался на палубу и определил, что у них цинга, причем объявил и себя больным. Блай воспринял такой диагноз как личное оскорбление. Он был твердо уверен, что цинга — болезнь прошлого, возможная только при преступном пренебрежении со стороны командира корабля. Чтобы кто-нибудь на его корабле заболел цингой!.. Нет, это— ревматизм и крапивница, и точка! На всякий случай он все-таки прописал больным солидные дозы солодового экстракта и всем велел ежедневно пить купоросный эликсир — еще одно сомнительное патентованное средство того времени. Двое немедленно воспротивились: смутьян Перселл и доктор Хагген. Что до Перселла, то он пошел на попятный, когда Блай в наказание лишил его грога. А Хагген решил лечиться ромом и джином, принял чрезмерную дозу этого сильнодействующего лекарства и впал в беспамятство. Тут терпение Блая лопнуло, он распорядился конфисковать личный «погребок» Хаггена. Заодно он приказал произвести генеральную уборку в его каюте, и это оказалось делом «не только нелегким, но и препротивным».
Известно и неоднократно засвидетельствовано, что болезни, нарушения дисциплины и всяческие осложнения особенно учащаются в конце дальнего плавания. На «Баунти» все этому способствовало. Судно было маленькое, и, несмотря на нехватку людей, на борту царила страшная теснота. Многие члены команды были плохими моряками. Настроение Блая частенько оставляло желать лучшего. Плавание невероятно затянулось. Из-за скверной погоды переход потребовал от всех очень большого напряжения сил.
До сих пор железная воля Блая одолевала все препятствия, и он явно не сомневался, что и впредь сумеет справиться с трудностями. Но, как и все на борту, он не мог не ощущать растущей напряженности. Пора бы уже «Баунти» добраться до места назначения!
Глава третья Страдная пора
Точно определить долготу при тогдашних приборах было трудно, и Блай прибег к старому, испытанному способу, которым пользовались в своих плаваниях и таитяне. По широкой дуге он зашел с наветренной стороны Таити, пока не достиг нужной широты (ее было легче измерить), после чего направился к цели. Л в шестидесяти милях к востоку от Таити над морем на четыреста метров возвышался надежный ориентир — скалистый островок Меету.
В десять часов вечера 25 октября «Баунти» вышел на широту Месту и Таити, и рулевой получил приказ править строго на запад. Если Блай рассчитал верно, на рассвете следующего дня должен был показаться Меету. Он рассчитал верно — как обычно. Острые скалы появились над горизонтом в том самом месте, где предполагал Блай.
Меету (теперь его называют Меетиа или Мехетиа) был открыт одновременно с Таити англичанином Сэмюэлем Уоллисом за двадцать один год до этого; капитан Кук несколько раз проходил вдоль его южной стороны. Но никто еще не интересовался северным берегом — разумеется, Блай пошел туда. Его рвение было вознаграждено очень скудно; северная часть островка оказалась чуть ли не еще круче и пустыннее, чем южная.
Команда, у которой было совсем иное представление о жизни на полинезийских островах, разочарованно посмотрела на немногих островитян, прыгавших с камня на камень, и опять обратила нетерпеливые взгляды на горизонт.
Благодаря тому что Блай двумя днями раньше предусмотрительно конфисковал у Хаггена спиртное, лекарь успел протрезвиться и мог кое-как исполнять своп обязанности. Блай отлично понимал, о чем мечтают матросы, и предвидел, что они в общении с таитянскими женщинами «не проявят большой сдержанности», а потому велел своему костоправу (как он чаще всего величал Хаггена) незамедлительно всех обследовать. Лекарь подозрительно быстро справился с этим поручением и уверенно доложил, что все, включая цинготных, совершенно здоровы и не принесут на Таити никакой заразы. Не будем здесь выяснять, чем объяснялся оптимизм Хаггена — небрежностью или невежеством.
Затем Блай распорядился вывесить на бизань-мачте правила поведения. Вот они дословно:
«Правила, кои надлежит соблюдать всем лицам, находящимся на борту или принадлежащим к команде «Баунти», чтобы способствовать успешной закупке провианта и добрым отношениям с жителями островов Южных морей, куда бы ни зашел корабль.
1. Ни на островах Общества, ни на островах Дружбы никто не должен говорить, что Кук убит туземцами — вообще, что его нет в живых.
2. Никто не должен говорить, даже намекать на то, что цель нашего приезда — добыть побеги хлебного дерева, пока я сам не сообщу о своих планах вождям.
3. Долг каждого стремиться заслужить расположение и уважение туземцев, обращаться с ними приветливо, не применять насилия, если что-нибудь будет украдено; огонь открывать только для самообороны.
4. Все вахтенные обязаны следить за тем, чтобы не было украдено охраняемое ими оружие и инструмент; в случае пропажи будет произведен вычет полной стоимости из жалованья.
5. Никто не должен присваивать и продавать, прямо или косвенно, что-либо из судовых запасов.
6. Одно или несколько подходящих для этого лиц будут назначены для закупок и меновой торговли с туземцами, но никто из офицеров или иных членов команды не имеет права сам покупать какие-либо продукты или редкости. Если же кто-либо из офицеров или матросов захочет купить что-нибудь у туземцев, пусть обратится с такой просьбой к провиантмейстеру. Это обеспечит упорядоченную торговлю и позволит избежать недоразумений с туземцами. На закате надлежит убирать из шлюпок все предметы.
Дано за собственноручной подписью на борту «Баунти».
Отахеите, 25 октября 1788 года
У. Блай».Нельзя не признать все эти предписания не только на редкость разумными, но и гуманными, особенно если вспомнить, как вели себя другие европейские путешественники в Америке пли Африке.
До Таити оставалось всего тридцать миль, и еще до захода солнца команда увидела вершины гор на полуострове Таиарапу. Кук, который четырежды побывал на Таити, считал самой удобной и надежной гаванью залив Матаваи в северной части острова. Блай заходил туда в 1777 году вместе с Куком и вполне разделял мнение своего бывшего начальника.
Не теряя времени, Блай взял курс на залив Матаваи, рассчитав скорость так, что «Баунти» вошел в гавань рано утром. Корабль покинул Лондон больше года назад; за это время, согласно судовому журналу (который заполнялся с неизменной тщательностью), было пройдено свыше двадцати семи тысяч морских миль. Иначе говоря, средняя скорость «Баунти» составляла сто восемь миль в сутки; цифра внушительная, если учесть, как часто ему приходилось бороться со штормами.
Зрелище, которое утром предстало глазам команды, могло уже само по себе вознаградить за все лишения и труды. На свете есть много прекрасных заливов, но я буду упорно утверждать, пока мне не докажут другое, что Матаваи — самая красивая гавань в мире. С запада бухту прикрывает большой утес, названный Уоллисом «Уан-Три-Хилл» по той простой причине, что в 1767 году, когда он открыл Таити, на утесе стояло одно-единственное дерево. Отсюда в северо-восточном направлении безупречной дугой протянулся на пять километров песчаный пляж до самой оконечности мыса Венеры. Этимология этого названия тоже весьма прозаична, ведь Кук окрестил так мыс вовсе не потому, что там предавались любовным утехам, а по той единственной причине, что с этого мыса он в 1769 году наблюдал прохождение через меридиан планеты Венера. Как и во многих других местах Таити, берег покрыт чудесным, мягким угольночерным лавовым песком, который волны, играя, разрисовывают самыми затейливыми белопенными узорами. Сразу за пляжем начинается широкая полоса хлебного дерева с пышной темно-зеленой листвой и стройных кокосовых пальм. Но особую прелесть и великолепие заливу придает не ровная линия пляжа и не удивительное сочетание красок, а величественный фон — горный пейзаж с ущельями, плато, водопадами и двумя могучими вершинами, которые вздымаются на две тысячи с лишним метров к голубому небу.
Впрочем, люди Блая очень скоро отвлеклись от пейзажа. Едва корабль обогнул мыс Венеры и заскользил по тихой глади бухты, как от берега отчалило множество лодок с балансирами [8]. На веслах сидели мускулистые, отлично сложенные мужчины, и везли они, как того требовали правила таитянского гостеприимства, самые желанные для путешественников дары — зеленые кокосовые орехи, свежие фрукты, жирных молочных поросят и молодых полуобнаженных женщин.
— Перетане? Рима? — закричали гребцы, подойдя поближе.
«Перетане» в произношении таитян означало «Британия», а словом «Рима» они обозначали испанцев, так как испанские суда, которые навестили Таити десять лет назад, вышли из Лимы. На этом кончались познания таитян об окружающем мире, а большего пока и не требовалось.
— Таио перетане (английский друг)! — крикнул Блай, поддержанный теми из своих спутников, кто немного смыслил в таитянском.
— То матоу таио Параи (наш друг Блай)! — воскликнули островитяне и мигом поднялись на борт.
Десять минут спустя на палубе собралось столько галдящих и смеющихся мужчин, женщин и детей, что Блай не слышал собственного голоса и матросы волей-неволей махнули рукой на свои обязанности. Стремительный абордаж, в результате которого корабль попал в чужие руки, словно его захватили пираты, произошел очень некстати, потому что в этот самый миг совершенно стих ветер и «Баунти» понесло прямо на скалы Уан-Три-Хилл. С присущей ему энергией и решительностью Блай сумел все-таки навести на борту относительный порядок, бросил якорь и убрал паруса. При некотором дополнительном усилии он несомненно смог бы также очистить палубу от незваных гостей, но, с одной стороны, ему не хотелось обижать таитян, с другой стороны, он считал, что команда заслужила право немного отвести душу в приятном обществе. Лишь на закате Блай снова вмешался, да и то отправил на берег только посетителей мужского пола. Женщинам было милостиво разрешено переночевать на борту.
На следующее утро Блай, не дожидаясь, пока опять нагрянут полчища любопытных, перевел судно поглубже в залив и бросил якорь в более надежном месте. Заручиться дружбой и помощью влиятельных вождей было, понятно, еще важнее, чем ладить с населением, и, как только на борт явился первый вождь, Поино из Хаапапе (так называлось маленькое государство, прилегающее к бухте Матаваи), Блай поспешил вручить ему набор топоров и гвоздей. В свою очередь Поино учтиво пригласил Блая на праздничный обед на берегу. Надев свою лучшую парадную форму — длинный камзол и рубаху с кружевами, — Блай в тридцатиградусную жару высадился на мысе Венеры, откуда его через рощу хлебного дерева провели в резиденцию Поино. Это простое и красивое сооружение представляло собой огромный овальный навес из банановых листьев на гладких деревянных столбах. С присущим полинезийцам бесхитростным радушием Поино расстелил на полу из белой коралловой крошки циновку и предложил почетному гостю отведать фрукты и чудесный холодный кокосовый сок.
Две жены Поино, которые были заняты крашением луба, тотчас оставили работу, взяли плащ из того же материала и по таитянскому обычаю накинули его на плечи и без того изрядно взмокшего гостя. Эти же дамы (сам Блай записал, что «они вполне заслуживают этого названия своим изяществом, а также непринужденными, естественными манерами») очень мило и предупредительно взяли его за руки и проводили до шлюпки, когда кончился прием.
Хотя Поино принял его наилучшим образом, Блай не торопился сообщать о цели своего приезда. Сперва он хотел встретиться со своим старым другом, вождем Ту, и заручиться его поддержкой. Подобно Куку, Блай считал, что Ту — самый могущественный и знатный владыка на Таити. На деле Ту управлял только Паре-Аруэ, небольшой областью за Уан-Три-Хилл, и остальные вожди (их было около двадцати), гордясь своими славными предками, считали его выскочкой сомнительного происхождения. Но хитрость в сочетании с расчетливой и настойчивой услужливостью помогли Ту завоевать благосклонность английских офицеров и стать их любимцем. Казалось бы, ему и приветствовать Блая первым, однако он не мог этого сделать но весьма огорчительной причине. Сильные враги опустошили его государство, и теперь он жил в изгнании у своего родича на полуострове Таиарапу.
В Матаваи Ту появился лишь на третий день после прибытия «Баунти». Преисполненный надежд и решимости играть свою старую роль верховного вождя, он в отличие от добродушного Поино не сел в лодку, а отправил на судно гонца, прося, чтобы за ним выслали катер. Блай искренне верил, что с Ту надо ладить, и тотчас выполнил его просьбу. Ту было тогда около тридцати пяти лет; как и большинство таитянских вождей, он был очень крупного сложения. Благодаря предприимчивости Блая и его любви к точным цифрам рост Ту потом измерили: оказалось сто девяносто три сантиметра. В остальном же, как мы потом увидим, вождь, увы, был начисто лишен тех качеств богатыря, которые так ценились среди таитянской знати: величия, отваги, щедрости, благородства, находчивости, юмора. Но всем свидетельствам, было в нем даже что-то женственное. Зато на редкость мужеподобной была его любимая жена Итиа, и нет никакого сомнения, что из них двоих она обладала наибольшим честолюбием. Сам Блай признает, что по своему складу «Ту больше всего подходит для спокойной жизни, трудно найти более робкого человека…».
Блай приветствовал «короля» Ту по таитянскому обычаю, то есть они потерлись носами; тут выяснилось, что вождь поменял имя и теперь его звали Теина. (Перемена имен была и продолжает быть распространенным явлением на Таити; Ту, например, он же Теина, вошел в историю под третьим, более известным именем Помаре). Затем Блай поспешил преподнести дары в знак дружбы: набор скобяных изделий для Теины, серьги, ожерелья и стеклянные бусы для его бравой супруги. Итиа, как и следовало ожидать, только поморщилась при виде побрякушек и потребовала взамен столько же топоров, ножей и пил, сколько получил ее муж.
А когда Блай исполнил ее пожелание, супруги испросили дозволения взглянуть на его каюту. Он неохотно согласился; как он и думал, они принялись выпрашивать все, что попадалось им на глаза. Все еще ошибочно считая Теину главным властелином на острове, Блай учтиво продолжал играть роль благотворителя. Возвратившись на палубу, супруги стали приставать ко всем офицерам и матросам по очереди, и те более или менее добровольно наделяли их подарками — рубашками, носовыми платками и прочим барахлом. А чтобы показать, что он дорожит своим достоинством, Теина, едва завершился сбор подарков, потребовал, чтобы Блай произвел в его честь салют из корабельных пушек. Блай был человек последовательный, он и эту королевскую прихоть удовлетворил без возражений. Тут с Теины слетел весь гонор — он постыдно вздрагивал от испуга при каждом выстреле. Впрочем, за роскошным обеденным столом вождь быстро позабыл о неприятных переживаниях и уписывал за обе щеки. С поразительной алчностью, которая всегда его отличала, он за короткое время успел управиться с четырьмя обильными трапезами, прежде чем торжественно покинул корабль. Напоследок эта беззастенчивая чета попросила, чтобы Блай сохранил на борту все их подарки: они боялись, как бы собственные подданные не обокрали их.
После еще нескольких официальных обедов в честь вождей, прибывавших из других частей острова, Блай счел, что пора в соответствии с дипломатической практикой нанести ответный визит Теине, а точнее, его шестилетнему сыну — истинному, по словам Теины, повелителю Таити. Это не так странно, как может показаться. В семьях таитянских вождей власть передавалась наследнику, когда рождался первый сын, а не по смерти отца, как было принято в королевских домах Европы. Правда, утверждение, будто шестплетипй сын Теины — верховный правитель Таити, было все-таки наглой ложью.
Государственный визит начался неудачно: к тому времени, когда Теина должен был заехать за Блаем, никакой лодки не пришло. В конце концов прибыл гонец, но лишь для того, чтобы сообщить, что его величество перетрусил и спрятался. Причиной страха Теины было то, что накануне с «Баунти» пропало много железных предметов, даже один буй, и он опасался, как бы Блай не оставил его заложником, пока не будет возвращена пропажа. Блай заверил, что не тронет ни волоска на его кудлатой голове, и Теина наконец явился на борт вместе с Итиа и Поино, которые оказывали ему моральную поддержку. Блай велел приготовить баркас и тотчас спустился в него вместе со своим хозяином. За час, что они шли на баркасе, Теина немного осмелел и принялся заверять Блая, что он обожает английского монарха, английскую нацию и вообще все английское, как-то: ножи, топоры и гвозди. Блай не преминул осведомиться, не думает ли Теина сделать ответный подарок королю Георгу. Как же, как же, — и Теина лихо перечислил все, что добывалось и росло на Таити, включая плоды хлебного дерева. Блай, видимо, на это и рассчитывал; он небрежно заметил, что хорошим подарком могли бы быть саженцы хлебного дерева. Теина был только рад так дешево отделаться и заверил, что все его государство сплошь заросло хлебным деревом. На сей раз он не солгал.
Подданные с явным холодком встретили Теину, по их искреннее почтение к его шестилетнему сыну упрочило доверие Блая к этой династии. Он совсем повеселел, когда живой и добродушный брат Тениы, Ариипаеа, отыскал большинство пропавших предметов. Визит закончился придворным концертом с участием четырех музыкантов, из которых трое играли на флейте носом, а четвертый бил ладонями в барабан из акульей шкуры. Теина не замедлил воспользоваться увеличением своего престижа и, провожая гостя до корабля, продолжал клянчить. Его запросы росли, помимо орудий убийства он хотел получить несколько кресел и кровать. Блай саркастически отмечает в судовом журнале, что это были самые подходящие предметы для Теины.
Совершив этот визит, Блай решил, что почва подготовлена, добрая воля обеспечена (кстати, он употребляет именно слово «гудвилл», изобретение которого приписывают себе политики и газетчики позднейших времен) и можно приступать к сбору побегов. Но в Хаапапе было ничуть не меньше хлебного дерева, чем в Паре, и к великому разочарованию Теины он решил не переходить в другую бухту.
В воскресенье 2 ноября — всего через неделю после прибытия на остров — Блай велел поставить палатку на мысе Венеры и передал в распоряжение Нелсона и Брауна четверых матросов, чтобы они строили оранжерею и собирали побеги. Руководителем «хлебного» отряда, откомандированного на берег, Блай назначил Флетчера Крисчена. Помощником Крисчена стал молодой гардемарин Питер Хейвуд. Канонир Пековер, который лучше всех на борту объяснялся по-таитянски, получил почетное поручение наладить меновую торговлю.
Роль «третьего лишнего» не устраивала Теину, и на следующий день он придумал способ быть полезным. Рано утром 3 ноября с катера пропала рулевая петля, и, чтобы напомнить матросам об их обязанностях, Блай наказал вахтенного матроса Алекса Смита двенадцатью плетьми. Воспользовавшись этим случаем, Теина сам себя назначил караульным у палатки англичан — чистой воды блеф, ибо в государстве Поино он не пользовался никакой властью. Одновременно объявился еще один помощник, который вскоре завоевал благосклонность Блая. Этим новым англофилом был бесхитростный человек простого происхождения по имени Хитихити, участник знаменитого плавания Кука в моря Антарктики пятнадцатью годами раньше; в официальном отчете о путешествии он даже удостоен портрета. Тридцатилетний Хитихити был родом с Борабора, на Таити он оказался случайно. Он еще помнил некоторые английские слова и обороты; этого было достаточно, чтобы его восторженно приняли на «Баунти». Небезынтересно отметить, что скромный Хитихити, который был по сути дела всего-навсего рассыльным Блая, почему-то фигурирует как вождь Хаапапе не только в известном романе Нордхоффа и Холла о мятеже, но и в недавно снятом суперколоссальном голливудском фильме, где Марлон Брандо играет сильно облагороженного Флетчера Крисчена.
Наверно, ни до, ни после никто в английском флоте не получал более приятной командировки, чем Флетчер Крисчен и его отряд. Каждый день они отправлялись бродить по острову. Повсюду их принимали с истинно таитянским радушием. Все радостно приветствовали их, словно старых друзей. Если они были утомлены ходьбой и зноем, их приглашали в прохладную хижину и угощали кокосовыми орехами с освежающим соком. Прелестные женщины были в любой миг готовы сделать им таитянский массаж. Быстроглазые ребятишки состязались за честь нести, их вещи, а возле рек гостей всегда ожидали несколько атлетов, которые переносили их на спине на другой берег. Мало того, у каждого появились таио — названые братья. Долгом таио было, в частности, предложить побратиму свою жену или жен, если у него их было несколько (привилегия вождей). Ответить отказом значило обидеть человека, так что англичане беспрекословно выполняли это правило таитянского этикета. И ведь они — в отличие от своих женатых побратимов — могли также предаваться любви с незамужними девушками. Вместе со всеми жителями маленького государства Поино девушки ежедневно после конца работы приходили на мыс Венеры и развлекали гостей лирическими песнями и эротическими танцами. Боцман Моррисон с удовлетворением отмечал, что «каждый офицер, каждый матрос приобрел новых друзей. Хотя никто не понимал языка, мы убедились, что очень легко объясняться жестами, в чем здешний народ весьма преуспел. Некоторые женщины… быстро освоились и придумали способ беседовать со своими партнерами».
Правда, остальная часть личного состава ночевала на «Баунти», но мало кто роптал. Во-первых, многие матросы днем отправлялись на берег сушить и чинить паруса, заготавливать дрова и пресную воду и так далее, во-вторых, Блай разрешил таитянкам гостить на борту. Не менее важно для хорошего настроения команды было то, что благодаря коммерческим талантам Пековера ежедневно подавались огромные порции жареной свинины, ямс и плоды хлебного дерева. Здесь стоит заметить, что Блай в соответствии с вывешенными им правилами конфисковал свиней, которых члены команды закупили самолично, за что его часто критиковали — и несправедливо: ведь у него была одна-единственная цель — сосредоточить всю торговлю в руках Пековера, чтобы не взвинчивались цены.
Пожалуй, наименее приятной была работа самого Блая. В отсутствие Крисчена он должен был один наблюдать за всеми да еще в силу своего чрезмерного рвения считал себя обязанным угощать приезжавших вождей. А так как представительские обеды подавались в тесной кают-компании, где было душно, как в бане, процедура оказывалась очень утомительной. Чаще всех за столом восседал, конечно, Теина, который всегда был готов оставить пост у палатки ради доброго обеда. Блай в своей парадной — и весьма теплой — лейтенантской форме с неизменной учтивостью развлекал гостей и пользовался случаем как следует расспросить их о гаванях, погоде, ветрах, обычаях и нравах.
Блай хорошо чувствовал себя в обществе таитян, у него было отличное расположение духа, он даже проявлял известное чувство юмора. Вот как он сам описывает один случай: «Корабельный брадобрей захватил с собой из Лондона голову, какие принято выставлять в цирюльнях для показа различных причесок, и надо сказать, лицо было нарисовано искусно. Он старательно и аккуратно причесал голову, укрепил ее на палке и при помощи одежды придал ей вид человека. Как только все было готово, я велел ему подняться с куклой на палубу. Там раздались возгласы: «Какая прелестная англичанка!» Половина присутствующих и впрямь поверила, что это англичанка, они спрашивали, не моя ли это жена, а одна женщина подбежала с подарком — корзиной плодов хлебного дерева и куском материи. Но даже узнав, что это не живая женщина, они продолжали восхищаться. Теина и другие вожди были без ума от куклы. Они умоляли меня, когда я приеду в следующий раз, захватить с собой несколько англичанок».
Временами Блай становился прямо-таки сентиментальным, например он записал в судовом журнале, что таитяне «проявляют утонченные чувства, и, судя по их поведению и словам, они очень привязаны к нам. Часто они говорят мне: Оее уорроу уорроу эоа но тинхарро Отахеите, что означает: «у вас на Таити много искренних друзей, которые не на словах, а всем сердцем любят и уважают вас». Какие люди стали бы так говорить, если бы они и впрямь не обладали добродетелями, кои принято связывать только с цивилизацией и светским воспитанием?»
Нам неизвестно, были ли у Блая какие-нибудь любовные интрижки, но можно заключить, что он не оставался совершенно равнодушным к обаянию таитянок. В судовом журнале его рукой записано, что «они красивы, приветливы в обращении и беседе, очень чувствительны и достаточно благородны, чтобы их можно было уважать и любить».
Всего Блай и его люди провели на Таити пять месяцев. Бесспорно, это немало, и всякий, кто интересовался историей «Баунти», справедливо недоумевал, почему пребывание корабля на острове так затянулось. Чаще всего объясняют, что Блай попал на Таити в неудачную пору, ему-де пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем он смог начать сбор побегов. Трудно найти более нелепое объяснение. На Таити можно в любое время года собрать сколько угодно побегов хлебного дерева. Особенно благоприятен для этого сезон дождей, который обычно наступает в ноябре — как раз в то время, когда прибыл «Баунти». Кое-кто из историков «Баунти», правда, дал себе труд установить этот факт, но зато они сделали поспешный вывод, будто долгое пребывание на Таити было связано с тем, что сбор побегов — работа трудная и кропотливая. Но и это неверно, как подтвердит любой человек, хоть что-то знающий о полинезийском земледелии. Срезать с корней шестьсот полуметровых побегов хлебного дерева и посадить их в горшки — дело несложное, пять-шесть человек вполне справятся с ним за неделю, не выбиваясь из сил. Есть другая распространенная гипотеза — будто матросы нарочно затягивали работу, даже уничтожали собранные побеги, чтобы только подольше задержаться на Таити. Ее слабость в том, что она не подтверждается никакими фактами.
Если обратиться к судовому журналу, то выяснится, что сбор начался уже 4 ноября. Через два дня в оранжерее Крисчена, Нелсона и их помощников хранилось шестьдесят два саженца, и дальше это количество быстро росло. 7 ноября их было 110, 8 ноября — 168, 9 ноября— 252, 10 ноября — 340, И ноября — 401, 12 ноября — 487, 13 ноября — 609, 14 ноября — 719, 15 ноября — 774.
Словом, не прошло и трех недель, как Блай уже выполнил свое задание. И, однако же, он оставался на Таити еще двадцать недель. Сняться с якоря немедленно он, естественно, не мог — надо было пополнить запасы и подготовить судно к плаванию. И, конечно, Блай хотел сперва убедиться, что все саженцы принялись. Отведем на все это месяц. Получается, что к рождеству «Баунти» должен был выйти в обратный путь.
Чем же объяснить проволочку? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно взглянуть в полученные Блаем инструкции. Как известно, ему предписывалось возвращаться через Торресов пролив и зайти на Яву. Но Блай отлично знал, что с ноября по март невозможно пройти Торресов пролив с востока, так как в это время непрерывно дуют западные ветры. Составляя инструкцию, лорды адмиралтейства исходили из того, что Блай пойдет на Таити мимо мыса Горн; тогда он достиг бы цели на полгода раньше. В новой обстановке толковые сами по себе распоряжения уже не годились. Но для Блая приказ был приказом, ему и в голову не приходило нарушить инструкцию, и он решил отложить возвращение до марта. А чтобы время не пропадало даром, он весьма разумно предполагал после сбора побегов привести корабль в полную готовность и заняться изучением других архипелагов, пока не наступит пора форсировать коварный пролив.
После продолжительного отдыха на берегу, 16 ноября Блай приказал приступить к починке снастей, парусов и погрузке на борт камней для балласта. Одновременно продолжали пополнять запасы провианта, засаливали свинину, заготовляли воду и дрова и, как было принято в то время в дальних плаваниях, раскладывали на палубе для просушки заплесневелые галеты и отсыревший порох. Человек шесть были заняты перевозкой людей и грузов; как-никак до берега было несколько сот метров. Но, несмотря на большую нагрузку, команда пребывала в отличном настроении, это видно из многочисленных записей в судовом журнале о подарках, вечерних развлечениях и прелестных танцовщицах. Особенно блаженствовал береговой отряд, у которого теперь была лишь одна забота: ждать, когда примутся саженцы.
Но такой сверхревностный служака, как Блай, не мог, разумеется, пустить дело на самотек; уже через несколько дней он во время очередной проверки решил, что несколько растений завяли, и без труда убедил исполнительного Нелсона, что лучше всего заменить их новыми. Не в духе Блая было ограничиваться полумерами. Заменять, так заменять — и лишь после того, как выбросили и заменили двести тридцать девять (!) саженцев, он неохотно признал, что вообще-то «только одно растение погибло». И тут же оправдался, что мол «все остальные укоренились, но выглядели так скверно, что на них нельзя было положиться». Одновременно Блай на всякий случай отдал другое — столь же неразумное — распоряжение: велел плотникам сколотить еще несколько ящиков для растений. Где их разместить? Об этом можно будет подумать после.
Сколько бы времени ни отнимали саженцы, Блай еще успевал ежедневно выпивать с вождями и играть роль деда Мороза. По-прежнему всех бесстыднее клянчил подарки Теина; у него их скопилось столько, что пришлось ему просить у Блая деревянный сундук для хранения своего добра. Командир «Баунти» безропотно приказал плотнику сколотить сундук, да побольше, чтобы Теина и Итиа могли спать на его крышке, охраняя свое драгоценное имущество от воров.
Демократ в душе, Блай заботился о том, чтобы и все население острова приобщалось к благам цивилизации. Так, он велел Нелсону посадить кое-где кукурузу, искренне надеясь, что вскоре весь таитянский народ оценит достоинства новой культуры. Но таитяне оказались в своих вкусах такими же консерваторами, как другие народы, они и теперь, сто семьдесят лет спустя, не научились ценить кукурузу. Несколько больше Блай преуспел в своем стремлении поощрить животноводство. Полагая, что лучший способ осчастливить невежественных варваров — научить их есть английский бифштекс и пить молоко, капитан Кук во время своего последнего плавания доставил на Таити целое стадо скота и от своих щедрот уделил Теине трех коров и быка. Блай тогда лично отвечал за то, чтобы животные благополучно перенесли долгое плавание. Понятно, ему теперь не терпелось узнать, что же случилось с ними. Но ни в Хаапапе, ни в Паре-Аруэ он не нашел рогатого скота, и в конце концов Теина робко признался, что животные украдены его врагами. Две коровы находятся на Муреа, третья — на западном берегу Таити, бык — на восточном берегу. Блай выкупил корову — она бродила на воле, так мало ее ценили островитяне, — и случил с нетерпеливым и свирепым быком.
За всеми этими сельскохозяйственными занятиями Блай с трудом выкраивал время для проверки отрядов, которые выполняли различные задания на берегу, а они с каждым днем все дальше уходили от корабля. Не удивительно, что дисциплина начала расшатываться. Первое происшествие случилось 4 декабря, и провинился все тот же неисправимый Перселл. Хитихити попросил выделить ему помощника, чтобы вытесать точильный камень, но когда Блай обратился к старшему плотнику, тот наотрез отказался — мол, только инструмент испортишь. Блай ограничился тем, что посадил Перселла на гауптвахту. Его снисходительность привела лишь к тому, что уже на следующий день он столкнулся с новым случаем «строптивости и неповиновения». На этот раз Блай назначил провинившемуся — матросу Метью Томпсону — наказание построже: двенадцать ударов кошкой.
Чувствовалось, что нужна какая-то перемена, чтобы внести разнообразие в повседневную рутину. И такая перемена наступила вечером 5 декабря, да только не совсем приятная. Перед самым заходом солнца стих восточный ветер и подул северо-западный, а с этой стороны залив Матаваи не защищен. К семи часам качка настолько усилилась, что пришлось задраить все люки. Выводить корабль против ветра и ставить паруса было сложно и опасно; в итоге озябшей команде оставалось только искать на палубе укрытия от ветра и дождя. Каким-то чудом якорные канаты выдержали, и, когда занялся новый день, команда невероятным напряжением сил, какие придает человеку только отчаяние, ухитрилась убрать все паруса до единого, что несколько улучшило устойчивость судна.
Но, как говорится, пришла беда — отворяй ворота: за ночь ручей по соседству с лагерем на мысе Венеры разлился и теперь грозил снести оранжерею. Блай уныло глядел на берег; в это время среди пальм показались несколько островитян. Они бесстрашно спустили на воду лодку, пробились сквозь прибой и пошли к кораблю. Казалось, их вот-вот опрокинет волнами, но отважное предприятие увенчалось успехом. Теина, Итиа и вождь по имени Моана поднялись на борт и вручили англичанам свежие кокосовые орехи и плоды хлебного дерева, потом со слезами на глазах обняли Блая и объяснили, что решили попрощаться с ним перед тем, как корабль выбросит на берег и разобьет вдребезги. Через несколько часов шторм немного унялся, и неизменно исполнительный Нелсон по примеру Теины прибыл на пироге, чтобы доложить, что его людям удалось спасти все саженцы, прорыв новое русло для разлившегося ручья. После еще одной беспокойной ночи ветер смилостивился, и все таио не замедлили на лодках и вплавь доставить своим побратимам обычные дары — чудесные плоды и женщин.
Ни корпус корабля, ни такелаж не пострадали, но без потерь не обошлось. Вскоре после шторма умер один из членов команды. Это был, как и следовало ожидать, спившийся лекарь Хагген. 9 декабря врача вызвали с берега, но, когда вахтенный офицер спустился в каюту Хаггена, тот был в очень жалком состоянии, которое нельзя было приписать только похмелью. Вахтенный решил перенести Хаггена в большую каюту в надежде, что ему поможет свежий воздух. Увы, он ошибся: очутившись там, Хагген стал задыхаться, потерял сознание и, не приходя в себя, умер. Без лицемерных сожалений Блай схоронил покойника на мысе Венеры и назначил судовым врачом предусмотрительно захваченного с собой Ледуорда.
Из разговоров с островитянами Блай узнал, что в сезон дождей, то есть с ноября по апрель, западные штормы довольно часты. Поэтому он решил незамедлительно идти к соседнему островку Муреа, в северной части которого есть два надежно защищенных залива; он видел их, когда плавал с Куком.
Теина был совершенно убит этим известием. Он считал жителей Муреа своими злейшими врагами, они больше всего бесчинствовали в его государстве во время последней войны, когда он сам едва унес ноги. Его негодование усугублялось тем, что на борту «Баунти» оставалось еще немало соблазнительных предметов, которые он не успел выклянчить, например мушкеты. Ему их, можно сказать, уже обещали, этим оружием он надеялся сокрушить заклятых врагов на Муреа, может быть, даже стать единовластным правителем Таити. С искренним гневом и печалью сетовал Теина на неблагодарность и коварство своего друга Параи. Неужели он способен так обидеть верного товарища? И неужели он не понимает, что рискует жизнью всей команды, если отправится к этим подлым бандитам и разбойникам? Почему бы не перевести судно в какой-нибудь другой залив на Таити? Дальше на запад есть множество защищенных бухт, кстати, самая удобная из них, Тааоне, как раз находится во владениях самого Теины.
Поддавшись на его уговоры, Блай обещал обследовать залив Тааоне. Придя туда 13 декабря, он увидел всего-навсего небольшой проход в рифе; вряд ли тут было безопаснее, чем в Матаваи. Зато между Тааоне и Матаваи через другой проход можно было попасть в маленькую, но сравнительно глубокую бухту, надежно защищенную от западных ветров широким мысом. Блай окрестил эту бухту Тоароа по названию большой коралловой скалы посреди прохода. Окончательного решения он пока не принял, а только велел своим людям быстрее заканчивать приготовления, чтобы можно было уйти из Матаваи до начала следующего шторма.
Сильное волнение на море утром 19 декабря было как бы новым предупреждением, но Блай продолжал колебаться в выборе места. Наконец во время прогулки на берегу он решился. Вот как сам Блай рассказывает, что побудило его предпочесть Тоароа: «Все жители Матаваи были потрясены моим намерением идти на Эимео (Муреа) и всячески убеждали меня, что там очень скверные люди. Я не придавал значения их словам, понимая, что они отстаивали свои интересы. Однако заверения в дружбе и привязанности ко мне были слишком искренни и непритворны, чтобы я мог пренебречь ими. Мое нежелание расстаться с этими добрыми людьми усилилось настолько, что на следующий день я снова послал на баркасе штурмана, поручив ему еще раз промерить глубины между Матаваи и Тоароа. Он вернулся вечером и доложил, что нашел хороший фарватер глубиной не меньше шестнадцати саженей. Гавань Тоароа казалась вполне надежной, и я решил поскорее перейти туда. Тотчас сообщил об этом команде, и мои слова вызвали бурное ликование».
Лучше всего было бы, конечно, махнуть рукой на потерявшие смысл инструкции адмиралтейства и идти мимо мыса Горн в Вест-Индию, а оттуда домой. Но ждать такого своеволия от Блая было бы не менее нелепо, чем упрекать машиниста за то, что он все время ведет поезд по рельсам, не срезая поворотов.
Были и другие выходы, скажем, тот, о котором первоначально подумал сам Блай, — идти на какой-нибудь архипелаг по направлению к Торресову проливу, хотя бы на острова Тонга. Заодно он смог бы проверить, насколько выносливы саженцы хлебного дерева и как ухаживать за ними в плавании. Кстати, на Тонга можно было бы найти замену погибшим растениям. Однако Блай почему-то отказался от этого варианта. И почему-то он не подумал о том, что можно на Таити найти залив понадежнее, чем Тоароа. А впрочем, причина очевидна, она явствует из приведенных выше слов, обличающих его впечатлительность и сентиментальность — два недостатка лейтенанта Блая, о которых, сколько я знаю, еще никто не писал.
Переход в Тоароа начался неудачно, и суеверный человек мог бы усмотреть в событиях этого декабрьского дня некий особый смысл, которого они вовсе лишены. Забрав с берега все семьсот семьдесят четыре саженца и отправив вперед на баркасе палатки и лагерное снаряжение, Блай в половине одиннадцатого утра снялся с якоря. По его приказу баркас должен был ждать возле узкого входа в залив Тоароа, принять конец и, как только будут убраны паруса, отбуксировать «Баунти» на стоянку. Но люди на баркасе непростительно промешкали, и судно прошло мимо. Идти без буксира было опасно, теперь все зависело от впередсмотрящего. На всякий случай Блай послал наверх штурмана Фраера, чтобы тот высматривал коралловые глыбы и отмели. Однако Фраер оказался никудышным наблюдателем: прежде чем Блай успел бросить становой якорь, судно прочно село на мель. Обошлось без пробоин, но, когда попытались снять корабль с мели, положение только ухудшилось, а с ним и настроение Блая.
Выход был один — забросить два якоря с кормы и тянуть лебедками. Блай был вне себя и сам отправился на лодке со становым якорем, поручив Фраеру верп. Фраеру удалось снять судно с мели прежде, чем был завезен становой якорь, но на борту каким-то образом забыли, что надо выбирать второй канат, и он запутался в кораллах. Остаток дня ушел на то, чтобы спасти якоря и распутать канат.
Наученные Теиной, местные священнослужители на следующий день устроили своего рода благодарственный молебен за Блая. А ведь, по чести говоря, благодарить-то должен был Теина: судно его великодушного друга Параи, метко названное «Щедрость», очутилось в его владениях. Теперь-то уж ему обеспечена львиная доля заманчивых предметов, которые он вожделел! А Блай был так доволен новой стоянкой и оказанным ему приемом, что немедля устроил роскошный рождественский пир. Для вящего увеселения хозяев он велел команде произвести залп из всех пушек и прочего огнестрельного оружия. И хотя выстрелы по-прежнему пугали Теину, ему еще сильнее захотелось заполучить хотя бы несколько мушкетов.
На новом месте все было в основном организовано по-прежнему. Крисчен и его отряд получили приказ разбить палатки рядом с большой хижиной, которую Теина отвел под оранжерею. Здесь же обосновался и Пековер, чтобы продолжать меновую торговлю. Если и была какая-нибудь разница, то разве что жизнь берегового отряда стала еще более приятной и беспечной. Да и на борту наступила передышка — ведь ремонт был закончен, все заготовлено. II Блай милостиво разрешил ежедневно отпускать в увольнение по два человека. Сам он тоже стал чаще бывать на берегу.
Оказалось, однако, что такая райская жизнь пагубна для морали. 5 января 1789 года при смене вахты в четыре часа утра обнаружилось, что вахтенный начальник, гардемарин Хейворд, спит, а шлюпка пропала. Как только об этом доложили Блаю, он выстроил на палубе всю команду для проверки. Троих не оказалось: младшего кока Уильяма Маспретта, матроса Джона Миллуорда и капрала Чарльза Черчилля — того самого, который должен был помогать командиру поддерживать порядок на борту и не допускать побегов. Все оружие хранилось в большом сундуке, ключи от него были у Фраера, тем не менее дезертиры ухитрились стащить восемь мушкетов. Зачем так много? Видимо, они сговорились с кем-то из местных вождей, кто за оружие обещал им свое покровительство. Как уже говорилось, Теина давно мечтал о мушкетах; возможно, что ото он все подстроил, поскольку Блай не шел ему навстречу.
Командир «Баунти» отлично понимал: с помощью таитян беженцы без труда смогут отсидеться где-нибудь, пока корабль не уйдет. Единственный способ отыскать их — заручиться поддержкой местных жителей, прежде всего вождей. Капитан Кук в таких случаях задерживал на борту нескольких вождей в качестве заложников, и ото почти всегда давало желаемый результат. Мириться с дезертирством нельзя было, но, в принципе ничего не имея против метода Кука, Блай отказался от него по чисто практическим соображениям: таитяне могли в отместку уничтожить саженцы в оранжерее. Поразмыслив, Блай решил отправиться на берег и уговорами склонить на свою сторону вождей. Он встретил Моану, Теину и Ариипаеа; те уже знали о случившемся и сообщили, что беглецы оставили шлюпку в бухте Матаваи, а сами на пироге ушли под парусами на Тетуроа (теперь Тетиароа), коралловый островок в тридцати морских милях к северу от Таити. Теину мысль о погоне явно не увлекала, зато Моана и Ариипаеа тотчас выразили готовность плыть на Тетуроа. Блай счел излишним давать им какое-либо оружие и посоветовал «с приветливым видом подойти к дезертирам, затем схватить их за руки и связать веревкой, не щадя в случае сопротивления». Ариипаеа и Моана одобрительно выслушали этот совет и обещали в точности выполнить его.
Следующим шагом Блая было заковать Хейворда в кандалы. В судовом журнале он излил душу: «Наверно, ни на одном корабле не было таких нерадивых и бездарных младших офицеров. О приказах они помнят лишь первые несколько часов и вообще ведут себя так отвратительно, что на них никак нельзя положиться».
К великому негодованию Блая, погода испортилась, и отъезд Ариипаеа и Моаны задержался на целую неделю. Они еще не вернулись с Тетуроа, когда произошел новый серьезный инцидент. 17 января Блай распорядился просушить топсели, хранившиеся в одной из кладовок под палубой, не доверяя Фраеру, он сам осмотрел паруса и с ужасом убедился, что они не только заплесневели, но и отчасти погнили. Небрежное обращение с парусами — худший проступок на парусном судне, и Блай в приливе гнева записал в судовом журнале: «Будь у меня другие офицеры, которые могли бы занять должности штурмана и боцмана, будь у меня возможность вообще обойтись без них, разжаловать их в матросы, они не остались бы в старой должности».
Читая эти строки, понимаешь, почему Блай поимку беглецов возложил на своих таитянских друзей, а не на собственных младших офицеров. Он не отправился сам на Тетуроа лишь потому, что боялся оставить своих подчиненных без присмотра, а не из-за недостатка смелости, как иногда утверждают. Отваги у Блая было хоть отбавляй, это он доказал 22 января, когда разыгрался заключительный акт драмы. Первые сведения о судьбе беглецов Блай получил не от Ариипаеа и Моаны — тех все еще не было, — а от Тепаху, вождя области Тефана (ныне Фааа), западного соседа Теины. По словам Тепаху, беглецы только что прибыли в его владения. Несмотря на позднее время, Блай велел приготовить баркас и сам пошел на нем в Тефану. Увы, берег был окаймлен широким коралловым рифом, так что Блаю и его верному спутнику Хитихити пришлось сойти на сушу довольно далеко от дома Тепаху и продолжать путь пешком. Внезапно их окружила ватага таитян, которые хотели отнять у них одежду и прочее имущество. Блай пригрозил им пистолетами, и они отстали. У Хитихити после этого происшествия пропало всякое желание ловить дезертиров, но Блай, не дожидаясь своих людей, одни направился к хижине, где скрывались беглецы. Как он и предвидел, они вышли и сдались добровольно. Такое смирение объяснялось очень просто. Когда они возвращались на Таити, их пирога у самого берега затонула, мушкеты и порох намокли и теперь не годились для стрельбы. Что было бы в ином случае — об этом ревностный служака Блай не задумывался.
Пройти ночью между рифов было трудно, и Блай заночевал на берегу. А вернувшись утром на судно, обнаружил, что судовой хронометр остановился — Фраер забыл завести его!
Беглецов заковали в кандалы, сколько они ни твердили, что, послушав совета Ариипаеа и Моаны, добровольно вернулись на Таити, чтобы сдаться Блаю. Он сильно сомневался в их искренности. Вскоре и на самом деле выяснилось, что им удалось удрать от Ариипаеа и Моаны и они задумали укрыться на Муреа или каком-нибудь другом островке, но пирога опрокинулась, вот они и попали в Тефану.
Маспретт и Миллуорд получили по сорок восемь плетен; Черчилль почему-то отделался двадцатью четырьмя, да и то его наказывали в два приема, с промежутком в двенадцать дней.
Для такого серьезного преступления наказание было мягким. Возможно, объяснение этому следует искать в гневной речи Блая, с которой он обратился к личному составу. Командир считал, что вина ложится не только на беглецов, повинны и младшие офицеры — они, вместо того чтобы служить примером, сами сплошь и рядом нарушали свой долг.
С этой трагикомической историей связано загадочное происшествие, в котором Блай так и не смог разобраться. Утром 6 февраля 1789 года кто-то из вахтенных обнаружил, что якорный канат «Баунти» почти до конца перерезан у самой воды и держится только на одной пряди. Было ясно, что это преднамеренное злодеяние, совершенное кем-то с расчетом, что судно выбросит на берег пли разобьет о риф. Блай не допускал, чтобы кто-нибудь из жителей Хаапапе или Паре выкинул такой трюк, ведь с ними у него были самые лучшие отношения. Он подозревал, что это дело рук завистливого вождя другой области. Уже после бунта один из членов команды узнал на Таити, в чем было дело. Он записал эти сведения, и нам теперь известно, что виновником был младший брат Теины, Ваетуа. Его побуждения могут показаться нам нелепыми, но для таитянина они вполне естественны: Ваетуа надеялся таким радикальным способом освободить своего таио, гардемарина Хейворда, который все еще сидел в кандалах.
Несмотря на все заботы и осложнения, Блай нашел время для ряда важных наблюдений. Во-первых, он составил надежную карту бухты Матаваи и гавани Тоароа; при этом регулярно брал высоту солнца, чтобы точно определить положение Таити (и был очень недоволен, что успел сделать это лишь около пятидесяти раз), после чего вычислил среднее значение долготы и широты. Во-вторых, он прилежно изучал быт и нравы таитян, и его судовой журнал изобилует записями о погребальных обрядах, акушерстве, терминах родства, лунном календаре, есть даже рецепт приготовления пудинга. Сверх того, он в свободные минуты (?) прилежно составлял таитянский словарь. Большинство этнографических сведений, сообщаемых Блаем, поражает своей полнотой и правдивостью. Помимо прочих своих достоинств он бесспорно был одаренным исследователем, и наряду с Куком его следует считать подлинным пионером изучения Южных морей.
В конце февраля Блай стал готовиться к выходу в море. На борту морили крыс и тараканов, чтобы они на обратном пути не попортили саженцев, и были мобилизованы все кошки, каких только удалось найти на острове. Далее, командир корабля распорядился установить на место реи, сколотить новые ящики для растений, переделать курятник в оранжерею. Оставалось только забрать с берега провиант, снаряжение и саженцы, но тут разверзлись хляби небесные, как они разверзаются только на тропических островах в сезон дождей. Зная местный климат, Блай понимал, что пребывание под дождем грозит простудой и даже воспалением легких. И, чтобы не рисковать здоровьем людей, он велел приостановить работы. Перерыв затянулся на целых десять дней. Ливни прекратились только в середине марта, и оставшиеся дни команде пришлось основательно потрудиться.
Двадцать пятого марта Блай распорядился выйти в море. Он приказал:
1. Тотчас отправить на берег всех кошек.
2. Матросам ограничить число сувениров тем, что уместится в рундуках.
3. Обследовать корабль и проверить, нет ли «зайцев».
Настал торжественный миг погрузки саженцев. Когда все горшки встали в заранее приготовленные гнезда, Блай с удовлетворением констатировал, что запасена тысяча пятнадцать саженцев, почти вдвое больше необходимого количества. Те уголки, которые не были заняты рощицами хлебного дерева, отвели под загоны для двадцати пяти свиней и семнадцати коз.
Много дней дурная погода не выпускала Блая, и лишь 4 апреля благоприятный бриз позволил судну выйти из Тоароа. Теина, который до последней минуты оставался на борту вместе со своей супругой, был безутешен; он не без оснований опасался, как бы враги не отняли у него все сокровища, едва скроется за горизонтом его могущественный покровитель. Он может даже поплатиться жизнью за свое коварство и самонадеянность. В полном отчаянии он умолял Блая взять его с собой в Англию. Тот, хоть и раскусил Теину под конец, все же чувствовал себя в какой-то мере ответственным за его жизнь и дал ему два мушкета, два пистолета и по тысяче зарядов на каждое оружие. Слегка воспрянув духом, Теина сел за роскошно накрытый стол Паран и воздал должное яствам. В первый раз он прибыл на борт на баркасе — на баркасе же и вернулся теперь с «Баунти», прижимая к себе последний подарок, корабельных псов Венеру и Вакха.
Долгому пребыванию на Таити подводит итог короткая, но достаточно выразительная запись в судовом журнале: «В пять часов баркас вернулся. Как только он был поднят на борт, мы простились с Отахеите, где нас двадцать три недели принимали с величайшим радушием и угощали лучшими в мире мясом и фруктами».
Глава четвертая Вулкан на горизонте
Да, на Таити людям Блая жилось бесподобно, и все-таки настроение при отъезде вовсе не было подавленным. Ничего удивительного: какими бы завзятыми любителями приключений мы ни были, всем нам после долгого отсутствия приятно вернуться к семье, друзьям, привычной обстановке и забытым радостям; люди на «Баунти» не составляли исключения. «Все были настроены бодро, говорили о доме, прикидывали, много ли времени займет обратный путь и сколько денег причтется на руки», — утверждает боцман Моррисон и добавляет: «Можно было подумать, что мы отчалили не от Таити, а от Ямайки, настолько воображение спешило опередить действительность».
От Таити до так называемых подветренных островов архипелага Общества всего сто морских миль, и уже на следующее утро на горизонте показался самый восточный из них, Хуахине. То ли Блай давно так задумал, то ли его вдруг осенило, но он решил сделать здесь остановку, чтобы повидать старого знакомого — Маи, «благородного дикаря», которого Кук привез в Англию в 1775 году и который поразил двор и все высшее общество своей обходительностью и находчивостью. Через несколько лет Кук привез успевшего разбогатеть Маи на родной остров и даже велел построить ему дом в английском стиле, надеясь, что Маи мало-помалу сумеет открыть глаза своим отсталым сородичам на блага цивилизации и могущество славной английской нации. Двенадцать лет назад Блай помогал Маи устроиться на Хуахине — попятно, ему хотелось знать, что же с ним стало. Увидев в подзорную трубу, что дом Маи исчез, он тотчас заподозрил беду. Двое островитян, которые через несколько часов подошли на пироге к судну, подтвердили его подозрения: зазнайством и привычкой по всякому поводу, да и без повода пускать в ход огнестрельное оружие Маи быстро восстановил против себя островитян и в конце концов отправился на тот свет (как именно, уточнить не удалось) вместе с двумя маори и обезьяной, которые составляли его дворню. Причина для задержки отпала, и еще до захода солнца корабль пошел дальше.
С той самой минуты, как «Баунти» покинул Таити, Блай потребовал, чтобы все несли службу, как положено, и строго следил за дисциплиной. Требование вполне естественное, но после пяти месяцев привольной жизни матросам трудно было сразу вернуться к старому распорядку. Особенно томился Флетчер Крисчен — на Таити он был сам себе господин, а тут ему опять приходилось подчиняться командиру. К тому же еще до отплытия с острова дружба между ними явно начала разлаживаться. Можно только гадать о причине, но не исключено, что Блай в глубине души завидовал беспечному существованию, которое Крисчен вел на берегу.
По привычке Блай подкреплял свои усилия восстановить дисциплину на борту отборной бранью, не скупясь на выражения вроде «подлецы, жулики, сволочи, скоты, мерзкие негодяи», и грозил еще до Торресова пролива «расправиться с половиной команды, а офицеров заставить попрыгать за борт». По словам одного заслуживающего доверия свидетеля, Крисчен и его лучший друг гардемарин Стюарт в конце концов «стали бояться Торресова пролива, как ребенок боится палки».
Довольно кстати некоторое разнообразие в корабельную рутину внес смерч, показавшийся на горизонте 9 апреля. Он шел, казалось, прямо на «Баунти», но стремительно промчался мимо. Тем не менее Блай успел настолько внимательно рассмотреть его, что составил затем лучшее и наиболее полное в морской литературе того времени описание этого редкого и достаточно опасного явления природы. Вот эти меткие, бесстрастные строки: «Насколько я мог судить, поперечник смерча вверху равнялся приблизительно двум футам, внизу — восьми дюймам. Не успел я сделать это наблюдение, как заметил, что он быстро приближается к судну. Мы тотчас изменили курс и убрали все паруса, кроме фока. Вскоре смерч, издавая шуршащий звук, прошел в десяти ярдах за кормой, однако мы при этом ничего не ощутили. По моим расчетам, он двигался со скоростью десяти морских миль в час. Идя на запад, навстречу ветру, смерч через четверть часа исчез. Единственным видимым признаком связи водяного столба, который летел выше наших мачт, и моря под ним был водоворот поперечником около шести ярдов. Из-за спирального движения водоворот образовал глубокую воронку. По окружности его на пятнадцать-двадцать футов вверх косо била вода. На этой высоте фонтан как бы пропадал, и мы не могли разобрать, соединяется ли он с водяным столбом».
А через два дня неожиданно прямо по курсу показался необычный атолл с возвышенностью на коралловом кольце. На всех картах тут было пусто — следовательно, они сделали новое открытие. Забыты были недовольство и раздоры, моряки с волнением высматривали лодки островитян. Однако пирога подошла только на следующий день и в ней, увы, не было ни одной женщины. Четверо гребцов говорили на диалекте, родственном таитянскому, и Блай без труда выяснил, что остров называется Аитутаки. (Это был один из островов Кука; он сохранил свое имя до наших дней). Так как свежего провианта было вдоволь — команда ежедневно получала свинину, бананы и плоды хлебного дерева, — а островитяне казались не очень-то радушными, «Баунти» в тот же вечер пошел дальше.
Затем ничего особенного не происходило до 17 апреля: в этот день Блай решил, что его прямой долг отклониться от курса и проверить, правильно ли указаны координаты открытого Куком острова Севидж, он же Нпуэ. С легким огорчением Блай убедился, что все верно, и взял курс на острова Тонга, где намечалась последняя остановка «Баунти» в Южных морях. Благодаря заботе Нелсона и Брауна все саженцы были в отличном состоянии, и заменять увядшие растения не требовалось. Но из-за растений запасы воды убывали куда быстрее обычного, и не мешало их пополнить. Участие в экспедиции Кука и тут помогло Блаю: он помнил, что на острове Номука есть хороший источник.
Прежде чем корабль дошел туда, Крисчену снова пришлось испытать на себе гнев командира. На сей раз он не стерпел и резко ответил:
— Сэр, вы так меня оскорбляете, что мне служба не в радость. Из-за вас я уже которую неделю сам не свой.
Неизвестно, что на это ответил Блай, но можно догадаться.
Как только «Баунти» вечером 23 апреля бросил якорь в одном из заливов Номукп, корабль окружило множество лодок с плечистыми гребцами, которые сразу узнали Блая. Тщательная проверка показала, что один саженец погиб и еще два-три поникли. Все остальные тысяча двенадцать растений отлично принялись, но ревностный Блай просто не мог привезти на Ямайку меньше растений, чем заготовил на Таити, и на следующее утро он послал Нелсона за свежими побегами. Одновременно предприимчивый Пековер развернул оживленную меновую торговлю с островитянами.
Двадцать пятого апреля пришла очередь Крисчена и помощника штурмана Эльфинстона отправиться на берег. Первый возглавил отряд из одиннадцати человек, которые должны были набрать воду в бочки, второй с четырьмя матросами поехал за дровами. Блай строго-настрого приказал оставить оружие в лодках и применить его только в самом крайнем случае. После сердечного приема на Таити никто не сомневался, что тонганцы окажутся не менее покладистыми и приветливыми, чем родственные им таитяне. Недаром Кук назвал этот архипелаг островами Дружбы!
Увы, очень скоро выяснилось, что жители Номуки нравом сильно отличаются от таитян. Окружив оба отряда, они стали теснить моряков, нахально пытаясь украсть у них не только инструмент, но и одежду. Прежде чем растерявшийся Крисчен успел что-либо предпринять, у него стащили два топора. Когда он доложил о пропаже Блаю, тот желчно заметил, что этого можно было избежать, если бы Крисчен не подпустил островитян вплотную. И как это вооруженный английский офицер позволил запугать себя кучке голых дикарей? Критика была небезосновательная, но Крисчен отпарировал обвинение в трусости, возразив с не меньшим основанием:
— Что толку от оружия, вы же запретили применять его!
Этот довод произвел впечатление на Блая, и на следующий день он послал с отрядом офицера, которому приказал оставаться на баркасе и, коли понадобится, принять решительные меры. Дело как будто несложное, поэтому оно было поручено штурману Фраеру. Однако тот снова опростоволосился: у него из-под носа украли якорь. Справедливости ради следует заметить, что островитяне поступили очень хитро. Двое плескались в воде около баркаса, чтобы замутить ее, а третий тем временем нырнул и перерезал трос. Четвертый тонганец оттягивал трос, чтобы не было слабины, пока его товарищ не скрылся с трофеем. Фраеру надо было попытаться вернуть якорь, но он ограничился тем, что явился на борт и уныло доложил о новой пропаже. Этот растяпа даже попытался успокоить Блая в общем-то верным, но психологически крайне неудачным доводом, что потеря-де невелика, на корабле достаточно якорей.
— Господи, — простонал Блай, — вы считаете потерю невеликой? Для вас, возможно, это и так, для меня же она достаточно велика.
И взбешенный Блай велел задержать на борту всех вождей, которые прибыли в гости, пока не будет возвращен якорь. Но на сей раз этот не очень красивый, зато весьма эффективный прием не возымел действия, так как воры были с соседнего острова и уже вернулись туда с добычей. Узнав об этом, Блай поспешил загладить свой промах: он тотчас отпустил вождей, щедро одарив их. К этому времени запас дров и воды был пополнен, и Блай, не дожидаясь новых неприятностей, в тот же вечер покинул Номуку. Правда, сначала личному составу пришлось выслушать гневную речь, изобиловавшую крепкими выражениями.
Так как Номука был последним на их маршруте полинезийским островом, команда пустила в оборот остатки своих меновых товаров и приобрела огромное количество кокосовых орехов, ямса, фруктов, свиней, палиц, копий и прочих сувениров. Сверх того, было запасено немало свежего провианта для общего котла; в частности, между лафетами высилась гора кокосовых орехов. И отправляясь спать после бурного дня, Блай велел вахтенным приглядывать за ними.
Тем не менее, когда командир утром вышел на палубу, ему показалось, что орехов вроде бы стало меньше. Он обратился к штурману:
— Мистер Фраер, вам не кажется, что вчера здесь было больше орехов?
Фраер осторожно согласился, что куча и впрямь не достает до кромки фальшборта, как накануне. Одновременно он высказал предположение, что матросы могли сложить орехи поплотнее, чтобы освободить место. Но Блай вбил себе в голову, что несколько орехов украдено. А командир «Баунти», как мы уже убедились, отнюдь не относился к тем людям, к которым применимо избитое выражение «онемел от ярости». Напротив, когда у него портилось настроение, он становился чрезвычайно разговорчив, и на этот раз его бранчливость достигла новых, еще невиданных высот. Решив почему-то, что в краже повинен Флетчер Крисчен, Блай бросился к нему и заорал:
— Черт тебя подери, ты украл мои орехи!
— Совершенно верно, — признался Крисчен, — я хотел пить. Думал, что никакой беды не случится. Но я взял только один орех и уверен, что больше их никто не трогал.
— Врешь, мерзавец, ты украл половину орехов!
Крисчен обиделся и возмутился.
— За что вы так со мной обращаетесь, мистер Блай? — спросил он.
— Молчать! — взревел Блай и поднес кулак ему к носу. — Подлый вор, вот ты кто!
Дальше командир опросил всех младших офицеров, не видели ли они, кто брал орехи. Нет, никто но видел.
— Значит, вы сами их взяли! — язвительно заключил Блай.
Исполненный решимости разоблачить злодеев, он велел всем принести свои личные запасы. И когда орехи были извлечены из трюмов, каждый должен был ответить:
а) сколько орехов он купил для себя,
б) сколько орехов успел съесть.
Когда подошла очередь Крисчена, он угрюмо буркнул:
— Не знаю, сэр, но я надеюсь, что вы не считаете меня настолько жадным, чтобы я стал красть у вас.
— Вот именно, собака, считаю! — взорвался Блай. — Это ты их украл, потому и не знаешь теперь, что ответить!
Взбешенный тем, что ничего не удалось выяснить, Блай на всякий случай отчитал всю команду, причем посоветовал матросам присматривать за офицерами, а офицерам — за матросами.
Затем он позвал своего писаря Сэмюэля и распорядился всех лишить рома, а также уменьшить паек ямса с полутора до трех четвертей фунта. По неподтвержденным данным, он заодно конфисковал все кокосовые орехи.
Конечно, у Блая были причины гневаться на своих нерасторопных младших офицеров, и вполне можно сказать, что случай с орехами был просто-напросто каплей, переполнившей чашу. И все-таки он перегнул палку: назначить коллективное наказание за такой мелкий проступок (может, и впрямь пропал только один орех, который взял Крисчен) было в высшей степени неразумно. «Джентльмены» особенно возмутились и решили выразить свое недовольство тем, что отказались впредь обедать с Блаем.
В тот же день между командиром и Крисченом произошло еще одно столкновение, причины которого мы не знаем. Так или иначе, у Крисчена были слезы на глазах, когда он случайно встретил заклятого врага Блая, Перселла.
— В чем дело, мистер Крисчен? — спросил тот с попятным участием.
— И вы еще спрашиваете, хотя видите, как со мной обращаются?!
— Будто со мной обращаются лучше!
Крисчен вздохнул.
— У вас есть защита, — Крисчен подразумевал должность Перселла, которая ограждала его от телесных наказаний, — вы можете ему отвечать, но, если я позволю себе говорить с ним, как вы, он разжалует меня в матросы да еще велит дать плетей. А тогда ни ему, ни мне больше не жить, потому что я схвачу его и прыгну с ним за борт.
— Плюньте на все, осталось недолго терпеть! — утешал его Перселл.
Но Крисчен словно не слышал.
— Я уверен, когда мы войдем в Торресов пролив, наш корабль превратится в ад, — с горечью сказал он. — Лучше десять тысяч раз умереть, чем сносить такое обращение. Я всегда выполняю свой долг, как надлежит офицеру и мужчине, а меня только унижают. Пет, с этим нельзя больше мириться.
Боцман Коул, который подошел в эту минуту, попытался подбодрить Крисчена, заставить его позабыть о случившемся. Но Крисчен, не дорожа собственным достоинством, на все отвечал:
— Я не могу терпеть, когда меня считают вором.
К невыразимому удивлению Флетчера Крисчена, Блай немного погодя велел передать, что приглашает его обедать. Видимо, командир пожалел о своем поступке и решил помириться. Но он плохо знал Крисчена и не представлял себе, насколько тот возмущен и оскорблен. Возможно, толстокожий Блай даже подумал, что Флетчер Крисчен уже все позабыл. Так или иначе, тот наотрез отказался. Зато гардемарин Хейворд, стремясь выслужиться перед командиром, бессовестно нарушил соглашение, к которому только что присоединился.
Осуждая Уильяма Блая за то, что он потерял голову в этот злополучный день 27 апреля 1789 года, мы обязаны сказать, что и Флетчер Крисчен забыл чувство меры. Конечно, его жестоко оскорбили, но ведь он знал в глубине души, чего стоят вспышки Блая, к тому же он мог утешать себя тем, что все остальные сочувствуют ему. Однако, вместо того чтобы забыть об этой истории, Крисчен все больше растравлял себе душу. Мысль о том, что пройдет не один месяц, прежде чем «Баунти» доберется до Англии, и Блай, несомненно, еще не раз оскорбит его, казалась ему невыносимой. Мало-помалу Крисченом овладела навязчивая идея: любой ценой вырваться из «этой тюрьмы». Наконец он решил, что выход найден. Пройдя на нос, Крисчен принялся рвать какие-то бумаги, приговаривая, что «никто не прочтет моих писем». Потом раздал все свои сувениры с Таити. На вопрос встревоженных друзей, что он задумал, Крисчен признался, что хочет ночью бежать на плоту! Он и в самом деле смастерил из досок и жердей нечто совсем не плавучее. Тут лишний раз подтвердилось, что все были за Крисчена: никто не сказал командиру о его нелепой затее. А Перселл даже снабдил Крисчена гвоздями.
Несмотря на то что рассудок его слегка помрачился, Крисчен не стал прыгать за борт, как только плот был готов, а решил подождать до следующего острова. Кстати, «Баунти» уже приближался к нему. Остров этот назывался Тофуа и представлял собой макушку вулкана, который ночью озарял небо блеском раскаленной лавы. К счастью или к несчастью, ветер стих, и появилось сомнение, успеет ли «Баунти» до рассвета подойти к Тофуа.
Первой вахтой командовал Фраер. С вечера моросил дождь, но около десяти прояснилось, и слабый свет молодого месяца упал на притихшее темное море, по которому катились ленивые валы. По заведенному порядку, на палубу вышел Блай, чтобы отдать распоряжения на ночь. Видно, Фраер в тот вечер был в хорошем настроении, ибо он вдруг обратился к своему начальнику с такой учтивой фразой:
— Сэр, ветер попутный, луна в первой четверти. Наверно, мы придем к Большому Барьерному рифу как раз в полнолуние.
Блай приветливо кивнул:
— Да-да, мистер Фраер, все будет в порядке.
Распорядившись, Блай через кормовой люк спустился к себе. Он не запирал дверь каюты, чтобы вахтенный офицер мог сразу вызвать его в случае надобности. А так как ночь выдалась очень теплая, он даже распахнул дверь настежь.
В полночь на вахту заступил Пековер. Ветра почти не было, а до Тофуа оставалось больше двадцати морских миль, и Крисчен с каждой минутой становился все нетерпеливее. В половине четвертого он окончательно потерял надежду, что ему удастся бежать этой ночью, спустился в каюту и уныло лег на свою койку. В душе у него бушевал вулкан, давно копившаяся ненависть к Блаю грозила прорваться наружу, словно лава из кратера на Тофуа.
Глава пятая 28 апреля 1789 года
Около четырех часов утра гардемарин Стюарт, который нес вахту под начальством Пековера, пошел вниз будить Крисчена и убедился, что тот за всю ночь глаз не сомкнул и вообще «не в себе». Стюарт был лучшим другом Крисчена на борту, он попытался успокоить своего старшего товарища, уговорить его отказаться от нелепого побега, напомнил ему, что есть множество других, гораздо лучших способов взять реванш. При этом гардемарин неосторожно заметил, что выходки Блая всем осточертели, люди, «готовы на все». По другой версии, он будто бы сказал напрямик:
— Ты только начни, Крисчен, мы на все готовы.
Эти слова еще звучали в ушах Крисчена, когда он поднялся на палубу и принял вахту у добродушного, несколько флегматичного Пековера, который тотчас пошел спать. Крисчен расставил свою восьмерку по местам: одного к штурвалу, второго на пост впередсмотрящего, остальные следили за парусами. В его распоряжении были также два гардемарина — Хейворд и Хеллет. Честолюбивый Хейворд мечтал сделать карьеру, однако частенько допускал грубые промахи; это в его вахту 5 января на Таити трое бежали, за что он и просидел в кандалах целый месяц. Казалось бы, надо постараться безупречной службой вернуть себе доверие начальника. И Хейворд не жалел усилий, добиваясь расположения Блая, но беднягу почему-то непрестанно клонило ко сну. Так и теперь — едва заступив на вахту, он нашел себе тихий уголок, свернулся калачиком и уснул. Второй гардемарин, Хеллет, вообще не явился.
При обычных условиях Крисчен, наверно, живо вызвал бы Хеллета и разбудил Хейворда. (Или без Блая все несли вахту с прохладцей?) Но одержимый ненавистью Флетчер Крисчен думал лишь о том, как положить конец унижениям. Слова Стюарта подсказали ему новую мысль: не лучше ли овладеть кораблем, вместо того чтобы постыдно бежать? Крисчен понимал, что Хейворд и Хеллет относятся к числу немногих на борту, кто при всех обстоятельствах останется верным Блаю.
Их отсутствие он готов был считать добрым признаком, если не перстом судьбы. Вероятно, еще кое-кто из младших командиров будет за Блая, но большинство команды — Крисчен не сомневался в этом — поддержит его.
Первый шаг Крисчена был в высшей степени театральным и яснее ясного показывает, до какого отчаяния он дошел в это роковое утро 28 апреля 1789 года. Словно какой-нибудь тенор — герой из немецкой оперы, он повесил на грудь под рубаху свинцовый груз: если дело сорвется, он не дастся живым, прыгнет за борт, и свинец увлечет его ко дну! Как поступить, если бунт увенчается успехом, — этот вопрос пока не занимал Крисчена.
Нельзя, однако, сказать, чтобы он действовал вовсе уж непродуманно: его вторым шагом было отделить друг от друга вахтенных, чтобы без свидетелей поговорить с каждым в отдельности. Повод найти было нетрудно, часы показывали пять — время драить палубу. Вахтенные принялись без особенного рвения убирать с дороги канаты и прочие предметы, а Крисчен подошел к Айзеку Мартину, единственному американцу на борту. Думаю, он начал «вербовку» с Мартина не потому, что тот был американцем; на Таити этот матрос заработал плеток и, следовательно, вряд ли питал теплые чувства к Блаю. Мартин внимательно выслушал неожиданное предложение своего вахтенного начальника — и решительно отказался участвовать в каком-либо бунте! Он не поддался даже, когда Крисчен показал ему свинцовый груз, который повесил себе на шею, и обвинил Мартина в трусости.
Флетчер Крисчен очутился в крайне затруднительном положении. Подстрекательство к бунту было уже само по себе серьезным преступлением. Стоило Мартину донести, и Крисчену не миновать бы виселицы. К счастью для него, Мартин был в меру лоялен и в конце концов посоветовал Крисчену переговорить с Кинталом — тот был на борту одним из самых отпетых и тоже отведал кошки. Кинтал восторженно отнесся к планам Крисчспа и вызвался привести мощное подкрепление — капрала Черчилля, который был свободен от вахты и спал в кубрике. Человек самоуверенный и вспыльчивый, Черчилль со времени своего неудачного побега (за который он получил две дюжины плетей) возненавидел Блая. Крисчен принял предложение Кинтала, и Черчилль тут же примчался вместе со своим верным приятелем Томпсоном. Идея Крисчена сразу увлекла его, и он с ходу надавал кучу более пли менее цепных советов, после чего вернулся в кубрик уговаривать других. Крисчен продолжал обрабатывать свою вахту, и все, к кому бы он ни обратился, были готовы помочь захватить корабль. Лишь в плотнике Нормане он не был уверен, а потому не стал посвящать его в свои планы. К счастью, Норман в эти минуты весь ушел в созерцание акулы, которая шла за судном, и не замечал, что происходит вокруг.
Вскоре Черчилль доложил Крисчену, что все матросы в кубрике, а также садовник Браун согласны бунтовать. Чтобы победить, заговорщики должны были немедленно взять в плен не только Блая, по и тех младших командиров, которые могли его поддержать, — итого человек десять. Для этого требовалось оружие, а все мушкеты, пистолеты и сабли хранились в деревянном сундуке, который стоял в дальнем конце кубрика, где помещались койки пятерых гардемаринов, юного Тинклера, помощника штурмана Эльфинстона и Флетчера Крисчена. Ключи от сундука были доверены Фраеру, но он отдал их оружейнику Коулмену, чтобы его не беспокоили всякий раз, когда кому-нибудь понадобится мушкет или сабля. Крисчен преспокойно разбудил Коулмена и попросил у него ключ от сундука — дескать, нужен мушкет, чтобы застрелить акулу, замеченную Норманом. Видно, Коулмена не первый раз будили такими просьбами: он безропотно отдал ключ.
Опасаясь, как бы помощник штурмана и гардемарины не проснулись прежде времени, бунтовщики тихонько подкрались к сундуку. И решили, что все пропало: прямо на сундуке безмятежно спал недостающий вахтенный, гардемарин Хеллет, который обнаружил, что в жаркие ночи на сундуке хоть и тверже, чем на койке, зато куда прохладнее. После минутного замешательства Крисчен разбудил Хеллета и строго спросил, какого дьявола и так далее он очутился тут и так далее. Перепуганный насмерть Хеллет выскочил на палубу, причем со страха даже не задумался, почему Крисчена сопровождало столько народу, в том числе матросы, свободные от вахты. Прежде чем Эльфинстон и гардемарины поняли, что происходит, бунтовщики уже вскрыли сундук и извлекли из него полтора десятка мушкетов. Томпсон остался охранять сундук, а Крисчен и Черчилль поспешили вооружить своих приверженцев, которые ждали их возле трапа. Даже Айзек Мартин решился наконец и взял мушкет.
Каюты Блая и штурмана Фраера находились рядом с оранжереей. Под ними, палубой ниже размещались самые доверенные люди Блая — канонир Пековер, ботаник Нелсон, врач Ледуорд и писарь Сэмюэль; их тоже надо было арестовать. Единственный трап, который вел в эту часть судна, находился за грот-мачтой. Словом, захват корабля не представлял собой сложной стратегической задачи, нужно было только заранее обезвредить гардемаринов Хейворда и Хеллета, а также младшего плотника Нормана и нескольких не посвященных в заговор матросов, не дать им предупредить Блая и его приверженцев.
Не тратя времени на то, чтобы разбудить тех, кто еще спал крепким сном на своих койках, бунтовщики выскочили через люк на палубу. Только что пробило три склянки (иначе говоря, была половина шестого), и уже совсем рассвело. На палубе все оставалось по-прежнему, если не считать внезапного появления трех членов команды, не входивших в вахту Крисчена. Кок Холл и его помощник Маспретт поднялись нарубить дров для завтрака, за ними явился скрипач Бирн, недовольный тем, что они шумят спозаранок. Вахтенных же ничто не обеспокоило. Рулевой Эллисон и впередсмотрящий Милз как ни в чем не бывало оставались на своих постах; Норман по-прежнему был занят акулой. Хейворд наконец поборол сон, но и он увлекся созерцанием акульего эскорта. Хеллет тоже нашел себе занятие — наблюдал за матросом, который, не торопясь, ощипывал кур для офицерского стола. Как и Хейворд, Хеллет не задумывался над тем, куда подевалась половина вахтенных.
Однако появление вооруженных людей в конце концов расшевелило туго соображающий мозг Хейворда, и он с недоумением спросил:
— Что это вы, упражняться в такую рань?
— Ну да. Не знаю уж, с какой стати капитан приказал с восходом солнца провести учение, — не растерялся Черчилль.
Хейворд заподозрил неладное, но тут появился Крисчен с саблей в руке и внес полную ясность, строго приказав обоим гардемаринам помалкивать и не сходить с места. Затем он отобрал двоих матросов и удостоил их чести спуститься с ним вниз и арестовать Блая. Этими двумя были, как и следовало ожидать, его главный помощник Черчилль и Томас Беркетт, который участвовал в сборе саженцев под начальством Крисчена и был всей душой предан ему. Кинталу и Самнеру Крисчен велел заняться Фраером, Алеку Смиту — охранять трап за грот-мачтой.
В ночной рубашке и колпаке Блай спал сном праведника, когда в открытую дверь вошли Крисчен и его оруженосцы.
— Мистер Блай, вы мой пленник, — торжественно возвестил Крисчен.
Блай тотчас проснулся и завопил «караул». Он продолжал кричать и после того, как Крисчен приставил саблю ему к глотке. А так как можно было не опасаться, что кто-нибудь из младших офицеров придет на помощь начальнику, и Крисчен вовсе не хотел убивать своего командира, он позволил ему орать. Вот связать беспокойного пленника не мешало бы… Тут выяснилось, что никто из мятежников не догадался сразу захватить веревку, и Черчилль несколько минут упражнялся в красноречии, прежде чем караульный у люка догадался отрезать кусок от линя и бросить его вниз.
Задача Самнера и Кинтала оказалась несравненно проще: когда они разбудили Фраера, который из-за духоты устроился спать на своем рундуке, штурман с испугу забыл, что у него под рукой лежат два пистолета. Не успел он опомниться, как явился вездесущий Черчилль и забрал оружие. Правда, большой роли это не играло, ведь, как потом утверждал Фраер, пистолеты не были заряжены. Самнер и Кинтал отлично знали, что штурман не любил Блая, и обращались с ним довольно любезно. Но когда Фраер решил воззвать к их совести, из этого ничего не вышло. С командиром бунтовщики не церемонились. Причина их гнева особенно ясно видна из ответа Самнера на вопрос Фраера, что они собираются делать с Блаем:
— Посадим этого мерзавца, будь он проклят, в лодку и пусть плывет, посмотрим, сможет ли он прожить на три четверти фунта ямса в день!
Крики Блая разбудили ботаника Нелсона, и он побежал вверх по трапу проверить, в чем дело. Самнер и Кинтал, охранявшие Фраера, грубо толкнули ботаника обратно вниз, сказав ему, что на судне бунт. Из своей каюты выскочил Пековер. Нелсон сообщил ему, что корабль захвачен, на что Пековер удивленно возразил:
— Но ведь мы были еще далеко от берега, когда я сдавал вахту.
Нелсон терпеливо объяснил, что кровожадные дикари с островов Тонга ни при чем, судно захватил ближайший помощник Блая Крисчен. Тут Пековер хотел подняться на палубу, однако бунтовщики были начеку и преградили ему путь саблями. Обескураженные таким отпором, Нелсон и Пековер сели и принялись уныло размышлять, как бы отвоевать корабль.
Тем временем Блая, связав ему руки на спине, вывели на палубу и поставили у бизань-мачты. Ему бы подумать о своем положении, он же первым делом заметил, что рулевой Эллисон оставил свой пост, и по привычке принялся выговаривать ему. Эллисон раньше плавал с Блаем, на «Баунти» попал по рекомендации Данкена Кемпбелла, поэтому он до той минуты держался в стороне от бунта. Но полученный в такую минуту нагоняй до того его разозлил, что он не только вооружился саблей, но и сам вызвался сторожить Блая. Зато второй караульный, американец Айзек Мартин, уже жалел, что примкнул к мятежникам. Он дал пленнику дольку апельсина и вообще обращался с ним так милостиво, что Крисчен заменил его.
Кричать «караул» было бесполезно, но и молчать Блай не мог. С великим красноречием он принялся увещевать бунтовщиков и пугать их жестокой карой, если они не одумаются. Крисчен не мог мириться с подобной кампанией неповиновения, он схватил саблю, пощекотал ею живот Блая и рявкнул:
— Маму, сэр! Ни слова больше, если вам дорога жизнь!
Видимо, Блай прочел грозную решимость в глазах Крисчена, потому что он на время примолк. Источники подчеркивают, что на этой стадии бунта Крисчен был очень взвинчен и неуравновешен; его пылающий взгляд, всклокоченные волосы и искаженное лицо врезались в память многим очевидцам.
Слово маму, которое употребил Крисчен, — одно из многих таитянских выражений, бывших в ходу на «Баунти» долго после того, как корабль покинул Таити. Любители психоанализа, несомненно, сочтут весьма примечательным, что Крисчен в этот напряженный миг употребил таитянское слово, и станут утверждать, что за этим крылось неосознанное глубокое желание вернуться на Таити. Но ведь для такого вывода не надо быть психоаналитиком.
В чем заключался первоначальный план Крисчена, одобренный мятежниками до того, как они вооружились? Возможно скорее и без кровопролития избавиться от Блая и его наиболее ненавистных помощников, высадив их на ближайшем острове, а затем идти обратно на Таити и там отпустить тех, кто не участвовал в мятеже. (В душе Флетчер Крисчен, конечно, надеялся, что все присоединятся к нему). Сам же Крисчен и его сподвижники условились обосноваться на каком-нибудь уединенном, труднодоступном полинезийском острове, где можно жить беспечно, как на Таити.
Помимо Блая особой нелюбовью мятежников пользовались, как ни странно, оба сонливых гардемарина — Хейворд и Хеллет, а также (что легче понять) писарь Сэмюэль, на чью долю выпала неблагодарная роль эконома. Чтобы свезти эту компанию на берег, было достаточно пятиметровой шлюпки. Блай, Хейворд и Хеллет были уже на палубе, недоставало только Сэмюэля, и Крисчен послал за ним. Одновременно Черчилль, который с самого начала проявлял немалую инициативу, велел ловцу акул Норману и дровоколу Маспретту выгрузить из шлюпки сложенный там ямс.
Немногим уступавший ему в предприимчивости Кинтал с опозданием вспомнил, что в носовых каютах остались двое, которых забыли разбудить. По собственному почину он немедля спустился туда и обрадовал боцмана Коула и плотника Перселла, изложив нм корабельные новости:
— Поднимайтесь на палубу, мы подняли бунт и захватили корабль. Мистер Крисчен взял командование на себя, капитан арестован. Сопротивляться бессмысленно, а если попробуете, вам конец.
Не веря своим ушам, Коул и Перселл вместе с парусным мастером Лебогом, который спал у трапа, вышли на палубу. Убедившись, что Кинтал сказал правду, они тотчас спустились в кубрик и просветили шестерых членов команды, которые, как ни удивительно, до сих пор лежали на своих койках — то ли они еще спали, то ли совсем растерялись. Это были старшины Симпсон и Линклеттер, слуга Блая Смит, матрос Миллуорд, младший плотник Макинтош и младший боцман Моррисон. Видимо, бдительность бунтовщиков в это время ослабла, потому что одновременно помощник штурмана Эльфинстон, гардемарины Янг, Стюарт, Хейворд и юнга Тинклер сумели улизнуть от своих вооруженных охранников. А может быть, те просто отпустили их. Изо всех этих людей один гардемарин Янг сразу присоединился к мятежникам. Должно быть, и его толкнуло на это злополучное сокращение рациона ямса, если судить по следующему диалогу:
— Это не шуточное дело, мистер Янг, — сказал Блай, увидев вооруженного гардемарина.
— Совершенно верно, сэр, голодать — дело нешуточное, — отрезал Янг. — Сегодня у меня есть надежда поесть досыта!
В эти минуты на палубах и в кубрике оставалось не меньше пятнадцати верных Блаю людей, и большинство из них были свободны. Мятежников насчитывалось примерно столько же, и они вооружились, но бдительность и дисциплина оставляли желать лучшего, так что лоялисты, наверно, могли бы подавить бунт, будь у них решительный и смелый руководитель. Помощник штурмана Эльфинстон и боцман Коул — вот, казалось бы, главные кандидаты на такую роль. Что предпринимал Эльфинстон, неизвестно — скорее всего потому, что он вообще ничего не предпринимал. А Коул до того растерялся, что решил пойти к арестованному Фраеру и посоветоваться с ним, причем мятежники даже не помешали ему. Фраер ответил Коулу, что остается на борту, хочет попытаться отбить корабль, и посоветовал ему быть наготове и ждать удобной минуты. Вполне удовлетворенный этим ответом, Коул вернулся на верхнюю палубу и вместе со своими товарищами, такими же тугодумами, стал ждать, как дальше развернутся события.
Сохранилось авторитетное свидетельство младшего боцмана Джемса Моррисона, который, кстати, сам опешил не меньше других. Он говорит: «Офицеры вели себя так трусливо, что дальше некуда. Никто не сделал даже малейшей попытки отстоять судно, а ведь это было совсем нетрудно, так как многие из мятежников колебались… Они (офицеры) так покорно выполняли приказы мистера Крисчена, что он сам был этим удивлен и, как только лодка ушла, сказал, что один страх не мог бы заставить их вот так, без сопротивления, уступить и покинуть корабль, наверно, было что-то еще».
Правда, Фраер задумал один шаг, который ему самому ничем не грозил. Он уже несколько раз передавал Крисчену просьбу, чтобы его выпустили на палубу. Сперва тот категорически отказывал, но потом смилостивился. Фраер вышел из люка в тот миг, когда Крисчен снова взялся за саблю, чтобы раз и навсегда усмирить своего не в меру разговорчивого пленника. Тот же Моррисон сообщает, что глаза Крисчена пылали ненавистью.
— Мистер Крисчен, одумайтесь! — воззвал к нему Фраер.
— Заткнитесь, сэр! — крикнул тот в ответ. — Последние недели были для меня кромешным адом. Вам отлично известно, мистер Фраер, Блай сам накликал на себя беду.
Фраер, как задумал, решил выступить в роли посредника и горячо заговорил:
— Если вы и мистер Блай не ладите, это еще не основание захватывать корабль! Послушайте, мистер Крисчен, у нас с вами все время были хорошие отношения, дайте мне сказать несколько слов. Позвольте мистеру Блаю возвратиться в свою каюту, и я уверен, что мы вскоре опять все будем друзьями.
— Молчите, если вам жизнь дорога! Я уже сказал, что теперь поздно, — отрезал Крисчен.
Тут Фраер предложил нечто совсем несусветное: пусть Крисчен возьмет командование на себя, приведет по заданному маршруту корабль в Англию, держа Блая под арестом, а там военный трибунал их рассудит. По Крисчен не был так наивен, чтобы верить, что суд оправдает мятежников, даже если Блай будет признан виновным, не говоря уже о том, что все бунтовщики восстали бы против такой затеи. И он ответил, что, если Фраеру больше нечего сказать, он может с таким же успехом отправляться обратно в свою каюту. Фраер стал уговаривать Крисчена, чтобы тот хоть дал Блаю лодку побольше, однако его красноречие пропало даром.
Итак, посредничество Фраера потерпело крах, но в общей сумятице штурман ухитрился приблизиться к Блаю и шепотом сообщить тому о своем намерении остаться на борту и отбить корабль, чтобы потом вернуться и забрать командира, а также тех, кого мятежники вместе с ним посадят в шлюпку. Блай, как сообщает Фраер, назвал этот замысел превосходным, но это (опять-таки по свидетельству Фраера) не помешало капитану тут же предложить нечто совсем иное, гораздо более соответствующее его психологии и нраву: Блай посоветовал Фраеру сбить с ног Крисчена, чтобы лоялисты могли воспользоваться замешательством, которое непременно последует. Флетчер Крисчен, очевидно, расслышал слова Блая и поверил, что Фраер и впрямь наделен отвагой льва. Он подошел вплотную к штурману ц, грозя ему саблей, учтиво произнес:
— Еще один шаг, сэр, и я заколю вас.
После этого Фраера увели в его каюту.
Пока у бизань-мачты шел этот странный разговор, мятежники успели спустить на воду шлюпку. Верный Блаю ловец акул плотник Норман поспешил прыгнуть в псе, чтобы подчеркнуть свою преданность, однако был вынужден тут же лезть обратно на корабль, ибо шлюпка настолько прогнила, что сразу стала тонуть. Гардемарины Хейворд и Хеллет, испуганные мыслью о том, что им грозит, если их посадят в это сито, взмолились, чтобы Крисчен дал взамен исправный шестиметровый катер. Бунтовщики заспорили между собой. Один яростно кричали, что «хватит и шлюпки», другие требовали тут же прикончить Блая и гардемаринов, подкрепляя свои слова угрожающими жестами в сторону своего бывшего начальника, который по-прежнему был привязан к бизань-мачте. Заклятый враг Блая, Перселл, хотя и назвался лоялистом, с явным злорадством смотрел на это представление, но Крисчен не разделял его удовольствия и, уступая голосу совести, в конце концов неохотно велел поднять шлюпку, а взамен спустить катер, освободив его от ямса и кокосовых орехов.
Спуск на воду катера требовал больших усилий, а также применения талей и тросов. И Крисчен, подозвав плотников и боцманов, которые по привычке наблюдали за этим маневром, велел им подсобить. Они беспрекословно подчинились. Вскоре катер закачался на волнах возле борта «Баунти»; на сей раз первым, ко всеобщему удивлению, прыгнул в лодку полуслепой музыкант Бирн.
Спеша поскорее закончить эту неприятную сцену, Крисчен сказал Хейворду, Хеллету и Сэмюэлю, чтобы они живо забирали одежду и провиант и спускались в катер.
— Это почему же, мистер Крисчен? — спросил Хейворд со слезами на глазах. — Что я вам сделал дурного, за что такая жестокость? Неужели вы всерьез!..
— Да, неужели?.. — подхватил Хеллет всхлипывая.
Крисчен быстро втолковал пм, что и не думал шутить, после чего оба гардемарина, тщетно силясь унять дрожь в коленях, пошли вниз собирать свои пожитки.
Большинство команды успело к этому времени хорошенько поразмыслить. Для Крисчена и его сподвижников все было решено с самого начала; даже если бы они теперь раскаялись и сложили оружие, их ожидала за мятеж строгая кара, а именно виселица. Но больше половины людей отказались присоединиться к бунтовщикам. Однако этого было мало, они не могли и впредь оставаться сторонними наблюдателями, если хотел считаться юридически невиновными. Строгие морские законы не допускали нейтралитета во время бунта; кто не подтверждал недвусмысленно свою верность командиру, карался наравне с мятежниками. У Коула и других был один способ доказать свою лояльность — покинуть корабль вместе с Блаем. Они уже поняли это, кокогда Хейворд, Хеллет и Сэмюэль снова поднялись на палубу, почти все, кто до сих пор держался нейтрально, заявили, что тоже уйдут на катере. Они стали умолят Крисчена, чтобы им дали самую большую лодку — семиметровый баркас, так как катер вмещал только десять человек. Хейворд и Хеллет, понятно, присоединились к этой просьбе, и даже Блай послал ходатаев к Крисчену. Решили дело слова Перселла. Он заявил Крисчену, что посадить всех лоялистов в катер — все равно что убить их, и вызывающе добавил:
— Я не совершил ничего постыдного и хочу вернуться на родину.
Стрела попала в цель: Крисчен уже сожалел о свое скороспелой затее, а тут еще это новое, непредвиденно затруднение. И так как он хотел избежать жертв, ем оставалось только уступить. В третий раз на протяжении одного часа Крисчен пошел на попятный, и Коу с помощниками, заметно повеселев, принялись спускать на воду баркас.
Едва он лег на воду, как лоялисты с разрешения Крисчена отправились собирать свое личное имущество. Только Блаю пришлось остаться — Крисчен предпочитал не спускать с него глаз и велел его слуге Джону Смиту принести хозяину камзол и брюки. Смит мигом исполнил приказ и помог Блаю одеться, а так как у того были связаны руки, камзол накинул на плечи. То же Смит ведал личным погребком командира, поэтому Крисчен приказал ему откупорить бутылку рома и налил мятежникам по чарке, чтобы отпраздновать победу. Лоялистам, понятно, рома не досталось, но в общем-т Крисчен был очень покладист и снисходителен и позволил нм забрать чуть ли не все, что они хотели. Все предприимчивее оказался писарь Сэмюэль: несмотря на охрану, он заскочил в каюту Блая и взял там его офицерский патент, а также судовой журнал. Правда, личные дневники Блая, таитянский словарик, и чертежи карт ему не дали унести; и эти драгоценные документы пропали. Боцман Коул захватил компас, а Перселл но спеша отобрал ведро гвоздей. Вообще лоялисты не торопились со сборами, так что горячие головы Черчилль и Кинтал вслух поругивали Крисчена за снисходительность и подгоняли отбывающих.
Только без четверти восемь Крисчен, явно подавленный и колеблющийся, собрался наконец с духом и велел лоялистам занимать места в баркасе. Первыми, как и следовало ожидать, выдворили с корабля Хейворда, Хеллета и Сэмюэля, которые снискали общую нелюбовь. По той же причине вид у обоих гардемаринов был испуганный и жалкий. Затем настал черед Фраера. Охрана проводила его до самого борта; здесь штурман сказал Крисчену:
— Я останусь с вами, если вы дозволите.
— Нет, сэр, — строго ответил Крисчен, — спускайтесь тотчас в лодку.
Фраер сделал еще одну попытку:
— Лучше оставьте меня, мистер Крисчен, ведь вам самим не справиться с кораблем.
— Мы отлично обойдемся без вас, мистер Фраер, — прозвучал холодный ответ.
Вполне возможно, что Фраер, как он потом утверждал, хотел остаться лишь для того, чтобы попробовать отбить корабль, но, если часом раньше этот план еще был осуществим, теперь он потерял всякий смысл: водь все лоялисты, которые могли поддержать штурмана, решили покинуть «Баунти». Видимо, Блай тоже этого не учел, а может быть, ему просто не хотелось брать с собой штурмана; так или иначе, он вдруг повернулся к Фраеру и приказал ему оставаться на корабле. Крисчен вспылил, снова схватился за саблю и рявкнул:
— Богом заклинаю, сэр, спускайтесь в лодку, пока я вас не заколол.
И Фраер наконец покорился, но сперва он добился от удивительно терпеливого Крисчена, чтобы тот отпустил с ним юного Тинклера и разрешил взять кое-какие предметы личного обихода.
Обитатели нижних кормовых кают — канонир Пековер, ботаник Нелсон и лекарь Ледуорд — были выведены на палубу одновременно с Фраером, но их не выпроваживали силой на баркас, им предложили самим сделать выбор. Крисчен не ошибался, когда предполагал, что они останутся верны Блаю. Пока они раздумывали, человек пять-шесть уже спустились в баркас, и в том числе, всем на удивление, матрос Лемб и Айзек Мартин, который тоже поначалу был заодно с бунтовщиками и даже вооружился мушкетом. Заметив Мартина, Черчилль пришел в ярость и, угрожая «предателю» оружием, велел ему возвращаться на «Баунти». Лемба он почему-то оставил в покое. Одновременно Кинтал с его недремлющим оком обнаружил, что Перселл нахально тащит с собой весь свой инструмент, и предостерегающе крикнул:
— Черт возьми, если мы им позволим взять все это, они за месяц построят себе новый корабль!
Крисчен не стал вмешиваться, а Перселл, как всегда, упрямо стоял на своем. После долгой перепалки с Черчиллем он нехотя кое-что вернул, но в конечном счете взял-таки противника измором и спустил в баркас свой драгоценный ящик.
Баркас глубоко сидел в воде, а лоялисты все шли и шли; наконец Блай, все еще ожидавший своей очереди, озабоченно воззвал к ним:
— Всем места не хватит, ребята, не перегружайте баркас. Кому-то придется остаться, но вы не бойтесь, я оправдаю вас, если только доберусь до Англии.
Тут Крисчен забеспокоился, как бы его не бросили все специалисты. В итоге плотника Нормана и оружейника Коулмена не пустили на баркас. Проверяя, не улизнул ли еще какой-нибудь нужный человек, Крисчен остановил взгляд на плотнике Макинтоше и приказал ему вернуться на судно. А более квалифицированного Перселла он не тронул; не иначе, решил отомстить Блаю — пусть сам возится с этим скандалистом. Люди Крисчена настояли на том, чтобы был задержан полуслепой скрипач Бирн, — это было тем проще сделать, что бедняга все еще сидел в катере, не подозревая, что остальные погрузились на баркас.
Среди задержанных против своей волн оказались также гардемарины Джордж Стюарт и Питер Хейвуд. Как ни дружил Стюарт с Крисченом, дом, родители и карьера были ему дороже, и он решил остаться верным командиру. Что до его семнадцатилетнего товарища Хейвуда, то с ним дело обстояло и проще и сложнее. Он откровенно боялся погибнуть, очутившись среди океана в открытой лодке, а потому до последней минуты не мог ни на что решиться. Когда Крисчен начал отбирать для себя людей, неугомонный Черчилль подошел к стоявшему у фальшборта гардемарину и насмешливо спросил:
— Ну, а вы что надумали, мистер Хейвуд?
Хейвуд осторожно ответил, что Черчилль ошибается, если причисляет его к сторонникам мятежа. И тут же с простодушной откровенностью добавил, что предпочел бы остаться на «Баунти». Стюарт, который шел в кубрик за своим имуществом, случайно услышал слова Хейвуда и обратился к нему:
— Брось, Питер! Если ты останешься, тебя будут считать мятежником, хоть ты и непричастен к бунту. Пошли-ка со мной, заберем самое необходимое и спустимся в баркас.
Видимо, Черчилль ожидал, что Стюарт и Хейвуд станут на сторону своего друга Крисчена.
— Что это вы, мистер Стюарт, — сказал он с укором, — я вас считал храбрым человеком!
Стюарт язвительно ответил, что отлично понимает намек Черчилля, но вовсе не намерен рисковать головой ради того, чтобы взять реванш над Блаем. С этими словами он зашагал к люку. Твердость Стюарта произвела впечатление на Хейвуда, и он пошел за товарищем. Отпустить их значило бы потерять еще двух человек, разбирающихся в мореходном деле, и Черчилль по собственному почину крикнул своему приятелю Томпсону, который все еще охранял ящик с оружием, чтобы он задержал гардемаринов.
Они все-таки попытались подняться на палубу, по Томпсон направил на них пистолет и рявкнул:
— Вы что, не слышали приказа? Советую вам не двигаться.
Стюарт, в отличие от Хейвуда понимавший, чем все это грозит, прокричал наверх Черчиллю:
— Если вы нас не отпускаете, передайте капитану, что мы задержаны силой!
— Ладно, передам, не беспокойтесь, — иронически ответил Черчилль. Конечно, он этого не сделал.
Еще один член команды — младший боцман Джемс Моррисон считал, как и Питер Хейвуд, что плыть в открытой лодке слишком рискованно. Его укрепили в этой мысли слова штурмана Фраера, который посоветовал ему остаться и помочь отбить корабль. Все-таки Моррисона мучила совесть, поэтому он обратился к своему непосредственному начальнику, боцману Коулу, чтобы проверить, как тот отнесется к его намерению остаться на корабле. Коул только пожал ему руку и пожелал успеха, из чего Моррисон заключил, что поступает правильно: ведь он не собирался присоединяться к бунтовщикам!
Итак, овцы были наконец отделены от козлищ — причем для многих все дело решил случай. Семнадцать лоялистов ждали в перегруженном баркасе, когда можно будет отчалить. Настала пора Блаю покинуть сцену, на которой он с бесспорным талантом сыграл главную роль во многих комедиях и драмах.
— Теперь вы, капитан Блай, — заметно волнуясь, произнес Крисчен и подвел своего пленника к фальшборту. — Ваши люди и офицеры уже в лодке, следуйте за ними. Малейшая попытка сопротивляться грозит вам смертью.
Прощальная реплика Блая, к сожалению, выпадает из стиля — он вдруг проявил слабость и попробовал разжалобить Крисчена:
— Клянусь честью и даю вам слово, мистер Крисчен, я забуду об этой истории, если вы бросите свою затею. Подумайте о том, что у меня в Англии жена и четверо детей и мои дети не раз сидели у вас на коленях.
Но Крисчен был непреклонен:
— Будь у вас честь, капитан Блай, всего этого не случилось бы. Если бы вы дорожили женой и детьми, вы бы раньше подумали о них, вместо того чтобы вести себя так злодейски.
Блай явно хотел продолжить бессмысленную дискуссию, но Крисчен его оборвал. Вмешался боцман Коул и попытался смягчить Флетчера Крисчена. Потом Крисчен признавался Стюарту, что он к этому времени уже раскаялся в содеянном, но хорошо понимал, что отступать поздно. И он печально ответил Коулу:
— Поздно. Последние две недели были для меня подлинным адом, больше я терпеть не хочу. Вам известно, мистер Коул, что капитан Блай все время обращался со мной, как с собакой.
— Знаю, мистер Крисчен, мы все это знаем, и все-таки, богом вас заклинаю, забудьте об этом, — просил Коул.
И Блай еще раз пожертвовал своим самолюбием:
— Неужели нельзя найти иное решение?
Очевидно, замешательство Крисчена встревожило Черчилля, и он решительно вмешался:
— Нет, это лучшее и единственное решение!
Остальные бунтовщики поддержали его одобрительными возгласами. Такая сплоченность подействовала на Блая, и, как только ему развязали руки, он без дальнейших споров спустился по трапу в баркас. Терзаемый угрызениями совести, Крисчен поспешил принести свой собственный секстант и мореходные таблицы и вручил их Блаю со словами:
— Вот все, что вам нужно, капитан Блай. Вы сами знаете, секстант надежный.
Одновременно к фальшборту, держа в руке клубок парусиновых ниток, подбежал слуга Блая Смит и, прежде чем кто-либо успел помешать ему, прыгнул в лодку к своему господину и начальнику.
Борт баркаса возвышался над водой всего на двадцать сантиметров, поэтому часто (и на первый взгляд с полным на то основанием) утверждали, что Крисчен сознательно послал девятнадцать человек на верную смерть. Это не отвечает истине. Во-первых, совсем рядом находился остров Коту, его даже можно было разглядеть с мачты «Баунти». Во-вторых, царило почти полное безветрие, море было как зеркало. В-третьих, Крисчен вызвался, как ни невероятно это покажется, отбуксировать баркас к острову. Уж если в чем-нибудь упрекать Крисчена, так скорее в добродушии и мягкосердечии, а не в жестокости и бесцеремонности.
Блай с благодарностью принял предложение Крисчена, и баркас пошел к корме «Баунти». Крисчен еще велел сбросить в лодку свинину, хлеб и бочонки с водой на первое время пребывания на берегу. Освобождая место для этого ценного груза, Блай решительно приказал выбросить за борт гамаки, которые его спутники захватили с собой, хотя на баркасе и сидеть-то было негде. Ободренный щедростью Крисчена, он попросил у того несколько мушкетов. Один из мятежников крикнул в ответ:
— Зачем тебе оружие на островах Дружбы, у тебя же там столько друзей!
Но Крисчен и тут в конце концов смягчился; правда, мушкетов Блай не получил, но ему дали четыре сабли.
Такая уступчивость вызвала настоящую бурю на корабле. Сквозь хор возмущенных голосов было слышно, как оружейник Коулмен крикнул лоялистам, что будет очень благодарен, если кто-нибудь из них навестит мистера Грина в Гринвиче, когда они вернутся в Лондон, и расскажет о случившемся. Лоялист Пековер очень переживал, что забыл захватить рубашку; один из мятежников любезно сбегал в его каюту и принес ему одежду. Тем временем Черчилль вспомнил, что Фраер не вернул одолженные им у Хейвуда часы, и, как штурман ни упирался, пришлось ему расстаться с сокровищем. Кто-то из мятежников кричал: «Да здравствует Таити!» Плотники Норман и Макинтош, всхлипывая, продолжали твердить Блаю, что они невиновны, что их задержали силой. Ревел белугой Бирн, до которого наконец дошло, что он сидит не в той лодке.
Тут мятежники принялись честить Блая, соревнуясь, кто хлеще обзовет и оскорбит его. Кончилось тем, что кто-то завопил:
— Застрелить его надо, этого мерзавца!
И вот уже на беззащитных людей в баркасе «в шутку» направлен чей-то мушкет. Лоялисты разумно заключили, что буксир не стоит того, чтобы из-за него рисковать жизнью, и Блай приказал рубить чалку. Было восемь утра — всего три часа прошло с тех пор, как мысль о бунте родилась в разгоряченном мозгу Крисчена, — все еще царило безветрие. Поэтому лоялисты разобрали весла (это было не так-то просто в тесноте, царившей в баркасе) и поспешно пошли прочь от корабля. Опасаясь, как бы мятежники не начали стрелять из пушек, они держались за кормой «Баунти», так сказать, в мертвой зоне, ведь пушки были расставлены вдоль бортов корабля.
Флетчер Крисчен стоял неподвижно у фальшборта, провожая взглядом удаляющийся баркас. Для потомства сохранены две реплики, которые он произнес в эти минуты. Стоявшему поблизости мятежнику он печально сказал, что «рад бы жизнь отдать, чтобы все было по-старому и чтобы эти люди находились в безопасности на судне». Другому из своих товарищей но несчастью он признался, что его сердце едва не смягчилось, когда Блай заговорил о жене и детях. С театральным пафосом, который отличал все его действия и поступки, Крисчен добавил, что охотно прыгнул бы за борт, если бы это могло изменить ход событий.
Благодаря тому что Блай продолжал добросовестно заполнять судовой журнал, нам известно также, что в это время думал и чувствовал он.
«Мы не прошли и восьмой части мили, как я задумался над тем, сколь переменчива человеческая судьба. Но я знал, что действовал достойно, служил верно и честно, и это сознание даровало мне чувство внутреннего удовлетворения, которое поддерживало меня… Можно ли представить себе более лестное положение, чем то, что я занимал еще двенадцать часов назад? У меня был отличный корабль, обеспеченный всем, что необходимо для службы и блага людей… сверх того, мне удалось наладить такой уход за саженцами, что они превосходно принялись и росли. Две трети пути было пройдено, оставшаяся треть не вызывала у меня никаких тревог».
Больше всего Блай, естественно, размышлял над причинами бунта; вот его вывод:
«Единственный ответ, который я нашел, — они уверили себя, что жизнь на Отахеите куда приятнее, чем в Англии. Если вспомнить их связь с женщинами, это скорее всего и есть первейшая причина того, что случилось. Тамошние вожди очень привязались к нашим людям и, конечно, уговаривали их остаться, суля всякие блага… Каким соблазном было для этих негодяев сознание, что в их власти — пусть даже эта власть присвоена незаконно — обосноваться на самых чудесных островах в мире, где вовсе не надо трудиться, а наслаждения и развлечения превосходят все, что можно себе вообразить». Далее Блай считал, что бунт готовился тщательно и долго, и он немало удивлялся тому, как ловко заговорщики сумели скрыть свои черные планы.
Блай до конца жизни отстаивал эту версию. По возвращении в Англию ему удалось убедить своих современников в том, что Крисчен и его сторонники заранее подготовили бунт с одной лишь целью — вернуться на Таити. Это ошибочное воззрение глубоко укоренилось и широко распространено даже в наши дни. Но из подробной реконструкции мятежа, проделанной в этой главе, ясно видно, что Крисчен действовал под влиянием внезапного порыва, и вряд ли будет преувеличением сказать, что мало мятежей в богатой перипетиями истории английского флота было так скверно организовано. Когда знаешь, как обстояло дело, понятно удивление Блая, что приготовления удалось сохранить в тайне. Никто на «Баунти» не мог проговориться по той простой причине, что никто и не помышлял о бунте. Откуда у Блая такая уверенность в том, что мятежники руководствовались продуманным планом? Тут не последнюю роль сыграло то, что этот рассудочный служака, любитель все спланировать и организовать заранее, просто не мог представить себе человека порывов и настроений, каким был Крисчен. Не следует также забывать, что версия о тщательно подготовленном бунте смягчала невыгодное впечатление, какое производило бессилие Блая дать отпор мятежникам.
И чтобы уж быть совсем точным, кроме прямой, непосредственной причины (то есть характера Флетчера Крисчена) была другая, более глубокая, — но не соблазн услад Таити, а недовольство избаловавшихся людей строгой дисциплиной, которую ввел Блай, а также его несдержанным поведением на пути от Таити до островов Тонга. Особенно возмутило матросов несправедливое коллективное наказание 27 апреля, — это видно из повторных жалоб, что Блай морил их голодом. Как известно, в бурные периоды истории человечества незначительные причины подчас приводили к неожиданно серьезным последствиям, вот почему мы вправе приписать ямсу решающую роль в драме, которая разыгралась на борту «Баунти» рано утром 28 апреля 1789 года.
А так как то был год, когда и в других местах происходили перевороты, полезно несколько расширить угол зрения, связать этот бунт с социальными противоречиями эпохи. Мы увидим, что все четырнадцать матросов, на долю которых выпала самая тяжелая и опасная служба, участвовали в мятеже. А среди тех, кто остался верен своему командиру, королю и отечеству, оказались почти все лица комадного состава. (Только два существенных исключения — Крисчен и Янг). Вот почему события на «Баунти» можно назвать классовым конфликтом, восстанием угнетенных, обездоленных, нищих, бездомных моряков против класса состоятельных и привилегированных господ, представленного в первую очередь Блаем. И не будь главарь мятежа одним из господ, скрытая ненависть к командирам, которую безусловно питали тогда английские моряки, конечно, привела бы к кровопролитию. А так все прошло удивительно тихо и мирно.
Глава шестая Поселенцы
Как только перегруженный баркас с Блаем и его людьми скрылся из виду, Флетчер Крисчен созвал всех оставшихся на «Баунти». Их было двадцать четыре. В ходе мятежа многие вышли, так сказать, из тьмы безвестности, стали личностями со своим характером, своим именем. Дальше им предстоит играть еще более важные роли, поэтому вполне уместно и даже необходимо перечислить и назвать спутников Крисчена. Удобнее всего разделить их на две группы. Первая включает семнадцать активных участников бунта:
Гардемарин Эдвард Янг
Капрал морской пехоты Чарльз Черчилль
Младший канонир Джон Милз
Садовник Уильям Браун
Матрос, бондарь Генри Хиллбрант
Матрос Метью Кинтал
Матрос Метью Томпсон
Матрос Айзек Мартин
Матрос Александер Смит
Матрос Томас Эллисон
Матрос Джон Самнер
Матрос Джон Миллуорд
Матрос Уильям Микой
Матрос Уильям Маспретт
Матрос Джон Уильямс
Матрос Ричард Скиннер
Матрос Томас Беркетт
Вторую группу составляют семеро лоялистов, которые отказались участвовать в мятеже:
Гардемарин Джордж Стюарт
Гардемарин Питер Хейвуд
Младший боцман Джемс Моррисон
Оружейный мастер Джозеф Коулмен
Младший плотник Чарльз Норман
Младший плотник Томас Макинтош
Матрос Майкл Бирн
Собрав всех на палубе, Крисчен предложил выбрать командира. Если того пожелает большинство, добавил Крисчен, он охотно передаст бразды правления кому-нибудь другому. Нет сомнения, он был бы только рад избавиться от ответственности, но понимал, что отступать поздно, все равно последствия его опрометчивых действий падут на его голову, так что демократическое голосование скорее всего понадобилось Крисчену, чтобы укрепить свое положение. Как и следовало ожидать, других претендентов на малособлазнительную должность капитана «Баунти» не нашлось и Крисчена, хотел он того или нет, единогласно выбрали новым командиром.
Он начал с того, что разбил команду на две вахты и одну из них подчинил гардемарину Стюарту, сделав его фактически своим старшим помощником. Кое-кто из мятежников возмущался: уж если ставить на видную должность лоялиста, то лучше тихого Питера Хейвуда, чем Стюарта. Но Крисчен вдруг понял, что Блай был прав, требуя беспрекословного повиновения. Он твердо стоял на своем, и ропот прекратился. А чтобы всем было ясно, кто хозяин на борту, он занял каюту Блая и велел выбросить за борт саженцы хлебного дерева; кроме того, он приказал поделить личное имущество, которое Блай и его восемнадцать спутников более или менее добровольно оставили на корабле.
Дальше предстояло не мешкая решить еще один важный вопрос: куда идти? Поначалу, как уже говорилось, мятежники собирались высадить лоялистов на Таити, а самим искать пристанище на каком-нибудь уединенном, труднодоступном острове. Однако поразмыслив, они пришли к выводу, что эти люди своими знаниями могут быть полезными, когда придет пора осваиваться на новом месте. И не спрашивая мнения самих лоялистов, мятежники решили не заходить на Таити, а сразу искать себе подходящий остров.
В судовой библиотеке были книги Кука о его походах, и в одной из них Крисчен нашел краткое описание маленького скалистого островка Тупуаи, расположенного в трехстах милях на юг от Таити. Кук открыл его в 1777 году, во время третьей экспедиции в Южные моря. Ни Кук, ни его спутники не сходили на берег Тупуаи, но несколько островитян подошли на лодке к кораблю, и по всему было видно, что обитатели острова языком и нравами сродни таитянам. Вот почему Крисчен надеялся, что на Тупуаи команду «Баунти» примут не менее радушно, чем на Таити. Остров лежал на двадцать третьем градусе южной широты — значит климат там более прохладный и приятный и в то же время не слишком холодный для тропических растений и плодовых деревьев. Дело было серьезное, и Крисчен опять поставил вопрос на голосование. К этому времени мятежники успели проникнуться таким доверием к своему новому господину, что тотчас приняли его не совсем продуманное предложение навсегда поселиться на Тупуаи. И судно пошло почти строго на юг к поясу западных ветров между тридцатым и пятидесятым градусами южной широты, с которым моряки «Баунти» уже познакомились, когда шли на Таити.
Боцман Моррисон утверждал потом, что он и прочие лоялисты только и помышляли о том, как бы отвоевать корабль, но мятежники постоянно были начеку. В самом деле, Черчилль не спускал глаз с сундука, где хранилось оружие, даже спал на нем. Но ведь лоялисты пользовались неограниченной свободой на борту, никто не мешал им незаметно собраться вместе. Видно, все дело в том, что они просто были довольны своей судьбой и отлично ладили с мятежниками — недаром Стюарт без возражений принял предложенную ому должность. Все на «Баунти» чувствовали себя великолепно, и только один человек составлял исключение — вождь бунтовщиков Флетчер Крисчен, который с каждым днем становился все мрачнее и печальнее. Часто он запирался в каюте, и многие из его уцелевших спутников потом свидетельствовали, что он угрюмо размышлял, стиснув голову ладонями, и не отзывался, если с ним заговаривали. Впрочем, угнетенное настроение скоро проходило и Флетчер Крисчен исполнял свои обязанности с таким рвением, был так требователен, что сам Блай, останься он на борту «Баунти», не нашел бы, к чему придраться.
Перед самым прибытием на Тупуаи Крисчен велел своим людям пошить себе форму из лишнего брезента, явно желая внушить почтение островитянам. Эта мера может показаться пеленой, но Крисчена легче понять, если вспомнить, что в английском флоте тогда носили форму только солдаты морской пехоты и офицеры. Однако после короткого визита Кука одиннадцать лет назад на Тупуаи не заходило больше ни одно судно, и островитянам, увы, было просто невдомек, сколь высокой чести они удостоились, когда «Баунти» после месячного плавания 28 мая подошел к Тупуаи. Больше того, они с первой минуты недоверчиво отнеслись к незваным гостям, и едва Стюарт стал промерять единственный видимый проход в коралловом барьере, как на двух больших лодках вышли вооруженные воины — проверить, чем он занят. То, что они увидели, им не понравилось, и, простодушно полагаясь на свое численное превосходство, островитяне попытались захватить странную лодку чужеземцев. Неприятно удивленные таким поворотом событий, Стюарт и его люди открыли огонь из двух пистолетов. Один пистолет дал осечку, второй выстрел но достиг цели, но атакующие испугались и поспешно отступили.
Когда «Баунти» наутро бросил якорь в тихой лагуне за кольцевым рифом, казалось, островитяне поняли, что с чужеземцами в форменной одежде шутки плохи; во всяком случае весь день они держались на почтительном расстоянии. Затем они ночью посовещались и, судя по всему, решили наладить мирные отношения, ибо на следующий день на корабль явился почтенный старец с банановым стеблем, который у полинезийцев соответствовал белому флагу наших парламентеров. Если не считать, что дед насмерть перепугался, увидев судовых собак, коз и свиней, переговоры прошли без происшествий, и он возвратился на берег, по-видимому, довольный подарками мятежников и туманными разъяснениями на ломаном таитянском языке. Немного погодя от берега отошла другая лодка, и, когда она приблизилась, англичане с восторгом увидели в ней восемнадцать женщин — «все они были юные и прекрасные, с длинными волнистыми волосами до пояса». Весело и непринужденно женщины поднялись на борт, совсем как таитянские нимфы, и нетерпеливо ожидавшие англичане приняли их, как выражается с завидным тактом летописец Моррисон, «очень любезно».
К счастью, мятежники увлеклись не настолько, чтобы не заметить еще один отряд, который вскоре отчалил от острова. Чем ближе подходили новые гости, тем меньше они нравились мятежникам: около пятидесяти лодок доставили могучих атлетов, которые, как ни старались, не сумели скрыть от глаз англичан копья в пращи. Крисчен тотчас догадался, что принятый с таким почетом «вестник мира» был просто-напросто шпионом, а девушек прислали, чтобы отвлечь внимание моряков от военной операции. Он мигом спровадил прелестных птичек и расставил вооруженных людей вдоль фальшборта. Видя, что их военная хитрость разгадана островитяне перерезали якорный канат и начали атаку. Итак, форма не помогла — оставалось только показать этим невежественным островитянам, что такое пушка, и Милз по приказу Крисчена выстрелил картечью по флотилии. Лодки бросились врассыпную, оставляя кровавый след на воде, но англичане, твердо решив раз навсегда проучить как следует островитян, безжалостно преследовали врага и меткими мушкетными залпами убили еще несколько человек. После бухту, где произошло это сражение, метко назвали Кровавой.
Трудно было придумать худшее начало для предприятия, с которым мятежники связывали столько надежд. Но в Южных морях первая встреча европейских моряков с местными жителями нередко оборачивалась кровавой трагедией, что не мешало им потом ладить между собой. Даже на гостеприимном Таити первооткрыватель острова Валлис подвергся нападению и был вынужден открыть огонь. Как правило, островитяне быстро забывали все недоразумения и сразу после сокрушительного поражения становились верными друзьями чужеземцев. Зная историю исследования Южных морей, Крисчен, понятно, вправе был надеяться, что ему удастся найти общий язык с местными жителями. А так как те, по всем признакам, ушли в горы, он последующие два дня всячески подчеркивал своп мирные намерения: совершал длительные прогулки по берегу, оставляя во всех хижинах гвозди, инструмент, стеклянные бусы и прочие искупительные дары.
Естественно, эта дипломатическая миссия позволила Крисчену заодно лучше узнать остров, и чем больше он ходил, тем больше ему здесь нравилось. Горы не превышали нескольких сот метров, вокруг них простирались широкие равнины. Судя по многочисленным полям и огородам, земля была очень щедрой. Тут и там к морю стремились кристально чистые ручьи, так что воды было вдоволь. Особенно устраивало Крисчена то, что остров маленький и уединенный, а якорная стоянка одна — плохо защищенная Кровавая бухта; вряд ли какое-нибудь судно станет сюда заходить. Достаточно снять с «Баунти» все, что снимается, корпус сжечь — и никто не найдет их укрытия.
Одно только смущало Крисчена: он не видел домашних животных. Очевидно, их вообще не было на Тупуаи. Недаром же мнимый миротворец так испугался коз и свиней. И Крисчен предложил, прежде чем обосновываться на острове, сходить на Таити и взять там скот. Остальные мятежники тоже не стремились стать вегетарианцами; да, кроме того, нашлась еще одна веская причина для похода на Таити: их беспокоило, как бы женщины Тупуаи не оказались менее ласковыми, чем милые таитянки. Многие говорили напрямик, что в конечном счете куда важнее раздобыть женщин, чем свиней и коз. Крисчен сам сильно привязался к одной прелестной таитянке, его не пришлось долго уговаривать, и под общее ликование было решено сделать рейд на Таити и в избытке запастись там всем необходимым.
Решение по многим причинам было рискованным. Во-первых, друзья на Таити легко могли заподозрить неладное, увидев, что на «Баунти» осталась лишь половина команды. Чего доброго, кто-нибудь из тамошних приятелей Блая проведает истину и попытается завладеть кораблем, а их взять в плен… Во-вторых, следовало ожидать, что лоялисты не преминут воспользоваться случаем, чтобы бежать. Наконец, кто-нибудь из команды мог — намеренно или нечаянно — проговориться, что они задумали жить на Тупуаи, а болтливые таитяне вряд ли сумеют сохранить тайну, когда на Таити снова придут английские суда.
Против всех ожиданий визит на Таити прошел гладко. G июня «Баунти» бросил якорь в бухте Матаваи, и, когда вождь Поино и его подданные, сияя от радости, поднялись на борт с приветственными дарами, Крисчен невозмутимо преподнес им лихую басню. Дескать, покинув Таити, они вскоре повстречали капитана Кука, и тот вдруг решил забрать с собой в Англию Блая с частью команды, а также саженцы хлебного дерева. Крисчену же он велел возвращаться на Таити и закупить там скот и растения для новой английской колонии Аитутаки… в Австралии!
Таитяне проглотили весь этот вздор, — если только они вообще поняли что-нибудь из «таитянской» речи Крисчена. Что до лоялистов (о мятежниках мы уж не говорим), то им Крисчен пригрозил плетками и расстрелом, если они попытаются сбежать или раскрыть истину островитянам. Как ни удивительно, все кротко подчинились — лишнее свидетельство, во-первых, их трусости, во-вторых, симпатии к Крисчену.
За неделю Крисчен скупил ни много, ни мало четыреста шестьдесят свиней, пятьдесят коз, привезенных Блаем быка и корову, множество кур да по паре кошек II собак. Но вот возлюбленные англичан, за исключением Мауатуи Крисчена и еще нескольких верных душ, вовсе не желали плыть на Тупуаи, зато очень настойчиво уговаривали своих кавалеров остаться на Таити. Правда, когда корабль снялся с якоря, соотношение мужчин и женщин на нем несколько улучшилось, так как обнаружилось несколько «зайцев» женского пола. Гораздо меньше обрадовались мятежники «зайцам» мужского пола, среди которых был Хитихити. В итоге, когда «Баунти» снова вошел в Кровавую бухту, на борту помимо англичан было девять мужчин, восемь юношей, десять женщин и одна девушка; никак нельзя сказать, чтобы столь важный женский вопрос был решен удовлетворительно. Бык в пути околел, но корова и прочие домашние животные чувствовали себя превосходно, так что совсем неудачной экспедицию все-таки нельзя назвать.
Неприязнь мятежников к «зайцам»-мужчинам быстро сменилась глубокой благодарностью, ибо те сумели убедить местных жителей, что англичане прибыли с мирными намерениями, и в дальнейшем охотно служили переводчиками и посредниками. Вождь Таматоа, управлявший западной половиной острова (где стоял корабль), решил даже побрататься с Крисченом; этот полезный акт дружбы незамедлительно состоялся и прошел очень торжественно. Итак, благодаря счастливой случайности положение в корне переменилось и будущее маленькой колонии представлялось всем светлым и заманчивым.
Таматоа предложил поселенцам обширный участок по соседству с Кровавой бухтой. Почему-то это не устраивало Крисчена, он облюбовал себе северо-восточный уголок острова. По чести говоря, лучшая земля на Тупуаи принадлежала Таматоа, и Крисчен только выиграл бы, если бы остался на красивом, плодородном, хорошо орошаемом южном берегу. Мятежники, как всегда, поддержали своего предводителя, зато Таматоа решительно воспротивился, и его легко понять: ведь облюбованный Крисченом участок находился во владениях его соседа и заклятого врага Таароа. С точки зрения островитян покинуть своего побратима и поселиться у его врага было равносильно смертельному оскорблению. Казалось бы, Крисчен, который пять месяцев собирал саженцы на Таити, должен был знать такие элементарные вещи, однако он искренне полагал, что можно быть побратимом двух вождей сразу, и предложил Таароа свою дружбу! А тот, конечно, был только рад пустить к себе могущественного, хорошо вооруженного чужеземца. С этого мига Таматоа стал заклятым врагом мятежников.
Крисчен сделал крайне неудачный выбор: по площади и населению царство Таароа было вдвое меньше владений Таматоа. К тому же третий вождь, Тинарау, чье государство граничило со страной Таароа на юге, был союзником Таматоа. И вышло, что три четверти населения Тупуаи ополчилось против мятежников. Кстати, большинство воинов, павших во время битвы в Кровавом заливе, были подданными Тинарау; это только усугубляло его ненависть к англичанам.
Не успел Крисчен перевести корабль в царство Таароа (на это ушла целая неделя, так как лагуна изобилует коварными мелями), как возникли осложнения. Началось с того, что мятежники Самнер и Кинтал без разрешения командира провели сутки на берегу. А когда Крисчен отчитал их, они резко ответили, что плавание окончено и они теперь сами себе хозяева. Для общего блага было важнее, чем когда-либо, избегать усобиц, поэтому Крисчен не стал оспаривать хитроумный аргумент провинившихся, что бунт всех сделал вольными и равноправными, а просто вытащил свой пистолет и велел заковать Самнера и Кинтала в кандалы. Поразмыслив ночь, оба уже на следующее утро предпочли извиниться, и их освободили.
Бунтовщики не могли всегда жить на «Баунти», к тому же было решено уничтожить корабль, чтобы не выдать себя преследователям. Однако после недоразумения с соседними вождями англичане вполне справедливо сочли, что им грозят неприятности и что нужно первым делом обеспечить себе надежное и удобное для обороны жилье на берегу. Лучше всего было построить крепость. В середине июля Крисчен вместе с Таароа выбрал для будущего роскошного жилья поляну среди зарослей, метрах в трехстах от берега, и разметил квадрат размерами сто на сто метров. У него было задумано нечто вроде настоящего рыцарского замка, вроде тех, какие любят строить мальчишки: кругом глубокий ров и трехметровый земляной вал с башнями по углам, а со стороны моря еще и подъемный мост. Как только было определено, где и что строить, начались работы. Крисчен распорядился весьма разумно: садовнику Брауну было поручено посадить овощи и корнеплоды для пропитания мятежников, в помощь ему отрядили одного таитянина; оружейник Коулмен и матрос Микой мастерили лопаты и кирки; на бондаря Хиллбранта возложили ответственную задачу готовить пищу; слепой музыкант Бирн и забулдыга Эллисоп стали перевозчиками, они доставляли на берег с «Баунти» людей, грузы и скот.
Остальные восемнадцать англичан, включая лоялистов, а также шестнадцать таитян приступили под руководством командира к строительству. Как обычно, Крисчен сам показал пример, вооружившись лопатой.
Работа требовала немалых усилий, и вскоре Крисчен понял, что слишком размахнулся, лучше уменьшить размеры крепости вдвое. Тем не менее дело продвигалось очень уж медленно. А тут еще начали сказываться последствия неудачного выбора союзников. С той самой минуты, как дошло до открытого разрыва, Таматоа и Тинарау бойкотировали мятежников, а именно: они строго-настрого запретили своим подданным поставлять продовольствие. Пришлось англичанам довольствоваться плодами и овощами, какие можно было собрать в маленьком государстве Таароа, а этого оказалось далеко не достаточно. К тому же единичные «поставщики», которые приходили к ним, не больно дорожили европейскими товарами и утверждали даже, к великому негодованию мятежников, будто их собственные каменные изделия и лубяная материя несравненно лучше европейского железного инструмента и хлопчатобумажной ткани. Но самое обидное: женщины из ближайших деревень, которые днем охотно мешали морякам работать, почему-то отказывались проводить с ними ночи на корабле.
Крисчен всячески пытался вернуть себе расположение Таматоа и Тинарау, даже обошел вокруг острова на шлюпке, предлагая им искупительные дары. Вероятно, его усилия в конце концов увенчались бы успехом, не допусти он с самого начала еще одну глупейшую ошибку: как только «Баунти» вернулся на Тупуаи, он необдуманно распорядился выпустить на острове свиней и коз, закупленных на Таити. (Строить свинарники и загоны и регулярно кормить скот было, конечно, слишком кропотливым и обременительным делом, о чем мятежники раньше как-то не подумали). До той норы на Тупуаи не было скота; естественно, островитяне никак не огораживали свои поля и теперь свиньи и козы принялись беспрепятственно уничтожать посевы. Местные жители, понятно, не могли долго мириться с таким безобразием. А так как мятежники нахально ходили по их участкам, собирая плоды и овощи или ловя сбежавших свиней, возникли стычки. Первое серьезное столкновение произошло 25 августа, когда был убит один из подданных Тинарау. Вождь решил отомстить и прибег к излюбленной уловке: подослал женщин, чтобы те заманили пылких моряков подальше в лес. Первой жертвой коварной тактики оказался Александер Смит; правда, он отделался сильным испугом и тем, что потерял свою одежду. В отместку Крисчен сжег дом, где проучили Смита, и конфисковал несколько страшных идолов, которыми Тинарау очень дорожил. Репрессии привели лишь к тому, что соблазнительница Смитам опасаясь за свою жизнь, явилась на борт «Баунти» и попросила убежища.
Тут Тинарау замыслил другую военную хитрость. 2 сентября он во главе отряда носильщиков, сгибающихся иод грузом продовольствия, приблизился к наполовину выстроенной крепости и заявил, что готов мириться, если Крисчен вернет ему идолов. Но один из таитян, которые присоединились к англичанам, случайно заметил, как люди Тинарау, прежде чем выйтп на прогалину, прятали в кустах оружие. Он поспешил рассказать об этом Крисчену, и тот втайне подготовил своих людей, а также предупредил тех, кто был на «Баунти». В разгар переговоров Тинарау увидел в крепости вооруженных англичан, понял, что его разоблачили, и отступил. Меткий пушечный выстрел с «Баунти» заставил его отряд развить предельную скорость.
Враждебность Тинарау не слишком-то обескуражила Крисчена, и он велел поскорее заканчивать строительство, чтобы на будущее не опасаться неожиданных набегов. Однако многим из его товарищей вся эта затея надоела, и вообще им не улыбалось всю жизнь оставаться на Тупуаи. Когда Крисчен через несколько дней объявил, что пора свезти на берег все ценные предметы с «Баунти» и уничтожить корабль, раздались недовольные голоса. Долго он уговаривал своих сообщников, наконец те согласились остаться на Тупуаи, но при одном непременном условии: чтобы Крисчен всех обеспечил женщинами. Был только один способ раздобыть женщин — похитить их, но Крисчен решительно воспротивился такому опасному и недостойному делу.
— Тогда, — заметил кто-то из команды, — вернемся на Таити, там вдоволь приветливых и послушных женщин.
Крисчен проникновенно взывал к разуму мятежников, напоминал, что они преступники, что им не спастись от виселицы, если они поселятся на Таити. Обе стороны стояли на своем, и спор длился три дня. Единственным результатом всей этой говорильни было то, что многих мятежников одолела сильная жажда, а так как Крисчен отказался выдать им ром, они сами взломали сундук и угостились. Тогда Крисчен велел всем налить грогу, после чего еще раз воззвал к спорщикам, заклиная их ради себя и своих товарищей выбросить из головы дурацкую мысль о походе на Таити.
Но уступка, которую он только что сделал, сильно подорвала его престиж, и вскоре Крисчен понял, что попытка навязать свою волю только приведет к новому бунту, причем на этот раз вряд ли обойдется без кровопролития. Скрепя сердце он предложил решить спорный вопрос голосованием. Долго толковали о том, как голосовать, наконец условились — поднятием руки. Итогом было сокрушительное поражение Крисчена: когда он угрюмо спросил, кто хочет возвратиться на Таити, поднялось шестнадцать рук.
Волнуясь, Крисчен взял слово и произнес приводимую ниже благородную речь. Можно было бы усомниться в ее подлинности, если бы она не соответствовала до такой степени всему его нраву.
— Джентльмены, я доставлю вас, куда вы захотите, и высажу на берег, где вы захотите, я ни от кого не требую, чтобы он следовал за мной. Единственное, о чем я прошу, — оставьте мне судно, поднимите фок и дайте немного воды в запас, чтобы я мог с попутным ветром плыть дальше и сойти на берег на первом острове, куда придет корабль. То, что я совершил, не позволяет мне оставаться на Отахеите. Я не соглашусь жить в таком месте, откуда меня могут отправить в Англию, чтобы горе постигло мою семью.
Не успел Крисчен кончить, как гардемарин Янг крикнул:
— Мы никогда вас не бросим, мистер Крисчен, куда бы вы ни поплыли!
Еще семеро — Браун, Милз, Мартин, Микой, Уильямс, Смит и Кинтал — поддержали Янга. Это и понятно, мятежникам нечего было терять; лоялисты же все как один голосовали за Таити. Удивительно, что им вообще разрешили участвовать в совещании. Без них голоса разделились бы поровну — девять на девять. Недаром долго спорили, как голосовать.
Чтобы отправить на борт инструмент и снаряжение, которыми они пользовались, строя злополучную крепость, потребовалось немного времени. Зато выловить драгоценный скот — а мятежники вовсе не собирались оставлять его в подарок своему врагу — оказалось неожиданно трудно: животные успели освоиться с вольной жизнью. Дело осложнилось еще больше, когда возлюбленная Александера Смита выдала их планы Тинарау и тот тоже поспешил начать облаву. Как ни странно, особенно жаркое соперничество разгорелось из-за несчастной овдовевшей коровы, и когда отряд мятежников 12 сентября наконец выследил ее, на них из засады напали люди Тинарау. Англичанам досталось так, что они рады были унести ноги. На следующий день возмущенный Крисчен возглавил мощную карательную экспедицию, в которую вошли двадцать англичан и десять их таитянских союзников.
Но Тинарау был начеку, и на границе его царства карателей встретили семьсот воинов. Поначалу преимущество было на стороне островитян, так как они засели среди камней и зарослей, где моряки не могли применить огнестрельное оружие. Завязалась ожесточенная рукопашная схватка; наконец Крисчен отвел своих людей на поляну поблизости, и тут уж они начали косить противника, который не мог подойти достаточно близко, чтобы пустить в ход пращи и копья. В итоге храбрые воины Тинарау обратились в бегство, оставив на поле боя около шестидесяти убитых. Из англичан один Беркетт был легко ранен. Закончилось столкновение неожиданно: победители зарезали и съели главный трофей, из-за которого заварилась вся каша…
К взаимному облегчению мятежников и островитян Крисчен через несколько дней, искусно лавируя между рифами и мелями, вывел «Баунти» в открытое море, и корабль опять пошел на Таити, причем команда пополнилась молодым родичем Таароа, по имени Таароамнва, и двумя островитянами более простого происхождения, которые были скомпрометированы дружбой с англичанами и верной смерти предпочли изгнание.
По примеру Блая Крисчен зашел с наветренной стороны Таити; поблизости от Меету он на сутки лег в дрейф, чтобы две группы могли спокойно, не торопясь, договориться, как справедливее разделить между собой оставшиеся припасы. Рано утром 22 сентября Крисчен и его двадцать четыре спутника в третий раз за год вошли в Матаваи.
Крисчен немедленно отправил на берег шестнадцать сепаратистов (так их правильнее всего называть) и Таароамива, а также Хитихити и большинство остальных таитян, которые мудро заключили, что лучше всего возвратиться на родину. Усилиями доброго Поино и его подданных личное имущество и припасы сепаратистов были перевезены еще до темноты.
Неудачная попытка обосноваться на Тупуаи научила Крисчена (и кое-кого из его сподвижников) двум вещам: во-первых, трудно, если вообще возможно, долго живя на острове, избежать недоразумений и стычек с местным населением. Единственный выход — отыскать необитаемый остров, желательно уединенный и труднодоступный; во-вторых, надо взять с собой достаточное число покорных и покладистых женщин.
Где и как найти подходящий остров — об этом пока не было смысла тревожиться. Зато женскую проблему надо было решать незамедлительно, до ухода с Таити. Казалось бы, все ясно. Но, собираясь на Тупуаи, мятежники уже убедились, что таитянки вовсе не рвутся покинуть свой милый остров. Даже те, которые присоединились тогда к англичанам и вместе с ними стойко переносили все трудности, теперь предпочли сойти на берег с сепаратистами; только две остались на «Баунти».
И пришлось Крисчену согласиться на тот самый постыдный план, который он с таким возмущением отверг на Тупуаи, — похитить невест. Для отвода глаз он объявил, что думает провести в Матаваи еще два дня, чтобы запасти воду и провиант. Это звучало вполне правдоподобно, и целый отряд женщин, ничего не подозревая, принял его приглашение прибыть на борт вечером и как следует кутнуть в приятном обществе. Одновременно он обманом зазвал на корабль оружейного мастера Коулмена, который, как и другие лоялисты, решил остаться на Таити. В разгар пира — его предусмотрительно устроили в кубрике, — когда все уже изрядно хлебнули, мятежники незаметно перерезали якорный канат, подняли паруса и вышли в море. Коулмен тотчас заподозрил неладное, прыгнул за борт и поплыл к берегу; никто не успел ему помешать. Женщины поверили, что корабль всего-навсего переводят в Паре, и вели себя спокойно. Когда же качка показала, что «Баунти» вышел далеко за барьерный риф, только одна из них оказалась достаточно храброй и трезвой, чтобы последовать примеру Коулмена.
На следующий день мятежники решили взглянуть поближе на своих суженых. Всего они захватили восемнадцать женщин. Почему-то на борту остались два островитянина из царства Таароа и один таитянин; в итоге мужчин было двенадцать. Каждый выбрал себе ту, которая ему больше приглянулась; остальных — разумеется, самых пожилых и некрасивых — высадили на Муреа. Однако тщательно рассчитанное математическое равновесие вскоре поколебалось: из трюмов вылезли три «зайца». Разум требовал вернуться и ссадить их на берег, но мятежники, видимо, решили, что эта троица сама себя должна винить…
С этой минуты и до того дня, когда мятежники наконец нашли свой обетованный остров, прошло почти четыре месяца. Как ни странно, до недавних пор никто точно не знал, каким маршрутом следовал «Баунти» во время решающего этапа своего удивительного плавания; еще более странно, что за сто семьдесят три года никто даже не пытался воспроизвести подлинный ход событий. Этот серьезный пробел теперь восполнен австралийским историком, профессором Генри Модом. Он основывает свое квалифицированное исследование на множестве документов, как недавно открытых, так и давно известных, но никем не изученных; среди них особенно ценен рассказ, записанный со слов одной из женщин, увезенных с Таити, по имени Дженни. Благодаря настойчивости и проницательности профессора Мода мы впервые можем шаг за шагом проследить долгий и многотрудный путь, который пришлось проделать оставшимся членам команды «Баунти», прежде чем они добрались до цели.
Прежде всего Крисчен подумал о Маркизских островах, расположенных в восьмистах морских милях к северо-востоку от Таити, но, обратившись к судовой библиотеке, он выяснил, что архипелаг населен, и не кем-нибудь, а кровожадными людоедами. Тут же он прочел, что первооткрыватель Маркизских островов испанец Менданья дальше на запад нашел еще два архипелага — Соломоновы острова и Санта-Крус. Они показались Крисчену более подходящими, и с согласия своих товарищей, которые очень смутно представляли себе географию Тихого океана, он взял курс на запад.
Через неделю в нескольких градусах южнее Аитутаки они увидели на горизонте скалистый островок, размерами и видом схожий с Тупуаи. Он не был обозначен ни на одной карте, и легко представить себе, с каким волнением мятежники приближались к нему. Тотчас навстречу вышла лодка. Люди в ней по всем признакам были настроены миролюбиво: оружия у них не было, зато они привезли приветственные дары — свиней и кокосовые орехи. Поразмыслив, один островитянин отважился подняться на борт, и между ним и таитянами завязалась оживленная беседа. Они понимали друг друга без труда, но тут случилось происшествие, очень живо описанное Дженни: «Одному из островитян… больно уж понравились перламутровые пуговицы на камзоле капитана Крисчена. Капитан любезно подарил ему камзол. Он встал на планшир и показал подарок своим, вдруг один из мятежников выстрелил и убил его. Он упал в море. Крисчен страшно возмутился. Но он мог только строго отчитать убийцу, потому что власть его была уже не та. Остальные островитяне подобрали убитого, положили его в пирогу и, причитая, погребли к берегу».
После столь беспардонного убийства, естественно, нечего было и помышлять о том, чтобы обосноваться на этом острове; и ведь он оказался обитаемым. Мятежники с понятной поспешностью отправились дальше, не узнав даже его названия. Но мы можем уверенно сказать, что они открыли Раротонгу — один из крупнейших островов архипелага Кука.
Шли недели. Точный путь мятежников нам неизвестен, но скорее всего они плыли зигзагом, чтобы покрыть возможно большую площадь. Менданья открыл немало островов, и многие из них были куда больше Таити. Казалось бы, их легко заметить издалека. И все-таки, несмотря на неусыпное наблюдение, море оставалось пустынным. Теперь, почти двести лет спустя, это нас не удивляет, так как мы знаем, что Менданья допустил небольшую, но досадную ошибку (и его вполне можно извинить, учитывая примитивность навигационных инструментов, которыми он располагал). Он поместил острова Соломоновы и Санта-Крус на две тысячи миль восточнее их истинного местонахождения.
В середине ноября стали иссякать запасы провианта и пресной воды. Прошло почти два месяца, как «Баунти» покинул Таити, и настроение на борту было отвратительное. Больше всех хандрил Крисчен; совесть мучила его сильнее чем когда-либо.
Судя по картам, ближайшим островом был Тонгатабу в архипелаге Тонга, и Крисчен решил идти туда. Об этом коротком визите мы знаем только, что англичан приняли хорошо и что они без труда приобрели столь нужные им овощи и фрукты. Вполне вероятно, что они купили также растения и домашних животных взамен погибших: вряд ли первоначально закупленный скот вынес такое долгое плавание.
От Тонгатабу каких-нибудь сто миль до того места, где 28 апреля произошел бунт, так что Крисчен и его спутники в двойном смысле слова очутились там, откуда начинали, и будущее их было таким же неопределенным, как семь месяцев назад. Сойти на берег какого-нибудь из островов Тонга было бы безумием — тонганцы славились своим коварством и жестокостью. Кроме того, было очевидно, что первый же военный корабль, который адмиралтейство вышлет на розыски «Баунти», особенно тщательно прочешет архипелаг Тонга. И мятежники могли только продолжать свои зигзаги, уповая на то, что желанный остров в один прекрасный день чудом возникнет на горизонте.
Необычно высокий и плодородный атолл, который они увидели через несколько дней, поначалу их обнадежил, но надежда увяла, когда оказалось, что он заселен темнокожими курчавыми дикарями. Трудно по скудным данным, которыми мы располагаем, определить, что это был за атолл, но, очевидно, речь шла об одном из островов Лау южнее Фиджи. Тамошние воины были самыми грозными каннибалами Южных морей, и вряд ли можно осуждать мятежников за то, что они, не задерживаясь, пошли дальше.
В конце концов Крисчен понял, что нельзя без конца петлять наугад, и вновь обратился к путевым очеркам из судовой библиотечки. Красивый том в кожаном переплете содержал интереснейший рассказ капитана Картере о том, что он, совершая вместе с открывателем Таити Валлисом кругосветное плавание в 1766–1769 годах, потерял своего товарища и случайно напал на уединенный скалистый остров в южной части Тихого океана. Внимательно читал Крисчен приводимые ниже строки, повествующие о малоизвестном открытии Картере:
«Мы продолжали следовать западным курсом до четверга 2 июля (1767 года), когда вечером обнаружили землю на севере. На следующий день подошли ближе; из моря все выше вздымался могучий утес. Остров имел больше пяти миль в окружности и казался необитаемым, однако он был покрыт деревьями, а в одном месте мы увидели ручей. Не помешай нам прибой — чрезвычайно сильный в это время года, — я бы сошел на берег. Промерив глубину с западной стороны, меньше чем в миле от острова, я определил, что она составляет двадцать шесть саженей. Дно коралловое и песчаное, наверно, в тихий летний день здесь не только возможно, но даже легко высадиться. Вокруг острова на расстояния менее одной морской мили кружили большие стаи птиц, в море как будто было вдоволь рыбы. Координаты острова 25°02′ южной шпроты и 133°30′ западной долготы. Оп настолько высок, что мы заметили его на расстоянии пятидесяти с лишним лиг[9]. Открыл его молодой джентльмен, сын майора морской пехоты Питкерна, поэтому мы назвали его островом Питкерн».
Не было никакой уверенности, что остров Питкерн необитаем, но во всех прочих отношениях он казался идеальным, и внезапное решение Крисчена круто повернуть и взять курс на этот далекий утес не вызвало особых возражений. По прямой от Лay до Питкерна — около трех тысяч морских миль. К сожалению, идти напрямик нельзя было: в этих широтах круглый год преобладает восточный пассат, поэтому мятежникам снова пришлось спуститься до тридцати — сорока градусов южной широты, идя по дуге, которая удлиняла путь по меньшей мере на пятьсот морских миль. Это объясняет почему последняя часть их блужданий затянулась почти на два месяца; сюда же входят дни, потраченные на поиски, ибо Картере поместил Питкерн на двести миль западнее его истинной позиции.
О мрачном настроении, которое царило на «Баунти», пока длилось это новое испытание, Дженни сказала: «Все на борту сильно приуныли и подумывали о том, чтобы вернуться на Отахеите».
Пятнадцатого января 1790 года к вечеру бедняги наконец-то увидели Питкерн. На ночь Крисчен лег в дрейф, а утром приблизился к острову и несколько раз обошел вокруг него. Крутые скалистые берега придавали ему вид огромного замка; лишь кое-где расщелины и выступы позволяли подняться на высоту трехсот метров, где простирались плато и зеленые долины. Несмотря на умеренный ветер, остров окружало сплошное кольцо рокочущих бурунов, и нигде не было видно не то что хорошей гавани, даже защищенной стоянки. Словом, лучшее и самое неприступное укрытие во всех Южных морях, больше ничего искать не надо, если только остров действительно необитаем и удастся невредимыми выбраться на берег со своим имуществом.
Лишь через два дня море настолько успокоилось, что Крисчен решился спустить на воду катер. Взяв с собой садовника Брауна, матросов Уильямса и Микоя, а также трех полинезийцев, он повел лодку через прибой. Пережив несколько тревожных минут, они пробились к береговым скалам, вытащили катер на камни и осторожно полезли вверх по крутому склону.
Первое, что увидели, перевалив через гребень, усталые, запыхавшиеся новоселы, были заросли хлебного дерева. Затем им встретились бананы и ямс. Все великолепно знали, что ни одно из этих растений не распространяется без помощи человека. Уж не заселен ли остров? И на всякий случай мятежники, прежде чем продолжать разведку, зарядили свои мушкеты. А дальше появился еще более явный признак того, что они не первые люди на острове: полинезийские идолы и каменные алтари, так хорошо знакомые им по Таити и Тупуаи. Но изваяния и алтари были старые, поросшие мхом, и Крисчен стал склоняться к мысли, что обитавшие на острове полинезийцы давным-давно двинулись дальше.
Англичане тщетно искали описанный Картере ручей, зато нашли много хороших родников, и садовник Браун с удовлетворением отметил, что земля тучная и плодородная. Переночевав на берегу, отряд на следующий день завершил обход, так и не встретив никаких намеков на то, чтобы здесь остался хоть один из прежних жителей. В отличном настроении разведчики возвратились на корабль; даже Крисчен выглядел радостным и счастливым, каким его не видели много месяцев.
Однако радость быстро сменилась гневом, когда он узнал, что без них на «Баунти» уже поговаривали о том, чтобы бросить береговой отряд и идти на Таити. Крисчен усмирил строптивцев и велел незамедлительно выгружать провиант и уцелевший скот. Растения, которые они все эти четыре месяца так старательно оберегали, не пригодились, поскольку на острове их было и без того достаточно. Лодки не поспевали все перевозить, но Крисчен нашел выход — он распорядился использовать крышки от люков; получились устойчивые плоты с хорошей грузоподъемностью. Опасаясь, как бы новые сепаратисты на захватили корабль, Крисчен неустанно подгонял людей, никому не давая передышки.
Двадцать третьего января запасы и большая часть рей, такелажа и парусов были благополучно доставлены на берег и сложены между камнями в маленькой бухточке, которую впоследствии стали называть заливом Баунти. Еще до этого команда переселилась в две большие палатки, наскоро сделанные из парусов. Однако на «Баунти» еще оставались ценные предметы, которые мятежники хотели забрать. Крисчен по-прежнему опасался, как бы не воспрепятствовали его планам, и решил пойти на крайние меры, чтобы предупредить всякие попытки устроить новый бунт. В тот же вечер по его приказу корабль был подожжен, и, когда подняли тревогу, было уже поздно спасать «Баунти». Образцовый по своей краткости рассказ Дженни лучше самых длинных описаний показывает, что в этот миг думали и чувствовали мятежники. По ее словам, «они все зарыдали, увидев горящий корабль. Многие горько раскаивались, что не арестовали капитана Блая и не вернулись на родину, вместо того чтобы бунтовать».
То обстоятельство, что из всех девяти новоселов один Крисчен был твердо намерен поставить крест на прошлом и радовался возможности начать новую жизнь на Питкерне, не сулило ничего хорошего.
Глава седьмая Торжество Блая
Если говорить о литературной технике, то рассказать о событиях, предшествовавших бунту, в общем несложно: судьбы главных действующих лиц тесно переплетены, и есть только один главный стержень. Описать столь же ясно и вразумительно, что было после бунта, куда труднее, так как основное русло разветвляется и перед нами ряд эпизодов, далеко отстоящих друг от друга в пространстве и времени. Поэтому дальше соблюдать хронологический принцип невозможно. К счастью, ток событий все-таки объединен логической и драматической связью, которую исследователи до сих пор не замечали, хотя ее довольно просто выявить. Вот почему мы теперь вдруг переносимся на девять месяцев назад и возвращаемся в район Тофуа, чтобы проследить судьбы Блая и его восемнадцати спутников начиная с раннего утра 28 апреля 1789 года, когда они на сильно перегруженном баркасе отчалили от «Баунти».
Крисчен со спокойной душой спровадил их, так как искренне верил, что они сразу возьмут курс на ближайший остров архипелага Тонга и будут там ждать, когда появится какой-нибудь европейский корабль. Но сидеть сложа руки и ждать невесть сколько, пока их найдут, вовсе не устраивало такого деятельного и предприимчивого человека, как Блай. Не успел «Баунти» скрыться за горизонтом, как он принялся размышлять: нет ли способа побыстрее вернуться в Англию и тем самым ускорить погоню за этими пиратами, как он в дальнейшем неизменно называл всех, кто остался на корабле. Способ был только один — своими силами добраться до ближайшего места, где можно было попасть на судно, идущее в Европу. Два года назад английское правительство направило военную экспедицию к восточным берегам Австралии, чтобы основать там колонию заключенных. Блай знал об этом, но не мог знать, удалось ли это дело, а идти туда на авось было слишком рискованно. Получалось, что единственное место, где он твердо мог рассчитывать на помощь, — голландские и португальские торговые фактории в Ост-Индии. Ближайшая из них находилась на острове Тимор, и хотя до него было три с половиной тысячи морских миль, а борт баркаса выдавался над водой всего на двадцать сантиметров, Блай решил пойти ва-банк.
Но чтобы была хоть какая-то надежда на успех, требовалось, во-первых, запасти еще воды и провианта, во-вторых, отремонтировать баркас. Значит, следовало обосноваться на одном из ближайших островов, пока не будут закончены все приготовления. В 1777 году, попав на Тонга вместе с Куком, Блай сдружился с могущественным вождем по имени Поулехо, который — так рассказывали на Номуке — теперь жил на Тонгатабу. Блай надеялся, что Поулехо поможет ему, но до Тонгатабу было больше ста миль, и капитан решил но пути зайти на какой-нибудь другой остров, чтобы люди могли отдохнуть и навести порядок в баркасе. Ближе всех был атолл Коту, но Блай отлично знал, что на коралловых островах нет ни фруктов, ни овощей, да и с пресной водой обычно плохо. И он взял курс на север, на вулканический остров Тофуа; до него было тридцать миль, и столб дыма из кратера служил надежным ориентиром. Хотя люди приободрились и гребли усердно, вздымающаяся на пятьсот метров вершина показалась на горизонте только под вечер, когда свежий ветер подогнал баркас.
Уже в полной темноте они обогнули южную оконечность Тофуа. Теряющийся во мраке берег был усеян каменными глыбами, о которые с ревом разбивался могучий прибой. Помощник старшины Симпсон храбро прыгнул в воду и поплыл на разведку. Он вернулся оглушенный, наглотавшийся воды, и отсоветовал причаливать ночью. Блай не прекословя внял разумному совету. Глубина не позволяла бросить якорь, и людям пришлось дежурить всю ночь, удерживая баркас с подветренной стороны острова, на безопасном расстоянии от прибоя. А чтобы как-то умерить огорчение своих спутников, надеявшихся отдохнуть на берегу, Блай выдал по глотку рома, после чего каждый прикорнул, как мог.
Конечно, это был не сон, но вид берега на рассвете вернул людям хорошее настроение и баркас медленно пошел вдоль острова. Несколько часов ушло на то, чтобы найти защищенную бухту, где можно было стать на якорь. К этому времени все страшно проголодались, но Блай ни в коем случае не хотел тратить скудный провиант, захваченный с «Баунтп», и отправил на поиски съестного отряд во главе с писарем Сэмюэлем. Залив окаймляли отвесные скалы, и лишь одна-единственная крутая тропка вела внутрь острова. Следовательно, можно было не опасаться внезапного нападения; наверно, Блай потому и решил остаться здесь, хотя стоянка была далеко не надежной.
Матросы развели на берегу большой костер, чтобы можно было тотчас приготовить роскошный завтрак, как только «заготовители» вернутся с плодами, орехами, яйцами, курами и свиньями. Увы, когда Сэмюэль и его товарищи наконец пришли из трудной разведки, оказалось, что они ничего не принесли. Сэмюэль доложил, что остров, кажется, не населен, хотя есть признаки, что иногда его посещают люди. Всю добычу отряда составляли несколько литров пресной воды, собранной в расщелинах. И пришлось голодным морякам довольствоваться куском галеты да кружкой грога на человека, ибо Блай твердо решил беречь запасы, пока не будет уверенности, что их можно пополнить.
Сразу после этого все возвратились на баркас и разведку продолжили с моря. Муть подальше Блай приметил на гребне скалы несколько кокосовых пальм. Сильный прибой не позволял подойти к берегу, но два добровольца прыгнули в воду, с превеликим трудом и риском добрались до пальм и добыли штук двадцать орехов.
Потеряв надежду запастись провиантом на Тофуа, Блай решил идти на Тонгатабу, однако свежий ветер вскоре вынудил его повернуть назад. Ближайшим более или менее защищенным местом была та самая бухта, в которой они ночевали. Здесь они снова бросили якорь и провели еще одну бессонную ночь в тесном баркасе.
На рассвете была сделана новая попытка уйти от Тофуа, но волнение не унималось, и уже через несколько часов Блаю в третий раз пришлось войти в маленький залив, окаймленный скалами. Хотя он упорно берег провиант и завтрак состоял из куска галеты и ложки рома на человека, положение стало угрожающим, ведь запасы пополнить не удалось. Не полагаясь на своих подчиненных, Блай сам пошел на разведку вместс с Сэмюэлем и Нелсоном и отыскал другую тропу, которая привела их через бугристые поля застывшей лавы к огнедышащему кратеру. Здесь они, к своему удивлению, нашли две лачуги и несколько кустов банана, а поблизости хороший родник. Они вернулись к баркасу усталые, зато принесли с собой три небольшие грозди бананов и сорок литров воды. Как всегда, Блай не щадил себя; в итоге он на спуске вдруг потерял сознание и, наверно, утонул бы в море, если бы спутники не подхватили его и не отнесли к лодке.
Пока они ходили, остальные занимались рыбной ловлей, ио Ничего не поймали, и обед оказался почти таким же скудным, как завтрак. Правда, настроение стало лучше: раз остров населен, где-то должна быть плодородная земля и вдоволь воды, незачем идти на Тонгатабу. Блай предложил остаться еще на несколько дней на Тофуа и как следует изучить те части острова, которые они еще не видели. Все так привыкли слепо подчиняться своему командиру, что сразу согласились.
Но, чтобы набраться сил для походов, надо было сперва как следует выспаться. На берегу залива моряки обнаружили низкую пещеру, где можно было укрыться от дождя и от врагов. По приказу Блая здесь быстро устроили ночлег для команды. Только Фраер и еще несколько человек остались на баркасе следить за тем, чтобы его не унесло.
Рано утром Блай выслал новый отряд, и уже через час-другой его люди вернулись с доброй вестью: они видели дружественно настроенных островитян. В свою очередь местные жители не замедлили оповестить друзей и соседей о неожиданной встрече, и вскоре к лагерю в пещере пришло около тридцати тонганцев. Блай не пожалел усилий, чтобы завоевать их расположение. Хорошо зная таитянский язык (который отличается от тонганского не меньше, чем шведский от исландского), он сумел объясниться с ними, и по его настоятельной просьбе они принесли плоды хлебного дерева и бананы; развернулась меновая торговля. С самого начала Блай беспокоился: что ответить, если островитяне спросят, где его судно. Вскоре один тонганец и впрямь задал этот вопрос. И хотя Блай предвидел его, он, вместо того чтобы припугнуть островитян, соврать, что за ним вскоре придет хорошо вооруженный корабль с многочисленной командой, брякнул, что они потерпели крушение и что остальная часть команды погибла. К счастью, его слова как будто не дошли до островитян, они как ни в чем не бывало продолжали торговые операции. Правда, когда они под вечер ушли и Блай проверил, что же приобретено, итог оказался настолько скудным, что на ужин пришлось лишь по кокосовому ореху на человека и по одному плоду хлебного дерева на четверых. Похоже, все-таки было бы разумнее идти на Тонгатабу, как он задумал… Тут еще и погода улучшилась; но теперь-то уже было поздно выходить в море, так что Блай велел своим людям развести караульный костер и снова устраиваться на ночь в пещере.
Поразмыслив, Блай решил, что воды запасено недостаточно, и с рассветом послал людей набрать еще несколько бочонков. Тем временем опять появились тонганцы, причем их было еще больше, чем накануне. Почти все они спустились по тропе сверху, только несколько человек пришли на пирогах. Среди последних был пожилой вождь Макакавау; он задумал осмотреть поближе баркас, на котором оставался за старшего Фраер. Вождя особенно занимало, что лежит в сундуке Перселла. Фраер солгал, что там хранятся мушкеты. Макакавау потребовал, чтобы ему показали их, и повел себя так угрожающе, что Фраер испугался и уступил. Макакавау убедился, что у англичан нет огнестрельного оружия, зато есть много соблазнительных предметов, и он нахально попросил пилу. Фраер, собравшись с духом, отказал ему, чем немало разозлил вождя. В это время на берегу появилось еще несколько вождей, сопровождаемых своими воинами. Вожди показались Блаю знакомыми, и некоторые из них подтвердили, что они встречались с ним на Номуке и Тонгатабу, когда туда заходил капитан Кук. А одного из них — Нгакитикити — Блай видел совсем недавно: он был среди тех, кого англичане неделю назад задержали в качестве заложников, когда пропал якорь с баркаса.
То ли вожди надумали отомстить за обиду, то ли их просто соблазняли столь драгоценные с их точки зрения предметы — во всяком случае они повели себя крайне вызывающе. Видимо, они вызвали подкрепление, потому что к полудню бедные англичане насчитали на берегу между пещерой и баркасом не меньше двухсот воинов. Тонганцы открыто демонстрировали свою враждебность, постукивая камнями для пращей; судя по всему, назревала атака. Блай и его немногочисленные спутники чувствовали себя прескверно — они не могли уйти, пока не вернулись их товарищи, отправившиеся за водой. Вожди клялись Блаю, что они его друзья, приглашали сесть рядом с ними. Но он только еще больше настораживался и в конце концов ушел в пещеру, где хладнокровно принялся заполнять судовой журнал, описывая события истекших суток.
Вдруг несколько тонганцев ухватили за швартов и потянули баркас к берегу. Все вооружение англичан составляли четыре сабли — две на борту, две в пещере. Положение казалось безнадежным, но Блай решительно схватил саблю, подбежал к одному из вождей и пригрозил перерезать ему глотку, если он не велит своим людям оставить лодку в покое. Как ни странно, тот подчинился, и Блай отступил обратно в пещеру, где он мог быть спокоен за свой тыл.
Около двенадцати часов с гор вернулись наконец заготовители, но принесли они всего каких-то пятнадцать литров воды. Чтобы подкрепить силы своих товарищей но несчастью, Блай распорядился выдать роскошное угощение: по кокосовому ореху и по плоду хлебного дерева на брата. Одновременно он изложил им свой нехитрый план, как выйти из осады. Вот что он записал в судовом журнале: «Поскольку наше положение было таким, что хуже некуда, я сказал своим людям, что буду ждать до заката. К тому времени ситуация может измениться к лучшему, а, может, островитяне просто уйдут, как это было накануне. Сейчас можно только пробиться с боем, ночью больше надежд на успех, а до тех пор надо попытаться переправить на баркас то, что удалось выменять».
Сначала англичане свободно ходили от пещеры к берегу и обратно, но когда аборигены поняли, что жертва намеревается ускользнуть, они стали чинить препятствия. Самые смелые даже пускали свои руки в ход, и, когда Блай отправил на борт судовой журнал, его чуть не перехватили два тонганца, которые справедливо заключили, что это ценный предмет. Но больше всего осажденных тревожило то, что непрерывно прибывали новые воины — как с гор по тропе, так и на военных пирогах. «Война нервов» тоже не прекращалась: все тонганцы зловеще постукивали метательными камнями.
Правда, дальше этого пока но шло. Однако вечером, когда островитяне принялись разжигать костры, стало очевидно, что они задумали остаться, может быть, даже перейти ночью в наступление. Выход был один: рискнуть, немедленно попытаться уйти. И, собрав оставшееся имущество, Блай со своими подчиненными не спеша пошел к баркасу, где их с тревогой ждал Фраер. Вожди, среди которых Макакавау, видимо, был самым главным, преградили им дорогу и с деланным удивлением спросили, почему гости не хотят ночевать на берегу. Блай сердито ответил, что привык спать на борту, но завтра утром охотно вернется и продолжит меновую торговлю. Он даже сказал, что задержится на Тофуа, пока погода не позволит идти на Тонгатабу. Макакавау был лаконичнее и откровеннее:
— Вы не хотите остаться на берегу. Тогда мы вас убьем.
Блай снова попытался применить тактику заложников: он крепко схватил Нгакитикити за руку и держал его, а остальные кинулись в воду и быстро взобрались в баркас. Однако Нгакитикити удалось вырваться, и тотчас тонганцы с громкими криками пошли в атаку. Под градом камней Блай бросился бежать и ухитрился достичь воды невредимым. Тем временем Фраер подогнал баркас ближе к берегу и отбивался от двоих островитян, которые силились за конец швартова вытащить лодку на камни. И в эту критическую минуту Блай и Фраер не придумали ничего лучшего, как затеять в язвительном тоне спор — как надо маневрировать баркасом. В конце концов Блай позволил своему заклятому врагу втащить себя в лодку. Пока они тратили время на пустые препирательства, Нортон по собственному почину отправился на берег, чтобы отогнать тонганцев и отвязать канат. Поступок смелый — и глупый: разъяренные островитяне набросились на Нортона, повалили его и пробили ему голову камнями. Увидев это, мокрый насквозь Блай выхватил нож и перерезал канат. Но неприятности на этом не кончились, якорь зацепился за что-то на дне и не поддавался, пока не переломилась одна из лап. В тот же миг шесть человек навалились на весла, и баркас выскочил из бухты.
Они убрались вовремя: вдогонку за ними стремительно пошли пироги с воинами. На англичан со всех сторон посыпались камни. Свободные от гребли пытались кидать камни обратно, но силой и меткостью они не могли сравниться с полинезийцами. Как ни старались гребцы, расстояние между лодкой и пирогами медленно, но верно сокращалось. Тогда по приказу Блая англичане прибегли к последнему, отчаянному средству: они стали стягивать с себя одежду и бросать в воду. Хитроумный расчет Блая оправдался — тонганцы принялись подбирать трофеи, а за это время баркас снова вырвался вперед. Начало темнеть, к тому же баркас отошел от берега так далеко, что остров уже не защищал от сильного ветра, и преследователи предпочли прекратить погоню.
Итак, Блаю и его уцелевшим семнадцати спутникам удалось спастись. Но положение оставалось тяжелым, они сидели во тьме в качающемся баркасе и не знали, как поступить дальше. Блай не очень решительно предложил зайти, как было задумано сначала, на Тонгатабу и закупить там провиант для долгого плавания до острова Тимор в Ост-Индии. Для этого были все основания, ведь в запасе у них было только: шестьдесят с половиной килограммов галет, девять килограммов свинины, сто двадцать пять литров воды, пять литров рома, три бутылки вина.
Боцман Коул твердо заявил, что нелепо надеяться, будто на Тонгатабу их примут лучше, чем на Тофуа; лично он за то, чтобы идти прямо на Тимор.
— Но на Тонгатабу люди совсем другие, — осторожно возразил Блай.
Штурман Фраер, понятно, не мог оставаться в стороне II учтиво спросил:
— У вас были какие-нибудь недоразумения с туземцами на Тонгатабу, сэр, когда вы заходили туда с капитаном Куком?
— Да, пришлось арестовать несколько человек за кражи.
— В таком случае, сэр, они подстроят нам какую-нибудь каверзу.
— И что же вы предлагаете, мистер Фраер? — ядовито спросил Блай.
Ответ последовал тотчас:
— Сэр, провидение может вынести нас к какому-нибудь дружественному берегу, если мы пойдем по ветру, вместо того чтобы спорить с ним.
Ветер дул со стороны Тонгатабу, в сторону Тимора, так что нетрудно было понять, за кого Фраер. Остальные поддержали Фраера и Коула: лучше идти через океан, чем еще раз встречаться с тонганцами.
Блай спросил, не забывают ли они, что до Тимора три с половиной тысячи морских миль и что у него нет карт той части Тихого океана, которую им надо пересечь. Напомнил также, что такое плавание займет месяца два, а пополнить запасы провианта вряд ли удастся. Придется обходиться тем, что есть, то есть каждый будет получать в день унцию галет и джил воды (напомню, что унция — двадцать восемь граммов, джил — сто сорок). Да и то воды хватит от силы на две недели, так что вся надежда на дожди.
Конечно, Блай с самого начала понимал, что единственный выход — идти прямо на Тимор, но ему нужно было, чтобы его спутники сами это предложили: тогда они не будут винить его во всех лишениях и злоключениях. На всякий случай он лишний раз спросил Фраера, тверд ли тот в своем решении. И штурман повторил, что готов положиться на ветры и провидение.
— Так, ребята, — обратился тогда Блай к остальным, — Все согласны жить на унцию галет и джил воды в день?
— Да, сэр! — раздался дружный ответ.
Испытывая радость и облегчение, моряки живо подняли паруса, затем Блай разделил людей на две вахты и велел Фраеру, который сидел на руле, взять западный курс. Баркас шел уверенно, но волнение усиливалось и он терял скорость в ложбинах, а на гребнях то и деле грозил опрокинуться. Волны захлестывали его, приходилось непрерывно вычерпывать воду. И когда утром и; моря вынырнуло зловеще красное солнце, Блай лаконично записал в судовом журнале: «В таком ужасном положении, наверно, никто из нас еще не был».
Было очевидно, что надо как-то облегчить баркас иначе он пойдет ко дну. Блай проверил имущество и велел выбросить за борт запасной парус, бухту каната и всю лишнюю одежду. По вообще-то моряков спасла, конечно, гибель Нортона, после которой численность команды сократилась с девятнадцати до восемнадцати человек. Нортон был среди них самым рослым и тучным и получилось, что им повезло…
Проверка провианта показала, что больше всего пострадали от морской воды галеты. Блай распорядился сложить их в сундук Перселла, вытащив все инструменты; кстати, сундук запирался.
Во время своих предыдущих плаваний Блай часто слышал от тонганцев об одном архипелаге, который они называли Вити или Фиджи. Этот архипелаг лежал к северо-западу от Тонга, то есть на пути баркаса, и Блай конечно, не мог устоять против соблазна попытаться отыскать его и нанести на каргу, хотя для такой задачи у него не было ни сил, ни времени, ни снаряжения. Уже 4 мая он увидел первый остров, а затем последовало столько открытий, что Блай позабыл о всех невзгодах. Его спутники радовались гораздо меньше — их беспокоило, что будет, если местные жители в свою очередь обнаружат баркас. И уж совсем они пали духом, когда Блай повел баркас между двумя густонаселенными островами Вити-Леву и Вануа-Леву. Все шло хорошо, пока они не приблизились к крайним на западе островам из группы Фиджи — Ясава. Откуда ни возьмись появились две большие парусные пироги и пошли им наперерез. Но англичане слишком хорошо помнили неприятные события на Тофуа, им вовсе не хотелось знакомиться с фиджийцами, они дружно налегли на весла в помощь парусам. Гонка продолжалась почти два часа; очень кстати подул свежий ветер и прибавил скорости баркасу. В конце концов островитянам надоела тщетная погоня, и они повернули обратно. Неизвестно, что у них было на уме, но в общем-то англичане не зря проявили осторожность: в ту пору фиджийцы были самыми кровожадными и коварными людоедами Южных морей.
Вскоре утомленных гребцов вознаградил сильный ливень; на расстеленные паруса удалось собрать двадцать пять литров воды, и впервые за много дней отряд Блая смог по-настоящему утолить жажду. Правда, дождь был не только благом: промокшие люди быстро озябли и за всю ночь не сомкнули глаз. Следующий день тоже был пасмурным и дождливым. Блай попытался развлечь своих спутников рассказом о том, что ему было известно об островах и ветрах в этой части Тихого океана, даже начертил карту. А потом они смотрели, как он мастерил весы, чтобы взвешивать паек.
Блай просто подвесил на палке две половинки скорлупы кокосового ореха; гирями служили две пистолетные пули, случайно оказавшиеся на дне баркаса. Тщательные расчеты и повторные опыты показали, что вес пули как раз отвечает одной порции галет. (Позднейшие исследования подтвердили, что такая пуля весила ровно одну двадцать пятую фунта, то есть восемнадцать граммов). В день они получали три такие крохотные порции и больше ничего, ибо Блай разумно решил держать свинину в запасе на самый крайний случай. Он свою норму крошил и размачивал в воде и каждый кусочек долго жевал, прежде чем проглотить. Другие окунали галеты в морскую воду — простой и верный способ сделать их съедобнее, усвоенный ими еще на Таити.
На следующий день находчивый Блай предложил нарастить борт досками и брезентом для защиты от брызг и волн. К сожалению, брезента не хватило на тент, а дождь все но унимался. Чтобы согреться, моряки по совету Блая время от времени снимали о себя одежду и мочили ее в теплой забортной воде. Правда, в тесной лодке эта процедура была не только сложной, по и утомительной. А тут еще под ногами постоянно плескалась вода, и приходилось поочередно вычерпывать ее. Ветер и волны не раз грозили опрокинуть баркас, и все напряженно следили за рулевым, от которого зависела жизнь команды. Его задача осложнялась тем, что ветер постепенно смещался к югу. Это могло сбить их с курса, и тогда пришлось бы следовать не через Торресов пролив, а гораздо более длинным путем в обход Новой Гвинеи. И как ни опасно было идти лагом к волне, они старались выдерживать курс.
В первые же дни своего отважного плавания англичане привязали к корме леску, но клева не было. Очевидно, главная причина их неудачи — не тот крючок и не та наживка, ведь обычно в этих водах косяками ходят корифены, тунцы и бониты.
Четырнадцатого и пятнадцатого мая, когда баркас проходил севернее Новых Гебрид, на горизонте вдруг появились высокие скалистые острова. Блай окрестил их островами Бенкса в честь своего друга и покровителя сэра Джозефа, но, памятуя неприятные приключения на Тофуа и у Фиджи, не решился подойти к берегу, как ни хотелось размять ноги и раздобыть съестного. Тогда команда принялась уговаривать его раздать свинину, чтобы хоть один раз наесться и восстановить иссякающие силы. Блай ожесточил свое сердце и ответил категорическим отказом, а чтобы как-то ободрить людей, он время от времени выдавал им по чайной ложечке рома— безошибочное средство для поднятия духа.
Но тут опять начались ливни, и англичане совсем приуныли. 20 мая Блай ослабевшей рукой записал в судовом журнале: «На рассвете несколько человек выглядели скорее мертвыми, чем живыми. У всех ужасный вид, и все с отчаянием смотрят на меня. Голод делает свое, но от жажды никто не страдает, пить не хочется, организм получает влагу через кожу. Из-за сырости спать почти не приходится, просыпаешься от судорог и боли в костях». Как обычно, Блай всячески старался подбодрить своих людей, но вряд ли его слова, как ни справедливы они были, звучали в такой миг убедительно. «Я пытался втолковать им, что так даже лучше., чем если бы стояла хорошая погода». На следующий день у него уже не было сил изыскивать какие-либо доводы, он просто записал: «Мы страдаем невыносимо. Нас поливает дождем и морской водой так, что глаза ничего не видят. Спать — мука, как бы ни клонило ко сну. Мне кажется, я вовсе не сплю. Мы страшно зябнем, приближение ночи всех заставляет дрожать».
Тем не менее 22 мая все были живы. Богобоязненный Блай объясняет ото так: «Если люди когда-либо познавали могущество и снисходительность божественного провидения, так это мы, ибо я берусь утверждать, что наше нынешнее положение заставило бы дрогнуть самого храброго моряка. Мы должны идти по ветру, а волны обгоняют и захлестывают нас. Приходится непрестанно быть начеку, малейшая ошибка рулевого всех нас погубит». Еще через сутки людям Блая казалось, что все кончено. Напрягая последние силы, Блай вывел в журнале волнующие слова: «Сегодня мы бедствуем еще больше, чем вчера. Ночь была ужасная. Волны с огромной силой обрушивались на нас, в страхе и тревоге мы вычерпывали воду. На рассвете все были в тяжелом состоянии, и я боюсь, что еще одна такая ночь повлечет за собой гибель многих из нас…»
Под вечер океан наконец угомонился, а на следующий день, к невыразимой радости мореплавателей, выглянуло солнце. Все поспешили развесить одежду для сушки, и когда Блай в придачу к обычной порции галет и воды выдал по унции свинины на человека, это было подлинным праздником. Но Блай был не из тех, кто легко впадает в ложный оптимизм, он использовал желанную передышку для того, чтобы еще раз проверить запас провианта и сделать новый расчет. Вышло, что если и впредь выдавать три раза в день по одной двадцать пятой фунта галет, их хватит на двадцать девять дней. При благоприятных условиях можно было поспеть на Тимор раньше этого срока, но где гарантия, что плавание не затянется из-за дурной погоды и прочих злоключений? А если придется идти до самой Явы? И Блай решил выдавать галеты не три, а два раза в день, чтобы их хватило на полтора месяца. А ведь его спутники были доведены до такого отчаяния, что только человек большого мужества мог принять и провести в жизнь такое решение. Но у Блая были и мужество, и воля, он даже сумел так подать свое предложение, что никто не возражал.
В тот же день они увидели морских птиц, которые подлетели к баркасу и долго кружили над ним. Это были крачки, они настолько глупы и ленивы, что охотно садятся на суда и не взлетают, пока их не сгонят. Люди Блая познакомились с ними еще на «Баунти»; теперь они нетерпеливо ждали, когда птицы приблизятся вплотную. Это случилось лишь на следующий день. Одному моряку удалось поймать крачку. Все пошло в ход — и кожа, и внутренности, и ноги. Добычу тщательно разделили на восемнадцать частей и распределили по справедливости: один указывал на порцию и спрашивал «кому?», другой, отвернувшись, называл чью-нибудь фамилию. Нужно ли говорить, что они жадно проглотили эту малоаппетитную пищу! Под вечер поймали олушу, которая побольше крачки и чуть ли не еще ленивее. Кровь отдали троим наиболее ослабевшим, потом разрезали птицу на маленькие кусочки. На следующий день поймали двух крачек. При дележе обнаружили, что их желудки содержат непереваренных летучих рыбок и куски спрута; изголодавшиеся люди и этим не пренебрегли.
По-прежнему было солнечно и жарко, и вскоре они стали снова мечтать о дожде — сильном, затяжном дожде! При таком истощении, как и предсказывал Блай, людям было гораздо тяжелее переносить тропический зной, чем ливни. Начиная с 26 мая плавание превратилось в отчаянную гонку со смертью. К счастью, до Большого Барьерного рифа оставалось уже совсем немного.
В три часа утра 28 мая (ровно через месяц после бунта) сидевший на руле Фраер вдруг услышал глухой рокот. Поднявшись, он увидел в нескольких сотнях метров яростные буруны. Блай тотчас велел изменить курс; это оказалось нетрудно, так как ветер был юго-восточный, то есть дул параллельно рифу. Ревностный Блай приказал также грести, хотя люди настолько ослабли, что вряд ли от этого был какой-нибудь толк. Баркас вышел из опасной зоны и лег в дрейф до утра.
Теперь все зависело от того, сколько времени понадобится, чтобы найти просвет в рифе и островок, где бы можно было отдохнуть и восстановить силы. До Блая один лишь капитан Кук побывал в коварных водах между Большим Барьерным рифом и восточным побережьем Австралии, и немногие проходы, которые он обнаружил, находились южнее того места, где сейчас качался на волнах баркас. А тут еще ветер переменился на восточный и грозил выбросить их на риф.
Но этот риск казался им пустяковым перед угрозой мучительной смерти от голода, жажды и зноя, и, как только рассвело, Блай велел идти к рифу. На счастье англичан, в одной морской миле к северу они заметили проход, а затем с радостью увидели круглый островок в тихих водах за рифом. Баркас на всех парусах проскочил проход и пошел к острову. До него было всего около двадцати миль, однако тут Блай заметил другой, более крупный остров, к которому и причалил.
Очень кстати остров оказался ненаселенным, но день уже близился к концу, и до темноты они успели только собрать несколько устриц. Зато утром им сразу же посчастливилось найти столько устриц, что они наелись досыта. А так как Блай захватил увеличительное стекло, они развели костер и сварили полный котел устриц, к которым еще добавили галет. Остаток дня все собирали устриц на ужин. Остров был назван «Ресторейшн» (Восстановление), причем Блай подразумевал не только восстановление сил своего отряда, но и важное событие в истории Англин, реставрацию короля Карла II, которая произошла в тот самый день, 29 мая, ста двадцатью девятью годами раньше.
До сих нор все думали лишь о том, чтобы выжить и не дать баркасу пойти ко дну. Теперь же, когда они, во всяком случае на время, оказались в безопасности, снова непомерное значение приобрели всякие пустяки. Все эти люди последовали за Блаем либо по зову долга, либо страшась ярлыка «мятежников», а в общем-то компания была довольно пестрая, и в нее входили два заклятых врага Блая — штурман Фраер и плотник Перселл. Не успели они прийти в себя после всего пережитого, как принялись бранить Блая, упрекая его в том, что он плохо стряпает. А тут еще кто-то ночью украл свинину, и атмосфера совсем накалилась.
Блай хотел запасти побольше устриц для дальнейшего плавания, но люди устали, у них душа не лежала к работе, и в конце концов он понял, что не стоит слишком уж давить на них. Сварив еще один котел устриц, он приказал собираться и повел баркас дальше на север. В воскресенье 31 мая был открыт новый остров, который Блай, не мудрствуя лукаво, назвал островом Воскресенья. Большая часть отряда пошла собирать устриц и мидий, остальные стали разбивать лагерь. В числе оставшихся был Перселл, а Блай, конечно же, нашел, к чему придраться. Считая, что его спутники обязаны ему спасением жизни, он в ходе спора напомнил об этом Перселлу в таких словах:
— Не будь меня с вами, вы не были бы здесь сейчас!
Перселл (и не только он) считал, что Блай сам вызвал бунт, и вложил в свой ответ весьма прозрачный намек:
— Вот именно, сэр, если бы не вы, мы бы не были здесь.
Блай пришел в ярость и заорал:
— Что вы такое говорите?
Перселл прикинулся простачком:
— Я говорю, сэр, если бы не вы, мы бы не очутились здесь.
— Подлец чертов, что ты подразумеваешь?
— Я никакой не чертов подлец, — отпарировал Перселл, тоже распаляясь. — Я ничуть не хуже вас, сэр, коли уж на то пошло.
Поведение Перселла было почти равносильно бунту, а Блай не хуже Крисчена понимал, что должен любой ценой отстаивать свой авторитет. Схватив саблю, он грубо крикнул Перселлу, чтобы тот защищался. Казалось бы, Блай проявил излишнюю снисходительность: вызвал Перселла на дуэль, вместо того чтобы пригрозить, что изрубит его на куски, если тот не смирится. Но вызов сделал свое, озадаченный Перселл нерешительно пробормотал:
— Нет-нет, сэр, вы же мой начальник.
В этот критический миг из похода за устрицами вернулся Фраер. Видно, ненависть к Блаю совсем ослепила его, потому что штурман, вместо того чтобы поддержать своего командира, крикнул, презрительно смеясь:
— Никаких дуэлей! Вы оба арестованы!
Только твердость и смелость могли теперь выручить Блая. К счастью, он обладал обоими этими качествами. Об этом говорит его ответ Фраеру:
— Видит бог, если вы посмеете коснуться меня, я вас убью на месте.
Фраер попытался заручиться поддержкой боцмана Коула, но тот превосходно понимал, чем все это грозит, и наотрез отказался участвовать в таком деле. Тогда штурман пошел на попятный и попробовал замять конфликт:
— Сэр, сейчас совсем неподходящее время для дуэли.
Блай показал на Перселла:
— Вы не слышали, как этот человек говорил, что он не хуже меня?
Перселл поспешил последовать примеру Фраера и примирительно объяснил:
— Просто, когда вы назвали меня подлецом, я ответил, что я не хуже вас, а когда сказали, что привели нас сюда, я только ответил, что без вас мы бы не были здесь.
Такое полуизвинение никак не удовлетворяло Блая. Но он чувствовал, что добиваться от Фраера и Перселла полной капитуляции опасно, а потому, взяв себя в руки, заключил все происшествие неожиданно миролюбивой репликой:
— Ну, ладно, если вы и вправду ничего другого не подразумевали, прошу извинить меня.
С этого дня Блай не расставался с саблей. В судовом журнале он от души благодарит провидение за то, что оно «наделило его достаточной крепостью духа, чтобы пустить ее в ход».
За последние дни англичане не раз видели людей на материке, и, когда 1 июня опять пришлось заночевать на песчаном островке в нескольких милях от берега, Блай строго приказал ограничиться небольшим костром в укрытом месте. Но, обходя вслед за тем остров, он вдруг увидел огромное зарево над лагерем. Он поспешил обратно и с негодованием обнаружил, что Фраер, вопреки его приказу, развел себе отдельный костер и уснул. Что он сказал Фраеру по этому поводу, для потомства не сохранено, но можно не сомневаться, что Блай дал волю давно копившемуся гневу. Тем временем несколько человек ходили ловить птиц. Они вернулись уже ночью и принесли двенадцать крачек — маловато, если учесть, что на острове гнездились полчища птиц. Нелсон заявил, что во всем виноват Лемб, он без нужды спугнул спящих крачек. Тут терпение Блая лопнуло, и, позабыв собственное достоинство и морской устав, он набросился на Лемба и избил его. Между прочим, Лемб заслужил взбучку: после плавания выяснилось, что он в тот вечер съел девять птиц, вместо того чтобы принести их товарищам.
На рассвете баркас пошел дальше. Блай задумал но примеру капитана Кука свернуть от северной оконечности полуострова Кейп-Йорк на запад и войти в Торресов пролив южнее островка, которому роялист Кук дал имя Принца Уэльского. Но Блай принял остров за часть материка и прошел дальше на север; при этом он, сам того не ведая, открыл новый отличный путь через извилистый Торресов пролив. 4 июня баркас выбрался на просторы Арафурского моря.
Заходя на острова, прикрытые Большим Барьерным рифом, люди Блая отчасти восстановили свои силы, но запасы провианта пополнились всего несколькими десятками сушеных устриц, а предстояло плыть еще не меньше полутора недель. К счастью, баркас по-прежнему навещали любопытные и ленивые морские птицы. 5 июня моряки поймали крачку; самые слабые выпили кровь, остальное разделили поровну. На следующий день Блай предусмотрительно увеличил рацион галет с двух до трех порций. Несмотря на это, все жаловались на слабость, бессонницу, отечность ног. Особенно плохо чувствовали себя лекарь Ледуорд и парусный мастер Лебог. А тут еще почти непрерывно лил дождь, и только одно утешало: сильный, устойчивый ветер позволял проходить около ста морских миль в сутки.
Одиннадцатого июня убили еще одну крачку. Блай решил сберечь ее на следующий день. Это возмутило Фраера, но утром двенадцатого внимание его и остальных было отвлечено другим событием: они увидели гористый берег. Тимор, ну конечно! Но остров протянулся почти на триста морских миль, и Блай мог сказать лишь, что они где-то у южного берега. Смутно припоминая, что голландский военный пост Купанг расположен на юго-западе острова, он повел баркас мимо пальм в том направлении.
Вот уже и ночь наступила, а на берегу виднелись только малайские деревушки. Боясь в темноте пропустить Купанг, Блай велел лечь в дрейф. Но и к середине следующего дня англичане еще не добрались до столицы колонии. На всякий случай Блай приказал бросить якорь, чтобы определить место. Лодка качалась на волнах всего в нескольких кабельтовых от берега, и люди, естественно, испытывали танталовы муки при виде фруктов и кокосовых орехов. Ничего, теперь уже недолго до Купанга… Только двоим — Фраеру и Перселлу — не терпелось сойти на берег. В конце концов разъяренный: Блай зашел в ближайшую бухту и велел обоим смутьянам выходить из лодки. Остальным он запретил покидать баркас. Как обычно, когда вопрос ставился ребром, Фраер и Перселл забили отбой, и баркас отправился дальше, как только Блай взял высоту солнца. Без хронометра он мог определить лишь долготу, но этого было достаточно, чтобы убедиться, что Купанг совсем близко. Через несколько часов люди Блая и в самом деле достигли юго-западной оконечности острова и нашли в деревушке малайца, который согласился быть лоцманом на последнем участке пути. Оставалось всего несколько морских миль, но одолеть их стоило огромных трудов, так как остров прикрыл баркас от ветра и англичанам пришлось грести, напрягая последние силы.
В два часа ночи они услышали пушечные выстрелы, и угасшая было надежда возродилась. И уже перед самым рассветом 14 нюня лоцман объявил, что путешествие окончено. По подсчетам Блая, за сорок два дня на перегруженном беспалубном суденышке была пройдена три тысячи семьсот одна морская миля в почти неизведанных водах. И потерян лишь один человек. Так что Блай нисколько не преувеличивал, когда с законной гордостью писал в судовом журнале: «Итак, счастливо завершилось с помощью божественного провидения это плавание, одно из самых удивительных, какие когда-либо совершались, если учесть его протяженность, а также почти полное отсутствие всего необходимого».
Мы знаем, что Блай придавал большое значение условностям, и, хотя все на борту нуждались в немедленном лечении и отдыхе, он, как полагалось по уставу, поднял флаг бедствия и стал ждать, чтобы местный начальник разрешил сойти на берег. К счастью, караул гарнизона тотчас заметил баркас, и через несколько минут последовал желанный сигнал. Первым, кого Блай встретил на берегу, был английский матрос, который отвел его к своему начальнику, некоему капитану Спайкермену, давно поступившему на службу к голландцам. Капитан отлично понимал, что всего нужнее его соотечественникам, и приказал незамедлительно приготовить им завтрак, по английскому обычаю, с чаем. Блай послал человека, чтобы передать всем любезное приглашение Спайкермена. При этом он не преминул отомстить Фраеру, оставив его караулить баркас.
Угощение глубоко растрогало Блая, и он не побоялся доверить свои чувства судовому журналу. «Трудно придумать лучший объект для кисти самого искусного живописца, нежели две группы людей, которые тут встретились. Стороннему наблюдателю было бы нелегко решить, что заслуживает большего внимания: сияющие счастьем глаза изголодавшихся людей или испуганные взгляды спасителей при виде стольких привидений… страшные лица коих вызвали бы скорее отвращение, чем жалость, не будь известно, что им пришлось перенести. От нас остались кожа да кости, ноги и руки были покрыты язвами, одежда превратилась в лохмотья. Мы плакали от радости и благодарности, а тиморцы смотрели на нас с ужасом, удивлением и состраданием».
Голландский губернатор отвел Блаю красивый и просторный дом, но едва тот услышал, что его людей из-за нехватки квартир хотят разместить либо в больнице, либо на борту корабля капитана Спайкермена, как тотчас взял их к себе, хотя, наверно, предпочел бы отдохнуть от кое-кого из них. Блай давно составил полный список мятежников; теперь он вручил его голландским властям, после чего сел выполнять неприятную обязанность: составлять подробный доклад адмиралтейству о том, что произошло. Естественно, он осведомился, как ему и его людям поскорее вернуться в Англию. И был очень недоволен, услышав, что единственное место в Голландской Ост-Индии, откуда идут суда в Европу, это Батавия (теперь Джакарта), причем он должен поспеть туда раньше октября, не то, чего доброго, придется ждать до января. Между Купангом и Батавией не было постоянного сообщения, и Блаю не удалось зафрахтовать подходящее судно. В конце концов он был вынужден купить шхуну, которую окрестил «Рисорс» (примерно такое же суденышко построили потом на Таити Моррисон и его товарищи).
Идти на одиннадцатиметровой шхуне тысячу восемьсот морских миль до Батавии было нешуточным делом, и Блай решил подождать, пока его люди совсем оправятся. Ожидание затянулось, а сидеть без дела было противно натуре Блая, и он заполнял судовой журнал самыми разнообразными сведениями: о ценах на рынке, о работорговле, о китайских погребальных обрядах, о лучшем способе выращивать рис, о здоровье и нравах малайцев. По мере того как становились на ноги его спутники, он и для них находил занятие, но только ботаник Нелсон мог сравниться в рвении со своим командиром — он каждый день совершал дальние прогулки, сумел даже собрать много саженцев хлебного дерева. Усердие его и погубило: Нелсон заболел и всего через месяц после прибытия на Тимор умер от горячки.
В общении с подчиненными Блай по-прежнему был строг и сух, но это была лишь маска, на деле он очень страдал от одиночества, что ясно видно из весьма красноречивого письма, которое он написал своей жене перед самым выходом из Купанга:
«Моя дорогая, дорогая Бетси!
Я нахожусь в таком уголке земли, где никак не рассчитывал очутиться. Но это место спасло мне жизнь и принесло утешение, и я счастлив заверить тебя, что вполне здоров. Вряд ли это письмо дойдет до тебя прежде тех писем, которые я еще буду писать, поэтому я лишь коротко расскажу, почему оказался здесь. Если бы ты только знала, какие чувства обуревают меня сейчас, когда я снова могу писать тебе и моим ангелочкам, тем более что ты едва не потеряла своего дражайшего друга. Да-да, очень легко могло случиться так, что ты оказалась бы без любящего тебя человека и пришлось бы тебе остаток жизни пребывать в неведении о моей судьбе. Впрочем, было бы еще хуже, если бы ты узнала, что я умер голодной смертью в океане или убит индейцами. Но всех этих опасностей я счастливо избежал при самых удивительных обстоятельствах, какие только можно себе представить, причем я ни на миг не терял надежды, что сумею преодолеть все препятствия. Моя дорогая, любимая Бетси, знай, что я потерял «Баунти»… Совершенно непостижимым образом заговорщикам удалось сохранить в тайне замысел бунта, никто из тех, кто остался со мной, и не подозревал о том, что готовилось. Даже мистер Том Эллисон настолько возлюбил Отахеите, что присоединился к пиратам; поистине, самые близкие люди предали меня. Но я надеюсь теперь побороть все трудности… Уповаю на то, что мир правильно взглянет на мое несчастье. Такого поворота я не мог предусмотреть. У меня было слишком мало офицеров, и, если бы мне дали солдат, вряд ли дошло бы до этого. В моем распоряжении не было ни одного смелого, отважного человека, так что мятежники обошлись с моими спутниками по заслугам. Я вел себя безукоризненно и всем показал, что не боюсь этих негодяев, хотя мне скрутили руки. Хейворд и Хеллет несли вахту под начальством Крисчена, но никого не предупредили, я увидел их на палубе, где они оставались, пока нм не велели спускаться в лодку. Последний показал себя жалким и бесстыдным подлецом, но я прошу тебя никому не рассказывать об этом, пока я не вернусь домой.
Я знаю, какой это удар для тебя, но умоляю, моя дорогая Бетси, не волнуйся чрезмерно. Все позади, будем лучше думать о предстоящих счастливых днях. Сознание того, что я выполнил свой долг, как подобает офицеру, поддерживает меня. Я не могу сейчас писать твоему дяде или еще кому-либо, поэтому расскажи всем, что моя репутация безупречна и честь не запятнана. Я спас бумаги, которые подтверждают мои заслуги, так что все наладится. Передай мое благословение дорогой Хэрриет, дорогой Мери, дорогой Бетси и моему дорогому крошке, которого я еще не видел, скажи им, что я скоро буду дома.
Передай привет твоему отцу, Энн Кемпбелл и миссис К., а особо — мое почтение твоему дяде и его семье. Тебе, любимая, принадлежит моя любовь, уважение и все, что в силах дать нежно любящий супруг.
Твой неизменно верный друг и муж У. Блай».Вооружив шхуну четырьмя пушками (для защиты от многочисленных китайских пиратов) и забрав на борт коллекцию растений, в том числе три саженца хлебного дерева, Блай 20 августа наконец снялся с якоря. Чувствительное сердце не позволяло ему расстаться со своим сильно потрепанным баркасом, и, не считаясь с дополнительными трудностями, он взял его на буксир. Плавание до Батавии продлилось сорок два дня, то есть столько же, сколько путешествие от Тофуа до Тимора. Хотя команда не переживала никаких лишений, не раз казалось, что беды не миновать. Впрочем, самый острый конфликт произошел не в море, а в порту Сурабая, куда шхуна пришла в середине сентября. Здесь чуть опять не вспыхнул бунт. Зачинщиками выступили Фраер и Перселл, но Блай уже набил себе руку в подавлении всяких беспорядков, и, когда он с присущей ему решимостью пригрозил заколоть смутьянов, они отступились и без сопротивления позволили подоспевшим голландским солдатам арестовать себя. На последнем этапе «Рисорс» шел вместе с другими судами, и Блай на всякий случай пересадил нарушителей спокойствия на разные корабли. Фраер в первом же порту извинился, но Перселл все еще находился под арестом, когда «Рисорс» 1 октября пришел в Батавию.
На кораблях, идущих в Европу, было мало мест, и людям Блая пришлось разделиться, да они, наверно, и не возражали против этого. Кок «Баунти», Томас Холл, успел схватить болотную лихорадку, свирепствовавшую тогда в Батавии, и через неделю умер. Блай тоже прихворнул, его спасло прежде всего то, что он уже 16 октября сумел выйти на голландском судне. С трудом добился он разрешения взять с собой писаря Сэмюэля и слугу Джона Смита; остальные вынуждены были задержаться еще на несколько недель в Батавии под начальством Фраера. «Рисорс» и баркас были проданы за бесценок на аукционе.
Обратный путь, мимо мыса Доброй Надежды, занял почти пять месяцев — нормальный срок для той поры, — и 14 марта 1790 года Блай достиг исходной точки своей экспедиции, то есть Портсмута. Из тех, кто задержался в Батавии, помощник штурмана Эльфинстон и старшина Липклеттер скончались от лихорадки. Лемб умер во время плавания, судовой лекарь Ледуорд тоже не вернулся: корабль, на котором он плыл, пропал без вести. Поскольку Нортон был убит на Тофуа, а Нелсона на Тиморе скосила горячка, до Англии добрались всего двенадцать из девятнадцати человек, которые отчалили от «Баунти» на перегруженном баркасе. Поразительнее всего, что никто не умер на первом этапе, во время плавания от Тофуа до Тимора, когда жизнь моряков ежеминутно находилась в опасности; это лучше всего показывает, каким превосходным командиром был Блай.
Газеты тотчас напечатали пространные, более или менее приукрашенные отчеты о мятеже и беспримерном переходе баркаса, а один из крупнейших театров Лондона не замедлил поставить спектакль о приключениях Блая. О том, что это было за представление, свидетельствует афиша, которая гласила:
ТЕАТР РОЙЭЛТИ
Уэлл-стрит, по соседству с Гудменз-Филдс
В четверг, 6 мая 1790 года
будет показано
ПОДЛИННОЕ СОБЫТИЕ, В ЛИЦАХ,
ПОД НАЗВАНИЕМ
ПИРАТЫ
или
Злоключения Капитана Блая.
Повесть о всем его Плавании
начиная со сцены прощания в Адмиралтействе.
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНО
«БАУНТИ» идущий вниз по ТЕМЗЕ
Прибытие Капитана на Отахенте и обмен
английских товаров на ХЛЕБНОЕ ДЕРЕВО
ТАНЦЫ ОТАХЕИТИ!
Преданность ОТАХЕИТЯНСКИХ ЖЕНЩИН и их
Печаль при расставании с
БРИТАНСКИМИ МОРЯКАМИ
А также точная Картина, как
Капитан БЛАЙ был арестован в каюте на
«БАУНТИ» пиратами.
Волнующая сцена, как Капитана и его верных
Спутников принудили спуститься в лодку.
Их Бедствия в Океане и Стычка с Туземцами на
одном из Островов Дружбы.
Удивительное Прибытие на Мыс Доброй Надежды,
и любезпый Прием у Губернатора.
ОБРЯДЫ И ТАНЦЫ ГОТТЕНТОТОВ
При Отплытии. И счастливое Возвращение в Англию.
Поставлено под непосредственном руководством
Лица, которое находилось на борту транспорта «Баунти».
Пышный спектакль не хуже, чем это сделала бы в наши дни телевизионная передача, прославил имя и подвиги капитана Блая, но окончательно он стал всенародным героем в июне, когда заботами адмиралтейства была издана книга с искусно подобранными и слегка приукрашенными отрывками из судового журнала.
Закон требовал, чтобы военный суд определил, кто виноват в потере «Баунти»; и суд приступил к работе в конце октября, как только прибыли из Батавии последние спутники Блая. Сначала был зачитан доклад Блая о мятеже. Затем опросили младших офицеров: слышали они или видели что-нибудь, что говорило бы о подготовке мятежа? Они категорически ответили «нет». Тогда суд задал вопрос штурману Фраеру:
— Капитан Блай и все вы предприняли все, чтобы отбить «Баунти», когда начался мятеж?
— Все, что было в наших силах, — решительно ответил Фраер.
Хеллет и Хейворд тоже горячо заверили, что было сделано все, чтобы отстоять корабль.
Затем председатель суда спросил Блая, есть ли у него какие-либо замечания или обвинения в адрес присутствующих членов команды. Блай заявил, что единственный, кто вел себя неудовлетворительно, — это плотник Перселл. В заключение суд одного за другим опросил присутствующих членов команды, могут ли они в чем-нибудь упрекнуть Блая. Все ответили отрицательно.
Вскоре суд объявил свое решение:
«Суд считает, что «Баунти» был силой захвачен у лейтенанта Уильяма Блая Флетчером Крисченом и другими мятежниками… и сим объявляет лейтенанта Блая и тех из его офицеров и членов команды, кои возвратились в Англию и присутствуют здесь, полностью оправданными».
Точка. Конец.
Тому, кто знает все подробности мятежа, ясно, что многие важные моменты не были преданы гласности. Что младшие офицеры и гардемарины, которые плохо несли службу или из трусости остались бездеятельными, не обличали самих себя, — в этом нет ничего удивительного. Но почему Блай не рассказал обо всем, что ему было известно, и почему он назвал только Перселла, умолчав о выходках Фраера? Поведение Блая бесспорно выглядит странным. Конечно, можно выдвинуть много правдоподобных объяснений: например, что Блай, когда все лишения и опасности остались позади, настроился на кроткий лад. Есть и другая, более убедительная гипотеза: Блай стремился избежать всего, что могло бы повредить его карьере. Действительно, долгий судебный процесс, в ходе которого ему, наверно, пришлось бы защищаться от многих обвинений, вряд ли способствовал бы его продвижению по службе. Но все это голые догадки, и даже если они верны, были, наверно, еще какие-то, неведомые нам, причины неожиданном мягкости Блая. Стоит в этой связи заметить, что даже Перселл, проступки которого рассматривались особо, отделался выговором за упущения по службе.
Зато бунт был таким преступлением, которым адмиралтейство не могло пренебречь, а потому было решено незамедлительно отправить военный корабль в Южные моря, чтобы найти Крисчена и прочих мятежников. Эту неблагодарную и трудную задачу поручили капитану Эдварду Эдвардсу, известному своей строгостью и пристрастием к дисциплине. Он получил двадцатичетырехпушечный фрегат «Пандору» с командой сто шестьдесят человек. После коллективного оправдания Блая и его спутников гардемарина Хейворда в последнюю минуту назначили на «Пандору» третьим лейтенантом— полезная мера, так как портретов мятежников не было, а словесные описания, которые получил Эдвардс, весьма приблизительно передавали их внешность.
Еще до выхода «Пандоры» из Англии, 7 ноября 1790 года Блая произвели наконец в капитаны, а еще через месяц адмиралтейство отметило ого заслуги, присвоив ему звание капитана первого ранга. Доверие Бенкса к Блаю тоже не поколебалось, а так как сэр Джозеф решимостью и упорством почти но уступал своему подопечному, то принялся настаивать, чтобы возможно скорее была снаряжена новая экспедиция за саженцами под командованием Блая. Дорожа своим престижем, Георг III тотчас согласился, но из-за приготовлений к войне с Францией экспедиция отправилась в путь только в августе 1791 года. На сей раз адмиралтейство постаралось избежать ошибок, допущенных четыре года назад и способствовавших успеху мятежа. Во-первых, Блаю дали в помощники трех толковых офицеров. Во-вторых, на корабле находилось подразделение морской пехоты: сержант, два капрала и пятнадцать солдат. В-третьих, экспедицию сопровождал небольшой корабль охранения.
Глава восьмая Беглецы и преследователи
Проследив судьбу двух главных действующих лиц и их спутников сразу после бунта, посмотрим теперь, что стало с девятью мятежниками и семью лоялистами, которые остались на угольно-черном песчаном берегу Матаваи 22 сентября 1789 года, когда «Баунти» в последний раз зашел на Таити.
У каждого из них был свой побратим либо в царстве Поино — Хаапапе, либо в маленьком государстве Теины — Паре, где «Баунти» стоял на якоре в ту счастливую, но теперь столь далекую пору, когда люди Блая собирали побеги. Прочные дружеские узы связывали их и с другими местными жителями, мужчинами и женщинами. Наконец, у шести человек были, так сказать, верные подруги. Поэтому население обеих областей встретило англичан так, словно это дорогие мужья и родственники вернулись домой из дальнего плавания. Моряки охотно приняли предложение своих друзей и подруг поселиться у них, нисколько не задумываясь над тем неприятным фактом, что английские и прочие суда чаще всего заходили в Матаваи и здесь мятежников легче всего могли найти.
Среди сотен встречающих не было лишь «короля» Теины; кстати, он уже успел еще раз сменить имя и теперь называл себя Мате. Сразу после отплытия своего покровителя Блая в апреле 1789 года Теина — простите, Мате — начал опасаться, как бы завистливые соседи не наказали его за нескромное поведение, не отняли бы все его драгоценности. И ои предусмотрительно перебрался опять на полуостров Таиарапу, где заправлял его родич, вождь Вехиатуа. По слухам, которые скоро дошли до англичан, Мате завел себе на всякий случай телохранителя — судя по описаниям, беглого английского матроса. Младший брат Мате, Ариипаеа, который замещал его на престоле и, кстати, был куда более любим народом, всячески старался убедить шестнадцать хорошо вооруженных и обладающих большими богатствами моряков с «Баунти» обосноваться в Паре. К великому огорчению обоих братьев, только пятеро — мятежники Маспретт и Хиллбрант и лоялисты Бирн, Макинтош и Норман — дали соблазнить себя обещаниями больших участков земли и услуг.
Остальные десятеро предпочли остаться на мысе Венеры, в царстве кроткого и добродушного вождя Поино, где их первоначально посвятили в сладкие таинства таитянской жизни. Лоялиста Моррисона — он явно выбился в руководители — приютил сам вождь. У него же поселился и мятежник Миллуорд, но по другой причине: он увлекся одной из жен Поино. Гардемарин Стюарт, лоялист, принадлежал к той шестерке, которая успела завести себе постоянных любовниц. С точки зрения таитян это означало, что они женаты, и Стюарт преспокойно въехал вместе с Хейвудом к своему «тестю». Мятежника Томсона и лоялиста Коулмена принял «тесть» последнего. В четвертой хижине нашли кров мятежники Беркетт, Самнер и Эллисон; о них пеклись радушные родители «жены» Самнера. Мятежник Скиннер был менее общительным, он предпочел жить отдельно со своей любимой. И, наконец, один из самых активных мятежников, Черчилль, расположился в доме своего побратима, который ничего не жалел для него. Вряд ли мы ошибемся, предположив, что Черчилль завидовал выдвижению Моррисона и старался не уступать ему. Казалось бы, шестнадцать человек с «Баунти» должны были разбиться на две группы — лоялистов и мятежников; на деле же они превосходно ладили между собой, и каждый поселился с тем, кто ему был по душе.
Наверно, англичане к этому времени поняли, что Мате не такой уж почитаемый владыка, какого пытался изображать, но по примеру Блая они все еще верили, что Ту, юный сын Мате, — законный и суверенный повелитель всего Таити. И как только они расположились у своих радушных и услужливых хозяев, все шестнадцать отправились в бухту Тоароа, чтобы засвидетельствовать свое почтение Ту. С помощью верного Хитихити, который был главным оратором и церемониймейстером, они заверили Ту в своем глубочайшем уважении, по таитянскому обычаю сбросили с плеч надетые для этого случая лубяные накидки, после чего вручили Ту скобяные товары в широком ассортименте и (видно, по совету все того же Хитихити) грозных идолов, захваченных на Тупуаи. В заключение они выстроились в три шеренги, каждая из которых по очереди приветствовала юного вождя салютом из мушкетов. Понятно, все это произвело огромное впечатление на семилетнего Ту, и он благосклонно пожелал им чувствовать себя на Таити как дома. А его дядюшка Ариипаеа устроил роскошный пир и одарил их участком земли, втайне надеясь заманить еще несколько англичан в Паре.
Но совершенно пренебречь Мате было бы грубой бестактностью, а поскольку тот все еще трусил и не решался приехать в Матаваи, англичане на следующий день послали на полуостров Таиарапу делегацию во главе с честолюбцем Черчиллем. Тот выполнил свою дипломатическую миссию и вернулся через две недели вместе с пресловутым телохранителем Мате, англичанином с невыразительной фамилией Браун. Новоявленный соотечественник сообщил, что его по собственному желанию месяц назад оставило здесь шведское военное судно, и принялся расписывать удивительные подвиги, коими изобиловала его жизнь. В частности, он будто бы служил сержантом морской пехоты в Портсмуте, был офицером армии печально известного индийского султана Хайдара Али, даже командовал судном, которое сам захватил, прежде чем — непонятно почему — согласился на должность рядового матроса на бриге его величества шведского короля «Густав III». Многое из того, что рассказывал Браун, было явной небылицей, но в одном он не соврал: он действительно прибыл на Таити на судне под шведским флагом. Этот визит долго оставался загадкой для всех историков Южных морей, но недавние исследования показали, что речь шла о военной экспедиции, одобренной Густавом III, которую снарядил и оплатил английский коммерсант Джон Генри Кокс. С 1788 года Швеция опять воевала с Россией, и Кокс вызвался нанести удар русским в спину, разорив их торговые фактории на Аляске и Камчатке. Разумеется, этот сверхоптимистический прожект был для русских не опаснее, чем комариный укус для слона, да Кокс и не особенно старался выполнить свой замысел. Исход экспедиции нас не занимает, зато интересно отметить, что Кокс, который, понятно, ничего не знал о мятеже, на пути к Таити хотел высадиться на Тупуаи, как раз когда люди Крисчена строили там крепость. Но близилась ночь, дул встречный ветер, и, сделав два неудачных захода, он пошел дальше, так и не увидев мятежников и упустив неповторимую возможность обеспечить себе пусть скромное, но достаточно прочное место в истории английского флота.
Позже Поино (он был наделен немалой долей здравого смысла) без ведома Брауна показал Моррисону письмо, подписанное Коксом и адресованное всем капитанам, которые будут заходить на Таити. В письме коротко и ясно говорилось, что Браун порезал ножом другого матроса на борту «Густава III» или «Меркурия», как еще назывался корабль, — и в наказание был оставлен на Таити. Большинство моряков с «Баунти» сразу невзлюбили Брауна, и они облегченно вздохнули, когда этот буян возвратился на Тапарапу, чтобы продолжать быть телохранителем и военным советником Мате.
Прошло больше месяца, как англичане высадились на Таити, так что у них было время поразмыслить о своем положении и разработать планы на будущее. Надо думать, больше всех тревожились за свою судьбу девять активных участников мятежа. Сколько бы они ни успокаивали себя тем, что Блай никак не мог добраться живым до Англии, нетрудно было сообразить, что рано или поздно адмиралтейство пошлет военный корабль на поиски пропавшей экспедиции. Всего умнее было бы по примеру Крисчена поскорее подыскать себе уединенный островок подальше от Таити; на пироге можно уйти достаточно далеко. И, однако, никто из мятежников не думал об этом. Объяснить это можно только тем, что их поразил очень распространенный среди попадающих в Южные моря недуг, который один остроумный журналист назвал «полинезийским параличом» и который выражается в полной неспособности сделать несколько шагов, чтобы подняться на борт корабля, идущего домой.
Первым из шестнадцати «таитян» решил убраться с острова, как ни странно, лоялист Моррисон. Хотя ему не меньше, чем его товарищам, была по душе приятная и беспечная жизнь, он вдруг вбил себе в голову, что его долг построить лодку и идти на Тимор или Яву, а оттуда добираться до Англин. Для начала он поделился своим замыслом с двумя плотниками-лоялистами. Почему-то они нашли этот безрассудный план превосходным и обещали свою поддержку. Конечно, втроем они не могли справиться; нужно было и мятежников привлечь, чтобы что-нибудь получилось. Моррисон великолепно понимал, что те вряд ли загорятся желанием помочь ему и прочим лоялистам вернуться в Англию и — вольно или невольно — предать их. И он объявил, будто задумал построить лодку просто так, чтобы можно было совершать увеселительные поездки на другие острова по соседству. Видимо, безделье всем надоело, потому что сразу же нашлось десять помощников. Никто из них не раскусил подлинного замысла Моррисона — должно быть, потому, что он был уж очень несуразным.
Моррисон не мешкая разбил людей на группы, и закипела работа. Даже Браун заинтересовался настолько, что прибыл с Таиарапу поглядеть. Как и следовало ожидать, он уже через несколько дней счел и это занятие настолько обременительным, что всем на радость снова убрался восвояси.
Сила привычки, как известно, велика, и мало-помалу судостроители опять втянулись в столь знакомый им корабельный распорядок: установили вахты, торжественно поднимали английский флаг утром и спускали его вечером. Одновременно Моррисон начал вести вахтенный журнал, в котором описывал все происходящее так же добросовестно, как Блай в своем судовом журнале. Все же судостроители чувствовали, что им чего-то не хватает, и наконец сообразили чего именно: воскресного богослужения. С той поры они старательно молились богу по воскресеньям, и «сразу все стало на свои места», как метко выразился Моррисон. Правда, корабельный распорядок был восстановлен не полностью, но англичане не замедлили возродить еще один флотский обычай. В Матаваи со всех концов собирались любопытные таитяне, и кое-кто из них не мог устоять перед соблазном стащить какой-нибудь инструмент. И Моррисон, верный традиции, лично подвергал их телесному наказанию, привязав виновного к дереву. Так что основательно ошибаются те авторы, которые всерьез изображают решение мятежников вернуться на Таити как руссоистское бегство от отвратительной искусственной цивилизации к простой естественной жизни, какую вели благородные дикари Таити. Скорее всего необразованные моряки, среди которых было немало неграмотных, вообще никогда не слыхали про Руссо.
Понятно, судостроители-самоучки столкнулись с большими трудностями. Их таитянские друзья великолепно делали пироги и охотно помогли бы нм, но ведь Моррисон и его друзья задумали построить судно, какого еще не видели на Таити. Таитянские лодки — будь то узкая пирога с балансиром или две пироги, прочно соединенные вместе, — «сшивались» крепкой лубяной веревкой, которая продевалась в отверстия, пробуравленные вдоль края доски. Проще всего было сделать двойную лодку по таитянскому образцу, однако англичане хотели непременно построить шхуну с обшивкой внакрой, так что пришлось им обходиться своими силами. Другая трудность заключалась в том, что за подходящим лесом надо было ходить далеко в горы. Третья трудность — отсутствие достаточно большой пилы, без которой они не могли изготовить длинные доски. Правда, тут уж выручили таитяне — не пилой, а своим поразительным умением раскалывать мощные стволы каменными клиньями и полировать полученные доски шероховатыми обломками коралла. И, наконец, вначале работа тормозилась из-за того, что у Коулмена не было кузнечного горна. Проявив немалое терпение и изобретательность, он сложил горн из камня и глины; после этого дело пошло на лад.
Несмотря на эти осложнения, остов был почти готов, когда произошел неприятнейший случай, который поставил под угрозу планы англичан. 8 февраля 1790 года оруженосец Черчилля, забияка Томпсон, получил заслуженную взбучку от таитянина, чью сестру он изнасиловал. Взбешенный унизительным для себя поворотом дела, Томпсон набросился на кучку любопытных таитян, собравшихся у его хижины. Он велел им убираться, но они повиновались недостаточно быстро (еще бы, ведь они не знали английского языка), и Томпсон, схватив мушкет, выстрелил по ним. Пуля убила мужчину и ребенка, которого тот держал на руках, и ранила еще двух ни в чем не повинных людей. Кроме Черчилля, который назвал это полезным уроком для туземцев, все англичане возмущались Томпсоном и боялись, как бы Поино и его подданные не отомстили им. Черчилль, как и впоследствии его знаменитый однофамилец, очевидно, считал себя призванным спасти своих соотечественников в годину бедствий и вызвался организовать отпор островитянам, чтобы внушить им должное уважение к гостям.
Остальные вежливо, но твердо отвергли предложение Черчилля. Они склонялись к тому, чтобы извиниться, но тут тучи рассеялись так же быстро, как сгустились. Выяснилось, что убитый таитянин был не из Хаанапе и не из Паре, а откуда-то с южного побережья. Как «иностранец», он по местным понятиям (кстати, точно так же рассуждали наши предки, шведские викинги), не пользовался никакими правами на территории, где было совершено преступление. Все чрезвычайно обрадовались благополучному исходу, кроме Черчилля, которого вотум недоверия так разозлил, что он в обществе отъявленных бандитов Томпсона и Брауна перебрался на полуостров Таиарапу, надеясь, что Мате сможет оценить его полководческий дар.
Хотя ряды кораблестроителей поредели, они, возблагодарив провидение, что отделались так легко, с удвоенной энергией возобновили работу. Но Черчилль не оставил их в покое. Уже через две недели от него пришло письмо, в котором он всячески расписывал сказочную щедрость и радушие Мате и Вехиатуа, а заодно справлялся, не думает ли кто-либо еще последовать его примеру и поселиться в государстве Вехиатуа. Недостойные интриги Черчилля не возымели никакого действия, Моррисон и его товарищи даже не стали ему отвечать. А лучше бы ответили, потому что Черчилль не замедлил собственной персоной явиться в Матаваи. И поразил своих соотечественников потрясающей новостью: Вехиатуа умер, и жители выбрали его вождем! Тут же Черчилль повторил свое приглашение и посулил щедрое вознаграждение тем, кто переберется в его государство. Его посулы соблазнили только Масиретта и Беркетта, которым давно опостылела однообразная и утомительная работа на «верфи». Стоит ли удивляться, что раздосадованный Черчилль на обратном пути хладнокровно застрелил островитянина, который чем-то ему не угодил!
Не прошло и месяца, как из Таиарапу поступили еще более ошеломляющие сведения. В середине апреля в Матаваи явился Браун и сообщил, что как вождь Черчилль, так и его премьер-министр Томпсон отдали богу душу. Поскольку Браун ни у кого не пользовался особым доверием, Моррисон послал своего человека выяснить, что же произошло. Посланный вскоре вернулся с отчетом, который позднее подтвердили многие свидетели. Вот что он рассказал.
Вернувшись на Таиарапу в середине марта, Черчилль сразу же повздорил с Томпсоном, который сам был не прочь стать вождем. В итоге Томпсон из Теахуупоо, где правил Черчилль, перебрался на пироге на север полуострова, в область Таитура. Там его приняли с распростертыми объятиями Титореа (дядя Вехиатура) и «кочевник» Мате. Черчилль подозревал — наверно, не без оснований, — что Томпсон попытается свергнуть его, и на всякий случай отправил темной ночью одного из своих подручных с приказом: пробраться в дом Томпсона и украсть его мушкеты. План отлично удался; к тому же Черчилль сумел убедить своего приятеля, что он-де тут вовсе ни при чем. На удивление легковерный и недалекий Томпсон поверил Черчиллю, даже вернулся к нему. Как и следовало ожидать, мнимая дружба кончилась трагически. Черчилль избил одного из своих самых близких людей, но имени Маитити, а тот в отместку рассказал Томпсону, кто повинен в краже. После этого Томпсон, как только представился случаи, преспокойно застрелил в спину своего двуличного повелителя. Месть рождает месть, а вендетты были обычным делом на Таити, и наиболее преданные из подданных Черчилля сочли своим долгом прикончить Томпсона. Сделали они это так: застигнув его врасплох, повалили на землю и размозжили ему голову огромным камнем.
Как ни потрясли англичан эти страшные расправы, они не горевали, а Моррисон даже записал в журнале, что провидение в лице таитян покарало Томпсона за его ужасное преступление. Теперь кораблестроителям никто не мешал, и они трудились так прилежно, что в начале июля 1790 года шхуна была готова к спуску на воду. Они могли гордиться своим творением: длина — около одиннадцати метров, ширина — около трех и вдоволь места для двенадцати человек.
Спуск на воду происходил на таитянский лад, и руководил им вождь Поино. Моррисон оставил нам превосходное описание этой церемонии: «Пятого все было готово, и мы известили об этом Поино. Он сказал мне, что сперва священнослужитель должен прочитать молитвы, потом можно нести шхуну к воде. Вызвали священнослужителя, он получил молочного поросенка и росток банана и стал обходить вокруг шхуны, останавливаясь у носа и кормы и приговаривая что-то на непонятном диалекте. Иногда он доставал банановый росток из связки, которую велел дать ему Поино, и бросал на палубу шхуны. Так продолжалось весь день и всю ночь, он управился только к утру следующего дня. Потом в сопровождении трехсот-четырехсот человек пришли Поино и Теу (отец Мате). Каждый из них произнес длинную речь, после чего они разделили своих людей на два отряда, причем Поино передал слугам Теу свинью и кусок материи. Один из священнослужителей поднялся на шхуну, и с обеих сторон ему кидали ростки банана. Тогда священнослужитель стал бегать с кормы на нос и обратно, призывая таитян приналечь покрепче. По его знаку все подошли вплотную к шхуне, и кто но дотянулся руками, уперся в нее палкой. Один запел, все подхватили хором, и шхуна сдвинулась с места. За полчаса ее дотащили до моря, где спустили на воду и нарекли именем «Резолюшн». Хотя по пути свалили несколько деревьев, шхуна не пострадала, если не считать сломанных мачт, а расстояние составляло около трех четвертей мили».
Уходя с Таити, Крисчен забрал с собой всю парусину, и корабельщикам в Матаваи оставалось только сшить два паруса из циновок на таитянский лад. Слишком тяжелые, паруса все время лопались по швам. Изрядно поломав себе голову над этим затруднением, Моррисон принял наконец разумное решение отложить на неопределенный срок плавание через Тихий океан. Для «официально» объявленной цели, то есть для экскурсий на соседние острова, «Резолюшн» вполне годился, и все предвкушали пробный рейс. По прихоти судьбы поездка получилась отнюдь не увеселительной, но, чтобы лучше понять последующие события, надо вернуться немного назад.
Когда моряки под командой Крисчена пытались обосноваться на Тупуаи, великолепный замысел провалился прежде всего потому, что они стали на сторону одного из трех вождей, обрекая себя на вражду с двумя остальными. Казалось бы, хороший урок, и все-таки шестнадцать сепаратистов повторили эту ошибку через несколько месяцев на Таити, когда, вместо того чтобы соблюдать строжайший нейтралитет во всех вопросах таитянской политики, без всякой нужды стакнулись с Мате и правителями Паре.
А раз уж они допустили ошибку, избрали себе покровителем Мате, было только вопросом времени, когда он воспользуется их легковерием и начнет взимать с них долг благодарности, которую они испытывали совсем безосновательно. Еще в апреле 1790 года Мате осторожно справился, не помогут ли дорогие английские друзья его родичу Метуааро — так звали властолюбивого и деспотичного вождя на Муреа, который в то время не поладил со своими соседями. Видимо, англичане еще не забыли печального конца Черчилля: они ограничились тем, что починили мушкеты Мате и предоставили в его распоряжение выдающегося полководца Хитихити, и тот быстро разгромил врагов Метуааро.
Помощь скромная, спору нет, по, как всегда, опасность заключалась в том, что за первой уступкой должна была последовать вторая, более значительная. И действительно, через несколько месяцев — а точнее, 12 сентября — снова явился гонец с просьбой о вооруженной помощи. Брат Мате, Ариипаеа, опасался за себя и за своего племянника Ту, ибо по его словам, жители области Тефаиа вели себя угрожающе, готовясь напасть на Паре. Не попытавшись проверить, так ли это, и в крайнем случае предложить посредничество для мирных переговоров, Моррисон со своими корабельщиками и всегда готовым вступить в драку Брауном поспешил в Паре. Там их ждали Ариипаеа и его люди, вооруженные копьями, пиками и пращами. Вместе с этими доблестными воинами Моррисон и компания пошли на врага, готовые по первому знаку открыть огонь из мушкетов. Бой сложился несколько неожиданно: не успел «генерал» Моррисон дать команду, как его таитянские союзники схватились врукопашную с врагом. А так как все воины были почти нагие, мушкетеры не могли отличить друга от врага и вынуждены были ограничиться бесславной ролью зрителей. Но само их присутствие воодушевило воинов Паре, и они обратили противника в бегство.
Понятно, эта неоправданная и бессмысленная интервенция чрезвычайно возмутила тефанского вождя Тепаху. Один он не надеялся справиться с вооруженными англичанами, а потому заключил союз с двумя вождями могущественного государства Атехуру на западе Таити. Они превосходно понимали, что если честолюбивые владыки Паре захватят Тефану, вскоре наступит и их очередь. По слухам, которые Ариипаеа поспешил довести до сведения англичан (и которые кажутся весьма правдоподобными), главной целью тройственного союза было расправиться с гнусными чужеземцами и уничтожить их шхуну.
По вине самих же сепаратистов создалось критическое положение, и отступать было некуда. Судьба их оказалась прочно связана с судьбой правителей Паре, оставалось только поскорее разбить общего врага. Посовещавшись с Ариипаеа и Поино, который тоже считал, что ему грозит опасность, Моррисон решил осуществить классический охват и атаковать врага одновременно с севера и юга. Для этого он нуждался в поддержке вождя Темарии, южного соседа Атехуру. Соблазненный примером Мате, Темарии уже несколько месяцев назад зазвал Беркетта и Самнера к себе в Папару и теперь тоже лелеял далеко идущие завоевательные планы. Он пока не чувствовал себя достаточно сильным, чтобы схватиться с Паре, а потому решил для начала помочь сокрушить общих соперников. На всякий случай скромную армию Темарии усилили, придав ей Хитихити и Брауна.
Двадцать второго сентября начались военные действия. Темарии и его люди беспрепятственно наступали с юга, зато Моррисон со своей армией натолкнулся на нежданную преграду в виде огромной крепости с высокими земляными валами, воздвигнутой на стратегической возвышенности. Таитянские союзники Моррисона, которым было строго-настрого велено воевать более дисциплинированно и толково, безропотно пропустили англичан вперед, но с тем большим рвением бросились на врага, как только мушкетные залпы вынудили того оставить укрепление. Всего разумнее было бы теперь заключить мир на выгодных условиях, но правители Паре уговаривали англичан продолжать кампанию, и те после некоторого раздумья согласились.
Здесь-то и выступает на сцену шхуна. Главные силы неприятеля оправились и рвались в бой. Требовалось серьезное усилие, чтобы поскорее решить исход войны. Сообразив, что тут может пригодиться «Резолюшн», Моррисон предложил, чтобы свое первое плавание шхуна совершила в качестве военного корабля; эта мысль очень поправилась его товарищам. Пока пехота наступала вдоль берега, лучшие английские стрелки поднялись на шхуну, чтобы атаковать врага с фланга и с тыла. За шхуной шел целый флот из сорока пирог с двумя тысячами воинов. И, наконец, с юга опять развил наступление Темарии со своими хорошо вооруженными наемниками.
Такой совершенной стратегии и огневой мощи почти равные по численности атехурские отряды мало что могли противопоставить, и пришлось им обратиться к распространенной в Полинезии оборонительной тактике: засесть в труднодоступных горных укреплениях. Но неумолимые преследователи осадили их и принялись жечь дома, рубить посадки хлебного дерева и разорять поля; тут воины из Атехуру окончательно пали духом и запросили пощады. Победа была отпразднована в Паре роскошным пиром, продолжавшимся целую неделю, причем даже тогда истинный победитель Мате, который все время издали руководил операциями, не решился покинуть свое надежное укрытие на полуострове Таиарапу.
Во время этого своеобразного испытательного рейса команде было в общем-то не до того, чтобы изучать мореходные качества «Резолюшн», и ликующие англичане решили совершить новое пробное плавание более мирного свойства. Сходили на Муреа, где их, как и следовало ожидать, очень радушно принял родич Мате, Метуааро, а затем легко исправили незначительные недоделки в конструкции быстроходной и удивительно вместительной шхуны. Словом, «Резолюшн» вполне оправдала ожидания строителей. Они вернулись в Матаваи и вытащили судно на берег, чтобы уберечь его от штормов, которые сулил приближающийся сезон дождей.
Среди трофеев, доставленных победоносными союзническими войсками из похода на Атехуру, был отделанный красными перьями узкий плетеный пояс из листьев пандануса. Это скромное изделие, которое по-таитянски называется маро ура, можно сравнить с королевским венцом, так как пояс был символом высокого положения и могущества того, кто его носил. И когда он сменял владельца — обычно маро ура передавался по наследству, но случалось, что вождь добывал его силой оружия, — это событие отмечалось ритуалом, равнозначным европейскому коронованию. Порядок требовал, чтобы вассалы нового обладателя маро ура все как один являлись на церемонию. Но число вассалов всегда было невелико, и до тех пор еще ни один таитянский вождь, даже самый знатный и могущественный, не мог назвать себя сувереном всего острова. И вот после успешного блицкрига одержимый манией величия Мате решил вручить красный пояс Ту и отправить сына в поездку по острову, чтобы все вожди приветствовали его как верховного владыку. Впрочем, совсем безрассудным Мате нельзя назвать, ведь он уже не сомневался, что англичане в случае необходимости придут ему на помощь.
После смерти Вехиатуа влияние Мате на полуострове Таиарапу заметно ослабло, поэтому он предусмотрительно велел Ту начать с Папары, тем более что вождь Темарии был в долгу перед ним. Англичане, разумеется, поголовно явились на торжество (это было в конце января 1791 года). Во главе процессии несли еще один, только что введенный знак королевского достоинства, который сразу стал почти вровень со священным поясом: украшенный перьями английский флаг. Символическим можно признать также предусмотренный в программе празднества салют из мушкетов, произведенный по всем правилам почетными английскими гостями. Англичане великолепно понимали свою военную и политическую роль, она им даже льстила, это ясно видно из слов Моррисона, будто таитяне сочли, что присутствие моряков «обязывает их позаботиться о том, чтобы наш английский флаг беспрепятственно совершил полный круг по острову, и они во всеуслышание заявили, что война грозит всякому, кто попытается помешать этому». Видимо, сепаратисты тоже так думали, потому что никто из них не опровергал этого утверждения таитянских союзников.
Все вожди действительно дали процессии беспрепятственно пройти по острову. Конечно, это еще не означало беспрекословного повиновения, но первый шаг был сделан, и Мате следовало бы им удовольствоваться. Ему, однако, не терпелось использовать свое превосходство, пока англичане не передумали, и он нашел хитрый способ спровоцировать новую войну, призванную навсегда сделать его и его потомков абсолютными монархами Таити. Мате повелел всем вождям прибыть в Паре, чтобы они еще раз приветствовали его сына; он отлично сознавал, что многие из них откажутся выполнить столь унизительное для них распоряжение.
Весь остров с великим интересом ждал этой церемонии, и она состоялась 13 февраля 1791 года на сооруженном для этого жертвеннике но соседству с гаванью Тоароа, где двумя годами раньше бросил якорь «Баунти» под командой Блая. Моррисон, который наблюдал этот отвратительный спектакль, так описывает его: «Как только молодой король Ту-нуи-аите-атуа занял место на марае (жертвеннике), священнослужитель прочитал длинную молитву, надел на него пояс, нахлобучил ему на голову шапку и провозгласил его королем Тахеите. Затем вперед вышел оратор и от имени Метуааро произнес длинную речь, называя Ту королем. От жителей Муреа принесли три человеческие жертвы. Священнослужитель вождя Метуааро проследил за тем, чтобы жертвы лежали головами в сторону молодого короля, и возле каждой произнес по речи, причем вручил Ту побеги банана. Острой бамбуковой палочкой он выковырял по глазу у каждой жертвы, положил их на лист и протянул королю в одной руке, держа в другой побег банана. Снова была произнесена длинная речь. Затем тела убрали, и священнослужители похоронили их на марае, а глаза вместе с банановыми растениями возложили на алтарь».
Моррисон, — несомненно такой же наблюдательный и способный любитель-этнограф, как Блай, — попросил одного из священников растолковать ему, что означает этот ритуал. Ему разъяснили, что «глаз — самая ценная жертва, так как это главная часть тела. А король сидел с открытым ртом для того, чтобы душа принесенного в жертву проникла в его собственную душу, удвоила его силы и разум». Многие современные этнографы-профессионалы считают эту очень распространенную символическую церемонию поедания глаз пережитком той поры, когда таитяне, подобно другим племенам Полинезии, были людоедами; возможно, так оно и есть.
«Затем, — продолжает Моррисон, — остальные вожди, соблюдая тот же обряд, преподнесли свои человеческие жертвы. У кого был с собой один труп, у кого — два, в зависимости от величины государства. После этого молодой король получил в дар стада свиней и множество провизии — плоды хлебного дерева, корни ямса и таро, бананы, кокосовые орехи и прочее. С берега к священному алтарю подтащили большие пироги, убранные материей, красными перьями и так далее. Все это было принято слугами и священнослужителями молодого короля… На алтарь возложили огромные свиные туши. Всего в этот день было принесено тридцать человеческих жертв, из них многие были убиты чуть не месяц назад».
Но количество даров, которые гости Ту нагромоздили у его ног, в конечном счете играло второстепенную роль; главное было — от кого дары. Коварный расчет Мате оправдался: в длинном ряду покорившихся отсутствовали вожди с Таиарапу, которые повседневно сталкивались с Мате и давно раскусили его. Родичи Ту немедленно заявили, что молодому королю нанесено оскорбление, и верные своему слову люди с «Баунти» принялись обсуждать, как лучше расправиться с жителями Таиарапу, которые не причинили им ни малейшего зла. Лишь четверо наотрез отказались участвовать в позорной затее Мате: гардемарины Стюарт и Хейвуд, оружейный мастер Коулмен и матрос Скиннер. Зато Браун, как никогда, рвался в бой, предвкушая славное кровопролитие.
Самый лучший план придумал Темарии, которому козни Мате были на руку. Он исходил из того, что у противника, к сожалению, почти столько же храбрых воинов и единственный способ одолеть врага без чрезмерных потерь — застать его врасплох. Крупное перемещение войск сразу станет известным на Таиарапу; значит, необходимо прибегнуть к хитрости. И Темарии предложил пригласить всех союзников в Папару будто бы на дружественный обед. В разгар пира, когда бдительность таиарапцев притупится, вооруженные отряды сделают ночной бросок и застигнут спящими жителей полуострова. Осуществить этот план было не просто, по он всем понравился.
Когда таитянину надо выбирать между двумя благами, он выбирает оба, поэтому заговорщики решили сначала съесть всю провизию, которую получил в дар Ту. Пир длился две недели. Англичанам эта заминка пришлась кстати, они воспользовались случаем, чтобы снова спустить на воду шхуну и сделать ее флагманским кораблем лодочного флота его таитянского величества Ту. Опасаясь, что моряки могут передумать, хитрые родичи Ту велели ему почаще наведываться в Матаваи и всячески ублажать гостей. «Он приносил нам подарки, — удовлетворенно записал Моррисон, — каждого наделил участком земли, велел своим подданным относиться к нам, как к родным, называл нас дядями». Отказать в трудную минуту такому славному малому в помощи, пусть даже она приведет к кровопролитию, было бы крайне неучтиво, этого англичане не могли допустить.
Двадцать второго марта заговорщики наконец собрались отправиться в Папару, чтобы там продолжить пир. Темарии по личному опыту знал, что во время путешествия по морю появляется страшный аппетит, и, когда 24 марта прибыли дорогие гости, им в качестве увертюры перед банкетом подали сытный завтрак. Только англичане возлегли на циновки, чтобы вкусно покушать, как примчался запыхавшийся гонец с новостью, которая произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Накануне в бухте Матаваи бросил якорь английский военный корабль «Пандора», и, когда Коулмен, Стюарт, Хейвуд и Скиннер поднялись на борт, их тотчас арестовали. Еще более потрясло сепаратистов известие, что в Папару идут две шлюпки, а лоцманом и проводником на шлюпках — их услужливый друг Хитихити. В одну минуту самоуверенные завоеватели превратились в жалкую шайку преследуемых преступников. Долго они пребывали в полной растерянности, наконец решили выйти на шхуне в море куда глаза глядит. Замешательство было настолько велико, что четверо лоялистов, включая Моррисона, присоединились к перепуганным насмерть пятерым мятежникам. Один лишь Бирн повел себя сравнительно разумно: несмотря на плохое зрение, он решил идти в Матаваи, чтобы сдаться добровольно. В итоге, когда набитые вооруженными людьми шлюпки «Пандоры» пришли в Папару, их встретили только Темарии и ни в чем не повинный — в этом случае— головорез Браун с брига «Густав III». Шхуна не успела скрыться за горизонтом, и обе шлюпки, одной из которых командовал лейтенант Хейворд, тотчас бросились в погоню за ней. Убедившись, однако, что быстроходную шхуну не догнать, отряд с «Пандоры» возвратился в Матаваи, захватив с собой Брауна.
Три дня скитались беглецы без смысла и без цели, наконец увидели, что провиант на исходе, и, совершенно убитые, не придумали ничего лучшего, как вернуться в Папару. Темарии вовсе не хотелось потерять столь мощную наемную армию в миг, когда он больше всего в ней нуждался. Поэтому он принялся умолять англичан, чтобы они скрылись в горах, пообещал дать им проводника, снабдить припасами. Большинство мятежников охотно приняли его помощь, и опять к ним почему-то присоединились несколько лоялистов. Впрочем, столь же безрассудно поступил мятежник Эллисон: он остался на шхуне с лоялистами Моррисоном и Норманом, которые наконец-то решились идти в Матаваи и добровольно сдаться командиру «Пандоры».
Для Темарии это значило бы остаться без шхуны, чего он не мог допустить. И вождь захватил всю тройку в плен. Через два дня — вернее, через две ночи — вдруг появился Браун и вызвался, как и подобало истинному другу, помочь им ускользнуть от своих сторожей. Побег удался, хотя и не без труда. Сперва на пироге, затем пешком они двигались вдоль западного побережья, и никто из жителей области Атехуру, которая сильно пострадала от войны, не воспользовался случаем, чтобы по заслугам отомстить им. На полпути в Матаваи они, опять-таки с помощью подозрительно услужливого Брауна, нашли одну из шлюпок «Пандоры», разбудили дежурного офицера и назвались ему. II как же были удивлены и возмущены лоялисты Моррисон и Норман, когда их бывший товарищ Хейворд, прибыв на шлюпку, недолго думая велел связать их и так отправил на корабль. Еще более унизительным был прием на «Пандоре»: капитан Эдвардс, не вдаваясь в объяснения, приказал заковать всех троих в кандалы и отвести вниз, где во временной тюрьме уже сидели их товарищи по несчастью: Коулмен, Стюарт, Хейвуд, Скиннер и Бирн. Естественно, Норман и Коулмен, которых Блай обещал оправдать, поскольку их задержали силой на «Баунти», были вправе возмущаться таким обращением. И ведь Блай сдержал обещание, в своих докладах адмиралтейству он сообщил, что четверо из спутников Крисчена ни в чем не повинны. Капитан Эдвардс отлично это знал, но ему были даны определенные инструкции, причем не делалось никаких различий между мятежниками и немятежниками по той простой хотя и жестокой причине, что в таких случаях все считались виновными, пока суд не разберется и не вынесет своего решения.
Капитан Эдвардс хотел было взять Темарии в заложники, чтобы заставить его подданных выдать беглецов. Но он но был уверен в успехе, а потому предпочел отправить в Папару двадцать пять солдат во главе с Хейвордом и Брауном; другому лейтенанту он велел взять шестнадцать человек и идти напрямик через остров, чтобы выгнать бунтовщиков из горных укрытий.
В это время на корабль явился трусливый Мате и, спеша выслужиться перед капитаном Эдвардсом, преспокойно вызвался помочь ему выловить последних солдат наемной армии, которая так верно ему служила. И как же он возмутился, когда обнаружил, что Браун перещеголял его в вероломстве: англичанин подкупил нескольких островитян, и те ночью провели его в скромный лагерь, где спали ничего не подозревающие мятежники. Браун хладнокровно проверил, все ли на месте, ощупав пальцы их ног: в отличие от таитян, которые ходят босиком, у европейца пальцы на ногах смяты обувью. На следующий день лагерь окружили солдаты, и беглецы, попытавшись — довольно вяло — оказать сопротивление, сдались в плен. Так что, когда люди Эдвардса, которые карабкались через горы, борясь с трудностями и опасностями, чуть живые добрались до Папары, им оставалось лишь возвращаться обратно.
Арест последних бунтовщиков не только принудил Мате отказаться от всех своих захватнических планов в тот самый миг, когда один шаг отделял его от полной победы, но и поставил его вдруг в чрезвычайно опасное положение. Первой мыслью Мате, как всегда, было бежать, и он принялся умолять капитана Эдвардса, чтобы тот взял его с собой в Англию. Но Эдвардс в нем больше не нуждался и ответил решительным отказом. Тогда Мате укрылся в горах.
Казалось бы, все вошло в старое русло, на Таити снова воцарился мир, но вмешательство англичан с «Баунти» в политические и военные распри островитян катастрофически повлияло на судьбу будущих поколений. До тех пор на Таити царило удивительно устойчивое равновесие, надежно ограждавшее таитян от тирании и диктатуры. Стоило одному вождю увлечься честолюбивыми замыслами, как остальные откладывали в сторону взаимные раздоры и сговаривались против него. Поскольку возникавшие союзы были примерно равны по силе и вооружению, удавалось без особого труда восстановить статус-кво. По все то время, что на острове жили сепаратисты, Мате единолично располагал наемниками с огнестрельным оружием, и это позволило ему впервые в истории острова нарушить равновесие, победив могущественное государство Атехуру.
И пусть Мате (он вскоре принял имя Помаре, под которым его обычно и знают) не сумел при жизни осуществить свою мечту, он заметно продвинулся к цели и указал другим, как к ней идти. Его сын Ту не замедлил продолжить дело отца, едва дорос до настоящей власти. Предусмотрительно заручившись дружбой английских миссионеров и капитанов, создав себе армию наемников, он в конце концов много лет спустя, после кровавых сражений и страшных расправ, сумел стать единоличным владыкой острова.
Вернемся, однако, на «Пандору». Как только стали поступать пленные, Эдвардс первым делом велел устроить для них тюрьму. По его приказу плотники в задней части шканцев сколотили нехитрое сооружение, которое его обитатели с присущим англичанам юмором тотчас назвали «ящиком Пандоры»[10].
Площадь, на которой жались четырнадцать заключенных, не достигала восемнадцати квадратных метров — 5,4 метра в длину, 3,3 метра в ширину. Единственный вход — через небольшой люк в потолке — естественно, открывался только снаружи. Для вентиляции в стенах было два окошечка, забранных решеткой. Возле люка стояли двое часовых, один гардемарин дежурил около стен «ящика». Всем на корабле запрещалось разговаривать с арестантами; исключение было сделано только для старшины корабельной полиции, да и то он отвечал лишь на вопросы, касающиеся рациона.
В оправдание Эдвардса можно сказать, что он не знал подробностей мятежа, для него все его заключенные были коварными, кровожадными бандитами, шайкой головорезов, способных склонить и команду «Пандоры» к бунту. Эдвардс считал необходимым безопасности ради предотвратить какое-либо общение между пленниками и матросами, потому он и велел поставить «ящик» на шканцах, где разрешалось ходить только офицерам.
Судовой врач «Пандоры» Гамильтон, автор небольшой занимательной книжки об этом плавании, считал «ящик» самым приятным местом на борту. На деле там было далеко не так приятно: кандалы (их проверяли при каждой смене караула) крепко сжимали руки и ноги узников, вызывая опухоли и ссадины. Всем выдали койки, но их приходилось расстилать прямо на досках, так как подвесить было негде. Красноречиво описывает жизнь в «ящике Пандоры» Моррисон: «В штиль там было так жарко, что пот струями стекал в шпигаты, и вскоре к нам наползли черви. Койки нам выдали грязные, кишащие насекомыми, и пришлось лежать на голых досках. Наши друзья хотели передать нам одежду, но им не разрешили, и мы спали нагишом. Назойливые насекомые и две параши усугубляли наше бедственное положение».
Так жили люди с «Баунти» два месяца, пока Эдвардс стоял в Матаваи, конопатя корпус корабля. Ни разу их не вывели из тюрьмы, ни женщинам, ни друзьям не дозволялось их посещать, и, когда часовые гнали прочь жен узников, разыгрывались душераздирающие сцены. Правда, шестерым англичанам, которые успели стать отцами на Таити, разрешали иногда играть со своими детьми — в тюрьме. Об этом «гуманном» акте Гамильтон писал: «Смотреть, как несчастные, закованные в кандалы заключенные плачут, держа на руках своих хрупких отпрысков, было так больно, что сердце разрывалось».
Справедливость требует заметить, что Эдвардс хорошо кормил узников. По уставу заключенным на борту полагалось только две трети обычного рациона, но Эдвардс велел давать им столько же, сколько всем, они даже получали ром. Сверх того, пока корабль стоял в Матаваи, им передавали кокосовые орехи, фрукты и овощи, которые приносили их таитянские друзья и родственники.
Восьмого мая «Пандора» была готова выйти в море. Эдвардс оснастил также шхуну «Резолюшн», предназначив ей роль вспомогательного судна, и перевел туда часть команды. Браун нанялся матросом, и даже Хитихити англичане взяли с собой, пообещав высадить его на родине, острове Борабора в северо-западной части архипелага Общества. Желание обоих поскорее убраться с Таити объяснить нетрудно— они боялись, что придется отвечать за все бесчинства и расправы, в которых они участвовали до прихода «Пандоры».
Начались розыски «Баунти». Многие считают Эдвардса ограниченным, потому что он искал мятежников там, где их заведомо не могло быть. Но все дело в том, что Эдвардс лишь выполнял приказания, а ему ясно предписывалось обойти западную часть архипелага Общества, потом обследовать острова к западу от него, в первую очередь архипелаг Тонга.
Да и не будь инструкций, задача его все равно была бы безнадежной: в Тихом океане тысячи островов, и поиски могли длиться бесконечно. К тому же Эдвардс, сам того не зная, с самого начала обрек себя на неуспех, ведь за две недели до прибытия на Таити он прошел в ста морских милях от Питкерна и даже не видел острова, так как его можно заметить только с расстояния шестидесяти миль. Разумеется, Крисчен на это и рассчитывал. Он знал, что карательная экспедиция прежде всего пойдет за сведениями на Таити, а потом будет обыскивать подветренные острова. Возвращаться на восток было бы потерей времени, так как с этой стороны дуют пассаты; значит, преследователи направятся на запад, все больше удаляясь от Питкерна.
Итак, выполняя приказ, капитан Эдвардс стал обходить острова архипелага Общества. (Между прочим, Хитихити так и не попал на Борабору, он упился до потери сознания на Хуахине, и пришлось оставить его там).
Порыскав по архипелагу, Эдвардс направился на Аитутаки, где тоже никого не нашел. Да и мог ли Крисчен остаться на этом острове: во-первых, Блай открыл его перед самым мятежом, во-вторых, сам Крисчен, вернувшись на Таити после бунта, называл Аитутаки таитянам.
Еще через несколько дней «Пандора» достигла острова Пальмерстон, где всех взбудоражила находка рангоута, на одной части которого была надпись «Баунтиз Драйвер Ярд». Эдвардс велел прочесать остров и усилил охрану, опасаясь нападения Крисчена и его людей. Розыскным отрядам под начальством лейтенантов Корнера и Хейворда досталось нелегко, причем они поминутно ожидали выстрела из-за угла. Основательно устав и проголодавшись, оба отряда вечером разбили лагерь на берегу и собрали на ужин кокосовые орехи и моллюсков. Наевшись досыта, они выставили караул и легли спать. Тут кому-то взбрело в голову бросить в костер кокосовый орех, и среди ночи тот со страшным грохотом взорвался. Воины проснулись, вскочили на ноги и схватили мушкеты, не сомневаясь, что их атаковала банда Флетчера Крисчена. Все были очень смущены, когда выяснилось, что произошло.
Других следов «Баунти» и бунтовщиков не обнаружилось, и Эдвардс наконец сделал верный вывод, что рангоут принесло с Тупуаи, где, по словам узников, корабль действительно кое-что потерял. Кстати, остров Пальмерстон лежал точно по ветру от Тупуаи.
Здесь же произошел и трагический случай: во время рекогносцировки бесследно исчезла шлюпка, которой командовал один из гардемаринов. Видимо, мощный прибой разбил ее о риф, и все пять человек погибли.
Потеряв надежду найти их, Эдвардс пошел дальше курсом на северо-запад, к островам Токелау, расположенным севернее архипелага Самоа. Дело в том, что один из узников, Хиллбрант, сказал Эдвардсу, будто Крисчен, покидая Таити, успел поделиться с ним, какое место он облюбовал. Речь шла о необитаемом острове, открытом во время кругосветного плавания Байрона; это был остров Герцога Йоркского, который в наши дни называется Атафу. Как ни странно, Эдвардс вполне допускал, во-первых, что Крисчен способен прозябать на уединенном коралловом островке, во-вторых, что он мог разболтать свои планы людям, которые предпочли остаться на Таити. И «Пандора» на всех парусах устремилась в сторону Токелау.
Отсюда Эдвардс прошел к островам Тонга и Самоа, которые тоже тщательно обыскал. Тут случилась новая беда. Шхуна, оказавшаяся очень полезной для рекогносцировок, вдруг пропала, и с ней помощник штурмана, гардемарин, старшина и шесть нижних чинов. Розыски не дали результатов, «Пандора» и «Резолюшн» потеряли друг друга. Между тем провиант и вода на шхуне были на исходе.
Разыскивая «Баунти» и шхуну, Эдвардс зашел на Номуку. Отсюда был виден Тофуа, и команда «Пандоры» могла полюбоваться вулканическим заревом на горизонте, как до них любовались люди «Баунти». Если бы на «Пандоре» знали, что пропасшая шхуна в эти самые минуты стоит у Тофуа и ее команда ломает голову — куда подевались их товарищи? Почему-то на шхуне приняли Тофуа за Номуку… Гардемарин был на грани безумия от жажды; хорошо, что тонганцы согласились продать экипажу шхуны немного провизии и воды. Впрочем, сразу после этого они — как и во время пребывания баркаса Блая на острове двумя годами раньше— попытались атаковать судно и отбить его у англичан. Они не учли, что на борту «Резолюшн» есть огнестрельное оружие. Правда, людей на шхуне было наполовину меньше, чем у Блая, и им лишь с большим трудом удалось отбить нападение, после чего принявший командование помощник штурмана Оливер счел за лучшее уйти. Он просчитался: вскоре на Тофуа пришла «Пандора», и никто не сказал команде, что шхуна только что была здесь. Те самые тонганцы, которые коварно атаковали маленькое судно, теперь всячески заискивали перед моряками с большого военного корабля. Они клялись, что не видели никаких шхун, и поспешили извиниться за печальный инцидент с Блаем.
Что делалось в душе Хейворда, когда он вновь увидел мрачный залив, с которым у него было связано столько тяжелых воспоминаний?.. Он сразу узнал нескольких островитян — участников нападения на баркас и убийства Джона Нортона. Но Эдвардс не решился покарать их, полагая, что шхуна еще может зайти на Тофуа. Знай он, как было дело, тонганцы, наверно, не скоро забыли бы его.
В начале августа Эдвардс прекратил искать «Баунти» и «Резолюшн» и пошел к Торресову проливу, который ему было поручено получше изучить. В пути он открыл несколько новых островов, в том числе Ротуму. На острове Ваникоро в архипелаге Санта-Крус он заметил дым — явный признак того, что остров населен, — но прошел мимо. Поистине, его преследовала неудача: если бы Эдвардс пристал к острову, он, вероятно, вошел бы в историю как человек, разрешивший загадку трагической судьбы экспедиции Лаперуза. Французская экспедиция на двух судах под командованием графа Лаперуза бесследно исчезла в Тихом океане в 1788 году, и только в девятнадцатом веке англичанину Диллону удалось восстановить ход событий. Оказалось, что корабли Лаперуза затонули темной штормовой ночью на рифе Ваникоро за три года до прохода «Пандоры» и по крайней мере два человека еще оставались в живых, когда Эдвардс появился в этих водах в августе 1791 года. Дым, увиденный капитаном, несомненно был сигналом бедствия. Но Эдвардс был слишком нелюбопытен; в итоге мир не увидел больше никого из участников экспедиции Лаперуза.
Приблизившись к Большому Барьерному рифу, «Пандора» очутилась едва ли не в самых опасных в мире водах. К сожалению, Эдвардс так рвался домой, что даже не ложился в дрейф на ночь. Должно быть, потому его и постигло несчастье. 28 августа «Пандора» медленно шла на юг вдоль рифа, моряки высматривали проход. Капитан послал на шлюпке лейтенанта Корнера и через несколько часов он подал знак, что проход найден. Тотчас Корнер получил приказ вернуться на борт, но тут наступил вечер, и, как всегда в тропиках, быстро стемнело. Эдвардс уже потерял одну шлюпку и шхуну и, желая избежать новых потерь, подошел к рифу ближе, чем следовало бы. С «Пандоры» непрерывно подавали световые и звуковые сигналы; лейтенант Корнер отвечал мушкетными выстрелами.
А течение незаметно все ближе увлекало корабль к рифу. Нарастал рев прибоя. Поминутно промеряли глубину, но под килем было больше ста десяти саженей, и моряки полагали, что прямой угрозы нет. В половине восьмого лодка Корнера вынырнула из тьмы под самой кормой «Пандоры»; все обрадовались ее благополучному возвращению. Только успели поднять Корнера, вдруг лотовый крикнул: «Пятьдесят саженей!» Эдвардс велел поднять паруса, но слишком поздно — в следующую секунду «Пандору» со страшной силой бросило на риф, и сразу в пробоины хлынула вода. Ее принялись откачивать и вычерпывать через люки, однако уровень воды все поднимался, и Эдвардс решил даже выпустить трех узников — Коулмена, Нормана и Макинтоша, — чтобы они помогали качать. (Как видно, он отлично знал, что Блай считал этих троих непричастными к мятежу).
Наконец «Пандору» перебросило через риф, и она стала на якорь в небольшой лагуне, где было пятнадцать саженей под килем. Сюда прибой не достигал, по волны уже успели сделать свою разрушительную работу. «Пандора» представляла собой грустное зрелище: сильный крен, руль сорван, ахтерштевень разбит. Эдвардс хотел подвести под дно парус, чтобы преградить доступ воде и осушить трюмы, но из этого ничего не вышло. Оставалось только безостановочно качать и вычерпывать воду, чтобы удержать корабль на плаву до рассвета. Пушки сбросили за борт; при этом одного моряка придавило насмерть. Упавшим рангоутом был убит другой, затем вышла из строя одна помпа. Люди совершенно вымотались, и Эдвардс, чтобы подкрепить их, выдал пива, которое заварили, когда стояли на Номуке. Все с нетерпением ждали утра.
Для заточенных в «ящике Пандоры» эта ночь была еще ужаснее. Когда корабль наскочил на риф, узники попадали друг на друга, и многих ранило цепями. Боясь утонуть, они общими усилиями разорвали цепи, чтобы был хоть какой-то шанс спастись. Капитан Эдвардс тотчас велел снова заковать их. Узники молили о пощаде, просили, чтобы нм, как Коулмену, Норману и Макинтошу, разрешили работать на помпах, но Эдвардс и слушать не хотел. И хоть вода прибывала, на пленников опять надели кандалы и предупредили: если они еще раз порвут цепи, их расстреляют или повесят. Одновременно усилили караул у люка.
К половине седьмого утра всем стало ясно, что корабль скоро затонет: трюмы «Пандоры» были наполовину заполнены водой. Мигом погрузили в шлюпки провиант и снаряжение; с палубы покидали в воду предметы, которые могли плавать, чтобы людям было за что держаться.
Вода ворвалась в верхние пушечные портики. Помпы оставили, теперь каждый сам заботился о своем спасении. Эдвардс и его офицеры поднялись на крышу «ящика Пандоры», готовясь покинуть корабль. Под ногами капитана жалобно кричали заключенные, умоляя выпустить их, и только теперь Эдвардс приказал оружейному мастеру снять с них кандалы. Затем капитан и офицеры прыгнули в воду и поплыли прочь от корабля.
Открыли потолочный люк; Маспретт, Скиннер и Бирн первыми вырвались на волю и бросились за борт, но Скиннер в горячке забыл снять цепи, а потому сразу пошел ко дну. Начальник корабельной полиции, который не покидал своего поста, сперва опешил и не сумел помешать побегу Маспретта, Скиннера и Бирна. Опомнившись, он захлопнул люк, чтобы не растерять всех узников. Только задвинул засов, как «Пандора» накренилась еще сильнее, и он упал за борт. В тюрьме началась паника. Люк был заперт снаружи, и некому было его открыть. Помощник оружейного мастера, который тоже оказался заточенным, лихорадочно разбивал кандалы, спеша освободить побольше людей; тем временем вся носовая часть корабля до грот-мачты ушла под воду. Казалось, узникам конец, но тут на крышу «ящика» вскарабкался младший боцман Уильям Мултер. Крикнув заключенным, что он либо спасет их, либо вместе с ними пойдет ко дну, он сорвал крышку люка и швырнул ее в море. П сам прыгнул следом, потому что «Пандора» стремительно погружалась в свою могилу. Узники мигом протиснулись через люк на волю, и только бедняга Хиллбрант, которого не успели расковать, оставался в «ящике», когда корабль скрылся иод волнами. Видимо, заключенные последними покинули «Пандору»: Хейвуд вспоминает, что, когда он оглянулся на судно, только верхушки мачт торчали над водой.
Над лагуной неслись отчаянные крики утопающих. Кто умел плавать, искал обломков, за которые можно было бы ухватиться. В четырех-пяти километрах от разбитого корабля находился песчаный островок; здесь и собрались постепенно все уцелевшие. Когда Эдвардс произвел перекличку, оказалось, что не хватает тридцати пяти человек, в том числе четырех пленников — Стюарта, Хиллбранта, Скиннера и Самнера. Девяносто девять человек спаслись.
Теперь им оставалось только по примеру Блая как-то добираться до Тимора. Эдвардс был, разумеется, взбешен до крайности, возможно, потому он и отказался дать узникам спасенный наряду с другим имуществом парус, которым они хотели защититься от солнца. У пленников не было одежды, а загар, полученный на Таити, давно сошел в тюрьме; в итоге они сильно обгорели и страшно мучились. Всего десять градусов отделяло место катастрофы от экватора, и солнце жгло неумолимо. От этого еще более усиливалась страшная жажда, а воды было так мало, что на каждого выдавали две рюмки в день.
Нельзя отрицать, что капитан Эдвардс кое в чем нарушил инструкции о содержании заключенных. Нет сомнения, что по его вине утонули четыре узника; да и остальные спаслись чудом. И на островке он проявил ненужную жестокость. Не получив паруса, несчастные были вынуждены зарыться по шею в песок. Помощник командира корабля Джон Ларкин тоже не отличался добрым нравом, он всячески отравлял существование пленных, и Эдвардс не мешал ему. Когда на третий день после гибели «Пандоры» четыре шлюпки вышли курсом на Тимор, Моррисон, на свою беду, попал в одну лодку с капитаном Эдвардсом. Его записи о том, как грубо и бесчеловечно капитан обращался с тремя узниками, сидевшими в этой шлюпке, только подтверждают установившееся мнение об Эдвардсе как о жестоком садисте.
Переход до Купанга занял почти две недели. У северного побережья Австралии удалось добыть немного провианта и воды, но, конечно же, людям пришлось испытать и голод и жажду. Лодки были нагружены до предела. В одной сидело тридцать, в другой — двадцать пять, в третьей — двадцать три, в четвертой — двадцать один человек (на баркасе Блая было восемнадцать). Тем не менее обошлось без происшествий, и 13 сентября они наконец добрались до маленькой голландской колонии. Приняли их так же радушно, как Блая и его людей (Хейворд мог сопоставить). Голландцы, можно сказать, уже привыкли выручать из беды англичан: после Блая к их берегу причалила лодка с беглыми каторжниками из Порт-Джексона. Они выдали себя за потерпевших крушение, и им оказали всяческую помощь. Когда в Купанг пришел Эдвардс, один голландец поспешил к этим ловкачам с радостной новостью: ваш капитан появился! И тут один из «гостей» брякнул:
— Какой капитан? У нас никакого капитана пет!
Последовало разоблачение, и беглецам (в их числе была женщина с двумя детьми) пришлось следовать в Англию в обществе десяти моряков с «Баунти». Кстати, о женщине можно сказать, что она вошла в историю литературы: в Англии ей оказал покровительство Джемс Босуэлл.
Отдохнув в Купанге, Эдвардс и его люди отправились в Батавию на борту голландского судна «Рембанг». По пути они зашли в Семаранг. Здесь их ожидала приятная встреча: они увидели шхуну «Резолюшн», которая после трудного и опасного плавания пробилась сквозь Торресов пролив и достигла одного из голландских форпостов в Ост-Индии. Однако голландцы приняли экипаж шхуны за разыскиваемых мятежников с «Баунти». Во-первых, судно было построено из полинезийского леса — значит, его делали бунтовщики (в этом они не ошиблись!), во-вторых, у моряков не было никаких бумаг, удостоверяющих их личность. И власти всех заперли в кутузку.
Прибыв в Батавию, Эдвардс продал «Резолюшн» и на вырученные деньги купил своим людям одежду. Узники, которые столько трудов потравили, строя шхуну, понятно, ничего не получили. Капитан разделил своих людей на группы, которые отбывали на родину по мере того, как представлялась оказия. Сам Эдвардс плыл со своими пленниками и ни на секунду не спускал с них глаз. После нелегкого плавания через Индийский океан они в марте 1792 года добрались до Капстада, гдо Эдвардс и пленники перешли на корабль «Горгона», шедший в Англию из Порт-Джексона; здесь к беднякам относились более милостиво. 18 июня «Горгона» бросила якорь в Спитхеде, еще через два дня пленников перевели на стоявший в портсмутской гавани «Гектор», где их держали в заключении до начала суда. Обращались с ними вполне корректно, и они смогли наконец-то прийти в себя после долгого и изнурительного плавания.
Прошло четыре с половиной года, как они покинули Англию на «Баунти»[11].
Глава девятая Военный суд
Три месяца длилось томительное ожидание, прежде чем десятеро с «Баунти», уцелевшие после гибели «Пандоры», предстали перед судом. Судебные заседания происходили в главной каюте линейного корабля «Дюк», в гавани Портсмута, с 12 по 18 сентября 1792 года. Председательствовал вице-адмирал лорд Худ, присяжными были одиннадцать суровых капитанов. Всем заключенным предъявили одно обвинение: они «путем мятежа овладели вооруженным кораблем «Баунти» и дезертировали со службы Его Величества». Закон предусматривал смертную казнь за такое преступление; те, кто проявил пассивность и не попытался покинуть корабль, считались соучастниками.
Конечно, главным свидетелем должен был быть Блай, по его годом раньше отправили в новую экспедицию за саженцами на Таити, и он находился на другом конце света. Торопясь покарать виновных, адмиралтейство довольствовалось клятвенно заверенным письменным докладом Блая о мятеже и свидетельскими показаниями тех лоялистов, которые вместе со своим командиром проделали плавание на баркасе и к этому времени находились в Англии. Это были штурман Фраер, боцман Коул, канонир Пековер, плотник Перселл, слуга Блая Джон Смит и бывшие гардемарины, ныне лейтенанты Хейворд и Хеллет. Капитана Эдвардса и лейтенантов Корнера и Ларкина с «Пандоры» пригласили как дополнительных свидетелей, чтобы они рассказали о поимке мятежников на Таити.
Сначала зачитали доклад Блая о мятеже. Как и книга, изданная по его возвращении, доклад изобиловал неточностями. Блай по-прежнему решительно утверждал, что бунт был тщательно продуман и подготовлен заранее, а главной причиной мятежа явилось желание команды вернуться на Таити. Понятно, он ни словом не упомянул о случае с кокосовыми орехами накануне бунта и о прочих эпизодах, которые бросали тень на него. Правда, Блай, как и обещал, снимал всякую вину с Нормана, Коулмена, Макинтоша и Бирна, зато Моррисон и Хейвуд с ужасом услышали, что их он причисляет к мятежникам. Позднее Блай в одном месте назвал Моррисона «главным бунтовщиком после Крисчена и Черчилля, а может быть, даже их советчиком», а нерешительного Хейвуда охарактеризовал как «одного из зачинщиков мятежа». До конца жизни Блай был уверен, что Хейвуд, Стюарт и Моррисон входили в число мятежников; сохранившиеся письма показывают, как Блай огорчался и возмущался тем, что Крисчен, Хейвуд и Стюарт, которых он считал своими протеже, столь вероломно восстали против него!
На суде быстро выяснилось, что четверка, которую, как докладывал Блай, силой задержали на «Баунти», в самом деле неповинна. Из единодушных свидетельских показаний также вытекало, что другая четверка— Эллисон, Беркетт, Миллуорд и Маспретт — с оружием в руках активно участвовала в мятеже. Поэтому с самого начала внимание суда и публики сосредоточилось на том, чем занимались во время бунта остальные обвиняемые, то есть Моррисон и Хейвуд. Соответственно и мы проследим в первую очередь волнующую драму, в которой главные роли играли эти двое.
Первым свидетелем утром 12 сентября был штурман Фраер. Он рассказал о Блае много нелестного, упомянул о неоднократных жалобах Крисчена на «адскую жизнь». Естественно, это побудило суд спросить Фраера, что, по его мнению, подразумевал Крисчен.
— Постоянные выговоры и оскорбления, которым он подвергался со стороны Блая, — тотчас ответил Фраер.
И он поспешил поведать о том, как Блай накануне бунта обвинил Крисчена и гардемаринов в краже орехов. Это был первый публичный намек на то, что Крисчен и Блай не ладили друг с другом, однако суд интересовала лишь виновность присутствующих, и Фраера попросили сообщить, что ему известно о поведении Моррисона. Фраер рассказал, что встретил Моррисона у кормового люка и спросил, участвует ли он в мятеже, на что Моррисон ответил отрицательно. Уверившись в его лояльности, Фраер шепотом сказал ему, чтобы тот был наготове и помог отбить корабль. И будто бы Моррисон, к великому удивлению Фраера, сказал:
— Спускайтесь в свою каюту, сэр, уже поздно.
Когда настал черед подсудимых задавать вопросы свидетелю обвинения, Моррисон стал добиваться от Фраера уточнений. Фраер повторил, что Моррисон посоветовал ему идти в свою каюту, так как все равно поздно что-либо предпринимать. Моррисон спросил, не помнит ли Фраер его дальнейших слов: «Я постараюсь собрать несколько надежных людей и отбить корабль»? Фраер решительно ответил: «Нет». Тогда Моррисон задал следующий вопрос:
— Вы наблюдали что-нибудь в моем поведении в тот день, что позволило бы вам считать меня участником мятежа?
— Я видел его только в тот раз, о котором говорил, — объяснил Фраер. — При этом он держал себя так, что я решил предложить ему быть наготове. Он показался мне дружественно настроенным, поэтому меня удивил его ответ. Я не ждал от него такого, но может быть, он сказал так, боясь мятежников, кто его знает.
Суд попытался добиться более вразумительного объяснения:
— Можно ли призыв Моррисона к вам оставаться в своей каюте объяснить похвальной тревогой, как бы ваше сопротивление в этот миг не помешало выступить позднее, когда будет больше надежд на успех?
— Возможно, — согласился Фраер. — Если бы я остался на борту, я прежде всего поделился бы своими планами с ним, ведь на всем протяжении плавания он держался хорошо.
Суд. Он говорил с вами угрожающе или тоном советчика?
Фраер. Тоном советчика.
Суд. Кто-нибудь принуждал Моррисона крепить тали к баркасу?
Фраер. Нет.
Суд. Вы видели, чтобы Моррисон предпринимал что-либо кроме того, о чем вы сейчас рассказали, с той минуты, как вас арестовали, и до того, как лодка отчалила от судна?
Фраер. Нет.
Суд. Считаете ли вы, что, спуская на воду баркас, он помогал мятежникам или же это увеличивало надежды капитана Блая на спасение?
Фраер. Это увеличивало надежды капитана Блая на спасение.
Благодаря вмешательству суда невыгодное впечатление, которое создал было своими показаниями Фраер, рассеялось, хотя и оставалось ощущение, что Моррисон что-то скрывает.
О Хейвуде Фраер сказал, что вообще не видел его во время мятежа. Следующий свидетель обвинения, Коул, также не мог сказать ничего предосудительного о Хейвуде. Скорее, напротив: в начале мятежа он видел Хейвуда лежащим на койке, что прямо опровергало слова Блая, будто Хейвуд был одним из главных зачинщиков. Правда, несколько позже он видел, как Хейвуд, помогал спускать на воду лодку, но Коул считал, что Хейвуд, как и многие другие, поступил так лишь потому, что хотел уйти вместе с Блаем. Коул припомнил даже, что Хейвуд сразу после этого спустился по трапу вниз и Черчилль крикнул кому-то из мятежников: «Не выпускай их оттуда». По мнению Коула, под «ними» Черчилль подразумевал гардемаринов Хейвуда и Стюарта (так оно и было).
Словом, Хейвуд мог быть доволен исходом первого дня процесса.
О поведении Моррисона Коул ничего не мог сказать. Поэтому на следующий день, 13 сентября, Моррисон спросил Коула, не помнит ли тот состоявшийся между ними разговор. Дескать, он спросил Коула, своего непосредственного начальника, что же делать, а Коул будто бы ответил: «Ей-богу, Джемс, не знаю, только помоги спустить катер». Моррисон считал, что поступил правильно, выполнив это распоряжение. Далее он спросил Коула:
— Вы не помните, как я подошел к вам, когда вы грузили в лодку ваши вещи, завернутые в постельное белье, как я сказал вам, что лодка перегружена, что капитан Блай просил больше никого не садиться и что я поэтому решил остаться на борту. Вы тогда пожали мне руку и ответили: «Да хранит тебя бог, парень, я оправдаю тебя, если когда-нибудь вернусь в Англию».
Коул. Я помню, как пожал ему руку, помню, как он сказал, что вынужден остаться на корабле. У меня не было никаких оснований сомневаться в его желании покинуть судно. Не помню всего нашего разговора, но вполне возможно, что я обещал оправдать его, когда доберусь до Англии. Да, наверно, я так и сказал.
Моррисон. Было что-нибудь в моем поведении во время плавания, особенно же в тот день, что позволило бы вам заподозрить меня в соучастии в бунте?
Коул. У меня не было никаких причин считать его замешанным в заговоре.
Здесь вмешался суд:
— Вы слышали слова подсудимого Моррисона, что капитан Блай просил больше никого не садиться в лодку, потому что она и без того сильно нагружена?
Коул. Я помню, как пожимал ему руку, но содержание разговора в точности не могу воспроизвести, ведь была такая сумятица.
Суд. Считали ли вы тогда, что Моррисон ушел бы с вами на лодке, не будь она перегружена?
Коул. У меня не было никаких оснований сомневаться в этом. Он вел себя дисциплинированно и всегда выполнял мои приказы.
Суд. Вы говорили, что Моррисон помогал спустить лодку на воду. Считаете ли вы всех, кто в этом участвовал, сторонниками капитана?
Коул. Нет, кое-кто из них был вооружен.
Суд. Значит, тех, кто при этом не был вооружен, вы считаете сторонниками капитана?
Коул. Я был убежден, что они непричастны к мятежу.
Суд. Вы слышали, чтобы подсудимый Моррисон говорил о своем желании спуститься в лодку и чтобы кто-нибудь помешал ему?
Коул. Мне он такого желания не высказывал, и, сколько я знаю, ему никто не мешал.
Следующим свидетелем был канонир Пековер. Он на протяжении почти всего мятежа сидел в своей каюте на корме, а потому не видел ни Моррисона, ни Хейвуда. Тем не менее Моррисон сумел вытянуть из Пековера признание, что его поведение на всем протяжении плавания было безупречным, а потому нелепо полагать, чтобы он смог стакнуться с мятежниками.
После Пековера показания давал Перселл. Как и Фраер, он осуждал обращение Блая с подчиненными. Когда речь зашла о Моррисоне, Пековер был очень немногословен. Он не помнил, был ли Моррисон вооружен, считал невероятным, чтобы тот участвовал в мятеже, хотя и помогал спускать на воду катер. Большая часть показаний Перселла касалась Хейвуда, причем он решительно утверждал, что, когда спускали на воду лодку, Хейвуд стоял на палубе, положив одну руку на саблю. И будто бы Перселл крикнул ему: «Силы небесные, Питер, что это ты?» Тогда Хейвуд снял руку с сабли и взялся за тали. Перселл тоже слышал, как Черчилль приказал Томпсону задержать кого-то под палубой; он подтвердил, что после этого Хейвуда не было видно наверху. Слова Перселла о том, что Хейвуд держал руку на сабле, были серьезным обвинением, и суд долго выяснял, доказывает ли это, что Хейвуд был вооружен. Перселл, который в общем-то относился к Хейвуду доброжелательно, только теперь сообразил, чем тому грозят его показания. И он с некоторым опозданием заявил, что, но его убеждению, Хейвуд случайно коснулся сабли, это вовсе не значит, что он был заодно с мятежниками. Суд обрушил на плотника град вопросов, но он стоял на своем и упорно твердил, что убежден в невиновности Хейвуда. Все же показания Перселла заметно повредили гардемарину.
В пятницу 14 сентября в девять утра возобновилось слушание дела. В этот день допрашивали остальных свидетелей обвинения; начали с бывших гардемаринов (ставших лейтенантами) Хейворда и Хеллета. Разумеется, ни один из них не вспомнил о том, что грубо нарушил вахтенную службу в роковые часы, когда разразился бунт. Зато она много говорили о поведении Моррисона и Хейвуда и выдвинули серьезные обвинения. На ставший стандартным вопрос суда — участвовал ли Моррисон в спуске на воду лодок потому, что он был на стороне мятежников, или потому, что хотел помочь Блаю, — Хейворд ответил с явным коварством:
— Если вы хотите знать мое мнение, то, по-моему, он помогал бунтовщикам. Может быть, он спускал лодки, чтобы поскорее от нас избавиться.
Суд с естественным удивлением осведомился, считает ли свидетель также и Макинтоша мятежником, — ведь и тот помогал спускать катер на воду? На это Хейворду, конечно, пришлось ответить отрицательно, но он добавил:
— У них было разное выражение лица. Один был доволен, другой выглядел удрученным.
Моррисон спросил Хейворда напрямик:
— Вы говорите, что я был доволен и потому вы склонны считать меня мятежником. Можете ли вы перед богом и этим судом поклясться, что ваше показание не объясняется личной неприязнью?
Хейворд. Нет, оно не объясняется личной неприязнью. Мой вывод был сделан уже после того, как я покинул корабль, а обвиняемый не отправился с нами, хотя у него было не меньше возможностей, чем у других, ведь лодка была не одна.
Этот новый аргумент показался еще более надуманным, и Моррисон не замедлил возразить:
— Вы уверены, что нам дали бы катер, чтобы мы могли последовать за вами?
— Я не участвовал в ваших совещаниях, — вызывающе ответил Хейворд, — и точно ничего не знаю, но думаю, что это не исключено.
Моррисон. Можете ли вы отрицать, что при вас капитан Блай просил не перегружать больше баркас и заверил, что оправдает остающихся?
Хейворд. Я присутствовал, когда лейтенант Блай сделал это заявление, но понял так, что он подразумевает одежду и прочие тяжелые предметы, которыми была набита лодка.
Этот странный ответ побудил Маспретта попросить слова и ядовито спросить Хейворда.
— В ответ на вопрос Моррисона вы признали, что капитан Блай произнес слова: «Не перегружайте лодку, ребята, я оправдаю вас». Вы утверждаете, что это относилось к одежде и прочим тяжелым предметам. Вы действительно считаете, что слова «ребята, я вас оправдаю» относились к одежде, а не к тем из оставшихся, кто хотел спуститься в лодку?
Хейворд попытался уклониться от признания, что он намеренно исказил слова Блая, и прибег к еще более низкой выдумке, заявив всем на удивление:
— Если капитан Блай сказал «ребята», он подразумевал тех, кто уже был в лодке, а не тех кто остался на судне.
Тут суд вспылил и нетерпеливо задал вопрос:
— К кому же, по-вашему, обращался капитан, обещая их оправдать, — к тем, кто был с ним в лодке, или к кому-то из оставшихся на корабле?
Хейворд понял, что хватил через край, и повернул на сто восемьдесят градусов:
— К кому-то из оставшихся на борту!
Суд неумолимо продолжал:
— По-вашему, он подразумевал, что оправдает их, хотя они остаются на судне, или что он позаботится о возмещении потерянного ими имущества?
Хейворд. По-моему, скорее всего он обращался к немногим лицам, о которых знал, что они ему верны и задержаны на борту против своей воли. Их он и хотел оправдать, чтобы не было никакого сомнения, что они остались верны своему долгу и отечеству!
Полная капитуляция. И вес же, когда суд спросил, кому именно, по мнению Хейворда, мятежники не дали покинуть «Баунти», он назвал только Коулмена и Бирна!
Следующий свидетель, Хеллет, выдвинул еще более тяжкое обвинение. Он заявил, будто у Моррисона был в руках мушкет, когда баркас отходил от корабля, будто Моррисон стоял на корме «Баунти» и издевательски кричал им вслед: «Если друзья спросят обо мне, скажите, что я где-то в Южных морях!» Моррисон спросил Хеллета, не обманули ли его глаза, но тот настаивал на своих показаниях.
Хейворд и Хеллет выдвинули и против Хейвуд серьезные обвинения. Хейворд заявил, что застал Хейвуда бездеятельно сидящим в своем уголке и якобы предложил ему поскорее спуститься в баркас. Суд спросил:
— Когда Питер Хейвуд сидел в своем уголке и вы предложили ему спуститься в лодку, мятежники каким либо способом мешали ему подняться на палубу?
Хейворд. Нет.
Суд. Чем был занят мистер Хейвуд, когда вы спустились в его уголок?
Хейворд. Ничем. Он сидел на своем рундуке, сложив руки на груди.
Суд. По его поведению можно было судить, принадлежал ли он к верным долгу людям или к мятеж никам?
Хейворд. Я бы скорее отнес его к мятежникам ведь он не послушался, когда я сказал ему, чтобы он шел в лодку. Но это только предположение, так как он вовсе не участвовал активно в мятеже.
Суд. Наблюдали ли вы признаки удовольствия или огорчения на его лице или в его поведении?
Хейворд. Огорчение.
Было очевидно, что Хейворд снова ударился в недобрые домыслы. И суд незамедлительно возразил с сокрушительной логикой:
— Но вы же сейчас сказали, что по-вашему Макинтош не принадлежал к бунтовщикам, ибо он выглядел огорченным. Может быть, огорченный вид Питера Хейвуда объясняется тем же?
— Может быть, — неохотно признал Хейворд.
Хеллет сменил своего оплошавшего товарища и выдвинул еще одно обвинение против бедняги Хейвуда. Дескать, Блай что-то сказал Хейвуду, а тот, вместо того чтобы ответить, дерзко рассмеялся и повернулся спиной к своему командиру.
Легко представить себе, сколь невыгодное впечатление такое показание произвело на суд. Однако Хейвуд не стал задавать Хеллету никаких вопросов; он в самом начале процесса попросил, чтобы ему разрешили отложить допрос свидетелей до защитительной речи. Кстати, уже после суда у Хеллета вроде бы заговорила совесть и он признал, что, возможно, спутал Хейвуда с кем-то другим.
Следующим свидетелем был Джон Смит, слуга Блая. Он не видел оружия ни у Хейвуда, ни у Моррисона. После него Эдвардс, Корнер и Ларкин с «Пандоры» рассказали, как подсудимые были пойманы на Таити. Хейворд, разумеется, в своих показаниях тоже сообщил об этом. Из слов офицеров «Пандоры» вытекало, что и Хейвуд и Моррисон сдались добровольно.
Закончился допрос свидетелей обвинения, пришло время обвиняемых задавать им вопросы и выступать в свою защиту. (Отметим, что только Хейвуду и Маспретту было по карману нанять адвокатов). Коулмен получил слово на утреннем заседании в субботу 15 сентября. Он был краток, так как знал, что ему нечего опасаться.
Больше ничего примечательного в тот день не произошло, зато очень драматичным оказался понедельник 17 сентября, когда состоялся допрос свидетелей и были заслушаны защитительные речи. Дольше всех говорил Хейвуд; его речь, написанная адвокатом, изобиловала ненужными повторениями и риторическими оборотами. Он особенно упирал на то, что предпочел остаться на «Баунти» по молодости и недомыслию (ему не было и семнадцати в день бунта), а еще потому, что боялся погибнуть, если последует с Блаем на баркасе. Когда же его товарищ, гардемарин Стюарт, все-таки уговорил его уйти на баркасе, Черчилль и Томпсон не дали ему выполнить это намерение.
Во время допроса Хейвудом свидетелей Фраер, Коул, Пековер и Перселл очень одобрительно отозвались о его дисциплинированности и поведении на «Баунти». Коул подтвердил, что это он приказал Хейвуду помочь при спуске баркаса на воду. Кроме того, Хейвуду удалось добиться от свидетелей показаний о том, как жалко вели себя во время мятежа Хейворд и Хеллет. И Коул и Перселл показали, что не слышали, чтобы Блай говорил что-нибудь Хейвуду во время мятежа. Фраер и Пековер в то время сидели под палубой, так что их Хейвуд по этому поводу не спрашивал. Ни один из четырех свидетелей не считал Хейвуда причастным к мятежу, и Перселл заявил, что Черчилль несомненно подразумевал Стюарта и Хейвуда, когда крикнул: «Задержите их внизу!»
Отвечая на вопросы Хейвуда и суда, Эдвардс и Ларкин подтвердили, что гардемарин по своему почину явился на «Пандору», как только судно бросило якорь в Матаваи, и во время заключения охотно давал показания.
Защитительная речь Моррисона была длинной и патетической. Он подчеркнул, что на баркасе не оставалось места, что Блай сам настойчиво просил больше не перегружать баркас. Нелепое утверждение Хейворда, будто Моррисон мог сесть в другую лодку, было нетрудно опровергнуть: все понимали, что Крисчен ни за что не отдал бы катер лоялистам.
Отвечая на вопросы Моррисона, Фраер очень лестно обрисовал его и решительно заявил, что тот посоветовал ему вернуться в каюту, так как их слышали мятежники. К сожалению, менее удачным был допрос Моррисоном Коула. Правда, Коул похвально отозвался о личных качествах и поведении Моррисона во время плавания, однако подтвердил слова Хеллета о том, будто Моррисон вел себя издевательски, когда отчалил баркас. Коул заявил:
— Он не был вооружен, но я слышал, как он сказал: если кто-нибудь спросит о нем, ответить, что он где-то южнее экватора или что-то в этом роде.
Суд спросил Коула:
— Эти слова о том, чтобы на вопрос о нем ответить, что он где-то южнее экватора или что-то в этом роде, подсудимый Моррисон произнес с насмешкой или же он был удручен тем, что его оставили на корабле?
— Мне показалось, что он говорит с насмешкой, — повторил Коул.
Перселл заявил, что он ничего такого не слышал и что Моррисон всегда вел себя образцово.
Защитительные речи остальных восьми обвиняемых заняли немного времени. Те, кто чувствовал себя в безопасности, ограничились ссылкой на показания в их пользу, а те, кого уличили в соучастии, были слишком подавлены, чтобы долго упражняться в красноречии.
И вот наступил вторник 18 сентября. Публика быстро заполнила каюту «Дюка», и в девять часов утра в последний раз ввели обвиняемых. Председатель суда спросил, желает ли кто-нибудь из них добавить еще что-либо в свою защиту. Только Хейвуд ответил утвердительно и представил свидетельство о крещении, подтверждающее, что ему не было семнадцати лет, когда произошел бунт. Он уже раньше ссылался на это как на смягчающее обстоятельство, однако свидетельство о крещении явно не произвело впечатления на суд, председатель сразу же призвал к вниманию и торжественно зачитал постановление суда.
Он начал с перечисления тех, кого после рассмотрения всех обстоятельств признали виновными, — и первыми в списке стояли Питер Хейвуд и Джемс Моррисон! Остальные четверо, как и следовало ожидать, были Эллисон, Беркетт, Миллуорд и Маспретт. Всех их приговорили к «смертной казни путем повешения за шею на военном судне или судах Его Величества»; место и срок надлежало определить особо. Не успели Моррисон и Хейвуд очнуться от потрясения, как председатель добавил, что, «учитывая различные выяснившиеся обстоятельства, суд намерен всеподданнейше и настоятельно ходатайствовать о помиловании вышеуказанных Питера Хейвуда и Джемса Моррисона Его Величеством». Нормана, Коулмена, Макинтоша и Бирна суд полностью оправдал; их сразу выпустили на свободу.
Смертный приговор Хейвуду и Моррисону был неожиданностью не только для них, но и для большинства тех, кто следил за процессом. А получилось так потому, что они ничем не могли подтвердить свое желание последовать на баркасе с Блаем. Если бы Хейвуд больше упирал на то, что его силой задержали на «Баунти», а не разглагольствовал о своей молодости и недомыслии, его, возможно, тоже оправдали бы. Впрочем, все утешали его и Моррисона тем, что их, наверно, помилуют.
В ходе процесса Маспретт просил, чтобы Норман и Бирн выступили как его свидетели, но, поскольку они тоже значились обвиняемыми, его просьбу отклонили. Сразу после вынесения приговора адвокат Маспретта заявил, что дело Нормана и Бирна надлежало рассматривать отдельно, чтобы они могли быть привлечены как свидетели защиты. Зацепившись за эту технически-правовую ошибку, он потребовал отменить приговор, вынесенный его клиенту. Уловка оказалась очень удачной: после того как целый ряд ученых судей и юристов дали свое заключение по этому вопросу, одна из высших инстанций удовлетворила ходатайство, и Маспретт вышел на свободу.
Остальные пятеро полтора месяца ждали окончательного решения своей участи. Особенно томительным ожидание было для Моррисона и Хейвуда, а так как делать больше было нечего, они обратились к перу. Хейвуд усиленно переписывался со своей семьей и, сверх того, составил самый полный для того времени словарь таитянского диалекта. Да и Моррисон никак не мог забыть счастливой поры в Южных морях: он подробно описал все плавание и сочинил пространный отчет о быте и нравах жителей Тупуаи и Таити. Эти ценные записки, к счастью, сохранились до наших дней; их можно назвать золотой жилой для этнографов, историков и прочих специалистов.
В конце октября Моррисон и Хейвуд дождались наконец помилования, а еще через несколько дней был приведен в исполнение приговор остальным троим: Беркетту, Миллуорду, Эллисону. Казнь должна была состояться 29 октября на линейном корабле «Брунсвик». Смертников доставили на борт накануне вечером. Но свидетельству одного современника, все трое держались неожиданно бодро; Миллуорд, самый начитанный среди них, до поздней ночи пичкал товарищей молитвами, библейскими изречениями и отрывками из проповедей. В девять утра раздался пушечный выстрел, одновременно на «Брунсвике» был поднят желтый флаг — сигнал судам эскадры, стоявшим в Портсмуте на рейде, чтобы они присылали своих людей. Вскоре со всех сторон подошли лодки, и палубу заполнили офицеры и матросы. Несколько тысяч зрителей собралось на берегу.
В одиннадцать часов вывели осужденных в сопровождении четырех священников и Моррисона, который до последней минуты старался поддержать товарищей но несчастью. Словно в хорошо отрепетированной нравоучительной пьесе, какие тогда были очень популярны, Миллуорд выступил вперед и произнес длинную речь, признавая себя и своих друзей преступниками и горячо призывая собравшихся моряков служить добросовестно и всегда беспрекословно выполнять приказания начальства. Затем палач надел петли на шеи смертников. Еще один пушечный выстрел — и безжизненные тела Беркетта, Эллисона и Миллуорда закачались под реями.
Мы видели, что щепетильный вопрос — в какой мере Блай сам повинен в мятеже — совершенно не рассматривался судом. Причина такого безразличия очевидна. Блай уже отвечал перед судом за потерю корабля и был полностью оправдан. Адмиралтейство считало вопрос о его ответственности решенным раз и навсегда. И строго юридически Блай, конечно, был невиновен. Но, может, на нем лежит доля моральной ответственности, может, именно его деспотизм и жестокое обращение с командой довели ее до бунта? Этот вопрос часто ставился, и он требует ответа для полноты суждения о Блае.
Хотя Фраер и Перселл не очень лестно говорили о Блае, в первые годы после мятежа его злоключения обычно объясняли тем, что на борту-де собралось на редкость много негодяев. Но уже к августу 1793 года, когда Блай возвратился в Англию из своей второй, удачной экспедиции за саженцами хлебного дерева, героический ореол вокруг его личности несколько потускнел, так как Хейвуд, Моррисон и родственники Флетчера Крисчена успели и письменно и устно сообщить о нем много нелестного. Впрочем, золотая медаль и вознаграждение в тысячу гиней настолько обрадовали Блая, что он вряд ли заметил наступившую перемену.
Еще более бросило тень на его доброе имя критическое сочинение, изданное годом позже братом Флетчера Крисчена, Эдвардом, который был профессором юстиции Кембриджского университета. Здесь без точного указания источников приводилось много отрицательных высказываний о Блае — Фраера, Перселла, Моррисона, Хейвуда, Маспретта, Коулмена, Макинтоша и других. Все они, разумеется, должны были доказать, что грубое, беспардонное обращение с Флетчером Крисченом делает Блая главным виновником происшедшего. Блай попробовал дать отпор в печати, но было уже поздно.
По разным и не всегда понятным причинам до наших дней сохранилось представление о Блае как о подлом тиране. Типичным примером может служить красочная характеристика, которую мы находим в рекламе кинофирмы «Метро-Голдвин-Майер»: «Одно его имя приводило команду в трепет. Морское чудовище, зачатое на галере, рожденное под пушкой! Его волосы напоминали паклю, зубы — обойные гвозди. Любой моряк, который отваживался не выполнить его жестокие и безумные приказания, был обречен».
Конечно, у Блая было много недостатков. Главные из них — вспыльчивость и грубая прямолинейность. Нельзя отрицать, что он был наделен острым языком и умел в приливе ярости найти обидные, оскорбительные выражения. Но ничто в имеющихся источниках не подтверждает общепринятого представления о нем как о звере в облике человека. Напротив, он был на редкость добр и человечен в обращении с командой. Взять хотя бы телесные наказания… Многие книги и фильмы о мятеже на «Баунти» рисуют Блая изощренным садистом, который избивал своих людей за малейшую провинность, а то и просто ради своего удовольствия. А на деле? За все время плавания, вплоть до дня мятежа, Блай лишь одиннадцать раз назначал телесные наказания, и общее число ударов составило всего двести двадцать девять — это невероятно низкая цифра по сравнению с тем, что делалось на других судах в конце восемнадцатого столетия. Троим членам команды, дезертировавшим на Таити, следовало благодарить своего творца за то, что их командиром был Блай, ведь в ту нору в английском флоте хватало капитанов, которые забили бы матроса до смерти за такое преступление. Нельзя обвинить Блая и в том, что он держал команду впроголодь и вообще не заботился о ней. Приведенные в предыдущих главах факты ясно показывают, что он неустанно думал о здоровье и настроении людей.
Чтобы разглядеть истинное лицо Блая, которое ныне почти совсем скрыто всякими измышлениями и неверными реконструкциями, надо прежде всего выяснить, что о нем думали люди, лично его знавшие. К счастью, в английских архивах сохранилось много свидетельств, и в главном они удивительно совпадают. Мне кажется, лучше и вернее всего сказал о достоинствах и недостатках Уильяма Блая некий лейтенант Тобин, который служил на «Провидансе» во время второго плавания за саженцами на Таити. Вот что он писал своему товарищу по экспедиции, лейтенанту Бонду, двадцать пять лет спустя, услышав о смерти Блая:
«Должно быть, никто и никогда не понимал его как следует. Во всяком случае я могу утверждать, что на «Провидансе» не было никакой организованной тирании, которая вызывала бы всеобщее недовольство. Конечно, бывали у него приступы необузданной ярости, когда он совершенно выходил из себя. Но кто мог быть добрее и интереснее этого человека, когда все ладилось… Забудем же слабости нашего старого капитана, будем помнить о нем как об ученом и выдающемся мореплавателе. Он много выстрадал, но энергия и настойчивость помогали ему преодолевать все трудности. Однако главным его достоинством была предусмотрительность. Думаю, Бонд, в этом ты со мной согласишься. Я видел многих более находчивых судоводителей, но никто не мог сравниться с ним дальновидностью».
Глава десятая Поселенцы на Питкерне
В апреле 1807 года американский капитан Мейхью Фолджер вышел из Бостона на своем «Топазе» в кругосветное плавание. Он задумал искать в пустынных южных широтах новые, неизвестные острова, где охотники еще не бывали и не нарушили безмятежное существование тюленей. Этому плаванию суждено было стать одним из самых долгих и трудных, какие когда-либо выпадали на долю зверобойного судна. Войдя в Южной Атлантике в «ревущие сороковые», Фолджер поймал западный ветер и пошел на восток. В этих суровых водах «Топаз» боролся с жестокими зимними штормами; даже такой искушенный моряк, как Фолджер, никогда в жизни не видел подобных волн и такого бурана. Но сколько они ни искали, новые земли не появлялись, и капитан Фолджер был весьма удручен, когда на сильно потрепанном корабле подошел к острову Кергелену в южной части Индийского океана, чтобы забрать воды. Неудача преследовала его. Только он хотел войти в бухту, как разразился шторм, да такой, что пришлось ему снова повернуть на восток, не найдя тюленей и не взяв воды. Через месяц он бросил якорь в том самом заливе Эдвенчер на Тасмании, где по пути на Таити останавливался почти двадцать лет назад Уильям Блай.
К этому времени на острове было основано небольшое поселение Хобарт (ныне столица Тасмании), и Фолджер зашел туда. Кстати, должность губернатора Нового Южного Уэльса в ту пору занимал не кто иной, как наш старый знакомый Блай. А английское военное судно, которое проводило Фолджера из залива Эдвенчер до Хобарта, годом раньше сопровождало Блая, когда он из Англии плыл к новому месту службы в Австралии. Фолджер, конечно же, слышал о Блае; что до Флетчера Крисчена и его восьми спутников, их судьба оставалась неизвестной и была предметом оживленного обсуждения на полубаках, в офицерских кают-компаниях и матросских кабачках во всем свете.
И снова «Топаз» отправился в путь. Корабль обогнул с юга Новую Зеландию, и на островах Чатам Фолджеру наконец удалось добыть первых шестьсот тюленей. Ободренный успехом, он опять свернул на юг. Заход на острова Антиподов был не очень удачным, и Фолджер решил попытать счастья в самых южных широтах. Но крайний юг Тихого океана оказался столь же пустынным и бесплодным, как антарктические воды Атлантики и Индийского океана. Земли они не видели, только айсберги, и в январе 1808 года Фолджер двинулся на север, в более теплые и гостеприимные широты.
К этому времени он забрался довольно далеко на восток. Ему нужен был остров, где бы можно было пополнить запасы воды, и, обратившись к картам и запискам мореплавателей, Фолджер обнаружил, что находится совсем рядом с островом Питкерн. По всем данным, со времени его открытия в 1767 году Питкерн никто не посещал, но, судя по описанию Картере, воду на острове можно было найти, лишь бы удалось сойти на берег. Фолджер решил попытаться.
Зайдя восточнее позиции, указанной Картере, Фолджер повел «Топаз» на запад вдоль нужной параллели, не подозревая, что его ожидает одно из самых сенсационных открытий в истории исследования Тихого океана.
В половине второго 5 февраля моряки увидели остров. Приближаясь, Фолджер внимательно присматривался к нему — никакого сомнения, тот самый Питкерн, который открыл Картере. Правда, он показался раньше, чем ожидалось, уже на сто тридцатом меридиане (по данным Картере, он должен был находиться на три градуса западнее), но вид его в точности отвечал описанию. Фолджер не сомневался, что после «Ласточки» его «Топаз» — первое судно у Питкерна.
На рассвете 6 февраля капитан велел спустить на воду две лодки; он хотел проверить, нет ли тюленей среди прибрежных скал. Матросы прилежно гребли, Фолджер рассматривал берег в бинокль. Внезапно он вздрогнул. Картере писал, что остров необитаем, — откуда же дым? Если на острове есть огонь, должны быть и люди. Кто это — полинезийцы? Или моряки, потерпевшие кораблекрушение?
Капитан еще не пришел в себя от изумления, когда от берега отчалила двойная пирога и через прибой вышла к ним навстречу. В пироге сидели три молодых парня. Подойдя достаточно близко, они окликнули прибывших. Окликнули по-английски!
Фолджер окончательно опешил: ведь он был уверен, что в пироге сидят «дикие» полинезийцы. Потом ответил, что он американец из Бостона. Тогда пирога подошла еще ближе, и один из парней сказал с недоумением:
— Ты американец, ты из Америки, а где Америка? В Ирландии?
В двух словах на такое не ответишь, и Фолджер решил сам задавать вопросы. Завязалась не совсем обычная беседа:
— А вы кто?
— Мы англичане.
— Где вы родились?
— Здесь, на этом острове.
— Какие же вы англичане, если родились на острове, который никогда не принадлежал Англии?
— Мы англичане, потому что наш отец был англичанином.
— А кто ваш отец?
— Алек.
— Что за Алек?
— Ты не знаешь Алека?
— Откуда мне знать Алека? — нетерпеливо воскликнул Фолджер.
— Ну, а капитана Блая с «Баунти» ты знаешь?
Позднее Фолджер рассказывал, что, когда прозвучал этот вопрос, «меня сразу осенило и душу обуяло удивление, недоумение, радость — словом, какое-то неописуемое чувство».
Парни, как могли, отвечали на град вопросов, которыми их засыпал капитан. Они объяснили, что Алек — единственный уцелевший из мятежников, все остальные умерли. Фолджеру не терпелось причалить к берегу и побольше разузнать о судьбе мятежников, но он не был уверен, что этот загадочный Алек обрадуется гостям. Капитан «Топаза» отлично понимал, что по строгим английским законам Алек — преступник, которому место на виселице. Понятно, он отнесется недоверчиво к чужакам. Наверно, сидит сейчас и волнуется, ждет, что расскажут ему эти ребята про свою встречу с незваными гостями.
Однако Фолджер вовсе не собирался выступать уполномоченным английского правосудия, хотя бы весь остров кишел кровожадными мятежниками, и он попросил парней передать Алеку, что капитан «Топаза» хотел бы встретиться с ним и выделить из корабельных запасов что тому может понадобиться. Пирога вернулась к берегу и через некоторое время опять вышла. Правда, Алека в ней не было, но парни передали, что он охотно примет капитана Фолджера.
В свою очередь Фолджер тоже проявлял осторожность: в ответ на приглашение он попросил еще раз заверить Алека, что у него только мирные намерения.
Трудно сказать, кто больше боялся — Алек или капитан Фолджер. Оба опасались какой-нибудь каверзы, потому-то в эти солнечные утренние часы и развернулся столь комичный поединок: кто кого перетянет. Впрочем, беднягам, которым приходилось гонять пирогу взад-вперед, вряд ли было весело.
Лодка подошла в третий раз, по-прежнему без Алека, и Фолджеру объяснили, что его не отпускают женщины, беспокоятся, как бы с ним чего не случилось. Одновременно парни заверили, что Фолджер может смело подходить к берегу, все с нетерпением ждут гостей и готовы угостить их всем, чем богат остров.
Фолджер слишком долго не ступал на сушу, чтобы устоять против такого соблазна. И он решился наконец последовать за пирогой.
Так восемнадцать лот спустя было открыто убежище мятежников с «Баунти».
На берегу Фолджера сердечно встретила целая толпа женщин и детей. Алек оказался бывшим матросом Александером Смитом; ему было уже около пятидесяти лет. Население маленькой колонии, которую он возглавлял, составляло тридцать пять человек. Смит и восемь таитянок представляли старшее поколение. Прочие двадцать шесть были либо дети, либо юноши и девушки не старше восемнадцати-девятнадцати лет; из них юная таитянка совсем крошкой проделала на «Баунти» путь от Таити до Питкерна; все остальные родились на Питкерне и носили фамилии мятежников.
Итак, из двадцати семи взрослых (девять мятежников, двенадцать таитянок и шесть полинезийцев с Таити, Раиатеа и Тупуаи), которые ступили на берег Питкерна в январе 1790 года, Фолджер застал живыми только девятерых: Смита и восемь женщин. Куда девались другие? Какие мрачные тайны хранил остров?
Фолджер провел на острове всего пять-шесть часов и, конечно же, всячески старался побольше выведать у Смита о мятеже и судьбе бунтовщиков. Но и Смиту не терпелось узнать, что произошло на свете после того, как «Баунти» в декабре 1787 года покинул Англию. Фолджеру было что рассказать, и начал он, естественно, с повести о чудесном спасении Блая, о походе «Пандоры» и о суде над теми, кого поймал капитан Эдвардс. Кроме того, последнее двадцатилетие было одним из самых бурных в мировой истории, и Смит, понятно, ничего не знал ни о Французской революции, ни о Наполеоне, ни о Нельсоне. Можно только гадать, кто из двоих говорил больше; скорее всего они рассказывали наперебой и бомбардировали друг друга вопросами, поспевая отвечать лишь на малую часть. Смит, как истинный английский моряк, пришел в восторг, узнав о замечательных победах флота Англии; когда же Фолджер сообщил о Трафальгаре и других знаменитых сражениях, Алек вскочил на ноги, трижды взмахнул шляпой, потом швырнул ее оземь и закричал: «Да здравствует старая Англия!»
Фолджера на Питкерне окружили вниманием, и он был очень сыт и доволен, когда около четырех часов возвратился на свою потрепанную посудину, везя с собой множество даров — не только поросят, кокосовые орехи и фрукты, но и два сувенира с «Баунти»: компас и превосходный хронометр. (Этот хронометр, вполне заслуживающий названия редкости, можно увидеть в одном из музеев Англии). Конечно, Фолджер подарил питкернцам все, что можно было из запасов «Топаза»; особенно кстати пришлась одежда.
Визит в маленькое поселение взволновал и растрогал американца до глубины души. Мораль и религиозность этих людей по всем признакам отвечали самым строгим требованиям той поры, а очаровательная непринужденность и простодушие, отличавшие молодежь, просто поразили повидавшего свет морского волка. О Смите он записал в судовом журнале: «Какие бы ошибки и преступления ни совершил мятежник Смит в прошлом, теперь он, по моему убеждению, честный человек и может быть очень полезен морякам, плавающим в этих водах».
Дальше плавание «Топаза» проходило без приключений. Хронометр через несколько недель перешел от Фолджера к испанскому губернатору островов Хуан-Фернандес. В Вальпараисо Фолджер встретил одного офицера английского флота и (не мог уж промолчать!) рассказал ему про колонию на Питкерне. Офицер направил рапорт английскому адмиралу в Рио-де-Жанейро, а тот переслал его в Лондон, в адмиралтейство, куда депеша и прибыла 14 мая 1809 года. Как известно, в тот миг Англии было не до этого, шла борьба не на жизнь, а на смерть с «корсиканским тираном», как англичане называли великого императора Франции. Одна или две газеты сообщили о рапорте, но эта весть никого не взволновала, и адмиралтейство не стало ничего предпринимать, а затем вся история вообще была забыта. Между тем маленькое поселение продолжало свое уединенное существование. Кстати, его можно назвать первой европейской колонией в Тихом океане, если не считать каторги в Австралии, основанной двумя годами раньше.
В 1814 году два английских военных корабля, «Бритн» и «Тагус», вновь (и тоже случайно) открыли Питкерн, не подозревая, что он обитаем. К счастью, капитаны Стайнз и Пайпон были не менее Фолджера тронуты тем, что увидели. В итоге Смит (теперь он называл себя Джоном Адамсом) смог остаться на Питкерне и продолжать свою патриархальную деятельность, вместо того чтобы быть отправленным в Англию и повешенным на рее.
Конечно, Стайнз и Пайпон тоже долго расспрашивали Смита. Их отчеты были напечатаны в газетах и журналах, слух о маленькой колонии распространился, и на Питкерн стали наведываться гости, особенно китобои. В 1825 году сюда снова пришел английский военный корабль. Его командир, капитан Бичи, тщательно исследовал остров и составил подробную карту; много внимания он уделил и жизни поселения. В печати появлялось все больше отчетов о первых годах пребывания мятежников на Питкерне, выяснялись все новые факты, которые, словно кусочки мозаики, помогали воссоздать общую картину. Мало-помалу пала завеса и обнаружилась истина о страшной поре, которую столь мирная теперь колония пережила в 1790-х годах.
К сожалению, рассказы Смита были отрывочными и противоречивыми, и многое остается неясным, но в общих чертах мы можем реконструировать бурную историю Питкерна до появления Фолджера.
Вернемся же к январскому дню 1790 года, когда «Баунти» подошел к острову, и посмотрим, кто составлял его первое население.
Люди с «Баунти» и их женщины
Флетчер Крисчен — Мауатуа (Изабелла, Грот-мачта)
Эдвард Янг — Тераура (Сусанна)
Джон Милз — Вахинеатуа
Уильям Брауп — Театуахитеа
Айзек Мартин — Теехуатеатуаоноа (Дженни)
Уильям Микой — Теио (Мери)
Метью Кинтал — Теваруа (Сара)
Александер Смит (Джон Адамс) — Пуараи
Джон Уильямс — Фаахоту (Фасту)
Полинезийцы и их женщины
Тараро (с Раиатеа) — Тоофаити (Нести с Хуахине)
Манарии (с Таити)
Теимуа (с Таити) — Марева
Ниау (с Таити)
Оха (с Тупуаи) — Тинафанаеа
Титахити (с Тупуаи)
Двадцать восьмой в этой компании была крохотная таитянка Теио, которую привезла жена Микоя. Ее окрестили Сарой, она потом вышла замуж за второго сына Флетчера Крисчена, Чарльза Крисчена; умерла она в 1826 году.
Мы видим, что на шестерых полинезийцев пришлось три женщины. Интересно, что при разделе решающую роль сыграло, кто с какого острова происходил. Тараро, как представитель знати, ни с кем не делил своей жены (первое время). Несчастной Марева пришлось быть женой троих таитян; двое мужчин с Тупуаи взяли себе Тинафанаеа. Одну из двух последних — кого именно, не установлено, — англичане звали Прюденс. Добавим, что имя Титахити никак не связано с Таити, оно означает «перемещенное растение Ти».
Мы расстались с мятежниками и сопровождавшими их полинезийцами в тот миг, когда они подожгли «Баунти» и начали расчищать участки и строить дома на острове. Крисчен старался, чтобы дома не были видны с моря, поэтому для поселения он выбрал место в северной части центрального плато. Обсудив, какие части острова возделывать в первую очередь, землю поделили на девять участков. Мятежников было девять; полинезийцы — их ведь взяли как работников — остались без земли. Если говорить о сословии и происхождении, белые вряд ли в чем-нибудь превосходили полинезийцев, но разделение по расам казалось англичанам вполне естественным; вскоре они еще более ярко проявили свое понимание равноправия на Питкерне.
Мы не знаем, что Крисчен думал о таком разделе земли. Может, смотрел на это так же, как его товарищи; может, понимал, что они становятся на опасный путь, но покорился воле большинства. Так или иначе, он был настроен бодро, мечтал сделать все, чтобы создать цветущее поселение. Никто не оспаривал его авторитета, и, хотя дисциплина была не такой строгой, как на корабле, мятежники продолжали величать его «мистер Крисчен»; гардемарина Янга тоже называли «мистером».
Но человек проницательный, каким следует считать Флетчера Крисчена, при всем его оптимизме не мог не понимать, что колония с самого рождения несла в себе зародыш своей гибели. И не только потому, что трудно было сосуществовать двум совсем различным расам со своей культурой и своими устоями. Не хватало женщин! С первого дня положение было серьезным, — а что будет, если одна или несколько женщин умрут?
Ответ на этот вопрос они получили очень скоро: две таитянки умерли еще до конца года; жена Уильямса — Фасту — от какого-то заболевания горла, а жена Смита — Пуараи — сорвалась в море, когда собирала птичьи яйца на крутых скалах. Никто из мятежников, понятно, не желал уступить свою подругу или «делить» ее с другими, и вдовцы начали бросать алчные взгляды на жен полинезийцев. Пришлось Тараро уступить Уильямсу Ненси, а тупуайцы отдали Смиту Тинафанаеа.
Однажды вечером Мауатуа и Театуахитеа, жены Крисчена и Брауна, услышали, как Пеней ноет весьма странную песню:
Зачем черный человек точит свой топор? Чтобы убить белого человека.Слова страшные, ничего не скажешь. Мауатуа и Театуахнтеа сразу поняли, что подразумевает Ненси, и поспешили рассказать Крисчену, что полинезийцы задумали убить белых. Выяснилось, что Тараро, Оха и Титахити надоело быть холостяками; руководил заговором Тараро.
Крисчен решительно пошел к дому, где жила эта тройка. Он покажет им, что заговор раскрыт; когда они убедятся, что он готов пресечь любые их выходки, они сразу выкинут всю дурь из головы… На всякий случай он все-таки захватил с собой мушкет — кто их знает!
Ему удалось их напугать. Увидев суровое лицо Крисчена и мушкет в его руках, они заключили, что он пришел убить их, и бежали в горы.
А затем вдруг исчезла Ненси, и оказалось, что она ушла к своему Тараро. Уильямс кричал, что он покинет остров, если ему не вернут Ненси. Мятежники не хотели терять искусного кузнеца и решили помочь ему. Сперва послали Манарни разведать, где укрылись беглецы. Манарии вернулся и доложил, что Тараро, Ненси и Титахити спрятались в западной части острова, за высокой грядой, которая сечет Питкерн с севера на юг. Теперь уже англичане задумали страшную расправу.
Они приготовили три пудинга, в один положили яд и велели Манарии сделать так, чтобы он достался Тараро. Но, когда Манарии пришел к беглецам с пудингами (вероятно, он пообещал им принести еды), Тараро заподозрил неладное. Он отказался есть предназначенный ему пудинг и потребовал, чтобы Ненси поделилась с ним своим.
А так как Манарии строго-настрого приказали не возвращаться, пока Тараро не будет отправлен на тот свет, он решил убить его каким-нибудь иным способом. Для этого он сказал беглецам, что жена ждет его поблизости, и предложил всем вместе дойти до нее. Они согласились, по пути Манарии зашел за спину Тараро и спустил курок своего пистолета. Пистолет дал осечку, но звук щелчка заставил Тараро обернуться. Увидев в руках Манарии оружие, он бросился бежать в лес. Манарии догнал его, и завязалась схватка. (Видно, Титахити совершенно растерялся: он даже не кинулся на помощь товарищу). Тараро позвал на выручку Ненси, и она выручила — только не его, а Манарии, который в свою очередь крикнул, чтобы она подсобила ему убить Тараро! Вдвоем они в несколько секунд прикончили ее мужа.
После этого Ненси и перепуганный насмерть Титахити вернулись с Манарии в поселение. Англичане тотчас заковали Титахити в кандалы; но еще оставался на свободе Оха. Манарии удалось его выследить в южной части острова, и англичане поручили ему и Теимуе убить Оху. Манарии и Теимуа поступили очень просто: они принесли Охе еду и принялись заверять его в своей дружбе, когда же тот поверил им и подошел, чтобы они могли причесать его волосы в знак полного сочувствия, обманщики, попричитав и всплакнув для виду, внезапно перерезали бедняге глотку.
После этого на острове на какое-то время воцарился мир. Ненси вернулась к Уильямсу, Тинафанаеа жила со Смитом, а Титахити (его вскоре освободили) стал рабом Мартина и Дженни. Вероятно, уже в это время в отношениях между мужчинами и женщинами не было постоянства. Тинафанаеа, судя но всему, временами уходила к Титахити и Мартину, а Дженни — к Смиту, с которым была вместе на Таити и Тупуаи.
К тому времени появилось на свет уже несколько детей. У Крисчена родились два сына, у Кинтала и Микоя — по сыну, у Милза — дочь. Из полинезийцев никто еще не стал отцом. Их теперь было всего четверо — Титахити и три таитянина: Манарии, Теимуа и Ниау, — и жилось им все тяжелее. Белые господа обращались с ними жестоко, избивали за малейшую провинность. Особенно беззастенчиво эксплуатировали «цветную рабочую силу» Микой, Кинтал, Милз и Браун. Мало того что полинезийцев истязали, они остались совсем без женщин. Несомненно, ревность была одной из причин того, что произошло вскоре.
В сентябре 1793 года, не стерпев угнетения, Теимуа и Ниау бежали от своих господ в горы. Они захватили с собой но мушкету с боеприпасами. Беглецы поддерживали связь с Манарии и Титахити, а также с Янгом который явно состоял в заговоре с ними. Похоже, что Янг не прочь был отбить жен у Крисчена и Уильямса Так уж получилось, что соперничество из-за женщин играло все большую роль на острове.
И вот наступил день, который стал самым ужасным в истории Питкерна. Девять мятежников работали на своих участках в разных концах острова. В это время Титахити, сказав, что хочет поохотиться на свиней, взял мушкет и отправился к Теимуа и Ниау. А Манарии остался с белыми, чтобы заманить их в ловушку, если понадобится.
Первой жертвой полинезийского заговора нал Уильямс; Титахити, Теимуа и Ниау застрелили его в саду возле дома. Оттуда они пошли на участок, где работали Милз, Микой и Манарии. Англичане слышали выстрел, и, чтобы они ничего не заподозрили, Титахити одни вышел к работающим и спросил Милза, не отпустит ли тот Манарии, чтобы помочь отнести домой свинью, которую он, Титахити, только что подстрелил. Милз не возражал, и четыре полинезийца вместе отправились на плантацию Крисчена.
Они застигли его врасплох, и Флетчер Крисчен упал замертво, сраженный пулей. При этом он будто бы успел воскликнуть: «Боже мой!» Этот возглас донесся до Микоя и Милза, и Микой испуганно крикнул: «Кажется, кого-то убили!» — на что Милз возразил: «Ерунда, просто жена Крисчена позвала его обедать».
Теперь заговорщикам нужно было разделить Милза и Микоя. Теимуа и Ниау зашли в хижину Микоя, а Титахити побежал к нему и завопил, что таитяне грабят его имущество. Микой немедля все бросил и помчался домой, чтобы проучить этих «чернокожих». Здесь его встретили две нули, из которых ни одна не попала в цель. Англичанин выскочил из хижины в сад, но за углом его подстерегал Манарии. В рукопашном бою Микой оказался сильнее, отшвырнул Манарии в сторону и помчался в лес, чтобы предупредить Милза. А тот наотрез отказался поверить, будто его преданный раб Манарии способен причинить зло своему хозяину! Микой не стал долго спорить, а побежал к Крисчену. И только увидел его труп на земле, как донесшиеся из леса выстрелы дали ему понять, что и Милзу пришел конец.
Теперь каждая секунда была дорога. Микой поспешил в дом Крисчена и рассказал потрясенной Мауатуе, что ее муж убит. Оттуда он ринулся к Кинталу и крикнул, чтобы тот спасался. Кинтал велел своей жене тотчас предупредить остальных англичан и бросился вслед за Микоем в горы.
Добежав до участка Смита, Сара Кинтал увидела, что тот как ни в чем не бывало безмятежно трудится.
— Как ты можешь тут работать, когда такое делается? — закричала она.
Смит сообразил, что происходит что-то неладное, бросил лопату и последовал за ней.
Тем временем четверо полинезийцев продолжали осуществлять свой кровавый замысел. Убив Милза, они помчались к Мартину и застали его в саду.
— Знаешь, что мы сегодня сделали? — спросили они, предвкушая расправу с еще одним ненавистным угнетателем.
— Нет, — ответил ничего не подозревающий Мартин.
Они ткнули ему в живот мушкеты.
— Мы вроде как бы стреляли свиней! — загадочно сообщили они.
Мартин натянуто рассмеялся, но смех сменился хрипом, когда раздались выстрелы. Тяжело раненный, он дотащился до дома, однако полинезийцы последовали за ним и железным штырем размозжили Мартину голову.
Следующей жертвой был садовник Браун. Есть версия, будто один из заговорщиков хотел спасти садовника и сделал холостой выстрел, но Браун не сумел достаточно убедительно прикинуться убитым, и другой полинезиец прикончил его.
Смит несколько часов отсиживался в лесу, наконец вышел, чтобы взять немного ямса со своего огорода, и тотчас был обстрелян из мушкетов. Одна пуля пробила Смиту правое плечо и шею. Он упал. Его хотели добить, по от удара прикладом Смит заслонился рукой (при этом ему сломали палец), а когда Титахити сунул ему в рот дуло мушкета и нажал спуск, вышла осечка. На счастье Смита, полинезийцы еще не научились как следует обращаться с огнестрельным оружием. Тем временем он опомнился, вскочил на ноги и побежал. Только тут один из заговорщиков вспомнил наказ Янга — Смита не убивать. Вслед англичанину понеслись крики, что его пощадят, и ослабевший от потери крови Смит волей-неволей вынужден был положиться на их слово. Полинезийцы отнесли его в дом Янга и сдали женщинам на попечение. Хозяин дома чувствовал себя королем…
Казалось бы, отныне кончилась нехватка женщин, и все-таки мужчины продолжали ссориться. Полинезийцы никак не могли решить, кому какая вдова достанется, и вскоре опять дошло до убийства. Вечером Сусанна сидела и пела, а Теимуа подыгрывал ей на флейте. Правда, Сусанна была женой Янга, но он к этому времени увлекся Мауатуей и Ненси, а из-за Сусанны соперничали Манарии и Теимуа. Манарии вздумал положить конец этому дуэту и выстрелил в соперника, но только ранил его, и Теимуа крикнул Сусанне, чтобы она сбегала за его мушкетом и застрелила Манарии. Пока Сусанна искала оружие, Манарии перезарядил мушкет и добил Теимуа. Узнав про это убийство, Титахити и Ниау поклялись отомстить, и Манарии предпочел скрыться в лесу. В горах он встретил Кинтала, Микоя и Сару и присоединился к ним. Правда, англичане отнеслись к нему с понятной недоверчивостью и потребовали, чтобы он прежде всего отдал им свой мушкет.
Несколько недель продолжались всевозможные интриги; четверка в горах и те, кто остался в поселении, старались перехитрить друг друга. Каждый был готов предать другого и сам подозревал своего товарища в вероломстве. Вскоре Кинтал и Микой отправили на тот свет своего полинезийского союзника Манарии — при помощи того самого мушкета, который тот доверчиво им отдал.
В поселении тоже убийство следовало за убийством. Решив отомстить за мужей, вдовы мятежников сговорились убить Титахити ночью, когда он будет спать. Одна из женщин вызвалась отрубить ему голову (жену предупредили, чтобы она не клала Титахити под голову руку), одновременно должны были застрелить Ниау.
Не будем здесь подробно пересказывать дошедшие до наших дней красочные описания этой ночи. Достаточно отметить, что, когда занялся новый день, женское большинство заметно возросло.
Осталось только четверо мятежников — Янг, Смит, Кинтал и Микой. Из полинезийцев ни один не уцелел. Женщин было десять; ну, и, конечно, дети.
Кинтал и Микой спустились в поселение лишь после того, как Смит показал им отрубленные руки Титахити и Ниау в знак того, что опасность миновала. Это было 3 октября 1793 года.
С той поры мужчины вовсе не различали своих и чужих жен, и, если бы кто-нибудь сказал мятежникам, что злодеяние себя не оправдывает, они бы ответили громким хохотом.
Но если мужчин такие порядки устраивали, то женщины чувствовали себя прескверно; это видно из того, что после неудачной попытки бежать с острова — вместе с детьми — на наскоро сделанной пироге они стали помышлять о расправе с мужчинами. «Мы вами по горло сыты», эти слова стали поговоркой у питкернских амазонок. «Мы вас знаем». Кинтал и Микой были им особенно ненавистны; впрочем, Смит и Янг тоже опасались внезапного нападения. Мало того, что женщинам принадлежало подавляющее численное превосходство, — они тоже были вооружены мушкетами.
Двадцать седьмого декабря на горизонте показался парус. Все поспешили укрыться, чтобы их не обнаружили с моря. К счастью, в этот день был особенно сильный прибой и капитан воздержался от попыток высадиться на берег. Корабль скрылся; так до сего дня и неизвестно, что это было за судно.
Постепенно жизнь в поселении наладилась, стала более упорядоченной. Установились добрососедские отношения, питкернцы ходили друг к другу в гости, вместе обедали — словом, вели себя сравнительно достойно.
Но случилась новая беда. Микой некогда работал на винокуренном заводе в Шотландии; на Питкерне он обнаружил, что из корней ти вполне можно приготовлять водку. Из медной трубки и котла с «Баунти» он и его верный друг Кинтал смастерили перегонный аппарат, после чего начали гнать спиртное — и употреблять. Это роковое событие произошло 20 апреля 1798 года, много лет спустя после того, как был выпит последний глоток рома и вина из запасов «Баунти». Радости мятежников не было конца, пирушка следовала за пирушкой. Есть водка, есть женщины, еда в изобилии, никакого начальства, делай, что хочешь…
Не прошло и года, как погиб Микой. В приступе белой горячки он привязал себе на шею камень и бросился в воду с крутой скалы.
Отныне самым отъявленным тираном на острове стал Кинтал; прежде Микой оспаривал у него это звание. Янг и Смит все больше сторонились злодея, и все сочувствовали несчастной Саре, которую изверг-муж подвергал всяческим издевательствам. Однажды, недовольный тем, как она приготовила обед, он откусил ей ухо. Так что Сара, может быть, вовсе не случайно упала в море со скалы, где собирала яйца (это было в 1799 году).
Так или иначе, Кинтал остался без женщины. Дженни, которую он «унаследовал» после смерти Мартина, давно ушла от него, Сара погибла, и злой волк начал высматривать себе овечку. Он попытался отбить жен у Янга и Смита, но его отвадили. Все женщины на острове пуще смерти боялись попасть в лапы Кинтала. Янг и Смит взяли их под свою защиту. Кинтал пригрозил убить обоих. Теперь только он мешал мирному существованию колонии; в итоге Янг и Смит решили прикончить своего приятеля. Наверно, женщины, тревожась за судьбу детей, не давали им покоя, требовали, чтобы они поскорее решились.
План был приведен в исполнение вскоре после смерти Сары. Смит пригласил Кинтала и устроил лихую попойку; когда же гость, озверев от водки, начал буянить и все громить, хозяин рассек ему череп топором. В числе других эту сцену наблюдала дочь Милза Элизабет. До глубокой старости (она дожила до девяноста трех лет) она помнила, как все испугались, когда увидели кровь на стенах и безжизненное тело на полу.
Так закончилась первая, мрачная фаза истории питкернского поселения. Число детей на острове к этому времени возросло уже до двадцати, и два англичанина учредили нечто вроде школы. Первым за парту сел Смит, который до тех пор не умел ни читать, ни писать. Чувство ответственности заставило Янга и Смита прекратить пьянки. Стало обычным утром и вечером читать молитвы. Из пиратской вотчины остров постепенно превращался в воскресную школу. И с наступлением девятнадцатого века на Питкерне началась новая эпоха. Правда, когда Янг в 1800 году скончался от чахотки (первый мужчина на острове, умерший своей смертью), казалось, что но избежать беды. Но Смит показал себя недюжинным руководителем. С годами он становился все более религиозным и требовал, чтобы питкернцы жили строго по библейским заветам.
Александер Смит умер в 1829 году. Последняя из таитянок, прибывших на «Баунти», скончалась в 1850 году. Питкерн и в наши дни населен почти исключительно потомками мятежников; их отличительные качества — миролюбие, высокая нравственность и благочестие.
Эпилог
Вы вправо спросить: что же было с другими участниками событии на «Баунти»?
Начнем с Уильяма Блая. Как и следовало ожидать, его карьера сложилась довольно бурно. В 1797 году он участвовал в бою при Кампердауне, где его корабль помог потопить голландский флагман. В 1801 году, в бою на рейде Копенгагена, Блай командовал линейным кораблем и сражался так умело, что Нельсон после боя вызвал его к себе и горячо поблагодарил. А в 1804 году Блая привлекли к военному суду по обвинению в «тиранстве и недостойном офицера и джентльмена поведении» на своем судне. Наверно, этот процесс принадлежит к наиболее комичным в истории английского флота. Протокол свидетельских показаний дает великолепное представление о богатейшем запасе слов взбешенного Блая. Все напоминает о «Баунти»: привычка грозить кулаком неугодным лицам, потоки брани и так далее. Он честил провинившихся «негодяями», «подлецами», «бандитами», «мошенниками», но иногда пускал в ход и более оригинальные выражения, например «длинношерстый кобель». Не часто на долю членов военного суда выпадает такое развлечение. Правда, суд заключил, что Блай и впрямь не безгрешен; ему вынесли порицание и призвали впредь разговаривать с подчиненными более сдержанно.
В 1806 году Блай заступил на должность губернатора Нового Южного Уэльса. Здесь он так добросовестно и смело боролся против злоупотреблений властью и пьянства, что опять нарвался на бунт. 26 января 1808 года (всего за несколько дней до того, как Фолджер обнаружил убежище мятежников с «Баунти») Блай был смещен недовольными офицерами, которые заточили его в губернаторской резиденции и много месяцев держали в заключении. На этом кончилась действительная служба Блая. Что он сказал, когда услышал про колонию на Питкерне, к сожалению, не сохранено для потомства. В 1810 году Блай вернулся в Англию; умер он в Лондоне в 1817 году в звании вице-адмирала и члена английской Академии наук, президентом которой вплоть до своей смерти в 1820 году был его старый ревматичный покровитель сэр Джозеф Бенкс.
В бою на рейде Копенгагена участвовали также — правда, на другом судне — Фраер и Тинклер. До конца жизни Фраер образцово нес службу; он умер, как и Блай, в 1817 году.
Славную карьеру сделал и Питер Хейвуд, умерший в 1831 году в звании капитана первого ранга.
Джемс Моррисон, который стал знаменитым благодаря своим запискам о Таити, служил канониром на разных судах английского флота и погиб в 1807 году во время кораблекрушения у Мадагаскара.
Кажется, всех участников плавания на «Баунти» пережил плотник Перселл. Он умер в 1834 году в сумасшедшем доме в Портсмуте.
С первых страниц этой книги хлебное дерево привлекало наше внимание не меньше, чем Блай и Крисчен. Естественно поэтому в заключение рассказать, что же стало с тысячью с лишним саженцев, которые Блай доставил на острова Вест-Индии, возвратившись в 1793 году из своей второй, удачной экспедиции. Как и думали, саженцы отлично прижились, быстро выросли и стали плодоносить. Казалось бы, все в порядке. Однако замыслы плантаторов не сбылись. Чернокожие рабы, которых они намеревались кормить новым дешевым продуктом, невзлюбили плоды хлебного дерева и решительно отказывались их есть. И выходит, что «Баунти» зря отправили в это роковое плавание в Южные моря.
Приложение Я нашел останки «Баунти»[12]
Луи МЕРДЕН
редактор отдела зарубежных стран «Нейшн Джиогрэфик Мэгэзин» Декабрь 1957 г.
История «Баунти», этот поразительный сплав приключений и загадок, давно волновала меня. И я немало удивился, когда, прибыв по заданию редакции на Фиджи, увидел в музее Сува источенные червями доски с медными креплениями и этикетку со словами: «Руль «Баунти».
Куратор музея рассказал мне, что руль поднят в 1933 году с глубины шести саженей близ Питкерна. Вот уж не думал, что до наших дней сохранились какие-то части от корабля и что они лежали совсем неглубоко!
Мое увлечение подводной фотографией позволяло надеяться, что из такого материала выйдет хорошая статья для журнала. Конечно, я не знал точно, есть ли на дне моря еще какие-нибудь следы сожженного «Баунти» и смогу ли я их отыскать, но мне очень хотелось попробовать.
… И вот я на новозеландском судне «Рангитото», идущем из Панамы в Окленд. На десятый день плавания среди сверкающего золота, рассыпанного заходящим солнцем, на горизонте показалось темное пятнышко. Остров Питкерн.
Питкерн достигает в высоту тысячи ста футов, и его видно за сорок пять миль, так что нам оставалось идти еще около часа. Административно остров подчинен губернатору архипелага Фиджи; только с его разрешения можно сойти на берег Питкерна. В штормовую погоду, когда из-за ветра и волн нельзя спустить лодки, судам подчас приходится следовать без остановки дальше, до Новой Зеландии.
— Вам посчастливилось, — заметил капитан Пилчер. — Сегодня море спокойно, высадитесь без труда.
Все выше вздымаясь над морем, остров принял облик лежащего льва. Внизу белела черта прибоя.
Капитан передал мне свой бинокль, и я увидел три лодки, которые направлялись к нам, переваливая через длинные валы. Как только судно остановилось, люди в лодках налегли на весла и подгребли к свисающим вдоль борта веревочным трапам. Я стоял на мостике, с волнением ожидая первой встречи с питкернцами.
Дружелюбие — вот первая черта, которая бросилась мне в глаза. Обращенные к нам лица сияли улыбками, кто-то из гребцов приветственно махал знакомым на судне. Искусно маневрируя, лодки причалили к борту, и питкернцы поднялись на палубу — женщины первыми. При помощи канатов они подтянули корзины из пальмовых листьев, полные всякого товара — фруктов, резных изделий, корзиночек. Женщины были одеты в просторные хлопчатобумажные платья, мужчины — кто в шорты, кто в парусиновые брюки. И все были босиком.
Потомки Крисчена
На мостик поднялся высокий плечистый мужчина в шляпе из пальмовых листьев. Приятное загорелое лицо освещала белозубая улыбка. Он поздоровался с капитаном. Это был Паркин Крисчен, семидесятитрехлетний праправнук Флетчера Крисчена, «мэр» острова Питкерн.
— Добро пожаловать на Питкерн, — сказал он, растягивая «и», когда капитан представил нас друг другу.
— Желаю вам приятного пребывания у нас.
Он продолжил разговор с капитаном, а я спустился на прогулочную палубу, где пассажиры уже окружили островитян и покупали ананасы, бананы, лимоны, манговые плоды.
Для меня явилось неожиданностью, что питкернцы так похожи на европейцев. Даже самые смуглые из них были не темнее загорелого англичанина-шатена. Правда, в чертах лиц женщин было больше полинезийского.
«Рангитото» простоял на якоре всего один час. Простившись с теми, с кем я успел познакомиться в пути, я спустился по трапу в лодку. Как только островитяне покинули корабль, матросы убрали трапы. Кто-то из питкернцев крикнул:
— Ну-ка, споем что-нибудь в честь капитана Пилчера и его судна!
Один запел, другие подхватили — и вот уже семьдесят мужчин и женщин стройно поют религиозный гимн. Вверху над нами вдоль поручней теплохода было бело от платков. Песня кончилась, послышалась команда: «Отваливай!» — и мы стали медленно удаляться от корабля.
Я повернулся к берегу. Солнце скрылось за скалами, расписав темнеющее небо багровыми полосами.
— Румпель, кто видел румпель? — раздался певучий голос.
Прямо над моей головой передали тяжелый румпель, потом сразу несколько рук поставили мачту, закрепили ее и подняли парус. По команде кормчего потуже натянули растяжки.
Питкернцы говорили между собой на местном диалекте. Понимать его оказалось не так уж трудно, как я опасался. Было много мореходных терминов, а акцент напоминал речь обитателей некоторых островов Вест-Индии.
Накренясь от ветра, наша лодка приближалась к острову. Мой сосед заметил:
— Темнеет…
Ночь здесь наступает постепенно, расползаясь по небу от горизонта, будто чернила по промокашке.
Сосед потрогал баллоны моего акваланга.
— Говорят, ты задумал нырять в бухте Баунти?
Я кивнул.
— Ну и загнешься, как топор!
Почему именно как топор, а не как гвоздь или еще что-нибудь, я так и не выяснил. Понял только, что «как топор» — любимое выражение островитян, обозначающее высшую степень чего-то.
В бухте Баунти
Остров становился все выше — лев медленно поднимался на ноги. Сквозь сумрак я различил впереди пенную полосу прибоя. На фоне неба отчетливо выделялся вздымающийся на семьсот футов утес Шип-Ландинг-Пойнт. Под ним ютился каменистый залив, именуемый бухтой Баунти.
Кормчие скомандовали убрать парус. Зашуршала парусина, мачты легли на дно. Мы остановились перед чертой прибоя. Наш кормчий пристально всматривался в череду волн, четырнадцать гребцов сидели наготове… Вот нас поднял на гребне особенно мощный вал. Только мы начали скатываться с него, как прозвучала команда: «Навались!»
Длинные весла даже прогнулись от натуги. Мы ринулись вперед, догоняемые еще более высоким валом. Гребцы работали как черти, не давая ему настичь нас. Со скоростью курьерского поезда мы промчались мимо трех черных камней, вошли в полосу более спокойной воды, сбавили ход и мягко ткнулись в наклонный настил из бревен и досок.
Пастил освещали фонари, и смуглые руки встречающих тотчас ухватились за борта лодок. Несколько человек из нашей лодки прыгнули в воду и стали передавать на берег корзины и свертки. Кто-то подставил мне свою широкую спину, спросил: «Готов, приятель?»— и отнес меня на сушу.
Над нами на двести пятьдесят футов поднималась крутая скала. За гребнем (он называется Эдж) начинались дома поселка.
По белым бортам лодок скользили длинные тени сновавших взад и вперед людей. Разгрузка шла полным ходом, и на берегу выросла целая гора мешков, ящиков и корзин.
Я тем временем успел познакомиться с местным учителем Алленом Уозерспуном — он год назад прибыл на Питкерн из Новой Зеландии — и с миссионером Лестером Хоуксом, представляющим секту адвентистов седьмого дня.
Во главе местного самоуправления стоит мэр, а учитель — его советник и представитель английского губернатора островов Фиджи.
— Вам повезло, — сказал Уозерспун. — Сегодня море тихое, ваши вещи ничуть не намокли. А случается, все насквозь промокает.
Как только закончилась разгрузка, к одной из лодок привязали трос, закашлял движок, и лодка, скрипя килем, медленно поползла но настилу. Здешние лодки имеют в длину тридцать семь футов, в высоту — семь футов с лишним.
Когда вытащили последнюю лодку, все, включая женщин, взвалили на плечи багаж и мы двинулись вверх по тропе. Самые тяжелые ящики и мешки остались лежать на берегу; их переправят утром по канатной дороге.
— А где наш гость? Он будет жить у меня, — раздался чей-то голос.
Я представился рослому — шесть футов пять дюймов — смуглому широкоскулому островитянину с седыми курчавыми волосами. Это был Фред Крисчен; он познакомил меня со своим двадцатплетним сыном Томом.
Крутая тропа на Эдж высечена прямо в скале, и ходить по ней лучше всего босиком. Мои резиновые подметки все время скользили, я запыхался, и женщины, которые несли куда больше моего, дружелюбно улыбались, глядя на меня.
Еще одно усилие — мы по каменным ступенькам перевалили через Эдж, и тропа наконец выровнялась. С обеих сторон светились огоньки в окнах домов.
Вот уже и миссионер свернул с троны, только мы — Уозерспун, Фред, Том и я — еще шагаем вперед, освещая себе путь фонариками.
Наконец мы нырнули под высокие корни большого банана и Фред сказал:
— Ну вот мы и дома.
Никаких мистеров
Пожелав учителю спокойной ночи, мы подошли к некрашеному деревянному дому на каменном фундаменте. Из окон лучился свет; в пристройке гудел движок.
В дверях дома меня встретила Флора Крисчен.
— Надеюсь, вам будет хорошо у нас, — приветствовала опа меня.
— Спасибо, миссис Крисчен, — ответил я.
— Никаких миссис или мистеров, зовите меня просто Флорой.
— Да-да, — подтвердил, улыбаясь, Том. — У нас здесь все на «ты».
Из ста пятидесяти трех жителей острова пятьдесят пять носят фамилию Крисчен. Всего на Питкерне не больше пяти-шести фамилий, зато нет ни одного тезки. Это исключает возможность путаницы.
— Прошу закусить.
Флора повела меня к накрытому на веранде длинному столу.
Сколько я ни возражал, меня посадили во главе стола. Флора, Фред и Том сели на лавках по бокам. Склонив голову, Фред прочитал молитву.
Я еще раньше слышал, что чуть ли не все питкернцы — адвентисты. Но адвентисты, которых я знал до тех пор, были вегетарианцами. Поэтому я очень удивился, увидев на столе большое блюдо тушеной солонины. На других блюдах лежали местные овощи.
Фред — церковный староста, и я спросил его, как же это адвентисты едят мясо.
— А что, мы всегда мясо едим, церковь этого не запрещает, — ответил он. — Едим мясные консервы, солонину, свежую козлятину.
Позднее пастор Хоукс объяснил мне, что жители этого уединенного островка и без того питаются однообразно, вот им и разрешают есть мясо, за исключением, впрочем, свинины. Странное ограничение для людей, в которых столько полинезийской крови! Ведь в Океании пуаа — свинина — главное угощение на всех праздниках.
В свое время мятежники привезли на Питкерн свиней, и они бегали по острову вплоть до 1886 года, когда Джон Тэй, американский миссионер, убедил здешних жителей стать адвентистами. Запрет был наложен и на рыбу, на моллюсков и ракообразных.
В одном из описаний Питкерна я читал, что раньше жители спускались по скале, названной Веревка, специально для того, чтобы на камнях внизу собирать моллюсков. И я спросил Фреда, как он относится к этому блюду. Фред подмигнул и сказал:
— Я их очень любил, когда был язычником.
Омаров и крабов здесь ловят только для наживки. Глядя на питкернских красных с черным омаров, я глотал слюнкн. Иногда радушные хозяева все-таки варили для меня омара. И все с ужасом смотрели, как я его ем.
Перед сном мы выпили по чашке горячего напитка — овальтина. Адвентисты не признают никаких стимулирующих напитков, даже таких безобидных, как кофе или чай.
На следующее утро меня разбудил колокол.
— Общественные работы, — объяснил Фред, заглянув в мою комнату.
Три удара в колокол означают, что все трудоспособные мужчины от шестнадцати до шестидесяти лет должны собраться у мэрии, где им объявят, какие работы намечены: ремонт дорог или причалов, расчистка участков и так далее. Сегодня надо было перенести с берега прибывшие накануне грузы.
Радист Том Крисчен освобожден от общественных работ: его дело — два раза в день, утром и вечером, выходить в эфир. Поэтому он смог быть моим экскурсоводом. Сперва мы обошли Адамстаун, потом поднялись на радиостанцию. С нами ходил и Фред; несмотря на свои семьдесят три года, он оказался сильнее и подвижнее меня.
Фред приветствовал встречных возгласом: «Куда идешь?» Эта формула заменяет здесь наше: «С добрым утром».
Женщины отвечали:
— Идем в горы собирать батат.
И спрашивали меня:
— Ну, как тебе нравится у нас?
Это не было просто вежливой фразой. Питкернцы очень радушны, с ними я действительно чувствовал себя как дома.
Главная улица Адамстауна, Питкерн Авеню, идет параллельно морю. Вдоль нее беспорядочно разбросаны дома. На вырубленной в крутом склоне площади стоят мэрия, церковь и почта. На острове нет ни налогов, ни таможенных сборов, и единственный источник дохода для властей — почтовые марки. Кстати, они пользуются большим спросом среди коллекционеров. 2 июля 1957 года была выпущена новая серия; в тот же день поступили заказы на тысячу семьсот сорок долларов, а к концу месяца было продано марок почти на три тысячи долларов.
Почта пришла!
Пока я беседовал с почтмейстером Роем Кларком, который прибыл на остров из США в 1909 году, заместитель почтмейстера Оскар Кларк четыре раза ударил в колокол, приглашая питкернцев забрать почту. Ее доставил «Рангитото».
Приход почты — настоящее событие для островитян. Когда судно из-за шторма не может пристать, она запаздывает на много недель.
Рой и Оскар заперлись в конторе, разложили почту по гнездам, потом вышли на крыльцо и прочли фамилии по списку. Адресаты втиснулись в маленькое помещение.
После писем раздали посылки. Их питкернцы ждут с особым нетерпением. На острове нет магазинов, и все приходится выписывать по почте.
На нескольких посылках я увидел знакомый ярлык «О. Мюстад и сыновья, Осло, Норвегия». Кто-то заказал шестьдесят пять фунтов рыболовных крючков для местных рыбаков.
От площади головоломные тропы ведут наверх, к огородам и радиостанции. Мы шли через заросли боярышника; его ввезли на Питкерн в самом начале нашего столетия.
— Беда с ним, — сказал Том. — Все заглушает.
По, но чести говоря, боярышник — благо для Питкерна, лишенного леса. Кустарник разрастается так быстро, что обеспечивает всех островитян дровами.
Еще выше нам открылся вид на красные крыши Адамстауна и на море. Зеленые долины с банановыми плантациями чередовались с крутыми гребнями, которые спадали к самым волнам. Огненными пятнами горели красные гроздья бананов феи.
Вдруг Том нырнул в высокую траву и кустарник рядом с тропой и появился с арбузом. Вооружившись ножом, он разрезал арбуз вдоль.
Питкернцы всегда ходят с ножом на поясе; он нужен главным образом для того, чтобы чистить и разрезать плоды.
Мы сели под панданусом и принялись за арбуз. Прислонившись к серым корням, которые торчали из ствола, словно контрфорсы готической постройки, я думал о «Баунти».
Крисчен поделил всю землю на девять участков по числу мятежников; полинезийцам ничего не причиталось. Потом передаваемые по наследству участки все больше дробились, и сейчас у некоторых семей остались только крохотные клочки. Есть и такие семьи, что вовсе не имеют земли.
Чуть ли не каждое дерево — чья-нибудь собственность. Правда, никто не будет возражать, если голодный человек сорвет апельсин или кокосовый орех.
— Рви орехи на здоровье, — сказал мне Фред. — Только ешь их тут же, не уноси никуда.
Подъем привел нас на зеленый бугор, который возвышается на девятьсот футов над уровнем моря. Здесь расположена радиостанция. Передатчик работает от аккумуляторов, они заряжаются при помощи ветродвигателя. Утром Том Крисчен слушает вызовы кораблей, вечером сам работает ключом. Самая надежная связь поддерживается с островом Раротонга, до него отсюда тысяча девятьсот миль.
Мы с Фредом подождали Тома, пока оп проводил радиосеанс, потом все вместе пошли дальше.
В декабре на Питкерне — разгар лета. Благодаря морскому ветру на этом субтропическом острове почти все время держится приятная температура воздуха. Дождей выпадает много, и это очень важно для водоснабжения. Дома крыты рифленым железом, с которого дождевая вода стекает в цементные бассейны.
Горное плато Питкерна представляет собой волнистую равнину, над которой тут и там высятся серые стволы панданусов и заросли боярышника. Высшая точка — тысяча сто футов над уровнем моря — находится на гребне над долиной Пальва, в западной части острова. Прежде мореплаватели писали о густых лесах Питкерна, но топор и козы свели почти весь лес.
Идя по тропе над отвесным обрывом, я видел под собой на скалах коз и блеющих козлят. Пока на острове держат коз, вряд ли удастся восстановить лес. Они поедают все молодые ростки. Крутые склоны подверглись сильной эрозии; местами оползни унесли в море всю почву, оставив только красную глину.
Длина острова — всего две мили, ширина — около одной, и за сто шестьдесят семь лет чуть ли не каждая скала и пещера, каждый бугор получили свое наименование.
Я приметил на карте название «Господи» в юго-западной части острова и спросил Фреда, как появилось это наименование.
— Понимаешь, один полинезиец шел здесь по воде вдоль берега, и тут с него свалилась его набедренная повязка — все, что было на нем надето. Он поглядел на себя и воскликнул: «Господи!»
Возле западного берега можно прочесть название «Головная боль».
— А тут один островитянин ловил рыбу, вдруг его сын говорит: «Пошли обратно, у меня голова болит!» Только не довез его отец до дому, помер он.
В старых записках говорится о тучах птиц над Питкерном. Теперь редко увидишь в небе парящего фрегата, который стрижет воздух своим черным хвостом, и все реже среди темной зелени в долинах летают изящные белоснежные крачки.
Во время нашей экскурсии я встретил только одну сухопутную птичку, которая весело чирикала, взъерошив свой хохолок и прыгая с ветки на ветку. Питкернцы называют этих птичек воробьями.
С кокосовым молоком даже опилки вкусны
Скользя и подпрыгивая, мы спустились по тропе в Адамстаун. Нам встретился мужчина с тачкой.
— За дровами? — спросил Фред.
— Ага. Заодно бананов наберу.
По соседней тропе откуда-то сверху шла Флора.
— Ходила сажать картофель, — объяснила она. — Да, между прочим, мы ведь сегодня приглашены на день рождения.
Я быстро помылся подогретой дождевой водой, перс оделся, взял фонарик и зашагал с хозяевами на гору.
Около пятидесяти человек восседали за двумя длинными столами. На досках, положенных на козлы, стояла всякая снедь: блюда с вареной козлятиной, тушеная в кокосовом молоке солонина, цыплята, вареная рыба, пильхи (блюдо из ямса, бананов пли тыквы), кукуруза, белый хлеб, горох и бобы, масло, пудинг из аррорута и ананаса, авокадо, дыни, плоды манго, арбузы… В кувшинах был земляничный морс. И, конечно, на столе лежали печеные плоды хлебного дерева.
Питкернцы — знатные едоки. Я-то думал, что хоть за столом от них не отстану, но мне пришлось капитулировать перед этими мастерами. А Фред уговаривал меня съесть еще солонины в кокосовом молоке.
— С кокосовым молоком даже опилки вкусны, — сказал он.
Охотно верю. Кокосовое, молоко, которое употребляют здешние стряпухи, — это не просто сок ореха. Мелко нарезанное ядро вымачивают в горячей воде, потом месят, и получается что-то вроде сливок, которые придают нежнейший вкус любому кушанью. Да и сами сливки очень питательны.
Лен Браун смотрел, как исчезает рыба, которую он помогал ловить.
— Ишь ты, как управляются! Нет один кусок взять — все блюдо забирают!
Наконец даже чемпион едоков Фред вынужден был сдаться. Хозяин озабоченно поглядел на его лежащие в бездействии вилку и нож и спросил:
— Принести тебе что-нибудь еще?
— Ага, — буркнул Фред, — принеси новый желудок… — блаженно улыбнулся и добавил: — Я всегда говорю: старик Флетчер Крисчен знал, где прятаться!
Передохнув и придя в себя, я выразил Джесси Кларк свое восхищение обедом. Она улыбнулась и ответила:
— У нас на Питкерне едят один раз в день — начинают утром, кончают вечером.
На самом деле едят два раза в день: плотный завтрак в одиннадцать часов, когда все спускаются с гор после работы, и ужин в восемь — девять часов вечера.
После пира Честер Янг рассказал мне, что старые блюда постепенно забываются.
— Ел когда-нибудь хумпус-бумпус? — спросил он. — А эдди? Фарфор в молоке? Потта? Нет еще? Тогда ты не знаешь местных блюд.
Со временем я их все отведал. Хумпус-бумпус — это оладьи или булочки из теста, вымешанного из бананов и аррорутовой муки. Эдди — как мне объяснила Флора — бананы, варенные в кокосовом молоке.
— По-настоящему они называются иначе, — сказала она, — это просто так говорят, потому что Эдди, муж Люси, очень их любит.
Фарфор в молоке — зеленые бананы, приготовленные с кокосовым молоком; потта — ботва таро, тушенная в том же молоке.
Козы за оградой
День ото дня я все больше осваивался с жизнью маленькой общины. Как-то вечером меня пригласили на заседание мужского клуба. (Аллен Уозерспун учредил на острове клубы для мужчин и для женщин).
О чем только не идет речь на заседаниях! Один из членов клуба призывал запретить стрелять белых крачек. Другой предложил построить лодку, чтобы не пропадал зря двенадцатисильный мотор, оставленный на острове одним американским ученым. Решили, что не стоит этого делать: откуда брать бензин, ведь суда отказываются его привозить. Движки на Питкерне работают на дизельном горючем.
Кто-то заговорил о козах. Председатель возвел очи к небесам, все рассмеялись. Козы — больное место на Питкерне.
Первоначально их, видимо, завезли мятежники. Теперь на острове больше четырехсот коз; они обитают в южной части, отгороженной забором пятифутовой высоты.
Противники коз обычно говорят:
— От них только вред и опустошения.
Защитники коз, в том числе Флора, возражают:
— Если начнется война, суда перестанут заходить к нам, и мы останемся без мяса.
Питкернцы живо помнят военные годы, когда они оказались в полной изоляции.
Ежегодно выбирают старшего смотрителя коз. Вместе с восемью помощниками он клеймит новорожденных козлят, Каждый хозяин держит не больше двух коз. Смотритель руководит охотой, когда нужна свежая козлятина. (Я улыбнулся, услышав, что Флора называет винтовки мушкетами).
Учитель Уозерспун и пастор Хоукс уговаривают островитян для блага Питкерна избавиться от коз. Но питкернцы не очень-то слушают эти уговоры.
Из первоначальных фамилий на острове до наших дней сохранились три: Крисчен, Янг и Микой. Первые Брауны прибыли из Новой Зеландии; Уоррены и Рой Кларк — выходцы из США.
Других фамилий не осталось потому, что в 1856 году английское правительство, опасаясь перенаселения Питкерна, перевезло его жителей на остров Норфольк, к востоку от Австралии. Через несколько лет кое-кто стосковался по дому и вернулся на Питкерн. Они-то и составили ядро нынешнего поселения.
Флойд Микой единолично представляет свой род на Питкерне. С четырнадцати лет он прилежно изучает историю родного острова; его собрание книг о Питкерне не имеет себе равных.
Флойд занимает должность инспектора полиции, но на этом посту ему делать почти нечего, так как на Питкерне не бывает серьезных преступлений. Правда, не обходится без ложных доносов — иначе говоря, сплетен, этого бича любой маленькой изолированной общины.
В коллекции Флойда есть две реликвии с «Баунти» — топор и наковальня. Когда он навещал на Норфольке своих родственников, то хотел забрать оттуда медный котел с «Баунти», но они отказались с ним расстаться.
Для Микоя этот котел представляет особый интерес, ведь в нем Уильям Микой в апреле 1798 года начал варить самогон из корней ти.
Библия «Баунти» возвращается на Питкерн
В феврале 1808 года капитан Метью Фолджер из Бостона подошел на «Топазе» к Ппткерну. Навстречу ему вышли на лодке трое юношей. Они доставили Фолджера на берег и познакомили со своим отцом Алеком Смитом; настоящее имя Смита было Джон Адамс.
Однажды Адамсу приснился архангел Гавриил, который корил мятежника за беспутную жизнь и пригрозил ему божьим гневом. С той поры Адамс начал воспитывать маленькую общину в религиозном духе, используя для этого библию с «Баунти».
Потом библия перешла в руки одного китобоя, тот отвез ее в США, и только в 1950 году она вернулась на Питкерн, где лежит теперь в церкви на почетном месте.
Любопытно, что капитан Фолджер и одни из его офицеров сообщили три различные версии кончины Флетчера Крисчена, причем все три — со слов Адамса. Первая: Крисчена застрелили таитяне. Вторая: он умер естественной смертью. Третья: Крисчен бросился в пропасть и разбился насмерть.
Почему Адамс по-разному рассказывал о кончине Крисчена? Иногда говорят, будто он хотел скрыть, что Крисчен покинул Питкерн и вернулся в Англию.
В 1808–1809 годах в местах, где родился Крисчен, ходили упорные слухи, будто он вернулся на родину.
Однажды капитан Питер Хейвуд, бывший гардемарин «Баунти», шел в Плимуте по Фор-Стрит. Вдруг он впереди себя увидел человека, удивительно похожего на Флетчера Крисчена. Услышав шаги за спиной, незнакомец обернулся, посмотрел на Хейвуда и припустился бежать.
С тех пор исследователи истории «Баунти» не раз обсуждали возможность того, что Флетчер Крисчен в самом деле вернулся в Англию. Один из них даже допускает, что знакомство с Крисченом побудило Коулриджа написать известную книгу «Старый моряк».
Никому не удалось установить, куда делись золотые дукаты из каюты командира «Баунти». Может быть, Флетчер Крисчен заплатил ими за проезд до Англии?
Фред рассказал мне, что его дед Четверг Октябрь Крисчен (сын того Четверга Октября Крисчена, который был первенцем Флетчера) показывал ему место у большого пандануса, где Флетчер был убит и похоронен.
Я уговорил Фреда, Тома, Лена и Флетчера пойти со мной туда и попробовать найти следы захоронения. День был жаркий, и мои друзья брели по тропе без особого воодушевления.
На склоне, где трава росла по пояс, Фред сказал «здесь» и вместе с товарищами принялся копать. Углубившись в землю фута на два, они бросили мотыги и пошли за арбузом и ананасами. Мы закусили.
Готов поклясться, что питкернские ананасы самые вкусные в мире. Они невероятно сочны, а аромат такой, что не описать.
В жару не очень-то работается. Ребята нехотя углубилсь еще на один фут, потом Фред сказал:
— Не верится мне, чтобы женщины стали его хоронить. А если похоронили, то глубоко они не стали бы копать. Во всяком случае, здесь ничего нет.
Мы собрали инструмент и пошли вниз. Я до сих пор по знаю, где похоронен Флетчер Крисчен: на Питкерне или в Англин.
Я привык считать Питкерн уединенным местом. Это так и есть, и все-таки сюда удивительно часто заходят суда. В среднем каждые десять дней появляется корабль.
Обычно они задерживаются не больше часа, но некоторые стоят и дольше.
Один капитан сказал Паркину:
— К сожалению, мы можем задержаться здесь самое большое на полчаса. Не то рискуем опоздать к приливу в устье Темзы.
До Темзы от Питкерна восемь тысяч триста морских миль…
Питкерн расположен примерно на полпути между Оклендом и Панамой; между ними шесть с половиной тысяч миль, кратчайший маршрут проходит в четырехстах милях к югу от острова. Островитяне живут в непрестанном страхе: как бы не изменили маршрут так, что они лишатся своей главной связи с внешним миром.
Но они бывают недовольны, если корабли заходят в субботу. Ведь их вера запрещает торговать в этот день. В 1956 году на субботы пришлось четырнадцать заходов кораблей. Кое-кто из островитян встречает суда и в праздник, дарит гостям фрукты, но купли-продажи не бывает.
Суда определяют распорядок жизни
Вся жизнь на острове приноравливается к приходу и уходу кораблей. Мужчины соревнуются: кто первым увидит очередной корабль. Обычно Том заранее связывается по радио с приближающимися судами и примерно знает, когда их можно ждать.
За несколько часов до этого события островитяне, захватив корзины с фруктами и сувенирами, спускаются к пристани. На коромыслах — их называют здесь туу — они несут грозди бананов. Большинство предметов обихода сохранило таитянские названия; видно, потому, что этими предметами пользовались преимущественно женщины.
Куда бы вы ни пошли на Питкерне, на каждом шагу вам попадаются женщины, занятые плетением корзин, и мужчины, вырезающие сувениры из дерева. Пз красных чурок дерева миро выходят летучие рыбки, черепахи, морские птицы. Туристы скупают все, что успевают изготовить питкернцы.
Однажды я сидел вместе с мужчинами под флагштоком на Эдже, высматривая очередной корабль. Вдруг кто-то вскочил на ноги и закричал:
— Вижу парус!
Я ничего не видел, но, как и все, побежал вниз. Один парень поспешил к колоколу, чтобы дать сигнал: три раза по пяти ударов.
Детям не разрешается выходить к судам, и один из мужчин крикнул мальчикам, которые намеревались спуститься на берег:
— А вы куда, ребятишки?
— Мы хотим поплавать…
Говорят, что лучше питкернцев никто не справляется с прибоем. Эти потомки моряков с юных лет на ты с морем. С четырнадцати лет мальчики уже привыкают к морскому делу, в пятнадцать они полноправные члены команды, гребут наравне со взрослыми.
Когда я гостил на Питкерне, на ходу были три лодки — «Хо-хо», «Нунн» и «Сэрпрайз». Четвертая, «Барж», отдыхала. Здешние лодки «отдыхают» по четыре месяца, потом на год вступают в строй.
В моем блокноте есть запись о встрече «Матароа». В этот день могучие зеленые валы с белыми гребешками разбивались о черные вулканические скалы залива Баунти.
«Когда пришло судно, волнение немного унялось. Лодки поочередно взлетали на высокие валы, на секунду замирали на гребне, задрав нос, потом катились вниз по зеленому полупрозрачному склону. В ложбинах между валами мы подняли паруса и направились к судну, которое стояло в трех милях от берега.
Лодки были нагружены фруктами и сувенирами. Клемент сказал: «Охота нам возить фрукты на суда!
Лучше бы самим съесть». Я своими глазами видел, как он съедает в одни присест пять ананасов. И заедает их половиной арбуза.
Я сидел в лодке Лена — «Сэрпрайз». Рой подтрунивал над Леном: мол, который день не брился, что подумают пассажиры корабля, когда увидят такого небритого язычника. Лен отпарировал: «А бог вон с какой бородой ходит — что же, он тоже язычник?»
Когда лодки подходят к судну, обычно две причаливают к корме, одна — к носу. В каждой лодке остается вахтенный, через десять минут его сменяют, чтобы все могли побывать на борту.
Продав свои товары, островитяне спешат в судовую лавку за покупками. Особенно охотно берут они сладости. Покупают также парусиновые туфли, сгущенное молоко, мыло, часы.
Папа и Мама охраняют залив Баунти
На обратном пути рулевой повел пашу лодку слишком круто к ветру. Кормчий закричал:
— Куда, куда пошел? Хочешь напороться на Плоскую?
Плоская — первая из трех скал у входа в залив Баунти. Две другие называются Папа и Мама в честь Четверга Октября Крисчена номер два и его жены.
Мы пристали к берегу и вытащили лодки; небо стало багровым и резко выделялось на фоне бирюзового моря. Четкая линия отделяла море от неба. Когда мы добрались до гребня, свет вдруг померк, небо стало свинцовым.
На Питкерне многое представляет собой общественную собственность: строения, инструмент, продовольствие. Когда приходит корабль, каждое хозяйство выделяет фрукты в общественный фонд. Их продают стюарду судна в обмен на муку, картофель, овощи, сахар. «Выручку» делят в мэрии на сорок восемь порций, по числу хозяйств.
Одной из моих главных задач было попытаться найти место затопления «Баунти». Сколько я ни расспрашивал островитян, они говорили мне только про груду чугунного балласта, что лежит в воде у самого берега. Про корабль никто ничего не знал.
— Пропал, — отвечали они. — Ничего не осталось.
Все знали, конечно, что судно затонуло в заливе, — но где именно?
Просматривая дно с поверхности и ныряя, я убедился, что «затонувшего корабля» как такового нет. Ведь судно подожгли, а, когда оно пошло ко дну, островитяне потом долго вылавливали доски. И, разумеется, основательно поработали могучие тихоокеанские валы. Словом, от «Баунти» в самом деле почти ничего не осталось. Если и можно что-то найти, то лишь металлические части.
Паркин рассказал мне, как оп нашел руль «Баунти».
Это было в 1933 году. Паркин Крисчен и Роберт Янг отправились на пироге ловить рыбу. У входа в залив Баунти, где на глубине сорока футов песчаное дно подходит к покрытой водорослями скале, они остановились. Паркин стал просматривать дно.
— Там водится рыба ненвей, — вспоминал он, — ее-то я и высматривал. Гляжу — прямо под нами на песке лежит болт. Я чуть не крикнул: «Болт с «Баунти!», но спохватился: чего кричать-то, я же сам могу его достать. Подошли к берегу. Я сходил домой за веревкой и грузами. Потом — обратно на берег, да так, чтобы жена не заметила. С первого раза поймал болт, вот на столько поднял — и уронил. Упал он торчком. Ну, я и опустил петлю прямо вниз, легла она, как шляпа на голову, и выловил я болт. Кто-то приметил меня за этим делом. «Как, — спрашивает, — клюет рыба?»— «Клюет», — отвечаю.
Болт (на деле это был рулевой крюк), когда упал, взрыл дно, и обнажились какие-то деревянные части. Это и был руль «Баунти». На следующий день Паркин снова отправился на это место, но один он не мог справиться с тяжелым рулем, и пришлось ему открыть свой секрет другим.
Гибель корабля
… Я хорошо представлял себе «Баунти», стоящий на якоре у полукруглой бухты. В тихий день мятежники отбуксировали судно в залив и посадили на мель. Видно, валы безжалостно трепали руль, пока не сорвали его.
Судно подожгли. Ярко горело пропеченное солнцем дерево, пылала смола. А горстка людей смотрела с берега, как пламя пожирает их последнюю надежду когда-либо вновь увидеть Англию.
В своей книге о мятеже на «Баунти» Диана Белчер сообщает, что в 1841 году на Питкерн заходил капитан Дженкин Джонс.
«Установив, где затонул «Баунти», капитан Джонс поднял обгоревший корпус и убедился, что он смог противостоять и огню, и воде».
Трудно поверить, что можно было без специального снаряжения поднять «обгоревший корпус «Баунти». Уверен, что капитан Джонс достал со дна просто какие-то крупные части. Так или иначе, насколько я мог проверить, с тех пор вплоть до 1933 года, когда Паркин Крисчен выловил руль, никто ничего не находил.
Как-то Лен сказал мне:
— Я могу показать тебе медный слиток. Отец в первый раз увидел его лет пятнадцать назад. Я нырял за ним, даже трогал его, по он крепко врос в дно.
В первый же тихий день мы на пироге Лена отправились к тому месту.
В пятидесяти ярдах от берега Лен перестал грести и проверил свои приметы. Сперва через плечо глянул на каменный шпиль Шип-Ландинг, потом посмотрел на гребень (Эдж).
— Здесь, — сказал он.
Я положил на воду ящик со стеклянным дном.
— Видишь? — спросил Лен.
Я покачал головой.
Лен заглянул через мое плечо и показал рукой.
В глубокой расщелине зеленел короткий обрубок явно не природного происхождения, судя по очертаниям. Над ним сновали желтые рыбки, равнодушные к этому фрагменту истории.
Я облекся в подводные доспехи, надел ласты и маску и, как положено у аквалангистов, упал спиной в воду. Повернулся и, работая ногами, мимо небольших, напоминающих цветы кораллов вошел в расщелину. Взялся за слиток… Он в самом деле прочно прирос ко дну.
Лен следил за мной сверху. Я сделал рукой движение, будто стучу молотком. Он спустил мне на бечевке молоток и долото.
Я работал, стоя вверх ногами. Расщелина защищала голову и плечи, но прибойное течение каждые несколько секунд тянуло меня за ноги. Я тщетно силился сохранить вертикальное положение, меня било о кораллы, и я чувствовал уколы, означающие, что известковые пальцы царапают в кровь мои икры.
За четверть часа я расчистил желобок вокруг слитка. Потом вооружился ломиком, нажал — и слиток отделился от дна.
Сидя в лодке, мы вертели мою добычу и так и сяк. Один конец — узкий, округлый, другой — весь иссеченный. Я заключил, что это болт, второй из четырех болтов, которыми крепился руль, как это видно по чертежу «Баунти».
Паркин показал мне, где он поднял руль. Всего в двенадцати ярдах от расщелины, из которой я теперь извлек болт. Несколько дней Лен, Том и я изучали дно в этом месте, но других следов «Баунти» найти не могли. Вероятно, главная часть судна лежит где-то еще…
— Мне это представляется так, — сказал я Лену. — Корабль прибило к берегу, затем волны сорвали руль. Болты упали на песок, а само судно село на мель где-то по соседству. А ты как думаешь?
— Звучит убедительно, — ответил Лен.
— Но дальше спрашивается, — продолжал я, — где именно корабль пошел ко дну?
Будем рассуждать последовательно. В общем-то все должно быть просто: длина «Баунти» — около ста футов, чушки балласта лежат у берега тут, руль и болты подняты там, остается мысленно соединить эти точки прямой и искать вдоль нее — мы непременно что-нибудь да найдем.
Разведка продолжалась. Как только позволяла погода, мы заряжали воздухом баллоны акваланга и уходили под воду. Чуть не изрыли носом все дно. И ничего не нашли.
К концу шестой недели моего пребывания на Питкерне мы как-то под вечер взяли с собой Честера Янга, чтобы показать ему, как работают с аквалангом. Хотя мы уже потеряли надежду отыскать что-либо, я все-таки повел пирогу к тому месту, где лежал болт.
Лен помог мне надеть акваланг, и я погрузился первым. Ожидая под водой Лена, нашел взглядом большой камень, возле которого подобрал болт, и медленно поплыл над волнистым ковром водорослей, пристально всматриваясь в дно. Кругом сновали любопытные каранги. Вдруг на зеленом фоне я заметил какой-то серповидный предмет.
Подплыл ближе — уключина! Одни ее рог был длиннее другого, она имела форму полумесяца.
Пока я рассматривал свою находку, над ней прошла стайка причудливо раскрашенных помакантид, которых называют «мавританский кумир». Поразительное совпадение: мавританские кумиры идут над полумесяцем — мавританским символом… Только море способно на такие трюки.
Дальше начиналась полоска чистого песка. Кусок дна был покрыт белым известняком, производимым водорослью литотамний. На известняке лежало нечто вроде окаменевших червей.
Я опустился на самое дно, чуть не касаясь его лицом. И мысленно ахнул: это были покрытые известкой гвозди. Десятки гвоздей с «Баунти»! Я поднял голову, ища Лена. Он висел в воде надо мной и вопросительно глядел на меня. Я взял его за руку, крепко пожал ее и показал вниз. Он закивал, улыбнулся, и мы еще раз пожали друг другу руку.
Могила «Баунти» найдена!
Песок двумя языками тянулся туда, где возле берега, в полосе прибоя, лежал балласт. Все эти дни я забирался слишком далеко на восток. Видно, ветры и течения развернули корабль: нос зацепился за берег, а корму отнесло на запад.
Я принялся отбивать гвозди. При каждом ударе молотком в воде расплывалось черное облачко «дыма»: к металлу пристали обугленные крошки дерева. Было очень трудно удерживаться на месте: течение все время опрокидывало нас, а то и несло к берегу.
Рядом с гвоздями мне попался длинный болт. Я сколол известь с обеих сторон и освободил его. Поднялся в пирогу и кинул в нее свою находку.
Судя по всему, мы обнаружили линию киля — или хотя бы одного из поясов обшивки.
Зарывшись еще глубже, мы отыскали куски медного листа, которым был обшит «Баунти». Медь хорошо сохранилась.
Метка верфи
Вечером я долго чистил и полировал бронзовый гвоздь, пока он не засверкал, как золотой. Кусочек «Баунти»! Блеск гвоздя буквально завораживал меня. Мысленно я представлял себе верфь в Дептфорде, «Баунти» на стапелях, рабочих… Стучат молотки, шоркает конопатный инструмент, смачно врубаются в английский дуб топоры. Под жаркими лучами солнца древесина выделяет пахучий сок, острый запах вара перебивает благоухание стокгольмской смолы…
Рабочий, сидя на лесах, вколачивает очередной гвоздь в медную обшивку и говорит товарищу:
— На Отахеите пойдет, в Южные моря! Провалиться мне на этом месте, сам бы нанялся, если бы взяли.
Смолк движок электростанции, в Адамстауне воцарилась тишина. Завтра суббота.
Семья Фреда собралась вокруг керосиновой лампы, чтобы прочесть вечернюю молитву. Головы склонены, вся картина напоминает полотна Рембрандта с их светотенями.
После молитвы Флора захотела поглядеть на бронзовую уключину.
— Ищу широкую стрелу, — объяснила она, светя фонариком. Флора подразумевала знак, которым в восемнадцатом веке метили крупные части на судах британского флота. — Да что-то не видно.
Она подала мне тяжелый металлический полумесяц. Я включил свой фонарик и тотчас увидел три черточки, образующие стрелу.
— Ага, есть, — сказал Фред. — Значит, точно уключина с «Баунти».
Да, уключина одной из лодок «Баунти»…
А вскоре после этого подводному пловцу с яхты «Янки» посчастливилось случайно обнаружить один из якорей исторического корабля!
Как-то раз я спросил Паркина — как он думает, почему его предок поднял мятеж. Паркин ответил:
— Потому, что он был честным человеком, а Блай назвал его вором.
Такова стандартная версия.
Как бы то ни было, очевидно, что мятеж начался вдруг, в результате неожиданного порыва Крисчена, которого чрезвычайно задевали колкости Блая. А остальные тотчас поддержали Крисчена, мечтая вернуться на райский остров Таити.
Мне самому доводилось бродить по черным пляжам Матаваи и над рокочущим зеленым прибоем смотреть туда, где бросали якорь Валлис, Кук, Бугенвиль, Блай. Не знаю, какие песни пели знаменитые мифологические сирены, но не сомневаюсь: они пели на таитянском языке.
Капитан Ирвинг Джонсон, который больше двадцати лет ходил на «Янки» в Южных морях, говорит:
— Не представляю себе, как Кук или Блай вообще не остались без команды, когда покидали Таити…
BENGT DANIELSSON
MED BOUNTY TILL SÖDERHAVET
Перевод со шведского Л. Л. ЖДАНОВА
Ответственный редактор Н. А. ЕРОФЕЕВ
Индекс
2-8-1
203-66
Бенгт Даниельссон
НА «БАУНТИ» В ЮЖНЫЕ МОРЯ
*
Утверждено к печати Секцией восточной литературы РИСО Академии наук СССР
*
Редактор Р. М. Солодовник
Художник Л. Гольдберг
Художественный редактор И. Р. Бескин
Технический редактор Э. Ш. Язловская
Корректоры С. А. Боровская и А. Ю. Давыдова
*
Сдано в набор 14/I 1966 г. Подписано к печати 8/VII 1966 г. Формат 84×1081/32 Печ. л. 8 Усл. п. л. 13,44 Уч. — изд. л. 11,78 Тираж 75 000 экз. Изд. № 1582 Зак. № 153 Индекс 2-8-1 203-66. Цена 59 коп.
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» Москва, Центр, Армянский пер., 2
Владимирская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б
Примечания
1
Местное название, от которого позднее было образовано «Таити». — Здесь и далее примечания редакции.
(обратно)2
Сэмюэль Джонсон — английский критик и эссеист восемнадцатого века. Босуэлл — английский юрист и писатель, друг Джонсона, вошедший в историю литературы, как его биограф.
(обратно)3
Известный в Англии ботанический сад.
(обратно)4
Мысль о том, чтобы отыскать северный морской путь между Атлантическим и Тихим океанами возникла в шестнадцатом веке, после захвата Португалией и Испанией торговых путей в страны Азии. Существование прохода было установлено в конце шестнадцатого века. Впервые он был пройден в 1903–1906 годах экспедицией Амундсена в направлении с востока на запад.
(обратно)5
Морская миля равна ок. 1,8 км.
(обратно)6
Мера скорости движения судов, соответствующая одной морской миле в час.
(обратно)7
Гора, возвышающаяся над южным побережьем Африки, близ Капстада (современного Кейптауна).
(обратно)8
Приспособление, делающее лодку устойчивой; состоит из бревна, прикрепленного параллельно корпусу лодки на некотором расстоянии от него при помощи поперечных планок.
(обратно)9
Мера длины, равная трем милям.
(обратно)10
В греческой мифологии Пандора — прекрасная женщина, которую Зевс послал на землю с ящиком, наполненным бедствиями.
(обратно)11
Недавно получены новые сведения о мятеже на «Баунти». В библиотеке Адмиралтейства в Лондоне я нашел завернутые в простую оберточную бумагу неизвестные ранее, чрезвычайно интересные документы о походе «Пандоры», в том числе копию судового журнала и отрывки из дневников Стюарта и Хейвуда. Эти документы принадлежали капитану (впоследствии адмиралу) Эдвардсу; его внук передал их библиотеке. Я уверен, что в архивах можно найти еще много неизвестных документов, и продолжаю свои исследования. — Прим. автора.
(обратно)12
Печатается с некоторыми сокращениями.
(обратно)



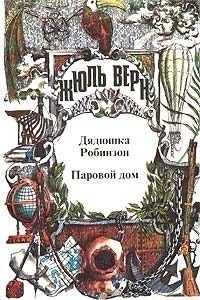

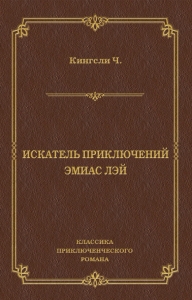
Комментарии к книге «На «Баунти» в Южные моря», Бенгт Даниельссон
Всего 0 комментариев