Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал». Книга четвертая
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
Владимир Ветров Батрачка
Ждет-поджидает с восточного краю…
Из песниПовесть об одной
I
Одиннадцать лет назад приторочил к казачьему седлу Константин половину хозяйства. В тринадцатом — конь, седло, вьюк и казак Константин Ряднов — в сыпучую Хиву с полком на охрану. Дома же молодуха осталась да трехлетняя Санка.
С той поры за одиннадцать лет дважды был дома Ряднов. В четырнадцатом ночевал ночь, а потом — нагонял эшелон: на германские позиции двинули под Двинск. Ночь эта прибавила едока — девочку Ксюшу. И в семнадцатом, когда сами рассыпали фронт, жил дома Константин, вплоть до того, как от поселка в разверстку назначили к атаману Дутову, поднявшему обтрепанное знамя против Советов. На поминки об этом времени остался Гринька. И за пять лет с 19-го — одно известие от ворочавшихся: дальше, дальше ушел — боится сдаваться. С бароном Угарным («Да не Угарным, а Унгерном». «Ну, Унгерном!») — за бешеную, за мутную реку Селенгу, в Ургу, в землю Монгольскую. И еще глуше — в Китай. А там разве можно русскому жить? Живут. Боятся. Где-то там…
Там где-то… А тут — освистанный пустой сеновал; трухлявый плетень, поваленный; крыша — дырявым дерном, как дряхлым животом — припавшая к потолку: тут еще был голод, черный ветер — вымел остатки. Скотины теперь сызнова: овца и одер-коровенка, у которой от мокрети и недокорма на эстоль удою — против прежнего. Да, тут — вечно ненастное бабье лето, бурьян колючий батрацких дней и трое: 14, 9 и 5; и одна баба с двумя руками на четыре рта.
Тут, собственно, осталась одна утеха — верность. Проходили воры лихие каппелевцы — приказывали, красноармейцы удалые — выпрашивали, — и свистали бабы без мужиков, не стеснялись. Но Глафира себя соблюла. Эк добро, подумаешь! Добро не добро, а одно оно, так, небось, будешь беречь; кроме того, некогда. За характер, за поведенье даже высокомерный и сластолюбивый старик Сорокин шапку наперед ей. Сорокин, бывший поселковый атаман:
— Афанасьевне почтение. Ну, как Костенкин?.. За нас страдат, за нас — за правду и веру…
«Какая правда и вера? — горюет про себя казачка: — Сманули — ткнули сволочи мужика за свою хабару. Не сровнять теперешну власть во всяком разе…»
А лестно! Такой старик, такой — у которого в углу под образами знак прежнего могущества — посох с шишкой. Сейчас чихают на это, конечно, — а все никуда не денешь.
Довольная собой чуть распустит складку меж бровей и гордо понесет голову. Но на заснеженном озере, над прорубью грязной — опять остается одна со своей горечью на сизом ветру. Хлопая отчаянным вальком хозяйское рядно, полощет думы:
«В Комитет Взаимопомощи должна еще за корову, за семена. А чем выплатить? И только одна забота, одна сухота: две девки да сын. Санка — Саночка, хоть бы у тебя жись по-другому вышла. Саночка, Ксюшенька — не знать бы вам таких утех, ввек по-моему не задаваться. Гриньке бы не кидать молодой жены на эдаку маету!..»
Потому что, когда приходит на улицу тепло, гладит ночью, как теплыми волосатыми руками, как волглыми усами щекотит и будит истому, — тогда еще тяжелей терпеть. Будто сманивает: эх, айда ли-чо-ли! Видятся скоромные сны. В сумерках хозяин Родион Петрович, в легком духе в стайку зайдя, шлепает по плотной спине или жамкает в тесном месте у сенов:
— А-эх, Афанасьевна, баба ты первый сорт. Дурак Константин — Унгернов каких-то там восстанавливает. Жаль только, строгость твоя игуменская…
— Ой, да чо уж: кожа да кости — кто и польстится!
— И токо ты охаверничаешь, Родивон! — подследит тонкоголосая Агафья в створе, буравя хлевные потемки.
Лицо у этой печеное-пареное, волос жидкий и носик луковкой, — а за своего мужика председательше глаза выдерет.
Веселый чернобородый Родион Петрович впустую ляскнет зубами и упрячет что-то такое за деловым:
— Опадат ли опухоль у Пестрянки? Чужо-т порося взял ли сосок? Ин, ладно. Ступай-ко, подмогни Михайле зигзаг гоношить…
II
Ты, одинокая бабья сухота, бурьян батрацкий!
А получилось это на Миколу Вешнего. На пасхе хозяйка обещанье дала богу в красном углу — на весь дом криком: схожу к Миколе в город пешком за 40 верст! Очень замечательный там в притворе Микола, восковой, и престол его в мае. А у Агафьи под коленкой «сучье вымя»[1] вздулось: так ни с того, ни с сего на самом сгибе — нето нарыв, нето божеское наказанье — пять стержней, один другого ядреней. Весь праздник без Агафьи отгуляли, — в стон она, в визг, в рев, в лежку. Пользовали ее знахарка и пес Шарик: приговоры были на хлеб, после чего хлеб Шарику скармливали; потом сметаной обмазывали «вымя» это, опять Шарик слизывал. И чем только, чем! И в бане через ручку парила, что ни присоветывали — все делала, — а оно пуще цветет и мокнет.
— От надсады?! Пустое… Восподи, ужли за то, что отцу Акиму, пьяному, тухлых яичек зимусь подсудобила? Ужли за жора, за етова?!.
А еще припоминает: Троеручице в кружку в прорезь втолкала (в советском бумажном пятаке завернутые) пропащие «мелеены» и даже керенки. Ай за это? Ну, грешна, ну, грешна окаянная женчина! Ты ето, Родивон, ты: его ладом спрашивают, куда теперь ети гумажки — плакали денежки? А он в подвох: «Ето уж токо в церковь осталось — куда боле»… Тьфу, язва просмешная, а не муж! Ежли, говорит, там воду в вино перьгоняют, то уж деньги в деньги — плевое дело… Владычица Волоколамска, связала меня с эким жеребцом!
— И какие могут быть у тебя грехи? — утешал Родион Петрович: — Муж дома, ешь досыта, ругачку с молитовкой каждый день творишь, не забываешь. Грехи — у умного, у глупого нет грехов.
— У-у, разразит те ковда-нибудь, жиган…
Посочило вымечко, доспело и стало стихать, синеть, бледнеть, подсыхать. Накануне утречком онучи навертела, надела лапотки (не от недостатка, а для смиренности), бодажек застрамленный подобрала, потыкала им крест-на-крест в воздух за деревней: простите, христа-ради! — и пошла. Вот угодница божия, полюбуйтесь, добрые граждане! Глафире строгий наказ угодницей дан: насчет горшков, насчет ребят и телков, насчет теста постного на карасевые пироги и двунадесятной бражки на печи. (Не забыла ли чо?)
С ней еще двое: девка-кликуша — приложиться к пухлой батюшкиной (того баского, с русой бородкой) белой руке, и слепой побирушка дед Митрий — посбирать — пожорить «скусного» чего на паперти. На диво Родион Петрович не препятствовал, только дурой спокойно этак обозвал. В правление артели сходил — отзвонил и повез барду в поля к аппарату, именуемому по округе «Интернационал»: в очередь — самогон сидеть.
(В Москве — свой, а в Сорокином — не отстали — свой Интернационал!)
День проколошматившись по чужому хозяйству, с ковригой и картовью наведав своих, малость на ребятах расстроившись и размягчившись и вечером укладываясь спать в посторонке хозяйской, — заново, как прелое сено на просушку, разметала свою жизнь и позавидовала Глафира:
Есть же счастье которым — на богомолье ходят еще! Ой, Константин, Константин! Жизни ее всего четыре года было. И почему изо всех несчастная такая? Не глупа же — если в делегатках бывала. Не ленива же — вон что везет. И не урод — если мужики вслед облизываются. А что такое: ни вдова, ни мужняя жена. Одно дело бы — убит: разрублено, поболит — срастется, — зато ясно — на все на четыре стороны. А то ждешь, тянешься… Ох, Костенька! Не по-опаске, а по-любви. А скажи: друго-т раз голова болит, каждый волос чувствуешь — толстый, тяжелый…
Слышит, — приехал хозяин, цедит в усы песенное. Встать или нет? А ну его, сам управится. Посторонку открыл: спит? Постоял: — Спит, должно… Усмехнулся — покачнулся. Поднял Михайлу-работника.
Хороший человек все-таки Родион Петрович: смотри-ка, жалеет батрачку — не будит. Мокренек маленько вернулся. Это — в порядке: мужик, как мужик — живет, как все. Вон он какой лобастый зубоскал. Каждой любо с ним разгуляться, и не таку бы мог завоевать, как его лахудра Агафья…
И что это — про чо думается!
Вот почему это вышло на Вешнего Миколу: потому, что ушла хозяйка. А то, ведь, случается это и на всякого другого святого, и на летнего, и на зимнего, и даже на всех Сорок Мучеников. И не только на святого, а, извините, и на всякого лешего случается. И еще потому, что на улице — тепло не тепло, а ласковые волосатые руки, теплые. На улице от молоканки с девок памятная гармонь и от ворот тревожный шопот. Ладонями мягкими закрой глаза, убайкай заботу, посмеивайся, торкайся у самого сердца: ну, айда! И чо дурочку строишь который год? Да к кому же мне? У, бессовестная…
Да, потому что все спало в доме, и ребятня, и парнишко-работник, а Родион Петрович — темный, как свекла из земли, горячий, как рана, как порез — пришел в посторонку и стал обнимать прямо безо всяких слов…
— Уййди! Слышь-ко, Родивон Петров… Слышь, закричу!
— Про кого бережешь, Гла-ашь? А-а? Константин-от, поди там… с китайками…
— О! — отчаялась Глафира и ударила хозяина в губы, зубы счакали. — Ну, тебе говорила, — виновато промолвила она затем: — Слышь, кричать буду… Не крути… О-о!
— Чш-ш, дьявол! — откинулся Родион Петрович.
Ткнул ее в бок и отстал, наполненный тугой кипящей страстью и злостью; и, рассыпая это, как редкая мешковина муку, в поры своего тела, убрался в саманницу спать.
— Право, дьявол…
А Глафира уткнулась в подушку, подушку стиснула и вымочила жаркое лицо в слезах. Эта, у которой в глазах огонь и темная вода, стукается в полую плоть… Да не человек ты, что ль? Ну, кто смеет попрекнуть, узнавши: каждый у жизни, как мясо с кости, рвет. А муж? А где он? А есть или нет конец? Наверняка, со всякими сам. И с китайками. Знамо, несутерпны мужики против баб… А так я и буду ему выкладывать! Да что это за жизнь: забыла уж, как смеются, как в польке ногами двигают…
Было это, как огонь на сухостойный лес. Вот подбирается снизу по траве; пробует, взмывается по стволу (по телу) по медовому, до вершины (до головы). И зноб, и зной, и безумие… Пусть, что поманил Родион Петрович собачьим кусочком, — расплескалась голодная бабья кровь. Да чтоб тебе не встать завтра, проклятый Родион Петрович! А с кем же? Не с Михайлом же, с сосунком, с благовестником?.. Костенька!.. Выпивши Родион, и сам забудет пьяную ночь. Чтоб тебе, неверный Родион! Ой, да чо же это, бабоньки?!
Отчаянно машет рукой, скрипит половицами, зябнет — от отлива крови — у выходной двери, жмется, как ворина, прядает в темь саманницы.
— Чего тебе?..
Зубами колотя, тяжело выдохнув, молча легла; обхватила, аж хрустнуло у ключиц. Молча, глаза зажмурив, весь дух отдала Глафира:
— Н-ну, во-от. А то кобенится. Знашь, как я могу тебе подмогнуть в делах…
III
Не забыл, однако, эту ночь Родион Петрович. Перво-на-перво Агафья вернулась и напомнила:
— Чо ето у тя с губам-то, Родивон? С Дамкой целовался, што ль?
— Укусила гнусина кака-то, — отвернулся Родион.
Посверлила Агафья гляделками и пошла зудыкать: то не ладно, это не хорошо.
Не забыл Родион Петрович ночи — после нее другие были, и даже — дни. Расточилась сухая хмара в сердце батрачки: лицо ее — цветущий луг, голос ее — серебряный лад. Дивилась, корила себя, что нет стыда в ней: ходит ровно налитая светом до краев, — глаз из-за этого не подымала на Родиона при людях. Хозяйку — слушала и служила — не видала. Ровно ливень прошел в сухую землю и взвеселил травы, и воздух стал нежный и уступчивый, как женская грудь, и волосы — легкие, как березовый колок.
Видались на полях, — пары подымая, майские, и сея поздний июньский овес. По началу больно приятно было Родиону Петровичу: привязалась баба, как собака, вот — хоть бей ее. Но потом надоедать стало. Липнет на каждом месте — вдруг кто-нибудь заметит: вот так член правления артели, общественный работник! Одно слово — интеграл! Чего тут хорошего. Рабочком или женотдел пристегнется — не отлягаешься. Особенно, если — упаси от чего — затяжелеет; с бабой, ведь, этак: с ней шутишь, а она всерьез принимает. А отделы эти — они душу вынут; у них и дела-то: чего работник, да как с работником? Нет, брат, тут с политикой надо, народ нынче больно востер.
И потихоньку от'езжать стал — все в правленьи. А когда Глафира упавшим голосом довела до его сведенья свои приметы: «красок» давно нет и позывает то на кислое, то с души, — очень осердился Родион Петрович и всякие любезности в ту же пору прекратил:
— Ну, вот! И вовсе ни к чему это, вот чо я тебе скажу. Совершенно даже неуместно. Ты меня перед народом не срами, Глаша. Тем более, што я, как сказать, не больно навязывался.
— Не к тому я, — сказала, совсем потемнев, Глафира. — Мне-то как? В каку меня теперь роль произведут?
И слезы выступили, как наледь.
— А чтобы вас черти драли… Ослобониться надо. Нечего тут сырость-то разводить, не маленькая.
— Вот и я… про аборку. Д'огласка, ведь — огласки пуще всего опасаюся. Чо я тогда? На изгал, на издев…
— То-то што огласка. В город надо. Там все сделают. Там — досконально.
В город — это верно. Недавно избач вычитывал насчет аборта: очень большое снисхождение к женщинам, бедным бесплатно. Но в город некогда: вот-вот уборка озимых, совестно в такое время бросать хозяев, к тому же и ее доля в посеве есть. После, как сняли рожь, наклалась Глафира в город с пятью мешками ржицы, смолоть по-пути. Агафья поперек:
— Приспичило женчину посылать? Ей по-двору хватат. Пусть бы Михайло.
— Не лезь не в свое дело. Раз надо человеку: ситца посмотреть для ребят…
Но в городской больнице поворот от ворот. Доктор отрезал: поздно хватилась — родить придется. Фельдшерица фыркнула: удивительно бестолковые эти деревенские. И сиделка сокрушенно поддакнула: деревня — и деревня, безо всякой культпросветности.
(И правильно, и обидно — ладно вам тут в городу-то!)
Дома же Агафья день ангела Родиону устроила: за то, что выбросил целый рубль Глафире на расходы (каки-таки расходы?), и за то, что «кот мартовский» — он.
«И откуда только унюхает зараза?!» — удивился про себя Родион и прицыкнул:
— Молчи, ты! Чо ты своим куречьим умом понимаешь?
— Распрекрасно я тебя понимаю, пес ты гулящай, пра, пес гулящай. Кобель, кобель! — выше подняла Агафья.
— Не ори, говорят! — покрыл тогда Родион Петрович: — Орет, дура эдака. Людям чо и надо, на язык поддеть.
— Д'вижу я, вижу: с ей уж ты шашки раскидывашь!..
— У, ты, безмозглая, — зашипел не помня себя Родион Петрович и цапнул жену за руку: — Она наблудит, Глашка — на нас навещают. И забудь про это, па-аскуда!..
Задохнулся даже от ненависти. И так поглядел, что Агафья рот полчаса не могла закрыть, боялась, что шумно выйдет.
IV
Билась Глафира, как рыба в мотне: волокут чьи-то руки на берег, на песок. Веретенцем — подумать страшно! Свело веретенце летось Федосью, такую славную бабу, на погост под ветлу.
На хуторах за 5 верст бабушка Фендриха. Знает в чем дело бабушка, ей нечего сказывать — она видит такие дела сквозь стены.
— Бабушка, только перекстись — никому-никомушеньки.
— Чо мне креститься, я и так: со мной, как с попом.
…Одно средство сказала бабушка: чилибуху[2] испить. Хороша она — вокурат теперь, в августе — сама действительна. Ой, не надо, бабушка, не надо! Савотинска девка осенесь пробовала ее — в три погибели, ни поработать, ни поесть: внутри, ровно зола горяча. О-ой!
— Ну, не надо и не надо. Чего голосишь? И какой народ нонеча боязливый пошел. Не пользована, а уж орет…
— Н-нет, не надо, не надо!..
В декабре, когда отработала по договору и ушла от Родиона и Агафьи (а Родион ей десять рублей сверх подарил), — письмо за странными печатями из Китая: прошлепанная вдоль и поперек — от мужа весть — кулаком в грудь:
«Дражайшая супруга наша, если вы себя содоржите а как Совецкая влась нашу темноту прощает а мы никовда супротив народу не позволим. Слыхано живут в Расеи ничево сибе самостоятельно. Виду етова надумали подаваться по домам довольно повоевали за их благородиев. С китайцами доводилося разговаривать по душам нащет Революцыи они согласны и я и Семен Бляхов охота вмести, а Семен пока на излечении в гошпитале у нево дурна…».
Прямо из Шанхая — кулаком под вздох…
Как рыбу в мотне: волокут-волокут на берег, на серые пески!
…Ой, да чо же это? Захолонет в груди у Глафиры, и руки станут липкие, как потник. Нет выхода! Поступайся последним достоянием, именем верной жены. За что ж терпела 5 лет? Да что бы это такое выдумать?
Не может баба — ни веретеном, ни чилибухой: жить она еще хочет, так вот и орет внутри — жить! С Константином жить, с мужем. До-поту робить, до-поту. Есть крепко, просто есть. И смотреть — не мигать в веселые мужни глаза. Значит, родить! А младенец? Куда младенца? Потом это, потом…
Нет, все-таки? Весной женотдел зыбку весил на дереве в палисаднике. Какая теперь зыбка в такие холода — убрали. Ох, ты, мальчик ли, девочка ль, кому нужна твоя жизнь?! И кому подкинешь тебя? В деревне? В деревне — в одном конце чихнешь, в другом кашляет. В город? В городе, восет по газете агитатор выяснял: приютских отдавать в деревню для привычки к работе. Не примут, стало быть, если и дойдешь в городской приют. Нет, нечего и думать. Потом все это. А сейчас — скрывать, таить ото всех.
Таить — легко сказать. Конечно, фигура позволяет: не у какой-нибудь дохлой, — в бедрах просторно. И еще можно одежонку как-нибудь ерошить, призавешивать. А, главное — вертись-вертись, не поддавайся.
Работала, как лошадь. Нарочно недоедала: заморить плод, чтобы меньше был, меньше…
Но очень подозрительна стала Глафира. Соседка одна зашла да чего-то и уставилась на ее живот.
Побледнела Ряднова, вскинулась:
— Чего приглядываешься? Рай не видала? У, язви вас, только и зорят чего-то, только и ищутся!
— Да ты чо, бабонька? Ай ополоумела?
— А ты чо?.. — И опала: — Ой, да прости, Андреевна. Сумнительна какая-то я стала. С нищетой етой…
А хуже хвори боится Глаша встреч с Агафьей: оглядит, как разденет белыми, злющими глазами, круглым птичьим взглядом. Идет Глафира и стынет: вдруг — хлестнет?!
Только с бабушкой на хуторах: за один разговор за 5 верст крупку ей носила.
— Как же мне, как же мне?.. Ох, горемычная я…
— А чо с им…
Шопотом-шопотом…
И часто по ночам за печкой подолгу смотрела Глафира на свои ноги, от натуги и беременности в синих шишках венозной крови; и на круглеющий и сияющий живот — растет и растет. Щупала и плакала без звука, изредка забываясь и всхлипывая…
Избенку свою она сдавала молодняку под вечорки. В месяц за три рубля. Санку к секретарю сельсовета в няньки определила, тоже — целковый. Бычок в уплату ссуды пошел. Овца об'ягнилась. (Ну, и позавидовала же ей Глафира! Очень просто: ягненок — и все тут, никто не спрашивает от кого). Словом, жить можно. И даже очень здорово можно жить — под гармоньку.
Но камни в груди у ней, острые; трутся, счеты-расчеты головы в порошок трут: в межговенье, ай нет — на масленой. Кабы до прихода Константина, кабы успеть. Не торопился б он. И как только она, такая — встретит?! Гулял он, фактически гулял, — а все же… а все же… Так и трут в порошок. А переливчатый ветерок гармоники веет-развевает:
Ой, весело-весело На тракторе работнуть. А потом на все село Сербиянку[3] тряхануть…Тилим-тилим-ты-да-я…
А девка выйдет и дроботно-дроботно, от чего от юбок хлипает лампешка:
Девую последний год, А на тот не иначе: Если Троцкий не возьмет, — Разведу Калиныча……С полатей из-под тряпья пялили до-красна глазенки Ксютка и Гринька; и на печи, отворотясь к трубе, под замызганной овчиной мать шепетала, высчитывала: в феврале, обязательно — в феврале. И еще один, во чреве, пригревшись, ножкой толкал-толкал.
V
Пришла масленица — пришло и это в конце масленицы.
Прошли освобождающие «воды», открывая выход новому человеку. Еще до вечера, до веселых вечорок шумя крылами налетела боль, тупая, нестерпимая — огромная птица села на живое мясо, как на куст, взмахивая крылами, ими бия и терзая — пригибала бабу к земле. Пальцами впиваясь в дерево, садилась сразмаху на-пол, тащилась к лавке.
— Мамка! Чо с тобой-ча? — в страхе вопили ребяты: прихватывало дух у Ксюшки, а Гринька ревел без зазрения совести:
— Ма-а-ам!..
— О-еченьки!.. Цытьте хошь вы-то… Жи-ивот у меня болит… О-о-о!.. Никому не сказывайте… О!
А кому им сказывать? Они дома сидят, им не в чем на улку в этакую стужу…
А когда ввалилась разудалая гармонь и почала скалить зубы и выгибаясь выговаривать:
Мне б от мамыньки от зоркой Токо б вырваться, — Я к ребятам на вечерки Регистрироваться.Тогда под далекий от нее смех, под грохот парней, под визг девушек — обезумела серая птица: боль-боль-боль, — выворачивая нутро, разгребая хрящи, разводя в сером молоке огненные круги перед глазами. Тогда улучив момент и будто набив обручи на несусветную муку, железо набив на распадающуюся плоть — выскреблась она, волоча тулупишко, за дверь и добралась с воплем до дырявой стайки, припала в углу на навозную кучу.
Леденея и смерзая от диких порывов и целовков ветра; в испарине холодной — в ледышках, в ледышках; обмирая и скрежеща зубами; суча ногами и руками — взрывая мерзлый навоз под собой; неустанно стеня, — мучилась, закатывая глаза в просвет, в пустое мутное небо, как в мертвое бельмо из-под нависшей растрепанной соломенной брови. Цедила стон, понимая одно — как бы кто не услыхал, как нитку тянула стон. Как нитку, стальную… как проволоку… как полосу… Ы-ы-ы-ы…
Наконец, погружая руки в самый клубок боли, — а-аых! — рванула и — на мгновение — ушла из рук воля, упала, как мешок с воза. Как тяжкий ворон, крича — взнялся с распластанной бабы, продираясь сквозь лес, сучья — ввысь. Но тут же очнулась от необычайной легкости, от крика ребенка, в своем рождении ощутившего безысходность смерти, смертельный холод. И оттого, что учуяла кого-то, не видя, за плетнем. Сразу, как клещами сдавила живой вопящий в ногах комок: за горлышко его, за горлышко…
— Кто тут? — испуганно спросил голос за плетнем.
Молчит, все молчит в стайке: молчит и Глафира, все задавив в себе, молчит и это в скрюченных руках.
— Кто тут? — уже смешливо хмыкая повторил голос в проеме в свету и затряс коробкой, заширкал спичкой.
— Ганька! — натужась завопила тогда роженица: в ужасе — вот-вот осветит, — Ганька! Ты чо охальничашь? Не сровня каж-жись…
— А-а… ты это, тетка Глафира, — остановился парень и положил коробку в карман. — Чо тут у тебя вяньгат?
— Айда, ухходи… На ягну наступила, вот и вякнула… Нету в шарах стыда-то? А-а будь ты трои…
— Х-ха! А я, мол, из молодяжника кто шиперится, — медленно повернулся и пошел парень. — Ну чо разоряешься…
…Оторвала пуповину на, — на-прочь: знает. Срывающимися, застывшими культяпками перекрутила, задержать кровь. Последнее выпало — «место». Отбросила — конец!.. Но спохватилась, дотянулась и сгрудила все. Царапаясь поднялась-подползла по корявой в остриях прутьев стене, срывая кожу, тычась и накалываясь в беспредельном истощении. А в щель сомкнутых челюстей, в закушенную губу зажатый, дрожа и не умолкая, шел обмороженный, скорбный плач. Сунула слизкую массу на поветь в угол под солому и — выждав еще, окончательно застывая, бледно-мучная и сизая, с печатью смерти, сизая — как мартовские снега с темными провалами — глазами, — приволоклась в избу. Обеими руками вцепилась в косяк, вымолвила:
— Ой, ребятушки, кончали бы вы, ради христа. Недужится мне чой-то, сил нетука…
— На-вот! А ты ложись давай на-печь, чо ишо? — спокойно ответили ребята. — Заломалась-закамисарилась. И чо приставлятся?
Разумеется, сполна надо денежки за квартиру догулять, неужель попускаться. Разошлись, когда подслепый февраль разлиплял белесые ресницы, протирая зенки…
День следующий и ночь трепала ее лихорадка. Горели опаленные бессонью и жаром глаза в синих кругах; впалые щеки маком цвели, шевелились, как маковый цвет. Чужая поясница, совсем чужая — ныла-ныла: что-то будто цапало за ступни, оттаскивало таз… А концы, а спрятать — помнишь?
Ночью поднялась и, пока не закатилась в обморок, в кресте плетней на задах долбила: скреблась, тарахтела мерзлая огородная земля — слушала во все уши. Долбила, пока не выпала лопата, пока не упали руки плетьми, — тогда уползла в избу.
А днем еще пошла: собирая последнюю моченьку, ровно слабость одну увязывая в узлы, — потащилась на работу, на помочь пилить дрова. Вид свой показать: хворь какая-то неизвестная, а ничего. Там увидала ее Агафья, оглядела-обследовала: «Матушки мои! Чо ето — никак скинула? Так и есть, так и есть. Где же ублюдок-от? Ай притиснула?! Ой, окаянна! Ой, потаскуха! Побечь к Санке, повыпытать — куда подевала молоденчика… А-а, вишь ты, верность твоя липовая… Ой, подлая!..».
И когда вечером, отлежавшись, достала Глафира (Глафирина тень!) — с повети стылые куски, доставила их к ямке, — толпа, враждебная и жадная, щупая фонарями, окружила ее. Даже не крикнув, опустилась она на-земь: замерла, закостенела. Оборвалось и пусто стало в сердце, как в сумеречной степи осенней. Только ровно ворота на ржавых навесах растворилися заскрипев (или это люди над ней скрипят?), а за ними — голая, холодная темная степь.
— Ишь, стерьва, на чо решилася.
— Оммозговала.
— А я подмечаю, я подмечаю… Ах, аргаматска кобыла…
Глаша сидела, сидела батрачка Ряднова недвижно. Держала трупное; водила тоскующими, как у загнанной собаки, глазами: вокруг, исподлобья. И никого не видя, не видя людей, дрожа мелкой дрожью, — скулила, скулила…
Челябинск,
22. IX-1925 г.
Борис Губер Новое и Жеребцы
Совхозу Карачарово
Повесть
1. СОСЕДИ
Большак, столбовая дорога, тракт почтовый, — как ни кинь, а уж известно: главное отличие — пыль, мягонькая, нежная, легче дыма. Рядом полосы мужичьи, рядом хлеб золотой и зеленый, поля. А потом канет дорога в сосняк — хрупкими сухарями затрещат под колесом прошлогодние шишки, из глубины лесной пахнет горячим, смоляным духом, и столбы телеграфные утонут в оранжевой этой глубине, спрячут промеж стволов одинаковых, себя и провода свои голубые — голубей депешного бланка…
Россия, — леса, зарастающие вырубки, осока по логам… И опять хлеба, — бегут хлеба неспешной рысью по ветру. Версты укладываются одна за другой, версты ведут свой счет от железной дороги, где конец им не знает никто, но на двенадцатой — знают все — осело село Новое. Мужики здесь живут небогато, и улица неказиста на вид — корявые, не раз опиленные лозины, ребята, играющие в чижа, церковь в ограде из дикого камня, а подле церкви — чайная и лавка под общей вывеской «Парфен Растоскуев».
Сам Парфен Палч живет отдельно, поблизости; торговлю его по ночам караулит работник Тишка, кривой на один глаз. Стройка у Парфена Палча — замечательная. Особенно дом: крыша муммией накраснена, перед окнами палисад — петуньи пахнут душистым мылом, — а на дверях, по городскому, медная дощечка и трескучий звонок с надписью вокруг: — Прошу повернуть… Очень приятно в такой фатере жить! Да что, — смотреть на нее и то радостно: один ведь раз'единственный обшит Растоскуевский дом тесом и расцвечен в сиреневый цвет, — дальше до самой реки потянутся немудрые мужичьи избенки, крытые тлеющей дранью, и дворы, насквозь проплатанные соломой.
Реки в тех местах неглубокие, ездить через них полагается вброд. И тут — спустишься под горку на песчаный бережок, подстегнешь лошаденку свою кнутом или по-просту концом вожжей — и готово, на другой стороне поместье дворян Мошкиных — Жеребцы. Полегло оно на возгорьи — из села хорошо видны маковки деревьев и крыши построек. А сблизи — тополя, стриженная еловая изгородь, тонкий лай собаченки… Если едешь мимо, на миг просветится сквозь листву и хвою слинявший бок флигеля, или темные срубы служб, — убогий сенной сарай положит через дорогу косую тень, а под сараем закудахчет пухлая от жары курица… И усадьба останется позади.
2. ЖИТЬЕ ДВОРЯНСКОЕ
В поместьи проживает Анна Аполлоновна. Мужики зовут ее по разному — Таубихой, Морковиной, барыней.
Были времена, когда в поместьи водили кровных английских лошадей, а газоны в квадратном английском парке стригли под гребенку. Но это было давно — долгие годы потом пропустовал огромный конный двор, только в двух денниках доживали последние, пожилые жеребцы. Под конец отец Анны Аполлоновны, очень усатый и решительный человек, продал ненужную постройку на слом — из нее окрестные деревни выстроили в Новом церковь.
Газоны зарастали лопухом и одуванчиками, Анна Аполлоновна из девочки долговязой, с пестрыми карпетками, выросла в невесту, вышла замуж за Ивана Ивановича Таубе. Иван Иванович предпочитал, чтобы жена называла его Гансом, и ему очень не нравилась странная кличка «Жеребцы». Умирая, он горько плакал, скорбя, что хоронить его будет не пастор, а обыкновеннейший деревенский поп.
Времечко бежало не торопясь. Анна Аполлоновна не забывала заказывать в положенные сроки панихиды, старела, растила сына Алешеньку… Все больше темнели и косились на бок дряхлые амбары, конюшни, свинарники, — в парке к лопушнику прибавилась крапива… К тому времени, когда Алешенька кончил гимназию, Анна Аполлоновна была уже совсем старой, сухой и долговязой старухой. Затем началась война.
Двухэтажному барскому дому сотни лет. Выстроен он из кирпича, по старинке, неудобно, — с никчемными закоулками и комнатушками, с длинными коридорами без окон, с винтовыми лестницами, которыми никогда не пользовались… Есть в нем и громаднейший зал в два света — в окнах этого зала давно уже нет ни одного стекла, и черный от старости паркет хранит глубокие следы конских подков: среди Мошкиных был такой чудак, что об'езжал лошадей не в манеже, а здесь.
Сейчас кроме Анны Аполлоновны и Марьюшки в доме никто не живет. Ненужные комнаты заколочены, там мрак от закрытых ставень, пыль, во мраке, окутанные паутиной, тихонько гниют старинные пузатые комоды и кровати шириной в сажень. В мягких диванах, под лохмотьями штофа, вьют себе гнезда мыши, голые мышатки пищат, как птенцы… Пахнет жутко — тлением, смертью и старинными духами, напоминающими ладан.
Анна Аполлоновна — внизу. Там у ней спальня, столовая, гостиная. В гостиной — дешевая карельская береза от Мюра — ее выписал покойный Ганс — и окантованные вырезки из журналов. Жизнь у Анны Аполлоновны похожа на окантовки эти — стекло, картон, клей, некуда податься… Утро — сад, позеленевшая скамья, роса, в книжке галантная французская любовь, — сухонькие руки листают пахучие страницы, от тугой зажимки пенснэ болит переносица… Обед рано. Варит его и подает Марьюшка. В столовой темновато, липы просовывают в окна гибкие ветви. Анна Аполлоновна вяло помешивает в тарелке ложкой, ворчит:
— Вечно ты, Марьюшка, пересолишь все. Не могу я этого супа есть, вот! Сама ешь…
— Ничего не пересолишь, — отвечает Марьюшка: — это вы, сударыня, капризничаете.
В жаркое попал длинный седой волос. Анна Аполлоновна тащит его долго, как нитку, голос у нее дрожит по-детски:
— А это… а это что?
Глаза набухают, около носа показываются слезинки. Марьюшка смущенно отворачивается, но не сдается.
— Что это вы на меня придумываете понапрасну, — говорит она: — и вовсе не мой это волос, сами, небось, обронили. Грешно вам, барыня!.. Врать-то.
Барыня не слушает, прижимает к лицу салфетку, мелкими шажками бежит в спальню — плакать. Марьюшка убирает со стола и громко говорит захлопнутой двери:
— Обиделись… Подумаешь, нагрубила! Подумаешь — волос в говядине… А если и волос? С этого не помрешь.
На дворе надтреснутый колокол созывает работников. Слышно, как перекликаются и хохочут девки. Листья на липах едва шевелятся. Солнце медленно проходит по комнатам и заворачивает за угол дома. Анна Аполлоновна, наплакавшись досыта, обтирает лицо одеколоном «Джиоконда», пудрит веки, садится к шифоньеру. Безбровое лицо загадочно улыбается с флакона, перо повизгивает по бумаге, роняет кляксы.
Милый Алешенька!
Твое письмо получила и много плакала. Слезы душат меня и сейчас, когда думаю о тебе, как тебе много приходится страдать. Ради бога ходи почаще в баню и меняй почаще белье, у вас там должно быть и комнату некому прибрать. Неужели ты не можешь командиру пожаловаться? Ведь нельзя же тебе под землею жить, пусть он устроит для тебя другую квартиру…
Опять в морщинках, поверх пудры, ползут слезы, Анна Аполлоновна сморкается, смачивает виски… Со двора доносится грохот телеги и злобный торопливый окрик:
— Тпррру, стой, стой, прокля… тпррру!
Серенький, атласный листик наполовину исписан. Перо, оставляя на нем следы жидких чернил, скрипит дальше:
…Ты, Алешенька, просишь, чтобы денег тебе прислать, а у меня сейчас нету. Говорила вчера Галактиону Дмитриевичу, он обещал устроить, овес продать и теленка одного, пестренький, мне очень нравился, но мне не жалко, только бы ты не сердился на меня. А Галактион Дмитриевич говорит, что деревенские на поденную не ходят, говорят: «пусть сама молотит». Я велела их всех со двора гнать, если придут. Какие они все грубые! Позавчера в церковь ездила к обедне, так баба одна не хотела меня вперед пропустить, на наше место, я чуть в обморок не упала — до того душно было и обидно. Спасибо Парфен Павлыч увидел, провел сквозь толпу… За что я такая несчастная, на старости лет! Тебя, моего дорогого, сколько времени не вижу и все меня обижают, Марьюшка готовит грязно, всюду у ней волосы, на-зло, знает, что я этого терпеть не могу, такая грубиянка…
Ветер процеживает сквозь грязный тюль гардин густые сизые сумерки, сумерки заливают спальню… Пора зажигать огонь.
3. ДЕНЬ ИДЕТ — КОНТОРА ПИШЕТ
Еще утром послал Галактион Дмитриевич приказчика Никифора за Растоскуевым.
В лавке было пусто. Парфен Палч, убирая с прилавка коробки галантереи, калил Тишку:
— Бессовестный ты, кривой чорт! Когда тебе говорят, — значит должен ты от лавки не отлучаться до самого утра. Теперь народ какой? Им палец в рот не ложи! Им замок подломать — раз плюнуть… Тебе, стервецу, может и ничего, а хозяин страдает.
Тишка молчал — усердно накачивал в ведро керосин. Да что он и мог сказать в оправдание, — если прошлой ночью, вместо караульного сиденья подле лавки, забрался он на огороды — подглядывать через заднее окошко, как раздевается перед сном Парфен Палчева дочка Паня?
— Так его! — подбавил жару Никифор, — оны, лодыри, самые дармоеды и есть, — и, закуривая, передал поручение управителя.
Парфен Палч хмуро выслушал его, сердито кинул на приполок коробку с пуговицами.
— Сходи Прасковью позови, — сказал он, не глядя на Тишку: — А то пока хожу, половину товара упрешь… Сатана одноглазая.
Галактион Дмитриевич ждал в конторе, со скуки рисовал по столу. Растоскуев, здороваясь, степенно пошутил:
— День идет — контора пишет.
Торговались долго, лениво. Парфен Палч равнодушно вздыхал, поглядывая на барометр, так густо засиженный мухами, что под стеклом ничего нельзя было разобрать, — давал по рублю десять, потом накинул гривенник, — телок пошел в придачу. От жирной денежной пачки пахло дегтем и потом. Уже выходя в сени, Галактион Дмитриевич кашлянул:
— Значит по девяносто?
— Как угодно-с, — равнодушно ответил Растоскуев.
…Вечер, лампа, самовар. Единственная чашка одинока на пустоватом столе. Анна Аполлоновна торопливо встает навстречу:
— Ну, что?
— Вот, пожалуйте.
Галактион Дмитриевич передает деньги:
— Сто пудов продал-с. Ввиду срочности по девяносто копеек пришлось уступить… И то еле-еле, — бычка пришлось прикинуть.
Беззубый рот беззубо улыбается, Анна Аполлоновна благодарит, кивает головой, угощает чаем. Лампа горит невесело. Управляющий держит руки под столом, почтительно моргает глазами и жалуется на мужиков.
4. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
Война. Письма солдатские, наборы, гармошка, марки с царями Романовыми вместо серебра. Деревня нищала. Мужиков взамомделишных оставалось немного, девки и подростки — не слишком умело — драли землю чинеными плугами… А Растоскуеву — хоть бы что! Сына нет, бояться не за кого, в лавке народу — не протолкнешь… Одна вот забота — Прасковье найти жениха такого, чтоб стоющий.
Все же войной Парфен Палч интересовался — выписывал «Русское Слово» и, прочитав газетину от начала до конца, еще раз возвращался к телеграммам под рубрикой — «Вторая отечественная война», — аккуратно передвигал на стенной карте флажки.
Мужики, заходя в лавку, любили поговорить, поспрашивать — как, дескать, дела? Пощипывая бороденку — редкая она, хоть волосья считай — отвечал Парфен Палч: — Расшибем его, Гогельцернера, обязательно! — и начинал сыпать польскими городами и местечками, ровно будто пшено курам кидал. Мужики, не понимая чужих тех слов, восторженно охали, крутили головой и матерились вполголоса:
— Расшибем!
Но за восторженной матерщиной, за гоготанием угодливым — крылось трудное, тяжелое недоумение. И каждый, спрашивающий: — как, дескать, дела? — накрепко был привязан к мудреным польским названиям, потому у каждого где-то в нутре непонятных этих имен — сын, брат, или зять… Пахло в лавке ситцами, мочальными кулями из-под соли, керосином. Наторелые Парфен Палчевы руки с треском пороли ножницами блестящий ластик. Паня, не слушая отца, локотилась на конторку, думала о самом заветном своем и дорогом: вспоминала алтарные двери в церкви — архангела с огненным мечом и русыми кудрями… Эх, и надоели же ей все эти новости, местечки, пленные и перестрелки! Тишка украдкой пялил на Парасковью Парафеновну единственный свой глаз, мутный, как селедочный рассол — Паня замечала это, поводила шерстяным плечиком: чего ему, спрашивается, нужно?
Вечером, заперев лавку на три замка, Растоскуев шел домой, пил в палисаднике чай с медом и баранками. В воздухе плавала золотая невкусная пыль, по улице бегала отставшая от стада овца, мемекала, понапрасну старалась найти потерянное жилье. В этот закатный час бабы сходились у колодцев в пестрые кучки — отвести душу.
— Вась, Варварин-то письмо прислал…
— Да ну?
— …хрест ему выдали. А Варвара — убивается, что мне говорит с того хреста, с хрестом, говорит, а ноги нету.
— Да, матушка, да, — какое! Хорошо живой осталси.
— Чего уж хорошего! Без ноги-то.
— Корми его теперя!
— И што ж это, бабоньки, будет? Нца…
— А Никита, Похлебкин, — вовсе без вести.
— Ну, Никит! Никит это что, Никит это ничего, он безродный, об ем плакать некому.
— Растоскуй зато попользовался!
— Все добро к себе перетаскал… Как же, — все как есть.
— Хрестный называется!
Расходились нехотя, в ведрах чуть слышно плескалась вода. Небо становилось глубже и темнее, в палисаднике, за невысоким заборчиком, остывал пустой самовар, сладостно пахли левкои — лиловые и алые. Близилась ночь, в задах, у гумазеев, девки орали песни, к песням приплеталась похабная частушка подростков, мнивших себя парнями, но пели они ребячьими голосами и гармошка неумело отставала от слов.
Засыпало село по-летнему, без огней. В избах после ужина пахло прокисшей похлебкой, крепко жиляли блохи — и часто засиживались мужики у соседа, на ступеньках дряхлого крыльца: напаивая ночь душистым махорочным запахом, осторожно, негромко говорили в темноте. Здесь уже не было дневной, ненастоящей восторженности и часто тлела между спокойными словами готовая вспыхнуть злоба.
— …а теперь замечаю — мало их, совсем не видать. Прежни года возьми: как вечер — летят. Туча! А теперь не видать… Все, брат, туда тянутся, потому им тама приволья…
— Да-а… Приволье им тама: народу-то портют сколько… Страсть! Чего только нет — и ружом его, и штыком, и с пушки, — как на мидведя… Ха!
— А теперь не то еще! Сенька Комаров, с Орешкова который…
— Иван Саввичев, что ль?
— Во-во!.. Так он говорит, таку штуку надумали — газы называется. Вроди дыма. Как дыхнешь его — так тебе и крышка: все груди сожгет. Теи газы еще вреднее.
Смолкали, крепко затягивались, думая о газах, сжигающих грудь. Мешаясь с махорочной приторностью, доходил от дворов отчетливый навозный дух. Глубоким и звучным становилось в тишине дыханье коров.
— И с чего только заводют яе?
— В том-от и штука-то…
— Известно с чего. За землю она происходит, чтобы земли набрать лишнее… А землю разве даром даст кто? Нипочем, брат, не даст — фиг тебе!
— Где уж… И тем-то, небось, неохота, астрийцам-то, — землю-то, говорю…
— В том-от и дело вся!
Церковь жиденьким медным баском отсчитывает десять. Пора… Встают — расходятся по домам.
— Прощай, Семеныч.
— Прощай, — отвечает сосед и задумчиво прибавляет вслед: — А тольки нам от той земли проку нету. Нет, говорю, с ей толку… Нам бы и своей, русской, хватило б…
— Хватить-то хватило б, чего уж!
— Прощай, Семеныч!
Расходились. Каждый думал — хватить-то хватило б, да вот… А за селом, за речкой, холмами и низинками лежало поместье, просторные куски своей, русской, земли. Сизели заросевшие яровые, гречиха стлалась белой простынею, над луговиной клочьями плыл туман…
Паня зажигала лампу, подсаживалась поближе к огню, раскрывала книжку. Десятки сереньких, одинаковых книг — и во всех одно и то же: люди с красивыми именами и лицами, любовь, слезы…
— Эк ее, не начитается никак, — бурчал Парфен Палч спросонья, — да ложись ты, дура!
Паня шла к себе, медленно расчесывая тусклые, рыжеватые волосы, гляделась в зеркальце, думала о том, какое у ней безобразное имя — ни в одной книжке не встретишь такого — думала, вздыхала, покачивала головой: ну, кто полюбит ее — Прасковью Парфеновну?.. Тишка, корчась за коноплями, жадно, не моргая впивался в маленькое окошко — там, за окном обнаженные руки и плечи уплывали из сорочки, сорочка колко отставала на груди… Гасла немощная лампочка. Тишка выбирался из огорода — караулить лавку. А Паня ложилась, ясно видела — прятался в темноте, летней, не очень темной — тот, вычитанный, придуманный, с гордым лицом архангела Михаила, с прекрасным лицом, написанным на алтарных дверях…
— Милый, — шептала она, — ну, скорее… Сладко скрещивала она под одеялом ноги, плотно смыкала глаза, и все ясней, все желанней, близился тот, тот самый он.
5. АКИМ-БОБЫЛЬ
…Осень, зима, война, темные жуткие ночи, длинные, будто и конца им не будет никогда, темные слухи — шопотами передавали их друг другу, рассказывали, что в такой-то вот губернии и волости, такой-то вот проживал старичек, а к старичку тому, что ни ночь, приходил другой старичек старый, и был де тот старый старичек, сам Никола, заступник мужичий, и говорил он… Промеж грузных, лохматых туч висела страшная багровая луна, бабы шопотами рассказывали про Николу, про мертвых солдатиков, что идут по ночам с далекого фронту к родимым погостам… Было жарко и смрадно в избах, на полатях ворочались дети, а в сени ветер наносил сухие вороха сыпучего снега… И, может, в самом деле брели в те ночи, по глубоким российским снегам мертвые люди в солдатских шинелях, несли в стынущих синих руках саперные лопатки с короткими держаками, чтоб лопатками этими, на погосте своего стародавнего прихода, выстроить себе последнее земляное жилье? Подолгу молились бабы ложась, в низких поклонах опускали головы к полу, — но не помогала молитва, потому что не может молитва помочь, когда в письмах солдатских, в каждой корявой строчке прячется трудная солдатская смерть…
Осень, зима, весна, и вот — в дождливую мартовскую ростепель, в серые весенние дни, когда рухнувшая дорога вилась желтым червем по грязному снегу, — впервые разлилось по деревне: «Царя-то… царя-то, батюшку!».
Все было просто, по обыкновенному, привычно — почки на лозинах, рыхлые облака, жидкая кашица из снега и воды на улице… В избах по-прежнему висели подле образниц нелепые лубки, на которых доблестный казак Козьма Крючков одним махом побивал десяток обрюзглых немцев, — колол их пикой и рубил шашкой, похожей на коромысло, — и картинки эти по краям были из'едены тараканами. Все так же возились в духоте полатей ребятишки, — шушукались, засыпали… Но сам Парфен Палч, в газетине все тонкости прочитав, говорил:
— Правда, ребята, правда. Покарал, стало быть, господь.
Потому бабы торопливыми шопотами пугали друг дружку:
— Чтой же теперь будит-то?
А мужики глядели недоверчиво и, хотя накрепко запертое мужичье нутро билось и рвалось наружу, вздыхали:
— Ох, грехи, грехи…
— Каждому, значит, браток, свое…
В лавке, в чайной, говорили про Распутина. Аким-бобыль, только намедни вернувшийся домой по причине контузии в пах, едва успевал рассказывать:
— Форменный бардак развели, что самая эта царица, что дочки ейные — ну так к ему, к Гришке, и бегают, и бегают — просто передышки ему нету. Он на что мастак — с лица спал, все-таки. Ей пра! Одна, говорят, борода оставши… А йимператор-то вроде холуя при ем — сапоги там почистить, або еще что… Ну, все-таки, посмотрели на это сурьезно, лавочку тую самую прикрыли, будет наместо ей кальцоная правительство, временная…
— Эх, и ссука же, — обрывал Растоскуев, с ненавистью глядя на кусочек кумача, прицепленный к Акимовой шинели: — гогочет, сам не знает с чего… Плакать нужно день и ночь, вся Россия, может, пропадет через это, из-за кальсонов этих самых, а они и рады. Тьфу!
— Какое! — поддакивали мужики, — разве можно?
Аким, не смущаясь, вытирал потную рожу:
— Не пропадет, гляди… А я что — не сам, небось, надумал, как люди, так и я.
Весна крепла. Утрами обогревались крыши, курились белесым паром. На огородах, сквозь рыхлые остатки снега, пробились черные, вязкие горбовины гряд. Аким ставил на реке заездки — ловить щук — заколачивал колья, наваливал к ним еловых лапок, каждый день вымокал насквозь… Перед Пасхой, в страстной четверг, приехал из города член какой-то. Выглядел он чудно: лицо красное, с синью, волос же на нем седой, стриженый; казалось, будто губы и подбородок вымазаны густой сметаной. На сходе он долго говорил о войне, о доблестных союзниках. Потом выбирали комитет. Дело шло к вечеру, многие торопились в церковь, евангелья слушать — крика и споров не было, только Аким полез спрашивать, когда войне конец, на что получил ответ:
— Товарищ! Наш революционный долг довести войну до победы.
В комитет выбрали Парфен Палча. Весна прошла незаметно скоро, отсеялись, взялись за навоз. Стояли горькие сухие дни, навоз, раскиданный на парах, пересыхал в солому, девки и подростки запахивали его чинеными плугами… Мужики постепенно, издалека, обиняками, заговорили о поместьи. Косились и на Растоскуева — тоже нахватал себе порцию! Аким поджигал:
— Власть, скажим… Николашку этого сковырнули. Ну, ладно! Был у нас старшина — исделался комитет… А выходит, что это дело особая — комитет, а в комитете, все-таки, Растоскуй… Мы тоже понимаем кой-что…
Аким задирал бороду, выставлял вперед растопыренную ладонь — неожиданно вскакивал, орал, брызгаясь слюной:
— Задни низинки у Таубихи кто укупил? Почему такое я не могу купить, а он может? Мы зна-ем!
6. ТАБУН
Парк ронял последнюю, октябрьскую листву, измокшие крыши глядели жалобно и скользко. Усадьба совсем замерла — даже собаченка Фроська околела и некому было больше лаять на проезжающих мимо.
Анна Аполлоновна, совсем сбитая с толку, до самой темноты просиживала в гостиной. По стеклам бежали извилистые потоки воды, — казалось, что в окна вставлены большие куски плохо-прозрачного желатина. Пахло сыростью и тлением, в гостиной и во всем доме было холодно, пусто, тревожно, ни на минуту нельзя было позабыть, что от Алешеньки уже больше месяца нет писем. Иногда сквозь тревогу проступала коротенькая, дикая, невозможная мысль — это бывало так страшно и так похоже на правду, что Анна Аполлоновна крепко закрывала глаза, а руки и ноги у ней цепенели… Наконец, выдался ясный день. Кутаясь в плюшевую накидочку, Анна Аполлоновна вышла на крыльцо. Ледяной ветер сильно и резко ударил в лицо, она заторопилась, поспешно спустилась по ступенькам на плотный гравий дорожки. Дикий виноград смятыми обрывками свисал со стены, цветные листья осин и кленов быстро неслись над землей, взмывали кверху, к огромному, совсем пустому небу, — было в парке светло и просторно, потому что деревья были по-зимнему голы. И под ровный ропот голых ветвей никак не могла отогнать от себя Анна Аполлоновна липкие мысли, похожие на правду… В дальнем конце, подле невысокого обрывчика, густо разрастался рыжий шиповник. Маленькая птица клевала яркие ягоды и пищала коротеньким писком, вспорхнула — тотчас же ветер отшвырнул ее далеко в сторону.
Отсюда, сквозь стеклянную прозрачность ветра, хорошо было видно село, рябую полосу реки, бурое после дождей разлужие и… — по лугу бродил разномастый мужичий табун! Увидев его, Анна Аполлоновна вмиг позабыла все тревоги свои и страхи — вот, вот до чего дошло! Перед самой усадьбой, на самых глазах! Заторопилась домой, сжимала руки в злые кулачки… Галактион Дмитриевич почтительно выслушал жалобу, кашлянул.
— Что же теперь поделаешь? Я еще третьего дни видел, говорил им. А они смеются — скоро, говорят, в огород погоним, на господскую капусту… Один так и орет — не ваш, небось, луг, теперь вашего ничего нет!
Анна Аполлоновна в недоумении уронила на колени пенснэ.
— Как то-есть не наш? А чей же? Вот новости!.. Немедленно же прикажите загнать всех лошадей и… Вообще я не понимаю…
Управляющий пожал плечами, промолчал. Злой кулачок стукнул по столу.
— Что же вы молчите? Господи, что за наказанье мое… Ну, идите же, распорядитесь, рабочих пошлите. Ведь не могу я сама с мужиками драться!
7. ЗАБИНТОВАННАЯ ГОЛОВА
— Хм… Драться!.. Чего захотела, — бормотал Галактион Дмитриевич, спускаясь к реке, — нет уж, дудки! Подерись с ними…
По дрожащим лавам перебрался он через реку, — еще издали услыхал громкий говор многих голосов. Перед комитетом сидел и стоял сход.
— Нет, это что, — орал Аким, натуживаясь до красна, — мне, может, на твое учредительно собрание начхать! Нам ждать некогда! Ты мене не говори! Ты с себя образованного не выставляй!
— Аа-ии-ооо! — ууу-ю! — е-ооошь! — на разные лады стонали и ревели мужики.
Аким, бестолково размахивая руками, продолжал кричать:
— Тебе две тыщи лет ждать можно, у тебя земли до пупа, у тебя Задни Низинки одние на десять дворов хватит…
Галактион Дмитриевич, подходя, вежливо снял картуз, этого никто не заметил, и он присел в сторонке. Парфен Палч тщетно старался перекричать сход, — голос его пропадал в гаме и крике.
Далекие ямские бубенцы приблизились, но тоже не были слышны — только когда поровнялась пара с комитетом, — заметили ее, подвязанные хвосты лошадей, тележку на железном ходу и, в тележке, человека в офицерской шинели без погон.
— Здорово, братцы! — кинул он простуженным, очень громким голосом. Говор стал затихать, с голов слезали шапки: — Ляксей Иваныч, — отчетливо шепнул кто-то в задах. Бубенцы забулькали дальше, из-под колес брызнуло грязью, и все сразу увидели, что голова Алексея Ивановича забинтована.
— Вот, граждане, человек страдал, отечество свое защищал, — заторопился Растоскуев, — раненый теперь, а вы к его имуществу подбираетесь.
— Знаем мы, как они страдают! — огрызнулся Аким. Но мужики молчали.
Галактион Дмитриевич встал:
— Вот что, братцы… Мое дело сторона, я не хозяин, я в ваш интерес не мешаюсь… А только должен вас предупредить на счет лошадей — Анна Аполлоновна велят загонять их на двор.
Мужики молчали. Парфен Палч перебирал бумаги. Аким дернулся, быстро закипая, брызнул слюной:
— За-гнать? Ты что? Чтоб духу твово… Гнида!
— Ну-ну, — трусливо замахал руками Галактион Дмитриевич, — что ты, что ты… Чудак-рыбак, — я сам же вас предупреждаю… Мое дело маленькое, я человек нанятый…
Сход вяло расходился. По улице несся ветер, холодный, густой, октябрьский.
8. ЧТОБ Я СДОХ!
Анна Аполлоновна тряслась мелкой счастливой дрожью, прижимала к лицу платочек, — из-под платка выглядывала беспомощная улыбка и смятый морщинами подбородок.
— Ничего, Алешенька, ничего, я сейчас…
Алешенька нетерпеливо кинул фуражку:
— Мама, ямщику нужно заплатить.
Бородатый мужик, только что внесший чемодан, крякнул, шевельнулся. Голые ветви лип сильно и звонко стегали по окнам, по полу расплывались палевые солнечные блики. Анна Аполлоновна молча, беспомощно улыбалась, — улыбалась, прятала лицо, седые желто-серые волосы растрепались в жидкие косицы.
— Мама! Ведь ждет же человек!
Анна Аполлоновна тоненько, забавно пискнула и села в кресло, склоняясь к столу.
— Господи! Чтоб я сдох! — грубо выкрикнул Алексей Иванович, махнул рукой и, уже стыдясь своей грубости, вышел в сад. Ямщик, конфузливо переминая в руках шапку, поплелся за ним. Метались и трепетали голые ветви, зеленая дождевая вода в кадке рябилась крошечными волнами… Матовый партсигар с звериной мордой на крышке тускло блеснул в протянутой ладони.
— На, возьми. Серебряный.
Ямщик взял, долго глядел на волосатого зверя, нерешительно спросил:
— Что ж ето лёв, или лисица, может? — потом тихонько вздохнул: — мамаша-то расстроилась как… — и отдал портсигар обратно:
— Ладно уж, чего уж… Пускай за вами будет.
Алексей Иванович недоумело глядел ему вслед, — бритое его лицо багровело стыдом. Ямщик вышел в калитку, видно было, как он зануздывал коней, боком садился на грядку тележки… Алексей Иванович яростно кинул серебряную штучку в кусты и твердыми шагами вбежал по ступеням.
— Мамочка, бросьте, не нужно.
Он придвинул стул, сел рядом, положил руки на сгорбленные материны плечи — Анна Аполлоновна затихла. Марьюшка собирала на стол, хрустальные блюдца нежно пели в ее руках… С детства знакомые китайцы гуляли по чашкам и сахарнице.
Пили чай. Анна Аполлоновна изредка судорожно вздыхала, говорила робко. Сын казался ей теперь каким-то чужим… Но несвежая марля бинта и глубокие синяки под глазами будили едкую жалость. Алексей Иванович пристально размешивал сахар и об'яснял:
— Так, пустяки. Давно уже… Ушиб, самый обыкновенный ушиб.
Он долго отнекивался — ерунда! — и не давал переменить повязку. Когда из-под нее показалось посинелое размозженное ухо и широкая ссадина на голове — Анна Аполлоновна снова заплакала, еле сдерживаясь, обмывала разбитое место бурой… И, конечно же, нельзя было сказать ей правду — рассказать, как в Брянске, на вокзале, солдаты маршевого эшелона били своих и чужих офицеров, — как молодой парень в засаленной телогрейке ударил Алексея Ивановича тяжелым медным чайником… И, делая вид, что ему совсем не больно, он улыбался и постукивал по скатерти ложечкой.
9. ЧУЖИЕ
Снова начались дожди. Блеклое небо разворачивалось низко, над самыми деревьями. Марьюшка топила в столовой дымную, еще не обогретую голландку. Ежась от холода под клетчатой шалью, Анна Аполлоновна раскладывала пасьянсы; когда к ней заходил Алешенька, она ласково улыбалась ему и спрашивала, приглядываясь к картам:
— Тебе не холодно? Я вот смерзла совсем.
— Нет, ничего, — отвечал тот, тоже стараясь быть ласковым. Мать раздражала его, и в гостиную заходил он редко — почти все время проводил наверху, раскрыл ставни, пачкаясь в паутину, шагал по комнатам, напевая из «Гугенотов»:
— У Карла есть враги… Трам!
Красное дерево с резьбой и бронзовыми украшениями, золоченые рамы тусклых, умирающих зеркал, — на подоконнике, сваленные беспорядочной грудой, дагерротипы в плюшевых рамках… По мутным пластинкам расплывчатыми пятнами мерещились лица чудно одетых людей, — нарастала горькая злобная зависть к дедам этим и теткам, прожившим давнишнюю свою жизнь так уверенно и покойно, — ненависть к России громадной, чужой, глухо-враждебной. Ощутимей становилось наступающее со всех сторон неизбежное — ныло оно под повязкой, солдатом в куцой стеганке, орало мужицким сходом; глядело в окна крышами недалекого села, стадом на Жеребцовских зеленях… Вчера Марьюшка рассказывала про работников, толковавших в людской, что «таких нынче бьют» — и вот сейчас парни, что пилят подле погреба дрова, кажутся уже не знакомыми, привычными Семеном и Петькой, а чем-то безличным, выжидающим, готовым бить… Напевая машинально про Карла, шагал Алексей Иванович по комнатам — зависть и злоба сменялись тугим, холодным страхом:
— Господи! — шептал он озираясь, — господи, за что?
Жаркая жалость к себе затопляла глаза слезами, но, наткнувшись глазами на зеркало, видел он свое жалкое, голубое лицо — приходил в себя, успокаивался, льнул лбом к ледяному оконному стеклу. За окном — серенькие, сплошные тучи, дождь, голые деревья… Потому вспоминалось — остатки деревень, ватные дымки шрапнелей, обозы, — податливые девчонки из перевязочных и госпиталей, с полинявшими крестами на рукавах и косынках, и молчаливые взгляды грязных людей в шинелях, провожавшие автомобиль, на котором он ехал «в штаб». Был грязный мокрый день — точь в точь, как сегодня. Затасканная машина медленно пробиралась по искалеченной дороге. Навстречу шла из резерва какая-то часть, взмокшая, насупленная, а он, не обращая внимания на молчаливые, тяжкие солдатские глаза, жался спиной к пикованному задку, тащил к себе на колени хохочущую Нину Николаевну — и целовал ее дряблую шею, раздвигая влажным от дождя подбородком воротник пальто и кофточки… Фронт, тыл, негодные консервы, вши… Потом революция, города, вокзалы… но нет, только не это! — из развороченных, клокочущих городов бежал Алексей Иванович сюда в последней надежде найти покойный закоулочек. И опять вспоминалось — давно, в гимназические еще годы — приходили мужики в усадьбу, просили уступить им какой-то кочковатый кусок земли; они толпились в дальнем конце двора, может быть, говорили между собой, но их не было слышно — только лысый старик с зеленоватой бородой, стоя без шапки под окном столовой, все кланялся, все шамкал: — Што жа, мы миром… Мы, матушка, миром прошим. Нам беж той нижинки никак нельжа… — но низинку ту продали не им, а Новскому лавочнику, как его — Парфену!.. Многое вспоминал Алексей Иванович, прижимаясь лбом к нагревшемуся стеклу, и все яснее чувствовал — ближе, тяжелей, неизбежней нависает тяжелый, близкий груз — от него за комод не спрячешься. — О-о-о! — стонал он вполголоса и озирался, а из зеркала смотрело мертвое, голубое лицо, пересеченное повязкой…
За пыльными стеклами шкапов таились плотные ряды книг. Алексей Иванович распахивал скрипучие, разбухшие дверцы, быстро писал по пыли: конец, конец, конец, — смеялся глупым, деревянным смехом; грязный налет собирался на озябшем пальце, он вытирал руку об штаны и наугад вытаскивал с полки книгу. А за обедом, делая вид, что ему ничуть не страшно и даже весело, рассказывал про какое-нибудь «письмо к главному черному скопцу» из Монтескье… Экземпляр русского перевода 1792 года, с шершавыми, желтыми страницами, с переплетом тверже дерева, был — возможно — единственным, оставшимся в живых.
Когда же Анна Аполлоновна ненароком заговаривала про войну или революцию, сын отвечал, морщась:
— Да перестаньте вы, пожалуйста!
И Анна Аполлоновна спешила, боязливо соглашалась:
— Не буду, не буду — я так.
10. ЗАПИСНАЯ КНИЖКА
Озябнув от долгого сиденья в нетопленных верхних комнатах, Алексей Иванович спустился вниз. За последнее время он по многу нездорово спал днями, и сейчас его клонило ко сну. Внизу, в коридоре топилась печка и было так сумеречно, что острые иглы, пробившиеся сквозь щели дверей, становились розовато-заметными.
— Среди них Генрих сам! — запел Алексей Иванович, вздрагивая и ежась, совсем было завернул к себе, но, проходя мимо столовой, услышал:
— …он деревенских-то боится, вот и лебезит перед ними. А с того неприятность одна. Разве можно?
И вошел. Подле стола, нескладно уложив на коленях широкие, как сковороды, ладони, сидел Растоскуев. Алексей Иванович кивнул ему — сел, прислушиваясь к рассказу.
— Народ и то волнуется. У меня земли что же — пустяки, а они орут — на десять дворов хватит! Что ж я теперь за свои денежки и не хозяин? А Галактион Дмитриевич еще больше мутит, что против меня, что против вас…
Анна Аполлоновна повернулась к сыну:
— Что же это, Алешенька? Ведь он жалованье получает, я ему так доверяла… Ведь все хозяйство на нем, положительно все! Может быть, вы, Парфен Павлович, шутите?
— Какие ж тут могут быть шутки! Тут шутки плохие-с. Мужик ведь что? — Хам. Он с превеликим удовольствием, в любой момент… Разве он что жалеет?
Растоскуев вытащил из кармана растрепанную записную книжку в коленкоровом переплетике, листая жирные страницы, продолжал:
— И доверяете вы ему напрасно. Разве можно такому, извините, доверять? Если угодно, я вам нарочно об'ясню: я через него у вас хлеб покупал, сено, кожи там, лен… Так вы займитесь, проверьте — обязательно он половину к себе в карман клал. Если желаете посмотреть…
Алексей Иванович потянулся к вырванному из книжки листику, брезгливо захватил его концами пальцев. Неровные буквы отмечали: 5 ф. сена клеверного 2 воза. 14 ф. еще сена лугового воз 1. 26 февраля лен старый разного номера 9 пуд. 28 ф. и ржи сыромолотной 80 мер… Дальше — март, апрель, овес, кожи сырые… Сбоку была проставлена цена.
— Вы оставите эту записку?
— Как же-с, как же-с, пожалуйста, — ответил Парфен Палч, кланяясь, и простился, не решившись подать руки.
11. ХОЗЯИН
На следующее утро Алексей Иванович собрался в контору. Уже одевшись, в шинели и шапке прошел он в свою комнату за папиросами. Доставая свежую пачку, он наткнулся в чемодане на кобуру, колеблясь повертел ее в руках и сунул браунинг в карман.
Осклизлая тропинка пролегала через двор, мимо луж и двойных коровьих следов, налитых водою. Сыпался мелкий сухой дождик, делал лужи шершавыми. Подле скотного приказчик Никифор и молодой скотник в изнавоженной рубахе сбрасывали с телеги капустный лист, ломкий, сизый. Никифор молча снял картуз, парень же только глянул — нахально и весело — и не поклонился вовсе. Алексей Иванович хмурясь, сильно стискивая зубы, прошел мимо — следом покатился веселый, вызывающий смешок. Дверь в контору была заперта.
— Чорт! — выругался он. Но из флигеля, на ходу поднимая воротник пиджака, уже выбегал управляющий.
— Мое почтение, здравствуйте, сию минутку отопру, — говорил он, угодливо улыбаясь и без толку суетясь: — делами интересуетесь?
— Да, — холодно ответил Алексей Иванович, проходя в сенцы, — будьте добры показать мне книги.
В конторе было пусто, неприбрано, мрачно. Галактион Дмитриевич едва заметно пожал плечами и уставился в угол — в углу висела икона.
— Какие ж у нас книги! У нас книг никаких не ведется… Хозяйство ведь самое простое-с.
— Да? Ска-жите пожалуйста! — Алексей Иванович нетерпеливо постукивал сапогом о перекладину стола, и голос его был нарочно спокоен: — так, значит, ни одной книги и не ведете?
— Кассовая разве… Так она дома у меня, на квартире.
— Дома?.. Ну, что ж, принесите.
Барометр, бумажки на гвоздике, образ. По простому еловому столу — кляксы, росчерки, какие-то рожи… Алексей Иванович долго рассматривал их — и едкое раздражение его росло. Совсем позабыв о постоянных своих страхах, думал он только о деньгах — погоди ты у меня!.. Когда, наконец, управляющий принес тоненькую книгу в зеленом с разводами переплете — он молча взял ее, вытащил из портмонэ грязный растоскуевский листочек — читал и постукивал ногой.
— Ну-с, что вы скажете? — спросил он.
Галактион Дмитриевич недоумело склонился над столом:
— На счет чего-с?
— А вот на счет записей этих… Это что?
Галактион Дмитриевич выпрямился и ничего не ответил. Глухо захлопнулась книга. Алексей Иванович встал:
— Разговаривать с вами долго я не стану. Того, что вы успели, — он сделал коротенькую паузочку и отчеканил, — на-во-ро-вать! — не вернешь. Но делать вам здесь больше нечего. Понятно? Можете сегодня же отсюда убираться.
Галактион Дмитриевич молчал. От недавней его угодливости не осталось и следа, — он поигрывал скулами и сопел носом. Молчание это будто кнутом стегнуло Алексея Ивановича — вспоминая парня в изнавоженной рубахе, он бешено заорал:
— Вон!
Глаза желтовато-серые, с коричневыми крапинками, сузились насмешливо и нагло, голос был тоже насмешлив и нагл:
— Никуда я уходить не собираюсь… Можете не кричать, все равно я вас за хозяина не считаю. Неизвестно еще, кто раньше… — он не успел кончить: книга в зеленой папке сильно и отчетливо ударила его по щеке, он качнулся в сторону, не скоро приходя в себя, сжал кулаки… Прямо на него, напряженным круглым взглядом, глянула плоская синяя сталь.
— Ну? — шагнул вперед Алексей Иванович, — марш!
Галактион Дмитриевич растерянно выпятился в сени, повернулся и трусливо втягивая голову в плечи, заторопился к флигелю.
12. ВОТ ТАК КЛЮКВА
Бобылья жизнь — срамота одна… Ну, годится разве мужик печку топить, или стирать собственные свои порты? А тут вот, хочешь не хочешь, — делай…
Но за веселость, за бороду светло-желтую, за непокойный нрав — любили Акима все, и бабы часто забегали к нему — хлебы затворить, прибраться, или еще там чего-нибудь по бабьей своей части, а мужики подолгу сидели у него вечерами, говорили про войну, про учредилку, про землю.
О поместьи, о Таубихе говорил Аким с такою злобой, что мужики только сплевывали:
— Эк, корежит-то тебя!
— Бить их нужно, вот что! Пока не изничтожим их всех — ни хрена не получится… ха! В их, в барынях этих, самая зараза.
— Ну-ну, — возражал кто-нибудь посмирнее, — нам барыня-то ничего. Нам землицы бы, это правильно, а барыня что ж… Пускай себе проживает.
— Землицы, землицы, — кривлялся Аким, от злости просыпая из кисета табак. — А хер не хошь? Не хошь?.. Ну, тогда и не говори!.. От ей землю зубом не вытянешь.
— Это конешно, — соглашались мужики.
Но Акима уже не остановишь:
— Оны только вот мужика давить, — захлебывается он, — Таубиха, она мать его, чорта, расселася как жаба, она, стерва, в церкву и то пешком не дойдет — каких кобылиц для нее запрягают… А я, — а я, может, лошади во всю жизню не имел!
* * *
Аким сидел подле печки, не торопясь щипал лучину, тяпая косарем, напевал любимую свою солдатскую песню:
На возмо…орьи мы стояли, На Ерманском бережку…— начинал он тонким, сдавленным голосом и сам себя же подхватывал баском:
Да на возмо…орьи мы глядели, Как волнуется волна, да на Возмо…Галактион Дмитриевич постучал в окошко и приложился к стеклу — темно в избе, ничего не видать. Аким подошел.
— Чего нужно?
— Зайти хочу.
— Заходи, кто тебе не велит! — Чиркнул спичкой, полез в печь с головой. Галактион Дмитриевич присел на табурет, не зная, с чего начать, сказал: — дым-то какой… Печка у тебя, говорю, дымит!
— Ничего, брат. Это вам, может, обозначаит, если ты такой благородный, а мы привычны…
Помолчали. Седенький хворостяной дым заволакивал избу; становилось еще неприветней. Аким налил в чугунок воды, достал из залавка ножик.
— Ну, как ты, с барыней своей, надумали чего? — спросил он, принимаясь чистить картошку: — небось в город пишете, бумагу насчет нас, что мужики коней на господскую землю гоняют?
Аким засмеялся и подмигнул:
— Не выйдет, брат, ваша дело ни фига! Теперя стражников этих самых нету.
Галактион Дмитриевич обиженно замахал руками:
— Что ты, что ты, я на это не согласен. Я сам против них иду… Да что! — ушел я из поместья, вот!
Аким даже ножик уронил:
— Как так ушел?
— Очень просто! Не желаю ихние интересы соблюдать. Хватит с меня — поездили на нас.
— Врешь, небось?
— Чего там врешь… Квартиру себе подыскиваю. — Галактион Дмитриевич опустил глаза, внимательно проследил таракана, бежавшего поперек пола. — Хочешь, к тебе с'еду?.. А?
Аким выпучил глаза, — вот так клюква!
13. ПАНИНЫ МОЛИТВЫ
Крепкий осенний мороз накрепко сковал дорогу, твердые каменные кочки угловатыми глыбами застыли вдоль дорожных колей. Старый фаэтон прыгал по кочкам — в сломанной рессоре было зажато березовое полено. Анна Аполлоновна охала:
— Ох, не могу…
— Ничего, сейчас доедем, — успокаивал ее сын, стараясь быть ласковым… У ограды попался Растоскуев. Рядом с ним шла Паня — черная бархатная шубка и тонкий от мороза румянец делали ее вялое, круглое личико красивей и моложе.
— С праздником вас, — сказал Растоскуев, подбегая помочь.
Анна Аполлоновна, опираясь на его руку, выбралась из фаэтона:
— Какая у вас дочка красавица!
Паня потупилась, не выдержала — подняла глаза, и тотчас же румянец ее стал горячее и гуще: бритый, немного припудренный, с тонкими губами и черной повязкой на голове, сжал ее неподвижные пальцы:
— Здравствуйте.
Жадно ощущая крепкий и четкий бой сердца, Паня отняла руку и совсем застыдилась. С колокольни, оглушая своим медным грохотом, грохнули колокола. Парфен Палч торопился договорить: — …сюда на село перебрался к Акиму-Бобылю… Ужасный подлый человек Аким этот самый… — но вошли в церковь, и он смолк. Служба только началась.
Церковь постепенно полнилась людьми. Уютно пахло растопленным воском и ладаном. Анна Аполлоновна крестилась мелкими частыми крестами, иногда присаживалась на венский стул, нарочно для нее прислоненный к стене. Паня стояла немного позади — глядела на архангела Михаила с нежным и гордым лицом, — потом на синевато-серую шинель — офицерскую, но без погон.
14. САПОГ И ТУФЛЯ
— Эх-хе-хе!.. В церкву, что ли, сходить? — Аким, громко расчесывая под рубахой живот и грудь, спустил ноги на пол, сказал задумчиво:
— Не одна меня кусает, — знать, их много завелось…
Изба его выглядела по иному: в углу — широкая железная кровать, в простенке между окнами квадратное зеркало… Да и мало ли чего еще понавез с собою Галактион Дмитриевич?
— Пойдем, Митрич, помолимся, фиг ли так-то сидеть! Тама народ все-таки, хоть в сторожке посидим, покурим.
— Нет, не пойду, ну ее… — ответил Галактион Дмитриевич. — Я вот побреюсь сейчас.
— Ладно, брейся, шут с тобой, — согласился Аким.
Он ушел. Нежная белая пена таяла и оседала в мыльнице, в зеркале, прислоненном к оконной раме, вставало наполовину обритое лицо. Намыливая щеки во второй раз, Галактион Дмитриевич машинально глянул на улицу и, в удивлении, мазнул кисточкой по уху: по улице, пробираясь вдоль изб, шагал странный какой-то солдат, — полы его шинели были подоткнуты за пояс, ноги были обуты по разному — одна в сапоге, другая в стоптанной лазаретной туфле… На голове, сваливаясь на затылок, сидела лохматая козья папаха, а за плечами торчала винтовка — на штыке, подцепленный за ушко, висел второй сапог.
— Что за фигура? — подумал Галактион Дмитриевич, присматриваясь к солдату, и вдруг узнал в нем Никиту Похлебкина, который числился пропавшим без вести… Мгновенно вспоминая, что Растоскуев перевез к себе все Никитино имущество, а скотину даже пораспродал, покачал головой, — будет сегодня дело! — Поспешно добрился, впопыхах обрезал подбородок и, не обращая внимания на проступающую кровь, начал одеваться.
15. КРЕСТНЫЙ ПАПАША
Служба кончалась.
— Давай подождем, пока посвободнее станет, — сказал Алексей Иванович матери, отходя от креста.
Анна Аполлоновна кивнула головой, опустилась на стул, пряча просфору в рыжую норковую муфту.
Народ плотно напирал к амвону. Растоскуев тушил свечи, собирая их на круглое медное блюдо с облезающим серебрением. Паня, искоса поглядывая на Алексея Ивановича, протискивалась к дверям, — тот перехватил ее взгляд и подошел:
— Куда это вы торопитесь?
Паня остановилась, в замешательстве теребила меховую опушку рукава, а он продолжал:
— Погодите, вместе выйдем.
Рядом недружелюбно зашептались какие-то старухи, кивали в их сторону.
Не зная, что делать, Паня отошла к стене:
— Грех это. Нельзя в церкви разговаривать.
Около стены было пусто. Трехрукая богородица выглядывала из смятых складок зеленеющих медных риз. Паня растерянно остановилась, покраснела:
— Мне нужно поскорее… Папаша сейчас домой вернется, нужно его чаем поить…
— Ничего, успеете еще… Давайте лучше поговорим.
Алексея Ивановича сладко томила нежная кожа ее лица и пухлые, как у девочки, губы.
— Как вас зовут? — спросил он негромко.
Вот оно!..
— Прасковья… — с трудом выговорила Паня, закрывая глаза и пылая от стыда за свое «безобразное» имя.
— Значит Паня? Вот хорошо!..
… Как четко и больно колотится сердце! Как это не похоже на строгого ангела с гордым лицом! И конечно же он — этот бритый, немного припудренный — не похож на того, другого, придуманного, снящегося по ночам…
Пахло едким, тлеющим фитилем, церковь пустела. Анна Аполлоновна поднялась:
— Пойдем, Алешенька.
Гулкие отзвуки шагов взлетали с каменного пола к невысоким сводам.
На паперти их догнал Растоскуев. Небольшая толпа, собравшаяся подле ограды, при виде его с легким говором раздвинулась, из нее вышел странный солдат, прихрамывающий на левую ногу — ту, что была обута в туфлю.
— Папаше хрестному! — сказал он.
— Здравствуй, — ответил Парфен Палч, — откуда это ты?
— Откуда?
Никита пропустил мимо себя Анну Аполлоновну и усмехнулся. Паня испуганно поглядывала то на него, то на отца. Алексей Иванович тоже остановился и спрятал руки в карманы шинели.
— Из городу Москвы, папаша… Специально явился отблагодарить вас, что хозяйство мое сберегли в справности! — Никита усмехнулся еще раз и заговорил громче: — Следоваит вам, конечно, за такую вашу заботу разбить всю твою поганую рожу… Но слишком даже хорошо известно, что с тебя другого ничего ждать нельзя, как есть ты мародер-кулак или попросту капиталист…
Мужики загоготали. Растоскуев строго кашлянул и спустился с лестницы на землю.
— Орать тебе здесь не приходится, — сказал он: — ежели ты вернулся, забирай свое добро и молчи. А за кобылу свою можешь деньгами получить.
Толпа насторожилась, и смех сгас. Похлебкин поправил ремень от винтовки:
— Так-с, папаша, правильные твои слова… Но, между прочим, мы еще с тобой поговорим впоследствии.
Алексей Иванович наскоро простился с Паней и пошел к экипажу. Фаэтон запрыгал по кочкам к реке, на реке уже устоялись прозрачные, хрупкие закраины. Сквозь голый парк белели стены дома.
16. НАКАНУНЕ
Паня читала до сумерок. Когда в залике затемнело, она перешла к окну, боком села на стул и продолжала листать страницы, приглядываясь к мелкому, скверному шрифту, пока не заболели глаза: тогда она положила книгу на колени — книга свернулась слабым желобком, налилась синью, сквозь синь едва заметно виднелась надпись на обложке — «Тайны монархов». Сидеть на стуле было твердо, неудобно, между тем как рядом выгибалась спинка покойного, мягкого дивана. Но Паня не видела дивана и не думала о нем. Монархи, вместе с тайнами своими — утонули во тьме, вместо них плавало бритое, припудренное лицо… В соседней комнате сипло спал Парфен Палч, пестрая брюхатая кошка беспокойно бродила по полу, чуть слышно мяукала…
Вдруг резко заверещал замок. Паня встрепенулась. — А если это, — быстро подумала она вскакивая, — если это… — В сенях было морозно, она молча отстегивала тяжелый крюк и руки у ней дрожали — от холода, что ли. За дверями была плотная колючая ночь и Акимова скороговорка:
— Парфен Палча общество требует, в Никитиной избе сидят, скорей, наказывали, чтоб шел.
Паня вернулась в залик, зажгла лампу и принялась будить отца. Тот сопел, кашлял, говорил в полусне:
— Сейчас… Отстань ты… Сейчас! — потом встал и щурясь вышел к свету.
— По какому делу? Сход-то?
— Не знаю, не говорил он.
Паня машинально подхватила кошку, затеяла было чесать ей шею. Парфен Палч натянул пиджак. В это время опять зазвонили.
— Вот не терпится окаянным! — сказал он досадливо.
Паня лениво бросила кошку в кресло.
— Кто? — громко спросила она на этот раз.
— Свои!
Голос был веселый, слишком даже пожалуй веселый, знакомый. Крюк соскочил и лязгнул о косяк.
— Пожалуйте…
Колючая ночь, слабый огонек напротив, с другой стороны улицы, тьма. Радость или страх? Не поймешь… Алексей Иванович шагнул в сенцы.
— Ах, это вы! — деланно удивился он и, будто не находя в темноте Панину руку, воровато тронул ее грудь.
Паня шарахнулась в сторону, замерла, — но он уже входил в залик, — сбивая с фуражки твердый бисер изморози, говорил:
— Скучища дома — ужас! Я и решил зайти. Ну, что у вас новенького?
— Новенького? — повторил Парфен Палч, придвигая стул, хотя их было поблизости достаточно, — да что ж, хорошего мало… — Он, быстро напитываясь злостью, пожевал губами и фыркнул. — Как в городе желают, по городскому… Ххм!
— Как же это?
— А вот так само! — уже по настоящему злясь, ответил Парфен Палч. — Никита, крестник мой расчудесный — красную гвардию видишь ли устраивает… Тишку моего сманил… Ххм! Нашел тоже красного гвардейца…
Глаза его были мутны от недавнего сна и от бурой стариковской крови. Он махнул рукой, взялся за чуйку:
— Вы уж извините, итти мне нужно, сход опять собирают. Может, вы с Прасковьей моей посидите пока?
Алексей Иванович сдержанно наклонил голову:
— Что ж, я с удовольствием.
И, в то время, как притихнувший сход слушал просторные, нескладные Никитины слова — в простоте, нескладности понятные и нужные всем — в то время, как Аким, весело крутя бородой, матерился и бестолково орал: — Правильно-о! — а Галактион Дмитриевич, неожиданно в товарища Сивохина превратясь, увивался вокруг мужиков, пока вызревало совсем уже близкое завтра, — в залике растоскуевском попискивала лампочка, говорил Алексей Иванович — пустяки какие-то говорил, — сонно мурлыкала кошка… Часы тикали, тикали, тикали, тикали, — надоедно, неумолчно, будто гвоздики заколачивали… Половики лежали на желтых, прекрасно окрашенных полах, от желтого керосинового света полы казались сейчас темными, на стуле слабым желобком свернулась книжка… В желтом керосиновом полумраке Панино округлое личико становилось безбровым, похожим на этикетку с флакона, где тоже улыбается округлое, безбровое лицо… Тяжко, быть может, мучаясь, умирая, — умер придуманный — давно для чего-то придуманный — тот с алтарной двери и с серых страниц книжонок… Может быть, он и не умер даже, но Паня знала, что его нет, что его не будет: Панины щеки горели, как на морозе — четко колотилось сердце, и губы — в тени от бумажного абажура — казались черными. Часы пробили десять, Алексей Иванович, так и не тронув черных тех губ, сказал напряженно весело:
— У меня мама такая стала чудачка — всего боится… Как вечер — она уже и просит, чтоб с нею быть.
И ушел…
А Паня продолжала сидеть, прислонясь к изогнутой спинке дивана, — в сладком нескончаемом забытье.
…Парфен Палч вернулся задним крыльцом — отперла ему стряпуха — он был угрюм, угрюмо спросил дочь:
— Алексей Иванович где? Ушел, что ли?
И, не дождавшись ответа, прошелся из угла в угол, раскрутил горелку, сказал задумчиво:
— Расколотят их… Обязательно.
17. РЕЗОЛЮЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Снег пошел на рассвете, валил и днем. Пухлые липкие клочья наседали на землю, облепили ее широко и плотно. Стихло только к обеду. Липы трудно сгибались под нежданным грузом, роняли его с вязкими вздохами.
От накаленной голландки в комнате было тепло и уютно. Алексей Иванович в синих рейтузах, в тонкой шелковой фуфайке и вышитых туфлях на босу ногу, полулежал в лонгшезе, между затяжками подпиливал ногти, а положенная на подоконник папироса дымилась душистым дымом — с одного конца серым, с другого голубым. Он докурил ее до конца, кинул в угол искусанный остаток, — и насторожился: резкий, долгий — откуда он? — вскрик, тут, рядом, чудно, по-женски, оборвался и — с трудом понимая, чей этот дикий и страшный голос — Алексей Иванович бросился в столовую. Анна Аполлоновна, задыхаясь, бежала навстречу, силясь сказать — Алешенька! — и едва выговаривала одно только, беспомощное:
— Аа… Аль… Аа…
— Что такое? Что случилось? Да говорите же! — крикнул он, бледнея.
Анна Аполлоновна пробормотала:
— Там, пришли… там, — и слабо шевельнула рукой.
Алексей Иванович повернулся к столу — только сейчас заметил Паню, — она стояла молча, с непокрытой, растрепанной головой в излысевшем, должно быть, не своем полушубке, накинутом на плечи. По испуганному ее лицу пятнились слезы.
— Мужики, — шевельнулась она и вздрогнула так сильно, что полушубок свалился на пол. — Идут… папаша говорил разобьют, а я… прибежала вот… Только все равно не успеть…
Паня закрыла лицо руками. Алексей Иванович, чувствуя, как холодеет у него где-то вверху живота, глянул в окно и сразу же увидел: на другом конце двора, ярко вставая в нетронутой белизне снега, втискивалась в ворота плотная человечья толпа. Он повернулся, торопливо шмыгнул мимо матери к себе, выхватил из угла чемодан и распахнул его пополам. Скрюченные пальцы взрыли сорочки и носки, какие-то письма, коробки с папиросами — уткнулись в парусинную подкладку дна и там, на дне, нащупали прохладную сталь плоского, широкого ствола.
Мужики — их было много — спокойно остановились напротив дома, кой-кто присел на крыльцо людской. Молодой скотник вышел к ним, вытирая руки о подол выпрастанной рубахи, — должно быть сказал что-нибудь веселое: в толпе засмеялись. Из трубы флигеля молочно-мутным столбом вырастал дым. Около колодца чернела глубокая лужа, проевшая снег до земли… И все это — по обычному глядевшая усадьба, мужики в темных пиджаках и овчинах, среди которых выпирала единственная новая оранжевая дубленка, смеющийся парень в грязной рубахе, — было очень простым, будничным и — страшным. От людской отделилось несколько человек.
Алексей Иванович, ни на кого не глядя, прошел к выходу, — вернулся; грузно ступая за ним, рассаривая по полу куски воды и снега, вошли четверо — Никита в папахе, свалившейся на затылок, Аким, Галактион Дмитриевич и — сзади всех — кривой Тишка с винтовкой в руке.
— Гражданка Таубе здесь? — спросил Никита. — Ага!.. Сейчас будет прочитана резолюция нашего постановления, каковую прошу… Товарищ Сивохин, начинай!
— Какой Сивохин! Кто же это? — подумал Алексей Иванович. — А-а, — это… — Все молчали. Галактион Дмитриевич долго откашливался, долго разворачивал мелко сложенный бумажный лист и торжествующе усмехался.
— …месяца числа, года, — прочитал он, — мы нижеподписавшиеся крестьяне общества…
В тишину одно за другим западали слова, — собирались в тяжелую груду:
— …составили настоящее постановление а о чем тому следуют пункты пункт первый как надлежит из доклада товарища Похлебкина в России повсеместно прошел переворот власти под лозунгом мир и хлеб каковой произведен партией большевиков под номером четвертый еще товарищ Похлебкин раз'яснил нам что война произошла ради выгодности для помещичьего классу а почему уничтожаются многие тысячи крестьян на фронтах вполне соглашаясь с об'яснением товарища Похлебкина мы общество крестьян село Новое согласны под лозунгом мир и хлеб а также долой помещиков и дворян пункт второй относительно земли помещицы Таубе Анны Аполлоновны мы общество крестьян село Новое постановляем чтоб вся земля пахотная луговая а так же лес согласно плана должны перейти нашему обществу и распределить ее согласно подушной раскладки а что касается рабочих какие проживают в поместьи как эксплоатируемы и они тоже предоставить им всю усадьбу какие есть постройки частично коровы и лошади а другой инвентарь пополам…
Галактион Дмитриевич на миг остановился, щурясь посмотрел на Алексея Ивановича и зачитал громче, крепко налегая на некоторые слова:
— …согласно предложения товарища Похлебкина назначается над поместьем комендант мы все согласны чтоб был комендантом Галактион Дмитриевич Сивохин пункт третий о помещице Таубе и состоящий при ней сын Алексей постановляем о выселении вещей с собой не брать никаких и вещи эти распределить между крестьянами села Новое и рабочими с поместья к чему единогласно подписываемся…
Галактион Дмитриевич кончил. Еще напряженней и тише стала тишина — вязко вздыхали липы, роняя рыхлый свой груз, и вздохи эти были слышны сквозь двойные зимние рамы. Алексей Иванович лениво отвел глаза к окну. Недавно еще такой незаметный, маленький холодок разрастался все шире, медленно, оглушительно и больно дергалось сердце, но, вместо страха, одно только терпкое осталось ожидание: — сейчас!.. А на дворе было просто, обычно, — покуривали, говорили и смеялись мужики, спокойные, одинаковые на вид… За окном зима, снег, низкие срубы, люди — и притиснувшаяся к стеклу любопытная рожа мальчишки, залезшего на фундамент.
— Что ж ты, тов. Сивохин! — спросил, наконец, Никита.
Галактион Дмитриевич подался вперед — осторожно, трусливо, готовясь в случае чего шмыгнуть обратно.
— Вам придется сегодня же отсюдова выбираться, — сказал он. — До станции вас довезут, а…
И Алексей Иванович быстро — сейчас, сейчас, сейчас! — повернулся к нему и выстрелил — три раза.
18. ПУТАНИЦА
Раз!.. Раз!.. Раз!.. После первого выстрела, в крошечном промежуточке между негромкими револьверными тресками, жалобно звякнула хрустальная посуда — пуля напоролась на буфет. Но никто этого не заметил — все слышали только треск сухой, картавый, револьверный… И тотчас же все смешалось — Тишка неумело поднял винтовку, неумело дергал затвор, упирая приклад в живот, Марьюшка бессмыслено повторяла — «Ах, батюшки, грех-то какой, вот оказия, вот оказия», — суетилась подле Анны Аполлоновны, а рядом стыла Паня, отнявшая руки от заплаканных щек…
Грузное тело нескладно опустилось на паркет — рядом по полу уже катались двое, и Никита, яростно налегая сверху, пыхтел:
— Чорт!.. Ишь ты… чорт какой!..
Аким кинулся помогать, задел сапогом Галактиона Дмитриевича, — тот хрипло взвыл и разом смолк… Мальчишка, отодрав свой сплюснутый нос от стекла, юрким кубарем скатился в снег, радостно, по-ребячьи махая рукавами, побежал к людской… Спокойные, бородатые — вскочили ему навстречу, беспорядочно задвигались, снова обернулись в одну цепкую и целую массу — хлынули к кухонному крыльцу… А когда Алексей Иванович, вовсе обессилев, задыхаясь от густого, потного духа Никитиных одежин, — неподвижно затих, ощущая, как взмокла фуфайка в холодеющей под спиною его, чужой крови, — столовую уже дополна заполнили мужики.
Никита медленно поднялся, вытирая лицо.
— Пфу-у! Сволочь какая, — сказал он, отдуваясь.
Аким поднял Алексея Ивановича, держал его сзади за плечи. В толпе нарастал беспокойный рокот.
— А ну! дай ему, чорту! — крикнул кто-то.
Но Никита быстро замотал головой:
— Обойдешься, товарищ! Это гражданин есть арестованный.
Рокот усилился, — спутывался в запутанный клубок и рвался на куски:
— А-а-а!.. в сердце… Бей!.. Мать… так ему… мать… холую… мать… и нужно… Бей!.. го-го!.. мать… Бей!.. у-ю-ю!.. — ничего нельзя было разобрать в этих обрывках и клочьях. Столовая сразу стала маленькой, тесной, душной. Все орали, жали друг друга, совали вперед кулаки — и не потому, чтобы кто-нибудь из них по-настоящему жалел Галактиона Дмитриевича, хотел бы отомстить за него, — а потому, что напряженное мужичье нутро, томившееся в бесконечном ожидании, неудержимо рвалось наружу, в поисках хоть какого-нибудь пути для себя.
— Товарищи, — надрывался Никита, — товарищи, не суйся! Этот гражданин будет состоять под караулом…
Но его не слушали: — Бей!.. в гроб!.. го-го!.. мать… спасуды-то!.. бей!.. — грохотало по столовой. И, возможно, не помогли бы Никитины слова, но как-то, случайно, кто-то распахнул дверь в соседнюю комнату: под напором собственной тяжести и густоты толпа подалась туда и, будто отыскав себе, наконец, правильный, нужный путь, стала редеть, — таяла, растекалась по всему дому. Никита, оправляя папаху, шагнул вперед, боком врезался в редкие остатки. Перед ним расступились. Аким и Тишка повели Алексея Ивановича к выходу. Уже слышались многие тяжкие шаги наверху… Анна Аполлоновна билась на руках у Марьюшки, уставив на нее страшный, ничего не понимающий взгляд, кричала нестихающим, ровным визгом:
— А-а-а-а-а-а… Аа… А-а-а-а…
Марьюшка старалась успокоить ее — расстегивала темную кофту с желтыми полосами, рвала пуговицы, бормотала себе под нос… А посреди комнаты, нелепо согнув ногу, коченел труп Галактиона Дмитриевича, — плоский, мертвый, залитый быстро-густеющей кровью.
19. СИВКА-БУРКА, ВЕЧНАЯ КАУРКА
В людской никого не было — все рабочие увязались за мужиками. На грязном просаленном столе осталась чашка недоконченной похлебки, рядом валялись наспех кинутые ложки, куски хлеба, — до еды ли теперь! Алексей Иванович сел на скамью, слабо пошевелил ногами, — промокшие по снегу туфли отвисли с пяток, на багровых, иззябших щиколотках черными венами вздувались штрипки штанов.
— Ну, Тишка, сиди с ним здесь! — сказал Никита, — только смотри карауль получше… Пойдем, Аким.
Тишка послушно сел рядом, прижимая к себе винтовку. Аким недоверчиво посмотрел на него, покрутил головой: — эх, ты! — и стал присматривать веревку — крутить Алексею Ивановичу руки.
— Так-то спокойнее будет, — смеялся он, догоняя Похлебкина в сенях, и запел, раскорякой притоптывая каблуками: — Не ходи, да не ходи, со мной, цветик, посиди!
Таяло. С крыш вереницами сыпалась капель, снег налипал к ногам. Двор был истоптан сплошь, и следы по талому желтели, как весной. В верхнем этаже дома зазвенела разбитая рама. Аким оглянулся на нее и сказал беспокойно:
— Разберут все, поди… Нам-то и не останется ничего.
— Ладно, не скули, — хитро щурясь, ответил Похлебкин, — возьмешь свое…
Они пошли по усадьбе. Всюду было пусто. Подле скотного, у наполовину отзынутых ворот, стояла тачка с навозом — как везли ее, так и бросили. Конюшня была замкнута. Никита подергал замок, долго шарил за наличником — искал ключ — крякнул:
— Не попадешь в нее теперь.
Аким посмотрел на него с удивлением.
— А на кой тебе чорт замок-то жалеть? Сшибай его и все.
Из конюшни пахнуло коричневой тьмой и острым навозным теплом. Никита снял с тырки узду, обратал коня, какой был поближе к нему, — старого мерина в рыжеватой гречке.
— Запрягай давай.
— Зачем?
— Таубиху на станцию свезешь.
— Я-а-а?.. Нет, уж не повезу я, — обиделся Аким, — что я тебе за ямщик за такой сдался? Люди сколь добра наберут, пока ездишь-то…
Похлебкин искоса поглядел на него — опять сощурился:
— Ну и дурак же ты, гляжу, форменный… Своего счастья не понимаешь!.. Свезешь ее, а запряжку — себе.
— Как себе?
— Так! Себе — и больше ничего.
Необыкновенно ясно и близко глянуло: бурая из-под плуга струя земли, грачи, перелетающие по вспаханным полосам, только что перевязанный хомут… И, все еще не веря — где уж! — во все это, Аким схватился за повод, заторопился:
— Ну, ну, давай запрягу… Я, брат, в момент!.. Эй, ты, рассосуля, вылазай давай.
Он потянул лошадь из стойла, — та, неуклюже поворачиваясь в темноте, пошла… И сразу почувствовалось, что все — и мерин, и грачи, и холодный в ладони ремень — правда. Аким внимательно, по-хозяйски уже, осмотрел разбитые ноги, седловатую от старости спину, и снял узду.
— Ты что? — удивился Никита.
— А ты погляди — куда мне клячу таку! Я лучше другую, какая подходящей, все-таки…
Аким ушел в коричневую глубь — выбирать, — и оттуда, хотя телега была бы подороже саней, крикнул, умиляясь своей жертвой:
— Везти-то на развалах, что ли?
Вместе вытащили из-под навеса сани, приросшие за лето к земле, морщились от терпкого дневного света. Мимо, тяжело хрипя на ходу, пробежал лысый старик — через плечо его свисала тяжелая енотовая шуба.
— Домой, братцы, бежу, — крикнул он, весело задыхаясь, — коня надо весть… не унесешь всего… на руках-от.
— Тьфу, жадный какой, — завистливо сплюнул Аким, уже жалея, что запрягает он сани, а не телегу, — мало ему вишь!
Анну Аполлоновну пришлось выносить на руках. Марьюшка окутала ее шалью и села рядом.
— Садись, садись, — торопил Аким, обдумывая, успеет ли он, если к вечеру вернуться обратно, прихватить еще чего-нибудь.
— Готово! — крикнул он Никите.
— Ничего не готово, — ответил тот, — пойдем, Сивохина захватишь до исполкома.
Тело положили поперек саней, с краю. Оскаленное лицо запрокинулось кверху, на застекленелый мертвый глаз тихо опустилась снежинка.
— Ну-ка, сивка, — сказал Аким, примостившись сзади на коленках и присовывая бурое от крови туловище к ногам Анны Аполлоновны, — сивка-бурка, вечная каурка!
Сани выползли на дорогу, полозья кой-где достигали до земли. Из села бежали — мимо саней — бабы, девки, ребятишки.
20. КОНЕЦ ЖЕРЕБЦОВ
В столовой все было переворочено. Подле настежь раскрытого буфета валялись черепки стекла и фарфора, сломанный фруктовый ножик, — должно быть никто не знал, что он серебряный, — перечница. С раздвижного обеденного стола сдернули скатерть, и он оказался голым, чудным, многоногим, как паук. Черно-красную кровяную лужу развезли по всей комнате.
Никита прошел в гостиную. Ее очевидно второпях пропустили — в чинном порядке покоились березовые кресла, этажерки, банкетки. На круглом, ясно отшлифованном столике лежала раскрытая книжица журнала, пенснэ в золотой оправе… И только в углу, взобравшись на спинку дивана, приказчик Никифор силился снять с костыля икону.
— Вот насажена крепко, — конфузливо сказал он: — и не снимешь никак.
Все больше конфузясь, он сильно дернул раму, — лампадка выскочила из оправы, свалилась вниз, заливая маслом светлую обивку…
Никита пошел дальше. За прикрытой, заставленной каминным экраном, дверью была комната Алексея Ивановича: тут молодой парень увязывал в простыню большой узел белья и платья, а другой сидел на корточках перед чемоданом и собирал просыпавшиеся папиросы. Что-то хрустнуло под ногами Никиты.
— Вот чудаки, — сказал он, так же как Аким давеча, и подобрал с пола раздавленный каблуками владимирский крест с мечами, — вот чудаки… Чем узел вязать, клали б в чемодан.
— И то, — обрадовался парень, с папиросами, — давай, Миш, сюда. В ей и нести удобней будет.
Рядом, по коридорам, по комнатам, по боковушам сновали торопливые люди. Подле сундуков со старыми женскими платьями ссорились несколько мужиков, — они рвали друг у друга из рук вороха кисеи, шелка и кашемира и лаялись, как бабы. Грохотали ящики комода…
— Гляди, а здесь-то!
— Ого!
— Ну и ну!
— Бархатна!
— А что ж ей… Можно было и бархатну носить…
— Если деньга того позволяет!
— У них деньги легкаи…
— Суй сюда!
— Куда хватаешь! Я тебе, чорту, как долбану…
— Мотри, я бы не долбанул, в сердце твою… Орет тожа…
— А ты не хватай! Не твое небось.
— А твое?
— Брось, ребята. Всем хватит.
— Наша теперь все!
— А он чего лезет?
Наверху, на втором этаже, было еще людней и громче — в многоголосый стон сходились крики, споры, хохот:
— Яков Семеныч, подсоби-ка.
— Давай… Тя-же…лая!
— Да-а… Ну-ка, еще разок…
— Хо-хо-хо!
— Стерва, у тебя и так много…
— А ты хлопай ушами больше.
— Дай хуть одну!
— Ну тебя, не дам.
— А ты чего сидишь? Проспишь царство небесную — так-то.
— Ничего… не просплю, брат!.. Охота мне вот на мягком посидеть… Дожил, дал бог.
— Гы-ы…
— Ребята, бабы наши бегут!
— Где?
— Я ему и говорю — сволочь, говорю, у тебя и так, говорю, много, а он…
— Подушка-то! Пуховая!
— Известно — дело барское.
— Оны только пухову и обожают.
— Пожили сволочи!
— Хера с два теперь поживут!
— Теперь-то? Ка-ко-е!
От подушек — липкий пух. В разбитые окна — студеный ветер. Запыхавшиеся бабы шныряли повсюду. Кто-то кого-то давил и лапал, шуткой волок в темный угол… Рыжий с проседью дядя, натуживаясь, тащил высокое трюмо, подпирал его снизу носком растрепанных чуней. Другой, тоже рыжий, сдирал с окон гипюровые занавески, бурые от времени и пыли.
— Куда тебе их!
— Мало ль куда… Это дело наша.
Скотник, насквозь напитанный запахом навозной жижи, тот самый, что не довез своей тачки, а пошел смеяться с мужиками, когда мужики еще добродушно покуривали на крыльцах людской — вертел в руках терракотовую копию химеры:
— Ванька, гляди-ка!
— Чего?
— Морда кака…
Сошлись, сблизили головы, любопытно смотрели и щупали:
— На кой он?
— И рот раззянула!
— Ведьма, небось.
— Так, для баловства.
Мелочь, — подсвечники, статуэтки, пепельницы, фотографии даже, — рассовали по карманам, у многих от этого карманы топырились будто картошкой набитые; белье и платье давно уж поделили нарасхват… И уже взялись за мебель — стулья, тумбочки, этажерки — таскали их вниз по неудобным винтовым лестницам, завязнув в узких проходах, кряхтели и матерились. Затоптанные мокрыми ногами полы густо устилали лужицы грязи, осколки стекла, клочья бумаги… Никита, не вынимая рук из карманов, переходил из комнаты в комнату, от одной кучки людей — к другой, поигрывал скулами, шумно сопел носом.
— Ты-то что ж? — приставали к нему.
— Ну его, — бурчал он, хмурясь, — мне бархата вашего не нужно. С фронту, с Москвы и то…
И не выдержав, разрезал щеки огромной, косой улыбкой, — улыбался все шире, захлебывался:
— Барахло — это что! Ты смотри — дом-то… земля-то… Россия вся… Наше! Революция, мать иху, святого Георгия Победоносца…
— Го-го!.. Правильно!.. Лупи!.. Мать!.. — гремело и ухало в ответ:
— Поместье-то…
— Хер им!
— Пожили сволочи, хватит с их…
— Сколько лет, говорю, ждал — дал бог, дождался все-таки…
А дом оголялся все больше. Многие, еще надеясь найти что-нибудь путное, рылись в гардеробах, бродили по дальним комнатушкам и чуланчикам, ворошили всяческий хлам — ржавые железные кувшины от рукомойников, пустые бутылки, выносные судна с отломанными сиденьями, щетки для паркета, — прихватывали и их. Кому-то посчастливилось: он нашел в неожиданном закоулке ящик ковров, набрал громадную охапку, прижимая ее к животу, старался пробраться к выходу, натыкался на людей…
— Куда тебе такую количество?
И счастливца пихнули плечом — и уже лежит он на полу, тщетно старается удержать пестрое, пушистое свое счастье… А ковры тащат в разные стороны, разворачивают — яркие, живые краски брызжут нетухнущими огнями… Ребятишки взялись за книги, на которые до сих пор никто не обращал внимания, — выбирали какие поприглядней, с золотом на переплетах, с картинками… На пыльном стекле шкапа нетронутыми остались росчерки — «конец, конец, конец»…
— Эй, эй, гляди! — крикнул вдруг кто-то.
— Чего те?
— Сенька Михайлов и этот… Силантий с того конца, — амбар ломают!
— Ну-у?
— Где?
— Что?
— Амбар!
— Бегем, братцы!..
Все сбитым вертлявым стадом пустились к лестницам… Теперь уже по двору, по всей усадьбе суетились поспешные, жадные, радостные — из дверей амбаров, сквозь толкучку и гам выскакивали мешки, с плужного сарая камнем отколачивали замок… Дом опустел. Ветер врывался в окна, заносил легонькие снежинки… Вместо недавнего, — на век, кажется, застывшего запаха затхлости, тленья и духов, напоминающих ладан и гвоздику, — пахло морозом, нафталином, овчинами. Только самое громоздкое осталось нетронутым. И еще книги — те, что не понравились ребятам. Неуклюжей грудой валялись они, а поверх, раззевая твердый как дерево переплет, щерилась своими шершавыми страницами книга, быть может единственная в России, и с заглавного листа лукаво поглядывал лукавый профиль, заточенный в круглый медальон, и не теперешний забавный шрифт выпукло выписывал:
Письма Персидские
творения господина Монтеские.
21. КОНЕЦ ТАУБИХИ
Аким засмеялся, покрутил головой и шлепнул себя ладонью по колену:
— Смехатура, ей-богу, да и только!
Никита ничего не ответил. Он лежал на лавке, присунув к стене свою пухлую папаху, положив на пухлый козий мех голову, и слушал посапывая, изредка закрывая глаза. В избе было темновато. Подле печки сидел еще третий — дьячок, которого, в селе за ехидность, прозвали Язвой. Он пришел говорить о похоронах.
— Сначала еще ничего, — продолжал Аким, — доехали мы до речки благополучно. Таубиха сидит, глазами хлопает, как эта самая, сова, а у Митрича, покойника-то, голова о кресла тукает… Ну, ладно, под'езжаем мы к реке — она хоть и замерзши с краю, а посередке вода все-таки. Я, конечно дело, встаю, и им говорю то же самое, а оны меня не желают слушать и сидят себе, хоть бы что… Заезжаем мы таким порядком на лед. Ничего, держит. Потом вдруг — бац! — Вода… Они как вско-чут! Ви-згу! — Будто девки, даром что от обех мохом разит…
— Смокли, стало быть, — вставил дьячок, — до живого самого места дошло… Гм…
— Какое до живого! Выше, — до пупа, небось, — опять засмеялся Аким и стал рассказывать дальше… Было ему весело — вернувшись со станции, не давая отдохнуть запаренному коню, проехал он прямо в поместье — успел навить воз сена и подобрать кожаное кресло, забытое кем-то подле колодца.
— Дорога — гроб! Хорошо еще морозом хватило… А то как долбанет подрезами о кочку, как долбанет — аж заскрижет, ей-пра!.. Довез я их все-таки… Всю дорогу пешком шел — и довез ничего, благополучно, только лошадь умучил… Доехавши, говорю я им смехом — пожалте, говорю, ваше сиятельство, — на чаишко бы, говорю… Сама молчит — сидит, а кухарка ейная, Машка-то, и зачала меня страмить… Ну, я рассердился: — Слезай, говорю, сука, немедля! — Зло взяло, все-таки… Задал я кобыле сенца, сколько было, сам рядом сижу, подле ей, дожидаюсь, пока вспыхнет маленько. Кобыла жует, а я гляжу, как дурак — хлеба-то не захватил — и поесть нечего. А в ту время подходит машина, засмотрелся я за ей — глянь идет кухарка, Машка та самая, и подходит ко мне с таким об'яснением, что меня барыня зовет. — Кака така барыня? Никаких, говорю, барынь не знаю — были, говорю, да кончились… Тоже хитрая до чего — пойду я, как же! Да и кобылу опять-таки нельзя оставить, угонят еще…
О кобыле говорил Аким особенным, насупленным голосом, серьезно подбирая губы. Но губы не слушались — дергались притушенной улыбкой… Лампочка тускло сочила блеклый свет. Рассказ шел своим чередом:
— …пришла ведь! А? Пришла и говорит, — довольно сурьезно, — как вам, говорит, не стыдно? — Скажите на милость! Чего ж тут стыдного? Был бы я, говорю, вор какой ни на есть или разбойник… Ну, она не стала доходить в мой разговор и напрямки спрашивает — чего, значит, с ейным сыном исделают. А-а, думаю, — боишься… Что ж, говорю, ясно — не помилуют, за такие-то, говорю, дела — убийство при служебном исполнении. Она дрожит вся, стоит тут — смех, ей-пра! А я еще сильней того пуганул — во всех вероятностях, говорю, нету вашего сына живым — кончили его, дескать, уж… Она ничего не сказавши поворачивает и идет. Меня, конечно, смех берет, но нужно мне ехать, и стал я подседелевать… Слышу, машина свисток дает. Раз свистнула, другой, — пошла, потом опять свистит… И народ побежал… Что такое за случай? Побежал тоже…
Аким покрутил головой и совсем подобрал губы.
— Ну и что ж? — спросил дьячок, — задавило ее, что ли?
— Да, брат, — ответил Аким, — волокут ее с под колеса — страх смотреть… Аккурат по грудям резануло… А машинист, с машины который, божится — вот, говорит, хрест, святая икона, — не я. Не я, говорит, и не я — сама она, будто, кинулась…
Помолчали. Косой улыбкой кромсая щеки, сопел Никита. Чужая линялому, красноватому свету лампочки, пробиралась в избу луна — индевеющие окна зеленели, искрились. Мимо избы, повизгивая гармошкой, частили парни…
— Что ж, очень просто, что и сама, — начал-было дьячек, но Никита оборвал его — порывисто сбросив на пол ноги, хлопнул папахой по колену:
— Будет. Сама, не сама — чорт с ей совсем. Вас двух слушать — до свету пролежишь, а Тишку давно сменять пора, с утра малый дежурит… Вам вот грабилка одна на уме, а чтоб власть свою сделать, нету вас, святителя Николая мать…
— Что ж, я ничего, — смутился Аким, — я против того ничего не скажу…
Подмораживало все сильнее, снег рассыпался под ногами, как песок. Далеко, на другом конце села, рявкали частые, дружные голоса парней и гармошка неумело, не в лад, визжала вслед… Над поместьем розовело слабое, стихающее зарево: еще перед вечером загорелась там рига, и никто не стал ее тушить.
— Как же будет-то? — тянул дьячек, глядя на зарево, — могилу нужно копать… Если деньгами не хотите заплатить, так из поместья что-нибудь отпустите.
— Отстань, — лениво ответил Никита, — сказано вам, задаром похороны — и все.
Но дьячок не отстал — он клянчил, грубил, опять становился умильным, поминал батюшку и промерзшую землю… Наконец, Никите надоело:
— Ладно, сочтемся… Вот уж Язва, — форменная!
К исполкому подходили вдвоем — издалека заметили, что в окнах нет света и ускорили шаги.
22. НА ПОСТУ
Разве поймешь? Была вот такая хорошая, ленивая жизнь, дом единственный на все село, с палисадом и медной дощечкой, сладкие думы днем и вечером, а ночами — сладкие сны… Было — и нет, ничего нет, есть только одно, недавнее, сегодняшнее — короткое, как миг, и долгое, как навсегда: столовая, оклеенная желтыми обоями, шелковая фуфайка и… Смутным клубком спутывались трески выстрелов, едкий запах дыма, с детства виданные каждый день и разом ставшие чужими лица мужиков… Разве поймешь?
А дом точно такой же — обшитый тесом, крепкий Растоскуевский дом, — и палисадник был, — в нем из-под снега торчали сухие былки георгин, — и славянская вязь на дощечке, позеленевшей с краю… Даже пестрая кошка, привычно-брюхатая, мяукала гуляя по залику, а на стене висела карта с заброшенными флажками… Парфен Палч встретил дочь сердитой бранью, — зачем бегала в поместье, — сжимал короткие волосатые пальцы в багровые кулаки… Но Паня ничего не понимала — она прошла в свою комнату, села на кровать и попробовала заплакать. Из этого ничего не вышло… Она легла и, все еще позывая слезы, совсем нечаянно, заснула.
Потом были сумерки — особенные, зимние, когда снег делает их мягче и голубей. Парфен Палч уже не бранился — рассказал, что Алексея Ивановича заперли в исполкоме… И вышло так, что Паня, прячась в голубые сумерки, шмыгнула на другую сторону улицы — туда, где раньше было волостное правление. Голова у Пани была тяжелая, совсем пустая, но знала она твердо: караулит Тишка — нужно так, чтобы он пустил ее к Алексею Ивановичу, а там дальше… Не все ли равно, что будет дальше?
Дверь исполкома была незаперта. В приемной горела дешевая лампочка с жестяным рефлектором, было здесь пусто, только на столе лежало что-то громоздкое, закрытое газетными листами.
— Кто это? — раздался голос из соседней темной комнаты, — в ней прежде собирались на волостной сход, — и оттуда вышел Тишка: — чего тебе?
— Я… мне… — шевельнулась к нему Паня и запнулась.
— Ну?
— Я, Тишенька… я… Тишенька, голубчик, а где… а где он? Алексей Иванович…
— Известно где, — запертый. — Тишка показал в глубь темной комнаты: там, в глубине, был чуланчик без окон, с плотной дверью — из тех, что зовутся клоповниками. — Да чего тебе нужно-то? — повторил он.
— Мне бы, Тишенька… мне бы…
Глаз, липкий и мутный, торопливо обшарил Паню: — Ага, теперь Тишенька! — надолго остановился в разрезе полушубенки… Сколько раз видел Тишка, как колко отставала грудь Паниной сорочки. Сколько раз плыли, уплывали из сорочки обнаженные плечи и руки — белые, вялые, прекрасные!.. Он сказал нарочно-грубо:
— Дверь-то чего же не закрыла! — и, шагнув в сени, стукнул засовом.
— Тишенька, — посмелела, наконец, Паня, — пусти… пусти меня… к нему.
С маху прислоненная к столу винтовка коротким своим падением продрала газету — из прорехи сунулась мертвая лиловая рука… Тишка подошел к Пане вплотную, осторожно взял ее за плечи.
— Что ты, — удивилась она, не поняв, — пусти!
— Пущу… Сейчас, сейчас пущу, — зашептал Тишка, — и к нему пущу, почему ж… и ключ у меня.
— Пустишь? — радостно и уже покорно улыбнулась Паня.
— Пущу!
Лампа погасла — лампа свалилась с подоконника, потому что на подоконник втиснул Тишка сломанное, вялое Панино тело……………………………………………………………………………
— Эй, ты, заснул, что ли? — колотили в дверь, — открывай давай!
…………………………………………………………………………………………………………………………наконец, чиркнула спичка, и багровый свет пролился между пальцами, сложенными горсточкой.
— Ну, и часовой, — недовольно говорил Никита, — на посту заснул… Лампа-то где?
Лампа валялась на полу — от нее по всей комнате разило керосином… А рядом врастала в стенку Паня — смятая, сразу обрюзгшая, с расстегнутой кофточкой… Спичка погасла.
— А-а-а, — протянул Никита. — Так-то и на посту не скучно!
Аким загоготал, замотал головой… Сухой фитиль не хотел гореть — вместо пламени расцвел вонючий красный уголек.
23. КОНЕЦ
Через день Алексея Ивановича отправляли в город. Спервоначалу хотели было везти его на подводе — Акимову кобылу отрядить. Мужики смеялись:
— Быть тебе, Аким Михалыч, у нас кучером…
— За ямщика!
— Господ с поместьев провожать!
Но снег валил обильными, липкими хлопьями по талому залег крепко, в зиму. И потому передумали — решили почать на дрова Жеребцовскую строевую рощу, а чтобы ни Акиму, ни другому кому не гонять бы понапрасно коня, Алексея Ивановича повели пешком — Никита Похлебкин, председатель, и красный гвардеец Тишка.
Было ясное, терпкое, морозное утро. Солнце только взошло, и улица полегала в тени, чистая, голубая. Еще топились печи, горький осиновый дым славно мешался с морозом. Сбивши в кучу коней, дровни и подсанки, ждали мужики, совсем собравшиеся в рощу, как поведут Алексея Ивановича, — курили, спорили, где начинать пилку.
Лошади, уже по-зимнему бархатные, наклонялись, нюхали снег. Солнце поднималось в зеленом небе, становилось меньше и белей. Наскучивши ждать, мужики нетерпеливо поглядывали на исполком:
— Скоро они там?
— Что ж задаром-то стоять?..
— Сейчас… Аким за сапогами побежал.
— Каки сапоги?
— Да, вишь, ему, Алексей Иванову-то, итти не в чем — тухли на ем…
— Хо-хо-хо!
— Поедем, ребяты!
— Да не ори ты — вон он, идет.
Аким, проходя на исполкомское крыльцо, взмахнул громадными, подшитыми валенками и крикнул, сквозь хохот:
— Ни хрена не поделаешь — приходится барину обутку свою пожертвовать!
Тишка, весело склабясь, тащил винтовку — нескладно, как грабли. Алексей Иванович поднял воротник тоже чужого чьего-то пиджака, спрятал в воротнике лицо — не глядя на мужиков, зашагал по улице. Навстречу ему горланили из дворов петухи. Бабы, с ведрами на коромыслах, сворачивали с тропинки в целик — кланялись молча и равнодушно. Никита, прихрамывая, шел сзади.
Мужики разбирали коней, оправляли сбрую.
— Вот оно как, значит…
— Да-а…
— Кончено ихо дело.
Растягиваясь долгой вереницей, труском пустились под горку, через реку. Усадьба сильно изменилась — в ней все эти дни не прекращались пожары — от недавних Жеребцов остался только одинокий барский дом, — прятался между деревьями. На месте флигеля и служб грудились беспорядочные вороха запорошенного мусора… Остатки сенного сарая еще курились смрадным дымком и сквозь протаявший на теплом снег зияли пятна черного пепла… Усадьба осталась позади, дорога неслась полями, — било в глаза нестерпимой белизной и колкими солнечными искрами.
— На весну здеся пахать будем, — орал Аким, — ей-пра!
Кобыла его на-ряду с деревенскими упряжками казалась рослой и франтоватой — он бережно, любовно подстегивал ее возжей. Дорога стонала и пела под полозом… Снег, поля, и — вот она, роща! — чудесный, хрупкий, сплошь сверкающий инеем лес… Рыженькая белка испуганно метнулась на сосну — обрушила вниз облачко тончайшей пыли. Цокали подковы. Чувствуя, что сейчас, сию вот минуту, возьмет он топор, никого не боясь, будет валить дерево, какое приглянется — зажмурился Аким, закричал, мотая над головой концами возжей:
— Эх, давай-давай! Засну-у-ли!
Стонала и пела дорога, стонало и пело эхо. Долгая вереница саней забиралась все глубже, в самые недра, в самую гущу деревьев, инея и снега.
Москва — Сочи — Москва,
май-октябрь 1925.
М. Барсуков Жестокие рассказы
Евсею Давыдовичу Голдовскому
БАБА-ЯГА
Звенит лед на речке. Звенят фарфоровые деревья, хрупкие от инея.
Черемуха на склоне облеплена снегом.
Еще полчаса и на фабрике, что мерещится в сумерках белой льдиной, вспыхнут желтые огни.
Синие сумерки заливают окрестность. Она сквозит меж заборов и пустырей, встает на склонах холмов, за которыми — бог весть какие! — творятся чудеса.
В трескучие морозы проходят по нашему двору, по тропинкам через реку, по деревянному мосту, по овражкам, разбросанным по селу — старые женщины. У них от мороза, чтобы не застудить дыханье, платком перевязаны рты. Давно когда-то бабушка попугала меня: «вон, баба-яга идет». И с тех пор, на годы осталась в памяти: старуха с перевязанным ртом — баба-яга.
Синие сумерки темнеют. И навстречу ночи, прокладывая лапы меж холмов, тихо плывет луна.
Дома все поужинали. Пришли гости. В гостиной отец играет в карты, в столовой за самоваром сидит мать и разговаривает с женщинами.
Я ушел в другую половину дома, где детская и наша спальня. Бабушка посапывая спит, а я сижу у окна в детской и смотрю в лунную тишь.
Двор у нас огромный и в нем всего три дома фабричных служащих да березовая роща, — от нее по весне, когда капают с деревьев пенистые слезы и грачиный помет — плывет туман и березовая сладость.
Я стерегу у окна свои сказки. Бывает — жуть пробежит по телу, защиплют мурашки, — но за стенами отцовское кашлянье, говор матери. И снова спокойствие разговаривает с сердцем.
В комнату вбежал брат. Он зовет меня Гулькой.
— Гулька, идем в столовую, Анна Никифоровна пришла… с пирожным. Пирожное в кухне, попросим маму… а то стащим…
И голос брата падает до шопота. Я поворачиваю к нему глаза, черные от луны, и молчу. Он, должно быть, не понимает меня и все болтает о чем-то. Потом уходит.
Я снова весь в окне и вижу: из-под огромной старой ветлы, что стоит на тропе неподалеку от дома, выходит женщина. Впереди ее, на снегу, горит черная тень. Женщина сгорбилась, ее голова наклонена, высокая клюка поднимается в правой ее руке. Женщина подходит ближе. Где-то в моем теле потянуло сладкой болью. Я вижу, что рот женщины перевязан белым платком. Отодвинувшись опасливо вглубь комнаты, я чувствую, как сгущается вокруг меня темнота.
Женщина уже зашла за дом, и я срываюсь с места.
В углу комнаты, где мы раздеваемся, руки мои тычутся во что-то теплое. Это нагревшийся около печки мех. Я тяну шубку, как котенка, спрятавшегося под лавкой, и она, как котенок, сопротивляется мне. Но вот я оделся и на моей голове — белая заячья шапка. Чтобы никто не увидел меня, я на цыпочках прохожу по коридору и, скрипнув дверью, выхожу на мороз. На одно мгновенье от светлого и холодного, как стекло, воздуха очарованье тайны покидает меня. Но все же я быстро, почти бегом спешу за маячащей по тропе фигурой и догоняю ее.
Мороз крепчает, и я слышу, как трескается скрипучая, мерзлая земля.
В роще переплелись с лунными проблесками синие, недвижимые тени. Нет — эти тени движутся вместе с луной, поднимающейся высоко над холмами.
Я знаю, что в роще живут ласки и хорьки. Хорьки пробираются в наш сарай и душат кур. Поутру кур находят под настилом сарая мертвыми и страшными от крови.
Но сейчас я думаю о другом.
Фигура, идущая впереди, тянет меня, как черный сток воды у водопада и с каждым шагом все глубже охватывает меня чувство беспомощности перед этой покоряющей силой. Я не могу уже сдерживать шагов и должен ринуться и остановить женщину.
«Баба-яга… баба-яга… баба-яга…» — стучит у меня в голове, опустошенной и гулкой.
Черной падью встают передо мной ворота. За воротами кончается наш двор. Там идут кузницы, потом пустырь — огромный, как поле — и еще дальше домишки сельской окраины. Туда я не решусь пойти.
Я слышу, как пролетела над нами, шурша по индиговому шелку воздуха, — галочья стая.
И слишком ли напряженно заскрипели мои валенки, или вздохнул я шумнее обычного, но старуха вдруг остановилась и повернулась ко мне.
Мы стояли в тени яблони, перевесившей через изгородь свои ветви.
Глаза старухи, неразличимые в черных впадинах, смотрели на меня долгим, распознающим взглядом.
У меня обмерзали ресницы и костенели обнаженные, со стиснутыми пальцами руки.
Старуха не двигалась с места, перебирая по земле шаткой клюкой.
Я первым начал сдаваться.
— Вы… кто? — спросил я хрустящим шопотом.
Старуха или не расслышала, или не поняла меня и молчала.
— Баба-яга! — сказал я громче и смелее.
Старуха подняла правую руку, переложив клюку в левую, и сдвинула кверху черный платок. И опять молчала.
— Я читал про вас… в сказке, — медленно сказал я.
— Ты што говоришь, малец? — неровным голосом спросила старуха.
Теперь молчал я, не отодвигаясь из-под тени и чуть шевеля об'индивевшими ресницами блестящих глаз.
— Ты што бродишь в таку пору? — спросила старуха, подвигаясь ко мне.
— Баба-яга! костяная нога! — сказал я в ответ громким голосом, не прислушиваясь к тому, что говорит старуха.
— Кака это баба?
— Ты — баба! У тебя девочка живет. Ты бьешь ее костылем…
— Ты што это непутевое городишь? — насторожилась старуха.
— Мне бабушка сказывала — чужих детей уводишь… — сказал я полным голосом, звенящим в тишине, среди упавшего снега.
Старуха, как будто, поняла что-то и спросила:
— А ты в церкву ходишь?
— Хожу! — негромко ответил я.
— Тебе бы помолиться надо, темная вода у тебя в голове, — сказала старуха.
— Баба-яга! — настойчиво повторил я, вздрогнув всем телом.
Старуха вдруг подняла голову, застучала клюкой о снег и крикнула, задыхаясь:
— Уйди, смутьян!.. Малой, а чистый бес… Пошто тебе старуха поиначалась?!. Пошел домой… Ну, пошел!
— Ты иди!.. — ответил я, сжимая кулаченки и хватаясь рукой за изгородь.
— Ишь выискался, — не слыша меня, тараторила старуха, — не прощу я тебя непутевого… Не отступлюсь! Иди к матери — пусть лоб тебе перекрестит.
Я вдруг не выдержал и, приткнувшись к изгороди, заплакал без слез, вздрагивая грудью. Старуха стояла молча и потом заговорила:
— Поплачь, поплачь! Отойдет суровье-то… небойсь, отойдет. Ишь лихоманкой всего скарежило…
Я задержал плач и вдруг меня захватило несуразным детским буйством. Я перекосился весь, протянул руку к старухе, ухватил ее за черный и сальный жакет и с силой дернул к себе. Старуха навалилась на забор и закричала что-то. Что именно закричала старуха я не слышал, потому что убегал домой, путаясь ногами в шубенке. Мимо меня промчалась роща с лунными тенями.
Дома, в сенях я встретился с матерью.
— Ты откуда? — спросила она меня, запыхавшегося и мокрого.
— На салазках с Васей катался, — сказал я.
Мать взглянула недоверчиво и тревожно на мое прячущееся лицо и поласкав мокрую от слез, от снега ли щеку, сказала:
— Иди чаю выпей, согрейся.
Я взял теплую мамину руку и задохнулся от счастья.
КУРИЦА
Случай с курицей самый простой. Мне было тогда пять лет. Я тискал и давил жизнь детскими рученками, потому что сам был живым существом.
И мой взгляд упал на курицу.
В жаркий летний день она залетела к нам с чужого двора. Я погнался за ней — она от меня. С большим трудом я загнал ее в угол пустыря, огороженного забором. Там она оказалась в моих руках. Я держал ее за разлетающиеся перья и не хотел выпустить. Фуражка, сбитая крыльями курицы, слетела с моей стриженной головы. Я был толстым бутузом, должно быть, очень брезгливым, потому что страшно кривился, держа курицу в вытянутых руках.
Когда мне надоела борьба с птицей, я шаром пустил ее в угол забора.
Ударившись, она упала на землю. Беснуемый непонятной страстью, я не дал ей убежать на ее торопливых, спотыкающихся ножках и снова схватил ее разворошенное, теплое, в сухих перьях — тело.
Уже не соображая, я бросил ее снова. Курица упала на бок и поднялась с трудом. И все тяжелее становилась на испуганных глазках курицы белая, мутная пленка век.
Курица уже не сопротивлялась, когда я в третий раз бросил ее в угол. Но, почувствовав мой замысел, она, выбиваясь из сил, старалась восстановить равновесие изломанными движениями крыльев и переступала с ноги на ногу, падая то на ту, то на другую сторону.
Меня взбесила ее живучесть, и я с азартом, несколько раз под-ряд, бросил ее об угол.
Курица не шевелилась больше, лежа в траве, затененной забором.
Тогда меня охватил страх. Я выпрямленными ладонями сдавил крылья курицы и почувствовал ее мертвое, вязкое тело. Отпрянув от него, я огляделся кругом.
Пустырь был тих. В синем небе, чертя тесные, тугие круги, парил одинокий ястреб. В открытых окнах нашего дома никого не было и только большой графин, ослепленный солнцем, стоял на подоконнике.
Я взял труп курицы за одну лапку — он жутко развалился и, покорный резкому движению моей руки, полетел через забор.
Тогда я, напевая и неумело насвистывая, побежал к дому.
Навстречу мне из-за теневой стороны сарая вышел наш сан-бернар — Кармен. Он осторожно обнюхал меня и остановил на мне круглые, спокойные и внимательные глаза. Я потянул его за шерсть и хотел по обычному оседлать собаку, огромную, как теленок. Но Кармен заворчал на меня и, поджав хвост, тихо пошел прочь.
ТВОРЧЕСТВО
Наступила ночь. Завтра — пасха.
Дома все улеглись вздремнуть перед полуночной заутреней.
За окнами — апрель, налившиеся черным соком деревья, редкие звезды и темные, отсыревшие тропы.
Река, недавно вскрывшаяся, блестит утекающей, живой наготой. Мне по особому хорошо оттого, что дома не спят, а всего лишь легли на час, чтобы потом подняться и пойти в сырую, благодатную ночь.
Я лежу в детской спальне. Там все, кроме отца, — он у себя в кабинете — на диване.
Мне — настороженному — светло и просторно. Кажется — вот сейчас помыслишь, и весь мир предстанет понятным и близким, как родное лицо.
Но минута этого прозрения коротка. Тишина, мирный сон окружающих, сковывают нарастающее волнение. Я поднимаю голову над подушкой и вижу перед собою лицо матери — она лежит рядом со мной. Бессильный побороть бессонницу, я зову негромко:
— Мама!
Мать не слышит меня, и я углубляю свой слух в ее спокойное, полное дыханье.
— Мама!
— Что тебе? — приоткрывает глаза мать.
Разве я знаю, что мне нужно. И я смотрю на заспанное лицо матери в ожидании, что она сама поймет меня.
Но мгновение меркнет, и я снова слышу наполняющую комнату тишину и вижу спину повернувшейся матери.
Тогда я поднимаюсь с постели и выхожу в соседнюю комнату. Там, в желтых лучах, меркнет ночник и черные тараканы, чуть шурша, снуют по полу.
Откуда и как появляется в моих руках карандаш и лист почтовой бумаги — не помню. Я встаю на колени у ночника и начинаю писать. Карандаш ломается. Припаянный глазами к написанным мною строкам, я не могу оторваться от них и обгрызаю сломавшийся карандаш зубами.
Я пишу стихи.
Это уже не первый опыт. Когда-то я написал стихотворение о своей десятимесячной сестренке Леле, — об ее играх и повадках. Леля была первым ребенком, родившимся в семье, когда я уже стал сознательным девятилетком. Я старался проникнуть в тайну рождения, но в ответах родителей на свои вопросы не чувствовал их разрешения.
Лелю я очень любил, всюду таскал ее, кормил, чем попало, засматривал ей в глаза, разглядывал ее всю, учил ходить и обижался, когда мне говорили, что и я был таким.
Но, в конце концов, мое старание было награждено выговорами родителей за неумелое обращение с ребенком. Я никак не мог понять того, что мне старались внушить, и тогда написал стихи о Леле.
В них я выразил неполную, но мою, никому не подчиненную радость, переложив в стихи неизрасходованные чувства.
Но первая попытка и раздражила меня, — в своей жажде познания я стал заносчивей и смелей.
И вот я пишу стихотворение за стихотворением, стремясь проникнуть в явления окружающего меня мира и эти явления, накаленные моим воображением, еще больше пленяют меня. В мглистом свете ночника передо мной проходит череда волнующих тайн, и я испытываю двойное наслаждение: собственного, бескорыстного порыва и представления о том, как я поражу всех своим творчеством.
Я написал в эту ночь три стихотворения: о пасхе, о буре и о весне.
Еще не изжив вдохновенья, я побежал к отцу и разбудил его. Он выслушал мои стихи, взглянул на меня отцовскими глазами, которые за своими чувствами не видят пленительных надежд, охвативших ребенка. Отец положил руку на мою голову, погладил ее и похвалил меня.
И я почувствовал, что весь восторг, обуревавший меня, рассыпается и тускнеет, как пожарище. Я не глядел на отца. Взволнованный и гордый, я не огрубел от творчества и ничего не требовал, но ждал чудес. Я не глядел на отца, чувствуя, что его глаза — светящиеся сейчас добротой — чудес не откроют.
Я заметался. Пошел к матери, потом опять к отцу, уже вставшему и встретившему меня в коридоре. В это время апрельская тишина, стоявшая за окнами, вздрогнула от полуночного благовеста.
Мы пошли к заутрене.
В селе горели плошки. Над храмом блистал бриллиантовый крест, алое и синее солнце вольтовой дуги пылало на колокольне.
В рядах толпы, окружавшей храм, пламенели, обжигая трескучий воск, церковные свечи. Откуда-то — с кладбища ли или с реки, разлившейся под горой — поднимался прозрачный, весенний туман. В облаке тумана плыли площадь, свечи, электричество креста.
В церкви у меня закружилась голова. Мы вышли на воздух и не спеша ходили по селу.
И только на другой день, когда позади остался суровый, в стекающем широкими потоками благовесте великий пост, я почувствовал в себе бурную струю жизни.
Сладкие пасхальные поцелуи тревожили сердце, как разливавшийся по полям апрель, расцветавший голубым и черным цветом.
Переполненная река шумела на фабричной плотине и несла около самых ног мутные, говорливые волны. Страшили недосягаемостью ее особенно буйные и пенистые потоки.
Солнце не иссушало влажной земли, мягким зноем ложась на ее прелую, закипающую наготу.
Сколько неожиданных тайн, сколько живой и трепетной плоти открывала весенняя земля!
Я поднялся рано утром, бегал по двору, по сырой роще, блестевшей лужами ледяной и прозрачной воды, играл с ребятами в яйца на «крепчуна».
Я пришел домой, когда солнце поднялось во всей своей теплоте. В дом входили и выходили визитеры. Меня встретила падчерица отца — Зоя. Она была нарядно одета в зеленое плисовое платье, в белые чулки и белые башмаки. Золотые кольца волос круто завивались у нее около ушей и на лбу. Она бросилась ко мне.
— Папа читает твое стихотворение, — сказала она и, схватив меня за руку, потащила одетого в столовую.
Там сидели взрослые вокруг стола, уставленного закусками и винами. Щеки отца, его лысина и глаза блестели от вина. Листок с моими стихами был в его руках.
Гости остановили на мне смеющиеся и пытливые взгляды и над всеми взглядами господствовали растопленные в улыбке и, все-таки, безразличные глаза отца.
Отец читал:
Солнце золотое, солнце золотое, Греешь ты весной наш зеленый сад, А холодной зимушкой-зимою По тебе скучаем мы, наш брат.Полная женщина с очень красивым цыганским лицом, которую я не любил, сказала равнодушно:
— Хорошо, хорошо! Это ты сам, Миша, написал?
И она притянула меня к себе.
От женщины пахло духами, кружевная грудь защекотала мое лицо. Я стоял прямо, как взрослый человек, и, не видя окружающих, чувствовал, что они с любопытством смотрят на меня. Их взгляды требовали, казалось, от меня, чтобы я сделал какую-то непозволительную и очень смешную вещь, раз я осмелился рифмованными строчками говорить о пасхе, весне и буре.
Тогда я окинул взглядом исподлобья их мягко сосредоточенные фигуры и сделал попытку освободиться из рук женщины.
— Ну, уж нет, не пущу, — сказала она, смеясь.
— Пустите меня, Надежда Никифоровна, — сказал я, полуплача и, все-таки, требовательно.
Она смутилась от моей настойчивости и растерялась на мгновенье. Я пошел по столовой и выйдя в коридор, снял пальто.
— Миша, ну поди же сюда, — крикнула мать.
Я вошел и сел за стол. Мать налила мне чаю.
Прежде чем налить себе в блюдечко, я посмотрел на Надежду Никифоровну.
Она встретила мой взгляд благосклонной и снисходительной улыбкой опушенных длинными ресницами глаз и, как бы невзначай, отвела их от моего насупленного и упорного взгляда.
ОТЕЦ
В детских туманах, неясных, как прообраз мира, кость к кости вставала перед мной трезвая правда жизни.
Путь ее от отца.
Хрящеватый его нос, выцветшие, жесткие глаза, — в таких глазах и зло, и слезы кипят с одной силой, — вставали передо мной неразрешимой загадкой отцовской силы.
Отец не пил, не курил, не изменял дому, — всю свою силу он обращал в непомерно трезвые жизненные расчеты, в грубый труд, в наше воспитание.
Я был предан отцу до смерти и детский мой сон волновали кошмары: я боялся смерти отца.
И поэтому не обидой, а диким страхом грозил мне отцовский гнев.
Отец бил нас.
Мне было семь лет, когда это случилось впервые.
Я не выучил урока, отец узнал об этом и, однажды перед обедом, встретил меня в прихожей. По горящему взгляду его холодных глаз, по недвижимой фигуре, я почуял беду:
— Иди сюда, — сказал отец, когда я разделся.
Я подошел к нему и остановился, глядя на его ноги. Отец взял меня за руку и другой рукой ударил по заду.
Я не заплакал. Отец бил меня короткими — то смягчаемыми, то резкими ударами, и я все время оставался безмолвным.
Страдание разворачивало мою душу, я чувствовал, что с корнями вытягивал из меня отец, как сорную траву, глубокие радости, жившие во мне, вытягивал и бросал о земь сладкие стебли жизни.
Я не смотрел ему в лицо, но передо мной стояло тягло его глаз — иссохших и тугих.
Когда отец кончил истязание и отшвырнул мою руку, я в течение секунды оставался стоять, окаменев ради самозащиты, не роняя звуков и прижав к бедрам как-то странно опустевшие и бесчувственные пальцы.
И когда отец ушел, я, оставшись один, не оглядываясь и никого не позвав, пошел в детскую и там сел у окна.
Пришла мать, чтобы успокоить меня — это меня не тронуло. Бессильный чем-либо выразить свою ненависть, я никуда не шел и плакал слезами, которые просочились через сжатые, ссохшиеся веки.
Быстро наступал ранний зимний вечер. В детской было темно. Глубоко вдыхая жаркий и тихий огонь разгоревшихся поленьев, белела в поздних сумерках изразцовая печь.
Я все еще душил свои слезы, содрогаясь от внутренней тяжести. И когда я готов был облегченно заплакать, мне внезапно пришла в голову мысль о смерти.
Я увидел себя мертвым — с остывшим лицом, с немыми, чуждыми участья губами, — и около себя — скорбные фигуры и поникшие лица родных.
Что-то издавна близкое почувствовал я в этом внезапно осенившем меня образе. Забыв об отце и о побоях, я судорожно старался проникнуть в черты представшего предо мной мертвого лица.
И я узнал в нем — Еву из «Хижины дяди Тома». Я вспомнил тихое озеро, по которому она каталась — обреченная и неслышная: и озеро это, и деревья над ним были недвижимы в ярких одеждах смерти.
Сладкие руки легли на мое сердце и стеснили его, когда я услышал шаги отца, пришедшего ужинать.
В детскую вошла мать:
— Ну, как тебе не стыдно, Миша? — сказала она. — Будет уж дуться. Иди попроси у папы прощенья.
Казалось, я только этого и ждал. Сойдя с дивана, я пошел в спальню, где умывался отец, и на секунду в нерешительности остановился у дверей. Отец открыл дверь перед моим носом. Не смахивая слез и сопя, я сказал:
— Папа, прости!
Отец положил руку на мою голову, погладил ее легонько и ответил:
— Ну, ну, будет тебе — иди умойся.
Я подошел к умывальнику и, брызгая холодной водой на щеки, зачерствевшие от слез, почувствовал вдруг жар натопленных комнат и домовитый запах крашеной печки.
Я утерся сухим полотенцем и потом, жмурясь от света, вошел в столовую.
Александр Смирнов Тулуп
Рассказ
I
У Кирьяковой избы, как всегда под вечерок, собрался народ. Мужики, сидя на заваленке, в армяках в накидку, говорили о своих мужицких делах. Хозяин избы — дядя Кирьяк, высунув голову в окно, участвовал в общем разговоре.
Ребятишки с громкими криками играли на пыльной дороге в городки. Около дороги же, в зарослях лопухов и крапивы с едва пробивающимися пучками хвостов бродили долгоногие цыплята.
Изредка визжало железное колесо колодца, и загоревшая баба в подоткнутом сарафане, гремя цепью, доставала бадью с водой.
Мужики обсуждали больной для всех вопрос о том, что будет в нынешнем году насчет налога: послабка, али еще прибавка.
Рыжий прасол с красным лицом, только что пришедший из бани с мокрыми еще волосами, недовольно прохрипел:
— Послабка! Как бы не так! Эти товарищи только того и гляди совсем по миру пустят…
— А слободские говорили, будто супротив прошлого года вдвое меньше будет.
— Кому меньше, а нам только мошной тряси…
— А ведь неправедно, — сказал дядя Кирьяк из окна, — страсть неправедно коней налогом облагают, ведь конь коню рознь! Вон у дяди Мокея лошадь-то, как печь!..
— А у меня одна слава, что лошадь… Хуже кошки… А налог один!
— Ужинать уж ровно пора! Домой пойти… — поднимаясь, сказал прасол Мокей.
— Что мало гулял? А ты посиди! — закричали ему вслед мужики.
— Я нагулялся уж… Прощайте покуда…
— Обиделся!..
Из-за угла крайней избы появился председатель сельсовета. Он, как всегда, шел в своей старой солдатской фуражке, держа под мышкой книгу.
— Эй, робя, вон начальство наше идет!
— Ну-ка, Данил Митрич, чего новенького нет ли?
— Насчет налогу опять чего-нибудь… Я так думаю… — тихо сказал Гришага.
— Газет нет ли? Измаялись совсем, не куримши.
— Погодь, погодь! — сказал председатель, садясь на завалинку и вытирая фуражкой вспотевшее лицо. Он положил книгу с бумагами на колени, на нее фуражку и поверх всего почти сплошь вымазанные фиолетовыми чернилами руки.
Все молча наблюдали за ним.
— Приказ вышел… составить список, — вздохнув, сказал председатель.
— Ой, батюшки!.. Какой? — испуганно вскрикнул Гришага, схватившись за бороду.
— Опять список! Чего уж переписывать-то? Все уже переписали…
— Пишут, пишут… Что бумаги этой одной перевели… — загалдели мужики.
— Составить список паразитов, — не слушая мужиков, сказал председатель.
— Кого? Каких паразитов?
Мужики сразу замолчали и с недоумением переглянулись.
— Язви иху душу! Чего не выдумают! — мотая головой из окна, с улыбкой сказал дядя Кирьяк.
— Верно, что это за паразиты такие, Данил Митрич? — спросил председателя Сергей кузнец и с разинутым ртом ждал ответа.
— А это которые своими руками не работают, — помолчав, ответил председатель, ковыряя старую мозоль на залитой чернилами ладони.
— А-а-а… — и Сергей утвердительно кивнул головой.
— Так что же, это как — кулаки? Али другое что?..
— Кулаки и есть кулаки, а это паразиты! — закричал председатель.
— Да-а!.. Это видно особа статья… И словечко уж выдумают!
— Обидно слушать!..
— Кто же это у нас паразиты-то? — спросил молчавший до сих пор Микеша Конев.
— Ты вот говоришь, которые своими руками не работают? Запиши-ка, родной, меня, — сказал старик Пахом, сидевший в полушубке и валенках, положив руки на палку, стоявшую между колен.
— Я вот со старухой одиннадцатый год маюсь, своими руками не работаю совсем… Только что соседи принесут, тем и живу…
— Верно он, что ли, говорит? — спросил председатель, развязывая книгу.
— Верно, верно!.. Чего уж там, какой он работник — щепки не пошевелит!..
— Ну, ладно, записываю… Та-ак… Пахом Коровин… Деревни Танюхино… Кто еще у вас тут?
— Постойте-ка! — сказал из окна дядя Кирьяк. — А Аркаша-то! Химик-то наш! У него одной руки нет — он инвалид… Такой уж придумщик…
— Эй! Лесунька! — закричал Гришага своему белоголовому мальчишке, игравшему в городки. — Сбегай-ка по Аркашу Куделина, — поди, мол, там в паразиты записывают!
Мальчишка, поддернув обеими руками сползавшие штаны и крикнув что-то на бегу товарищам, пустился вдоль улицы.
Деревянный дом Аркаши был весь в росписи и резьбе — работа самого хозяина. На верхушке трубы, во время ветра, флюгер, в виде двух солдат, выделывал всякие штуки.
Когда белоголовый Лесунька, запыхавшись, прибежал к Аркаше, тот сидел в огороде на липе и огребал прилетевший к нему рой пчел.
— Дядя Аркадий! Тебя там зовут записывать куды-то!..
Задрав голову кверху, крикнул Лесунька.
— Сейчас… Дай, вот, рой огребу!
Мужики у завалинки в это время говорили о диковинах, какие делает Аркаша:
— Хитроумный парняга! На что уж: недавно к самовару дома свисток приделал… Как скипит, так и засвистит! Уморушка…
— Намедни говорит мне: «Я, говорит, скоро к таратайке своей такую машину приспособлю, чтобы она, как я поеду, на музыке играла…».
— Когда у человека голова с умом, так он все может… хошь и безрукий… — сказал Гришага.
Наконец, на улице появился и сам Аркаша. Перед ним бежал, насвистывая на новой таловой дудке, Лесунька.
— Тут вот говорят, что ты паразит?! — обратился к подходившему Аркаше председатель.
Аркаша поджал губы на своем безбородом, бабьем лице и, вытаскивая из кармана трубочку, сказал:
— Меня хоть горшком зовите, только в печь не ставьте.
— Та-ак… — протянул председатель, — запишем, — и стал писать что-то в книгу.
— Ну, никого больше нету?
— Нет, кажись, нет!.. — ответили мужики…
— А что будет тем, кто в паразиты-то записан? Вспомоществование какое, что ли?
— Не знаю… — сказал председатель. — В приказе сказано, чтобы они только вот на выборы не ходили и на собрания всякие тоже…
Кто-то тяжело вздохнул.
— А это, голова, вам здорово подвезло, — вздохнув, сказал Гришага Веденин.
— Дд-а-а…
— Ты вот что, Данил Митрич! — тронув председателя за плечо, сказал Гришага и тихо зашептал ему на ухо: — запиши-ка и меня в паразиты-то эти… Уж будь покоен, я в накладе не останусь… по силе возможности…
— Да чего тут, пиши всех! — громко сказал дядя Кирьяк, услыхав из окна последние слова Гришаги.
— Все, мол, паразиты… И больше ничего!
— Вот это верно! Пиши всех! А мы уж для тебя, Данил Митрич, постараемся…
— Пиши, пиши…
— Да мне-то, собственно говоря, все едино… Как хотите…
— Только Мокея, прасола, не пиши! Пусть-ка он, брюхатый бес, промнется… За нас там повыбирает… Ему делать-то нечего!..
— Верно, верно! Чего ему сдеется! Да и какой он паразит! Рожа-то в-во! Лапы загребущие, с утра до вечера чертомелит, все ему мало! Еще спят все, а он ни свет-ни заря на ногах — уж такой до дела… Прямо смотреть тошно…
Наклонившись, старик Пахом спросил председателя:
— Вот что, милой, у старухи моей нога не годится, так ей бы в больницу надо… Что же ей теперь за так там будут лечить, али как?
— Не знаю…
Председатель что-то торопливо писал в раскрытую на коленях книгу:
— Мокей-то! Мокей-то обрадуется… Ха-ха-ха… Один изо всей деревни!
— Да, пузом затрясет здорово!
Председатель кончил писать и закрыл свою книгу.
— Так все паразиты?
— Все, все, родной!..
— Семь дворов у нас в деревне-то?
— Семь… Мокея-то не пиши, он кулак!
— Я и так не записал. Прощайте покуда!
— Прощай, Данил Митрич… Мы уж по силе возможности…
— Ладно, ладно…
Председатель ушел, а мужики еще долго обсуждали это дело у Кирьяковой избы, пока бабы не подоили коров и не позвали мужиков ужинать.
II
Дядя Кирьяк жил вдвоем со слепой женой. Хозяйство у него было плохое, едва ли не хуже всех: плетень на дворе повалился, сам двор зарос густой травой.
Единственная скотина — лошадь — была стара, костлява, капризна в работе и славилась по всей деревне своей блудливостью.
Дяде Кирьяку часто приходилось выслушивать жалобы на свою лошадь от односельчан и даже от мужиков соседних деревень.
То она перемахнула через забор и потравила овсы, то, залезши в сад к дяде Аркаше, поломала яблони и разрушила какой-то сложный механизм, изобретенный хозяином, то, влезши мордой в открытое окно, сожрала у бабы стоявшие на подоконнике герани.
Дядя Кирьяк хладнокровно выслушивал жалобы мужиков, потом шел в конюшню к виновнице преступлений и, глядя на ее костлявую фигуру, длинную горбоносую морду, говорил:
— У-у… гада! Опять набедокурила, окаянная! Воровка чортова, одер, навязалась на мою шею!
И замахивался на нее кулаком. Лошадь испуганно дергала головой кверху. Сплюнув на пол, дядя Кирьяк запирал дверь конюшни на засов.
— Сиди не жрамши за это!..
Потом, почесывая большим пальцем левой руки спину меж лопаток, он долго стоял на дворе, глядя на небо.
Лошадь, высунув голову в окно, прорезанное в стене конюшни, внимательно наблюдала за ним.
Погрозив ей еще раз кулаком, дядя Кирьяк поднимался по скрипучему крылечку домой.
Окладные листы на налог прислали поздно осенью, а до деревни Танюхино они дошли только к зиме.
Когда мужикам об'явили о том, что нетрудовой элемент, т. е. паразиты и кулаки, платят налог в тройном размере, они сначала ничего не поняли и, поворачивая в руках бумажки с желтыми разводами, глядели то на них, то друг на друга.
— Ах, ты, мать твою… вот влетели! — вдруг словно очнувшись, сказал Сергей кузнец.
— Председатель виноват… Не об'яснил толком, а записал! «Паразиты, паразиты», а что паразиты, сам не знает. Из-за него и кутерьма-то вся идет!
Так, размахивая руками, закричал дядя Кирьяк, сдвинул свой драный малахай на затылок.
— А ведь как никак, а столько платить мы все равно не можем.
— Пойдем к председателю! Что, мол, ты, рази тебя горой, наделал! В какие паразиты ты нас записал?
— Холера тот проклятой, кто и выдумал-то эдакое слово, — пробормотал Гришага, закладывая свой лист в карман.
Когда все тесной гурьбой шли к председателю, в другое село по белой зимней дороге, утыканной еловыми вехами, дядя Кирьяк шел с Аркашей впереди всех и что-то горячо об'яснял ему, размахивая руками.
Аркаша длинный и высокий, в высокой же шапке, похожей на сахарную голову, шел крупными шагами рядом, иногда спокойно произнося:
— Ну да!.. Конешно… Оно так и есть…
Сзади всех, подпираясь на палочку, плелся старик Пахом. Уже начинало темнеть, когда мужики добрались до той деревни, где жил председатель. В окнах его избы горел огонь, а сам он с секретарем сельсовета, маленьким черненьким человечком, сыном дьячка, склонившись над столом, считал на счетах и писал какие-то бесконечные цифры на разграфленных листах.
— Упарились, чать? Подьте ужинать! — вытирая руки о подол, сказала жена председателя.
— Да, надо передышку сделать, — расправляя спину, сказал председатель.
Когда он только что хотел вместе с секретарем приняться за щи, дверь в избу отворилась и в нее ввалилась целая толпа. Первым вошел дядя Кирьяк.
— Ты что же это с нами сделал, Данил Митрич? — спросил он у председателя, махнув шапкой на озабоченные лица остальных мужиков.
— А что? — спокойно ответил председатель.
— С нас теперь дерут вот три шкуры… Налог такой наложили, что самих-то нас продать — не окупишься…
— Да-а… Тут ошибочка маленькая вышла. Пришел этто чиркуляр, ну а я, как председатель сельсовета, всемерно… должен… вообще…
Председатель замялся, наморщил лоб и, не досказав, махнул несколько раз рукой.
— Что же ты, рази тебя горой, не об'яснивши толком, записал-то нас всех? — сердито крикнул кузнец Сергей.
— Да вы сами напросились…
— А мы почем знали!
— А я должен все знать по-вашему? Раз он председатель, так и вали все на него… Нашли китайского святого… Бестолочи…
— Погодь, не ругайся! — сказал дядя Кирьяк.
— Ты скажи, что нам теперь делать-то?
— Я ничего вам сказать не могу, поезжайте в уезд, просите… А мое дело маленькое… И дернул вас чорт записаться всех! Сказали бы, что никого в деревне паразитов нет, и обошлось бы все дело тихо и мирно…
— Мы думали, значит, коли запишемся-то, так насчет собраниев послабка выйдет… А оно вишь как дело-то загнулось!.. — глядя в потолок, сказал Гришага.
— Думали насчет вспомоществования что… — вздохнув, сказал и старик Пахом.
Дядя Кирьяк с малахаем в одной руке, долго задумавшись, смотрел себе под ноги, на кошку, выгибавшую спину у его подшитых толстой стелькой валенок, а потом, словно очнувшись, спросил:
— Так в уезд?
— В уезд. Здесь ничего не сделаешь, — ответил председатель, принимаясь вместе с молчаливым секретарем за щи.
Мужики потоптались еще некоторое время, повздыхали, пока дядя Кирьяк не сказал:
— Ну, пойдемте… Делать нечего…
У крыльца все еще долго стояли и говорили. Потом единогласно выбрали дядю Кирьяка, как грамотея, ходоком в уезд.
Когда мужики шли от председателя домой, дядя Кирьяк возмущался происшедшей историей больше всех, картинно описывая, как он выхлопочет в уезде все, что им нужно, и как нагорит за эдакие штуки ихнему председателю.
— Не знает ни черта, а в председатели пролез!
— Сами выбрали…
— Кто его выбирал? Один Костька коммунист из Гордеевки орал прытче всех…
— Из-за этого вот Костьки и на собрания-то ходить не хочется, хошь голосуй, хоть нет, все равно они с Мишкой красноармейцем по своему списку проведут.
— В уезде-то будешь, так и их, сукиных детей, притяни! Завыбирали, мол, они нас тут в доску! От собраниев да заседаниев — податься некуда…
— Уж я там всех пропеку, будьте благонадежны! — сказал дядя Кирьяк, возбужденно блестя глазами.
Дома дядя Кирьяк долго не мог успокоиться, все рассказывал жене свои планы предстоящей поездки. Она, сидя у печки с куделью на гребне — пряла и, слушая дядю Кирьяка, покачивала головой и мигала темными впадинами слепых глаз.
На следующий день завернул сильнейший мороз, окна покрылись толстым слоем льда, деревья заиндевели и стояли совсем белые.
Колючий мороз в неподвижном, тихом воздухе больно щипал щеки, нос и уши, а самый воздух сделался густым, как вода, так что даже дышать трудно было.
— Ну и холодок! — переступая ногами по полу, сказал озябший Микеша, забежавший утром наведаться к дяде Кирьяку.
Дядя Кирьяк, сидя на печи и почесывая спину, посмотрел на окно, потом на Микешу.
— Холодно?
— Чего там… Галки на лету дохнут!
— Вот так ай-яй! — покачал головой дядя Кирьяк.
— Поедешь? — спросил Микеша.
— Да — надо… Только без тулупу-то ведь нельзя.
— Замерзнешь… — утвердительно кивнул головой Микеша.
— А у меня его нет!
— Попроси у кого-нибудь.
— Попросить можно, только у кого? У тебя нет, у Сереги нет, у Гришаги тоже… У Пахома и спрашивать нечего…
— У Мокея есть… — робко сказал Микеша.
— Что ты, что ты! Рази он даст! Удавится…
— Да, это верно…
— В Гордеевку придется итти… Э-эх! — зевнул дядя Кирьяк.
Вместе с белым клубом пара ввалился в избу Гришага.
— Ну и мороз! Здравствуйте!
— Поедешь? — спросил он у дяди Кирьяка.
Дядя Кирьяк уныло опять посмотрел на окно, потом на Гришагу.
— Тулупа у меня нет…
— Попросить можно, это не беда!..
— Дай-ка мне газетки, дядя Кирьяк, — курить смерть охота!
Все трое, свернув козьи ножки, задымили на всю избу.
— Что-то остальные не идут?
— Придут… Прошение писать ведь надо.
И, действительно, скоро пришли и остальные. Дядя Кирьяк с неохотой слез с печи, достал из-под божницы пузырек с чернилами и ручку. Развернул лист бумаги, поплевал на перо и вытер его об волосы. Увидев, что он готов, мужики подсели ближе к столу.
— Теперь, значит, пиши… Что, мол, так и эдак…
— Я и сам знаю, — сердито оборвал дядя Кирьяк Гришагу.
Мужики замолчали. Среди общей тишины было только слышно скрипенье пера да попискивание Аркашиной трубочки.
Когда бумага была написана и прочтена, все облегченно вздохнули, утирая вспотевшие лбы.
— Здорово накатал! — похлопал дядю Кирьяка по плечу Сергей кузнец.
— Где бы мне тулуп вот достать?
— Это не беспокойся, достанем!
Долго еще потом сидели мужики у дяди Кирьяка, пока не стемнело.
Все эти дни мороз не ослабевал. Тулупа все дядя Кирьяк достать не мог. Так и потекли дни за днями. Соседи, ходившие к дяде Кирьяку, сначала довольно часто, стали ходить все реже и реже. Иногда, встретив его где-нибудь на улице, спрашивали:
— А что, дядя Кирьяк, скоро поедешь?
Дядя Кирьяк останавливался, смотрел на спрашивающего, потом на небо и отвечал:
— Вот потеплеется маленько, что ли… Кабы тулуп был…
Наконец, потеплело, мороз смягчился, все опять стали наведываться к дяде Кирьяку.
Однажды он об'явил соседям, что завтра едет. Утром, снарядившись из дому, он сунул в карман полушубка свернутое трубкой прошение и пару лепешек.
В конюшне, когда он возился со сбруей, лошадь учуяла запах с'едобного, исходивший из его кармана. Потянувшись мордой, она вытащила бумагу, пропахнувшую лепешками и принялась жевать ее. Когда на двор пришли мужики, дядя Кирьяк искал чересседельник, который, как на зло, провалился куда-то.
— А ведь тебя эта коняга до городу-то не довезет! — сказал Серега, глядя на лошадь.
— О-о? — откликнулся дядя Кирьяк, откуда-то с поветей.
— Да-а… Лошадь плоха… — заметили и остальные, заходя со всех сторон и оглядывая лошадь.
— Ты бы покормил ее хоть, что ли! — крикнул кто-то.
— Да я ее ровно уж кормил… — сказал дядя Кирьяк, подходя с чересседельником в руках.
— Никуда лошадь не годится, она тебя двух верст не провезет! — уверенно произнес Гришага.
— Так вот у тебя, Гришага, лошадь-то получше, дай-ка ему с'ездить!..
Гришага сразу осекся и задумался.
— Оно верно, лошадка-то у меня ничего… Да баня еще не чинена… Леску бы повозить…
— А батюшки! Где у меня бумага-то!!! — вдруг всплеснул руками дядя Кирьяк.
Все принялись искать.
— Вот она… Ах, ты гадина окаянная… стерва проклятая! — закричал он на лошадь, поднимая с пола конюшни изжеванную и обмусоленную бумагу.
— Одер-то мой!.. Скотина несчастная! Сожрала бумагу-то, ведь!..
— Ах, ты мать-те так!.. Вот история!..
И мужики в несколько голосов принялись ругать лошадь. Она, уныло опустив голову, со свалявшейся гривой на худой шее, едва шевелила ушами в ответ на их забористую ругань.
Так незаметно дело дошло до обеда.
— Ну, а кто же теперь на ночь глядя поедет? Да еще бумагу эту надо сызнова писать.
У мужиков и руки опустились. После обеда, сидя в избе дяди Кирьяка, долго разговаривали.
— Ведь поедешь, так тоже не сласть. Вон слободские баяли, в прошлом году у них кто-то ездил, так две недели проездил… Из одного места да в другое… Так их там замытарили, — у людей уж работы начались, а они все ездили…
— А Мокей вон каждую неделю в городе бывает…
— Ну, да ведь он как есть стервец, так он везде поспеет. А вот хорошему человеку — всегда так…
И опять потекли дни и недели. Никто в город не ехал.
К дяде Кирьяку и приставать перестали — чего же человеку делать, коли у него лошадь бумагу с'ела.
Только когда по вечерам мужики опять собирались на завалинке у Кирьяковой избы, всех мучил один вопрос:
— Пени-то, пени-то, чай там сколько наросло?..
— Ох, и не говори…
— Ведь это не то что лошаденку со двора, а и домишко-то снесут!..
— Да-а… Сейчас помереть — снесут…
— Чудак, каждую неделю небось все растет и растет.
— Ах, царица небесная, матушки… Пропадем.
П. Жеребцов Боксер Моринэ
I
Моринэ лежал на берегу небольшого ручья, стараясь уйти от палящих лучей африканского солнца.
Солнцем было напитано и накалено все. И все живое искало защиты в тени, где раскинувшись можно было дышать легче и свободней.
Мысли далеко унесли Моринэ. Утлый челн не раз заносил его по Конго, за пределы его племени; но сегодня его мысль шла дальше того, что он видел и знал. Лежа на животе без малейшего движения, Моринэ задавал себе ряд вопросов.
— Куда бежит Конго?
— В Большое море! — ответил сам себе негр.
— Что там за морем?
Моринэ слышал, что за этим морем есть еще земли, откуда приходят жадные «франки» и «энглизы».
Некоторым старикам из его племени посчастливилось провожать этих белых пришельцев на охоту. Старики со слов пришельцев рассказывали, что у белых людей есть чудные города с множеством людей. В этих городах творились чудеса.
Моринэ не знал, можно ли было верить рассказчикам, или нет, но, по их словам, в городах белых людей были огромные боевые колесницы, издающие гром и убивающие сразу сотни людей; кроме того, были колесницы, которые мчали людей быстрей антилопы и страуса. Моринэ слышал, что белые люди могут летать на чудесных машинах под облаками, как птицы.
Моринэ глубоко вздохнул: как много в мире прекрасных сказок!
Эти сказки так хороши, что некоторым из них следовало бы и поверить! Но зато другие — сущая выдумка: ну, как человек может летать без крыльев? Кондор закрывает собою солнце, — он велик и могуч. А человек…
Моринэ видел однажды белых, ехавших на странных машинах. Они болтали ногами и колеса слушались их и везли. Это было великое чудо; но они ехали по земле.
Моринэ видел еще, как белые вынимали бумагу и внимательно смотрели на нее. Тогда негр приходил в ужас: они беседовали с этой мертвой бумагой! Когда ему попался в руки клочек такой бумаги, он долго вертел этот клочек в руках. На нем были черные знаки. Моринэ понюхал бумагу, но она ничего не сказала ему.
Сколько чудных вещей имелось у белых людей! Если бы побыть подольше среди них и присмотреться к их жизни!
В глазах Моринэ бедная негритянская деревня становилась еще бедней и меньше.
Моринэ вздохнул еще раз.
— Может ли черный быть таким же, как белый? — задал он себе вопрос.
— Может! — тикнула колибри, и Моринэ улыбнулся.
День кончался. Веки мечтательного Моринэ дрогнули, и через минуту негр уснул.
Спит бедняга негр под склоненным кактусом и видит дивный сон. И пыльная пальма, стоящая рядом, шепчет ему сказки о царстве белых людей.
II
Мистеры Скаррон и Берлэй с помощью слуг сбросили свои тюки и через переводчиков об'яснились с начальником негритосского племени.
Белые привезли с собою порох, дробь, мыло, ножи и, главное, огненную воду. Тут же были бусы, блестящие пуговицы и тысячи других безделушек, с которых дикари не сводили жадных глаз.
В обмен за эти сокровища, купцы требовали слоновую кость и желтое железо. За свои товары пришельцы брали также шкуры убитых зверей. Меж начальниками племени и белыми шли жаркие торги и мена, и к вечеру вся деревня была пьяна.
Мистер Берлэй весело потирал руки.
— Ну-с, дружище Скаррон, — мы кажется хорошо успели!
— Досадно, что мало оказалось спирта! — отозвался Скаррон. — Не разбей мы в пути большую посуду, мы бы имели остаток слоновой кости.
— Нечего плакаться, Скаррон! Скажите спасибо и за то, что имеем. Лишь бы удачно довезти все это. Мы и так перегружены всем этим добром. Придется нанять лишних мулов.
— Как хотите, а остаток слоновой кости должен быть нашим, — ответил Скаррон.
Купцы расположились поудобней и готовили себе кушанья.
— Смотрите, Берлэй. Что это за молодец такой? Он стоит уже часа три под-ряд и рассматривает нас с величайшим вниманием.
— Интереснее всего то, что он один не пьян из всего села.
— Он не сводит с нас глаз.
— Быть может, это их часовой?
— Но молодец-то какой! Давайте подзовем его к себе и поднесем ему стаканчик.
Скаррон знаками подозвал к себе Моринэ.
— Эй! Подойди-ка сюда, молодец!
Негр эластичной походкой подошел к англичанам.
Пока молодой негр стоял вдали, он казался только стройным. Но когда он подошел к белым вплотную, он поразил их и своей мощью.
Мышцы пластами покрывали его грудь, руки и ноги.
Скаррон и Берлэй переглянулись.
— Но он выше вас, Берлэй! — воскликнул Скаррон. — А в вас без малого шесть футов!
— Гладиатор, чорт возьми! Это кажется и есть то, что ищет мистер Эртс! Нам представляется случай заработать десять тысяч и грешно упускать этот случай, Скаррон.
— Надо расположить этого дикаря к себе.
— Экий ты Геркулес! — воскликнул невольно Скаррон, рассматривая Моринэ с таким же вниманием, с каким он принимал от дикарей слоновую кость, золотой песок и звериные шкуры.
Хлопая негра по плечу, он подарил ему нож, который Моринэ принял с улыбкой и непонятными словами.
— Понимаю! — воскликнул Берлэй. — Понимаю, друг черномазый, чего ты хочешь! — и Берлэй налил ему полный стакан водки.
Тот отрицательно покачал головой.
Купцы с недоумением переглянулись и спросили негра через переводчика:
— Чего ж ты хочешь?
Переводчик, присев на корточки, быстро начал говорить с Моринэ.
— Он спрашивает, из какой вы земли пришли?
Собеседники рассмеялись.
— Почему он отказывается пить?
Переводчик вновь заговорил с Моринэ.
— Он говорит, масса, что огненная вода причиняет жителям деревни горе.
— О, чорт! Это уже слишком! Вы слышали, Берлэй! Рассуждения этого дикаря похожи на воскресную проповедь миссионера из «Армии Спасения».
— Скажи-ка этому Голиафу, — обратился Скаррон к переводчику, — не захочет ли он ехать с нами в Новый Свет? Там он увидит своими глазами то, что его интересует.
Переводчик передал негру слова Скаррона. Белки негра радостно засверкали, и он с оживлением что-то заговорил.
Переводчик об'яснил:
— Моринэ согласен. Он согласен ехать с белыми людьми в их землю хоть сейчас.
— Нам положительно сегодня везет! — обратился Скаррон к Берлэю, — ко всему товару мы имеем еще и живой.
Путешественники вновь начали рассматривать Моринэ.
— Десять тысяч мистера Эртс можно считать своими!
— За этот товар можно взять и дороже!
III
Пароход миновал статую Свободы и высадил в гавань массу людей. Вместе с другими пассажирами высадились Скаррон и Берлэй. Рядом с ними шагал рослый, плечистый негр, с огромным любопытством озирающийся по сторонам.
Волна людей исчезла с пристани, устремляясь в муравейник города. Скаррон и Берлэй подошли к довольно приземистой, блестящей колеснице, сказали несколько слов человеку, сидящему впереди, и вдруг машина рванула и понесла всех трех приезжих по улицам гиганта города.
Моринэ чувствовал, что его приятно подбрасывает на мягком сиденьи, в то время, как колесница рвалась все вперед и вперед. Скаррон и Берлэй сидели спокойно, откинувшись на спинку сиденья. Видно было, что машина мало занимала путешественников, хотя дьявольская сила, скрытая в колеснице, рычала и пронзительно кричала на прохожих.
Моринэ мельком видел еще много таких машин. Весь ад был, очевидно, в руках у белых людей, — так подумал Моринэ.
Над головой едущих вдруг раздался страшный гул, и Моринэ сделал инстинктивное движение, порываясь соскочить с авто и скрыться.
Скаррон и Берлэй с улыбкой остановили его. Они улыбались в то время, когда Моринэ видел, как вверху над домами по железным палкам несся, должно быть, самый сильный и страшный дух, увлекая за собой небольшие разноцветные хижины. Очевидно, бес этот был зол и утомлен, ибо он грохотал колесами по железу, ревел, страшней бегемота и льва и пускал из своей огромной пасти облака дыма и искр.
И это не удивляло и не пугало спутников Моринэ! Наоборот, выйдя из авто у станции, они вошли в одну из хижин, стоявших спокойно на железных колесах, и через минуту сами неслись над крышами домов, спокойно рассуждая о своих делах и не обращая ни малейшего внимания на грохотавшего дьявола.
Позже Моринэ узнал, что этот злой дух прочно взят белыми в плен и исправно служит им.
Путешественники на станции вышли и опять безлошадная колесница мчит их во весь дух.
На одном углу какой-то воин, очевидно, начальник племени белых, поднял небольшую палочку, и движение колесниц и хижин, едущих на колесах, внезапно прекратилось.
Наконец, Моринэ и его спутники под'ехали к огромному зданию.
Из его дверей выскочили расторопные белые, одетые во все черное, с смешными хвостами сзади. Они низко кланялись приезжим.
Моринэ с удивлением увидел, что люди в черном кланяются также и ему.
Моринэ сообразил:
— Ага! Люди в черном — это пленники белых из другого племени.
И вот, багаж путешественников в руках этих белых рабов, и, в сопровождении их, приезжие входят в гостиницу.
Но что это? Моринэ осторожно замедлил шаг и незаметно остановил Скаррона.
— В чем дело, Моринэ?
Моринэ приложил палец к губам и показал рукой вперед: им всем троим грозила опасность: хитрые люди в черном просто на просто завлекли их сюда в ловушку: они вели путешественников в небольшую, но прочную железную клетку.
Точно такие клетки, только из дерева, Моринэ делал у себя дома для зверей.
— Назад, масса! — с ужасом говорит Моринэ и вынимает нож. — Нас трое, и, пока мы на свободе, мы справимся с этими людьми!
— Что с тобой? — не понимает Скаррон.
Моринэ старается об'яснить своим спутникам опасность, но — странное дело! — Скаррон и Берлэй спокойно и весело улыбаясь входят в страшную клетку и садятся на скамеечку. Они знаками приглашают Моринэ последовать их примеру.
Негр растерянно смотрит на людей в черном, на их улыбки и решается погибнуть вместе со своими друзьями.
Он так и знал! Дверца захлопнулась, и они в плену! С ними еще один белый, из вражеского лагеря.
Но что это?.. Клетка скользит и поднимается вверх, слегка вздрагивая на железных канатах.
Злой дух, должно быть, и здесь в руках белых людей, но он несет странную службу. Он или пьян, или все перепутал и поднимает души живых людей в Вечную Долину.
Но нет! Он исправляет свою ошибку. Клетка останавливается, ее дверцы открываются, и проводник говорит что-то!
Моринэ входит в жилище белых.
Столы, стулья, кровати, зеркала. Со многими из этих вещей Моринэ познакомился еще в дороге. Он внимательно осматривает себя в зеркало и улыбается своему костюму.
Путешественники меж тем мылись, чистились и плескались в воде. Иногда они прикладывали палец к пуговке у двери, и тотчас люди в черном приносили кушанья, убирали комнаты, говорили о чем-то.
Пуговка заинтересовала Моринэ, и он, пересилив страх, незаметно нажал ее. Тотчас же появился человек в черном, и Моринэ широко раскрыл рот: волшебство белых начинало слушаться и его.
Между тем, Берлэй подошел к столу и, сняв со стола какую-то трубку, начал делать страшные заклинания.
Моринэ не сводил с него глаз, а Берлэй, приложив к уху чудесную трубку, продолжал говорить. После этого путешественники ушли, приказав Моринэ остаться и никуда не уходить.
Моринэ сделалось скучно. Вдруг ему пришло на мысль: каким путем Берлэй мог делать свои заклинания через эту трубку?
Следуя примеру Берлэя, он снял телефонную трубку и приложил ее к уху. Несколько мгновений он слышал странный шорох. Это были шаги невидимого духа. И вдруг негр с воем вскочил и бросил трубку далеко от себя. Он услышал голос невидимого духа, раздавшийся в этой трубке.
Моринэ оглянулся. В комнате никого не было. Он пытливо заглянул под кровать, за шкаф и убедился, что в комнате он был один.
Походив немного по комнате, Моринэ вспомнил о чудесной кнопке и начал нажимать ее.
Человек в черном вошел и, спросив, что угодно? не дождавшись приказания, ушел. Моринэ захотел испробовать действие кнопки еще раз. И опять человек в черном пришел и ушел снова. Это так понравилось Моринэ, что он начал звонить без конца. Человек в черном в отсутствии белых вел себя с Моринэ вызывающе и даже дерзко. Когда он пришел чуть ли не в десятый раз, то стал кричать на негра и даже замахнулся на него рукой.
Моринэ схватил его за ногу и, высунув лакея в окно, продержали беднягу над бездной улицы несколько минут.
Человек в черном вдруг перестал кричать, и когда Моринэ хотел его поставить на пол, он увидел, что тот был похожим на мертвого. Бедняга с испуга лишился чувств.
На крик лакея в комнату вошли новые люди и начали угрожать Моринэ.
Моринэ повыбрасывал их одного за другим, как детей. И тут, на счастье Моринэ, вернулись Скаррон и Берлэй и уладили дело.
Потом они долго об'ясняли Моринэ назначение каждого предмета, и Моринэ начал понимать.
— Завтра же надо сдать этот товар! — сказал недовольный Скаррон.
— Да! Хлопот с ним куча! — согласился Берлэй, и, следуя примеру Скаррона, он вытянулся на своей постели. Путешественники поговорили еще немного и заснули.
Пружинный матрас погнулся под гигантским телом Моринэ. Он несколько раз подбросил его тело, и, возможно, Моринэ долго бы еще качался, наслаждаясь упругостью пружин, но сердитый окрик Скаррона прекратил это интересное занятие. Тогда Моринэ заснул.
IV
На другой день Скаррон и Берлэй опять усадили Моринэ в машину и куда-то повезли. У ворот одного дома они слезли с авто и вошли в под'езд.
Их встретил высокий сухой господин и сразу же острым взором впился в Моринэ.
— Давайте его сюда, мистер Скаррон! — сказал белый, и компания вошла в дом.
В зале, куда все вошли, было полное отсутствие мебели, но посреди зала было особое место, огороженное веревками. По стенам были развешаны перчатки для боксерского боя, тут же висели мешки и нагрудники.
Мистер Эртс еще раз внимательно посмотрел на Моринэ и приказал:
— Разденься!
Скаррон и Берлэй словами и знаками показали Моринэ, что от него требуется.
Моринэ улыбнулся и благодарно посмотрел на Эртса: наконец-то он встретил хоть одного белого, который разрешает сбросить с себя эти проклятые тряпки.
Моринэ быстро разделся. Мистер Эртс отступил на два шага от дикаря и не мог сдержать крика восхищения.
Эртс был страстным спортсменом и ценил, как никто, всякое проявление человеческой силы и красоты. Он закрыл на миг глаза и открыл их опять.
— Благодарю вас, мистер Скаррон, и вас, мистер Берлэй! — с чувством благодарного волнения сказал Эртс и весело потер руки.
— Вот это товар! Это то самое, что я искал! Благодаря вам, ринг получает чудесного боксера!
Эртс вынул чек, вписал туда несколько слов и передал чек Скаррону.
Обе стороны были довольны и расстались.
Уходя Скаррон и Берлэй знаками приказали Моринэ остаться, а сами ушли.
Моринэ и Эртс остались одни.
Эртс дружески хлопал негра по плечу и что-то долго говорил ему. Моринэ вопросительно смотрел на него и, почти ничего не понимая, скалил свои белые, крепкие зубы.
V
Прошел месяц. Моринэ не имел причин жаловаться на новую обстановку. Эртс кормил его, как на убой, обращался с негром ласково и даже дружески.
Но, кроме того, мистер Эртс начал заставлять Моринэ много бегать, прыгать через веревочку и поднимать тяжести.
Сначала Моринэ удивлялся этому, а потом привык и часами бил наполненный опилками мешок и подвешенную к потолку «грушу», стараясь угодить Эртсу.
В глазах негра Эртс был странным человеком. Он вечно выщупывал мышцы негра, как обычно это делал Моринэ у лошади-зебры у себя дома. По вечерам, когда Эртс был особо доволен Моринэ, он брал его в кино или в театр.
Театр, особенно опера, очень понравились Моринэ. Чтобы заслужить музыку, Моринэ до изнеможения бил проклятый мешок.
Слушая пение и музыку, Моринэ блаженно закрывал глаза, влюбленно ловя звуки мелодий: это были голоса добрых духов. Они заставляли Моринэ забывать о пинг-боле.
Однажды мистер Эртс застал Моринэ в глубоком раздумьи. В ответ на вопрос Эртса, Моринэ достал книгу и заявил, что он хотел бы уметь беседовать с ней, как и белые.
Эртс рассмеялся.
— На что тебе это? Брось эти глупости. Скоро у тебя будут более веселые разговоры на ринге. Помни, друг Моринэ: кулаками ты говоришь вообще сильнее, чем языком. Хороший кулак, это такой авторитет, с которым не в силах спорить умнейшая голова!
Мистер Эртс еще раз рассмеялся, а Моринэ опечаленный сидел над книгой.
VI
Вечером того же дня Эртс и Моринэ были в опере. Пели русские гастролеры. Моринэ пришел в неописуемый восторг и начал шумно выражать его так, что Эртс довольно энергично остановил негра.
После театра Эртс прочитал Моринэ целую нотацию, об'ясняя ему, как некрасив был его поступок.
— Но мистер Смирнов и мисс Нежданова пели так прекрасно, масса!
— Это еще не значит, что ты должен ржать во все горло, как дикая лошадь! В крайности, ты можешь аплодировать. Вот так!
И Эртс показал, как надо аплодировать.
Моринэ был искренно удивлен и обескуражен: неужели нельзя немножко порадоваться и пошуметь?
В негритянской деревне после удачного набега или охоты все племя собиралось обычно у огромного костра и под заунывные звуки «там-там» начинались самые бешеные и воинственные пляски. Моринэ сам десятки раз скакал вокруг костра с такими же оглушительными криками и завываниями, как и все его сородичи. Это было красиво и весело.
Эртс, между тем, продолжал втихомолку «натаскивать» Моринэ. Под руководством Эртса работа ушла далеко вперед.
Однажды сам мистер Эртс надел перчатки и начал учить негра уже настоящему бою.
Моринэ покачал головой.
— Я и так побью кого угодно, масса, без всяких правил.
— Это увидим. А пока, парень, смотри и запоминай как следует удары.
Надев перчатки, Эртс заставлял негра драться с собой. Моринэ был не только удивлен, но и испуган: как он может ударить своего господина?
Однако негр улыбнулся и пустился на военную хитрость. Он позволял Эртсу бить себя, как тому хотелось, но сам же делал только вид, что бьет его.
Эртс сразу заметил это и вышел из себя. Он сердито затопал ногами.
— Негодная собака! Ты начинаешь не слушать меня? И это за мои хорошие отношения к тебе? Хорошо же, чорт возьми!
Моринэ в то время уже кое-как об'яснялся по-английски.
— Я не могу вас бить, масса. Вы такой добрый! Лучше бейте меня!
Эртс неожиданно рассмеялся. Уж слишком искренний и подкупающий тон был у Моринэ.
— All right!.. Ты немного глуп, мой милый Моринэ! Ну, хорошо! Я не сержусь на тебя больше, но с одним условием.
— Я все исполню, масса! — радостно воскликнул Моринэ, видя, что Эртс больше не сердится на него.
— Ты должен обещать мне, что ты будешь бить всех тех, кого я тебе прикажу.
Белки негра быстро забегали, и он угрожающе поднял свой кулак.
— О, да! Буду!
— Тогда, Моринэ, мы друзья попрежнему.
VII
Однажды в сарай, где обычно происходил тренинг Моринэ, вместе с мистером Эртс пришли еще два человека. Один из них был настоящим великаном. Все трое говорили меж собой.
Моринэ, державшийся на почтительном расстоянии от беседующих, слышал, как эти три джентльмена часто произносили его имя, и догадался, что речь идет о нем.
— Попробуем! — громко сказал один из пришедших.
— Слушай, Моринэ! — сказал Эртс. — Прошу тебя, будь другом, поколоти хорошенько вот этого человека. Он должен мне деньги и не хочет их отдавать до тех пор, пока он не признает себя побежденным.
— Хорошо, масса. Я даже могу убить его, если прикажете.
— Нет, нет, Моринэ! Ты должен только поколотить его хорошенько. Но в правильном бою, как я тебя учил.
— Хорошо, масса. Я готов.
— Если ты сумеешь это сделать, то мы будем целый вечер играть вместе на музыкальном ящике.
Принесли «бой»[4] и роздали перчатки противникам.
Белый великан угрюмо смерил глазами стройную фигуру Моринэ и процедил:
— Хорош, проклятый!
Эртс скомандовал время, и белый устремился на негра.
В воздухе просвистел страшный удар, который был в состоянии опрокинуть все живое. Великан вложил в удар всю свою силу и, нанеся удар, застыл на выпаде, потом он зарычал от злобы.
Моринэ звериным прыжком ушел от удара и сейчас же ударил сам, заставив боксера припасть на колено. Едва тот поднялся, как Моринэ с такой силой ударил Модеста, — так звали боксера, — что тот упал, раскинувшись навзничь.
Моринэ гордо, как истый победитель, наступил противнику на грудь и издал зловещий боевой клич своего племени. Однако Эртс сердито оттащил его от лежащего великана и закричал:
— Этого нельзя, Моринэ! Этого нельзя! Бой кончен! Теперь ты должен помочь своему противнику подняться. Ты должен помнить о гуманности. Гуманность, Моринэ, это первая вещь, чорт меня передери!
Моринэ стоял разинув рот и, глядя на лежавшего без чувств в луже крови противника, рассеянно слушал белых людей.
Бедный негр был сбит с толку: он не понимал, почему от него требуют милостивого отношения к противнику.
— Простите, масса! — сказал Моринэ. — Я не знал, что не нужно быть злым! Моринэ не будет больше злым и не будет больше бить так сильно белых господ.
— Бить нужно, но не становись ногой на противника, как только тот упадет. Понял?
— Нет! — искренне сознался Моринэ.
Эртс зло сплюнул и сильно выругался.
Наконец, Модеста привели в чувство. Сидя на полу, великан сплюнул кровью и, пожевав губами, потирал рукою разбитую челюсть.
— Посмотрите, будьте добры, мистер Эртс. Кажется, челюсть перебита ко всем чертям этим молодцом! — сказал он.
— Вы правы, Модест! Ваша челюсть перебита как следует и требует долгого ухода. Как вы себя чувствуете?
— Я, как будто, встаю из гроба. Мне кажется, что на меня вдруг обвалилась целая скала в тысячу тонн…
— Чорт возьми! Это дает нам большие надежды!
— Этот негр чистое золото! Вы затратили свои деньги не зря, мистер Эртс! Вы знаете хорошо мой класс и если это говорю я, то…
— Браво, Моринэ! — воскликнул сияющий Эртс и долго жал пораженному негру руку.
Наконец, с трудом поднялся и Модест и одобрительно похлопал негра по плечу.
— Хорош! Но прошу прощения, джентльмены, я присяду.
— Ну-с, Моринэ! Побей еще второго джентльмена, но не так сильно, как первого, и мы будем музицировать сегодня весь вечер.
— Этот господин тоже вам должен?..
— Сущие пустяки… Но проучить все же немного следует и его.
Моринэ вздохнул и встал в позицию. Эртс дал время. Второй американец, помня страшный урок, данный Модесту на его глазах, осторожно подступал к негру.
Моринэ не уходил от ударов. Сам же он, видимо, не решался бить.
— Что ты делаешь! — закричал вновь взбешенный Эртс. — Дерись как следует!
Моринэ с опасением посмотрел на своего тщедушного противника и, боясь «испортить» и его, начал наносить легкие и быстрые удары. Он кружил около американца с быстротой пантеры и с легкостью птицы увертывался от малейших выпадов противника. Кроме школьных ударов, которым Эртс научил его, Моринэ показал массу своих оригинальных.
После круга американец покачал головой.
— Чорт возьми! Это не человек, а пружина! Даже его легкие удары заставляют вас брать себя в руки, чтобы не упасть с ног и продолжать бой.
Эртс довольно улыбнулся.
— Будем продолжать!
— Я думаю бесполезно, — откровенно сознался боксер. — Я не могу причинить ему малейшего урона, но сам чувствую, что у меня ноет все тело от его простых толчков.
Эртс расцвел совершенно.
— Скажи пожалуйста, Моринэ, ты смог бы свалить этого джентльмена одним ударом?
— Да, масса! И еще многих других.
— Хорошо! Докажи же нам это и на сегодня хватит.
Противники стали en garde.
Эртс дал время.
Почти следом за временем Эртса, Моринэ прыжком кошки был около Крэвэ и коротким точным ударом опрокинул его наземь.
— Довольно, Моринэ!
— Браво, Моринэ! Браво, чорт побери! — кричат в исступлении Эртс и Модест.
— Машина! Настоящая машина! — восторженно говорит Модест, придерживая разбитую челюсть.
— Yes! — соглашается бледный Крэвэ.
— К хирургу, мистеру Дод! — говорит Модест и идет с Крэвэ на улицу.
И авто уносит боксеров в бесконечный гул Нью-Йорка.
После ухода боксеров Эртс еще долго ликовал и хлопал негра по плечу.
А Моринэ, прислонясь к стене, размышлял. Его удивляло то, что белые, которых он побил, не только не сердились на него и не выказали никакой вражды, но при прощаньи подошли к нему и дружески пожали руку.
Моринэ растерянно и долго смотрел вслед уехавшим боксерам.
Что за странные люди эти белые? Неужели у них нет зла?.. Но тогда зачем же они заставляют избивать себя до полусмерти? Ничего не понимает Моринэ и идет с Эртсом к музыкальному ящику. Эртс празднует победу.
VIII
Скоро спортивный мир Нью-Йорка узнал про негра-боксера и заговорил о нем. Вокруг имени Моринэ поднялся газетный бум. Промелькнула заметка о том, что какой-то негр с риском для собственной жизни выхватил ребенка из-под колес мчавшегося автомобиля.
Другая заметка сообщала, что какой-то негр свалил взбесившуюся лошадь ударом кулака и спас седоков и кучера от гибели и, наконец, все узнали, что тот же негр поднял колоссальную чугунную плиту, которую с трудом подняли бы десятки людей, лишь для того, чтобы достать закатившуюся туда мелкую монету плачущего бедняка.
После этих заметок в журналах появился снимок Моринэ. Но особенный шум в газетах поднялся в тот момент, когда был назначен матч Моринэ — Кольберн.
Портреты противников были развешены везде и всюду и предстоящая схватка затмила собой все остальные злобы дня.
До матча оставалось с месяц. За это время пронырливые сторонники Кольберна устроили закрытое пари с Эртсом.
Ход этих джентльменов был прост и ясен: они будут стараться испортить негра до боя с Кольберном. Или в меньшей мере хорошенько присмотрятся к тактике боя негра.
Эртс понял замыслы противника и весело принял предложенное пари.
— Мы смело можем играть в открытую! — сказал сам себе Эртс. — Мы проиграть не можем, ни сейчас, ни после!
В противники Моринэ сторонники Кольберна дали искусного бойца — молодого англичанина Тсодди. Англичанин был самоуверен и блистал отличной выдержкой. За ним числилось не мало хороших побед и если его и развенчал тот же Кольберн, то это приписывали мелкой случайности: во время боя у Тсодди вдруг свело судорогой ногу. Тогда этим воспользовался Кольберн и дал нок-аут.
Второклассное положение заставляло Тсодди итти на амплуа «щупальцев» классных бойцов или быть их тренером. За хорошую плату приходилось делать и то, и другое. Его собственное имя было испорчено этим дурацким ревматизмом: приступы судорог могли повториться еще раз, и он не находил поэтому охотников ставить за него еще раз.
Тсодди охотно взялся за дело с негром.
Удачный конец поставил бы его имя на хорошее место, и тогда реванш, — он и Кольберн, — неизбежен.
Но это дело будущего.
Сейчас Тсодди стоял en garde перед Моринэ и внимательно изучал негра, пока тому завязывали перчатки.
Тсодди был почти одинакового роста и веса с Моринэ. Возможно даже, что негр несколько уступал белому в весе.
— Смотри, Моринэ! — шепнул Эртс, — дай Тсодди поработать круг! Кончи его на втором.
— Хорошо, масса!
И круг начался.
Белый хотел ударить Моринэ в живот, но попал только в пустое пространство. Еще один цвингер с его стороны и результат такой же, как и в первый раз. Англичанин громко выругался, когда почувствовал, что земля ушла из-под его ног и он упал на пол: это Моринэ дал ему резкий короткий «прямой».
Тсодди поднялся и свирепо пошел на Моринэ, ловя его на удар. Но при каждой попытке получал по удару, от которого или летел или сгибался втрое. Ему, наконец, удалось ударить Моринэ в нос, но тотчас же собственный нос Тсодди залил кровью подбородок.
Моринэ бил легко, но так часто, что белый — ошалел. Разбитое и распухшее лицо Тсодди так изменилось, что пришедший к перерыву доктор Хорес с трудом узнал своего друга.
Эртс дал время. Но Тсодди не встал со своего места.
— Прошу прощенья, джентльмены! Но я чувствую, что мы проиграли. В сравнении с негром мои удары удары грудного ребенка.
— Время! Время! — закричали сторонники Кольберна.
— Хорошо, джентльмены! Я честно кончу бой.
И Тсодди пошел на Моринэ.
Тот с печальной улыбкой ударил Тсодди в грудь и англичанин не встал в положенный срок.
Сторонники Кольберна с проклятием покидали зал, а Эртс, сидя за столом, весело гремел деньгами и говорил:
— Спасибо Скаррону и Берлэю! Моринэ озолотит меня за несколько матчей!
И Эртс снова начал считать деньги.
Эти блестящие кружки были в большом почете у белых. Имея эти чудесные амулеты, можно было творить чудеса и чем больше их было в кармане, тем ниже сгибались спины других людей.
Теперь Моринэ понимал кое-что. Его кулак дает деньги Эртсу. И много денег. Он видел их на столе, когда Эртс считал их.
И он, Моринэ, побив Тсодди, давал Эртсу много этих кружков.
Эртс говорит, чем сильнее будет работать его кулак, тем больше будет этих денег.
Моринэ было трудно осилить свою мысль, и он запел тихую песню своей родины.
IX
Накануне боя с Кольберном, Эртс призвал к себе Моринэ и сказал:
— Моринэ! Завтра ты дерешься с Кольберном.
— Это тот самый масса, который нарисован в окнах на бумаге?
— Да. Он самый.
Эртс развернул журнал, и Моринэ долго смотрел на своего будущего противника.
Задача его, Моринэ, была простая и незатейливая: нужно было сокрушить своего противника, и так, чтобы тот долгое время не мог ни сесть, ни лечь, как следует.
Лицо Кольберна ему не особенно понравилось. С фотографии на него глядели надменные, самоуверенные глаза.
Моринэ вздохнул.
— Ты постарайся кончить его сразу, Моринэ.
— Да, масса. Но…
— Что, Моринэ?
— Я не хотел бы драться совсем, масса!
— Это почему? — и Эртс удивленно посмотрел на негра.
Моринэ стоял с опущенной головой и невнятно ответил что-то.
— Ты очень впечатлительный, Моринэ, — сказал Эртс, — ты можешь расстроить все мои планы. У тебя много силы и ловкости. Ты можешь быть непобедимым бойцом. Но у тебя нет этой бойцовской жилки, у тебя нет боксерского сердца, Моринэ!
— Да, масса! — просто ответил Моринэ.
— Посмотрим! Посмотрим еще немного. А пока что, прошу тебя, постарайся кончить Кольберна как можно быстрее. Это даст нам огромные деньги. Встреча с Тсодди оправдала мои расходы на тебя и дала, не скрою, кое-какие проценты. Но это еще не все. Я ожидаю от тебя гораздо большего. Встреча с Кольберном должна состояться во что бы то ни стало!
X
Вечером того же дня Моринэ и Эртс сидели в театре.
Осматривая публику в бинокль, Эртс вдруг толкнул Моринэ.
— Смотри, Моринэ! Вон твой противник!
— Это тот самый джентльмен, что сидит через одну ложу с нами?
— Да, Моринэ! Видишь, с каким любопытством он украдкой рассматривает тебя? Он явно волнуется. Я готов поручиться головой, что у него не все в порядке на душе после твоей встречи с Тсодди!
Моринэ продолжал смотреть на ложу. Рядом с Кольберном сидела прекрасная, белокурая лэди и, оживленно смеясь, что-то говорила Кольберну.
Кольберн плохо слушал ее и смотрел на спокойное лицо негра, на его широкие плечи.
Моринэ, в свою очередь, не мог оторвать глаза с ложи боксера: прекрасная лэди казалась негру неземным существом, спустившимся с высоты Вечных Долин.
Моринэ смотрел на нее, и сердце его громко забилось.
Но кто она? Сестра Кольберна? Его знакомая?
Моринэ даже приподнялся на стуле, рассматривая лэди.
— Что с тобой? — спросил Эртс, видя беспокойство негра.
— Я вижу этого ангела рядом с Кольберном, — сказал Моринэ. — Кто она?
— Это его невеста, мисс Уольтерс. Не правда ли, она красива, Моринэ?
Следующее движение негра показалось Эртсу необычайно комичным.
Моринэ неожиданно с глухим стоном опустился на свое место и закрыл лицо руками.
Эртс пробовал шутить, стараясь успокоить Моринэ, но тот оставался в своей удрученной позе.
Дали занавес. Оркестр заиграл увертюру. Но Моринэ не изменил своей позы, не поднял даже головы.
В антракте Эртс увлек Моринэ в фойе. Там же гулял и Кольберн с невестой.
Эртс и Кольберн раскланялись, как старые друзья.
Мисс Уольтерс с любопытством рассматривала Моринэ.
— Он кажется ручным, этот негр! — с нарочито громким смехом сказала она, и Моринэ улыбнулся ей своей печальной улыбкой.
В фойэ публика устроила боксерам такую бешеную овацию, что они принуждены были потихоньку выбраться из театра и раз'ехаться по домам.
Утром другого дня Моринэ был скучен и вял. Он мало говорил, и то с видимой неохотой.
Эртс озабоченно посмотрел на Моринэ и покачал головой.
— Что с тобой, Моринэ? Ты болен?
— Все в порядке, масса! Не беспокойтесь.
Эртс облегченно вздохнул и отер платком вспотевший лоб.
Моринэ промолчал и, пройдя по комнате раза два, неожиданно спросил:
— А что белые девушки — идут жить в дом черного?
Эртс весело рассмеялся.
— Понимаю, чорт возьми! Теперь мне все ясно. Мисс Уольтерс врезалась тебе в самое сердце! Ха, ха! Вот так штука, Моринэ! Да тебя растерзают судом Линча, если ты вздумаешь предпринять что-либо по отношению к ней. Нет, нет, парень! Я привык к тебе и даже успел полюбить тебя. Я был бы очень огорчен, если бы с тобой случилось что-либо дурное по милости мисс Уольтерс! Выбрось ее из головы!
Моринэ не мог понять.
— Значит я никогда не могу белую девушку сделать своей женой?
Глаза Моринэ сделались грустными.
XI
Специальные поезда были переполнены. Они везли джентльменов на матч Моринэ — Кольберн.
«Страшного» Моринэ ехал смотреть чуть ли не весь Нью-Йорк.
Кино фирмы устроили между собой торги, на которых распределили лучшие места для права зас'емки.
Несмотря на колоссальные цены, билеты были распроданы за несколько недель и котировались на бирже выше других ценных бумаг.
Не было ни одной фирмы, которая не принимала бы билетов на матч в уплату за товар.
В день боя, неудачники высунув языки бегали по всему городу в поисках билетов и не находили их.
За городом был выстроен огромный амфитеатр. Посредине его возвышался ринг.
Публика видела, как бойцов ввели на ринг и представили друг другу.
Моринэ, следуя наставлениям Эртса, дружелюбно подошел к Кольберну и протянул ему руку. Но этот традиционный жест повис в воздухе: Кольберн лишь пожал плечами и пошел на свое место.
Моринэ низко склонил свою голову и пошел на свое место. Вместо злобы и ненависти в сердце черного было только чувство обиды. Пока ему надевали перчатки, он взглянул по сторонам и вдруг широкая улыбка зацвела на лице негра: белая девушка сидела в первых рядах и с беспокойством лорнировала его и Кольберна.
По ее возбужденным нервным движениям Моринэ понял, что она боится за своего жениха.
Раздалась команда: — секунданты — аут — и бойцы остались на ринге одни.
Судья дал время, и Кольберн осторожно, несколько наклонив корпус, приближался к Моринэ.
Моринэ спокойно стоял посреди ринга и с улыбкой наблюдал за прыгающим вкруг его Кольберном.
Круг подходил к концу, а ударов еще не было ни с той, ни с другой стороны.
— Кольберн! Это ринг, а не танц-класс! — крикнула здоровенная глотка доккера Грота.
— Да. Да! — раздались возгласы, — мы пришли на матч, а не на фокс-тротт! Это, наконец, скучно!
Но все же первый круг кончился без одного удара.
В перерыве Моринэ взглянул на мисс Уольтерс. Он ясно увидел страх в ее прекрасных глазах.
— У этих белых сердца зайцев, — прошептал Моринэ и улыбнулся.
Он выработал себе свой собственный план боя.
— Что ты делаешь, Моринэ! — недовольно сказал Эртс. — Неужели ты боишься Кольберна?
— Наоборот, масса! Кольберн уже умирает от страха. Он не подал мне руки и теперь может раскаяться.
Эртс махнул рукой и ушел. Он знал, что у негра просыпалось иногда упрямство, которое невозможно было пересилить.
Дали время и начался второй круг.
Кольберн, глухо рыча, с разбега нанес негру страшный удар в челюсть. Моринэ остался стоять все такой же спокойный и улыбающийся.
Публика ахнула и зааплодировала. Негр явно демонстрировал свое превосходство и неуязвимость. При следующем ударе Кольберн мазал воздух, а когда он остановился — Моринэ с тихим смехом сделал небольшой выпад и простым толчком в плечо сбил Кольберна с ног.
Кольберн поднялся и растерянно смотрел на своего железного противника.
Моринэ сделал легкое движение, и Кольберн, вообразив, что Моринэ наносит удар, дал ответный, но так неудачно, что, не встретив никакого сопротивления, полетел на пол.
В публике поднялся гомерический хохот. Некоторые качали головами. Непобедимый и гордый Кольберн был сегодня беспомощным ребенком.
С одним джентльменом, приехавшим из Мексики, сделался удар: джентльмен считал себя разоренным.
Моринэ, видя, что противник упал не от его удара, нагнулся, чтобы помочь Кольберну встать, но тот, взбешенный смехом толпы, сильно ударил Моринэ в нос, так что показалась кровь.
— Первая кровь!
— Подлость и больше ничего!
— Кольберн! Будьте джентльменом!
— Учитесь у негра быть порядочным!
Моринэ, получив нечестный удар, с укоризной поглядел на Кольберна.
Тот с прежней яростью прыгал около Моринэ до тех пор, пока негр дал ему свой излюбленный и страшный по силе короткий «прямой», от которого Кольберн полетел опять. В толпе раздался пронзительный женский крик.
Кончился второй круг.
Моринэ сел и взглянул на мисс Уольтерс.
Она плакала. На прекрасных глазах мисс стояли крупные слезы.
Удар гонга, и Моринэ, гордо выпрямившись, идет на Кольберна, Моринэ видит, что противник избегает его.
«Великий» Кольберн бегал! — Протяжные свистки и шиканье публики не могли остановить его.
Моринэ с презрением посмотрел на своего противника и легким прыжком приблизился к нему. Он загнал Кольберна в угол и страшным полуударом-полутолчком сбил его с ног.
Судья начал считать, а Моринэ отошел на свое место и ждал.
Кольберн быстро вскочил и с храбростью отчаяния бросился на негра.
Новый резкий удар, и Кольберн снова летит с подавленным стоном: хлынувшая струя крови из носа залила его лицо и грудь. Боксер в бешенстве ударил кулаком о пол.
Изумленная публика никогда не могла забыть этого круга. Как только Кольберн поднимался, негр простым толчком сбрасывал его на землю вновь.
За четыре круга Кольберн от этих толчков едва не лишился рассудка. В перерыве он лишь бессмысленно смотрел на лица своих друзей и бессвязно отвечал на задаваемые ему вопросы.
Секунданты Кольберна заговорили о «праве губки»[5]. Решено было выждать еще один круг и бросить губку. — Кольберн был слишком ничтожен для страшного Моринэ. Это видел каждый из присутствующих.
В начале нового круга Моринэ легким ударом сбил Кольберна с ног и, когда тот медленно поднялся, Моринэ быстро вплотную подошел к Кольберну, и…
Толпа вдруг заревела в тысячу глоток: негр упал.
Многие клялись и уверяли потом, что Кольберн едва ударил его. Другие говорили, что это был даже не удар, а инстинктивное движение боксера для защиты от очередного «толчка» негра:
Это было одно из тех темных и загадочных дел, которые иногда бывают в жизни ринга.
Негр лежал. Поднявшийся Кольберн был сбит с толку и, ничего не понимая, озирался по сторонам.
Под рев толпы Моринэ с застывшей улыбкой лежал секунды три на боку. На пятой секунде негр повернулся на спину и посмотрел на Кольберна таким презрительным взглядом, что тот опустил глаза и тихо сказал:
— Вставайте, чорт возьми, или я ударю вас лежачего!
Негр улыбнулся снова и оставался все в том же положении.
— Девять!.. Десять! — и аут! — отчеканил судья.
Тогда Моринэ с необычайной легкостью встал.
— Обман! Обман! — завопили яростные голоса и на ринг полетели камни и стулья.
Взбешенный Кольберн уже без перчаток подошел к Моринэ и дал ему пощечину.
Моринэ схватил его за руки, так что у Кольберна затрещали кости и, поставив его, как ребенка на колени, громко, чтобы слышали все, сказал:
— Мистер Кольберн, вы победили! Этого для вас достаточно! Я бы мог убить вас одним ударом. Но я оставляю вашу жизнь для мисс Уольтерс, которую я люблю. Ее счастье — мое счастье.
Кольберн бледный спустился с ринга. Его карьера была кончена. «Великий» Кольберн был развенчан, и ринг уж никогда не видел его больше.
Усиленный наряд полисменов с трудом сдерживал ярость толпы. Пришлось пустить в ход дубины. Пожарная команда открыла воду. Сильный напор воды освежил горячие головы.
Моринэ быстро вышел из своей уборной.
Держась стороной, он искал глазами мисс Уольтерс. После пережитых минут ему хотелось взглянуть на свое божество еще раз. Один лишь взгляд, и все будет хорошо.
И вот Моринэ видит мисс Уольтерс, она идет под руку с Кольберном. Боксера сопровождают его друзья. Сам Кольберн мрачен, как осенняя туча.
Мисс Уольтерс пробует заговорить с ним, шутит, но видит растерянный и смущенный взор и скоро смолкает. Она и вся компания садятся в трамвай.
В несколько прыжков Моринэ был около компании, и, готовясь войти в трамвай, занес ногу на ступеньку.
— Нельзя! Вагон для белых! Для черных идет следующий вагон! — остановил его сердитый голос кондуктора.
Смущенный Моринэ все еще стоит на подножке и не знает как быть?
— Слезь — черная обезьяна! Это относится к тебе! — злобно говорит мисс Уольтерс, приближая зонт к лицу негра.
Моринэ порывисто схватил зонт, не сознавая своего желания, и тут же выпустил его из рук и тихо отошел от трамвая…
Стихи
В. Наседкин Зимнее утро
По мутным склонам небосвода С глухих плотин, издалека Ползут разливы молока, Как в половодьи тихом воды. В них притаились крики вьюг И не один метельный ворох… И мнится — ловит чуткий слух Далекий и протяжный шорох. Проглянет облако на миг, Блуждая тенью по беспутью, И так же вмиг белесой мутью Задернется в полях немых. И день, и сумрак, как не свой — Висят зевотой ледяною Вблизи, вдали и с высоты, И сумрак тот же за луною, Что опустился на кусты. И небо здесь, и небо там — Неслышных облак полный стан.* * *
Но вот, где толпы облаков С утра темнели стаей пленных Да изредка синела высь, — Безумье ярое белков Вдруг опускается вселенной, К нам опрокинутою вниз. Оно молчит и взгляд потухший, Слегка похожий на гранит, Несытой жадностью глядит На наши вздрогнувшие души, На наши тощие сердца. (Взгляд обезумевший слепца). И вновь по склонам небосвода С безвестных рек, издалека Ползут разливы молока, Как в половодьи тихом воды…* * *
Но миг еще, и вот растет Шатер опущенный полмира, И веет сказкой от высот Полувоздушного Памира. И сердцу трепетно легко. Скользит минута золотая. И верится — недалеко Поля маисные Китая, Поля и рощи и луга, Песков желтеющая скатерть И розоватые снега Горы Кунь-Ляо на закате. Вот только приподнять бы край, Ножом по этой мглистой коже! — А там — нефритовый Китай На все Китаи непохожий.* * *
За полдень — снег. Без ветра — снег. Как белый пух, Как белый мех, Ложится тихо, как туман — Незванный гость полярных стран, Незванный гость, незванный друг, — Предтеча бурь и дымных вьюг.Михаил Голодный Мой стих
Всегда во мне живет мой стих — Пою ли я иль не пою, Средь сотен голосов чужих, Его я голос узнаю. Я бурею гражданских дел Его венчал, сзывая в бой, Чтоб он, куда хочу, летел То с легкой флейтой, то с трубой. Я с ним брожу вдоль старых стен, И жадно вглядываясь в тьму, Он слышит запах перемен, Пока не слышных никому. Сливаясь с ним, могу метать И ярый гнев, и нежный звон. Он будет для меня звучать, Как я хочу, а не как он. Высот косматых смутный гуд, Движенья вихрь и блеск огня, Отображаясь, в нем пройдут Через меня и от меня. И в час, когда веселый гром К победе призовет живых, Паду я на землю бойцом И рядом — мой последний стих.Евсей Эркин Уголь
Вот он дремлет, усталью об'ятый; Вот еще он дышит, и пока Зыблются под тенью лиловатой Угля воспаленные бока. В яркой печке, — значит, стало былью, — Все перегорит — и тишина. Значит, слепнуть и крошиться пылью, Чуя близкий запах чугуна. А поленьям снилось: будто птичка, Иль весна теплынью зацвела, — Просто пламя, невидимка-спичка В темноте зачиркала и жгла. И кора курчавилась в дурмане, Но боролась под сухим огнем Даже влагой, даже крепкой тканью, Что осталось в дереве немом. В печке солнца горячее стало, И от визга цепкой кочерги Все перемешалось и трещало, Сыпались лесные светляки. И когда сгребли их, полукругом Слушали жужжание горшков — О березняке над светлым лугом, О закатном рое комаров. Вот и стынет уголь лиловатый; Вот еще он дышит, но слегка Серый пепел, мрак холодноватый, Перехватит хрусткие бока.Николай Зарудин Московская застольная
Нет лучше московских поэтов, Нет слаще старинной Москвы, В туманы и чары одетой, Где гости заморские — вы. Мы песней, как брагой, богаты, Подносим к устам наизусть… Стоит под московской палатой Горбатая нищенка — Русь. Идите, волнуясь брезгливо, Заморские губы сложа. В лохмотьях старухи — на диво, Как ласточка, в’ется душа. У нас здесь китайские стены, Проклятье здесь ножик ведет. Нет слаще московской поэмы, Туманнее Спасских ворот! Здесь песня застольная, тая, На меди расплавится чуть… Огромный китаец ласкает Лебяжию русскую грудь. Здесь звоны, туманы и крики, Чаровница-мгла и покой И ангелов чорные лики Хранит заревой часовой. Он знает во мраке-покое Товарищи снят по гробам, Но чорную дверь приоткроет И — двери откроются вам. Москва! Стоязычная! Спой-ка Застольную песнь куполам. Поэты сегодня попойку Устроили знатным гостям. Блаженный Василий, тряхни-ка Цветные свои бубенцы. Кумачной твоей земляники Нам вина прислали купцы. Чем рады — так тем и богаты, Вином этим сердце тревожь. Пусть дремлет в глазах азиата Кривой, полусточенный нож. В нем верно — рубины Шанхая, Индийский палящий кармин. В щепотке Цейлонского чая Проклятья Кремлевских седин. И вот — изогнетесь бичами, Свистит на губах синева, А в очи — глядится очами Косая старуха Москва. Туманней, туманней — и нету — Ни звезд, ни парчи, ни молвы… Нет лучше московских поэтов, Нет слаще старинной Москвы!Павел Дружинин Изба
Изба — слепая вековуха — Какая грусть и простота! От крепкого ржаного духа Струится пот и теплота. Здесь я когда-то видел детство Под полушубком наяву, Но от отцовского наследства. Ушел бродяжничать в Москву. Я растерял твой хлебный запах, Иным я запахом дышал, Но и до-сель в мужичьих лапах Как зверь колотится душа. Вот так и хочется ржанины, — Хоть и горька — не утаю, И я подолгу у витрины Московской булочной стою. И долго, глаз не отрывая От запотевшего стекла, Хочу занять у каравая Немножко детского тепла. Но всякий раз, всплеснув руками, Бранюсь в лицо своей судьбе За то, что все тепло на-память Она оставила избе.М. Скуратов Острог
За поселенскою старинной слободою Насупился воинственный острог… Эй, не кивай мне древней бородою, Кто за туманами и пасмурен и строг! Не выпалят они — стрелецкие пищали, Не выстрелят из пушки казаки, Чтоб инородцы их — задиры — не стращали Каленою стрелой из-за реки. Пусть спят они — дряхлеющие бревна И деревянные бойницы наверху, — Сторожевая высь и башенки во мху, Пусть спят они задумчиво и ровно. Враги давно учуяли покой И по рукам ударили вояки, Чтоб косоглазые и русские и всякий Смирилися на сходке круговой. Не сетуйте, воинственные башни, Что на стенах не дремлет караул, Что бранный клич и окрик завсегдашний В столетия глухие потонул. Прощайте, ржавые доспехи и кольчуги, Прощай, и вольное казачество, — прощай! Не поплывут отчаянные струги, Не понесут вас на Китай. И не пожалуют шубейки вам собольей, Вот, казакам, с покатого плеча… Не окружит орда татарская крича Ни на реке, ни на море, ни в поле. Лишь песни вольные, раздольнее, чем Волга, Те, что несли в далекие концы На парусной посуде удальцы Одни запомнились унылые надолго.Николай Дементьев В двери трамвая врываются будни…
В двери трамвая врываются будни В мокрых калошах и в мокрых плащах, Говор и гомон… Но я ли забуду Тебя в синем кэпи и в блестках дождя. Между голов только синь словно небо Над маленькой солнечной головой. Но все изменилось — и где я, и где мы, Все как и было — и нет ничего. Уже над ресницами — голубоватый, Свет ослепительный режет и жжет И под ногой у вагоновожатого Поймана птица и птица поет. Мчится трамвай, он летит перекрестками, Путь золотой от разбега горит, Звон жестяной у него под колесами, Плещет, как море, как море гремит. И не поймешь — ночь или утро то, Летний закат или вешний рассвет Но лепестками из рук у кондукторов В вихре летит за билетом билет. Ветер лесной и трава полевая, Косы, как солнце, как небо глаза. Слушай, приблизься ко мне, дорогая, Сядь, прекрати эту гонку трамвая — Время очнуться и время слезать. Будни врываются снова и снова, Воздух опал и колеса скребут. Брось мне полвзгляда, полсмеха, полслова. Ради минувших, как ветер, минут.ПО БОЛЬШАКАМ И ПРОСЕЛКАМ
Путешественник Безыменные земли
I. СОСНОВАЯ ГЛУШЬ
Деревня в Костромской глуши, ранняя осень.
И все, сопутствующее началу осени — и ночи, преисполненные звездного света, и дни, налитые солнцем, и деревенское затишье, и выжатые поля, — все, казалось бы привычное и знакомое, пленяет нарядной, всегда чудесной новизной.
Деревня, называемая «Безымяновкой», заброшена в далекую, почти непроезжую глубину древнейшего российского уезда, в звонкую зелень его вечного мрака, в густоту столетних, пышных и гулких сосен. Бор, с двух концов замыкающий деревню, очень стар и почти дремуч: в нем есть глубинные, медвежьи овраги, встречаются нежданные чистейшие озера, на которых кочуют великолепные — стремительно скрывающиеся лебеди, а в моховых болотах бора, в их потаенных, недоступных окраинах попадается прекраснейший, повсеместно вымирающий зверь, тяжкорогий, голубовато-сизеющий лось.
В этом бору всегда думается о старине, о каких-то пещерных людях, и я почти не удивился, когда, в одну из своих охот, натолкнулся на две обветшалые, вросшие в землю, кельи, подобные тем, какими изображаются они на древних лубочных картинах. Это было в безветренный июльский вечер, на опушке, сплошь затопленной брусничным теплом заката, и я, смотря на атласно-лучистые, уже темнеющие сосны, над которыми плавал грустный, посвистывающий ястребок, долго стоял в каком-то изумлении, словно не зная, где и в каком веке я нахожусь? Из кельи вышел старик в рубище, с маленькими, злыми глазками на заросшем лице, со спутанными серебряно-ржавыми, редкими волосами на высоком, туго приподнятом затылке. Он шел за водой, к озерку, лазурной подковой лежащему в травах, проходил мимо меня, и я попытался было разговориться с ним. Старик, однако, сразу притворился дурачком: заморгал правым глазом, отмахнулся — «не слышу, мол, ничего не слышу», и быстро побрел дальше, испуганно сторонясь моей собаки, настороженно косившей на него своим вишнево-бархатным глазом. Юрод, богоискатель, колдун?
— Святой человек, целитель, — сказала мне встретившаяся на гумне баба. — Живет, — говорила она, — в лесу, собирает травы, молится, больным помогает.
— Чем же он лечит?
Баба оправила платок, по старинному перевязав его концы, и шопотом ответила:
— Дает целебный настой, читает из священной книги.
— И много ходят к нему?
— Мно-ого. Другой раз за сотни верст везут хворых да квелых.
Я попытался расспросить о старике у других.
Молодой парень из красноармейцев, каждый праздник отправляющийся в далекое, за 20 верст, село, чтобы получить там залетевшую из уезда газету, сказал про старика зло и коротко:
— Шут и плут.
Парень, оказывается, и сам был когда-то в глухой лесной келье.
— Отца туда возили, — хворал.
— Что же вышло?
— Да ничего не вышло, — с горячностью заговорил парень, — вышло только то, что отдали полпудика крупчатки, да две банки варенья.
Парень ухмыльнулся и, шутя, облизал губы.
— Ведь он, целитель-то, любит, чтобы было все повкусней, да послаще: ему давай медку, колабашек сдобных, не отказывается, конечно, и от сметанки с яичками. Люби-итель.
— Что же было с отцом?
— У отца был нарыв в роту, на небе.
Парень громко расхохотался, но продолжал, как бы с грустью и сожалением:
— Почитал над ним наш святой по книге с застежками, дал бутылочку воды — самой простой воды, из озера, и хлебную корочку: «ты, грит, помочись на ее, а потом положи на зуб».
Мой собеседник досадливо развел руками.
— И надо же было так случиться: поехали обратно, нарыв — пришло ему время — и прочкнулся, он еще с утра в тот день стал заметно мягчеть. Ну, а отец, конечно, во вся уверовал с тех пор в целителя: «слова, чу, не дам вымолвить впоперечь, — святой он человек, большую силу имеет»…
— Вот эдак-то, — пристально посмотрел на меня парень, — все и выходит: у одного случай, второй верит чужому слуху, третий не хочет отстать от второго, — вот эдак-то и получается святой. Идут, едут — помоги, батюшка, спаси, родной. И досадно, и жалко.
Он помахал передо мной газетным листом.
— А вот, попробуй, отпиши сюда — заклюют: нас, молодых, здесь раз-два, да и обчелся. Глухая у нас сторона.
Сторона действительно глухая. Заброшенная Безымяновка, деревушка в пятьдесят дворов — совсем деревня из древности: маленькие, почти курные избы, девичьи наговоры и заговоры, радуница — весной, гаданья — на святках. В Безымяновке еще водят языческие хороводы, поют песни, похожие на заклятья, пашут, как пахали далекие русичи, деревянной сохой, боятся белки, забежавшей в деревню — она считается гостьей пожара, в ужасе бросаются от пролетевшего над избами ворона — к смерти! — и жадно ловят каждое свежее, извне принесенное, слово.
Тихо, тихо в Безымяновке. Устало лепечет ветер в сухих лозинах, однотонно и жалобно поет, укачивая ребенка, худенькая нянька-девочка в рваном ситцевом платье, с мигающими голубыми глазами. Старая, золотисто-пепельная собака-лайка, с хрипом бросается на стрекочущую, близко подскакивающую к ней сороку, но сорока, вздрагивая хвостом, поднимается, и, поднявшись, застывает в воздухе, все учащая и дробя свой четкий, играющий стрекот. Идет, тяжко опираясь на калиновую палочку, старуха, почти столетняя, сухая, морщинистая, с отвислой челюстью, в старинном гороховом платке, ликом похожая на сказочную Ягу. Идет она медленно, озираясь, круто замахивается на бросившуюся к ней в ноги испуганную курицу и все что-то шепчет и шепчет, косо покачивая головой.
Парень, рассказывавший мне о лесном «целителе», вспомнил и об одной из таких старух, слывущей в деревне знахаркой и являющейся, вместе с тем, повитухой. Он рассказал об одном мужицком горе, только что случившемся в соседней деревне, называющейся — Погост.
— Там одна молодая женщина два дня мучилась с родами. Привезли к ней бабку. Бабка старая, известная на всю округу — один глаз не видит, одно ухо не слышит, одна нога не ходит, — оп-пытная бабка. — «Помоги, баушка, — просит муж роженицы, — уж так она мучается, — слезы». «Можно, соколик, можно, — шамкает старуха, — никто, как бог». Потребовала бабка гвоздь — костыль, укрепила его на веревке, начала орудовать. Роженица вопит, бабка утешает: «потерпи, ненаглядная, потерпи, радость: Христос терпел, и нам велел»…
Парень опять досадливо размахнул руками и заговорил глуше, понижая голос:
— Бабка доорудовалась до того, что вытащила ребенка со сломанной шейкой, с перебитыми ноженками, а молодая — умерла. А была работница, красавица, золото-баба…
Я слышал этот рассказ ночью, — мы сидели на пороге сенного сарая, пахнущего легким, пыльным, душистым теплом. Запах сена мешался с запахами росы, — роса пахла холодом, ромашками, капустой. Неподалеку от нас, на гумне, кружком сидели несколько девок. Они то запевали — «Распрости, прощай, ясный сокол мой», и голоса их звучали нестройно-грустно, но чисто и нежно, то, оборвав песню, смеялись — дружным, чуть сдержанным и оттого еще более веселым смехом. Потом они стремительно рассыпались, прячась за ометы, одна из них жутко и тяжко вскрикнула: «Змей, змей летит», — и я, подняв глаза, увидел метеор, легко и пышно проносившийся по небу. Радужный, дивный, полыхающий широким, цветисто-призрачным светом, как бы светом морских глубин, он, сгущая свое сияние до жуткой, почти звенящей ослепительности, узорно рассыпался за косогором.
— В Погосте упал, в Погосте, — испуганно покрикивали девки.
Девки несмело жались друг к другу, а одна из них, подойдя к нам, заговорила все с тем же испугом:
— Это она к ему летает, покойница, к мужу — уж так-то тоскует он по ней, так убивается…
— Про ту самую женщину говорит, что умерла от знахарки, — шепнул мой собеседник.
Он вздохнул: — «глухая наша сторонушка», — шутливо подтолкнул девку, но она только глубже закуталась шалью и смотрела туда, где рассыпался метеор, и где все еще зыбился розоватый, тающий свет.
II. НА РЕКЕ-ЛАЗУРНИЦЕ
Полуденная прогулка… Золотится солнце над полями, дремотно гудят шмели на гумне, синеют церковные главы над старыми березами, — я в большом селе, уже в другом уезде, но все в той же Костромской глуши.
Село большое, торговое. Здесь среди изб, таких же, как и в Безымяновке, почти курных, загаженых, гудящих от множества мух, встречаются полукаменные дома с расписными крыльцами, низкими балконами и малиновыми садиками под окнами. В них живут серебреники, — веселые, хитрые мужики, льющие венчальные кольца, тяжелые цыганские серьги, кокетливые девичьи брошки, тонкие, лапчатые нательные крестики.
— В этом селе есть старое кладбище, тихая кедровая дубрава, похожая на сад — так много здесь жимолости, бузины, малины, и внизу, в широкой, благоуханной долине, неглубокая, неторопливая река: мягкая, прохладная Лазурница. А над ручьем, впадающим в Лазурницу, у его истока, под двумя обнявшимися березами, стоит бревенчатая, сгнивающая, тронутая моховой зеленью, часовня. Ступеньки ее притвора забрызганы шелухой семячек, ее дубовые врата замкнуты тяжелым ржавым замком, — часовня заброшена, забыта. Ручей когда-то (впрочем, недавно) считался исцеляющим: бабы, погружая в него свои глиняные кувшины, широко и тихо крестились, прохожие, глотая его игриво-студеную влагу, молитвенно обнажали свои головы.
На стене часовни сохранилось немало записей, оставленных путешественниками.
Уездный протопоп начертал по-славянски — узорно и мудро: «Со страхом и верою приобщился из ручья благодати твоея». Жеманная епархиалка-Клаша мечтательно записала в сторонке: «Пила с надеждой, отдыхала. Шум ручейка похож на воркотню горлицы». «Горлица моя, Клашечка, — присовокупил проезжающий в разоренное имение дворянчик-улан, — уста твои слаще всех ручьев в мире. Эх бы»… Учитель классической гимназии, преподававший русский язык, похвалил мечтательную Клашу: «Видна начитанность: фраза переходит в образ». Фельетонист губернской газеты, Кондрат Беззубов, описывающий столь знаменитый ручей, тут же с'язвил: «Их бина, дубина, полено, бревно, ведь ты — образина, мы знаем давно». А провинциальный поэт, Жоржик, служивший в хлебном лабазе и считающий себя символистом, написал даже стихи, посвященные ручью:
В сей день, безоблачный и ясный Мой драгоценнейший фиал, Фиал алмазный и прекрасный Я в очи неба погружал. И я напиток тот атласный Как мед струительный вкушал, И дух мой, мучася всечасно, Все рвался к небу и клектал…А совсем недавно кто-то из окрестных парней рассыпчато вывел углем: «Ета не ручей а как вся лиригия опиум народнай»…
И недавно, этим же летом, около часовни был антирелигиозный митинг, — его устроил проходивший через село советский коробейник, по-деревенски — офеня. Впрочем, новый офеня ходит уже без короба, а только с одной холщевой котомкой. В его котомке лежат газеты, брошюры — он, попросту беседуя с мужиками, читает и рассказывает. Он, обычно, селькор, странствующий по своему уезду, по своим родным краям. Офеня, проходивший через село, был очень молодым, золотисто-русым и загорелым. Одетый в широкую, голубую рубаху, в туго перевязанные старинные лапти, он шел не спеша, опираясь на длинную рогатую палку — совсем как те странники, что шли когда-то по российским проселкам в Киев или Задонск. На митинге он говорил споро и дельно, без малейшей развязности, и мужики слушали охотно, соглашаясь, а священник, принесший с собой старую синодальную библию, казался застенчивым и смущенным.
В селе две церкви, два священника. Один — тот, что пришел на митинг — молодой, румяный, крепкий, любит щегольнуть муаровой рясой, выпить из покатого высеребренного стаканчика и, выпив, спеть на старинный семинарский распев «Дубрава шумит». В его саду, за уютным каменным домом, есть пасека, — это рачительный и жадный хозяин. Он даже вывесил на церковных дверях об'явление с точным обозначением цен за похороны, свадьбы и крестины.
Другой священник, давно не ладивший с ним, понизил цены, и число его прихожан значительно увеличилось. Этот второй священник, уже старик, очень худ, сед, византийски-тонколиц и задумчив. Он одевается в ветхую монастырскую рясу, туго заплетает китайскую косицу и целыми днями сидит на речке Лазурнице с удочками, под шелковым зонтиком попадьи, сохранившимся еще со времен ее девичества. Он просыпается очень рано: чуть только старый звонарь «Рашпиль» выйдет из караулки, направляясь к колокольне, — священник уже перед ним, и в полном облачении: в одной руке длинные ореховые удочки, в другой круглое расписное ведерко.
— Ты куда, Рашпиль? — остановит он сторожа.
Рашпиль перекрестится и, почесав спину, улыбнется.
— Благовестить, батюшка.
— Не трудись, друже, — отмахнется священник, — окуньку сейчас самый клев, — берет, подлец, в заглот с первого раза. А окунек нынче спелый, жирный — прямо, как белорыбица.
И, заглянув в церковь: — «ишь, ты, и народу три старухи, да и то одна слепая», — священник неспеша спускается вниз, к тихой, прохладной, туманно-зеркальной Лазурнице. Там, в душистом сквозящем ивняке, сидит он целый день, празднично белея своим шелковым подвенечным зонтом. Он сидит как бы в забвеньи: его не оторвешь ничем. Однажды случилось совсем необычное: пришел сельский парнишка и принес записку — от его давнишнего врага! «Духовный брат мой, — сообщал тот, — вспомни евангелие: едино стадо и един пастырь. На селе — баптист, будет собеседование. Нужно действовать общими силами, и тогда бог одолеет диавола». Священник ухмыльнулся и написал в ответ: «Поймано три головля. Четвертый — на мази. Ты — не бог, баптист — не диавол, а счетовод из кооператива. Протрезвись, отец». Собеседование обошлось без него.
Баптист, частый деревенский гость, смиренный человек в черной рубахе, с вьющейся угольной бородкой, выиграл тихостью и смирением — организовал «ячейку». Потом она увеличилась. В селе уже слышатся протяжные стихиры о Христе, задумавшемся у «сонных вод», а на антирелигиозном митинге уже выступал местный молодой мужик, застенчивый, похожий на старорусского блаженного, говоривший о «боге внутри нас» и отрицающий церковные праздники и «размалеванные доски».
Митинг происходил в праздничный день и был цветист и наряден. На ступенях часовни сияли батистовые, канареечные, голубые и розовые девичьи кофточки, в вышине проходили медлительные шерстяные облака и вдали чуть погрохатывало — перед коротким, благодатным, быть может последним летним дождем, за которым так мягко веет изумрудно-млечная, золотисто-туманная радуга. Было жарко, даже душно, над ручьем дремотно вились бабочки, разбивались на танцующие пары, свивались в стайку, и мотыльковая стая, кружась в верхушке березы, напоминала цветущее ожерелье из лепестков. За ручьем, по лугу — живой, согласно-шумящей волной — двигался пионерский лагерь. Шагавшая сбоку рослая девочка, крепкая, загорелая, в ловко перевязанном через шею алом платочке, гордо поднимала голосистую призывную трубу. Пионеры пели:
В небесах пророк Илья На коне катается. Интересно знать, друзья, Чем там конь питается…И голоса их растекались над лугом весело, уверенно и задорно. А за лугом, на берегу Лазурницы, в беззвучном ивняке, розовато белел заветный зонтик, — священник, забыв обо всем на свете, жадно следил за янтарным поплавком. Поплавок вздрогнул, круто пошел влево, лучисто звездя водяную гладь, но затих, и священник увидел, оглянувшись, подходившего к нему «серебряника». Он был красен, размахивал руками и хмурился.
— Рыбкой, стало быть, занимаетесь? — спросил он.
Рыболов недовольно цыкнул и указал на заигравший, торопливо бегущий в глубину, поплавок.
— А ты тише, тише. Аль, не видишь! Самый клев пошел…
Он потянул удилище. Золотоперый окунь стукнулся о прибрежный песок, сверкнул голубоватыми, замыкающими его кольцами и успокоился в подрагивающей рыбацкой руке.
— Ну, гостек дорогой, пожалуйте в ведерко, — довольно посмеивался священник.
И, одевая на заостренную серебрящуюся удочку нового верткого червяка, весело косился на соседа. А сосед вздыхал:
— Этот мальчишка совсем доканал отца Сергия. Отец Сергий ему по библии, а он попросту, да так метко, что накрыл батюшку, как корзиной. Батюшка о Георгии Победоносце, а он о тракторе. Батюшка о Косьме и Дамиане, а он — о шестиполье. Уж, и сукин сын.
Серебряник посмотрел в сторону часовни.
— А теперь говорит наш Гришка, этот все попа-расстригу в пример сует.
Григорий, комсомолец, однолеток лектора-офени, говорил неумело, но горячо и убежденно. И, слушая его, я вспомнил, как на-днях пришел в сельский совет мужик с длинными волосами, круто срубленными на затылке, в потрепанном, нескладно сидевшем на широких плечах, пиджаке и в порыжелых, расползающихся сапогах.
Поданная им бумага, заявление об отречении от священнического сана и о выделении ему трудового земельного надела, заканчивалась узорной славянской фразой:
— Дуют ветры с востока, и веют ветры с запада. А глаголемое с амвона есть тлен.
III. ЗОЛОТЫЕ ИМЕНИНЫ
В деревне праздник — дожинки урожая.
Серебряная коса со звоном подрезает последние колосья яровых, на полях все пышнее разбрасывается древнее кочевье снопов. Когда-то, в славянскую старину, на этих же полях, последний сжатый сноп называли «именинником», одевали его в сарафан, затканный алыми маками, по сарафану заплетали широкие ленты, сохраненные с Троицына дня, а на его возглавие, снизу украшенное блистающими монистами, клали кокошник, подобный подсолнечнику, с расписной ниспадающей бахромой. Вокруг снопа водили хороводы, пели величальные песни, а потом, высоко вознося «именинника», несли его в деревню. В деревне встречали его с поклонами и честью и угощали принесших свежим, только что выпеченным хлебом. Хлеб подавали на широком деревянном блюде, перевитом прохладным, чистым рушником, — по краям рушника сыпались крупные цветы, вышитые первой деревенской красавицей. И опять пели протяжно-величавые песни о наливном зерне, сравнивая его с морским жемчугом, и опять вели язычески-радостные хороводы.
Это — обряд глубокой старины, уже давно и всюду забытый. Но основа его — радость урожая — жива, разумеется, и теперь. И теперь усталые девицы, перевязывая сноп тугим колосяным пояском, чувствуя в руках крутой, наливной жемчуг зерен, работают размашисто и споро, с прибаутками и песнями. А мужик, везущий снопы на гумно, на ток, под гулкий дождь цепов, уже не торопясь крутит душистую цыгарку и с довольством оглядывает избы и амбары хозяйски-умно и хитро, прищуривая запыленные глаза.
Иногда, обгоняя крестьянскую телегу, вытянешь из ее пахучего, перезванивающего облака длинный ржаной колос, попробуешь на зуб его тугое, чуть терпкое зерно и, садясь рядом с мужиком, внимательно взглянешь на него.
— А урожай нынче добрый.
Мужик еще глубже прищурит поигрывающие синевой глаза, заботливо оправит сползающий, растрепавшийся сноп — «а ты не падай» — и, крепко затягиваясь махоркой, наклонит голову.
— Да, ничего, не жалуемся.
В деревнях уже выпекают каравай из «нови», едят его особенно осторожно, подбирая каждую упавшую крошку, а по вечерам уже дымятся овины, и их дым пахнет приятно и тонко — мягкой, легкой сушью. Осень, урожай.
Урожая ждали со страхом и надеждой. Долго опасались недорода, — зима была странной и, почти, жуткой: то опускались глубокие, но мягкие метельные снега, то падали ледяные дожди, траурно обнажавшие землю, то подолгу держалась гололедица, покрывающая озими прозрачной, самоцветной броней. Весна, однако, проходила ровно, с теплыми туманами, благодатными дождями и солнечно-паркими днями, — и бледная озимь быстро налилась цветущим теплом, переполнилась звенящими соками, зацвела, закудрявилась, засияла васильками, молодо и густо зашумела под ветром. А лето, непрестанно звучащее короткими грозовыми ливнями, озаряемое по ночам жаркими зарницами, залило поля изумрудными волнами овсов, тонко позолотило ячмень, подняло из земных недр раскидистые мягкие травы. И когда начался сенокос, когда луговые и лесные травы ложились под косой ровно и тяжело, благоухая от переполняющей их влаги, — в их падении, в их сочности и блеске, — во всем уже ясно чувствовался урожай.
И вот — осенняя, спокойная синева неба, шелковая пряжа паутины, потаенное молчание лесов, по верхам сквозящих позолотой, широта выжатых, открытых полей. Поля с каждым днем сверкают все чище, все просторнее, со снопов шумно вздымаются дикие голуби-вяхири, — тяжелые, оловянно-голубые, розовогрудые птицы, — и как хорошо итти среди этих полей, переполненных прозрачным, голубеющим светом и тишиной. Встреч почти нет, только изредка попадется тряский, старомодный тарантас, везущий финансового инспектора, или городского коммуниста, посланного на работу в деревню, обычно смуглолицего рабочего, жадно присматривающегося к окружающей его полевой новизне, — и опять тянутся пустынные, безымянные дороги, проплывают старинные ветрянки с тяжелыми, скрипучими крыльями, и в вышине, в спокойной ее синеве, летят, унося вечную тоску скитаний, гулкие, тревожные журавли. А в деревнях, на гумнах, льют-разливаются алмазным дождем тугие цепы, колко золотятся ометы, — здесь еще ярче проступает близость урожайной, длинной и уютной осени.
В деревне зайдешь иногда в волостной совет или в избу-читальню, — и здесь все та же пред'осенняя, связанная с урожаем, суета. Говоришь с председателем совета, обычно парнем из демобилизованных красноармейцев, или пожилым, степенным мужиком, с кудреватой бородкой, и он, жадно вслушиваясь в непрестанный говор цепов на гумне, довольно и счастливо улыбается. И, по-мужицки, все с той же неторопливой, хозяйской сметкой, мечтает о постройке детских ясель, о ремонте школ и ветеринарного участка.
— Теперь, — улыбается он, перебирая лежащие перед ним бумаги, — совсем выправимся: есть у государства хлеб, будут и деньги.
А политпросветчик, молодой, длинноволосый, с бледным, выразительным лицом, совсем повеселел: ходит по небольшой комнатушке с самодельными книжными полками по углам, смотрит в окно — на золотящееся гумно, сплошь залитое алмазным ливнем цепов, и все размахивает какой-то бумажкой.
— Накладная на новую партию книг. Не шутка-с.
Потом достает из глубочайшего семинарского кармана, где помещается вся его «канцелярия», другую бумажку и радостно разглаживает ее.
— Наряд на дрова.
И любовно оглядывает скудные книжные полки.
— Значит, поработаем. Ведь, в стране — уро-жай…
Пойдешь дальше, к своей деревне — и опять голубеет тихий свет безымянных полей, поднимаются из-за холмов глухие леса в вызолоченном кокошнике, опять расстилается пышное кочевье снопов и душисто пахнет на закате сладкий овинный дым, славный дым урожая.
Родион Акульшин Родники деревенские
С этой осени я живу за городом в дачной местности. В форточку слышен гуд сосен. Желтым дождем осыпаются березки. Идет снег. В городе теперь слякоть. Дворники задерживают метлами движение пешеходов. Милиционеры следят, чтобы ни одна снежинка не залежалась.
А здесь настоящий хороший зимний день, такой, когда хочется бродить бесцельно по запущенным дорогам, уйти далеко за черту поселка, слушать внятный сосновый гуд и вдруг неожиданно почувствовать, что это не сердце бьется в груди, а большая, светлая радость.
Снег и тишина настраивают меня на воспоминания о деревне, о родных и близких, живых и умерших.
Я не могу жить без города. Но когда поезд уносит меня все дальше и дальше от родной деревни, я не отхожу от окна. Я жду: вот мелькнет деревня, запахнет дымом, каркнет ворона, пройдет баба с голубыми ведрами на коромысле. И когда я вижу эту бабу, мне хочется незаметно для проводника остановить поезд, повернув на себя ручку тормозного крана. А потом догнать голубые ведра и чуть-чуть забрызганный передник, остановиться у изгороди и долго-долго говорить, спрашивать, сказывать…
* * *
Когда Екатерина соизволила посетить берега Тавриды, Потемкин выстроил на ее пути декоративные селения, одел крестьян в чистые портки и вышитые рубахи, заставил парней и девок по пути следования императрицы водить веселые хороводы — и государыня благоденствием своего народа премного осталась довольна.
Когда фельд-егерская тройка несла Николая Палкина по занесенным снегами российским просторам, навстречу ему выстраивались Аракчеевские поселки, вытянутые в одну линию, и крестьяне, однотипно обмундированные, своим солдатским видом радовали его сердце.
Когда Николай II осчастливливал своим приездом вверенное ему население, весь путь его был усеян сыщиками, все подозрительные лица высылались, жандармы сгоняли толпы народа, создавая иллюзию любимого царя и народа, обожающего своего монарха. Так было.
А дальше — картина из недавнего прошлого, из эпохи наших героических лет, — лет голода, блокады и гражданской войны.
«ДАДИМ»
Набухшие ометы осенних туч загородили все небо. Ни одной голубой поляны. Дождь, дождь… И вчера, и сегодня. И, кажется, никогда ему не будет конца. Ветер и дождь. Осенний ветер срывает последние листья. А народ идет. Бабы, мужики, старики, старухи, мальчишки, девчонки, парни и девки.
Вода затекает за ворот, течет по спине, лапти промокли, ситцевые платки прилепились к щекам, мужицкие бороды выклинились по козлиному.
Идут. Из сел, деревень, хуторов; — словно дождь бесконечный размыл крыши избушек, словно тут, у помоста каждый найдет себе спасенье, словно тут — вместе со всеми и горе не в горе.
— Кто приехал? Откуда? Зачем? — спрашивают друг друга, отмеривая хлюпающие версты.
— Самый главный… Попрежнему царь.
— В такую непогодь?
— Ничего, это прежние правители боялись размокнуть, а теперешние — не сахарны.
— Можа под зонтиком?
— Увидим там, не загораживай дорогу.
— Ах, леший его растерсучь, раз'ехался, — ругает мужик свой лапоть.
— А ты в природных.
— И то придется.
Взлетают кверху разбитые лапти. Тяжелы они от втоптанного в них мужицкого горя, от впитанного ими горелого пота. Трудно им в высоту взлететь. Шлепаются в грязь, а мужику легче стало, на перед зашел, словно с лаптями худыми горе с ног стряхнул.
— Скорей вас приду, допрежь вас увижу приезжего.
На возвышении, под дождем, без зонтика, без картуза, возле непокрытого стола держит приезжий речь.
Зовут приезжего Михаил Иваныч. Говорит не красно. Скажет и остановится, будто вспоминает что, и снова прежнее слово, а потом — дальше — словно спутанные нитки разматывает.
— Гляди, стесняется, — шепчутся бабы.
— Народу-то сколь, небось поперхнешься.
— По обличью видно — простецкий человек, не на господский манер.
Говорит приезжий:
— Трудно Советской Республике. В Сибири — фронт, на юге — фронт, на севере — фронт, на западе — фронт. Республика в железном кольце. В Москве нет хлеба. Красную армию нужно кормить. Надежда на вас. Знаю, и вам не сладко… Помогите, дайте хлеба рабочим. Они не позабудут. Они отплатят.
Стоит впереди босоногий мужик, по дороге свои лапти бросивший; стоит, глазами прилепился к приезжему.
— Понимаем, — говорит, — чай не совсем просишь, взаймы, чай. В силу взойдут города, не позабудут о деревнях.
Поглядел приезжий: кто это его ласковым словом обнадежил. Разглядел безлапотного большой гость, сердцем своим возрадовался. А дождь не переставал, сильней поливать принимался, словно разогнать хотел мужиков и баб, разогнать, рассеять, утопить каждого в осенней, холодной тоске.
Никто не ушел. До конца дослушали приезжего. Дослушали и сказали: «Дадим».
Сказали старики и старухи…
— Дадим, — сказали дети стариков в шинелях солдатских, — для себя же, для братьев своих.
Клубилися тучи кругом. Падали последние листочки.
— Поможете? — спрашивает с тревогой самый большой человек в Республике, а крестьяне, почуявши свое кровное — отвечают: «Поможем». В этом «поможем», произнесенном шесть лет тому назад — начало той великой смычки, которую мы крепим сейчас и о которой в прошлом и речи быть не могло. По-новому встретились власть и деревня.
ОСТРАСТКА
Суд происходит после обеда. Разбираются дела о взыскании с мужиков продналога. Окна раскрыты. На улице тишина и нестерпимая жара. В помещении душно.
Клонит ко сну. Все скамейки в судебном зале заняты мужиками из различных сел и деревень большой Сорочинской волости.
Тут и равнодушно-спокойные лица — «что с нас возьмете», и брови, насупленные досадой: «оторвали от дела, за пятнадцать верст приволокли, а для чего!».
Заседатели тоже не знают, зачем их за стол посадили. Седой старичок Киселев низко наклонил голову. Блестит его лысый затылок. А Митя Гордюхин совсем уснул.
Митя — здоровенный, плечистый парень. Глаза у него маленькие, а живот большой. Его зовут борцом, потому что он много раз боролся в балаганах на ярмарках с «чемпиенами». Только его всегда побарывали. — «Животом не поборешь, — говорят про него мужики. — Тут нужна техника. Пузатого всякий шибздик на лопатки положит, коли у того в суставах техника оборудована».
За столом бодрствуют председатель Кандауров и секретарь Тищенко. Разбирается дело крестьянина Верещагина. Судья вызывает подсудимого:
— Верещагин!
Никто не откликается. В зале тихо. В тишине слышно гуденье мух.
— Верещагин!
— Я.
Из середины зала вскакивает очнувшийся старик лет шестидесяти, грязный, непричесанный, борода клочками.
— Иди к столу.
— Что ж, можно…
— Как зовут?
— Чево?
— Как зовут, спрашиваю.
— Меня-то? Иваном был.
— Отчество?
— Это величать-то? Трофимычем пиши.
— Из какого села?
— А я из Ново-Троицкого… Недалеко. Семнадцать верст… Отсюда видать… вон как за бугор перевалишь, так в лощинке-то и будет Ново-Троицкое… Из окошка видно, можа поглядишь?..
— Сколько лет тебе, дедушка?
— Мне-то? Не знаю, паря.
— Как же так? Ну, в каком году призывался?
— Я, малуга, не служил.
— Сколько же писать-то тебе?
— А мне вот сколь пиши: вот когда у нас первая холера была…
Старик запнулся, что-то вспоминая…
— При чем тут холера? — недоумевает председатель.
— А вот когда первая-то холера была, я на второй был женат.
— Ну, ладно, ладно…
Председатель кусает губы, чтобы не рассмеяться.
— Ну, скажи приблизительно, сколько тебе… годов семьдесят будет?
— Нет, пожалуй, не будет.
— Ну, ладно, запишу шестьдесят пять.
— Пиши, чево рядиться.
— Теперь, имущественное состояние какое у тебя, дедушка?
— Чево эта?
— Ну, имущественное состояние… Чего ты имеешь…
— У мине ничево нет… весь я тут…
И на лапти показывает. Лапти растоптаны. Лыки торчат. Портки — заплатка на заплатке.
— Значит, ничего нет?
— Нету…
Судья просит секретаря посмотреть в опись имущества. По описи у старика числится корова.
— Дедушка, а корова у тебя есть?
— Чево?
— Корова.
— Корова-то?.. Корова есть… Как же без коровы жить-то?.. Есть корова…
— А говорил нет ничего.
— Нет, что есть, то есть, это я сразу говорю что есть…
— Ну, а еще что есть?
— Еще-то? Еще ничего…
— А вот тут в описи телка записана.
— А… это теленок махонький… Чево его считать-то?
— А твой он все-таки?
— Конешно, мой.
— Еще что есть?
— Боле чего ж?.. Ничего не осталось. Вон они наши-то сидят — и кум Егор, и сват Трофим, хушь у них спроси… все скажут: нет ничего…
— Дом есть?
— Дом? Как же? Дом есть. Как же без дома-то? На улице, што ль? Что есть, я сразу говорю… Без дома никак нельзя. А чего его считать? Дом-то у каждого человека есть…
— Вот ты дедушка какой, то говоришь: нет ничего, а вот сколько всего набралось…
— Что есть я сразу говорю… чего зря таить?
— Дедушка, семейное положение у тебя какое?
— Это насчет чево?
— Ну, сколько семьи у тебя?
— Семьи-то? Трое… Ан, нет, погоди, четверо.
— Что же это ты в трех соснах запутался?
— Да как же, товарищ судья? Парнишка зимой помер… Коль его считать, то четверо, коль не считать, то трое.
— Покойников считать не нужно.
— Коль не нужно, пиши: трое.
— Ты обвиняешься, дедушка, в неуплате государству продналога в количестве шести пудов… Считаешь себя должником государству?
— Никому я ничего не должен.
— В прошлом году ты не целиком уплатил продналог, помнишь?
— Все, товарищ судья, заплатил, да, пожалуй, еще лишку. Вон с кумом Трофимом вместе возили. Кум Трофим, сколь разов-то возили?
— На Крещенье возили, на маслену возили, постом возили, — откликается голос из зала.
— Это нам все известно, сколько ты отвез, — кроме этого за тобою еще числится шесть пудов.
— Ну, что ж, коль числится, пущай числится…
— Уплатишь?
— Знамо уплачу, — вот как уродится, так и уплачу, а сийчас мне самому жрать нечего.
— Если не уплатишь, корову продадим с торгов.
— А что она, ваша, корова-то? ишь хозявы нашлись… Это к тому говорю, если б я отказывался, а то, ведь, я не отказываюсь…
— Значит, заплатишь?
— За нами не задолжится…
— Садись, дедушка…
— Можно?
— Можно.
— То-то… А то сядешь, скажут: зачем сел?
Председатель, спохватившись, обращается к заседателю Мите Гордюхину.
— Находите нужным спросить с своей стороны?
Митя Гордюхин мычит. Он никак не может продрать маленьких глаз, потонувших за красными мясистыми щеками.
Председатель толкает Митю в бок.
— Находите нужным?
— Чего там… дело ясное…
— А вы, товарищ Киселев?
Старик Киселев молча отмахивается. После короткого перерыва суд выносит постановление: «Взыскать с гражданина Верещагина шесть пудов ржи».
Сосед шепчет старику:
— Вот ты, кум, говорил ничего не будет…
— Э… — улыбается старик, — дак это они только острастку дают… Я их знаю… Вон народу-то сколь… Неловко при всех сказать: «прощаем тебя, Верещагин». А раз вычитали, глядишь кто и забоится, ну и повезет… А я не трусливый… Я их знаю… В прошлом году гужналог не заплатил, — ничего не было. И теперь не заплачу. Потому острастка это…
КРИТИКА
Николай Зарудин Музей восковых фигур
«Кто идет к баку курить, кто вытягивается на траве, старательные окружают преподавателей и ведут с ними поучительные разговоры».
Ю. Либединский, Комиссары.«Отгремела гражданская, вихри ее отшумели в Крыму и у польской границы, всколыхнули Сибирь, забурлили в Кронштадте, и как будто затихли».
Смолкла ли музыка революции? Стали ли глуше те героические вихри, которых поэты называли симфонией восстания? Не обмельчал, не полысел ли, не обрюзг тот новый человек, первые дни которого потрясли мир?
И можем ли мы в суете повседневности, в дрязгах рубля и аршина, в огромной, глухой и исконне крепкой землей, сном и морозом стране сказать снова удивленному сознанию строфой Блока:
Да. Нас года не изменили. Живем и дышим, как тогда, И вспоминая сохранили Те баснословные года…Так ли это?
«Отгремела гражданская, и военкомы, ребята армейской закалки…
……………………………………………………………………………………
— Скучают они, Ефим! Все — оттого, что скучают.
— Хуже, тов. Власов. Многие разлагаются…
— Так я о чем и говорю. Все это от скуки. Ну, к примеру, женился на купчихе там или на поповне… Многие пьянствуют… А кто хозяйством обзавелся и утратил пролетарский дух. Одно слово — нету былого боевого огня! С переходом к мирным формам агитпропработы большинство из нашего политсостава не справляется. Не хватает знаний. Вот Васильев, толковый человек, московский металлист, пишет, что трудно работать с полком. А, ведь, на фронте был комиссаром бригады. Опять же старик этот… Шалавин, комбриг седьмой трудовой…».
Так вот он — новый вихреносец! Если поверить Юрию Либединскому, то новые времена с их новыми песнями опять дремлют в вековой купецкой, кондовой и перинной Руси. «А которые» — пьянствуют, даже в воспоминаниях не сохранив тех баснословных годов.
Это — так сказать, непосредственное впечатление с налета, с первых страниц книги. Оно чрезвычайно важно для читателя. Ведь он-то и встречает своего писателя с той особенной чуткостью и вниманием, как своего, родного человека.
И больно, и грустно с первого взгляда видеть в близких чертах что-то искривленное, неискренное и фальшивое — деланное. Переворачиваешь листы книги. Думаешь вот-вот найдешь, наконец, настоящее слово, с которого начнется настоящий задушевный разговор с писателем, и не встречаешь.
Натыкаешься на вещи, которые заставляют судорожно сжиматься, которые коробят, которые оскорбляют.
«…Косихин весь в блеске рыжих волос, в плеске звонкого голоса, в пылании лица был точно образ близящейся нарастающей Мировой Революции, о которой говорили собранию ячейки РКП его одно к другому пригнанные слова»…
«…Ночь, как ласковая любовница»…
«…Как металл на самое дно сосуда, так ум Сергея вникнет в глубину вопроса, только с этой глубины может он осветить свой предмет»…
Что это такое? Случайность, недоработанность, отсутствие вкуса?
Если последнее — то позволю себе обратить внимание на одну из превосходных работ Валерия Яковлевича Брюсова, его статью «Игорь Северянин», написанную в 1915 году.
«Аббат Делиль, — пишет В. Я. Брюсов, — уверял, что весь гений Вергилия заключается в его вкусе. По отношению к Вергилию это — несправедливо, но верно в том смысле, что вкус имеет в искусстве значение огромное. Безошибочный вкус может заменить гений. Но никакая гениальность не вознаградит отсутствие вкуса. Ошибки против вкуса, безвкусие обезобразят самое вдохновенное художественное создание, они чувствуются особенно больно, и для них мы не находим никакого извинения».
Можем ли мы найти извинения в наше время, быть может, время ученичества нового искусства, нового культурного пафоса?
На эту тему писалось и говорилось очень много. Требования к слову сейчас как никогда высоки и серьезны. Современный писатель, даже средний, работает со словесным материалом с большим искусством. Мы ждем воплощенья больших тем. И если Юрий Либединский целиком наш писатель, то мы, как раз на этом основании, и можем требовать от него напряженной работы, такого же роста, как это мы требуем от мастеров других искусств. Вкус, не засоренный пошлостью и внешним лоском сейчас необходим, как никогда.
В самом деле пора и писателям позаботиться о качестве продукции.
Не будем краснеть перед металлистами, булочниками и текстильщиками ежеминутно, ежечасно поднимающими качество своей продукции.
Громадная страна охвачена грандиозным пафосом воссоздания — и только пролетарский цех искусств все еще склонен заниматься говорильней.
Борьба за качество — лозунг каждого пролетария — достоин поэта. Пусть же поэт будет достоин этого исторического знамени, перестраивающего мир.
И тут — «ночь, как ласковая любовница»!?
Условимся с тов. Ю. Либединским и нашим читателем, что говорим на чистоту. Да, и в самом деле, творчество Ю. Либединского принадлежит нам, и мы имеем право и должны пред'явить к нему полную дружескую прямоту и непреклонность. А непреклонность нашего создающегося и строгого вкуса мы будем защищать со всей ревностью, необходимой строителю.
Иначе о «Комиссарах» Ю. Либединского не стоило бы и писать. Вещь это серая, скушная, разметавшаяся на много листов, но то, что автор ее признанный мэтр пролетарской литературы, обязывает даже случайного критика. В самом деле, Ю. Либединского изучают в школах, о нем пишутся, правда очень неубедительные, но все же горячие статьи. Даже тов. Осинский, перо которого не без яда и скептицизма, столь необходимого нашему времени, не удержался, чтобы не оценить нашего многообещающего писателя чрезвычайной и расточительной оценкой. По мнению тов. Осинского, Ю. Либединский развился в настоящего писателя, со своим языком, крепким, свежим и образным.
И лишь немногие, упрямо, среди всеобщей мелкой литературной шумихи, ждущие подлинного слова литературы, органически близкой великому дыханию эпохи, не поспешили принести свое приветствие молодому юбиляру. А юбиляра уже успели завесить всеми литературными орденами от пролетарского искусства. На преждевременные похвалы эта группа критиков не ответила молчанием. Для нее была совершенно очевидна вся невозможность появления сколько-нибудь значительного литературного произведения на дрожжах голого самоуверенного схематизма, без того сложного органического творческого процесса, в котором поэту стала бы «звездная книга ясна». Только поэт, понявший «трав неясный запах», захочет, чтобы то же самое почувствовал читатель.
Имя Ю. Либединского всегда выставлялось как символ достижений одной группы «пролетарской литературы», претендующей на полную монополию признания. Эти требования обязывали дать продукцию. Продукция изготовлялась. «Большие полотна» писались по определенным начертанным планам. Сложный, иногда катастрофический процесс интуитивно-образного познания окружающего мира заменялся узкой политической рецептурой. Человеческая личность, глубину, разносторонность и величие которой несутся поэтом как некое волевое начало для своего читателя — стирается. Люди лишаются постижения мира в его сложной ощущаемости. Логика сегодняшнего газетного дня заменяет логику художественного чувства.
То чувство катастрофичности, и вместе с тем радости, какое испытывается художником, когда он находит ощущения того найденного, нового, еще никем не осознанного, что раскрывается ему — заменяется слепком, чрезвычайно благовоспитанной и принятой уже прочно мысли. У художника нет чувства, что он — вот, вот нашел свое последнее, самое главное, без познания чего ему не стоило и рождаться… А поэтому — нет и стиля, нет личности, нет совершенных сочетаний слов. И, конечно, — нет художественной убедительности.
Индийское стихотворение гласит:
«Ум, весь состоящий из одной логики, подобен ножу из одного лезвия: он ранит в кровь руку берущего его».
Страшно жить в наше время не только писателю, но и всякому человеку, знающему только внешность, не могущему ощутить те глубины, из которых бьются на поверхности быта сегодняшнего дня ключи жизни. Голый бытовизм — это смерть всякой личности. Отсюда уже недалеко до гниения, до черствости и последних граней цинической прострации.
Так называемые «пролетарские» литературные кружки, чрезвычайно самоуверенно вышедшие на дорогу искусства, скатятся в пропасть с этим «коптящим фонарем дьявола»…
Если страшен, вообще, замкнутый, черствый только логический ум, все схематизирующий и, как говорится, высушивающий цветы, то ум ленивый, ограниченный, идущий не дальше вызубренной формулы, возводящий ее в догму — поистине отвратителен. Его измышления жизни не сделают. Человек же подобного склада, пишущий книги — ненужен. В свое время самоуверенность многих и многих подобных людей — предостерегалась. К числу их, я думаю, не будет ошибкой отнести многих Вапповских писателей, не постеснявшихся пойти дорогой наименьшего сопротивления.
Юрий Либединский — из них наиболее симпатичный. Быть может, он и наиболее талантливый. Но его грехи — во многом грехи его соратников.
И на этот раз — «коптящий фонарь дьявола» — за его спиной. А кто несет свой фонарь за спиною — тот отбрасывает тень впереди себя.
Не тень ли Юрия Либединского — это мрачное предчувствие, приведенное из его повести:
— Скучают они, Ефим. Все — оттого, что они скучают… Действительно — невыразимо скучно. Отгремела гражданская. И вот — чтобы спасти политсостав N-го округа от полного идейного и душевного оскудения, командующий округом Власов со своим помощником начпуокром Ефимом Розовым организуют военполиткурсы.
Курсы — как курсы. Автор добросовестным образом описывает все с самого начала, все — тютелька в тютельку, начиная с того, что — «Власов разгладил свою широкую бороду, прикрыл ею два ордена Красного Знамени и толстыми мужицкими пальцами принялся старательно свертывать цыгарку» (почему именно — «цыгарку»!? Н. З.); «у Розова тонкие ловкие пальцы часового мастера; он то поправляет очки, то гладит свои волосы…».
Затем мы знакомимся и с остальными героями. Их так много, но как мы их всех уже знаем!
Вот он, чорт возьми — жив ведь еще курилка, где мы его только не встречали, этого замечательного мученика, понятно умирающего от чахотки, ищущего комнаты посырей и поющего трогательные дифирамбы о сладости смерти за коммунизм, что называется, под слезу…
Все, как полагается. Черные пушистые волосы — Иосиф Миндлов.
— Если вы немедленно не поедете, то будете, — ну, через две недели, примерно, — в сумасшедшем доме. Удивляюсь, как это вы еще до сих пор держитесь. Это — во-первых. И умрете от туберкулеза и малокровия — это во-вторых…
Однако доктора пишут только заключения.
«Розов прочел и, не поднимая глаз от письменного стола, начал рыться в бумагах.
— Прочти в конце, — сказал он.
„Товарища Миндлова Иосифа начальником учебно-политической части и заместителем“».
И Розов непоколебим. Иосиф Миндлов — на курсах. Автор подолгу задерживает на нем свое перо. И классический штамп, над которым, кстати сказать, так зло издевался Владимир Ильич, глядит со страниц повести уже ничем не прикрытой, сладенькой интеллигентщиной.
«…Иосиф начинал понимать Розова и себя.
— …Да, Иосиф, гореть! И тебе предстоит сгореть на курсах, перелить в них всю свою жизнь без остатка, чтобы они жили. Разве может быть большее счастье для большевика, Иосиф?»
Ореол мученичества над туберкулезной грудью Миндлова, вся эта нарочитая слащавость отдает в наше время ничем не прикрытой дешевкой Надсоновщины.
Надо напомнить Либединскому одно место у Джека Лондона в романе «Мартин Идэн». Лондон, будучи в это время захвачен идеями Спенсера и индивидуалистической философией Ницше, изобразил революционера почти в подобных же тонах. Разница лишь в том, что Лондон того времени в узко-плечем, страстном еврее, социалистическом ораторе, увидел некий символ всего неприспособленного, больного, неспособного бороться за свою личность…
Вообще, Юрий Либединский не уважает, не любит человека. Все фигуры его повести — это схемы, восковые фигуры. Революционность типов положительных крайне неубедительна. Если даже и принять их чисто умозрительно, в том плоском, сером разрезе, как дал их автор — полюбить их нельзя.
А ведь что стоит тот художник, образы которого недостойны любви и ненависти!
Человеческие чувства, которые пробует изобразить Либединский, вырываются из восковых лиц, как из неприятного, натянутого молчания. И это сразу чувствуешь. Словам не веришь — они режут неприятно. Людям, для которых Революция, наши дела, наши думы — и родина, и время, и школа — для таких людей эти фальшивые слова оскорбительны.
Но ведь Иосиф Миндлов и Ефим Розов — это то, что мы должны любить у Либединского. А дальше — «скука».
И эта мертвящая скука, которую автор устами своих лучших людей возвестил в начале, легла тяжелым, серым пластом на всю остальную часть повести. Что ни человек — шаблон. И этот шаблон безапелляционно очерчивается по трафарету через переводную бумагу. Тем более — что теперь автор кладет почти исключительно темные краски.
Вот он — «комиссар»:
«Совсем не хотелось оставлять удобную квартиру, захваченную после бегства местного богатея-купца, в которой мягкие турецкие диваны, пестрые подушки, дубовая мебель и, блестяще зеленой жестью, лапы каких-то заморских цветов. Взял Смирнов офицерскую жену, очевидно, впопыхах во время бегства брошенную мужем; своя, прискучившая деревенщина в покосившейся избе среднерусской губернии, вместе не жили с 12 года, когда взяли Смирнова в царскую армию. А у офицерши глаза голубого веселого ситчика, капризные и веселые губки, кудряшки на голове всегда плещутся от смеха — губвоенкомшей именует ее теперь городской бабий толк.
Детей нету — делает губвоенкомша аборты у лучшего доктора, варит она варенье и печет всякие сласти на ответственном масле…
Хорошо живешь, Николай Иванович, ах, хорошо. В прошлом военная слава, потому уважительное отношение в губкоме. Скучно станет — есть компания, человека четыре теплых ребяток, с ними можно сытно выпить, разжечь кровь, и время прошлых геройств тогда вспоминается…».
Дальше:
«Смирнов с изумлением и гневом посмотрел на Розова. Остановил даже звон шпор.
— Это какой же Арефьев, N-ский губвоенком?
— Да.
— Так. Офицеру в подчинение. Оч-чень хорошо!
Мало того, что всю солдатчину — разнесчастная моя доля — тянулся перед ними и опять».
Таков Смирнов. Другие комиссары — хорошие, плохие ли, посредственные — все на один лад:
«— Правды я не вижу, главное, подлы люди! И коммунисты большинство не лучше других. А нам, Гриша, 17-го года коммунистам, конец пришел. Пока мы бились на фронтах, — гимназисты отовсюду поналезли и теперь ведут нас к старому ярму… Это… — и он длинно выругался…».
Таков Громов — кузнец, у которого «тяжелые с надувшимися жилами, руки». А вот Помадочкин: «Бесцветные глаза его тонули в припухлых впадинах и из-за широких скул поглядывали хитро и бойко, как лавочники из-за прилавков»; Михалев — с тоненьким золотушным лицом, с «жалконькой» улыбкой и испорченными зубами — и много других, появляющихся, говорящих и не остающихся в памяти.
«Комиссары» не хотят учиться, живут, скандалят, выпивают, гуляют с «барышнями». Около 100 страниц посвящено этим занятиям.
«Кто идет к баку курить, кто вытягивается на траве, старательные окружают преподавателей и ведут с ними поучительные разговоры…».
Этой классической фразой Ю. Либединский лучше всего охарактеризовал своих «комиссаров». Именно — «поучительные» разговоры.
И эти «поучительные разговоры» кладут немой и суровый приговор. Автор на этот раз не только скатился к голому бытовизму — его положение хуже. «Комиссары» — чрезвычайно сомнительная вещь идеологически. И здесь с полной ясностью выступает непреложность тех скрытых законов творчества, которые так игнорируются нашей, подчас такой безответственной критикой.
Стиль — это личность. Внешнее усилие стиля — работа литературы.
В литературе, — как говорил один из больших русских поэтов — нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия. У Ю. Либединского нет радости этого усилия. Вялость и убогость языка, отсутствие работы, неряшество — вот все, что буквально выпирает из каждой строчки.
Ведь достаточно одной фразы, чтобы этого не доказывать:
«И солнце развесило по стенам живые ковры трепещущих теней листвы и еще не прикрытые краской угодники, насупившись, слушают новые слова, и лица неподвижно сидящих на партах комиссаров отблесками различных мыслей и чувств делают этот зал похожим на широкий ковер нависшего над степью осеннего неба, на котором пестры изменчивые облака и медленно несет их ветер, но кажется, что ходят они по своей воле. И так же, как застывшие дымчатые клубы облаков, прекрасны невысказанные мысли и чувства слушающих лекцию людей».
Дубовее и площе этих двух фраз трудно себе представить.
Бросается в глаза еще одна характерная черта Либединского. Лев Николаевич Толстой как-то писал, что вернейшим признаком художника является его чувство природы. Великий художник, работая над своими вещами, любил выходить в парк. Здесь в березовой глуши, на фоне листвы и прозрачной дали он перечитывал написанное, проверяя его правдивость.
— Я всегда сравнивал то, что писал, с этой удивительной правдой, — говорил Лев Николаевич, — и малейшая фальшь сразу нарушала гармонию.
Ю. Либединский не чувствует ни крепости и радости осеннего воздуха, ни холодка алеющей осины, ни детского облика русского пейзажа…
«Живые ковры трепещущих теней», «ковер нависшего над степью осеннего неба» — дальше этого кисть его бессильна.
А ведь существует чудесный, милый, завоеванный мир — такой радостный и гордый этой радостью. Чувства этой органической привязанности к миру нет у Либединского.
Поистине «паноптикум печальный» — его фигуры с восковыми лицами. «Поучительными» разговорами и ярлычками тут ничего не сделаешь.
А какая картина получается. Стоит ли после всего этого обвинять попутчиков в пасквилях на революцию и на наш быт. Вспомним Бабеля с его потрясающим искусством — мы любили, падали и не дышали в его трагических днях — но, ведь, после его вещей ближе и дороже стали нам эти незабываемые в простоте подлинного величия и падений люди.
А Либединский? А его Красная армия?
И нам становится совершенно ясной та обстановка, то окружение, которые положили свой неизгладимый отпечаток на «комиссаров».
И хочется сказать автору:
На воздух! скорее из затхлой атмосферы кружковщины, схематизма, чванства и заносчивости!
Пусть будет меньше похвал, пусть будет жестче правда, пусть будет изгнан этот пошловатый кадильный дым, провозвестник литературного карьеризма. Не нам ли, молодой Спарте героической эпохи, принадлежит право первым услышать то «подземное пламя», опалившее лицо Данту?
Не с «коптящим фонарем дьявола», не с бытовизмом надо итти к настороженному читателю по накатанной дорожке дешевеньких лавров сегодняшнего дня.
Надо стремиться со всей любовью и преданностью, чтобы наш читатель уловил тот «запах трав неясный», то пламя подземное, что услышит первым в своем времени поэт и художник.
Надо желать этого безгранично — ибо подземное пламя эпохи не коснется восковых щек сомнительного искусства.
А. Воронский Пролазы и подхалимы
В годы моих бездомных, подпольных скитаний, ночевок в конспиративных квартирах, тюремных отсидок и этапных перебросок, в годы вынужденного бездействия, средь болот и туманов угрюмого севера, одиноких и томительных ночей — упорная и неиссякаемая ненависть билась во мне к литературным подхалимам тогдашнего газетного и журнального мира. Продажная приспособляемость, трусливая изворотливость и лесть уживались в них с самоуверенной наглостью, с чудовищным верхоглядством, с подозрительным всезнайством, с амикошонством и панибратством. Попадая случайно в их среду, я всегда начинал чувствовать, что нет ничего драгоценного в творениях человеческого ума и сердца, самые заветные помыслы и порывы вдруг блекли, и мне становилось скучно и росла серенькая пустота — так велик был их цинизм.
Когда отброшена была вспять первая революция и предутренний ветер качал тела удушенных, а под сводами гремели кандальные цепи от севера до юга, от востока до запада, — эти газетные фельетонисты, хлесткие обозреватели, сочинители бойких статей и статеек, на глазах у всех, прежде других отреклись от того, чему, казалось, еще недавно ревностно служили. Они сделали худшее. Пользуясь печатным станком на потеху и на потребу всей еле отдышавшейся от революционных встрясок ожиревшей и озверевшей нежити, они издевались, поносили, обличали, клеветали на тех, кто не сдался врагу. В годы войны они разыграли одну из самых гнусных комедий: они писали о второй отечественной войне, о новом царе-освободителе, о доблестных и могучих победах славного российского воинства, писали до тех пор, пока это воинство штыками и прикладами не выгнало их из редакций, из кабинетов, из кабарэ и кафе. Развевая фалдами фраков, пальто, космами волос, теряя галоши, пенснэ и листки, они мигом сгинули. Одни бежали за границу, другие отсиживались неведомо где. Это было лучшее время. Тогда я впал в иллюзию, вполне законную в те удивительные дни. Мне показалось, что газетная и журнальная нечисть скрылась навсегда. Я прославлял штык и святую матерщину солдата, вылезшего из окопов, я прославлял их и за то, что они разогнали разбойников пера и щелкоперов.
…Теперь-то я знаю, что был тогда наивен. С тех самых пор, как стали мы обрастать новым хозяйством, новой культурой, новым художеством, сначала робко, затем все уверенней и уверенней начали поднимать голову литературные подхалимы и прохвосты. Но что хуже — к прежним литературным тунеядцам присоединились новые и молодые. Жив курилка! Оказывается, разбить царизм, выгнать помещиков и капиталистов, отбить нападение «двунадесяти языков», заложить первую кладку под новое строющееся здание куда легче, чем раздавить прохвоста.
Шут его знает — из каких дыр, из каких щелей он лезет. Но он уже разложил свои тетрадки, поправил свои пенснэ, обзавелся новым костюмом, он говорит почтительным, вкрадчивым, но бархатным и звучным голоском, он снует там и сям то с приятной улыбкой, то с нахмуренным лбом, то с веской непринужденностью, то с грациозным и легким небрежением, довольный, сытый и неугомонный. Он уже обнаглел. Откинув волосы, он вдохновенно что-то строчит, потом что-то устраивает и организует. Вот он пролетел на автомобиле с известным коммунистом, вот он вертится своим человеком в редакции и уже нет его: он среди новых людей. Он не смущается ничем, его гонят из одного места, он здравствует в другом, он неуязвим и неистребим. Он недавно был занят организацией какого-то самоновейшего театра — не вышло; за сим он собирал у себя каких-то художников и пытался создать новое направление — провалилось; он писал роман, не дописал, но аванс получил за подсунутый во-время конспект его, — он был в каких-то секретарях, открывал журнал, носился с выставкой, читал что-то о рабкорах и селькорах.
Есть много разновидностей литературных прохвостов, но из них основных два: одни «энергично фукцируют», другие «фукцируют» совсем тихо. Но тихий подхалим тоже чего-нибудь стоит. Недавно я встретил такого: он вползал в редакцию, как сладкая вошь. Теребя и крутя бородку, он прилипал к рукаву редактора, поддерживая его легонько за локоток, теребил пуговицы его пиджака. Редактор ежился, но из глаз тихого прохвоста готов был пролиться елей, но глаза обволакивали, влажно и сладенько блестели, и их притягивающая, засасывающая сила была сильней и неотразимей взгляда удава. Бедный редактор не смог противостоять. Тихий прохвост получил какой-то заказ. Когда он удалился, я спросил редактора почему он не отказал ему — ведь проходимец. Редактор вздохнул и согласился: конечно, да еще какой!
Известно, что и по сию пору ведутся страстные литературные споры. Есть два литературных лагеря: вот тут-то прохвост и пролаза и празднуют свой праздник.
Как это делается? Очень просто!
В редакцию приходит юркий человечек. Он развязен, но скромен. У него маленькие, но острые и бегающие глазки. Он желает что-то поместить. Чрез несколько дней редакция возвращает ему рукопись, при чем дают понять, что редакция держится другого, можно даже сказать, совсем противоположного взгляда.
— В самом деле, — молниеносно соглашается выжига, — возможно, что вы правы. Я переделаю…
— ?..
Предположим даже, «переделка» не удалась. Проходит две-три недели. Пролаза орудует в другом лагере. Вот и все. А еще через неделю на одном из литературных собраний вы слушаете раскрывши рот и выпучив глаза его вдохновенную речь о социальном заказе пролетариата или еще о чем-нибудь в этом роде. Сегодня он ярый фрейдист, а завтра придерживается самой строгой плехановской ортодоксии, хотя о Плеханове он слышал из четвертых рук. Сегодня он превозносит Пильняка, а завтра он изобличает истинного пролетарского поэта в мелко-буржуазных уклонах. Он уже тверд и беспощаден, он «идеологически выдержан» до последнего нейрона мозгов своих.
Но главная его энергия уходит все же на то, что он беспокойными, внимательными глазами следит за «ситуацией»: в зависимости от того, кто клонится «семо и овамо», изменяется его «идеология» и весь его облик: холодная непреклонность и покровительственная самоуверенность уступают место любезной готовности положить за вас живот свой.
У нас есть не мало литературных простаков, людей ошибающихся, увлекающихся, недооценивающих, переоценивающих, попадающих впросак, людей, зараженных кружковым, групповым направленством, комчванством. Пролаза и проныра — из другой категории: он совсем иной. Он ничем не увлекается, ибо расчетлив. Его нутро холодно и студенообразно. Но он всегда забегает вперед. Он приспособляется к чуждым и посторонним для него людям. Поэтому он сплошь и рядом непомерен в своих утверждениях. Он превозносит поэта, художника-прозаика, которым следует еще учиться и ревниво хоронить свои исписанные листки и тетради от других, — он бормочет что-то несвязное, недоброжелательное по адресу крупного молодого таланта, он неумерен в похвалах и в порицаниях, он будет твердить о ленинизме, о, конечно, о ленинизме, так, что вам станет не по себе; ему, пролазе, ровно ничего не стоит сослаться в речи, в диспуте, в статье на частный, на подслушанный разговор. Он не знает различия между литературным спором и доносом. Впрочем, этого не знает литературный простак, а пролаза и проныра знает, ох, как знает!
Ходят такие выжиги в звании критиков, рецензентов, ходят они и в звании художника. Такой «художник» клянется и в стихах, и в прозе священным именем коммунизма, хотя всем известно, что от коммунизма его только тошнит. Тиснув статейку, рассказик, стишек, он в минуты откровенности, промежду своих, сознается:
— Приняли и пропечатали, отпустил им полфунта Кремля — прошло.
Многие наивные люди принимают «полфунта Кремля» за «идеологическую выдержанность» и говорят о сдвигах, о переломах, о дальнейшей эволюции и пр. и пр.
Литературные простаки любят говорить у нас о разлагающемся влиянии нэпа и об опасностях, кои таят в себе «Россия» и «Русский Современник», кстати сказать, давно не выходящие из печати, — изобличают уклоны попутчиков, неугодных почему-либо таким испытанным борцам за коммунизм, как Родов, и не видят, что разлагающие влияния и опасности нэпа угрожают нам больше в литературе со стороны подхалимов, щелкоперов, искателей мест, бойких и развязных людей разного пола и возраста. Это они окрашивают наши вечерки, еженедельники, сатирические и иные журналы и журнальчики иногда легкой, иногда густой желтизной, это они вносят в литературную среду беспринципность, хлестаковщину и ноздревщину, барабанят в уши читателя не в меру победоносными, слишком восторженными реляциями, обобщениями, сообщениями, они — эти дельцы всех степеней и рангов — печатают на первой странице что-то о заветах Ильича, а со второй страницы дают «роскошных» красавиц и дам «полусвета» и тащут наших издателей и редакторов по легкой испытанной стезе халтуры, приспособления к мещанским и обывательским вкусам, именно они открыто почти говорят о полфунте Кремля и о том, что надо «потрафлять» пока, а «там еще посмотрим». И когда суровый критик, обеспокоенный нэпом, благодушно размышляет на страницах журнала, что на худой конец при отсутствии известных необходимых данных лучше писать менее сердечные и совершенные стихи, но «нужные» — он не знает, к чему он зовет. В наших, в теперешних условиях это поощрение для пролаз, проныр и «тутошних» людей («мы — тутошние, тутошние»), хотя, разумеется, суб'ективно критик имел в виду совсем, совсем другое.
Прохвост и подхалим, щелкопер и искатель мест как раз, ведь, и старается дать менее «сердечные», но «нужные».
И главная-то беда в том, что на этом поприще он всегда обгонит тех, кто стремится дать «сердечное» и «совершенное». Будьте уверены — обгонит! Пока «сердечный» мусолит карандаш, грызет ногти, сомневается, ерошит волосы, «вынашивает», откладывает, тщится сочетать сердечное с нужным, ошибается, уклоняется и принимает на себя небезызвестные шишки бедного Макара за невыдержанность, за путаницу, за уклоны всяческие и за несоответствие текущему моменту — юркий человечек уже давным давно получил соответственный гонорарик полистно и построчно, воспел героический октябрь, пропечатался в нескольких изданиях, заказал приятелю хвалебную рецензию, получил новый «социальный заказ» и бегает бодрый и свежий по кино, ресторанам и литературным вечерам.
Скажут: бывает, но все же не надо преувеличивать. Пролазы и подхалимы были, есть и будут еще, но не они, ведь, делают погоду.
Еще бы, — не доставало, чтобы они на 9-й год республики советов погоду делали. Но их уже много, их почтенная армия растет с каждым годом, они не определяют погоды но уже заметно влияют на нее. Они идут тихой сапой. И с ними очень мало воюют. Вот в чем дело.
Не пора ли, не пора ли двинуться в поход? не пора ли попытаться рассеять эту мошкару?
Мы не называем здесь ни имен, ни фамилий, по причинам вполне понятным, но каждая редакция, издательство без особого напряжения и труда найдут, кого нужно вытащить за ушко, да на солнышко.
Борис Губер О быте и нравах советского Передонова
Тяга к художественному литературному творчеству, стихийно и неуклонно растет в самых недрах рабочих и крестьянских масс.
Чтобы проследить этот рост, достаточно познакомиться с любой провинциальной организацией. Например, Донбасское об'единение пролетарских писателей «Забой», менее чем в год сумело сорганизовать вокруг себя 250 человек. В Донбассе «Забой», в Баку «Весна», в Вологде «Борьба», — в самых отдаленных от центра местах, создаются, живут и работают все новые кружки и группы.
Нет спора, что в настоящий момент их богатства больше определяются количеством членов, чем достоинствами продукции. Это понятно, — путь овладения культурой и формой всякого искусства пролегает через длительную учебу и упорный труд. Самое же стремление творчески выявить себя и свое мироощущение — уже крупный шаг по этому пути.
Важно иное — борьба с теми сторонами нашей литературной действительности, которые могут оказать губительное влияние на неустоявшийся писательский молодняк. Действительность наша на-ряду с подлинным зачатием новой культуры часто принимает самые неожиданные и уродливые формы, что прежде всего касается писательского быта, сплошь и рядом более чем ненормального.
Остатки старой богемы, еще в 19–20 году родившие быт всяких имажинистов и ничевоков, с их «Стойлами», ясно проявляются и сейчас, когда, например, два широко известных поэта, из-за пустяков, публично обмениваются пощечинами. Остатки дореволюционной богемы скрещиваются со своеобразной новой богемой. На фоне халтурщины, личной вражды и общей беспринципности, эта удивительная, гнусная смесь становится почти бытовой нормой для целой категории писателей, — от попутчиков до комсомольцев. Пьянство, рвачество и ужасающая некультурность, расцениваемая как особый род доблести и молодечества, — далеко не самое худшее здесь: разложение и гибель отдельных, порою чрезвычайно интересных талантов протекают на глазах у всех.
В чем же причины таких уклонов и ненормальностей? Многие склонны видеть их исключительно в материально-правовом положении писателя. Это ошибочно. Материальная необеспеченность большинства молодых авторов играет, конечно, немаловажную роль. Но причины этим еще далеко не исчерпываются. Нам кажется, что в центре внимания должно оказаться более существенное, непосредственно культивирующее современные литературные нравы и вносящее дезорганизованность в писательскую среду: мы говорим о бессмысленном заострении кружковщины.
Отдельные группировки (хотя бы и мнящие себя во всесоюзном масштабе), выдвигая знаменем самые неумеренные и непримиримые крайности, поклоняясь собственной узости и доктринерству, — забывают обо всем: и об элементарнейшей чистоплотности в приемах борьбы, и об основных целях искусства, и о читателе.
В «своих» — видят безукоризненную идеологическую твердость, талантливость, пролетарское миросозерцание; себя считают единственными творцами пролетарской литературы. Все остальные — бездарность, враги, белогвардейцы; церемониться с ними необязательно и даже вредно — все способы хороши для искоренения крамолы: — если в статье или докладе ссылаешься на слова «чужого» — не стесняйся исказить их смысл и цитируй ту часть его фразы, которую наиболее удобно истолковать по-своему; если рецензируешь книжку — рекомендуй и ее и автора вниманию ГПУ… Вот «программа». В итоге — инсинуации, подсиживание, бесшабашная критика и злорадное гоготание при малейшей обмолвке или оплошности противника. А для себя — упоенное и вдохновенное самовосхваление.
Хоть сопливенький, да свой!.. А свой — значит совсем не сопливенький, — напротив! — он необычайно талантлив, в нем видно прекрасное зрелое мастерство, конечно же он выше Блока… В одну общую кучу гениев валят и сопливенького, и ловкого пролазу, и халтурщика.
К сожалению, в этом ворохе немало настоящих художников, попросту неискушенных «литературной критикой» своих верхов, губительной именно для настоящего начинающего писателя. Разве редки случаи, когда такой начинающий, встречая неограниченные и неосновательные похвалы своим, далеко еще не удовлетворительным стихам или рассказам, — начинает мнить себя действительно крупным и зрелым мастером? Он застывает в первичной низкопробной стадии ученичества и, уже не стремясь продвинуться вперед, неудержимо строчит поэмы и повести.
То, что попадает в печать, по своим достоинствам отнюдь не может удовлетворить читателя, но зато вдохновляет свежие кадры конторщиков и парикмахеров, до сих пор не подозревавших в себе «вдохновения». «Да ведь мы напишем ничем не хуже» — думают они. И пишут.
Получается замкнутый круг. Художественный уровень и значительность литературного материала падает все глубже. Услужливые доморощенные критики тут же оценивают его, называют подлинно-пролетарским, выдержанным, мастерским и так далее. И весь этот принудительный ассортимент прозы, стихов и критики, называемый журналом или альманахом, в результате влечет за собою общее снижение литературных вкусов. Нечего и говорить, каким примером и учебником явится подобный журнал для провинциальных писателей, с надеждой ждущих от центра литературной манны и получающих взамен манную крупу третьего сорта.
Новоиспеченный писатель, возведенный в соответствующий ранг пролетарского Гоголя или Чехова, между тем отрывается от среды, от производства, от своей недавней профессии. Он шатается по редакциям, клянчит авансы. Не создавши буквально ни одной ценной строчки, наторевши на новом поприще, он, как только не хватит на его долю бумаги, — начинает вопить: меня, де, не печатают, меня давят — пролетарских писателей давят! спасите!..
И для него уже уготовано лоно специфического быта. Все больше и больше осваиваясь в нем, такой писатель постепенно кристаллизируется в законченный тип нового литературного пошляка, — Передонова под писательским соусом.
Прежде всего он непоколебимо уверен в собственной гениальности и сравнивает себя только с Байроном или Толстым. Он убежден, что при его таланте совсем лишнее учиться, и глубоко презирает всякие теории и техники, а попутно и способность прочих людей умываться и причесываться. Чистая рубашка, или еще чего доброго галстук, — в его глазах верный признак контр-революционера. Он неуравновешен и способен на самые рискованные, почти погромные выступления, как это было, например, недавно, во время торжественного банкета одной писательской организации. Ему кажется, что его окружают враги и завистники. Он с равной затратой энергии пишет халтурные частушки и производственные стихи, и — этакий «пролетарский» дон-Померанцо — может строчить свои вирши в любое время и при любой погоде… Ему нипочем усидеть две дюжины пива, — он даже сумеет после этого улизнуть из пивной ничего не заплативши… И он очень любит при случае похвастать, что у него три жены: — «Одна меня содержит, другую я содержу, а третья — просто так… Для разнообразия!».
Самое главное, что это ничуть не смешно. Принудительные ассортименты фальсифицированного искусства, приводящие нас к передоновщине — меньше всего подходят к вывескам, под которыми все это происходит. В борьбе за здоровый быт и за здоровую товарищескую среду, необходимо точно определить, кому можно и кому нельзя доверять руководство провинциальными организациями, нужно разграничить писателя и литературного пошляка. Последняя резолюция ЦК о политике партии в области художественной литературы послужит здесь лучшей предпосылкой для надлежащих выводов.
Постоянная серьезная работа — вместо пристрастной критики, грызни и пустых дискуссий — застрахует писательскую среду от богемщины и пошлости. Давно пора оценить по достоинствам все эти нечистоплотные нравы. Сопли кустарных гениев никого не обманут.
От обстановки чванства, бряцания этой соплей и запугивания «врагов» страшными словами — к непосредственной творческой работе. Пожалуйте! Представляйте себя, товарищи, не доморощенными теориями, а образцами стихов и прозы. Читатель сам сумеет разобраться, кто движется вперед, творит подлинные ценности и кто намерен всю жизнь протоптаться на уровне «ламца-дрица» и трактирного лиризма.
Основным же массам начинающих пролетписателей не следует торопиться в профессиональные литераторы. Ни в коем случае нельзя отрываться от производства и среды или, тем паче, строить свое материальное благополучие исключительно на литературном труде. Только в таком смысле можно будет говорить об улучшении материальных условий, как о мере борьбы «за культуру и качество» в художественной литературе.
Мы боремся за культуру и качество, потому что это — непременное свойство класса, зачавшего новую общественность и новое искусство.
В. Наседкин К двухлетию «Перевала»
Отчасти в печати, а больше в читательской публике, далекой от литературных группировок и их споров, установился взгляд, отмечающий в наше время чрезмерное обилие всяких литературных школ, об'единений и т. д. И действительно, зашедший на писательское сборище в Дом Печати или в Политехнический музей на вечер, например, союза поэтов будет ошеломлен не только количеством поэтов, но и громкими названиями представляющих «литераторов» об'единений. Приводить эти названия не будем.
Однако нужно сказать, что подлинных, дающих настоящую художественную советскую и пролетарскую литературу школ и группировок все же не так много, — чтобы их перечесть, хватит пальцев одной руки. На самом деле, в литературе нет и никогда не было ни Всероссийских союзов крестьянских писателей, ни Московских цехов, ни «Особняков» — все они живут только на вывесках.
Но литература есть, и не только есть, но и растет. Этот рост отмечают и не особенные оптимисты — спецы по части литературных дел. Спрашивается, кто же эти «делатели» литературы, под какими вывесками являются они широкому советскому читателю? Чтобы ответить на эти вопросы, думается, достаточно будет просмотреть несколько журналов и альманахов за последние год-два. И, конечно, самой сильной группой, не считаясь с ее внутри-школьными различиями, окажутся попутчики. И как бы ни хотелось некоторым, чтобы это было не так, от этого соотношение литературных сил не изменится.
Но, просматривая те же журналы и хотя бы разно оценивая значимость новых произведений, при сравнении нынешнего литературного поля с недалеким прошлым в глаза бросается одно очень важное и любопытное обстоятельство. Если года два тому назад в художественной литературе почти безраздельно господствовали одни попутчики, то теперь это «господство» выпирает уже не с такой силой. Рядом с попутническими именами пестрят новые имена, все больше приковывающие к себе внимание читателя.
Носители этих имен, преимущественно, — рабочая и крестьянская молодежь, напористо стремящаяся к овладению литературной цитаделью. Большинству из них еле перевалило за комсомольский возраст и редко кто не варился в котле гражданской войны, или не принимал посильного участия в великой борьбе за освобождение трудящихся.
Эта молодежь с твердой идеологической установкой на новую советскую действительность, писательскими об'единениями почти не разбита. Таких об'единений можно признать два: «Октябрь» (Мапп) и «Перевал». Но об «Октябре» читатель наслышан достаточно, и даже чересчур много — кажется, даже не по заслугам этого ретивого об'единения. Конечно, тут читатель не при чем, равно как и советская критика — мапповцы кричали и кричат о себе сами: уж очень им хочется быть большими писателями. О «Перевале» читатель осведомлен меньше, и не только потому, что перевальцы, в отличие от мапповцев, не пользуются ненужной им шумихой и саморекламой, или художественно слабее их — нет, главным образом, потому, что существованию «Перевала» еще не исполнилось и двух лет. Кроме того, читателю подчас неясны задачи и устремления этой группы, поэтому своевременно будет дать вкратце историю возникновения «Перевала» и его развития.
Ясно, не в стороне от литературы стоит и «Кузница». В лице Н. Ляшко, Ф. Гладкова и С. Решетова эта группа имеет право на почетное место в нарождающейся пролетарской литературе.
НАЧАЛО И ОСНОВНОЕ ЯДРО «ПЕРЕВАЛА»
Осенью 23 года между комсомольской группой «Молодая Гвардия», опекаемой «Октябрем», и самим «Октябрем» начались нелады, которые в основном сводились к двум пунктам:
Первый, более скрытый, пункт разлада заключался в различии творческих подходов и путей между частью комсомольских поэтов и верхушкой «Октября». Эти комсомольские поэты не могли работать и думать по казенным шаблонам, выработанным для них наставниками. Стремление глубже проникнуть в окружающую действительность и художественно полнее выявить не одни только плюсы, но и минусы общественной жизни, привело к тому, что в голосах молодых поэтов зазвучали нотки, нежелательные «революционному» слуху отцов «Октября». Другой, более явный пункт разногласий касался вопроса о сотрудничестве с попутчиками. В то недалекое прошлое мапповцы (теперь они поумнели) очень напоминали ревнителей древлего благочестия, которые паче греха боялись кушать из одной чашки с церковником. Печататься в изданиях, где сотрудничали попутчики, у «Октября» было строго запрещено. Журнал «Красная Новь» в художественной части тогда был целиком попутническим, и, конечно, всякий правоверный «октябрист» считал зазорным даже заглядывать в редакцию этого журнала (может быть еще и потому, что не с чем было и заглядывать-то). Но у части комсомольских поэтов из «Молодой Гвардии» оказалось кое-что художественно приемлемое и для «Красной Нови», и они зашли и напечатались. Попутчики их не обидели, а тов. Воронский осмелился даже «распропагандировать» их, в результате чего на одном из собраний в общежитии «Молодой Гвардии», несмотря на усилия отцов «Октября», большинство комсомольских поэтов принимает резолюцию, внесенную тов. Воронским, «Молодая Гвардия» раскалывается, и наиболее даровитые освобождаются от «Октября» и уходят к тов. Воронскому.
В то же время у «Красной Нови» наблюдалось некоторое скопление одиночек из революционной крестьянской молодежи и коммунистов, которые начинали уже там печататься. Ребята перезнакомились, связались, и в начале 1924 года было решено организовать группу рабоче-крестьянских поэтов и писателей с названием «Перевал». К основному комсомольскому ядру прибавилось сразу человек 15, из которых половина коммунистов: Зарудин, Наседкин, Кауричев, Дружинин, Акульшин, Ветров, Ел. Сергеева, Яхонтова и др. В неделю раз стали собираться на читку произведений. Собирались в помещении издательства «Круг». Колесо завертелось.
АЛЬМАНАХИ. ПРОВИНЦИЯ
Сама собой родилась мысль издавать сборники. Начались хождения по Госиздату. Ходили по очереди, в одиночку и скопом. В делах никто ничего не понимал, было больше споров и «конкретных» предложений. Наконец, разрешение получено, избирается редколлегия и готовится материал. Праздничное оживление на лицах совпадает с весной. Первый номер готов, сдан в набор. Но… Госиздат не торопится, набирается с прохладцей, что-то скрипит, денег нет, альманах отпечатан, месяц лежит на складе. Ребята нервничают. А тут еще нет организаторов, хоть занимай у «Маппа», те на этот счет мастера — если бы так писали еще. И опять — ни копейки денег. Присылает из провинции молодой поэт стихи — ему не на что ответить, нет марок.
Но вот и первый номер «Перевала». Через месяц благожелательные отзывы в «Правде», «Известиях», мапповцы ругаются, клевещут, — значит дело идет хорошо, «значит ведро еще постоит». Из провинции письма чаще, материалу больше. «Мапп» надоел, «Мапп» убивает, а что такое «Перевал»? Интересуются группы, одиночки. Кое-как завязываются сношения — одобряют, присоединяются, но «стращает» «Мапп». Вспоминаются случаи из не очень далекого, когда группы, примкнувшие к «Перевалу», под давлением «Маппа» закрываются, некоторые из членов изгоняются из учреждений, где они служили. Это совпадает с ожесточенной атакой «На посту» против тов. Воронского.
Долго, и кажется еще более неумело, готовится второй номер «Перевала». Госиздат «Перевал» еще терпит. Но хождения увеличиваются. Альманах набирается месяца два и столько же месяцев лежит на складе. Потом такая же история и с третьим номером. Продажная цена альманаха непомерно высока — альманах зарезан. Проглядывают знакомые когти «Октября», более вхожего в Госиздат. Альманах закрыт. Это — от недавних дней.
Теперь возвратимся к продолжению. Времена меняются. «Мапп» терпит поражение. Провинция вздыхает, и летят сотни писем — «присоединяемся», «пришлите инструкции». Некоторые приезжают сами — так надежнее. Приезжают из Крыма, из Екатеринослава, Смоленска, Кронштадта, Иваново-Вознесенска, Вологды, Вятки и т. д. Привозят свои сборники, журналы. Многое не радует. Некоторые группы, бывшие до этого мапповскими, по сути остались ими же, тот же легкий, «коммунистический» подход к литературе, бряцанье парт-билетом и пр. и пр. Дело серьезнее. Начинается подготовка — это уже сейчас — к инструктированию и проверке провинциальных группировок, хотя без содействия отдела печати ЦК партии тут многого не сделаешь.
ДВА РОСТА
Как уже сообщалось выше, вначале «Перевал» насчитывал человек 25. Но не прошло и месяцев двух, как группа стала разбухать. Но разбухание это было не особо здоровым. Незаметно пролезали элементы или чуждые по идеологии, или — чаще — художественно слабые. И тех и других приходилось «чистить». За неполных два года было три таких чистки. Общее число членов после них в среднем оставалось около 30 человек. За последнее полугодие группа обновилась новыми членами прозаиками; были приняты Губер, Барсуков, Караваева и др. Прозаики в «Перевале» более желанны, так как все время наблюдалось «поэтическое» преобладание. Теперь соотношение приблизительно равное.
Это так сказать о физическом росте. Теперь о художественном.
Члены «Перевала» известны читательской среде в большинстве случаев не по самому альманаху «Перевал». Может быть, теперь с новой постановкой дела альманах будет лучше представлять группу, а до этого читатель встречался с ними на страницах «Красной Нови», «Прожектора», «Молодой Гвардии», «Красной Нивы» и т. д. И нужно сказать, что встречи эти учащаются очень заметно. Если такие писатели и поэты, как Артем Веселый, Голодный, Ясный, Светлов, были известны и до «Перевала», то Зарудин, Алтаузен, Дружинин, Акульшин, Скуратов и др. выросли с «Перевалом». За это время большинство из них литературно возмужало настолько, что в их творчестве от ученичества не осталось и следа.
Из прозаиков хочется отметить Ветрова, Барсукова и Губера. Они разных литературных толков и склада. Трудно сказать, кто из них более одарен. По-своему интересны рассказы «Кедровый дух» и «Батрачка» Ветрова, «Мавритания» Барсукова и «Шарашкина контора» Губера. Нам сейчас важно отметить другое, а именно то, что они растут. К ним нужно присоединить еще Караваеву, Сергееву и Яхонтову — писательниц несомненно талантливых.
Очень показательна для производственного роста членов «Перевала» приводимая ниже таблица изданных и издающихся книг перевальцев:
Р. Акульшин. «О чем шепчет деревня» — дерев. очерки (вышли).
Стихи «Добро» (выходят).
Дж. Алтаузен. Стихи (выходят).
М. Голодный. Стихи «Дороги» (вышли).
Б. Губер. Рассказы (выходят).
М. Барсуков. «Мавритания» — роман (вышел).
В. Ветров. Рассказы (выходят).
А. Костерин. Рассказы «На стрежне» (вышли).
Рассказы «На изломе дней» (вышли).
П. Дружинин. Стихи «Соломенный шум» (вышли).
Ел. Сергеева. Рассказы (вышли).
В. Наседкин. Стихи (выходят).
А. Ясный. Стихи (вышли).
Как видит читатель, набирается уже целая библиотечка, которая займет не последнее место в нашей современной литературе.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ
«Перевал», как литературно-художественная группа, совершенно самостоятелен, и целиком ни в какие другие писательские об'единения не входил и не входит. Имея свои особые задачи — возможно глубже, разносторонней и художественно правдивей отображать жизнь, «Перевал» этим уже резко отличается, например, от «Маппа», с его тенденциозной нудью в прозе и поверхностным виршеплетством в поэзии. Немудрено, что «Перевалу» за эти два года больше всего досталось от «Маппа», который не раз устно и печатно выступал против «разложившихся» перевальцев. Конечно, били больше в тов. Воронского, так как его близость к «Перевалу» и отчасти руководство группой известны всей литературной братии. Интересно то, что на все самые беззастенчивые нападки «Маппа» — «Перевал» не отвечал и не потому, что не было возможности отводить удары, а просто не хотел связываться, хорошо зная нравы мапповцев, у которых в борьбе (всего лишь литературной) все средства хороши. Драться пока отказывались. Да и некогда было, нужно работать — писать, а крикунов-профессионалов «Перевал» сам исключал из своей среды.
Отношения более нормальные бывали с «кузнецами», но их литературная позиция до сих пор остается крайне путаной. Что они хотят — едва ли знают сами.
До 10 членов «Перевала» входят во Всероссийский союз писателей, в правление которого избраны два перевальца.
ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА. СОБРАНИЯ
Напомним — «Перевал» наполовину состоит из партийцев и комсомольцев. Беспартийные члены группы — в большинстве своем выходцы из крестьян, есть три-четыре интеллигента.
Конечно, внутри самого «Перевала» имеются литературные и чаще возрастные деления, но, как плюс этой группы, — на-лицо большая товарищеская спайка. Принцип литературного содружества в лучшем смысле этого слова в «Перевале» воплощен в жизнь. Со стороны беспартийных наблюдается полное доверие к партийцам: редактор — коммунист, правление — два коммуниста и один беспартийный.
В вопросах литературных «Перевал» целиком примыкает к позиции тов. Воронского. А резолюция ЦК партии, касающаяся вопросов художественной политики, еще более укрепила эту позицию. С отделом печати ЦК партии держится постоянная связь, хотя перевальцы во многом чувствуют себя пасынками, так как «Перевал» до сих пор не получает почти никакой помощи на ведение организационных дел, — а предстоит большая работа в провинции. Кроме того, большинство членов «Перевала», нигде не служа, влачат полуголодное существование, питаясь от случая к случаю. В целях борьбы с голодовками в первый год из отчислений была организована касса взаимопомощи, но денег не хватало даже казначею на обед.
Чтобы иметь «наглядное» представление о «Перевале», нужно зайти к нему на собрание, где заслушиваются вещи перевальцев, или авторов, близко примыкающих к «Перевалу».
Почти как правило, выступающий получает по загривку. Перевальцы хвалят редко, чаще — недовольны: тут влияние того-то, там — заимствовано оттуда-то и смазано идеологически, а тут — просто художественно невыразительно. Автору лучше молчать и наматывать на ус. На собрания часто приглашаются попутчики. За истекший год читали: Леонид Леонов, Вяч. Шишков, Всев. Иванов, Бор. Пильняк, Есенин, Ив. Рукавишников. Поучиться есть чему. Помимо этого такое общение с видными попутчиками, так сказать с литераторами профессионалами, вводит перевальцев в круг интересов большой литературы, что для молодежи очень важно, так как среда чуть не каждого из перевальцев в частной жизни на этот счет не очень благоприятна.
Беднее дело с критикой: критиков перевальцев нет — еще не выросли, хотя некоторые товарищи, например, Зарудин, Губер, делают попытки и в этой области, и довольно удачно. Нередко заглядывают критики красновцы. Особенно же ценны в этом отношении выступления тов. Воронского.
Бывают вечера и веселее. Случается, что вдруг какой-нибудь прозаик или поэт, обуреваемый муками слова, открывает свою «собственную» теорию. Конечно, докладывает. Доклад длится… минут пять. «Изобретателя» изобличают в недодуманности, незнании теории словесности, и сам докладчик, наконец, сознается, что он до этого дошел своим умом, хотел было по этому вопросу кой-что подчитать, но кроме этимологии Кирпичникова ничего не нашел. А этот «труд» ему ничего не дал. Хохот.
Кстати сказать, в недалеком будущем «Перевал» пополнится новыми товарищами. Предложено войти в «Перевал» т.т. А. Смирнову — молодому прозаику, Н. Смирнову — критику и прозаику и другим.
* * *
В заключение можно определенно утверждать, что у «Перевала» свое лицо, что видно по этому номеру. «Перевалу» много еще не достает, чтобы стать в первом ряду советской литературы. Но эта группа стоит на верном пути, дорога открыта, дали манят.
Перевальцы работают.
Александр Архангельский ПАРОДИИ
МОСКВА — МАДРИД
(В. Маяковский)
Довольно. Еду, от злости неистов, Кроя живопись наших дней. АXXры пишут портреты цекистов, Демонстративно забыв обо мне. Я любого ростом не ниже. Речь стихами могу сказать. С меня портрет напишет в Париже Не аховый АXXР, а сам Сезан. Хотя и не осень — кислейший вид. Москва, провожает слезливым глянцем. — Мамаша, утритесь! Еду в Мадрид. Вернусь оттуда испанцем. Приехал. Ясно — в кафе попер. Проголодаешься странствуя. За каждым столиком торреадор. Речь, конечно, испанская. Уткнувшись в тарелку ем спеша, К тому же голод чертовский. А сзади шопот: — Дон-Педро, ша! Это же Ма-я-ков-ский!! — Да ну?! — Ей-богу! Шипит как уж Чей-то голос гнусавый: — Вы знаете, он — Колонтаихин муж И внук Морозова Саввы! Снежной глыбой ширится спор. — Ваша испанская Роста хромает Он — из Севильи торреадор, Под кличкою: Ковский Мая. Еще голосок: — Ошибаетесь, он-с, Убой меня громом Коррида, Не больше не меньше — король Альфонс, В роли Гарун-аль-Рашида. Шляпу схватив, задаю стрекача. Куда там! И слева, и справа Толпы испанцев бегут крича: — Дон Маяковскому слава!!* * *
Прошу убедительно граждан всех, — Если какие испанские черти Скажут, что я — африканский леф, Будьте любезны — не верьте.ОКТЯБРИНЫ
(Н. Асеев)
Прежде крестили: Поп — Клоп Новорожденного Хоп, Хлоп В чашу с водою Куп Хлюп. Живо платя Руп. Сказал рабочий Класс: — Пас! Старое Ерунда-с, Да-с. Крестят только Рабы Лбы. Новый у нас Быт. Если жена Родила Дочь, Вмиг уведи ты От зла Прочь. Беги в ячейку Во всю Мочь, Голову не морочь. Там агитатор Сов- Поп, Живо отпустит Слов Скоп, Проинструктирует Твой Лоб, Как велит агитпроп. Прежних Дней Поповство отринь. К чорту Церковь И ладана синь. Нам не надо Рабов и рабынь. Впредь Детей Октябринь!Примечания
1
Карбункул.
(обратно)2
Чилибуха — копытень.
(обратно)3
Сербиянка — обычный танец казачьих деревень.
(обратно)4
Две пары боксерских перчаток.
(обратно)5
Когда секунданты боксера убеждаются в непригодности своего бойца, или в слишком большом преимуществе противника — они бросают на ринг губку и снимают с боя своего боксера, признавая его поражение сами.
(обратно)




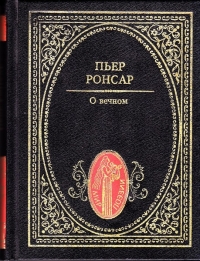




Комментарии к книге «Ровесники: сборник содружества писателей революции «Перевал». Сборник № 4», Владимир Ветров
Всего 0 комментариев