ГРАСС Гюнтер СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В четырех томах Том 4 ВСТРЕЧА В ТЕЛЬГТЕ ГОЛОВОРОЖДЕННЫЕ, или НЕМЦЫ ВЫМИРАЮТ КРИК ЖЕРЛЯНКИ РАССКАЗЫ ПОЭЗИЯ ПУБЛИЦИСТИКА
ВСТРЕЧА В ТЕЛЬГТЕ Повесть 1979
Das Treffen in Telgte
Erzählung
1979
© Издательство «Радуга», перевод на русский язык, 1985
ГАНСУ ВЕРНЕРУ РИХТЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1
Что было завтра, то будет и вчера. Не от нашего времени те истории, кои случаются ныне. Эта вот началась более трехсот лет назад. Как и многие другие. Так уж глубоки корни всего, что происходит в Германии. О затеявшемся некогда в Тельгте я пишу теперь потому, что один мой друг, который сплотил вокруг себя коллег в сорок седьмом году нашего столетия, намерен праздновать семидесятилетний юбилей; а ведь на самом деле он старше, много старше, и мы, нынешние его друзья, отнюдь не впервые седеем и старимся вместе с ним.
Лауремберг и Грефлингер добрались из Ютландии по рекам до Регенсбурга, а уж оттуда пешком, другие прибыли верхами или в крытых повозках. Кое-кто и приплыл: иные по рекам, а старик Векерлин — так тот даже по морю из Лондона в Бремен. Пути их были и долги, и коротки — всяки. Какой-нибудь купец, столь же понаторевший в числах и сроках, как в купле-продаже, немало подивился бы рвению мужей-пустословов поспеть вовремя, тем более что города и веси все еще или снова уже смотрелись пустошью, поросшей крапивой и чертополохом, прополотой ее величеством чумой; да и на дорогах шалили.
Потому-то Мошерош и Шнойбер из Страсбурга достигли уговоренной цели почитай что голыми (если отнять еще короба с манускриптами — они же лиходеям без надобности): Мошерош — посмеиваясь, разжившись новой сатирой, Шнойбер — стеная и воображая себе ужасы возвратного пути. (Задницу-то, исхлестанную шпагой, саднило.)
Чепко, Логау, Гофмансвальдау и прочие силезцы потому лишь добрались до самого Оснабрюка, что, заручившись охранной грамотой Врангеля, они везде норовили примкнуть к шведским отрядам, промышлявшим фураж вплоть до Вестфалии; зато и насмотрелись вдосталь на каждодневные ужасы фуражировки, когда дерут шкуру со всякого, будь ты хоть какой веры. Заступничества же всадники Врангеля не терпели. Студента Шефлера (открытие Чепко) в Лаузице чуть было не поддели на пику, когда он заслонил собой крестьянку, которую, как перед тем ее мужа, рейтары собирались прикончить на глазах у детей.
От недальнего Веделя, что на Эльбе, через Гамбург добирался Иоганн Рист. Страсбургского издателя Мюльбена экипаж доставил из Люнебурга. Хоть и неближний путь — от самой Трактирной площади в Кёнигсберге, — зато понадежней других, ибо ехал он в свите своего владетельного князя, совершил Симон Дах, чьему приглашению и последовали остальные. Еще за год до того, во время помолвки Фридриха Вильгельма Бранденбургского с Луизой Оранской в Амстердаме, куда Дах был допущен для оглашения своей срифмованной на сей случай оды, были им писаны и с помощью курфюрста разосланы многие письма, в коих оговаривались место и время встречи пиитов. (Нередко почту брали на себя всюду шнырявшие шпионы курфюрста.) Так нашло приглашение и Грифиуса, хотя он вот уже год как путешествовал со штеттинским негоциантом Вильгельмом Шлегелем сначала по Италии, а потом по Франции; уже на возвратном пути (если быть точным, то в Шпайере) вручили ему послание Даха. Успел он вовремя, прихватив с собой и Шлегеля.
В срок прибыл и магистр словесности из Виттенберга Август Бухнер. После долгих отнекиваний все же вовремя оказался на месте Пауль Гергардт. Филипп Цезен, которого почта настигла в Гамбурге, привез из Амстердама издателя. Никто не пожелал уклониться. Ничто не могло их удержать — ни наставничья, ни чиновничья, ни придворная служба, камнем висевшая почти на каждом. У кого не было денег на поездку, тот искал себе покровителя. Кто, как Грефлингер, покровителя себе не нашел, того вело к цели упрямство. А кому упрямство помешало выступить заблаговременно, того подстегивало известие, что другие уже в пути. Даже такие враги, как Цезен и Рист, пожелали увидеть друг друга. Неуемнее насмешки Логау над собравшимися поэтами было его любопытство. Ведь дома, в их литературных кружках, было им слишком тесно. Ни долговременные дела, ни скоротечная любовь не могли их удержать. Влекло друг к другу неодолимо. К тому ж, пока шли торги о мире, всяк судил и рядил о нем все более рьяно. В стороне не хотел оставаться никто.
Но сколь ни жадно вняли они приглашению Даха к литературному словопрению, столь же быстро одолело их малодушие, когда в Эзеде, местечке близ Оснабрюка, где назначена была встреча, не нашлось для них пристанища. Намеченная Дахом харчевня «У Раппенхофа» оказалась, вопреки заблаговременному уговору, занята канцелярией шведского военного советника Эрскейна, каковой недавно докладывал конгрессу о сатисфакционных требованиях врангелевских армий, удороживших стоимость мира. Ежели какие комнаты и оставались свободными от полковых секретарей и людей Кёнигсмарка, то были они доверху забиты разного рода документацией. Большой трактирный зал, в котором удобно было бы устраивать заседания, вести задуманный разговор и читать рукописи, был превращен в провиантский склад. Всюду околачивались конники и пехотинцы. Появлялись и исчезали курьеры. Эрскейн к себе не допускал. Профос, которому Дах предъявил письменное соглашение с трактирщиком, громко и заразительно ржал, пресекши попытки требовать от шведской казны возвращения задатка. Получив крутой отпор, Дах вернулся ни с чем.
Тупая сила. Закованное в латы ничтожество. Идиотское ржанье. Никому из шведов не были ведомы имена пиитов. Им разрешили — так уж и быть — передохнуть с дороги в маленькой каморке. Трактирщик советовал поэтам двинуться в ольденбургские края, где без труда можно получить все, даже пристанище.
Уже силезцы подумывали, не двинуться ли им в Гамбург, Гергардт засобирался назад в Берлин, Мошерош и Шнойбер с Ристом — в Голштинию, уже Векерлин вознамерился первым же кораблем отплыть в Лондон, уже и другие, не удерживаясь от упреков Даху, грозили послать встречу ко всем чертям, да и сам Дах — воплощенное спокойствие в иные поры — усумнился в своем начинании, и все вышли с вещами на улицу, раздумывая, куда податься, как перед самыми сумерками прибыли нюрнбержцы: Гарсдёрфер со своим издателем Эндтером и юный Биркен, а сопровождал их рыжий бородач, что представился Кристофелем Гельнгаузеном и с чьей цветущей младостью — было ему лет двадцать пять, не больше, — не вязались оставленные оспой рытвины на лице. В своей зеленой безрукавке и шляпе с перьями впечатление он производил — нарочно не придумаешь. Кто-то тут же заметил: этого, дескать, зачал на полном скаку какой-нибудь удалец из конницы Мансфельда.
Вскоре выяснилось, однако, что Гельнгаузен был наделен куда более практическим разумом, чем могло показаться. Он командовал отрядом императорских рейтаров и мушкетеров, располагавшимся неподалеку, на окраине городка, ибо вся округа поблизости от места проведения конгресса была объявлена нейтральной территорией и какие-либо боевые действия с обеих сторон были здесь запрещены.
Когда Дах описал нюрнбержцам бедственное положение поэтов и Гельнгаузен в пространной и витиеватой речи предложил немедля все устроить, Гарсдёрфер отвел Даха в сторону: парень-де хоть и несет околесицу не хуже иного странствующего звездочета — собранию он отрекомендовал себя любимцем Юпитера, коему Венера, как можно видеть, отмстила под италийскими кущами, — но куда более толков, остер и сведущ, чем о том свидетельствуют его шутовские повадки. Служит он писарем Шауэнбургова полка, расквартированного в Оффенбурге. В Кёльне, куда они прибыли по реке из Вюрцбурга, он уже выручил их из затруднений, когда Эндтер попытался тайком сбыть пачку книг, не имея на то церковного дозволения. К счастью, Гельнгаузену удалось оградить их от подозрений в еретическом умысле: были и небылицы так и сыпались с его языка и напором своим подавили иезуитов. Ему равно ведомы и отцы церкви, и греческие боги, и созвездия. И в житейских делах он съел собаку, к тому ж места ему все знакомы: и Кёльн, и Реклингхаузен, и Зост. Глядишь, и вправду поможет.
Гергардт остерегал входить в сношения с человеком императорской партии. Гофмансвальдау стоял, раскрыв рот от изумления, сраженный цитатой из «Аркадии» в переводе Опица. Мошерош и Рист склонялись к тому, чтобы выслушать по крайности предложения полкового секретаря, тем более что страсбуржец Шнойбер уже успел выведать у кого-то оффенбургские сплетни, и они обнадеживали.
Наконец Гельнгаузену позволили изложить с таким трудом собранным и столь горестно бездомным господам суть своего предложения. Речь его засверкала, как золотые пуговицы, выстроившиеся в два ряда на зеленой безрукавке. Как сородич Меркурия, обремененный хлопотами, подобно последнему, он все едино направляется в Мюнстер, дабы передать секретное послание начальника своего, полковника, вола Марсовой колесницы, небезызвестному Траутмансдорфу, императорскому уполномоченному, коего немилостивый Сатурн сподобил мудростью для окончательного утверждения мира. И всего-то тут каких-нибудь тридцать миль пути. При почти полной луне. К тому ж по ровной дороге. А ведет она — коли господа не пожелают в папский Мюнстер — через Тельгте, уютный городишко, обедневший, конечно, но оставшийся невредимым, затем что полковые кассы Кёнигсмарка не оскудели прежде, чем был отбит натиск гессенцев. А городу Тельгте, как известно, издавна не в диковинку видеть толпы паломников, и для паломников-пиитов там сыщется местечко. Еще с молоком матери он, Гельнгаузен, впитал: никаким богам в приюте не отказывать.
Когда старец Векерлин пожелал узнать, чему же он, евангелист, обязан столь изрядной императорской милостью, ведь поспешает Гельнгаузен как-никак по надобности папской курии, полковой писарь возразил: чужая вера мало его волнует, лишь бы не посягали на его собственную. А что до послания Траутмансдорфу, то оно не такое уж и секретное. Кому не ведомо, что в лагере маршала Тюренна веймарские полки взбунтовались против французской опеки и разбежались. Такие новости опережают любого гонца, ради них и спешить не стоит. Уж лучше сослужить маленькую службу дюжине бездомных витий, тем паче что и сам он — Аполлон свидетель! — иной раз берет в руки перо, пускай покамест лишь в канцелярии Шауэнбургова полка.
С тем Дах предложение и принял. И Гельнгаузен оборвал кружева своей полурифмованной речи и стал отдавать команды рейтарам и мушкетерам.
2
По дороге из Оснабрюка в Мюнстер через Тельгте за последние три года — а почти столько тянулись мирные переговоры — езжено было немало, особливо конных курьеров, перевезших туда-сюда, из протестантского лагеря в католический и обратно, целую пропасть петиций, меморандумов, хитроумно-коварных посланий, приглашений на всевозможные торжества и агентурных донесений о новейших передвижениях войск, которые совершались, невзирая на торги о мире. Притом штаб-квартиры религий соответствовали позициям военных друзей и недругов не вполне: католическая Франция с папского попущения затеяла свару с Испанией, Габсбургами и Баварией, протестантская Саксония то одной, то другой ногой соскальзывала в императорский лагерь. Несколько лет тому назад лютеране-шведы напали на лютеран-датчан. Бавария втихомолку зарилась на Пфальц. А добавить еще армейский разброд, перемет из лагеря в лагерь частей, нидерландскую смуту, жалобы силезских сословий, бессилие имперских городов, переменчивые во всем, но только не в жажде земельных приобретений, интересы союзников, отчего, скажем, в прошлом году, когда речь на переговорах шла о передаче Эльзаса Франции, а Померании со Штеттином — Швеции, на дороге меж Мюнстером и Оснабрюком побольше других истерли лошадиных копыт (столь истово, сколь и напрасно) представители Страсбурга и остзейских городов. Стоит ли удивляться, что дорога, соединявшая эти радеющие о мире города, находилась в том именно виде, каковой как нельзя лучше соответствовал ходу переговоров и состоянию империи.
Во всяком случае, четырем повозкам, которые Гельнгаузен не нанял, а попросту реквизировал, понадобилось больше времени противу предусмотренного, чтобы доставить бездомное общество — числом в двадцать душ — от холмистых отрогов Тевтобургского леса по Текленбургской долине в Тельгте. (Предложение некоего причетника одного опустевшего женского монастыря близ Эзеде, в котором похозяйничали шведы, приспособить для нужд поэтов хотя бы сию обитель было отвергнуто из-за отсутствия самомалейших удобств в его ободранных стенах; лишь Логау и Чепко, не доверявшие Гельнгаузену, высказались за это прибежище.)
Летняя ночь за ними уже расцвечивалась первыми проблесками зари, когда Дах отсчитывал пошлинные гульдены за переправу обоза по мосту через Эмс. Он был перекинут через внешний рукав реки, и тут же, не доезжая до внутреннего ее рукава, совпадавшего с городской чертой, был постоялый двор «У моста» — крытый камышом каменный дом, возвышавшийся своей островерхой кровлей над прибрежными зарослями и на первый взгляд мало пострадавший от войны. Здесь-то Гельнгаузен и распорядился о пристанище вполне по-свойски. Отвел в сторону хозяйку, с которой явно был знаком, пошептался с ней, потом представил ее Даху, Ристу и Гарсдёрферу как свою стародавнюю приятельницу Либушку; изрядного возраста, чего не смогла скрыть целебная мазь, в накинутой на плечи попоне, в солдатских штанах, она, тем не менее, изъяснялась с изыском и причисляла себя к богемским дворянам: отец ее с самого начала стоял вместе с Габором Бетленом за протестантское дело. Она понимает, какая честь оказана ее дому. Пусть и не сразу, но вскоре она представит приют господам.
Тут же Гельнгаузен со своим имперским воинством поднял такой гвалт у конюшни, во дворе, на крыльце, на лестницах и в коридорах, что цепные псы чуть не задохнулись, а он не унимался до тех пор, пока не перебудил всех до единого постояльцев с их конюхами вместе. Как только означенные господа — то были ганзейские купцы, державшие путь из Лемго в Бремен, — собрались перед трактиром, Гельнгаузен приказал им немедля освободить помещение. Свой приказ он подкрепил пояснением: кому жизнь дорога, пусть скорее уносит ноги. Среди чахлых и, как ясно видно, изможденных фигур на повозках и перед оными немало-де кандидатов на чумные дроги. Его отряду поручено извести эту напасть, способную помешать мирным переговорам, по каковой причине ему, лейб-медику папского нунция Киджи, вручен не токмо императорский, но и шведский ордер на заключение в карантин всей этой заразной компании. А посему — убираться незамедлительно и беспрекословно, дабы не понуждать его к сжиганию на берегу Эмса купеческих фур со всем их товаром. Ибо чума — то ведает каждый, и то утверждает он, врач, искушенный премудростью Сатурна, — не щадит богатство, напротив того, она пристрастна именно к ценностям и пуще всего любит щекотать лихорадкой господ в брабантских сукнах.
Когда же господа запросили письменных обоснований их выдворения, Гельнгаузен обнажил клинок и, назвав его своим перышком, пожелал узнать, с кого начать раздачу письменных уведомлений, а потом заявил, что именем Марса и его свирепых псов заклинает отъезжающих постояльцев хранить молчание о причинах внезапного отъезда, дабы не пострадали интересы ни императора, ни его противников.
После такой речи постоялый двор был быстро очищен. Проворнее вряд ли когда запрягали. А кто мешкал, тому спешили помочь мушкетеры. Прежде чем Дах и некоторые другие поэты успели запротестовать против безнравственности подобной выходки, Гельнгаузен все устроил. Хоть и терзаясь сомнениями, но взбодренные смехом Мошероша и Грефлингера, пожелавших истолковать эту сцену как комедию, поэты двинулись осматривать освобожденные комнаты с еще не остывшими постелями.
Поскольку, кроме негоцианта Шлегеля, приглашению Даха последовало еще несколько дельцов-книгопечатников из Нюрнберга, Страсбурга, Амстердама, Гамбурга и Бреславля, убытки, понесенные хозяйкой Либушкой, которой новые гости явно пришлись по нраву, можно было легко восполнить, тем более что выселенные ганзейцы оставили несколько штук материи, кое-какое столовое серебро да четыре бочонка рейнского темного пива.
В пристроенной сбоку конюшне расположился отряд Гельнгаузена. Из первой залы, между каморкой хозяйки и кухней, за которой помещалась большая зала, поэты взошли по двум лестничным маршам на второй этаж. Настроение их заметно поднялось. И только из-за дележа комнат вышла некоторая перепалка. Цезен заспорил с Лаурембергом, не добившись перед тем толку от Риста. Студент медицины Шефлер даже всплакнул. Его, Биркена и Грефлингера Дах, за нехваткой мест, уложил на чердачной соломе.
Потом кто-то заприметил, что у старика Векерлина едва прощупывается пульс. Шнойбер, деливший комнату с Мошерошем, запросил целительной мази. Гергардт и магистр Бухнер требовали каждый по комнате. По двое разместились Гофмансвальдау и Грифиус, Чепко и Логау. Гарсдёрфер не захотел разлучаться со своим издателем Эндтером. Риста как магнитом тянуло — поспорить — к Цезену, Цезена — к Ристу. Хозяйка со служанками во всем помогала новым постояльцам. Имена некоторых Либушка знала. Помнила наизусть целые строфы церковных песен Гергардта. Обнаружила знание изящных оборотов из «Пегницкой пасторали» Гарсдёрфера. А когда потом села за столик у себя в комнате с Мошерошем и Лаурембергом — оба выразили желание не спать, а просидеть до рассвета за темным пивом, сыром и хлебом, — сумела связно передать содержание нескольких видений из «Филандера» Мошероша. Для встречи поэтов нарочно нельзя было придумать хозяйки начитаннее, чем Либушка, или Кураж, как называл ее Гельнгаузен, подсевший к ним чуть позднее и успевший насладиться восторженными изъявлениями признательности его квартирмейстерскому таланту.
Не спал и Симон Дах. Он лежал в своей комнате и еще раз перебирал в памяти тех, кому направил письменные приглашения, кого уговаривал по дороге, кого с намерением или без оного забыл, кого включил в список или исключил из него по чьей-либо рекомендации и кто еще не прибыл — как, например, его друг Альберт, постель которого пустовала рядом с его постелью.
То гонят, то нагоняют сон докучливые мысли: может, Шоттель все же приедет? (Вольфенбюттельский пиит, однако, так и не приехал, потому что был зван Бухнер.) Клая нюрнбержцы извинили болезнью. Не дай Бог, раскачается все-таки Ромплер. Можно ли рассчитывать на прибытие князя Людвига? (Но глава «Плодоносного общества» затаился обиженно в Кётене: Дах, не принадлежавший к членам «Ордена пальмы» и всегда выпячивавший свое бюргерство, был князю противен.)
Как славно, что в Эзеде, «У Раппенхофа», они оставили известие о том, куда переносится собрание, посвященное судьбам выхолащиваемого языка и заботам о мирных переговорах. Где они будут заседать до тех пор, пока не обговорят все до последнего: и пиитические радости и горести, и беды отечества.
Опица и Флеминга им будет недоставать. И удастся ли удержать в положенных рамках теорию? И не явится ли кто незваный? Размышляя об этом и млея от телесной тоски по жене своей Регине, Дах незаметно погрузился в забытье.
3
А может, он еще отписал своей Регине, урожденной Поль, которую все в Кёнигсберге — и завсегдатаи трактирного подворья, и академические студиозусы, и друзья его — Альберт, Блюм, Робертин, и даже сам курфюрст — называли попросту Полькой или Даховой Полькой. Его письмо со стенаниями о тяготах разлуки в начале, с забавным описанием комических подробностей расквартирования в середине и с упованием на Божие попечение об успехе предприятия в конце должно было быть сообщением кратким и не касающимся обстоятельств малоприятных: сколь, скажем, грубо указал им швед на дверь в Эзеде; как реквизировал у протестантской общины четыре упряжки Гельнгаузен, прозываемый также Кристофелем, или Штофелем; как опасливо тронулись они в путь в мюнстерском направлении — ночь, наливающаяся луна, смоляные факелы императорских всадников впереди, громыхающая вдали гроза, пощадившая их по счастию; или как уже в дороге Мошерош с Грефлингером и Лаурембергом принялись за коньяк; как горланили песни, задирая всегда важного Гергардта; как, однако, Чепко и старый Векерлин, по доброте душевной, вступились за обиженного и как после того распевали — по крайней мере в трех из четырех повозок — духовные песни, из которых напечатанная недавно новинка Гергардта «Всем сон смежил ресницы, спят люди, звери, птицы — весь Божий мир почил…» привела в бурный восторг даже бражников; и как потом все, разомлев от пения, погрузились в сон — рано потучневший, всюду круглый Грифиус привалился к нему, как младенец, — вот и вышло, что, когда они уже достигли цели путешествия, начальная проделка Гельнгаузена, так красноречиво расписывавшего чуму, что на них аж пахнуло ее смрадом, оказалась незамеченной или замеченной слишком поздно; и как, невзирая на сие злостное или смехотворное (ему оно показалось скорее таковым) бесчинство — то есть благодаря оному, — они обрели наконец постель, в которую одни залезали, труня над пугливой прытью улепетывавших толстосумов и запивая жутковатый розыгрыш, другие же — тихо моля Господа о прощении; все, однако же, настолько устали, что можно было не опасаться размолвок между силезцами, нюрнбержцами и страсбуржцами, каковые могли бы угрожать срывом встречи. Лишь между Ристом и Цезеном вспыхивали молнии, как и ожидалось. Зато Бухнер, похоже, в отсутствие Шоттеля будет сдержан. Силезцы привезли с собой какого-то студента, но он робок. Гофмансвальдау некичлив, в нем ничего нет от дворянского сынка. Все, кроме Риста, не могущего отказаться от назиданий, и Гергардта, чуждого литературной спайки, выказывают взаимное дружеское расположение. Даже юбочник Грефлингер не гоношится и поклялся ему — верностью своей Флоры — держаться приличий. А все ж от Шнойбера можно ожидать козней, доверия сей хлыщ не внушает. Ничего, буде потребуется, он применит и строгость. Если не считать собутыльников да его, размышляющего о своей Польке, не спит сейчас только караул — имперский! — который Гельнгаузен выставил для их безопасности у трактира. Хозяйка плутня, конечно, но особа необыкновенная, с Грифиусом она бойко тараторит по-итальянски, магистру Бухнеру так даже отповедала на латыни, а в литературе чувствует себя как лиса в курятнике. Удивительно все устраивается — словно повинуясь высшему промыслу. Вот только место тут поповское, ему не по нутру. Поговаривают, будто в Тельгте устраивают свои тайные сборища и анабаптисты. Призрак Книппердоллинга все еще витает здесь. Место жутковатое, что и говорить, но для всякого рода встреч явно подходящее.
Что еще писал Дах своей Польке, пусть останется между ними. Лишь последние его, перед тем как заснуть, мысли мне ведомы, а кружились они вокруг pro и contra[1], то поспевая за событиями, то опережая их, путаясь вокруг разных лиц, повторяясь. Приведу-ка я их в порядок.
Дах не сомневался в пользе столь долгожданной встречи. Сколько длится война, мечты о такой встрече были предметом скорее вздохов, чем планов. Писал ведь ему из своего данцигского прибежища Опиц, думавший о литературной сходке еще незадолго до смерти: «Подобная сей встреча пиитов, в Бреславле ли, в Пруссии ли, повела бы к единению дела нашего, ибо отечество наше в раздробленности состоит…»
Никому, однако, даже Опицу, не удалось бы связать разобщенных поэтов — единственно Даху, чья широкая, тепло излучающая душа только и могла заключить в один круг и строптивого одиночку Грефлингера, и дворянина-любомудра Гофмансвальдау, и далекого литературности Гергардта; но и границы общности он отмерил точно, ведь из князей-покровителей, чьи интересы сводились к заказам на оды да погребальные песнопения, никто приглашен не был. Даже своего-то князя, знавшего наизусть несколько песенок Даха и не оставившего кассу путешественников без вспоможения, Дах просил соблаговолить участвовать в предприятии только заглазно.
И хотя кое-кто (Бухнер и Гофмансвальдау) советовал дождаться заключения мира либо провести встречу где-нибудь подальше от театра военных действий — скажем, в польской глухомани или в не тронутом войной швейцарском заповеднике, — и хотя Цезен было вознамерился затеять конкуренцию, противопоставив этой встрече другую — своего основанного в начале сороковых годов в Гамбурге «Товарищества немецких патриотов» вкупе с «Откровенным обществом ели» Ромплера, все же настойчивость Даха и его политическая воля возобладали: еще в юности он (под влиянием Опица) вел переписку с Гроциусом, Бернеггером и гейдельбержцами о Лингельсгейме и с тех пор почитал себя если не дипломатом, как некогда Опиц, а теперь Векерлин, то иреником, то бишь человеком мира. Вопреки Цезену, который сдался, и несмотря на интриги страсбургского магистра Ромплера, коего не позвали, Дах добился своего: в году сорок седьмом, когда после двадцати девяти лет войны все еще не были оговорены условия мира, меж Мюнстером и Оснабрюком должна была состояться встреча — хотя бы для того, чтобы придать новую ценность последней крепи, крепившей немецкую общность, — немецкому языку, или хотя бы для того лишь, чтобы с нижнего конца стола, конечно, но все же молвить и свое политическое слово.
Ведь что-то, в конце концов, и они значили. Там, где все пошло прахом, сохранило блеск только слово. Где были унижены князья — возвысились поэты. Им, а не власть имущим, уготовано бессмертие.
Симон Дах, во всяком случае, не сомневался в значительности — если не своей, то собрания. Некий навык собирания вокруг себя поэтов и друзей искусства у него был — хотя и ограниченный, «тихоструйный», как говорили у них в Кёнигсберге. Не только в Магистерском переулке близ Трактирной площади, где он обрел пожизненную квартиру, но и в загородном домике приятеля, соборного органиста Генриха Альберта, на острове Ломзе, друзья собирались почитать свои произведения, что кончалось, как правило, песнопением: исполняли обыкновенно свадебные куплеты и строфы, которые положил на музыку Альберт. В шутку они называли себя «Тыквенным обществом», памятуя о том, что их богатство, как и «Плодоносный орден Пальмы», или страсбургское «Откровенное общество ели», или даже нюрнбергское — «Пегницких пастухов», было всего-навсего веточкой на раскидистом древе немецкой поэзии.
Но как обуревает Даха желание услышать шелест всего древа! И сколь рад он был послужить делу, оправдывая смысл фамилии своей[2]. Так что, когда на другой день перед обедом все собрались в большом трактирном зале — кто выспавшись после утомительного путешествия, кто отойдя от хмеля, кто оживлен, кто задумчив, — Дах обратился к ним со вступительной речью в таком духе: «Собравшись, будто под крышей, под сенью имени моего — ибо я призвал вас, — будем же, любезные друзья мои, устремляться к тому, чтобы каждый свободно изливал все накопленное, чтобы в итоге на один, немецкий лад легли мелодии — пегницкие, плодоносные, тыквенные, еловые, чтобы в сорок седьмом году горестного столетия нашего поверх опостылевшей болтовни о мире и под непрестанный рев кровавых ристаний прозвучал и наш давно подавляемый голос; и да будет то, что должны мы сказать, не как обезьянье эхо романцев, но из глуби нашего языка: зачем, Германия, в крови ты утопаешь и тридцать лет сама себя уничтожаешь?..»
4
Последние рифмованные строки Дах прочел из своего недавно законченного, но печатнику еще не отданного стихотворения, в коем оплакивал конец той самой Тыквенной хижины, что давала приют кёнигсбергским поэтам на острове Ломзе и была теперь обречена на слом ради торговой дороги; в память о ней соборный органист Генрих Альберт сочинил мелодию на три голоса.
Стих возбудил интерес, и Гофмансвальдау, Рист, Чепко и прочие осадили автора, домогаясь услышать всю элегию, но целиком он прочел ее позднее, на третий день заседаний. Открывать встречу собственным изделием ему не хотелось. Не допустил он и других вводных речей. (Цезен намеревался дать доскональный отчет о своем «Товариществе немецких патриотов» и его делении на цехи. Рист немедля прочел бы контрдоклад, ведь уже тогда он вынашивал свой «Орден эльбских лебедей», каковой позднее и основал.)
Напротив того, Дах попросил набожного Пауля Гергардта, чтобы заодно дать тому освоиться, прочесть вслух молитву об успешном течении встречи. Что Гергардт и исполнил — стоя, со всею истово лютеранской серьезностью, не воздерживаясь от проклятий на головы присутствующих нечестивцев, под коими разумел, должно быть, силезских мистиков либо кое-каких кальвинистов.
Выдержав краткую паузу после молитвы, Дах призвал засим «высокочтимых друзей» помянуть тех поэтов, чье место было бы здесь, среди них, когда б не взяла их могила. Он торжественным тоном — все встали — перечислил «прежде срока покинувших нас», назвал первым Опица, потом Флеминга, за ним политического наставника своего поколения, иреника Лингельсгейма, затем Цинкгрефа и под конец весьма озадачил собравшихся — Грифиус весь так и взошел, как на опаре, — пригласив их вспомянуть иезуита Шпее из Лангенфельда.
Хотя многим из присутствующих было ведомо (и по собственным подражаниям), какую школу составил театр иезуитов, хотя даже Грифиус студентом находил, что отдельные латинские оды иезуита Якоба Бальде стоило бы «онемечить», хотя Гельнгаузен, которого, правда, никто, кроме Гарсдёрфера (и Грефлингера), не желал причислять к собранию, выдавал себя за католика — и никого это не коробило, — но воздать поминальные почести Шпее — нет, для иных протестантов, как ни внимали они призывам Даха к терпимости, это было чересчур. Громкий протест или молчаливое неприятие — вот что последовало бы, не окажи Гофмансвальдау поддержку Даху, сразу вперившему суровый взор в разволновавшееся собрание. Для начала Гофмансвальдау продекламировал «Покаянную песню вполне смятенного сердца» из не напечатанного, но ходившего в списках цикла Шпее «Своенравный соловей»: «Когда коричневая ночь нас в черный сумрак облекает…», потом с легкостью, будто имел перед глазами латинский оригинал, привел несколько отрывков и тезисов из «Cautio criminalis», обвинительного памфлета Шпее против инквизиции и пыток, после чего восхвалил мужество иезуита и с вызовом спросил всех (Грифиусу глядя прямо в лицо), кто из них смог бы, как Шпее в мрачном Вюрцбурге, наблюдать истязания двухсот женщин, у которых пытками вырывают признание, утешать их, сопровождать на костер, а потом описать свой жуткий опыт и напечатать его как обвинение?
Возразить было нечего. По щекам старого Векерлина текли слезы. Студент Шефлер, словно это много объясняло, заметил, что и погиб Шпее от чумы, как Опиц. Подхватывая имя последнего, Дах передал Логау отпечатанный текст, чтобы тот — помянуть надо было всех поэтов — прочел один из сонетов, которые Флеминг посвятил незадолго до него самого умершему Опицу (а написал он их во время путешествия к ногайским татарам). Логау огласил и собственный рифмованный некролог Боберскому Лебедю, как называли поэта из Бунцлау: «В Риме был один Вергилий,/Хоть в латыни знали толк,/И у нас один лишь Опиц,/А поэтов — целый полк».
Воздав должное Лингельсгейму, сподвижнику своему по делу мира, Дах, в память Цинкгрефа, прочел из его остроумных изречений два забавных, увеселивших собрание пассажа, а потом, уступая просьбам, и еще несколько.
Так скованная торжественность уступила место словоизлияниям более непринужденным. Те, кто постарше, держали в памяти немало историй из жизни усопших. Векерлин рассказал о проказах юного Опица в Гейдельберге во времена покойного Лингельсгейма. О том, что сталось бы с музой Флеминга, ежели б хранила ему верность его прибалтийская Эльзаба, порассуждал Бухнер. Кто-то спросил, почему стихи Шпее до сих пор не нашли издателя. Потом пошли студенческие воспоминания о Лейдене: Грифиус и Гофмансвальдау, Цезен и юный Шефлер именно там впервые познали озноб мечтаний. Кто-то (я?) спросил, отчего Дах упустил отметить и Бёме, раз уж тут представлены последователи сапожника из Гёрлица?
Тем временем хозяйка со служанками выставила на стол в малом зале непритязательную закуску — жирный суп с клецками и колбасками. Да краюхи хлеба, да темное пиво. Компания принялась ломать хлеб, макать, чавкать, подливать. Хохот побежал по кругу. (Откуда взялось название города на Эмсе — Тельгте? От тельца? Или скорее, ежели вспомнить местных девиц, от телки?) Дах прохаживался вдоль длинного стола, находил слово для каждого, а иных и мирил, как Бухнера с юным Биркеном, уже затеявших жаркий диспут.
После трапезы, настраивал он, речь у них пойдет о языке. Что ему, языку, на пагубу, а что — на пользу. Какие правила стихотворства устарели, а какие остаются незыблемы. Как обогатить понятие языка природного, каковое Бухнер отвергал «аки мистику», дабы взрастить из него основной язык, что вообще считать языком ученым и какую роль отвести местным наречиям. Ибо сколь ни образованны и многоязычны они были — Грифиус и Гофмансвальдау изъяснялись на семи языках, — однако ж все на местный манер кромсали и мяли, мололи, толкли, молотили, тянули и прокатывали свой родной немецкий.
Уроженец Ростока Лауремберг, даром что со времен вторжения Валленштейна в Померанию учил детишек математике в датских пределах, рокотал, однако, на своем ростокском диалекте, а на нижненемецком ответствовал ему голштинский проповедник Рист. Более тридцати лет пребывающий в Лондоне на дипломатической службе Векерлин продолжал говорить как заправский шваб. И чего только не подмешивали в преобладающий силезский остальные: Мошерош — свой алеманский, Гарсдёрфер — франконскую скороговорку, Бухнер и Гергардт — саксонский, Грефлингер — клекочущий нижнебаварский, Дах — меж Мемелем и Прегелем укорененный прусский. А когда, по-дурацки осклабясь, принимался за свой скабрез Гельнгаузен, то извергаемые им звуки оказывались троякого рода, ибо за годы войны он давно перемешал свой гессенский с вестфальским и алеманским.
Столь трудноразбираемым был их путь к взаимопониманию, столь беспорядочным — языковое богатство, которым они владели, столь зыбкой свободой обладал их немецкий; однако ж тем увереннее чувствовали они себя во всевозможных теориях речи. На всякий стих — свое правило.
5
Из малой залы в большую перешли на удивление дружно, разом — едва Симон Дах подал знак рукой: ему по-детски капризные натуры поэтов подчинялись охотно. Верховенство его признавали. Ради него даже Рист с Цезеном отказались (ненадолго) от распри, что уже завладела их потрохами. Вот такого отца он всегда желал себе, думал Грефлингер. Обуздывать свои привычки в угоду бюргеру Даху — дворянина Гофмансвальдау это даже развлекало. Князья учености, из коих Гарсдёрфер имел резиденцию в Нюрнберге, а Бухнер — в Виттенберге, охотно избрали бы (в подпитии) магистра с Трактирной площади своим сюзереном. А наживший желчность на придворной службе Векерлин, уже несколько лет как статс-секретарь являвшийся на доклад не к английскому королю, а в парламент, привык уважать волю большинства и вместе со всеми последовал зову Даха, хотя над пуританским демократизмом второй своей родины старик и подтрунивал, рассказывая, в каких колючих рукавицах держит там поэтов некий Кромвель.
Единственный, кто не примкнул к остальным, был студент Шефлер. Его, пока все еще сидели за супом, потянуло в город, куда он и устремился через Эмские ворота, на поиски предмета ежегодного паломничества в Тельгте — деревянной резной пиеты: застывшая от горя Мария сидит, держа на руках тело сына, скованное холодом смерти.
Когда все расселись вокруг Даха на скамьи, стулья, а поскольку их не хватило, то и на скамеечки для доения и пивные бочки, через открытые оконца к ним еще раз заглянуло лето, примешав жужжанье мух под балками потолка к негромким переговариваниям и молчаливому ожиданию. Шнойбер что-то втолковывал Цезену. Векерлин объяснял Грефлингеру приемы шифровки секретных донесений — искусство, коим он овладел в череде служебных перемещений. Снаружи доносилось ржанье двух хозяйкиных мулов и, еще отдаленнее, брехня трактирных дворняг.
Табурет, стоявший подле кресла с подлокотниками, которое Дах поставил для себя, дожидался оратора. Символических знаков, употреблявшихся в местных объединениях — вроде пальмы «Плодоносного общества», — не было, фон пустовал. То ли соблазнились поэты простотой, то ли ничего подходящего не пришло в голову — да и найди его, подходящее, попробуй.
Без всяких вступлений, лишь легким покашливанием обеспечив тишину, Симон Дах предоставил первое слово магистру литературы из Саксонии Августу Бухнеру, человеку уже пожилому, гладкому, который и слова не мог сказать в простоте, непрерывно вещал, а если молчал, то и молчание его было подобно докладу: молчал он так внушительно, что его немые периоды можно было цитировать как перлы красноречия.
Бухнер прочитал из своего манускрипта «Краткий путеводитель к неметцкой поэзии», впрочем широко распространившегося уже в списках, десятую главу: «О размерах стихов и их видах». Возникла эта глава в продолжение теоретических изысканий Опица и содержала рассуждения о правильном употреблении «дактилических слов», указания на ошибки приснопамятного Амброзия Лобвассера, «примешавшего александрийскому стиху ложные pedes»[3], и примеры дактилической оды, четыре последних стиха каковой являются, как в пасторальных поэмах, трохеями.
Доклад Бухнера изобиловал реверансами перед Опицем — хотя возразить ему там и сям он счел весьма оправданным — и колкостями в сторону отсутствующего «принцева воспитателя» Шоттеля с его угодливостью князю и тайными шашнями при дворе. Обронил Бухнер и слово «розенкройцеры», хотя Авраам фон Франкенберг и не был назван. По временам оратор переходил на ученую латынь. Даже оторвавшись от листков, он свободно пользовался цитатами. (Не зря в «Плодоносном обществе» снискал он прозвище Искушенный.)
Дах призвал к прениям, но покуситься на авторитет Бухнера поначалу никто не отваживался, даром что большинство собаку съело в теории, понаторело в ремесле стихосложения, привыкло к словесным стычкам, за словом в карман не лезло и даже тогда норовило закусить удила, когда на языке вертелось согласье. Лишь непререкаемый проповедник Рист позволил себе осудить любую критику Опица как «недостойную и порочную», на что ученик Бухнера Цезен немедленно отпарировал: так может говорить только тот, кто «опицирует» бездумно, какой-нибудь мастер «опициальности» в духе «эльбских лебедей»!
После того как Гарсдёрфер выступил с ученой защитой нюрнбергской пасторали, пострадавшей, по его мнению, от Бухнера, а Векерлин — с указанием на то, что он давно, задолго до Опицевых и Бухнеровых остережений, употреблял дактили правильные, Грифиус плеснул свою ложку дегтя: такие наставления могут-де повсеместно породить бездушную писанину; с чем Искушенный согласился, пояснив, что именно по этой причине он, не то что иные магистры словесности, не станет отдавать в печать своих лекций.
После этого Дах вызвал Зигмунда Биркена, юношу, который то и дело встряхивал своими ниспадавшими на плечи локонами. На круглом лице — глаза дитяти и припухшие влажные губы. Поди разберись, зачем понадобилась теория такой красоте.
Когда Биркен огласил двенадцатую главу своих «Правил немецкой разговорной и поэтической речи», в ней же особенно подчеркнул правила для актеров, согласно которым автор обязан вкладывать в уста всякого персонажа лишь сообразную ему речь: «… дабы дети изъяснялись по-детски, старики — разумно, дамы — прилично и нежно, рыцари — отважно и геройски, крестьяне — грубо…», Грефлингер и Лауремберг накинулись на него: да это же будет смертная скука! Вот уж поистине «пегницня»! Тоска зеленая, как всегда! Издевался и Мошерош: в какое-де такое время живет юный хлыщ?
Гарсдёрфер вяловато двинулся на выручку своему воспитаннику: мол, подобные предписания для актеров существовали и в античные времена. Гергардт похвалил правила Биркена в той их части, где содержался призыв не являть всякие ужасы в их натуральном обличии, а лишь косвенно сообщать о них. Однако ж Грифиус, о котором поговаривали, что он пишет трагедии, молчал. Молчал и Бухнер — оглушительно, как набат.
Тут попросил слова Гельнгаузен. Уже не в щегольской зеленой безрукавке с золотыми пуговицами, а (как Грефлингер) в простой солдатской блузе и шароварах, он сидел на одном из подоконников и нетерпеливо ерзал, пока Дах не дал ему слова. А хотел Штофель заметить следующее: за свою изобилующую превратностями жизнь он не единожды бывал свидетелем тому, как по-детски изъясняются старики, а разумно — дети, как грубят дамы, а крестьяне держатся приличий, а что до отважных удальцов, коих повидал он немало, то даже перед лицом смерти речь их была сплошная непристойная брань. Нежный шепот, особливо на перекрестках дорог, ему доводилось слышать только от черта. И говоря так, полковой писарь всех поочередно — под конец и князя тьмы тоже — изобразил.
Даже Грифиус рассмеялся. А Дах заключил диспут на примирительной ноте, обратив к собравшимся вопрос: уместно ли являть кровопролитье да засорять речь на театре, коль скоро и в жизни всего этого чрезмерно? И в правилах Биркена, сдается ему, есть немало разумного, если ими не злоупотреблять.
Затем вызвал он Ганса Михаэля Мошероша, чья сатира на порчу языка из первой части «Видений Филандера из Зиттевальда», хоть и была уже напечатана и хорошо всем известна, не могла тем не менее не доставить удовольствия, особенно же своими насмешливыми песенками вроде:
Любой портняжка корпит, бедняжка, Над латинской грамматикой, чтоб важным стать ему: То ли немец, то ли француз, то ли вовсе даже индус, Не голова, а месиво, зато речь спесива…Это отвечало общему недовольству порчей немецкого языка, чувствительная почва которого изрыта была копытами да колесницами во время романских и шведских нашествий.
Тут, просунувшись в отворенную дверь, хозяйка Либушка кстати спросила, не сервировать ли сеньорам «бокколино руж», — ей отвечали на всех имевших хождение в отечестве иностранных наречиях. Все, даже Гергардт, обнаружили отменное владение пародийной тарабарщиной. А Мошерош — здоровенный детина, первым смеющийся собственным шуткам, но и ревнитель глубокомыслия, что принесло ему в «Ордене пальмы» титл Мечтающего, — продолжал рассыпать перлы своего сатирического мастерства. Он измывался теперь над убогими рифмами и описаниями в духе пасторальных изысков. Имен не называл, но явно метил в берега Пегница. Себя не раз называл «ладнонемецким», хотя имя его было происхождения мавританского. Это он заявляет всем, кто пожелает подыскать рифму к слову «вид». (Остатний у хозяйки бочонок вина, который служанки по ее знаку вкатили, был, таким образом, посланцем прародины Мошероша.)
После этого Гарсдёрфер прочел из только что опубликованной первой части своей «Поэтической воронки» несколько толковых наставлений для желающих в кратчайшие сроки сподобиться пиитического ремесла — «сии шесть уроков, однако ж, не след брать все в един день…», — к чему присовокупил, стяжав общие восторги, по рукописи прочитанную похвалу немецкому языку, каковой-де более прочих подражать всякому природному звуку и шороху способен, ибо «воркует голубем, играет вороном, чирикает воробьем, журчит и плещется, что ручей…»
И хотя мы никак не могли договориться даже о том, писать ли нам «немецкий» или «неметцкий», однако ж всякая хвала «немецкого» или «неметцкого» была нам по сердцу. Каждый без устали отыскивал все новые и новые природные звуки для доказательства искусности немецкого слова. Вскоре (к неудовольствию Бухнера) стали перебирать бесконечные словоизобретения Шоттеля, воздав должное его «молочно-белоснежному» и другим находкам. Страсть к улучшению языка, к онемечению иностранщины сплачивала нас неукоснимо. Одобрение встретила даже предложенная Цезеном замена «женского монастыря» на «девоузилище».
Однако длинное стихотворение Лауремберга «О новомодных виршах и рифмах», в котором автор на своем нижненемецком наречии яро обрушивался на тех поэтов, что писали «по моде» на верхненемецком, снова раскололо собрание, хотя уязвить Лауремберга было нелегко. Он предвидел возражения своих противников — «Какую ни правь бумагу, все им язык негож, /Казенный канцелярский один у них хорош…» — и выдвинул неиспорченный нижненемецкий в противовес ходульному, жеманному, преизобильному квазиучеными кренделями верхненемецкому, возлюбленному канцеляристами: «То ли лапландский, то ли еще каковский — не немецкий, а бестолковский…»
Но тут уж не только модники Цезен и Биркен, но и Бухнер с Логау предали анафеме диалект как средство поэзии. Единственно верхненемецкий, изощряясь и утончаясь, должен стать тем инструментом, который — взамен неудачливых копья и меча — очистит отечество от чужеземного господства. Рист заодно потребовал покончить и с античным хламом, со всем этим нечестивым заклинанием муз и прочим языческим непотребством. Грифиус признался, что в отличие от Опица полагал, будто лишь диалект питает соками основной язык, но после учения в Лейдене он, хоть и не без сожаления, предписал себе более строгий языковой пост.
И опять с подоконника подал голос Гельнгаузен: ежели на Рейне говорят «свекла», а на Эмсе или Везере — «буряк», то ведь все равно имеют в виду одно и то же. О чем тут спор — непонятно. Разве, слушая поэму Лауремберга, можно не заметить, сколь ярко выделяется грубое местное наречие на фоне ходульного слога. Ну и пусть себе соседствуют всем на радость. Когда заботятся только о чистоте и не выпускают из рук метлы, то в конце концов выметают и самое жизнь.
Рист и Цезен (и согласно, и розно) изготовились возражать, но Дах поторопился признать, что Штофель прав: он тоже иной раз сдабривает свои песенки родными прусскими словечками и сбирает то, что поет народ, дабы через посредство органиста Альберта сделать это всеобщим достоянием. После чего он негромко, вполголоса, исполнил несколько куплетов об «Анке из Тарау» — «моей зазнобе, моей хворобе, моей отраде и отраве моей». Пел он сначала один, потом подтянули ему Лауремберг, Грефлингер, Рист, а уж когда вступил и Грифиус, составился мощный хор, заглушивший — благодарение Анке — всякие споры: «Любо с милой и побраниться, как в раю, век бы с нею резвиться».
Засим Дах объявил сегодняшнее заседание завершенным: еда в малой зале уже поджидала. Кому она покажется не ахти какой пышной, тому надобно взять в толк, что фуражиры-хорваты лишь недавно реквизировали всю хозяйкину живность, увели телят, закололи свиней, извели — а попросту, по-немецки говоря, сожрали — всех гусей до единого. Но поэты все же насытились. Да и ничто так не красит трапезу, как ладная речь или противоречие.
В малой зале присоединился к ним и студент-медикус. С очами, горящими, будто узрел чудо. А всего-то и было, что настоятель соборный показал ему тельгтскую пиету, спрятанную в сарае. Бывшему поблизости от меня Чепко Шефлер сказал: Матерь Божия открыла ему, что, как Бог в его сердце, так она живет в лоне всякой девушки.
6
Еда, внесенная служанками по распоряжению хозяйки, была, впрочем, не такой уж скудной: в глубоких мисках дымилась пшенная каша, обильно сдобренная салом и приправленная свиными шкварками. Горячие колбаски и хлеб грубого помола были также на столе. Помимо того, хозяйкин огород, притаившийся в диких зарослях позади дома (и схоронившийся — от фуражиров), даровал лук, морковку и хрен — все это, свежесорванное, подавалось на стол и отлично шло под пиво.
Они нахваливали простоту трапезы. Даже привереды, увлекаясь, утверждали: давно уже их желудки не были столь ублажены. Векерлин проклинал английскую кухню. Гофмансвальдау называл сельский стол пиршеством богов. Гарсдерфер и Биркен наперебой цитировали — по-латыни и в немецких переложениях — античные пасторали с описанием подобных обедов. А в словесном водопаде ведельского пастора Риста, которому Дах препоручил застольную молитву, эмская пшенка превратилась в манну небесную.
Вот только Гельнгаузен сначала что-то бурчал себе под нос, а потом стал громко бранить хозяйку: ты что, Кураж, рехнулась? Такую жратву его рейтары и мушкетеры, скромно расположившиеся на конюшне, второй раз и в рот не возьмут. Они — с их-то жалованием — держат сторону императора лишь до тех пор, пока жаришь им цыплят, говядину да свинину. А не кормить досыта, они завтра же переметнутся к шведу. Ибо как мушкету потребен сухой порох, так мушкетеру — добрый дух. Аполлон с его лебединой шеей быстро попадет под разбойничий нож, лиши его только Марс своего попечительства. Говоря иначе: без военной протекции поэтический диспут долго не протянет. Он только хотел сообщить господам во предостережение — Кураж-то сама это знает! — что вся Вестфалия, особенно же текленбургская сторона, усеяна по берегам Эмса не только кустами, но и бродягами.
С этими словами он удалился вместе с Либушкой, которая, очевидно, вняла тому, что Гельнгаузеновы рейтары и мушкетеры нуждаются в добавке. Присмиревшие, но также и возмущенные столь беспардонной дерзостью, литераторы на какое-то время остались одни. Пусть себе отведут душу вольными словопрениями. Не может быть, чтобы неутомимым плетением дактилических словес не перехитрили они опасности и не отстояли свою встречу; да сгинь весь мир, они все одно будут и средь тарарама спорить о правильно и неправильно составленных стопах. Ведь в конце концов всё — не одному Грифиусу в его блистательных сонетах это открылось — суета сует.
А потому литературная беседа за столом, под жеванье и стук ложек, потекла себе дальше. На одном конце стола — напротив Даха — Бухнер, жестикулируя, выражал свою неприязнь к отсутствовавшему Шоттелю, которого уличал в нападках на «Плодоносное общество». В ответ Гарсдёрфер со своим издателем Эндтером — они вынашивали кое-какие совместные прожекты с Шоттелем — передразнивали магистрову манеру говорить. Всюду сыпались шуточки над теми, кто не приехал; вспыхивал и метался из стороны в сторону спор — в соли с перцем не было недостатка, и слова вылетали из жующих ртов, как камни из пращи: тут, сидя верхом на скамье, кто-то ехидно подсчитывал нижненемецкие pedes в творении Лауремберга; там Цезен и Биркен лягали усопшего Опица, называя его стихотворные правила тюремной решеткой и браня его образы за бесцветность. Оба новатора обвиняли Риста, Чепко и втихомолку Симона Даха в вечном «опицировании». Напротив того, Рист, сидевший с Векерлином и Лаурембергом, возмущался безнравственностью «пегницких пастухов»: в Нюрнберге на заседания «Цветочного ордена» допускаются-де даже женщины. Счастье еще, что хоть Дах не пригласил никого из дам. А то ведь их рифмованные душеизлияния вошли теперь в моду.
В другом месте несколько человек сгрудились вокруг сидящего Грифиуса, раздобревшего в свои тридцать лет толстяка. Так раздули его, видимо, презрение к миру да печаль. Бюргерское платье на нем едва сходилось. Двойной подбородок подбирался к третьей складке. Вещал он громовым голосом, разя и без молний. К тесному кружку, рокоча, обращался как к человечеству и на вопрос, что есть человек, отвечал вереницей слепящих картин. Ответы гласили: все лишь видимость и морок. Грифиус изничтожал. Ему всегда внушало омерзение и то, что он делал. Сколько бы страсти ни вкладывал он в свои писания, с еще большим пылом изрыгал он проклятия тому, что писал. Недовольство написанным, а тем более напечатанным, не разлучалось у него с жаждой видеть напечатанным все им написанное — трагедии ли, кои с недавнего времени стекали с его пера, комедии или фарсы, которые он задумал. Потому-то он мог — едва наметив громозвучные сцены — тут же прощаться «с поэзией и прочей чепухой»: любой зародыш уже попахивал для него тлением. Уж лучше — вот только бы настал мир — приносить осязаемую пользу. Сословия в Глогау давно зовут его стать их синдиком. Как чурался он в прежние времена изворотливой дипломатии Опица, а теперь необходимейшим кажется ему всякое дело, полезное общему благу. Когда — более даже, чем сама страна, — лежат в развалинах обычаи и законы, что еще можно противопоставить хаосу, кроме порядка? Только он один даст поддержку слепым и заблудшим. От цветистых пасторалей да мелодичных консонансов проку не будет.
Такое отвержение написанного слова исторгло из стоявшего в сторонке Логау готовые к печати шпрухи: из кожи будут хлебы, коль сапожник печь начнет. А Векерлин заметил: вся его, уж скоро тридцатилетняя, государственная лямка не перевесит и одной из его од: их все, и совсем новые, и успевшие одряхлеть, он намерен вскоре отдать в печать.
Речи Грифиуса, на все лады возвещавшего гибель литературы и воцарение созидающего порядок разума, не смутили и доселе молчавших издателей, которые не устояли перед соблазном выудить у поэтов уже готовые, обещавшие успех рукописи. Новое издание Векерлина было уже запродано в Амстердам. Мошерош поддался натиску гамбургского книготорговца Наумана. Издатель Эндтер, почти сладив уговор о пространном опусе, приуроченном к торжествам по случаю предстоящего мира, с Ристом, печатавшимся до сих пор в Люнебурге, попытался — наперебой со страсбуржцем Мюльбеном и голландцем Эльзевиром — склонить пронырливого Гофмансвальдау добыть им — одному, другому или третьему — рукопись «Соловья» усопшего иезуита Шпее: и паписта можно напечатать, было б складно писано. Гофмансвальдау посулил — и одному, и другому, и третьему. И будто бы даже — злословил позднее Шнойбер — получил аванс от всех троих; однако напечатан был «Своенравный соловей» Фридриха фон Шпее лишь в сорок девятом году у Фриссема в католическом Кёльне.
Меж тем сумрак сгущался. Кое-кто из господ пожелал еще прогуляться по саду хозяйки, но комары, тучами налетавшие с Эмса, вскоре всех разогнали. Дах восхищался упорным рвением Либушки, которая выращивала свои овощи посреди пустоши, борясь с крапивой и чертополохом. С такою же стойкостью отвоевывал свой садик вокруг Тыквенной хижины на прегельском острове Ломзе его друг Альберт. И ничего от этого сада не осталось. Так пойдет — уцелеет один чертополох, единственный цветок этих дней, символ злосчастной эпохи.
Потом они еще постояли немного во дворе или прошлись в сторону внешнего Эмса, где одиноко торчала брошенная сукновальня. Отсюда хорошо было видно, что местом их встречи служил остров Эмсхаген, образованный двумя рукавами реки. Со знанием дела обсудили разрушения, произведенные в городской стене, лишившейся своих башен; похвалили трубку Мошероша. Поболтали со служанками, одну из которых звали (как и возлюбленную покойного Флеминга) Эльзабой, затем, в окружении прыгающих собак, навестили привязанных к колышкам мулов хозяйки, обративши к ним приветствия на латыни. Все это под шуточки, остроты и подначки друг друга, а также споры — о том, к примеру, следует ли (согласно поучительной цветовой шкале Шоттеля) признать волосы хозяйки Либушки «смолянисто- или угольно-черными» и можно ли назвать сумерки «ослино-серыми». Посмеялись над Грефлингером, который стоял среди мушкетеров, широко расставив ноги, на манер шведских фенрихов, и вещал им о своих походах под началом Банера и Торстенсона. Собирались уж было отдельными группками двинуться по дороге к Эмским воротам — ибо Тельгте все еще оставался им незнаком, — как на двор прискакал кто-то из Штофелевых конников и передал депешу Гельнгаузену, стоявшему с хозяйкой и фельдфебелем мушкетеров в воротах конюшни; и скоро уже все знали: Траутмансдорф, уполномоченный императора, внезапно — дело было 16 июля — и в подчеркнуто приподнятом настроении отбыл из мюнстерского монастыря в Вену, посеяв недоумение в рядах участников покинутого им совещания.
Беседа тотчас приняла оборот политический, переместившись в малую залу трактира, где уж была откупорена новая бочка темного пива. Только молодежь — Биркен, Грефлингер и, не без колебаний, студент Шефлер — осталась с Цезеном во дворе и пошла на приступ трех служанок. Двое ухватили свое, третьего (Шефлера) ухватила сама избранница, и только Цезен остался ни с чем и, преследуемый издевками Грефлингера, припустился к реке, чтобы побыть на ее берегу наедине с собой.
Но едва я увидел его у внешнего Эмса, что глубоко зарылся в песчаное ложе, как к берегу прибило два связанных трупа: они раздулись, но можно было догадаться, что это мужчина и женщина; покачавшись какое-то время на месте — Цезену показалось, что прошла вечность, — страшная связка высвободилась из прибрежных зарослей; трупы закружились в течении, поменялись местами, миновали порог, скользнули вниз к мельничным сваям, где вечер переходил в ночь, и ничего от них не осталось — разве что те видения и образы, к которым Цезен стал подбирать новомодные аллитерации. Язык настолько завладел им, что не оставил времени ужасаться.
7
За пивом в малой зале судили да гадали. Улыбочка Траутмансдорфа, известного своим угрюмым нравом, могла означать лишь триумф папистов, выгоду Габсбургов, дальнейшие утраты протестантского лагеря и в который раз отложенное заключение мира — так говорили они друг другу, взаимно разжигая тревогу. Особенно закручинились силезцы. Чепко предвидел: то-то доберутся теперь до них иезуиты.
Они чуть не повернулись к Гельнгаузену спиной, когда тот на свой веселый лад изъяснил внезапный отъезд императорского посланника: чему ж тут удивляться, коли Врангель, сменивший подагрика Торстенсона, ведет войну исключительно ради личной корысти и всегда предпочтет попастись в Баварии, нежели топать по разграбленной Богемии в Вену. Да и вообще протестанты нашли себе весьма сомнительного покровителя при французском дворе, в ту пору как — в Париже об этом распевают на улицах — Анна Австрийская штопает носки Мазарини, а кардинал со своей стороны укрощает ее августейший кураж.
Да уж, встряла тут Кураж, эти дела знакомы ей с молодости. Целых семь раз выдавали ее за имперских да гессенских военных, а один раз так даже за датского. И какой бы поп ни венчал — католический ли, лютеранский ли, — всегда кончалось одним и тем же: попользуются — и в кусты, да тебя же еще и обругают. Таковы мужчины! Кого ни возьми. Хоть того же Штофеля — и у него на уме не иное, чем у тех военных, уж она-то его знает — по Ханау еще, а потом и по Зосту, и по Зауэрбрунну, где по его вине довелось ей впервые изведать французское недомогание и где его, Штофеля, все звали Простаком: «Простак, сбегай! Простак, сделай! Простак, сюда! Простак, туда!»
«Заткни пасть, Кураж, не то я сам тебе ее заткну!» — закричал Гельнгаузен. Забыла, мол, что ли, про свои швабские шашни? Счет еще не оплачен.
Да она сама ему откроет счет — его ублюдкам, коих он, Простак Перекати-Поле, наплодил по всем местам, где только квартировал.
«Тебе ли молоть про ублюдков, Кураж, — сама-то ни одного на свет не произвела, только и знаешь, что тупо трястись на осле да скармливать ему чертополох. И сама ты чертополох, который давно пора вырубить — под самый корень!»
На что Либушка, будто Гельнгаузен и взаправду врубил ей под основание, вскочила на стол, прошлась меж затанцевавших пивных кружек, задрала вдруг свои юбки, скинула шаровары и, наведя голую задницу на Гельнгаузена, удостоила его громогласным ответом.
«Каково, Гриф, а? — вскричал Мошерош. — Вот у кого сочинителям немецких трагедий надо брать диалоги да заключительные сцены!»
Хохотали дружно. Смех разобрал даже дотоле мрачного Грифиуса. Векерлин пытался бисировать «куражный гром». Логау пришла в голову сентенция насчет возвышенного смысла пёра, окончательно развеселившая общество, огорченное было известием о внезапном отъезде Траутмансдорфа. (Только раздосадованный Пауль Гергардт пустился отыскивать свою комнату. Ибо догадывался, какое направление придаст мужской беседе задний выдох хозяйки.)
К пиву пошла приправа в виде двусмысленных и забористых анекдотов. Один Мошерош знал их столько, что хватило бы на дюжину нецензурных календарей. Витиевато, более прикрывая, нежели раскрывая суть, Гофмансвальдау описал бреславльские похождения Опица, заморочившего голову и еще кое-что не одной бюргерской дочке, а все ж бежавшего всякий раз от расплаты. Старый Векерлин щедро черпал из грешного лондонского болота, находя удовольствие в живописании нагого парада пуритан-лицемеров из нового господствующего класса. Шнойбер поведал об опасных связях дам княжеских фамилий, кои сплачивались вокруг Ромплера в «Обществе ели» отнюдь не только фигурально-поэтически. Лауремберг тоже, конечно, внес свою лепту. Всяк порылся в сундуке своей памяти. Даже Грифиус, уступив домоганиям, поделился несколькими пустячками, привезенными им из итальянского путешествия: то были большей частью истории о распутниках-монахах, которые тут же подхватил Гарсдёрфер, а Гофмансвальдау стал варьировать аналогичные сюжеты, составляя из них треугольники и четвероугольники. При этом все трое подтвердили свою начитанность, неизменно давая отсылку к соответствующему итальянскому литературному источнику — в зачине ли рассказа о хитроумных проделках шлюхи, в заключении ли истории про блудливого монаха.
Когда Симон Дах с простодушным удивлением заметил, что живет, вероятно, не там, где надо, ибо подобных происшествий не знают на Трактирной площади в Кёнигсберге, то есть и там, конечно, есть любители этого дела, но действуют они как-то очень уж по-простому, его реплика особенно всех развеселила. И если бы — благодаря подзуживаниям Гарсдёрфера — очередь не дошла до хозяйки Либушки и Гельнгаузена (она уж тем временем помирилась со своим Простаком), поведавших кое-что, он — из своей солдатской жизни, о битве при Витштоке, она — из своей маркитантской, о лагере под Мантуей, потом оба они — о совместном «спанье» в Зауэрбрунне, то рассказывание всевозможных историй под пиво из нескудеющей бочки так и продолжалось бы в развлекательном духе. Но когда оба привели ужасные подробности бойни, учиненной Тилли в Магдебурге, веселье улетучилось мигом. Дерзкая Либушка взялась перечислять, чем она поживилась во время грабежей, сколько корзин наполнила золотыми украшениями, снятыми с приконченных женщин. Наконец Гельнгаузен пнул ее ногой, чтоб умолкла. Несчастье Магдебурга взывало к молчанию.
Посреди тишины раздался голос Даха: пора и на покой, в объятия Морфея. Неприлизанные свидетельства Штофеля и особенно — Либушки, к которым их легкомысленно побудили, ясно указывают границу всякого смеха и ту плату, какую взимает излишество смеха, застревающего у всех комком в горле. Нет ничего страшнее, чем привычка души к кошмару. Да отпустит им это Господь Бог, да простит их по доброте своей.
Дах отослал их спать, как детей. Не дал и выпить по последней, на чем настаивали Лауремберг с Мошерошем. Попросил не шуметь более и не смеяться. И без того пошутили изрядно. Хорошо хоть набожный Гергардт загодя удалился в свою комнату. Вообще-то Рист — в проповедях он силен — должен был погасить разнуздавшееся словоблудие. Нет, нет, Дах никого не осуждает. В конце концов, он смеялся вместе со всеми. Но на сегодня довольно. Вот завтра, когда — к вящей пользе пишущих — они станут вновь читать свои манускрипты, он опять будет весел и приветлив со всеми.
Когда в доме все стихло — только хозяйка, призвав к себе в помощники Гельнгаузена, погромыхивала на кухне посудой, — Симон Дах еще раз прошел через сени и поднялся на чердак, где молодые спали на соломе. Там они и возлежали, а с ними служанки. Биркен спал, как младенец. Крепко, видимо, утомились. Только Грефлингер всполошился и стал было оправдываться. Дах, однако, знаком велел ему молчать и оставаться под одеялом. Пусть себе предаются забавам. Согрешили не здесь, а в малой зале. (И я смеялся вместе со всеми, вострил уши да подзадоривал весельчаков на скабрез.) Бросив последний взгляд на открывшуюся ему картину, Дах порадовался, что и Шефлер обрел себе подружку.
А когда он уже собирался идти к себе — может быть, для того чтобы начать письмо, — то услыхал во дворе стук копыт, скрип колес, лай собак, потом голоса. Неужто мой Альберт? — подумал Дах с надеждой.
8
Приехал он не один. Кёнигсбергский соборный органист Генрих Альберт, составивший себе и за пределами Пруссии имя изданием своих песен в народном духе и периодически выходящих «Арий», привез с собой родственника, придворного капельмейстера саксонского курфюршества Генриха Шюца, державшего как раз путь на Гамбург и далее на Глюкштадт, где он надеялся получить приглашение к датскому двору: при саксонском его ничто более не удерживало. Шестидесяти с небольшим лет, в возрасте, стало быть, Векерлина, но гораздо более подтянутый, чем примятый государственной службой шваб, Шюц оставлял впечатление ненавязчивой властности и строгого величия, природу коего никто (до конца даже и Альберт) не мог понять. Ничего величавого не было в его осанке и теперь, она выражала скорее озабоченность тем, что он, как ему казалось, помешал собранию, и все же его явление как-то возвышало встречу поэтов, хотя, с другой стороны, словно бы и снижало ее значение. К ним прибыл тот, кто никогда не прибивался к стаду.
Задним числом, конечно, все мы умнее — но и тогда все понимали: как ни безупречен был Шюц в вопросах веры и как ни предан своему князю, несмотря на возобновлявшиеся время от времени приглашения в Данию, до конца он служил лишь собственному призванию. Ни в чем, даже в работах второстепенных, не шел он навстречу обыденным пожеланиям среднего прихожанина-протестанта. Своему курфюрсту и датскому Кристиану он поставлял лишь самую малость музыкально-придворных увеселений. Постоянно в деле — которое и было для него средоточием жизни, — он был чужд любой суетности. Ежели издатели его сочинений настаивали иной раз на усовершенствованиях, облегчавших их церковное употребление, — например, на цифирных обозначениях при генерал-басе, — то Шюц неукоснительно оговаривал в предварении, что сожалеет о том, что они были сделаны, и призывал исполнителей пореже обращаться к этим «костылям».
Никто не придавал такого значения слову, как он, никто настолько не подчинял музыку слову, никто не тщился так истолковать слово, оживить, выявить во всей его глубине, широте и высоте и ради этого так нырять вглубь, раздаваться вширь, взмывать ввысь. Но никто поэтому и не был так строг и придирчив к слову, как он, державшийся по преимуществу традиционной латинской литургии или лютеровского перевода Библии. От сотрудничества с современными немецкими поэтами в главном своем деле, в духовной музыке, он уклонялся — если исключить псалмы Бекера да несколько ранних текстов Опица, которые он положил на музыку. Немецкие поэты говорили его сердцу немного, как ни осаждал он нас своими просьбами писать для него. Поэтому-то Симон Дах прежде испугался, а лишь потом обрадовался, когда услыхал имя гостя.
Они постояли сколько-то времени во дворе, обмениваясь любезностями. Шюц все извинялся, что явился непрошено. Говорил будто в оправдание, что давно знаком с некоторыми из присутствующих (с Бухнером, Ристом, Лаурембергом). Дах со своей стороны расточал заверения в оказанной чести. Гельнгаузенов имперский караул держался с факелами в отдалении, как и подобает при встрече князя, а в том, что это прибыл князь, мушкетеры не сомневались, даром что на нем было вполне бюргерское дорожное платье, а вся поклажа исчерпывалась двумя рундуками. (Другой гость сошел у них за княжеского камергера.)
Они примчались сначала в Эзеде, откуда их направили в Тельгте. Лошадей им поменяли сразу же, поскольку у Шюца была охранная грамота князя. С детской гордостью предъявил он бумагу — точно удостоверение его значительности, рассказывая при этом, что в дороге обошлось без приключений. При полной луне в долине было светло как днем. Кругом было пусто, все как вымерло. Они больше устали, чем проголодались. Не найдется кровати, он ляжет на лавке у печки. Уж он знает, каков трактирный обиход. Отец его в Вайсенфельсе на Заале сам держал постоялый двор — «Шюценхоф»: народу всегда была уйма.
Даху и Альберту лишь с трудом удалось уговорить придворного капельмейстера занять комнату Даха. Прибежала (в сопровождении Гельнгаузена) хозяйка; услыхав имя гостя, защебетала любезности, приветствовала его итальянской тирадой, называя Maestro Saggittario[4]. Еще более всех поразило — а Шюца даже напугало, — когда Гельнгаузен, уже с готовностью занявший позицию меж рундуками позднего гостя, запел вдруг приятным тенором начало первого мотета из «Cantiones sacrae»[5] — вещи скорее общехристианской, а потому распространенной и в католических пределах: «О bone, о dulcis, о benigne Jesu…»[6]
Объясняясь, Штофель поведал о том, что пел в хоре еще мальчиком, погонщиком в Байзахе, когда город осадили веймарцы, и пение заглушало голод. Затем он подхватил багаж и увлек за собой Шюца, а с ним и всех остальных; шествие замыкала хозяйка, в руках у нее был кувшин с сидром — гость просил подать его в комнату с куском черного хлеба.
Потом Либушка готовила в малой зале постели для Даха и Альберта; занять ее каморку рядом с кухней они отказались. При этом она без умолку тараторила, обращаясь по преимуществу к Альберту: все больше насчет того, как трудно порядочной женщине сохранить честь в эдакое время. Какой красоткой она слыла когда-то и какие неприятные обстоятельства научили ее уму-разуму… Наконец Штофель вытолкал ее за дверь. Пару они с Кураж составляли уморительную, и на какой-то замазке связь их держалась.
Однако едва они ушли, как друзьям вновь помешали. В боковом открытом окне залы показалось искаженное ужасом лицо Цезена. Он с реки. По ней плывут трупы. Сначала он увидел только два. Связанные вместе, они напомнили ему его Маркхольда и Розамунду. Потом вниз по реке поплыли еще трупы, их становилось все больше. Луна освещала мертвые тела. Нет слов для такого избытка смерти. Дурные звезды стоят над этим домом. Мир никогда не наступит. Ибо язык не содержится в чистоте. Ибо искалеченные слова превратились в раздутые трупы. Он опишет все, что видел. Точно. Немедленно. Найдет небывалые звуки.
Дах закрыл окно. Лишь теперь, после того как их сначала напугал, а потом позабавил спятивший Цезен, друзья остались одни. Они крепко обнялись — похлопывая друг друга по спине, отпуская радостные приветствия, плохо ложившиеся в какой-либо стихотворный размер. И хотя перед тем Дах отослал всех спать, не выдав на ночь никакого питья, он теперь наполнил Альберту и себе по полной кружке темного пива. Чокались они долго.
Потом, когда оба улеглись, соборный органист рассказывал в темноте, какого труда стоило затащить сюда Шюца. Его недоверие к поэтам и их многословию за последние годы только увеличилось. После того как Рист подвел его, ничего не написав, а либретто Лауремберга не имели успеха при датском дворе, он попытался приспособить к делу один из зингшпилей Шоттеля. Но от приторности этого автора его до сих пор мутит. Завернуть все же в Тельгте его столь прославленного родича побудили вовсе не родственные чувства, а единственно надежда, что Грифиус станет читать свои драмы и что-нибудь да отыщется, годное для оперы. Будем надеяться, что какой-либо текст в самом деле удостоится его милости.
А Симон Дах, лежа в темноте, размышлял, выкажет ли должное приличие, подобающее столь высокому визиту, литературная братия, такая разноперая и гораздая на раздоры: что грубияна Грефлингера взять, что зануду Гергардта или хоть этого не в меру обидчивого и слегка помешанного Цезена…
За такими заботами оба заснули. Лишь трактирный чердак не ведал сна. Или происходило еще что-нибудь этой ночью?
9
В комнате, которую он делил со своим оппонентом Ристом, Цезен еще долго перебирал аллитерации, пока не заснул над стихом, в коем бездыханно-вздутые трупы уподоблялись плоти Розамунды и его собственной плоти.
Меж тем по мосту через Эмс мимо постоялого двора проскакал курьер, посланный из Оснабрюка в Мюнстер; потом другой — в обратном направлении: оба поспешали с новостями, которые устаревали еще в дороге. Собаки на дворе облаяли и того и другого.
Луна, вдоволь налюбовавшись собой в речной глади, встала над трактиром и его постояльцами. От нее зависело все. Всякая перемена.
Потому-то поменялись пары на чердаке: пробудившись на рассвете, Грефлингер, с вечера расположившийся с изящной красоткой, обнаружил себя с костлявой дылдой, нареченной Мартой. Нареченная же Эльзабой сдобная пышка, что легла поначалу к тихоне Шефлеру, оказалась в объятиях Биркена, в то время как красотка Мария, доставшаяся сперва Грефлингеру, лежала теперь точно цепями прикованная к Шефлеру. Перебудив друг друга и узрев (при свете луны) перемены, они было хотели вернуться к своим началам, да не знали толком, как звать тех, с кем повалились вчера на сено. И хотя после еще одной перемены каждому и каждой показалось, что теперь они легли правильно, действие луны все же продолжало сказываться. Будто следуя зову ветреной Флоры, настроившей некогда его лиру, но давно уже принадлежавшей другому, Грефлингер, весь, даже на спине обросший черными волосами, перелез к пышной Эльзабе, красотка Мария приникла к свежим ангельским устам Биркена, коему любая из них — что дылда, что пышка, что красотка — мерещилась нимфою; а длинноногая Марта притиснула к себе Шефлера, чтобы вслед за полногрудой и ладненькой исполнить предуказанное ему накануне тельгтской пиетой. И раз за разом душа тощего студента извергалась огненной лавой.
Так и случилось, что все шестеро в третий раз принялись молотить солому на чердаке, после чего каждый перезнакомился с каждой; диво ли, что никто из них не услышал ничего из того, что происходило на той ранней заре.
Я-то знаю, что было. Пятеро всадников вывели из конюшни во двор своих оседланных лошадей. Среди них был и Гельнгаузен. Ни скрипа, ни звяка. Лошади вышагивали беззвучно — копыта были обмотаны тряпками. Уверенной рукой — ничто не брякнуло, дышло было заранее смазано — двое мушкетеров запрягли лошадей в экипаж, реквизированный имперцами в Эзеде. Третий нес мушкеты для себя и товарищей, которые засунул под брезент. Не было произнесено ни слова. Все действовали так, будто были вымуштрованы ране. Не подали голоса и дворняги.
Только хозяйка трактира шепталась с Гельнгаузеном — видно, давала ему наставления, потому как Штофель, уже верхом на коне, поминутно кивал ей в ответ, будто расставляя точки в потоке ее речи. Либушка (которую прежде звали Кураж), словно в точности следуя предписанной роли, стояла, закутавшись в попону, рядом с бывшим егерем из Зоста, на котором снова (все еще) была зеленая безрукавка с золотыми пуговицами и шляпа с перьями.
Один лишь Пауль Гергардт проснулся в своей келье, когда запрягли коней в крытую повозку и имперские всадники двинулись со двора. Он еще увидел, как повернулся в седле Гельнгаузен и помахал, осклабясь, обнаженной шпагой хозяйке, а она не ответила, только неподвижно стояла посреди двора под своей попоной — продолжала стоять и тогда, когда экипаж и всадников сначала скрыли заросли ольхи, а потом поглотили Эмские ворота города.
Тут вступили птицы. Или, может быть, только теперь Гергардт услышал, каким многоголосием зачиналось утро под Тельгте. Жаворонки, зяблики, дрозды, синицы, скворцы. В кустах бузины за конюшней, на буке во дворе, на четырех липах, высаженных для защиты от северных ветров перед трактиром, в зарослях ольхи и березы, переходивших в кустарник, росший по берегу внешнего Эмса, а также в гнездах, которые воробьи устроили себе под обветшалой, прохудившейся со стороны двора крышей, — всюду птицы славили утро. (Петухов в округе больше не было.)
Когда наконец Либушка стряхнула оцепенение и, уныло покачивая головой и что-то плаксиво бормоча себе под нос, медленно побрела со двора, то из буйно скандалившей вчера и кое-кому казавшейся вполне лакомым куском она превратилась в старуху — одинокую, жалкую, закутанную в свою попону.
Вот почему, начав утреннюю молитву, Пауль Гергардт включил и бедняжку Кураж в свою просьбу: да не покарает Господь Бог и Всемилостивый Отец несчастную женщину за грехи ее слишком строго, да отпустит ей и будущие прегрешения, ибо такой эту женщину сделала война, оскотинившая не одну непорочную душу. Потом, как и каждое утро в продолжение вот уже многих лет, он помолился за скорейшее заключение мира, мир да принесет защиту всем правоверным, а заблудшим и противникам Бога истинного — окончательное прозрение или заслуженное наказание. К заблудшим наш смиренник относил не только, как принято у потомственных неколебимых лютеран, католиков-папистов, но и гугенотов, и кальвинистов, и цвинглиан, а также всех мечтателей-мистиков; почему, положим, истовая силезская набожность была ему не по нутру.
В своем толковании веры Гергардт был тверд, что отлилось и в песнях его, расплескавшихся шире, чем способен был выносить его догматизм. В течение многих лет, что промучился он домашним учителем в Берлине, терпеливо и напрасно дожидаясь пасторского прихода, на ум ему приходили немногие, но достаточные слова, из которых слагались рифмованные строфы, годные для лютеранских церковных общин, так что всюду, где война пощадила церкви (вплоть до католических областей), а также по домам распевали песни набожного Гергардта: на старый лад и на простые мелодии, сочиненные Крюгером, а позднее Эбелингом. Одной из них была сложенная для заутрени песня «Проснись, душа, и воспой…» с ее первой строфой о «создателе вещей, подателе всех благ, о том, кто сир и наг…», написанная им на пути в Тельгте в количестве девяти строф и вскоре после того положенная на музыку Иоганном Крюгером.
Если б Гергардт даже и умел, он никогда и ни для кого не пожелал бы написать ничего другого — ни од, ни изящных сонетов, ни сатир, ни игривых пасторалей. К литературе он был глух и гораздо более почерпнул из народных песен, нежели перенял от Опица (и его душеприказчика Бухнера). Песни его были естественны и фигуральностей избегали. Потому-то он поначалу наотрез отказался участвовать во встрече поэтов. Приехал же только в угождение Даху, чей практический подход к вере еще как-то удовлетворял его религиозным понятиям. Приехал затем, чтобы, как и предполагал, остаться всеми и всем недовольным: и нескончаемым зубоскальством Гофмансвальдау, и тщеславным, все еще не иссякшим неприятием мира Грифиуса, и путаным краснобайством будто бы столь одаренного Цезена, и нацеленными сатирическими выпадами Лауремберга, и пансофическими двусмысленностями Чепко, и языком-что-твое-помело Логау, и громогласием Риста, и деловой мельтешней издателей. Все это, в особенности бойкая болтливость и хвастливое многознайство литераторов, было Гергардту столь отвратительно, что он, представлявший только себя самого (свой интерес) и не принадлежавший ни к какому литературному обществу, едва приехав, уже рвался домой. Однако ж наш смиренник остался.
Продолжив после заступничества за нечестивую хозяйку и проклятья недругам истинной веры свою утреннюю молитву, Пауль Гергардт долго заклинал Всевышнего просветить его князя-кальвиниста, давшего приют в своей стране сотням гугенотов и прочих духовных слепцов, за что Гергардт не мог любить его. Потом он вобрал в свою молитву и поэтов.
Он просил Всемогущего Бога и Отца одарить словом истинным высокоученых и притом глубоко заблуждающихся мужей — и умудренного жизнью Векерлина, и угрызаемого своим темным происхождением Мошероша, и негодника Грефлингера, и даже паяца Штофеля, хотя тот и католик. Сплетя пальцы, Гергардт взывал со всем пылом души: да восславит собрание Его, Высшего Судии, премудрость!
А в завершение молитвы он испросил заветное место пастора, желательно близ Берлина; однако лишь четыре года спустя Пауль Гергардт удостоился прихода в Миттенвальде, где наконец смог повести под венец застарелую любовь своих учительских лет, бывшую ученицу свою Анну Бертольд, после чего еще много лет продолжал слагать строфы своих песен.
Тут как раз Симон Дах ударил в колокол в малой зале. Сон слетел и с того, кто не хотел с ним расстаться. Юные обитатели чердака вдруг увидели, что пребывают одни на соломе. Марта, Эльзаба и Мария суетились уже на кухне. Они нарезали вчерашний хлеб в утреннюю похлебку, которую, сидя за длинным столом между Гергардтом и Альбертом, ел потом и Генрих Шюц, известный каждому незнакомец.
10
Новый воскресный день восстал в розовом блеске. Яркое солнце проникло сквозь окна, навевая тепло дому, в котором от близкой воды держалась прохлада. Взбадривала и радость, что их посетил столь высокий гость.
Сразу после утренней похлебки, еще в малой зале (после того, как на сей раз Чепко произнес благодарственную молитву), Симон Дах, встав, обратился ко всем: прежде чем снова взяться за манускрипты, хотелось бы от души приветствовать знаменитого гостя; для этого нужна, однако, изведанность в музыке, превышающая его, простого любителя, знания. Друг Альберт — как назвал он соборного органиста — куда лучше разбирается в мотетах и мадригалах. Ему же, неучу и невежде, остается лишь восхищаться, благоговея. Спеть сиплым басом какую-нибудь незамысловатую песенку — вот и все, на что он способен. Произнесши это, Дах с облегчением сел.
После пространного обращения к почтенному гостю Генрих Альберт начертал его жизненный путь: как юный Шюц, предназначенный родителями к изучению права, все же удостоился милостивого участия сначала кассельского ландграфа, а затем и саксонского курфюрста, проторивших для него путь постижения композиторского искусства в Венеции, у знаменитого Габриели, место которого — место органиста в соборе с двумя органами — он мог бы занять, если б не почел за большее благо вернуться в отеческие пределы. Лишь много лет спустя, ввиду истребления жителей страны нещадной войною, он еще раз испросил себе отпуск в Италию, чтобы совершенствоваться под началом знаменитого Монтеверди, после чего Шюц, равновеликий учителю, возвратился на родину с новой музыкой, достигнув в ней такой мощи, что мог свободно заключать в звуки людское горе и радость, людскую робость и гнев, усталое бденье и настороженный сон, смертную тоску и страх перед Господом, а также хвалу и славу Всевышнему. Все это в опоре на единственно истинное слово Божие. В произведениях бессчетных. Будь то духовные концерты или погребальные песнопения, будь то его «История воскресения» или — два года назад возникший — пассион «Семь слов Иисуса на кресте». Строгость и нежность, простота и искусность — тут все вместе. Отчего многое в этой музыке оказалось недоступно средней руки канторам и на скорую руку обученным хористам. Он и сам не раз приходил в отчаяние от трудностей многогласия, вот хоть совсем недавно — когда ко дню Реформации пытался разучить с кёнигсбергским соборным хором девяносто восьмой псалом — «Воспойте Господу» — и потерпел неудачу, пытаясь исполнить это произведение для двух хоров. Однако он вовсе не желал бы докучать мастеру в столь радостную минуту приветствия вечными lamenti[7] практикующего церковнослужителя, тем более что капельмейстеру саксонского курфюршества и без него ведомо, сколь трудно в такое обездоленное войной время содержать сносных певцов и музыкантов. Даже Дрездену при всей его гордыне не хватает инструментов. Итальянские виртуозы, гонимые поисками достатков, приискали себе среди князей более аккуратных плательщиков. Средств едва достанет, чтобы прокормить немногих мальчиков из церковного хора. О, да смилостивится Господь Бог, да ниспошлет он наконец мир, дабы снова можно было править ремесло, как то приличествует требованиям строгого мастера.
Затем Альберт сообщил о пожелании Шюца присутствовать при чтении манускриптов, чем тот надеется иссечь в себе вдохновенную искру, надобную для того, чтобы вослед Монтеверди, пишущему мадригалы на родном своем языке, делать то же на языке немецком либо, коли будут читаны сочинения драматического жанра, чтобы отыскать среди них материал для оперы — подобно тому, как это уже случилось однажды, двадцать лет назад, с «Дафной» покойного Опица; за что он, пользуясь возможностию, приносит свою благодарность посреднику в том деле, присутствующему здесь магистру Бухнеру.
Теперь все, затаив дыхание, ждали, что ответит маэстро, ибо на лице Шюца во все время, пока Альберт его восхвалял, сетовал на сложность его музыки и говорил о своих пожеланиях, не отразилось ровным счетом ничего. Изборожденное заботами чело его, нависшее над высокими бровями, ни разу не нахмурилось, не говоря уже о том, чтобы разгладиться. Так же недвижны были его очи, уставленные на что-то печальное, разыгрывавшееся где-то вне трактирных стен. Легкие складки притаились в углах рта, тщательно обрамленного усами и эспаньолкой на фасон Густава Адольфа. Длинные белесоватые волосы зачесаны назад от висков и со лба. Недвижное спокойствие, не колеблемое даже дыханием.
Заговорив, благодарил коротко: он лишь развил то, чему научил его Иоганн Габриель. Несколько странной, если не ребячливой, показалась наивность, с какой сей благовоспитанный муж стал показывать всем за столом перстень, дарованный ему в знак дружбы Джованни Габриели незадолго до смерти. Жалобу Альберта на трудность полифонии он отверг одной фразой: искусство, стремящееся быть достойным чистого слова Божьего, требует совершенства. Тут же последовал первый, тихо произнесенный, но всем длинным столом услышанный приговор: кто ищет легкого, лежащего вне искусства, пусть довольствуется рифмованными строфическими песнями да генерал-басом. Однако теперь он хотел бы услышать то, чего сам производить не может: сладостное сочетание искусных слов.
Тут говоривший сидя Шюц встал и тем подал знак перебираться в более просторную залу, так что Даху не пришлось к этому призывать. Все поднялись из-за стола, один Гергардт медлил, отнеся уничижительную Шюцеву оценку строфических песен к собственной персоне. Векерлин вынужден был его увещевать и в конце концов преуспел.
Другого сорта морока приключилась у Даха с Грифиусом — тот наотрез отказывался приступить к чтению сцен из трагедии, завершенной совсем недавно в Страсбурге, на пути из Франции. Он, так и быть, почитает, но не сразу, не тотчас, — не будет он угождать этому Шюцу, сколь ни почтенна заслуженная им слава. Кроме того, в сочинители либретто для опер он не годится. Недостает ему должного придворного велелепия. Пусть Дах вызовет сначала других — хотя бы молодых. Коим, сдается, и ночь не в помочь. Вон зевают в три зева да подкашиваются в коленках. Даже Грефлингер — и тот прикусил язык. Может, хоть собственные стишки растормошат их создателей — это токмо на других они наводят тоску.
Дах никому не перечил. Только вот когда Рист с Мошерошем попытались склонить его для начала к оглашению манифеста, над которым они, держа совет с Гофмансвальдау и Гарсдёрфером, прокорпели ночь, а потом переделывали его утром, желая принять его как воззвание к миру — обращение немецких поэтов к своим князьям, то тут уж кёнигсбергский магистр не на шутку испугался разброда в своей литературной семье. «Потом, потом, дети мои! — вскричал он. — Сперва попробуем усладить господина Шюца чернильными упражнениями своими. Политика же — увечная спутница мира, и никуда она от нас не убежит».
В большой зале расселись как будто уже привычным порядком. Крики привязанных в зарослях Эмсхагена мулов казались нам отдаленнее вчерашнего. Кто-то (Логау?) спросил, куда подевался Штофель. Гергардт промолчал. Вопрос подхватил и Гарсдёрфер, и тогда дала справку хозяйка: полковой писарь отбыл по срочному делу в Мюнстер. Еще на рассвете.
Снова повеселевшая Либушка была проворна и вездесуща. Успела завить и волосы, не пожалела снадобий. Служанкам велела внести в полукруг удобное кресло с широкими подлокотниками. Генрих Шюц сидел на нем, словно на пьедестале, являя собранию свой отягченный думами профиль на светлом фоне окна.
11
Было еще раннее утро, когда начался второй день чтений. На сей раз рядом с пустующим пока табуретом читающего появилось украшение — могучий чертополох, вырытый в огороде хозяйки и пересаженный в глиняный горшок. Такой вот, в единственном числе, вырванный из окружения, чертополох был красив.
Не удостоив оговоркой сей «символ бранного лихолетья», Дах прямо приступил к распорядку дня. Едва заняв, точно давно привык к нему, свое место напротив полукругом севших поэтов, он огласил очередность тех, кому надлежало занимать табурет подле него (а теперь и подле чертополоха); первыми шли молодые: Биркен, Шефлер, Грефлингер.
Зигмунд Биркен, дитя войны, рожденное в Богемии, занесенное мытарствами в Нюрнберг, где он обрел в кругу «Пегницких пастухов» под эгидой Гарсдёрфера и Клая поддержку и покровительство склонных к идиллии патрицианских семей, был юноша, не лишенный, как показало его вчерашнее выступление, теоретических амбиций. Флоридан «Пастушеского ордена» и Обоняющий руководимого Цезеном «Товарищества немецких патриотов», он имел успех благодаря своим молитвенным песнопениям, полупрозаическим пасторалям и аллегорическим сценкам. Несколько лет спустя его инсценировка нюрнбергских торжеств, отитлованная как «Неметцкое прощальное с войной и приветственное миру действо», придется по сердцу высоким военным гостям, а Биркен будет за то возведен императором в дворянство и под именем Возросшего принят в силезский «Орден пальмы». Повсюду — и дома, и в путешествиях — вел он, будто книгу расходов, дневник, отчего в его багаже, покоившемся на сеновале трактира «У моста», хранился и украшенный гирляндами цветов диариум.
Звукописец Биркен, для которого все отливалось в мелодию и форму и который, в согласии с новой чувствительностью, ничего не излагал прямо, но в аллегорических картинках, прочитал несколько фигурных стихотворений, отдельные строчки которых, где сужаясь, где расширяясь, повторяли начертательный облик то креста, то сердца. Однако успеха у собрания он этими виршами не снискал: на слух графическая их форма не воспринималась. Более благосклонно было принято стихотворение, в котором справедливость лобызалась с миром, обменивая с ним «слаще сладости поцелуи радости…»
Что Гарсдёрфер и Цезен (один беря ученостию, другой пафосом) восхвалили как торящую путь новизну, то дало Бухнеру повод для обобщающих сомнений, а Мошерошу — для едкого пародирования Биркеновой манеры целокупно, особенно же рифмовки типа «кровь — любовь» в сердцеподобном стихотворении. Проело услышанное и проповедническую печень Риста: счастлив покойный Опиц, что не слышит сего «процезенного биркенанья».
Старому Векерлину «изячность словопада» понравилась. Логау был, как всегда, краток: где мало смысла, там много трезвона.
Затем к чертополоху подсел Иоганн Шефлер, который станет в будущем врачом и католическим священником и немало сделает (под именем Ангелуса Силезиуса) для иезуитской контрреформации. Поначалу заикаясь и путаясь, потом, после взбадривающего призыва Чепко — «Смелее, студент!» — увереннее, прочитал он первый вариант духовной песни, принятой для обихода в дальнейшем всеми вероисповеданиями: «Возлюбленная мною крепость духа…» Потом — несколько шпрухов, собрание которых, названное «Херувимский странник», только через десять лет пробьет себе дорогу в печать; пока же они вызвали замешательство в зале, ибо вирши, подобные «Бог жив, пока я жив, в себе его храня, я без него ничто, но что он без меня?..»[8], или вовсе то место, где лоно девы Марии, чреватое божеством, сравнивается с точкой, вобравшей в себя круг, сумели найти отклик разве что у Чепко и Логау.
Зато Гергардт взвился как ужаленный: вот она, прелесть силезского заблуждения! Не умолкает в учениках своих треклятый сапожник. Благоволит к неправде, пустогрез! Да узрят все ложный блеск кощунственного вздора.
Будучи пастырем ведельской церковной общины, Рист счел себя призванным, как с амвона, вторить тому, что сказал Гергардт; более того, в оглашенной галиматье почудился ему запах и папистской отравы.
Вступился за Шефлера, как ни странно, лютеранин Грифиус: чуждый дух не мешает ему насладиться чудесной стройностью лада.
Следующим был Георг Грефлингер, питомец Даха, баловень его отеческого расположения и заботы. Саженный верзила, еще в детстве перенесенный войной из Шафсвайде в Регенсбург, он в дальнейшем ходе ее немало помыкался меж Веной и Парижем, Франкфуртом, Нюрнбергом и остзейскими городами, побывал и на шведской службе и, познав много мест, сменил столько же и любовей. Только что лопнул план женитьбы на дочке ремесленника из Данцига, взлелеянный много лет назад, и означенная дочка превратилась в его стихах в неверную Флору. Лишь в будущем году суждено ему будет сочетаться браком и осесть в Гамбурге, основав там доходное предприятие — сначала что-то вроде информационного агентства, а потом и издание еженедельной газеты «Нордишер Меркур». Все это не помешало ему, однако, сложить четыре тысячи четыреста александрийских стихов с описанием Тридцатилетней войны.
До мозга костей преданный всему земному, Грефлингер исполнил две скабрезные песенки, много выигрывающие в устном исполнении: в первой — «Возревновала Флора…» — ярко славилась неверность, во второй — «Гилас не пропустит ни единой бабы…»[9] — разгульная удалая замашка. Еще когда он — чуть кокетничая своими солдатскими повадками — декламировал прибаутки, по залу зашелестел шепоток удовлетворения. Строки «Я одну любить не в силах, волокитство мой девиз…»[10] встретили легким смехом. Сдержанным — из-за присутствия Шюца. Дах и Альберт, также получившие свою долю удовлетворения, не возразили, однако ж, и Гергардту, когда тот в ходе разыгравшегося диспута отверг похвалы Мошероша и Векерлина: такое-де непотребство можно распевать только в сточной канаве. Так недолго накликать на головы собравшихся и Божий гнев.
Генрих Шюц молчал.
Тишину нарушили зато три служанки хозяйки, которые (с дозволения Даха) сидели и слушали позади всех. Скабрезные песенки Грефлингера понудили их сначала негромко прыскать, потом хихикать, потом смеяться; потом Марта, Эльзаба, Мария раззудились настолько, что принялись хохотать, корчась от смеха и заразив все собрание. Гарсдёрфер аж подавился смехом — издатель вынужден был колотить его по спине. Даже уста неподвижного Шюца троегласие хохочущих девиц тронуло улыбкой. Шнойбер раструбил оброненное Лаурембергом замечание: Мария-де омочила себе ноги от смеха. Новый взрыв хохота. (Шефлер, мне было видно, покраснел.) И только смиренник Гергардт твердил свое: «Сточная канава, я же говорил! Вонючая канава и есть!»
Тут Симон Дах, отослав служанок взглядом, а потом и дополняющим жестом на кухню, вызвал Андреаса Грифиуса — читать сцены из трагедии «Лев Армянин». (Понизив голос, он от всех собравшихся принес Шюцу извинения за ребяческую «катавасию».)
Едва Грифиус оседлал табурет, как воцарилась тишина. Гриф, как называл его Гофмансвальдау, во всем и последовательно противоположный ему друг юности, сначала разглядывал потолочные балки, потом вступил мощным басом: «Покуда отечество наше объемлется пеплом пожарищ, превращаясь об эту же пору в театр суеты мирской, я сподобился развернуть в современной трагедии всю тщету преходящих дел людских…» Потом он сообщил, что его «Лев Армянин» посвящен щедрому покровителю, присутствующему здесь негоцианту Вильгельму Шлегелю, ибо настоящая пиеса была написана им во время совместного путешествия со Шлегелем и лишь благодаря побудительным усилиям оного. После чего он кратко изложил суть действия, назвав его местом Константинополь, где в некое время составил свой заговор против императора Льва Армянина некий капитан Михаил Бальб, и заверил собрание в том, что насильственное свержение старого порядка само по себе не обеспечивает порядок новый.
Лишь после всего этого Грифиус стал читать — нажимая на каждое слово — сначала монолог заговорщика, смутивший завязкой («Та кровь, которой обагрю и трон я, и корону…»), видимо слишком пространный, потому как успели заснуть не только молодые, но с ними и старый Векерлин, и Лауремберг. Грифиус меж тем читал дальше — от одобрительных реплик заговорщиков: «Он жизнь кладет за нас! И вот — рассвет…» — до клятвы Крамба: «Давай твой меч. Клянемся властителя низвергнуть в прах и пепел…»
Потом он прочел полную воплей — «На помощь! О Боже, что такое?» — сцену ареста, заключаемую ядовитой тирадой связанного капитана: «Пусть адом мне грозят, скажу одно я: вот добродетели цена. И вот венец героя…»
В виде интермедии выступающий огласил крепко сколоченный диалог троих придворных о благе и опасностях, кои заключены в языке человеческом. На вводную реплику: «Зависит жизнь сама людей — от языка их…» — следует антитеза: «Зависит смерть сама людей — от языка их…» И третья фраза завершает постройку, будто купол: «И жизнь и смерть людей — от языка зависит…»
За изобилующей красноречием сценой суда («В темницу брошен он, стеною окружен и рвом и валом обнесен…») и пылким монологом императора Льва, философствующего над приговором мятежному капитану («Любой из нас сжигает жизни нить, горит огнем, чтоб пеплом в небо взмыть…»[11]), Грифиус, наконец, приступил к завершению если не пьесы, то своего чтения.
Диалог императора Льва и императрицы Феодосии как раз годился для финала, тем паче что императрице, напрягающей красноречие, чтоб отсрочить сожжение Бальба до святого Рождества Христова («Закон неумолим, но знаком милости отсрочка да пребудет…»), удается смягчить решительного императора («Небо злодейской алчет крови, алчет кары…»), склонив его к умеренной милости («Светлый праздник ты не омрачай, Христа подарком щедрым привечай…»).
И хотя Грифиус, отнюдь не поступившийся мощью голоса, густо заполнявшего всю большую залу, хотел прочесть еще и хор придворных: «О тщета всего земного, суетных сует обман…», Дах (положив на плечо ему руку) сказал, что прочитанного довольно, чтобы составить изрядное мнение о целом. Сам он, во всяком случае, чувствует себя заваленным градом слов, как при камнепаде.
И снова установилось молчание. Только мухи звенели. Скапливающийся у открытых окон свет сочился в залу. Чепко, сидевший с краю, наблюдал за бабочкой. Сколько сразу лета после мрачной сцены.
Старый Векерлин, разбуженный бурным диалогом последней картины, первым взял слово — смелость, вызванная, очевидно, недоразумением. Он похвалил конец пьесы и ее автора: как это славно, что порядок остается неколебим, а преступник пощажен милостью владыки. Он питает надежду, что Господь Бог окажет такую же подмогу и бедной Англии. Тамошний буян Кромвель — точь-в-точь сей Бальб из пиесы. Участь короля внушает опасения денно и нощно.
Магистр Бухнер тут же, не обинуясь, указал любящему порядок государственному секретарю: из услышанного можно вынести только уверенность в неминуемости грядущей катастрофы. Эта единственная в своем роде немецкая трагедия — свидетельство величия духа небывалого, ибо она не карает зло односторонне, но стенает о шаткой слабости человека, о тщете его благих поспешествований: один тиран сменяет другого. Трехчленная, в уста хора придворных вложенная фигура удостоилась особой похвалы Бухнера, поскольку, рожденная знанием, представляет в виде эмблемы стародавнее, у Аристотеля еще находимое сравнение длинного языка с телом улитки-багрянки. Все же, словно повинуясь долгу, магистр выразил и неодобрение слишком часто употребленным рифмам «воля — доля» и «трона — корона».
Патриот Гарсдёрфер попенял за чужеземный сюжет: столь мощный дар, как у Грифиуса, должен бы направлять свою укрощающую язык силу единственно на немецкую, отечественную трагедию.
Место действия значения не имеет, возразил Логау, но — манера! Вот она-то достойна порицания. Невоздержанность на слова, преизбыток пурпура и прочей мишуры вредит делу, ибо автор как раз и желает уязвить князей за их неравнодушие к мишурному блеску и вечные раздоры. Разумом Грифиус — за порядок, но кипением слов — против оного.
И по существу, но преимущественно защищая друг друга, Гофмансвальдау заметил: Грифа нужно принимать таким, каков он есть, то есть посланцем хаоса. Он так сталкивает слова, что ужасающая нищета оборачивается вдруг великолепием, а солнце выглядит тьмой. Словесная сила обнажает и его слабости. Конечно, будь язык его победнее, положим как у Логау, он из одной своей сцены мог бы с легкостью смастерить три пьесы.
Да уж, возразил Логау, палитра Грифиуса ему ни к чему, он не кисточкой пишет.
Но и не пером, вероятно, отпарировал Гофмансвальдау, скорее уж шпилькой.
Перебранка, теша общество скорой колкостью, могла бы затянуться, если б не взял вдруг слово Генрих Шюц — он встал и заговорил над головами поэтов. Он выслушал все. И стихи, и ту, поделенную на роли речь, что заключена в сцены. Похвалы, прежде других, достойны ясные и прекрасные в своей наготе стихи юного студента-медикуса, имя которого, к сожалению, память его не удержала. Ах, Иоганн Шефлер, стало быть, — что ж, это имя он запомнит. После однократного прослушивания сдается, что музыку — скажем, ораторию для двух хоров на восемь голосов a capella[12] — можно бы написать на стихи о розе или на ту сентенцию о сути и случае, что гласит: «Будь сущим, человек: случайное падет, покуда век пройдет, а суть уж не минёт». Тут есть дыхание. И не будь сравнение слишком рискованным, он бы сказал, что подобную глубину можно отыскать только в Священном Писании.
Но теперь о других. К сожалению, стихи юного Биркена слуха его не достигли. Их надобно читать. Тогда лишь станет ясно, что скрывается за перекличкой слов — перекличка одних звуков или перекличка смыслов. Он признает далее, что в скабрезных песенках господина Грефлингера, подобные коим он знает уже по собранию сродственника его Альберта, есть по крайней мере то качество, которое необходимо для мадригальных текстов. Что же до их моральной приемлемости, то на фоне того кощунства, каковое процветает ныне в отечестве, они не кажутся ему вопиющими. А искусство мадригала, как он мог, сожалея о том, убедиться, не давалось доселе немецким поэтам. Сколь удачлив был Монтеверди, коему Гварини, а затем и Марино писали прекраснейшие стихи. Желая и для себя таких преимуществ, он советовал бы молодому поэту обратиться к немецкому мадригалу — наследуя опыты покойного Опица.
Такие свободные, не скованные строфами стихи могут быть веселыми, жалобными, строптивыми, даже шутейно-нелепыми и дурацкими — лишь бы в них было дыхание, то есть оставалось бы пространство для музыки. Такого пространства он не находит, к сожалению, в услышанных драматических сценах. Как ни высоко ценит он суровую серьезность сонетов Грифиуса, как ни горячо разделяет он жалобу автора на бренность мира, как ни много неувядаемой красоты в том, что было прочитано, все же, как композитор, он вынужден признать, что не находит места своей музе среди чрезмерного обилия слов. Никакой спокойный, взвешенный жест тут невозможен. Ничья печаль не будет расслышана и не найдет себе отклика в таком столпотворении слов. И хотя все, что ни сказано, сказано отчетливо, однако одна четкость погашает другую, так что возникает впечатление переполненного пустого пространства. Слова, ярясь, громоздятся друг на друга, но общая картина остается недвижной. Пожелай он положить на музыку подобную пиесу, он должен будет позаимствовать звуки у жужжащих мух. Увы и еще раз увы! Счастлив был Монтеверди — под рукой у него был Ринуччини, писавший либретто. Честь и слава тому поэту, который сумеет снабдить его текстом, равным по красоте ламенто Арианны. Или подобным той волнующей сцене борьбы Танкреда с Клориндой, что могла обрести совершенное музыкальное воплощение благодаря дарованию Тассо.
Но желать подобного означало бы требовать слишком многого. Нужно умерить претензии. Когда отечество попрано, поэзия цвести не может.
Не молчание, но ропот был ответом сей речи. Грифиус сидел как пораженный громом. Но ударил он, чувствовалось, не только в него. Что понравились исключительно заблудший Шефлер и скабрезный Грефлингер, особенно припекало Гергардта. Он уж встал, готовый к отповеди. Он ответит как надо. Он-то знает, какая музыка и на какие слова угодна Господу. И задаст этому поклоннику Италии, восхвалителю макаронников, господину Энрико Саджиттарио. По-немецки задаст. То есть — в глаза правду-матку…
Но слова Гергардту покамест не дали. Не получили разрешения также ни Рист, ни Цезен, рвавшиеся в бой. (Не получил его и я, хотя сдержаться не было мочи.) Симон Дах, заметив, что хозяйка с порога делает ему знаки, решил закрыть собрание: прежде чем спорить, не лучше ли сначала мирно похлебать супчику, который-де уже готов.
Вернулся ли Гельнгаузен, пожелал узнать Гарсдёрфер, когда все задвигали стульями. Ему Штофеля не хватало.
12
Вкусно-то вкусно, но скудно. Шкварки — из остатков вчерашнего сала. Супчик насыщал на короткое время, оставаясь в памяти надолго: крупа, приправленная купырем. Черного хлеба в обрез. Молодым, конечно, пустовато. Грефлингер бурчал. Гофмансвальдау, подвигнутый вчера скромной трапезой на гимн простой жизни, заметил, что и простота может быть чрезмерной. С этими словами он пододвинул свою наполовину полную еще миску юному Биркену. Грифиус размешивал в супе мысли, придававшие силезскому гладу вселенский масштаб. Злоречивый Логау издевался над современным искусством супорастяжения. Чепко молча орудовал ложкой. Прочие (Мошерош, Векерлин) воздерживались от комментариев или (как Бухнер) удалились с дымящейся миской к себе в комнату. (Шнойбер потом уверял всех, будто видел, как одна из служанок — Эльзаба — поднялась вослед литературному магистру, прикрыв платочком добавочный харч.)
Шюц, однако, остался за столом и хлебал суп, слушая повести лучших времен из уст Альберта: оба они в середине тридцатых годов вкушали милостей короля Кристиана в Копенгагене. Было слышно, как Саджиттарио смеется.
Когда произносивший на сей раз застольную молитву Гарсдёрфер среди прочего сказал, что этакий суп — наилучшая подготовка к покаянию, Дах отвечал, что отправится в Тельгте с негоциантом Шлегелем и кем-нибудь из книгопечатников. Хоть теперь и война, но уж что-нибудь съестное на вечер они наверняка добудут.
Там нечего делать даже крысам, подал голос Лауремберг. Жителей осталось — по пальцам перечесть, дома пусты и заколочены. Ворота почти без охраны. Одни бродячие псы. Еще утром они со Шнойбером пытались тряхнуть серебром ради парочки кур. Да только ни одна там больше не квохчет.
Странно, но разгорячился смиренник Гергардт: следовало-де позаботиться обо всем заранее. Дах, заводила, должен был заготовить самое необходимое — сало, бобы. Он ведь в фаворитах у своего князя. Что ж было не урвать от его кальвинистского фуража? Он, Гергардт, требует не больше, чем надобно каждому христианину. Кроме того, такой гость, как придворный капельмейстер саксонского курфюршества, вправе требовать лучшей кухни, коли уж он опустился до общества простых сочинителей духовных песен.
На это Дах: его самого-де можно бранить, сколько заблагорассудится. Но он не потерпит, чтобы поносили религию его князя. Разве Гергардту не известен бранденбургский эдикт о веротерпимости?
Никогда он ему не подчинится, гласит ответ. (И много позже, будучи настоятелем церкви святого Николая в Берлине, он имел случай доказать свое рвение — когда предпочел отстранение от должности благоразумию.)
Хорошо хоть темного рейнского пива оставалось еще довольно. Рист жестами приглашал успокоиться. Памятуя о почтении, каким он пользовался в Виттенберге, Бухнер призывал своих бывших учеников к порядку. Когда же хозяйка обнадежила гостей, обещав, что Гельнгаузен привезет, пожалуй, из Мюнстера что-нибудь путное, стихотворцы успокоились и, отвлекшись от супа, снова вгрызлись в языковую материю — неутомимые жеватели слов, всегда готовые на худой конец насытиться цитатами из собственных сочинений.
Отзыв Шюца, не помешав все еще озадаченному Грифиусу по привычке собрать вокруг себя слушателей и делиться с ними замыслами новых мрачных трагедий, привлек в то же время жадное внимание издателей к бумагам бреславльского студента: юный Шефлер и не чаял, как ему отделаться от домоганий печатников. Нюрнбержец Эндтер сулил ему место городского медикуса, в ответ на что Эльзевир манил назад в Лейден — для продолжения штудий: все ведь слышали, где образовался ум Шефлера, как и — в юную пору — Грифиуса.
Студент, однако, стоял на своем: он испросит совета в ином месте. (Потому-то, наверное, я потом еще раз видел, как он скрылся в тельгтских воротах — чтобы рядом со старушками преклонить колена пред деревянным изваянием…)
На другом конце длинного стола Логау и Гарсдёрфер пытались выяснить, что такое ни свет ни заря подняло Гельнгаузена и погнало в Мюнстер. Либушка отвечала, прикрывая рот рукой, будто выдавала военную тайну: Штофеля вызвали в имперскую канцелярию. Неспокойно не только у веймарцев, бунтуют и баварцы, заключившие сепаратный мир со шведом: перейдя к императору, начальник их конницы Верт попытался опять раздуть военную искру. Его всегда веселых конников она хорошо знает. Двое из них были у нее в мужьях, хоть и недолго — так, погостили в постели. Тут же Либушка объяснила, почему всегда избегала встреч с вышколенным воинством Валленштейна. Потянулись истории из ее военных путей-перепутий: и как побывала она три года назад с войском Галласа в Голштинии, и как поучаствовала — хорошо, Рист не слышал, увлекшись разговором в другом месте, — в грабеже Веделя. Вспомнила потом и юные лета: как служила в двадцатых у Тилли — кровь с молоком, в штанах, что твой бравый рейтар, — и как пленила — под Люттером это было — одного датского ротмистра. Тот бы, конечно — он ведь был дворянин, — сделал ее графиней, кабы не превратное течение войны…
Слушатели у Либушки, разумеется, были. Что в этой жизни почем — она знала тверже многих поэтов. Утверждала: не дипломатия, а зимние квартиры определяют военное счастье.
За ее рассказами позабыли и о миссии Штофеля. К ее речи, свободно тасовавшей события трех десятилетий, с интересом клонил ухо даже старый Векерлин, пожелавший, кстати, разгадать роковое для евангелистов происшествие своей юности: как могло случиться — в известной битве при Вимпфене, разыгравшейся на обоих берегах Неккара, — что над рядами испанцев чудесным и благоприятным для них образом явилась вдруг закутанная в белое Богоматерь… дело простое, объяснила хозяйка: припас ядер, взорвавшийся на поле боя, образовал белое облако причудливой формы, допускавшее толкования в католическом смысле.
Лишь когда Мошерош и Рист, сменяя друг друга, стали читать то обращение пиитов к князьям, каковое они составили с Гарсдёрфером и Гофмансвальдау, но вследствие Дахова запрета не смогли огласить еще утром, общий интерес отвлекся от трактирной хозяйки, воспламенившись бедами отечества. В конце концов ради этого они и съехались. Надобно заставить выслушать себя. Ведь они тоже предводители — если не полков, то слов.
Рист читал первым — и начало пророкотало как гром: «Германия, величайшая империя мира, ныне лежишь ты во прахе, опустошена и поругана, — вот правда! Свирепый Марс, сиречь проклятая война, бушующая уже скоро тридцать весен, есть преужаснейшее наказание Господне и страшная кара за преизбывное зло бесчисленных грехов недостойной Германии. Такова истина! Обездоленному, до крайней нужды доведенному отечеству — да ниспослан будет наконец благороднейший мир. С каковой целью пииты, собравшись в Тельгте — сие название означает издревле „молодой дуб“, — порадели представить немецким и чужеземным князьям свое отвечающее истине мнение…»
Затем Мошерош перечислил вождей противоборствующих партий. По стародавнему порядку (без Баварии, но включая Пфальц) со всею почтительностью, тщательно соблюденною Гофмансвальдау, были поименованы — вслед за императором — все курфюрсты. Потом шли чужеземные короны. Виноватыми оказывались все — и немцы, и романцы, и швед, без разбора вероисповеданий. Немцам вменялось в вину то, что они выдали отечество чужеземным ордам, а чужеземцам — то, что они превратили Германию в свой манеж, и теперь страну — раздробленную, утратившую вместе со старым порядком всякую добродетель и красоту — было не узнать. И токмо пииты, гласило обращение, ведают еще, что именно достойно называться немецким. Они же, «горестно воздыхая и слезы лия», связали воедино последнюю крепь отечества — немецкий язык. Они — другая, истинная Германия.
Далее следовали (частью Ристом, частью Мошерошем оглашенные) некоторые требования — среди них укрепления чинов, сохранения Померании и Эльзаса за империей, возрождения пфальцского курфюршества, обновления выборности в королевстве богемском и — конечно — свободы всякого вероисповедания, включая и кальвинистское. (Этот пункт отспорили страсбуржцы.)
Манифест — громко и решительно, абзац за абзацем был прочитан весь текст — вызвал поначалу бурю восторгов, но вскоре раздались и пожелания умерить претензии, сократить требования, придать всему более четкий, практический смысл. Как и следовало ожидать, Гергардт не мог вынести особого упоминания кальвинистов. Бухнер (вернувшийся из своей комнаты) нашел (взглянув на Шюца), что Саксонии вынесен излишне суровый приговор. Векерлин сказал: после такой бумаги Максимилиан и пальцем не сможет шевельнуть против испанцев, а гессенская ландграфиня — против шведов. Кроме того, Пфальц потерян навсегда. Логау насмешничал: получи французишка-кардинал сию эпистолу, он не мешкая вернет добычу и очистит Эльзас с Брайзахом. И Оксеншерна, отведав такой немецкой речи, немедленно утратит аппетит к Померании и Рюгену. Тут возмутился Грефлингер: чем это ему, шельме, не угодили шведы? Ежели б не героическая высадка Густава Адольфа на балтийском берегу, теперь бы и в Гамбурге сидели паписты. А ежели б Саксония и Бранденбург не поджимали все время хвост, мы бы дошли со шведом до Дуная и дальше. А ежели б конница Врангеля не погуляла прошлый год по Баварии, ему бы не видать любимого Регенсбурга как своих ушей.
Именно швед, вскричал и Лауремберг, вышвырнул фридландца из Мекленбурга. Верно, откликнулись силезцы, кто ж, как не швед, защитит их от папы? При всех издержках оккупации надобно хранить ему благодарность. Нападки на шведский престол из манифеста нужно выкинуть. Испуганный Шефлер был нем. Когда же Шнойбер вставил, что надо пощадить и француза, потому как Франция решающим образом ослабила Испанию, Цезен подал реплику, которая, собственно, должна была принадлежать Ристу: тогда в тексте вообще ничего не останется от обвинения, а будет одна бессильная жалоба. А с нею нечего и вылезать. Ради нее не стоило и съезжаться. Для чего же они все-таки собрались?
Генрих Шюц, сидевший с отсутствующим видом в течение всей перепалки, взялся ответить на вопрос для чего: для написания слов, располагать которые в искусном порядке всемилостивейше дано только поэтам. Чтобы по крайности вырвать у бессильного немотства — а он хорошо с ним знаком — тихое «несмотря ни на что».
С этим мы могли согласиться. Быстро, пользуясь кратким перемирием, Дах сказал: текст ему нравится, хотя он вряд ли пригоден. Обыкновенно столь суровый господин Шюц на сей раз в мягкой форме выразил то, что ведает каждый: нет у пиитов никакой иной власти, кроме единственной — соединять верные, хотя и бесполезные, слова. Надобно дать манифесту перележать ночь: утро вечера мудренее. С этими словами он пригласил всех в большую залу — на новый диспут. Должен ведь Гергардт наконец изложить свои возражения знаменитому гостю.
13
То ли пшенка с купырем была тому виной, то ли обращение к властителям пустило поэтам кровь, так или иначе, но взбудораженные умы поуспокоились; и вот уже полукруг чинно внимал степенной речи Гергардта против капельмейстера саксонского курфюршества.
Упреки Шюца, что немецкой поэзии недостает дыхания, что она забита словесным сором, что музыка не может утвердить в ее хаосе ни взволнованность свою, ни свой лад, — этот суровый приговор с разъяснительной сноской на то, что сад поэзии одичал из-за войны, остался неоспоренным, ибо вызванный Дахом Гергардт говорил об общих материях. Гость-де не желает ничего видеть, кроме своего искусства. Так высоко паря, не различишь, конечно, всякую мелочь вроде простых слов. Зато они прежде всякого искусства служат Богу. Ибо вера истинная взыскует песен, обороняющих душу от греха. Такие песни посвящены умам бесхитростным, их без труда можно петь в церковных общинах. Петь построфно — дабы поющий христианин с каждой строфой бежал своей слабости, укреплялся в вере и черпал утешение в трудное время. Смиренно помогать бедным грешникам доступным им песнопением — этим Шюц пренебрег. Даже бекеровский псалтырь, как он не раз слышал, для прихожан излишне замысловат. Тогда уж ему, Гергардту, милее его друг Иоганн Крюгер, кантор, не пренебрегающий строфической песнью. Крюгеру не до проблем искусства. Не блестящие придворные капеллы князей ему дороги, но нужды простого человека. Ему, как и некоторым иным не столь именитым композиторам, не скорбно потрудиться ради ежедневных потребностей христианской общины, полагая строфы на нотные графы. Назвать хотя бы «Во всех моих деяньях…» столь рано отошедшего к Господу Флеминга, или «О вечность, слово громовое…» почтенного Иоганна Риста, или «Блаженны верующие…» любезного нашего Симона Даха, или «Сотрется в дым и пеплом скроет…» подвергшегося здесь поношениям, но воистину могучего словотворца Грифиуса, или даже его, всем сердцем преданного Всевышнему, Гергардта, строфы: «Проснись, душа, и воспой…», или недавно написанное «На жизнь воззри, о мир людской, на крест взнесенную тобой…», или «Хвалу и честь ему взнесем…», или то, что написал он уже здесь, в своей комнате в предвидении близкого мира и того, что в церквах пожелают его воспеть: «Итак, сбылось! Свершилось! Окончена война. Несет Господня милость иные времена…»[13]
Сию шестистрофную песню, в четвертой строфе которой — «…Разрушенные башни / Святых монастырей, / И выжженные пашни, / И пепел пустырей, / И рвы глухие эти…»[14] — простыми словами живописалась участь отечества, Гергардт на саксонский манер произнес всю от начала до конца. Собравшиеся были ему благодарны. Рист низко поклонился. Опять залился слезами юный Шефлер. Грифиус встал, подошел к Гергардту и широким жестом обнял его. Все погрузились в задумчивость. Шюц сидел как под стеклянным колпаком. Альберт — полный тревоги. Дах громко и многократно сморкался.
Тут разорвал тишину голос Логау: ему хотелось бы только заметить, что набожные духовные песни, которые многие из собравшихся прилежно изготовляют для церковного употребления, не могут быть предметом литературной полемики, как и, с другой стороны, высокое искусство господина Шюца, на много ступеней вознесенное над расхожим церковным песнопением, но тем успешнее служащее единственно прославлению Господа. Кроме того, критическое замечание Шюца о спертом воздухе немецкой поэзии надобно основательно обдумать. Сам он, во всяком случае, благодарит за науку.
Поскольку Чепко и Гофмансвальдау согласились с Логау, Рист и опять-таки Гергардт были противного мнения, Грифиус грозил вот-вот взорваться, а Бухнер благодаря долгому молчанию накопил длинную речь, мог, того и гляди, снова вспыхнуть диспут, тем более что Дах, казалось, несколько растерялся и лишь обреченно ждал нового напора ораторства. Но тут против ожиданий (и без приглашения) снова заговорил Шюц.
Сидя, тихим голосом он просил извинить его за порожденные недоразумения. Повинна в них лишь неистребимая нужда его в ясной, но внутренне подвижной словесной основе. Ради нее, этой нужды, он решается еще раз пояснить, какого именно рода произведения словесного искусства потребны музыке.
Он встал и на примере собственного пассиона «Семь слов на кресте» принялся толковать свое музыкальное обхождение со словом. Сколь долгими и с какими ударениями должны быть слоги. Как может расшириться значение слова в пении. Насколько возвышенно благородным может стать глубокое слово печали. Под конец он даже спел — сохранившим красоту старческим голосом — за Марию и апостола: «Женщина, смотри, смотри, то сын твой…» — «Иоанн, смотри, смотри, то мать твоя…» Затем снова сел и сидя огласил, вновь вызвав неодобрение, сначала по-латыни: «Ut sol inter planetas…», потом в немецком переводе девиз Энрико Саджиттарио: «Как солнце сияет среди планет, так и музыка сияет среди искусств».
Дах, обрадованный (или напуганный) страстным пением, то ли не почувствовал новой дерзости, то ли не захотел ее заметить. Во всяком случае, он безо всякого перехода призвал к дальнейшему чтению — сначала Цезена, потом Гарсдёрфера и Логау, под конец Иоганна Риста. Названные один за другим выразили свое согласие. Только Рист оповестил, что не может предложить ничего, кроме первоначальных набросков (будущих произведений). За каждым чтением следовало деловое, держащееся теперь текста, не растекающееся по теории обсуждение, не свободное, правда, от обычных отлучек в область морали. Отлучался то один, то другой участник собрания и за дверь — кто до ветра, кто сбегать в Тельгте, кто поиграть на солнышке в кости с мушкетерами. (Когда на следующий день Векерлин пожаловался на пропажу денег из комнаты, подозрение первым пало на Грефлингера: Шнойбер видел его играющим в кости.)
Благозвучный, как назовут его годом позже, принимая в члены «Плодоносного общества» — вслед за чем возведут и в дворянство, — Филипп Цезен, этот беспокойный, дерганый, путающийся в объяснениях своих новаций, пожираемый пламенем разных, взаимно непримиримых страстей, молодой еще, в сущности, человек, поначалу туманно говорил о некоем «ужасном видении», разумея, но не называя плывущие по Эмсу трупы, — видении, которое еще должна осенить любовь, чтобы придать законченность его стихам… Потом он наконец собрал себя на табурете подле чертополоха и прочитал отрывки недавно опубликованного в Голландии пасторального любовного романа, герой которого — немец и лютеранин Маркхольд — тщетно домогается любви венецианки и католички Розамунды, требующей от него взамен согласия клятвенного обещания воспитывать будущих дочерей в католической вере.
Этот конфликт, с изрядным настоящим и еще более богатым будущим, заинтересовал собрание, несмотря на то что большинству из них книга была уже известна, а новомодная манера письма — Цезен отказывался от обозначения долготы немецкого «и» посредством прибавления к нему «е», а «е» открытое обозначал через «а» с умляутом — вызвала уже полемические нападки в печати (особенно рьяные — со стороны Риста).
Гарсдёрфер и Биркен защищали новатора и смелого словотворца, Гофмансвальдау хвалил изящный слог повествования, однако же бесконечные обмороки адриатической Розамунды, ее постоянная готовность к падению ниц («Глаза были полузакрыты, уста побледнели, язык онемел, ланиты поблекли, руки повисли, как плети…») вызвали во время чтения громкий смех Риста и других слушателей (Лауремберга и Мошероша), а потом, во время обсуждения, повлекли за собой и веселые пародии.
Цезен сидел, словно под градом ударов. Так что даже вряд ли расслышал восклицание Логау: «Все-таки опыт отважный!» А когда пылким излияниям чувств своего бывшего ученика принялся ставить запруду из цитат Опица магистр Бухнер, Цезена спасло только обильное кровотечение из носа. Экая прорва крови в тщедушном человечке. Текла и текла на белые брыжи. Капала на все еще открытую книгу. Дах прервал обсуждение. Кто-то (Чепко или издатель Эльзевир) вывел Цезена и уложил на холодные доски. Вскоре кровь остановилась.
Тем временем место подле чертополоха занял Гарсдёрфер. Играющий, как именовали его в «Плодоносном обществе». Человек непринужденный, с уверенными манерами и нюхом на новое, выдававший себя более за покровителя юных талантов и — лишь блага Нюрнберга ради — политического глашатая городских патрициев, нежели за поэта, он и прочел то, что всем нравилось: несколько своих загадок, которые всех немало потешили.
В каждом четверостишии было что-нибудь да упрятано — пуховик ли, мужская ли тень, сосулька, сердитый и вкусный рак или, наконец, мертвый ребенок в материнском чреве. Читал Гарсдёрфер без затей, не подчеркивая, скорее скрадывая эффектные места.
После долгих похвал, в венок которых вплелся и голос Грифиуса, Биркен осторожно, будто советуясь со своим покровителем, спросил, уместно ли умершего в материнском чреве ребенка заключать в столь легкомысленный по форме стих?
Литературный магистр Бухнер, определив вопрос Биркена как бессмысленный, приведя, а потом опровергнув лишь негромко высказанные возражения Риста и Гергардта, растолковал, что загадка вполне допускает легкомысленную завязку и трагическую развязку, но что, впрочем, эта малая форма поэтического искусства может иметь лишь прикладное значение, почему она и подходит «Пегницким пастухам».
Рядом с чертополохом, на колючки которого он для иронического намека наколол несколько своих рукописных, размером с ладонь, листочков, уже сидел обедневший аристократ и помещик, спасший себя от сумы должностью управляющего поместьями Брига. Уменьшающий член «Плодоносного общества», Логау и на сей раз был привычно краток. Карябая иное ухо сарказмами, он в двух строках умел сказать больше, чем другие умещали в пухлых трактатах. К примеру, о вере: «Папство, кальвинизм и лютеранство есть три веры. В чьей же христианство?»[15] Или о предстоящем мире: «Когда наступит мир, кто к нам вернется быстро? Сначала палачи, а с ними и юристы»[16].
После двух длинных стихотворений — одно из них было написано от имени одичавшей во время войны собаки — Логау завершил выступление двустишием о женской моде, специально обращенным, как он сказал, к служанкам Либушки: «Женщины — народ чистосердечный. Так порой оденутся беспечно, что холмы и горы их пред нами, а внизу, в долине, пышет пламя»[17].
Вслед за Гофмансвальдау и Векерлином одобрил стихи и Грифиус. Бухнер молчал согласно. Кто-то уверял, что заметил улыбку на устах Шюца. Рист вслух рассуждал, сгодится ли ему двустишие о вере для ближайшей проповеди в ведельской церкви. Когда ж вызвался — ясно зачем — смиренник Гергардт, Дах сделал вид, что не видит поднятой им руки, и, как бы Гергардту в назидание, сказал: кому не любо прямодушие Логау, того он запрет сегодня на ночь с тремя служанками. Знает он уже неких господ, что при случае не прочь переместиться туда, где «пышет пламя».
Пииты весело воззрились друг на друга. Грефлингер что-то насвистывал, Биркен улыбался влажными губами, Шнойбер вполголоса смаковал догадки, Лауремберг допытывался, где юный Шефлер, а Бухнер кивал понимающе: что ж, дело житейское и при столь ограниченных сроках отлагательств не терпящее.
Тем временем под смешки табурет меж Дахом и чертополохом занял Эльбский Лебедь. Так иной раз, намекая на Боберского Лебедя Опица, величали Иоганна Риста его друзья, с которыми он, как член «Плодоносного общества», состоял в переписке под именем Крепкого. Все в Ристе было внушительным: и проповедническое громогласие, и камергерская осанка, и тяжеловатый северный юмор, и массивная фигура, всегда облаченная в лучшие сукна, и борода, и орлиный нос, и даже водянистый взгляд, как ни хитро прищуривал он левый глаз. На все у него был готов ответ. Ничто не укрывалось от его приговора. Вечно раздираемый распрями (не только с Цезеном), он все же усердно корпел и над своими бумагами, которые теперь как-то нерешительно перебирал.
Наконец Рист возвестил, что надумал упредить заключение мира, торги о котором все еще идут под бряцанье оружием, и начал сочинять пиесу под названием «Ликующая о мире Германия». Главной героиней в ней выступает Истина. «Ибо должна ведь Истина возвестить или сообщить нам нечто, что одним придется по сердцу, а других не менее того заставит страдать. Внемлите же ей вы, немцы!»
Он прочел несколько сцен первого акта, где навоевавшийся юнкер обличает двоих крестьян в падении нравов. Но крестьян обобрали солдаты. Крестьяне подглядели у солдат, как нужно обирать людей. Как воровать, грабить, жечь, бражничать и насильничать. Потому и боятся они мира, который положит конец их беспутной жизни. В ответ на — крутым нижненемецким диалектом сдобренные — расхваливания крестьянами Древесом Кикинтлагом и Бенеке Дудельдеем их веселой разбойничьей жизни («А что нам на войну-то жалобиться? Небось брюхо набить на войне — проще пареной репы…») юнкер кипятится на своем витиеватом: «Упаси меня Всевышний, что слышу я? Ужли вы, несчастливцы, отдаете предпочтение тяготам бранного времени перед приличным счастием пребывать под охраной законного порядка и в тишине, дарованной миром?» Крестьянам, однако, жизнь без правил милее, чем возведенные в правило поборы да подати, каковые немедля последуют за тем, как разразится мир. Они боятся старого порядка и его возвращения под видом порядка нового. Налагаемые сменяющимися войсками военные контрибуции все ж, сдается им, милее, чем будущее налоговое бремя.
Сцену, в которой, будто перепутав роли, офицер призывает к миру, а крестьяне желают продлить войну, Рист читал как умелый актер, попеременно прикладывающий к лицу различные маски. Жаль вот голштинский диалект понимали немногие. После чтения автору пришлось перевести Мошерошу, Гарсдёрферу, Векерлину и силезцам самые забористые пассажи, отчего они утратили весь смак и сравнялись с бумажной речью юнкера. Диспут поэтому разгорелся не столько вокруг посвященной миру пиесы, сколько вокруг темы всеобщего падения нравов.
Немало худых примеров мог привести каждый. Как в Брайзахе, когда его осадили, закалывали беспризорных детей. Как разнуздалась толпа, скинув оковы порядка. Как самый вшивый деревенский холоп ходил по городу эдаким фертом. А сколько случаев разбоя в бранденбургских и франконских лесах — под каждым кустом. В десятый раз пожаловался Шнойбер на то, как их с Мошерошем ограбили по дороге из Страсбурга. Говорили об уже повешенных и еще разгуливающих на свободе злодеях. Сетовали на необузданную шведскую фуражировку. Силезцы хором расписывали ее ужасы (шведский «напиток», пытки огнем) в тот миг, когда в залу ворвался полковой писарь. Шум на дворе (тявканье дворняжек) поднялся еще раньше.
В зеленой безрукавке и шляпе с перьями он выскочил на середину залы, отсалютовал всем по-имперски и провозгласил конец пшенной эпохи. С унылой нуждой покончено. На его счету пять гусей, три поросенка и упитанный овен. А колбасой его просто закидали. Все это он хотел немедля предъявить. В окно видно, как его люди на дворе уже крутят вертел. Праздник предстоит знатный, так что собравшимся пиитам придется истратить весь свой запас Лукулловых рифм, Эпикуровых ямбов, вакхических сентенций, дионисийских дактилей и Платоновых афоризмов. Коль нельзя еще отпраздновать мир, так надобно отметить хотя бы последние судороги войны. Пускай же выйдут они наконец во двор и подивятся, какой справный фураж добыл для немецкого стихотворства Штофель, кого называют Симпелем, Простаком, вся Богемия и Брайсгау, холмистый Шпессарт и равнинная Вестфалия.
Вышли, однако, не сразу. Дах настоял на соблюдении порядка. Он заметил, что закрывать собрание — пока еще его привилегия. Просил продолжить высказывания за и против. Недаром ведь пропел свою песню Эльбский Лебедь.
Так что мы потолковали еще о драме Риста и повсеместном оскудении морали. Грифиус задался вопросом, кому станет хлопать глупая публика, буде покажут ей сию пиесу, — скорее уж, видно, крестьянам, чем юнкеру. Мошерош похвалил мужество Риста, обличившего теперешнюю беду в своей драме. Но, спросил Чепко себя и других, разве нет у крестьян оснований опасаться возвращения старого порядка? А чего же еще и желать, вскричал тут Лауремберг, как не возвращения старого доброго порядка?
Не желая подливать масла в огонь обсуждением возможного справедливого порядка и учуяв запах жареного мяса, который проник уже со двора в залу, где вызвал всеобщее возбуждение, Дах подал знак к закрытию послеобеденного заседания. Многие — не только молодежь — стремглав бросились на волю. Иные вышли степенно. Последними — Дах и Гергардт, успевший примирительно побеседовать с Шюцем. На месте остался один чертополох — рядом с некрашеным табуретом. Празднество во дворе нарастало, как стихотворный вал.
14
Пять гусей уже были нанизаны на один вертел, три молочных поросенка — на другой, а начиненный колбасками баран крутился на третьем. Длинный стол из малой залы поставили у кустов на берегу Эмса, так что дым от костров, уже вовсю пылавших во дворе, сюда не досягал. Либушка со служанками сновала меж двором и домом, накрывая на стол. Скатерти, которыми он был покрыт, выдавали свое церковно-алтарное происхождение. Тарелки, плошки, кувшины и миски походили на утварь какого-нибудь прирейнского замка. Кроме массивных двузубых вилок, никаких других приборов не было.
Дым клонился в сторону конюшни, застилая вид позади нее: заросли ольхи на берегу речного рукава да остроконечные кровли главной улицы с приходской церковью на краю ее. У костров сидели мушкетеры Гельнгаузена. Подхватывая глиняными горшками жир, стекающий с гусей, поросят и барана, они снова поливали и спрыскивали жарево да смазывали его распустившимся бараньим салом. Из можжевельника, заполонившего весь Эмсхаген до самой сукновальни, конюх таскал сухой валежник, от прибавлений которого то и дело взмывали столбы дыма, обрамлявшие распростертый вдали Тельгте как картину — с непременной шавкой или целой сворой собак на переднем плане (позже собачья компания перегрызлась из-за костей).
Рейтары Гельнгаузена занялись меж тем сооружением чего-то вроде балдахина над накрытым столом: на свежеоструганные шесты натягивали пестротканую парусину, как на палатке предводителя гессенского войска. Затем сплетены были гирлянды из свежих веток с пропущенными сквозь них цветами шиповника, бушевавшего в саду хозяйки, — их повесили на шесты балдахина. По краям его свисала бахрома, из нее заплели забавные косички, прикрепив к ним бубенцы, весело звеневшие потом от порывов ветра.
Хотя стоял белый день и вечер только смутно намечался, Гельнгаузен достал из повозки, которую запряг рано утром и в которой привез гусей, поросят, барана, посуду, алтарные покровы и балдахин, еще и пять тяжелых серебряных канделябров — явно церковного назначения, в них торчали едва обожженные свечи. Штофель озаботился покрасивее расставить трехсвечники на накрытом столе. После нескольких попыток достичь непринужденности он построил их по-военному, словно роту, в шеренгу по одному. Стоявшие группами поэты издали наблюдали за ним, я записывал наблюдаемое.
Когда же из бездонной повозки под присмотром Гельнгаузена извлекли отлитую в бронзе фигуру мальчика, изображавшую Аполлона, когда водрузили наконец сие произведение искусства на середину стола, снова сдвинув подсвечники, в душу Даха на смену изумлению проникла тревога. Он отозвал в сторону хозяйку, а затем и Гельнгаузена, желая выяснить, откуда и с чего вдруг взялись такие сокровища, чем за них уплачено или кем они даны в одолжение. Столько дарового добра — мясо, ткани, металл — с неба не свалится.
Гельнгаузен отвечал, что все — даже гуси, поросята и баран — происхождения хотя и католического, но самого беспорочного, ибо во время таинственного визита своего в Мюнстер — о кое-каких деталях он вынужден умолчать и сейчас — он имел удовольствие видеть немало посланцев мирного конгресса, кои направляют пламенные приветствия встрече немецких поэтов, весть о которой уже распространилась. Папский нунций монсеньор Киджи просит надписать ему — нумерованный, сорок первый, — экземпляр «Женских досугов» Гарсдёрфера, его настольную книгу. Венецианский посланник Контарини шлет поклон незабвенному маэстро Саджиттарио, осмеливаясь напомнить, что возвращение господина Шюца под сень святого Марка во всякое время вызвало бы в Венеции бурю оваций. Маркиз де Сабле немедленно, по эстафете, дал знать кардиналу Франции о пиитическом съезде и готов, буде окажут ему честь, предоставить поэтам свой дворец. Вот только прибывший из Оснабрюка шведский посол — даром что сын великого Оксеншерны — таращился как баран, когда называли знаменитые немецкие имена, звучавшие для него все одно что испанские. Тем сердечнее показал себя граф Иоганн фон Нассау, тот самый, что ведет переговоры после отъезда Траутмансдорфа от имени императора; он-то и отдал распоряжение чиновнику имперской канцелярии Исааку Фольмару позаботиться о благополучии путешествующих поэтов, снабдить их освежающей подкормкой да передать маленькие презенты на память: золотое колечко господину Даху — вот оно; изящной работы серебряные кубки — вот они… После чего Фольмар, вооруженный письменными предписаниями относительно грядущего празднества, воспользовался его, Гельнгаузеновыми, познаниями в местной топографии. Пришлось помыкаться с ним по окрестностям. Он-то знает Вестфалию как свои пять пальцев. В прошлом у него как-никак слава лучшего в Зосте охотника, так что места между Дорстеном, Липпштадтом и Цесфельдом он освоил. В самом-то Мюнстере харчуются посольства, там ничего путного не достанешь. Но в деревнях поживиться можно всегда. Коротко говоря: ему с имперцами не доставило особых хлопот выполнить распоряжение графа фон Нассау, тем паче что в том краю католиков столько, что папе и не снилось. Теперь они обеспечены всем, недостает разве что куропаток. Вот, полюбуйтесь, опись: тут все проставлено — и сыр, и вино. Господин Дах чем-нибудь недоволен?
Этому докладу — по ходу дела в него вплетались мюнстерские сплетни и слухи, а в не приведенных здесь вводных фразах выступил в роли свидетелей весь античный персонал — Дах внимал сначала один, потом вместе с Логау, Гарсдёрфером, Ристом и Гофмансвальдау, под конец в окружении всех нас, внимал сначала с недоверием, потом с нарастающим удивлением, под конец не без тщеславного удовольствия. Со смущением вертел он в руках золотое кольцо. По рукам ходили серебряные кубки. Пусть Логау (по старой привычке) пыхтел и язвил, пусть Гельнгаузен в чем-то и приврал, все равно принимать приветы да поклоны от столь высоких лиц было приятно. А уж когда лихой писарь достал из своей курьерской сумки экземпляр «Женских досугов» (и точно, сорок первый!), экслибрис коего указывал на его обладателя — папского нунция Фабио Киджи (впоследствии — папа Александр VII), и, с улыбкой протянув книгу Гарсдёрферу, просил незамедлительно снабдить ее посвящением, тут уж все окончательно уверились в несомнительном источнике предстоящего праздника; смолчал даже Логау.
Последние сомнения в том, подобает ли добрым лютеранам принимать такие дары от папистов, развеял Дах, убедивший сначала Грифиуса, а потом и Риста с Гергардтом ссылками на всегдашнюю готовность приснопамятного Опица к сотрудничеству с католиками: покойный Боберский Лебедь как иреник в смысле высокомудрого Гроциуса и ученик покойного Лингельсгейма неизменно выступал за свободу вероисповедания и против любой нетерпимости. Ах, сколь славен был бы предуготовляемый мир, ежели б за одним столом собрал лютеран, и католиков, и кальвинистов! Во всяком случае, у него, Даха, текут слюнки при виде и католического поросенка.
Тут как раз позвала их хозяйка: пора было резать мясо.
15
«Наконец-то!» — возопил Грефлингер, потрясая своей черной, спадавшей на плечи гривой. Ристу, как и Лаурембергу, заслуженность трапезы казалась несомненной. Зато вместе с Логау хмурил брови и Чепко: а не черт ли возжег сии три костра с вертелами? Биркен не скрывал ревнивого намерения восполнить доселе имевшую место нехватку еды. То же сулил он и Шефлеру, не сводившему глаз со служанок. Терзаемый волчьим аппетитом Мошерош втиснулся между Гарсдёрфером и его издателем. Грифиус стал было похваляться вместительностью желудка, но Гофмансвальдау тут же указал ему на бренность радостей плоти. Маявшемуся от рубцов пониже спины Шнойберу еще солоней становилось от жгучих насмешек. Дальновидный Векерлин держал наготове платок, чтоб завернуть в него гусиную грудку; подобной припасливости учил он и Гергардта. Но Гергардт, минуя взглядом Цезена, уставившего в огонь ясновидческие очи свои, пригрозил собравшимся, что призовет их к обузданию алчности в своей застольной молитве. Однако Дах, рядом с которым был его Альберт, объявил: сегодня за всех помолится вслух юный Биркен. Альберт, поискав кого-то глазами, спросил о чем-то негоцианта Шлегеля, тот через Эльзевира передал вопрос издателю Мюльбену, а когда вопрос докатился до Бухнера, то ответ пришел сам собой: Шюца за столом не было.
Откуда мне все это известно? Я был там, сидел среди них. От меня не укрылось, что Либушка послала одну из служанок в город — позвать на ночь каких-нибудь девок. Кем я был? Не Логау и не Гельнгаузеном. Могли ведь быть приглашены и другие: Ноймарк, например, который остался, правда, в Кёнигсберге. Или Чернинг — Бухнеру его особенно недоставало.
Но, кто бы я ни был, я знал достоверно, что бочки с вином были монастырские бочки. Ухо мое улавливало слова и намеки, которыми перебрасывались мушкетеры, разделывая гусей и поросят, отрезая куски от барана. Я видел, как Шюц вышел во двор, но, прислушавшись к речи Гельнгаузена, поспешил назад в дом — по лестнице, в свою комнату. Я знал даже то, чего никто не знал: что в то самое время, когда близ тельгтского трактира немецкие поэты сели за пиршественный стол, в Мюнстере баварские посланники по всей форме передали Эльзас французам, получив взамен Пфальц (с обещанием вернуть ему курфюршеское достоинство). Я бы мог плакать от этой сделки, но я смеялся, потому что был тут, сидел вместе со всеми — и вместе со всеми сложил руки для вечерней молитвы, когда в наступивших сумерках под гессенским балдахином зажгли свечи в католических серебряных канделябрах. Ибо сидевший рядом с Шефлером Биркен уже встал — соревнуясь красотой с Аполлоном, который наполовину заслонил его от меня, — встал, дабы произнесть самую что ни на есть протестантскую молитву: «Будем крепью дела Христова, убежим всего мирского…»
После него речь держал от середины стола — внешний Эмс за спиной, впереди вечереющий город — Симон Дах, хотя нарезанное мясо уже дымилось в замковом фарфоре. Но, видно, слишком уж мрачно произнес молитву Биркен — «Умертвим, покуда живы, нашу плоть…», — поэтому Дах, христианин вполне практический, желал дать напутствию направление более земное: духом единым сыт не будешь, так что пусть бестревожно вкусят нежданный добрый кусок и бедные, вечно прозябающие поэты. Посему он хотел бы, не муча долее Гельнгаузена вопросами «где» и «откуда», высказать ему общую благодарность. Будь все как есть и да ублаготворят свой неизбалованный аппетит любезные друзья его — в надежде, что благословение Господне покоится на всем, чем изобилен их стол. И пусть это застолье станет прелюдией к долгожданным праздничным мирным пирам.
Засим приступили к трапезе. Засучив рукава. С благословения Господня. С силезским, франконским, эльбским, бранденбургским, алеманским аппетитом. Точно так же и рейтары, мушкетеры, дворняжки, конюх, служанки и доставленные из города девки. Впились в гусей, поросят и барана. Его начинка — кровяные и ливерные колбаски — также частью явились на столе, а частью остались у тех, кто сидел у костра. Сок, стекавший по острым, круглым, завитым бородкам, скапливался в тарелках, где настигали его ломти свежего белого хлеба. Ах, как похрустывала корочка молочных поросят! Можжевеловый дым придал особый смак баранине.
На ногах оставались только хозяйка и Гельнгаузен. Знай подносили: пшенную кашу на молоке с изюмом, блюда с засахаренным имбирем, маринованные огурцы, сливовый соус, тяжелые кувшины с красным вином, сухой козий сыр и, наконец, сваренную на кухне баранью голову — в пасть ей Либушка сунула морковку, вокруг нее соорудила белое жабо, как у какого-нибудь господина, а сверху водрузила венок из желтых кувшинок. Кураж явилась монаршей походкой, всем видом своим подчеркивая значительность ноши.
Посыпались шутки. Баранья голова взывала к метафорическим уподоблениям. Принимала славословия ямбами и хореями, трехдольником, Бухнеровыми дактилями, александрийским стихом, рифмой акрофонической, внутренней, аллитерационной, цитатами и импровизациями. Грефлингер под видом рогатого барана возносил жалобы на неверную Флору, прочие предпочитали политические экивоки.
«Не лев и не орел отважный — немецкий герб баран украсит важный», — изрек Логау. Мошерош предал сию принадлежность немецкого герба экзекуции: «Режь его на испанский манер, холоди итальянцам в пример». А Грифиус, на лице которого отражалась готовность сожрать все что ни есть на свете, на миг оторвался от свиной ножки, чтобы срифмовать: «Агнца, жаждущего мира, научит разуму секира».
Литературный магистр Бухнер терпеливо сносил скороспелые рифмы, стерпел и Цезеново: «О вече овечье, вечен твой вечер…», вставив только: хорошо хоть суровый Шюц не внемлет таким упражнениям. Дах, поливавший как раз гусиную ножку сливовым соусом, испуганно приостановился и, заметив такой же испуг у остальной компании, попросил своего Альберта посмотреть, что приключилось с гостем.
Соборный органист нашел старика в его комнате лежащим без камзола на кровати. Резко поднявшись, Шюц сказал: очень любезно с их стороны, что о нем вспомнили, но он хотел бы еще немного отдохнуть. Надобно обдумать множество новых впечатлений. Обдумать внове познанную истину, например состоящую в том, что острый смысл, подобный тому, коим отличны изречения Логау, не допускает музыки. Да, да. Он охотно верит, что во дворе царит веселье. Многоголосые отзвуки пира долетают и до окна его комнаты, в смешном свете выставляя вопросы вроде такого: ежели разум, каковой он высоко ценит, обходится без музыки, то есть ежели сочинение музыки противно разумному сочинению слов, то спрашивается, как такой холодной голове, как Логау, все же дается красота. Кузен Альберт, конечно, может посмеяться над подобным крючкотворством, назвав его, Шюца, недоношенным юристом. Ах, кабы он остался при своей юриспруденции, не поддавшись плену музыкальной стихии! И сегодня еще годы, проведенные в Марбурге, служат ему добрую службу выработанною привычкою к анализу. Дать ему немного времени, так он расплетет и самую хитроплетеную ложь. Надо лишь поискать недостающие звенья. Ибо, хотя сей приблудный Штофель будет плетун побойчее многих съехавшихся пиитов, своя логика есть и в его плетении. Что такое? Альберт все еще свято верит ему? Тогда он не станет смущать его простоту. Нет, нет, он еще придет выпить стаканчик. Чуть позже, совсем уж скоро. Пусть они не беспокоятся о нем. И Альберт пусть себе спокойно идет и веселится вместе со всеми.
Лишь когда Альберт был уже в дверях, Шюц в немногих словах поведал ему о накопившихся заботах. Назвал свое дрезденское существование плачевным. Стоило бы, кажется, вернуться в Вайсенфельс; с другой стороны, тянет в Гамбург и дальше в Глюкштадт, где он надеется найти благую весть от датского короля, приглашение в Копенгаген: оперы, балеты, веселые мадригалы… Лауремберг обнадежил его: наследный принц благосклонен к искусствам. На всякий случай с собой у него вторая часть «Simphoniae sacrae»[18], посвященная князю. Потом Шюц снова улегся, однако глаза не закрыл.
Сообщение о том, что капельмейстер курфюршества несколько позже ненадолго спустится во двор, было встречено с облегчением двоякого рода: с одной стороны, суровый гость отсутствовал, стало быть, не потому, что осерчал, с другой — суровый гость явится за развеселый, порою не в меру шумный стол не сей же миг. Нам, по правде говоря, хотелось еще побыть одним, среди своей братии.
Грефлингер и Шнойбер подманили к столу трех служанок хозяйки, а за ними — по инициативе Гельнгаузена — и тельгтских девиц. Эльзаба плюхнулась к Мошерошу на колени. По-видимому, старый Векерлин тишком подослал к Гергардту двух разухабистых девиц, и они взяли его в тиски. Когда нареченная Марией красотка доверчиво и словно привычно прильнула к студиозусу Шефлеру, того не замедлили с ног до головы окатить насмешками. Пуще других усердствовали Лауремберг и Шнойбер: уж не его ли это дева Мария? Уж не думает ли он через нее сочетаться с католической церковью? Подзуживания в таком духе сыпались до тех пор, пока Грефлингер не пригрозил им своими баварскими кулачищами.
На другом конце стола Риста, запустившего проповеднические длани свои под потаскушкины перси, обидел Логау. Вроде бы и сказал-то Уменьшающий Крепкому всего-навсего, что, мол, когда в обеих руках столько сокровищ, то уж кружку с вином не удержишь, а вышла обида. Рист немедленно выпростал обе руки, а заодно и язык. Остроумие Логау он назвал ядовитым, поскольку чуждо оно здоровому юмору, а отнять здоровый юмор — останется ирония, а ирония — дело не немецкое, а не немецкое дело — «не немцу и делать».
Возник новый диспут, так что о девицах и служанках на время позабыли. Зато за кувшины с вином хватались чаще прежнего: спор о юморе и иронии требовал смочить горло. Логау вскоре оказался в одиночестве, вслед за Ристом на него ополчился и Цезен, нашедший его уничижительный взгляд на вещи, людей и обстоятельства разлагающим, чужим, не немецким, омакароненным, то бишь дьявольским — да, вот слово, объединившее Риста с Цезеном: оба они полагали, что хитроумные двустишия коварного Логау происхождения дьявольского. Почему? Потому что ирония — от дьявола. Почему от дьявола? Потому что отцы ее — макаронники, а стало быть, дьявол.
Гофмансвальдау пытался прекратить сей немецкий спор, но его юмор для такой миссии не годился. Старого Векерлина почвенная кутерьма забавляла. Грифиус, утративший от обильного возлияния дар речи, мог реагировать только гомерическим хохотом. Когда вставил словечко в пользу Логау Мошерош, на него тут же зашикали: мол, у самого-то имечко — о Господи! — такое же мавританское, как и немецкое. Лауремберг исподтишка выругался. Кто-то хватил кулаком по столу. Вино опрокинулось и пролилось. Грефлингер раздул ноздри, предвкушая драку. Дах уж было встал, чтобы предотвратить разгул грубой силы своим доселе авторитетным кличем: «Довольно, дети мои!», как во дворе в дорожном плаще показался выступивший из темноты Генрих Шюц, и все сразу протрезвели.
И хотя гость просил продолжать разговор, противоречия между юмором и иронией сдуло как ветром. Каждый уверял, что никого не хотел обидеть. Служанки и девки ускользнули к все еще пламенеющим кострам. Бухнер освободил предназначенное для Шюца кресло. Дах уверял, как он рад, что гость хоть и с опозданием, но все же пришел. Либушка хотела положить ему горячей еще баранины. Гельнгаузен налил вина. Шюц, однако, не стал есть и пить. Молча смотрел он поверх стола на костер посреди двора, где теперь веселились мушкетеры и конники с девками и служанками. Кто-то из мушкетеров изрядно играл на волынке. Пламя костра выхватило из темноты сначала две, потом три танцующие пары.
Шюц, со вниманием осмотрев Аполлона и лишь мельком взглянув на канделябры, повернулся затем к Гельнгаузену, все еще стоявшему подле него с кувшином. Глядя Штофелю прямо в глаза, Шюц спросил, отчего этот один рейтар и тот мушкетер, что как раз танцует — вон тот! — ранены в голову. Он хотел бы услышать правду.
После чего все за столом узнали, что рейтара царапнула пуля, а мушкетера лишь слегка, слава Богу, задела драгунская сабля.
Шюц продолжал выспрашивать, и все услыхали, что имперцы Гельнгаузена поцапались с одним шведским отрядом, дислоцированным в Фехте. И фуражиры-шведы понуждены были к бегству.
Отсюда и трофеи? — допытывался Шюц.
Так стало известно, что гусей, поросят и барана фуражиры-шведы изъяли у одного крестьянина, к которому, надо признать, хотел наведаться и Штофель: крестьянина он знавал еще в те времена, когда охотился в Зосте, но теперь нашел его пригвожденным копьем к воротам амбара — шведских рук дело. А ведь сколько знакомы: в ту пору его зеленая безрукавка с золотыми пуговицами была тут известна всякому…
Околичностей Шюц не терпел. И выяснил в конце концов, что церковное серебро, мальчик-Аполлон, гессенская походная палатка, замковый фарфор, алтарные покровы, а равно и сливовый соус, монастырское вино, засахаренный имбирь, маринованные огурцы, сыр и пшеничные булки — что все это было найдено в отбитой у шведов повозке.
Тоном делового отчета Гельнгаузен сообщил: весь багаж пришлось перегрузить, потому что шведская колымага по самые борта застряла во время бегства в болоте.
Кто же приказал ему учинить сей разбой?
В таком примерно духе следовало понимать распоряжение графа фон Нассау, переданное имперской канцелярией. Но какой же это разбой? Обусловленная обстоятельствами войны стычка с неприятелем, повлекшая за собой переадресовку фуража, только и всего. Все в полном согласии с приказом.
Что дословно гласил приказ, данный ему именем императора?
Приказано было передать любезнейшие заверения графа собравшимся пиитам, а также всемерно позаботиться об их телесном благополучии.
Подразумевала ли означенная забота различные припасы, колбасы, две бочки вина, искусно выделанную бронзу и прочие роскошества?
Судя по вчерашнему опыту знакомства с кухней трактира «У моста», распоряжение графа позаботиться о телесном благополучии пиитов вряд ли можно было исполнить основательнее. А что до незамысловатого праздничного антуража, то еще Платон говорил…
Словно уже решив выжать Штофеля до конца, Шюц пожелал узнать, не пострадал ли еще кто-нибудь, кроме крестьянина, при этом разбойном набеге? И Гельнгаузен признал: насколько он мог разглядеть в суматохе, шведское обхождение пришлось не ко благу также работнику и служанке. И еще: умирая, крестьянка успела поведать ему о своей заботе — уцелеет ли ее мальчик, убежавший, как она видела, в ближний лес от резни…
Потом Штофель добавил: ведома ему одна история, точно так начавшаяся некогда в Шпессарте. Ибо такое случилось и с ним в детстве. Батьку с маткой зверски прикончили. А он жив. Да поможет Бог на сей раз и вестфальскому мальчику.
Праздничный стол выглядел как после побоища. Груды крупных и мелких костей. Лужи вина. Гордо увенчанная, но уже обглоданная баранья голова. Картина тошнотворная. Дотла сожженные свечи. Затеявшие свару собаки. Насмешливо дребезжащие бубенцы на балдахине. Тоску еще усиливало веселье в стане мушкетеров и рейтаров: усевшись с женщинами у костра, они горланили песни и ржали, как лошади. Только после окрика хозяйки перестали играть на волынке. В стороне рвало юного Биркена. Поэты стояли группами. Не только у Шефлера, но у Чепко и негоцианта Шлегеля также на глазах были слезы. Было слышно, как негромко молится Гергардт. Не протрезвевший еще Грифиус толокся у стола. Логау убеждал Бухнера, что с самого начала не поверил обману. (Мне с трудом удалось удержать Цезена, который рвался к реке — смотреть трупы.) Словно надломившись, тяжело дыша, стоял Симон Дах. Альберт расстегивал на нем рубашку. Владел собой только Шюц.
Он остался в своем кресле у стола. Не вставая, обратился он к поэтам с советом продолжить встречу, не предаваться бесполезным стенаниям. Их вина перед Богом в совершенном злодеянии невелика. Зато велико их дело, служащее слову и отчизне, — его и нужно продолжить. Он надеется, что не помешал им в этом.
Затем он поднялся и стал прощаться: отдельно с Дахом, очень сердечно с Альбертом, общим поклоном с остальными. Сказал еще, что подгоняет его вовсе не печальное происшествие, но дела — в Гамбурге и иных местах.
После немногословных распоряжений — за багажом Дах послал Грефлингера — Шюц отвел в сторонку Гельнгаузена. По тону можно было понять, что старик беседует с ним дружески, убеждает в чем-то и уговаривает. Вот он засмеялся, потом засмеялись оба. Штофель упал перед ним на колени, Шюц поднял его. Он, если верить Гарсдёрферу, будто бы сказал полковому писарю: хватит ему махать саблей, пора смело браться за перо. Уроков жизнь преподала ему для этого предостаточно.
Генрих Шюц уехал, а с ним и двое имперских конников — они сопровождали его до Оснабрюка. Все при свете факелов толпились во дворе. Потом Симон Дах пригласил перейти в малую залу, где уже как ни в чем не бывало стоял длинный стол.
16
«Ничто, безумие, обман — такой удел нам свыше дан…» Все кончилось плачевно. Ужас закрасил зеркала черным цветом. У вспоротых слов вывалилось нутро смысла. Надежда изнывала от жажды у засыпанного колодца. Рушились выстроенные на песке стены. Мир был оплеван. О фальшивый блеск его. Сухие корчи некогда зеленых ветвей. Нежная белизна савана. Изящная подмалевка трупа. Игра ложного счастья… «Се человек, кого влечет течение покуда. Кто он? Лишь времени причуда!»
Сколько длится война, столько они и бедуют — с тех пор как вышли ранние лиссанские сонеты Грифиуса, бедуют безутешнее прежнего. Как ни чувствителен был их глагол к соблазнам, как ни прилизывали они природу на пасторальный манер куртинами да гротами, как ни легко соскальзывали с их уст звонкие пустячки, более затемнявшие, нежели просветлявшие смысл природы, последнее слово их всегда было юдолью печали. В прославлении избавительницы-смерти понаторели даже скромного дарования поэты. Снедаемые жаждой славы и почестей, изощрялись они тем не менее в картинах тщеты человеческих устремлений. Молодежь особенно круто расправлялась в своих строках с жизнью. Но и для зрелых мужей прощание с земным прельщением было делом столь обыкновенным, что душеспасительные стенания их усердно творимых (и умеренно вознаграждаемых) заказных стихотворений стали даже чем-то вроде моды, отчего Логау, верный рассудку, мог вовсю потешаться над предсмертным томлением своих коллег. А с ним не без охоты переворачивали иной раз мрачную рубашку карт, любуясь веселыми картинками на обороте, и некоторые умеренные защитники тезиса «Все — суета сует».
Потому-то Логау, Векерлин и вполне мирские Гарсдёрфер и Гофмансвальдау считали чистой воды суеверием распространенное мнение, будто конец мира, должный подтвердить правоту взывающей к нему поэзии, не за горами. Однако ж прочие — среди них и сатирики, и даже мудрый Дах — хоть и не думали о Страшном Суде неотступно, но чувствовали его приближение всякий раз, когда над миром сгущались политические тучи, что с ним бывало нередко, или когда завязывались в тугой узел тяготы повседневной жизни — например, когда признание Гельнгаузена превратило пиитический пир в разнузданное обжорство, а веселие стихотворцев обернулось неизбывным унынием.
Один лишь Грифиус, мастер мрачных видений, излучал свет бодрости. Он был в своей стихии. А потому спокойно противостоял напору хаоса. Его представление о миропорядке покоилось на иллюзорности и тщете. Он смеялся: с чего такой скулеж? Разве ведом им добрый пир без горького похмелья?
Сонм пиитов, однако ж, долго еще мысленно витал над бездною ада. То был час смиренного Гергардта. Рист не уступал ему в рвении покаяния. В Цезене клокотал сатанинской силы вулкан. Гримаса скорби исказила свежий лик юного Биркена. Уйдя в себя, Шефлер и Чепко искали спасения в молитве. Издатели — а прежде всех обычно не унывающий кузнец начинаний и планов Мюльбен — чуяли близкий крах своего ремесла. Альберт припомнил стихи своего друга Даха:
Смотри, как жизнь проходит, Пока ты ждешь и пьешь. За пиром мор приходит, От смерти не уйдешь.До конца испив свое горе, стихотворцы принялись обвинять друг друга. Уличали особенно Гарсдёрфера — за то, что навязал им лиходея. Бухнер негодовал: любой прохвост, коли он за словом в карман не лезет и сыплет анекдотами, всегда может рассчитывать на расположение «Пегницких пастухов». Цезен укорил Даха: зачем дозволил приблудному охальнику держать речь в их узком кругу? Мошерош возразил: как бы там ни было, а расквартировал их он, этот негодник. Гофмансвальдау язвил: и тот, первый обман был штучкой злодейской, а ведь большинство поэтов только смеялось. Снова смотрел триумфатором Грифиус: ну о чем говорить! Во грехе погряз каждый. И никого на свете нет без вины. Как объединила их, людей разных сословий, печаль, так уравняет всех перед Господом смерть.
Дах воспротивился этому обвинению всех, слишком походившему на оправдание каждого: тут не о порче нравов речь. И не о том, чтобы найти виноватого. Но — об ответственности. А ее, прежде других, несет он сам. Он виноват более других. Во всяком случае, в Кёнигсберге он не сможет расписать их позор — его позор в первую очередь — как забавный анекдот. Но что делать теперь, не знает и он. Отбывший, к сожалению, Шюц прав: начатое дело надобно кончить. Бежать не годится.
Когда Гарсдёрфер принял всю вину на себя и сказал, что ему следует в наказание уехать, с ним никто не согласился. Бухнер заявил: его упреки вызваны раздражением, не более. Если уедет Гарсдёрфер, то и он, Бухнер, уедет.
Нельзя ли, предложил негоциант Шлегель, устроить тут что-то вроде суда чести, как это водится в ганзейских городах, и в присутствии Гельнгаузена обличить его злодеяние? Он, как человек со стороны, мог бы выступить судьей в этом деле.
«Да! Судить его», — раздались крики. Нельзя допустить, кричал Цезен, чтобы этот малый и дальше сидел тут с ними да без конца дерзил. Рист заявил, что в присутствии разбойника нельзя принимать мирное воззвание пиитов. А Бухнер добавил: кроме того, сколь ни нахватан мерзавец во всяком и разном, нельзя забывать, что он круглый профан и невежда.
Походило на то, будто суд чести устраивал всех. Но когда Логау спросил, в какое время должно будет огласить очевидный приговор — сразу же или в конце процедуры — и кто возьмет на себя миссию пойти к мушкетерам и позвать сюда Гельнгаузена, желающих не нашлось. Лауремберг крикнул было: «Пусть это сделает Грефлингер, он любит важничать!», но тут вдруг все заметили, что Грефлингера-то среди них и нет.
Шнойбер сразу же заподозрил: якшается, верно, с Гельнгаузеном. Цезен добавил: замышляют, надо полагать, еще какую-нибудь мерзость «супротив немецких пиитов». Однако Дах их оборвал: пересудов он терпеть не мог. Он сам пойдет и посмотрит. Одному еще подобает пригласить сюда Гельнгаузена.
Альберт и Гергардт не захотели его отпускать. И вообще дразнить в такой час пьяных имперцев — дело небезопасное, заметил Векерлин. Совет Мошероша — призвать на помощь хозяйку, — прикинув так и сяк, отклонили. Громогласную реплику Риста: «Судить негодяя заочно — и баста!» — парировал Гофмансвальдау: только через его труп. Такое судилище не для него.
И опять все не знали, что делать. Молча сидели за длинным столом. Один Грифиус продолжал дуть в свою развеселую дуду: единственное лекарство от жизни — смерть.
Наконец Дах прервал процессуальный спор: завтра еще до начала последних чтений он поговорит с полковым писарем. Потом он предложил нам всем, благословясь, отойти на покой.
17
Грефлингер — развеем сомнения на его счет — пошел ловить рыбу. Со сваи сукновальни бросил он сеть и закинул удочки в Эмс. Тем временем глубокий, никем не тревожимый, беспробудный и благословенный сон объял двух других юношей. Череда утомлений в минувшую ночь, которую провели они вместе с Грефлингером и при свете луны со служанками, достаточно их укачала, толкнув из объятий всеобщего уныния в объятья Морфея. Шефлер еще прежде Биркена нашел покой на чердачной соломе, а вот три служанки не обрели его и после того, как стали достоянием свободных от караула мушкетеров и конников. Их ночные игры на конюшне слышны были на другом конце двора, достигали они и окон на фасаде трактира. Может, разошедшиеся по своим комнатам издатели и авторы потому и подливали масла в огонь литературных споров, что силились заглушить пронзительные вопли.
Пауль Гергардт наконец уснул, защитив себя молитвами от громогласных вожделений плоти, — молитвами, которые долго оставались напрасными, но увенчались все же успехом. Сходным образом совладали с греховным гвалтом и Дах с Альбертом: в своей комнате, ничем не напоминавшей о Шюце, друзья до блаженной устали читали друг другу из Библии — Книгу Иова, разумеется…
Но угомонились не все. Кое-кто продолжал свои поиски чего-то — или ничего. Возможно, опять оказывала свое действие луна, приводя в движение весь дом, не давая успокоения. Ничуть не утратив вчерашней округлости, стояла она над Эмсхагеном. Мне бы выть на нее, лаять вместе с трактирными псами. Но я вместе со всеми разносил тезисы и антитезисы нашего спора по лестницам и коридорам. Опять, как не впервой уже, все началось с Риста и Цезена — с перебранки двух очистителей языка. Правописание, произношение, онемечение, неологизмы. С этого перепрыгнули на теологию — и заплутались в ее дебрях. Вопросы веры волновали всех. И никто не хотел отдавать без боя ни одно преимущество протестантизма. Каждый чувствовал себя ближе других к Господу. Никто не подпускал ветер сомнения к очагу своей веры. Вот разве Логау, кого (тайно) язвил дух свободы, все подзуживал непотребной иронией и лютеран, и кальвинистов: послушаешь вас, схоластов, в старонемецком или новоевангелическом духе, говорил он, так немедля захочешь бежать под сень папизма. Хорошо хоть Пауль Гергардт спал. А еще лучше, что старый Векерлин напомнил пиитам об их отложенном начинании — о политическом воззвании к миру.
В окончательном тексте должно отразить финансовые затруднения типографий — потребовали издатели; и авторов тоже — добавил Шнойбер. Надобно и простым горожанам, а не только высшим сословиям дать наконец возможность заказывать стихи на случай свадеб, крестин, похорон. Мошерош заметил: это справедливое притязание всякого христианина должно найти место в тексте мирного договора. Следовало бы, по его мнению, упорядочить в манифесте и гонорарный вопрос, установив таксу на вирши в зависимости от сословия и состояния заказчика, с тем чтобы можно было рифмой воздать по заслугам не токмо патрицию и дворянину, но и всякому бедняку.
Кончилось тем, что Мошерош, Рист и Гарсдёрфер сели за стол в комнате Гофмансвальдау и Грифиуса, в то время как все прочие, откупившись советами, разбрелись по своим кроватям. Покой медлил воцариться в доме, полном беспокойных гостей. Рядом с четырьмя сочинителями, бурно, точно борясь во сне с ангелом, спал уроженец Глогау — собственно, Грифа можно было числить среди авторов манифеста: даже его сонное бормотанье, выдававшее ход означенной борьбы, дарило составителям подчас иное меткое слово.
Когда же редакция, удовлетворенная если не новым вариантом текста, то хотя бы чистосердечием своих душевных затрат, разбрелась и каждый (выковыривая из головы репья застрявших фраз) пал на кровать, один Гарсдёрфер, деливший комнату с мирно почивавшим Эндтером, не мог сомкнуть глаз, и страдал он не только от назойливой луны в окошке. То одно, то другое лезло в голову, снова и снова. Хотел, чтоб заснуть, пересчитать овец, а вместо этого пересчитывал золотые пуговицы на Гельнгаузеновой безрукавке. Хотел встать, но продолжал лежать. Несся по коридорам, по лестнице, через двор — и не мог оторваться от пуховика. Что-то тянуло прочь и удерживало на месте. Гарсдёрферу хотелось отыскать Гельнгаузена, хотя он не знал зачем. Чувство, тащившее его через двор из постели, путалось между злостью на Штофеля и братской заботой о нем. Под конец Гарсдёрфер стал надеяться, что Гельнгаузен сам придет к нему и они вместе поплачут — над печальной судьбой, над неверным счастьем, над обманным блеском мира, над ничтожеством его…
Гельнгаузен, однако, плакался в это время хозяйке Либушке. Она, старуха, всегда остававшаяся для него молодкой, а для его излияний — бездонной бочкой и помойным ведром, она, нянька, наложница и пиявка в одном лице, держала его голову на коленях и все слушала, слушала. Опять попутал его бес. Все у него не как у людей. Вечно где-нибудь да споткнется. А ведь и в мыслях не было разбойничать: собирался только тихо-мирно купить кой-чего у монашек в цесфельдском монастыре Девы Марии, их-то он знал как облупленных — и длиннополыми, и голозадыми. Так нет, черт подослал ему под самые мушкеты этих шведов. Все, бранное ремесло пора ему оставлять. Испросить у Марса отставку да завести себе какой-нибудь спокойный гешефт. Ну хоть тот же трактир. Смогла ведь вот она из перелетной Кураж стать оседлой трактирщицей Либушкой. Уж у него и на примете кое-что есть. Тут неподалеку, под Оффенбургом. «Серебряная звезда» — так называется харчевня. Справится, чай, не хуже Кураж. Не лыком шит. Дело нехитрое. Вот и великий Шюц, вместо того чтобы всыпать ему по всей строгости, только отечески пожурил и советовал остепениться. Он, Штофель, в ноги ему повалился, испрашивая прощения, а тот, знаменитость, стал рассказывать ему о своем детстве в Вайсенфельсе на реке Заале: какой справный трактир «У Шюца» (то бишь «У Стрельца») держал там его отец. А под фонарем трактира стоял каменный осел, игравший на волынке. Вот такой осел сидит и в нем, Штофеле, рассмеялся Шюц да еще назвал его Простаком. А он возьми да спроси достопочтенного господина: считает ли он, что играющий на волынке осел, Простак тож, способен содержать справный трактир? «О, он способен не только на это!» — гласил ответ добряка.
Однако Либушка из богемских Брагодиц, которую (то нежно, то насмешливо) Штофель не уставал называть Кураж, думала почему-то, что шит он именно лыком, что от него — хозяина — толку будет как от козла молока, что под своим «не только на это» маэстро Саджиттарио подразумевал, конечно, растущие налоги да множащиеся долги. Черту Кураж подвела круто: для того чтобы заправлять трактиром и не остаться при этом внакладе, ему не хватает не только плотного зада, но и тонкой сметки, позволяющей отличить хвастуна-забулдыгу от добросовестного клиента. Тут уж молчавший доселе Гельнгаузен взорвался.
«Старая сквалыга! Собачье дерьмо! Шлюха! Погань вонючая!» — честил он ее. Обзывал пропащей каргою, сколотившей денежки срамным делом. С тех пор как Кураж подмяли рейтары Мансфельдовой конницы в Богемском лесу, она-де всегда готова на все услуги. Целые полки можно составить из тех, кто ее потоптал. Поскрести только ее французскую замазку — сразу станет видно, какая она потасканная стерва. Она, сухой чертополох, не сохранила за всю жизнь ни единого ребенка, а мертвого выродка своего пыталась приписать ему! Ну, он с ней еще поквитается, она еще попомнит его, дайте только срок. Вот бросит он службу да разживется немного на трактирном деле — и сразу возьмется за перо. Да, да! Все, все выльет он на бумагу, что накопил на своем веку, все станет подвластно его слогу — и тонкая мысль, и грубая шутка. И ужасы войны дадутся его перу, и чумное веселье, и продажная Кураж со всеми ее потрохами. Уж он-то знает про ее темные делишки с самого Зауэрбрунна — как наживала да куда девала ворованные деньги, все знает. А о чем смолчала Кураж, то он, зоркий Штофель, заметил сам, а чего не заметил сам, о том шепнул ему приятель Шпрингинсфельд: как вела она свою торговлишку под Мантуей, какое зелье сплавляла в своих бутылках, сколько брауншвейгцев через себя пропустила… Все, все ему ведомо! Почитай тридцать лет распутства да лихоборства — все это он распишет по всем правилам искусства, так, что останется надолго!
Речь эта Либушку рассмешила ужасно. Прямо сотрясаясь от смеха, она сначала вытолкала из постели Гельнгаузена, а потом выкатилась и сама. Как — он, простак Штофель, полковой писаришка, хочет сравняться в искусстве с высокоучеными господами, собравшимися под ее кровлей? Это он-то, кувшинное рыло, с его вечным дурацким осклабом, воображает, что достигнет словесной мощи господина Грифиуса и мудрого красноречия Иоганна Риста? Да ему ли соревноваться с находчивым и изящным острословием господ Гарсдёрфера и Мошероша? И он, неуч, не прошедший магистерскую школу слово- и стихосложения, станет тягаться в виртуозности с хитроумнейшим Логау? Ему ли, не верящему ни в Бога, ни в черта, дано будет превзойти божественные песни господина Гергардта? Ему ли, обозному оборванцу, конюху, простому солдату, только и выучившемуся, что грабить, жечь, обирать мертвых да еще вот — с недавних пор — кое-как водить пером по бумаге в полковой канцелярии, ему ли по зубам будут сонеты и духовные песни, потешные и остроумные сатиры, блестящие оды и элегии, а то и вовсе глубокие поучительные трактаты? Ему ли, простаку Штофелю, быть поэтом?
Смеялась Кураж недолго. Напоролась на противоречие прямо посреди фразы. Посреди издевательской фразы: мол, хотела бы она, Либушка, столбовая богемская дворянка, полюбоваться в напечатанном да переплетенном виде на то ослиное дерьмо, какое может выйти из-под пера голодранца Штофеля, — тут Гельнгаузен и ударил. Кулаком. Прямо в левый глаз. Она упала, кувырнувшись о какие-то сапоги и седла, коими тесно, как лавка старьевщика, была набита ее каморка, тут же вскочила и, нашарив рукой деревянную колотушку для сбивания пюре, поискала единственным уцелевшим глазом проходимца, ханыгу проклятого, хмыря болотного, аспида — но, увы, глаз ее не обнаружил ничего, кроме свалки, и с досады она долго, до устали била по пустому месту.
Гельнгаузен был уже за дверью. С плачем пробежал он через залитый лунным светом двор и, продравшись через можжевельник к берегу внешнего Эмса, нашел там плачущего же Гарсдёрфера. Томление бессонницы все же подняло поэта с постели. В сторонке, на сваях сукновальни, можно было разглядеть Грефлингера, удившего рыбу, но Гарсдёрфер туда не смотрел, не поднимал головы и Гельнгаузен.
Просидели на крутом берегу до утра. Говорили мало. Горе их было не из тех, каким можно поделиться. Ни упреков, ни раскаяния. Всю скорбь вобрала в себя река в красивом изгибе. Соловей ответствовал их печали. Может, бывалый Гарсдёрфер давал Штофелю наставления, как приобрести себе имя в поэзии. Может, Штофель уже тогда желал знать, равняться ли ему на испанских прозаиков. Может, проведенная на берегу Эмса ночь навеяла будущему поэту ту первую строчку — «Спеши, соловушка, уж ночь…», — которой начнется потом песнь шпессартского отшельника. Может, Гарсдёрфер загодя упреждал молодого коллегу держать ухо востро с выжигами-издателями. А может, в конце концов оба мирно заснули друг подле друга.
Встрепенулись, лишь когда обозначился день — криками да хлопаньем дверей в трактире. Там, где Эмс раздваивался, чтобы обнять Эмсхаген со стороны города и со стороны Текленбургской пустоши, качались на ветру поплавки. Бросив взгляд на сукновальню, я увидел, что Грефлингер свои снасти уже смотал.
На том берегу вставало за березами солнце. Прищурившись на него, Гарсдёрфер сказал: не исключено, что собрание будет судить Штофеля. Гельнгаузен ответил, что уже знает об этом.
18
Хоть и потертый вид был у трех служанок, когда они накрывали на стол, хоть и перекосило хозяйку Либушку, но утренняя похлебка удалась на славу. Да и грех было бы жаловаться — ведь намешано было в варево немало: и гусиные лапки, и поросячьи почки, и бараньи мозги (с увенчанной накануне головы) — остатки вчерашнего пира. А поскольку большинство приплелось в малую залу, пошатываясь от слабости, то похлебать горяченького было им сейчас даже целительнее, нежели утихомирить душевную тоску. О ней вспомнили прежде, чем все — от Альберта и Даха до Векерлина и Цезена — поработали ложкой.
Началось все — Биркен и еще кое-кто трудились над добавкой — с новых неприятностей: Векерлина обокрали. Из его комнаты исчез кожаный кошель с серебряными шиллингами. И хотя старец слышать не желал, будто это дело рук Грефлингера, высказанное Лаурембергом подозрение подкрепил Шнойбер: он видел, как сей вагант играл в кости с мушкетерами. Отягчал подозрение и тот неопровержимый факт, что Грефлингера с ними не было, — он же тем временем лежал в прибрежных кустах, отсыпаясь после утомительной ночной ловли, рядом с дохлыми уже и все еще трепещущими рыбами.
Дах, заметно досадуя на растущие неурядицы, обещал вскоре все выяснить, а пока что поручился за Грефлингера. Но вот что было делать со вчерашним бедствием? Куда деваться от эдакого ужаса? Можно ли теперь продолжать чтение рукописей как ни в чем не бывало? Разве не эхом пустой бочки будет отдавать любой стих после такой людоедской трапезы, как вчерашняя? Вправе ли собравшиеся поэты — вопреки столь ужасным открытиям: среди них находится, чего доброго, и вор! — по-прежнему полагать себя обществом почтенным, а тем паче со всею нравственною серьезностью готовить мирное воззвание?
«Разве не стали мы совиновны оттого, что слопали вчера разбойничью добычу?» — спросил Биркен. Свинство, не лезущее ни в какую сатиру, казнился Лауремберг. Могучие телеса Грифиуса, в которых еще бродило монастырское питие, изрыгали лишь нечленораздельный клекот. А Векерлин свидетельствовал: после такого разгула чревоугодия горько блюет даже обжорливый Лондон, сей ненасытный Молох. Цезен, Рист и Гергардт во все новых и новых метафорах провозглашали свое глубокое покаяние.
(Не оглашал никто того, что запряталось в складках мировой скорби личною кручиной: Гергардт, к примеру, опасался, что не видать ему теперь прихода как своих ушей; Мошерош боялся другого — что и друзья теперь не поверят в его мавританское происхождение, а станут громко поносить, обзывать жидом и побивать словами, аки каменьями; недавно утративший жену Векерлин шутками прикрывал свою глубокую печаль. Старик просто с ужасом думал о возвращении в пустой дом на Гардинерлейн, где немало лет прожито ими вместе. Скоро уж ему в отставку. Другой поэт, Мильтон, сменит его в свите Кромвеля. Страхи, страхи…)
И все же ночь не прошла для Симона Даха даром, он сумел собраться с духом и в передрягах. Выпрямившись, насколько позволял ему средний рост, он сказал: у каждого из них впереди предостаточно времени поразмыслить о здешнем прибавлении своих грехов. Утренний суп все хлебали с большим аппетитом, стало быть, дальнейшим ламентациям не должно быть места. Поскольку Гельнгаузена за столом не видно и вряд ли можно ожидать, что он, преодолев угрызения совести, явится на дальнейшие чтения, то нет и оснований для суда над ним, тем более что такой суд был бы самоуправным, даже, можно сказать, фарисейским. А так как он замечает одобрение на лице друга Риста, который важен сейчас не как поэт, а как пастор, и так как молчание Гергардта может означать лишь, что и сей смиренный и строгий христианин с ним согласен, то он хотел бы теперь — если Лауремберг перестанет наконец болтать со служанками — познакомить всех с распорядком дня и продолжить встречу, снова предоставив ее неистощимому попечению Господню.
Пошептавшись после этого с Альбертом — попросив его отыскать все еще досаждающего своим отсутствием Грефлингера, — Дах назвал последних поэтов, которым еще предстояло выступить: Чепко, Гофмансвальдау, Векерлина, Шнойбера. С места требовали, чтобы и он, Дах, к вящей радости всех, прочел наконец свою элегию, посвященную утрате Тыквенной хижины, однако председатель собрания, ссылаясь на нехватку времени, пожелал уклониться. Поскольку, однако, Шнойбер (побуждаемый к тому Мошерошем) отказался от выступления, то было решено заключить этим стихотворением всю программу, ибо требуемое Ристом и прочими обсуждение политического манифеста пиитов, их мирного воззвания — были готовы две новые редакции, — Дах хотел провести вне рамок профессионального собрания. Он сказал: «Торжище о войне и мире да не допустим мы на Парнас, на коем и без того дел нам довольно. Ибо не озаботимся оградой — мороз не пощадит наши посадки, и взращенное нами увянет, и останемся ни с чем, как библейский Иона».
Его озабоченность нашла отклик. Согласились обсудить и принять мирное воззвание между последним чтением и скромным (по общему требованию) обедом. После трапезы — хозяйка обещала, что все будет честно, то бишь жидко, — поэты должны были отправиться восвояси.
Наконец-то в хаосе прорезался план. Симон Дах, кормчий и кровельщик, опять доказал, что недаром носит свое имя-сень, и мы снова ожили, повеселели; посыпались даже шутки. Биркен разыгрался до того, что предложил на прощание увенчать Даха лавровым венком. Но тут Лауремберг спросил хозяйку, обо что это она стукнулась, нажив себе синяк, — не о кровать ли? — и все опять вспомнили о вчерашнем кошмаре.
Либушка долго упорствовала в молчании, но потом ее как прорвало. Нет, это не столбик кровати. Это мужская доблесть Гельнгаузена. Господа, верно, так и не поняли, какую злую шутку сыграл с ними этот отпетый негодяй. Чего бы ни намел он своим помелом, все это сплошное вранье — даже и то, в чем он повинился для вида перед Саджиттарио. Ни у какого шведа не отбивали фураж рейтары и мушкетеры Гельнгаузена — все сами добыли, своими руками, по локоть в крови, как и привык этот бравый трепач. Слава у него еще та! От Зоста до Фехты знают его зеленую безрукавку. Уж его-то не умолит никакая непорочная дева. В его руках заговорит и немой. Церковное серебро, кстати, да алтарные покровы, да вино — все это он оттяпал у потаскушек из монастыря в Цесфельде. Тут хоть и стоят кругом гессенские войска, да проныра вроде Гельнгаузена всюду пролезет. Так и вьется как вьюн меж лагерями. А верность хранит только своему собственному знамени. И ежели господин Гарсдёрфер все еще думает, будто папский нунций взаправду дал Штофелю книжку с бабьими пересудами, чтобы автор ее надписал, то она должна разочаровать его тщеславие: Гельнгаузен просто подкупил служку нунциатуры и тот выкрал для него экземпляр из библиотеки кардинала. А книжка-то даже и не разрезана. О, Гельнгаузен мастак и не на такие проделки. Сколько лет водит за нос и самых знатных господ. Уж она-то на собственной шкуре узнала, что он хуже любого черта!
Дах был так потрясен, что с трудом взял себя в руки и помог опомниться остальным. На Гарсдёрфера жалко было смотреть. Гнев омрачил даже обычно добродушного Чепко. Кабы Логау не отмахнулся шуткой: мол, что муж, что жена — одна сатана, того и гляди, вспыхнул бы новый диспут. Дах благодарно поддержал остроумца: покамест с них довольно! Не сейчас разбирать, где тут ложь, а где правда. Да отвратят они уши свои от новой свары. Да внемлют теперь только гласу искусства, которое да не оставят без своего призора.
Но тут Дах снова испытал досаду — Альберт ввел Грефлингера в малую залу. Он уж начал было осыпать упреками длинногривого бурша: что это тот себе позволяет? Куда запропастился? И не он ли это запустил руку в Векерлинов карман? Но тут Дах вместе со всеми увидел, что принес Грефлингер в двух ведрах: голавлей, плотву и прочую рыбу. Юноша, обвешанный сетью и леской, кои позаимствовал накануне у вдовы тельгтского рыбаря, был живописен. Удил он всю ночь. Даже в Дунае голавли не лучше. Да и плотва сойдет, коли поджарить ее как следует. Все это можно будет подать к обеду. А кто еще назовет его вором, с тем он поговорит по-свойски.
Желающих испробовать Грефлингеровы кулаки не нашлось. Честно добытая рыба кому не понравится. За Дахом они потянулись в большую залу, где рядом с пустым табуретом высился их символ — чертополох.
19
Сомнений больше не было. Все — даже Гергардт — стояли за то, чтобы продолжить свою литературную миссию во что бы то ни стало. Война научила их жить вопреки всему. Не только Дах, но и все остальные хотели довести начатое до конца: и Цезен, и Рист, как ни схлестывались они из-за пуристской чистки языка; и бюргеры, и дворяне, тем паче что под влиянием Даха жесткие сословные различия их совершенно затушевались; никто не хотел срывать встречу: ни незнакомец Шефлер, ни бездомный и случись-что-подозрительный Грефлингер, ни даже Шнойбер, искавший по наущению неприглашенного магистра Ромплера почвы для интриг, не говоря уж про стариков, Бухнера и Векерлина, — тем во всю их долгую жизнь ничего не было дороже поэзии; не стал белой вороной и Грифиус, как ни склонялся он к тому, чтобы в любом начинании видеть одно только тщетное усилие и морок. Никто не хотел бежать оттого лишь, что реальность в очередной раз заявила о своих правах, забрызгав искусство грязью.
Потому-то, быть может, составленный из стульев, табуретов и бочек полукруг даже не шевельнулся, когда — Чепко едва успел занять свое место между чертополохом и Симоном Дахом — через открытое окно в большую залу влез Гельнгаузен. Остренькая лисья бородка его торчала в оконном проеме; застряв на подоконнике, он, казалось, подпирал плечами лето за спиной. Поскольку собрание осталось недвижно, даже несколько, было видно, закоснело от своей решимости не менять позу, Дах нашел, что может дать Чепко знак начинать, — и силезец, намеренный читать стихи, уже набрал воздуху.
Тут — прежде чем зазвучал первый стих — раздался смиренно-насмешливый голос Гельнгаузена: он рад, что высокочтимые и достославные господа, сошедшиеся под эгидою Аполлона — и ныне, и в веках, — вновь приняли в свой круг его, беглого шпессартского простолюдина, вопреки вчерашней его выходке, удостоившейся сначала строго порицания, а затем христианского прощения со стороны господина Шюца. Ему, простаку Штофелю, эта милость бесценна, поелику дает возможность пополнить образование, обучаясь вносить строгий порядок в запутанность книжного знания. Таким образом просветясь, он желал бы — подобно тому, как вошел сейчас через окно, — войти в искусство и… если музы его не отвергнут — стать поэтом.
Все — терпение лопнуло. Сидел бы да помалкивал — куда бы ни шло. Содействовал бы своим смирением их великодушию — еще лучше. Но в дерзкой наглости ставить себя на одну доску с ними — нет, для странствующих бардов из Плодоносного, Откровенного, Пегницкого и Патриотического обществ это было чересчур. «Гнусный убийца! Мошенник!» — посыпалось со всех сторон. Рист кричал: «Папежский соглядатай!» Кто-то (Гергардт?) причитал: «Изыди, сатана, изыди!»
Все повскакали с мест и подступили к нему, размахивая кулаками, — впереди всех Лауремберг. Дошло бы, пожалуй, и до рукоприкладства, не овладей положением Дах — при поддержке Гарсдёрфера. Ровным, непоколебимо свойским тоном — «Ладно, ладно, будет вам, дети мои… Не принимайте все так близко к сердцу…» — он добился тишины и дал слово Играющему.
Гарсдёрфер тихо и доверительно спросил Гельнгаузена, признает ли он все те дополнительные прегрешения, в которых тут обвинила его Либушка. И перечислил эти обвинения, под конец и особенно постыдную для него аферу — кражу экземпляра «Женских досугов» из библиотеки папского нунция.
С подчеркнутым достоинством Гельнгаузен ответил: ему надоело выкручиваться. Да, да и да. Со своими рейтарами и мушкетерами он действовал сообразно времени — как сообразно времени поступают и собравшиеся здесь пииты, когда прославляют в своих поэмах князей, для коих сжечь и убить все одно что прочесть молитву, чьи грабежи хоть и превосходят многократно его, Гельнгаузеновы, зато происходят с папского благословения, для коих нарушить клятву все одно что поменять рубашку и чье раскаяние длится не дольше, чем звучит «Отче наш». Он же, оплеванный Штофель, давно уж раскаивается в том, что приютил столь отрешенное от житейских нужд общество, что защищал его со своими рейтарами и мушкетерами от всякого отребья и что, запятнав себя, добыл для них угощение — мясо, вино да сласти. Все это, как нетрудно было заметить, без всякой выгоды для себя, разве что в благодарность за некоторые полученные здесь уроки. Да, верно, ему хотелось порадовать пиитов сказочкой о том, будто собравшиеся в Мюнстере княжеские, королевские и императорские посланники распинаются в своем исключительном к ним почтении. И Гарсдёрфера, который обходился с ним до сих пор столь дружески и которого он любит всем сердцем как брата, он хотел осчастливить посредством маленькой выдумки, что и удалось, так как нюрнбержец, нетрудно было заметить, искренно порадовался пожеланию папского нунция получить от него автограф. И велика ли разница, в конце-то концов, на самом ли деле просил Киджи автограф, мог ли или должен ли был он просить его, или все это соблазнительной картинкой представилось воображению обвиняемого здесь Штофеля. Ежели в империи недостаточно — а так и есть! — чтят тех, у кого нет власти, то недостающее почтение необходимо достоверно изобразить самим. С каких это пор господа пииты так держатся за черствый хлеб сухой истины? Почему так нечувствительна их левая рука, когда правая привыкла в благозвучных рифмах мешать правду с фантазией? Разве пиитическая ложь только тогда обретает достоинство правды, когда напечатает ее издатель? Или, если поставить вопрос иначе, разве идущие в Мюнстере четвертый год торги землями и людьми ближе к действительности или вовсе к истине, нежели проводимый здесь, у врат Тельгте, обмен стихотворными размерами, словами, образами и созвучиями?
Речи Гельнгаузена внимали сначала отчужденно, потом кое-где подавляя улыбку, кивая, задумываясь, трезво взвешивая или попросту наслаждаясь, как Гофмансвальдау. Равнодушных, во всяком случае, не было. Все были обескуражены, и Даху это обстоятельство доставляло заметное удовольствие. С вызовом взглянув на примолкший полукруг, он спросил: есть ли желающие отповедовать сией дерзости?
Бухнер, перебрав латинские цитаты от Геродота до Плавта, кончил тем, что согласился со Штофелем: все как есть правда! Затем и Логау нашел, что пора бы на этом поставить точку: в конце концов они и сами знают, кто такие, — точное зеркало только дуракам потребно.
Тут уж не согласился Грефлингер: нет, то был глас не шута, но самого народа, оставшегося за стенами их собрания. Ему ли не понять Штофеля? Он тоже крестьянский сын и тоже немало покуролесил, прежде чем унюхать запах книжных страниц. Так что если выставят Штофеля, то и он уйдет.
Наконец и Гарсдёрфер молвил: одураченный таким образом, он хоть знает теперь, что писать о тщеславии. Пусть же останется с ними брат Гельнгаузен да оглоушит при случае еще какой-нибудь горькой правдой.
Но Штофель уже выпрямился в проеме окна для прощания: увы, Марс опять призывает его поусердствовать. В Мюнстере дано ему поручение, ради коего надо теперь скакать в Кёльн и дальше. Речь идет о весьма дорогостоящих секретах: город должен будет уплатить девятьсот тысяч талеров контрибуции, чтобы гессенцы освободили Цесфельд, швед — Фехту, а Оранский — Бевергерн. Эта война денег потребует еще немало. Он же обещает, не требуя платы: Штофель еще вернется! Наверняка! Пройдут, может, годы и годы, и еще годы, и поднакопит он знаний, искупается в Гарсдёрферовых источниках, да поучится ремеслу у Мошероша, да подглядит кое-что в ученых трактатах, но потом настанет день, и он вернется — живехоньким, но невредимым на страницах печатных книг! Не надобно только ждать от него кружевных пасторалей, пустых посмертных славословий, причудливых фигурных поэм, изящных душевных излияний или бодрой стряпни для церковного употребления. Нет, уж скорее он вспорет брюхо миру да выпустит наружу всю его вонь, да откроет в союзе с Хроносом великую войну слов и громкокипящего смеха, чтобы расковать язык, дать простор ему и разбег, чтобы стал язык таким, каков он есть в самой жизни: грубым и тихим, здоровым и недужным, удалым и меланхолическим. Он хочет писать! Клянется в том Юпитером, Меркурием и Аполлоном!
С тем Гельнгаузен и исчез из проема окна. Но, уже в саду, он открыл им еще одну, последнюю, правду. Достал из штанов кошелек и потряс им, огласив серебряное содержимое. Засмеялся и, прежде чем бросить кошелек через окно в большую залу, к самому чертополоху, сказал: «Да, вот тут еще находка. Кто-то из господ обронил свой кошелек в постели Кураж. И как ни весело им бывает подчас с хозяйкой трактира „У моста“, переплачивать за столь мизерное удовольствие все же не стоит».
Лишь после этого Гельнгаузен исчез, предоставив поэтов самим себе. Нам уже его не хватало. За окном — ничего, кроме хриплого крика мулов. У самого чертополоха лежал тугой кошелек. Старина Векерлин встал, с достоинством приблизился к нему, поднял и спокойно вернулся к своему стулу. Никто не засмеялся — еще не рассеялось впечатление от речи Гельнгаузена. Наконец Дах без перехода сказал: после того как все нашлось и прояснилось, надобно с усердием приступить к чтению рукописей, не то, как Штофель, сгинет и утро.
20
И мне было грустно глядеть на отъезд Кристофеля Гельнгаузена с его имперскими рейтарами и мушкетерами. Он опять был в зеленой безрукавке и шляпе с перьями. Ни одной оторванной пуговицы в наряде. Что бы ни случалось — с него все как с гуся вода.
А потому между ним и Либушкой и речи не могло быть о примирении. Недвижно смотрела она сквозь отворенную дверь харчевни, как сбиралось в путь его маленькое войско, как седлали лошадей, как запрягли умыкнутую в Эзеде повозку и (прихватив отлитого в бронзе мальчика-Аполлона) покинули постоялый двор «У моста» — впереди всех Гельнгаузен.
Поскольку я теперь знаю куда больше, чем могла даже подозревать посеревшая от злости Либушка, выглядывая из-за трактирной двери, то хочу сказать несколько слов в защиту Штофеля. Его «Кураж», напечатанная и распространенная четверть века спустя после безмолвного прощания с хозяйкой трактира «У моста» нюрнбергским издателем Фельсеккером, явится — даром что выйдет под псевдонимом: Филархус Гроссус фон Тромменгейм — поздним исполнением некогда данной им клятвы воздать ей по заслугам. Книга выйдет под длинным названием: «Простаку наперекор, сиречь Пространное и диковинное жизнеописание архиплутни и авантюристки Кураж». Автор напечатанного двумя годами ранее «Симплициссимуса» в новой своей книге дает слово для защиты от (и нападения на) самого себя и Кураж, а посему книга его стала бумажным памятником непоседливой и цепкой, бездетной, но предприимчивой, ветшающей и сварливой, снимающей проценты и с увядающей красоты своей, жалкой, но трогательной женщины, что была ежели в юбке, то охоча до мужчин, а ежели в штанах — то по-мужски отважна. Автор же всех прочих симплициад, назвавший себя Гансом Якобом Кристофелем фон Гриммельсгаузеном, предоставил Кураж, как сказано, довольно места и бумаги, дабы смачно ответствовать ему, Симплексу; ибо то, что сводило Гельнгаузена и Либушку как молоко и уксус, было особо сильным градусом любви — ненавистью.
Лишь когда отряд имперского полкового писаря, миновав мост через внешний Эмс, запылил по дороге на Варендорф (а дальше — на Кёльн) и скрылся из поля зрения Либушки, правая рука ее произвела что-то вроде помахивания, робкого жеста прощания. Я бы и на дорогу вышел помахать Штофелю, да никак нельзя мне было уйти теперь с последнего чтения пиитов в большой зале, где так величественно высился чертополох. Коли уж я всему был свидетель с самого начала, то и конец мне не хотелось бы упустить. Все, все на заметку!
Собранию больше ничто не мешало. Даниель фон Чепко, силезский юрист и советник герцогов Бригов, под внешней бесстрастностью коего еще со времен страсбургского студенчества полыхал тот мистический огонь, сплавляющий воедино человека и Бога, что зажжен был сапожником Бёме, итак, этот молчун и тихоня, другом которого мне хотелось бы быть, прочел несколько стихотворных сентенций, по форме (александрийские двустишия) напоминающих опыты Грифиуса и Логау. Сходным образом, впрочем, старался писать и юный Шефлер, хотя получалось у него еще сыровато, без последнего снятия торчащих противоречий. Поскольку бреславльский студент медицины, как выяснилось при последующем обсуждении, обнаружил у Чепко (хоть и несколько недоумевая) понимание того, что он назвал «началом конца и концом начала», и поскольку днем раньше Чепко (наряду с Шюцем) был единственным, кто в невнятице прочитанного Шефлером увидел немалый смысл, между ними возникло дружеское чувство, которое сумело отстоять себя и тогда, когда Шефлер превратился в католика Ангелуса Силезиуса и отдал в печать своего «Херувимского странника», в то время как главное произведение Чепко, сборник эпиграмм, издателя не нашло — или автор не пожелал их печатать.
И словно предвосхищая последующий неуспех двустиший Чепко, собравшиеся поэты и теперь встретили их прохладно. Видимо, пиитический голос его был слишком негромок. Явного одобрения удостоилось только одно политическое стихотворение, которое Чепко представил как фрагмент: «Отчизна — там, где чтут законность и свободу. Но этого всего мы не видали сроду»[19]. После Мошероша и Риста сочувственно отозвался о нем и коротышка Бухнер, усмотревший в скупых строках картину целого страждущего мира, изголодавшегося по гармонии; свои толкования он обильно уснащал цитатами из Августина, Эразма и себя самого. В конце концов речь магистра вызвала больше аплодисментов, чем стихотворение Чепко, послужившее для нее поводом. (Самодовольный, он продолжал вещать и после того, как чтец-автор слез с табурета под сенью чертополоха.)
После него это место занял некто нескладно-длинный, не знавший, куда деть ноги. Все были немало удивлены, что Гофман фон Гофмансвальдау, который до сих пор не опубликовал ни строчки и считался просто любителем литературы, тоже вызвался читать. Даже Грифиус, знавший состоятельного аристократа по годам совместного учения в Данциге и Лейдене — он-то, кстати, и побудил весьма ленивого поклонника муз взяться за перо, — даже Грифиус, казалось, был удивлен и напуган такой решимостью друга.
Не без изящества обыгрывая свое смущение, Гофмансвальдау принес извинения за ту дерзость, которая побудила-де его занять место между Дахом и чертополохом, но очень уж не терпится ему подвергнуть критике свои опыты. Вслед за тем он поразил собрание опытом, в жанре для Германии совершенно новом, восходящем к Овидию, а ныне существующем только в иноязычных пределах, — жанре героид. Предварением послужил рассказ «Любовь и жизненный путь Пьера Абеляра и Элоизы».
Речь идет о молодом и честолюбивом ученом, который не раз вынужден был скрываться от козней парижских профессоров в провинцию. В очередной раз вернувшись в Париж, он затмевает самого Ансельма, знаменитого писателя и богослова, становится любимцем города и по желанию некоего Фольбера начинает давать уроки его племяннице. Дело, однако, не ограничивается латынью: учитель влюбляется в ученицу, которая в свою очередь влюбляется в учителя. «Словом, неусердие их в одном с лихвой возмещалось усердием в другом…» Эти другие уроки длят они до тех пор, пока не овладевают в совершенстве «наукой нежных ласк», что вскоре и сказывается. Со своей беременной ученицей учитель отправляется к сестре в Бретань, где она разрешается от бремени сыном. Хотя юная мать вовсе не настаивает на браке, упорно заверяя, что «ей куда приятнее именоваться подругой его, нежели женою…», учитель, оставив ребенка у сестры, устраивает в Париже скромную свадьбу. Дядюшка Фольбер, однако, не желает признавать этот брак, и бедному супругу приходится прятать жену и ученицу в монастыре под Парижем. Фольбер, разгневанный исчезновением племянницы, подкупает слугу Абеляра, дабы тот «…в ночную пору отпер опочивальню своего господина неким лицам, нанятым для нападения на спящего и оскопления его…», что беспрепятственно и осуществляется.
Об утраченном инструменте нежных ласк и идет речь в двух последующих посланиях, выдержанных в утонченной Опицевой манере, благодаря коей и неслыханно ужасное излагается — александрийским стихом с перекрестными рифмами — со всевозможным изяществом:
Я положил забыть и горести и страсти, Шипов не ведал безрассудный путь. Как мог я знать, что жуткие напасти С ножом наточенным меня уж стерегут…Озабоченный более всего безупречностию формы, Гофмансвальдау с самого начала испросил дозволения — рифмы ради — называть ученицу Абеляра Элиссой; так вот, Элисса в своем письме к Абеляру пытается заглушить боль утраты оного инструмента возвышенностию чувств:
Пускай уста твои мне плоть воспламенили И чувственность мою бесстыдно разожгли, Но страсти все ж меня рассудка не лишили, И поцелуи дух мой выше вознесли…Сколь ни беспорочно было прочитанное в глазах пиитов с точки зрения искусства — Бухнер нашел, что это много превосходит Опица и даже Флеминга! — столь же неудобоваримой для некоторых из них оказалась мораль поэмы. Начал Рист — с вечного своего: кому это нужно? Какая в том польза? Его сердито поддержал Гергардт, углядевший в «суете пышных словес» одно лишь изукрашивание греха. Лауремберг побрюзжал на «ненатуральность рифмы». Юный Биркен выразил было недовольство натуралистичностью сюжета, но Грефлингер тут же оборвал его: может, он забыл, каким прибором обслуживал недавно девиц на соломе? Нет, ежели что и смущает его, Грефлингера, то вовсе не картины до и после экзекуции, а слишком уж гладкая манера письма. Жаль, Гельнгаузен смылся. Вот уж кто сумел бы найти слова голой и вопиющей правды и для ужасов кровавой резни, и для вынужденного отречения Элиссы.
Многие еще (но не Грифиус) вызвались посудачить о несчастном органе Абеляра, да Симон Дах остановил их: о пресловутом, но небесполезном инструменте сказано довольно. Его, Даха, эта история взяла за душу. Разве можно забыть хотя бы трогательный финал, когда возлюбленные соединяются в общей могиле, так что навсегда сплетаются их останки. Он, когда слушал это, не мог сдержать слез.
Гофмансвальдау с улыбкой внимал бурливому току речей, точно предвидел нападки. Изначальный наказ Даха — выступающий не отвечает на критику — стал правилом. Потому-то и Векерлин не парировал укусы остроумия, последовавшие за прочитанной им одой «Поцелуй».
Это стихотворение, как и прочие творения свои, старец создал почти тридцать лет тому назад, еще сравнительно молодым человеком. Вслед за тем он, поскольку в Штутгарте делать ему было решительно нечего, поступил на секретную службу к пфальцскому курфюрсту, потом, дабы оказывать Пфальцу еще более полезные услуги, перебрался в Англию. Ничего достойного внимания с тех пор не вышло из-под его пера, только сотни — с запрятанной в подтекст политикой — донесений Опицу, Никлассиусу, Оксеншерне… И все же игривые, местами наивно-беспомощные, задолго до поэтики Опица сложенные песенки Векерлина сохранили свежесть, тем более что при чтении старик своим швабским говорком ловко одолевал любые пороги, скрадывая скороспелость стиха и тривиальность рифмы: «Ах ты, золотко мое, ты сердеченько мое…»
Вначале Векерлин заметил, что, поскольку должность государственного вице-секретаря оставляет ему во время путешествий достаточные досуги, он хотел бы с усердием переработать пиитические грешки своей юности, возникшие еще в довоенную пору под очевидным влиянием французских образцов, дабы отпечатать их с необходимыми ныне орфографическими изменениями. Вообще же, слушая тут молодых, он чувствует себя каким-то ископаемым. Ведь и блаженной памяти Боберский Лебедь, и заслуженный Август Бухнер выпустили свои руководства к совершенствованию немецкой поэзии уже после того, как он оставил стихотворство.
Критику он воспринял как праздничное славословие. Потому что она ясно доказывала — он еще существует. Мы-то, молодые, привыкли считать его мертвецом. И были удивлены, обнаружив в предтече наших юных дерзаний еще столько бодрой прыти: залез ведь он в Либушкину постель, будто легкостопные оды были ему все еще подвластны.
Рист, терпеть не могший всякую любовную дребедень, Векерлина тем не менее уважил — за почтение к Опицу. Бухнер размахнулся широко и под конец призвал всех пройти его школу стиха, подобно Цезену и Гергардту, которые были его учениками в Виттенберге.
Настала пора поменять стул и Симону Даху; председательское же свое кресло он предложил старцу Векерлину. Длинный Дахов «Плач на окончательное разорение и гибель Музыкальной Тыквенной хижины и сада» предназначался для утешения друга его Альберта, чей сад на прегельском острове Ломзе был загублен щебнем и грязью во время строительства дороги. Протяженными александрийскими стихами описывалась идиллическая закладка гнезда, при коей плечом к плечу с органистом орудовал лопатой и его помощник, обычно раздувающий мехи и охочий до пива; описывались литературно-музыкальные празднества друзей — счастливо обретенная гармония на лоне природы. Где-то далеко грохочет война, там Голод, Чума, Пожарища, а ближе взглянуть — ссоры и свары бюргеров, вечная канцелярская канитель. Как Иона из библейской тыквенной хижины грозит грешной Ниневии гневом Господним, так Дах взывает к своему, из трех городов составленному Кёнигсбергу. Скорбь о разрушенном Магдебурге (где он в молодости учился) Дах вдохнул во всеобъемлющую печаль об истязающей себя Германии. За проклятием войне — «Легко из ножен нам достать военный меч — поди заставь его обратно в ножны лечь…» — следует пожелание скорейшего и пристойного мира: «Когда б к чужому горю мы свое клонили ухо, вкусили б сами милостей Святого Духа!..» Под конец своей жалобы Дах призывает друга своего Альберта делать все возможное, чтобы выстоять вопреки времени — «Мы выдержим напор, будь он сильней стократ…», — утверждает высокое предназначение Поэзии, которая переживет их тыквенный домик: «Когда и жизнь и дух твоей рукой ведут, стихи твои тебя переживут…»
Слушать эти стихи нам было отрадно — они словно лились из души каждого. Пускай теперь, когда господствовали война и разбой, нетерпимость в вере и любостяжание, мы были бессильны и в глазах сильных мира сего ничтожны, зато в будущем — чаяли победы поэзии, прозревали ее нетленное торжество. Эта маленькая, немного смешная претензия на бессмертие даже давала пиитам возможность аккуратно получать заказы. Догадываясь о том, что их собственное могущество преходяще, богатые бюргеры и князья надеялись посредством свадебных виршей, од и эпитафий, то есть на гребне в большинстве своем торопливо написанных стихов, поименно выплыть в вечность.
Симон Дах, пожалуй, чаще других зарабатывал на хлеб подобными стихотворениями. В кругу коллег, когда доводилось мериться гонорарами, он держал наготове горькую шутку: «И на свадьбе и на погребении все хотят мое услышать пение»[20]. Даже профессурой своей Дах был обязан исключительно одам, кои на скорую руку набросал в конце тридцатых годов на случай приезда в город курфюрста.
Поэтому-то прозвучавшая вослед многочисленным похвалам «Плачу по Тыквенной хижине» двусмысленная реплика Грифиуса — «Пока я стих пишу, ты накропал их сто — скорее тыква, знать, чем пышный лавр, растет» — содержала злокозненный намек на вынужденную чрезмерную плодовитость Даха. Когда затем и Рист, похвалив мораль ламентации, подверг сомнению мифологические уподобления (в частности, сожженного Магдебурга — Фивам, Коринфу, Карфагену) и излишне частые обращения к музе Мельпомене, ему, еще прежде Цезена, дал скорую отповедь Бухнер: никакое романское влияние таким стихам повредить не может. Здесь звучит живой немецкий глагол. А немногие античные персонажи возникают с необходимостью контрофорса в сей великолепной постройке.
С кресла Даха Векерлин провозгласил: лучшего завершения их собранию нельзя было и придумать. А Гарсдёрфер воскликнул: о, если б была на свете такая тыквенная хижина, которая могла бы приютить всех нас от бурь грозного века!
Сказанного было достаточно, чтобы похвалами заглушить обидный выпад Грифиуса. Улыбаясь (и с явным облегчением), Симон Дах встал с табурета рядом с чертополохом. Обнял Векерлина и отвел его на прежнее место. Походил потом между чертополохом и пустым табуретом. Наконец сказал: «Ну вот и все». Он рад, что все обошлось благополучно. За что благодарит от лица всех собравшихся Отца Небесного. Аминь. Несмотря на некоторые недоразумения, ему понравилась их встреча. За обедом, прежде чем они разъедутся в разные стороны, он еще сможет досказать то, что, верно, осталось недосказанным. Сейчас же ничего не приходит в голову. А теперь, ввиду явного нетерпения Риста и Мошероша, он принужден дать слово политике, то бишь многострадальному манифесту.
Засим Дах снова сел, пригласив к столу авторов мирного воззвания, и — так как вокруг Логау наметилась перепалка — призвал всех к порядку: «Не надо только ссориться, дети мои!»
21
«Нет!» — кричал он все время. И до того как перешли в большую залу, и после того как уселись вокруг чертополоха и Даха. И когда Рист с Мошерошем кончили читать проект манифеста, Логау снова крикнул: «Нет!» На все у него был один ответ. Нет — и все тут.
Все было ему не по нутру: и громоподобные проклятия Риста, и бюргерская мелочность страсбуржцев, и привычка Гофмансвальдау оплетать всякий конфликт кружевами, и великодержавные замашки Гарсдёрфера с его нажимом на все «неметцкое» и «Германию» в каждой фразе. Жалко, глупо, нелепо! — кричал Логау, отбросивший свой иронический лаконизм, накопивший достаточно раздражения для пространной речи, в коей он слово за словом сдирал шелуху манифеста.
Хрупкий, резко прочерченный на фоне стены человечек, он стоял сзади, меча острые, как лезвия, слова над головами собравшихся: много звону — да мало толку, правая не знает, что творит левая. То пускай швед убирается восвояси, то пусть всемилостивейше останется наблюдать за порядком. В одном месте высказано пожелание восстановить Пфальц, в другом — удостоить Баварию курфюршества, дабы ее задобрить. Правая рука присягает старому сословному порядку, левая проклинает унаследованный беспорядок. Лишь раздвоенный язык может в одной фразе требовать свободы вероисповеданий и угрожать искоренением всех сект. Авторы хоть и упоминают Германию так же часто, как паписты Деву Марию, но подразумевают всякий раз только часть ее. Немецкими добродетелями называются верность, усердие, скромность, но кто поистине во всей стране живет по-немецки, то бишь по-скотски, — а именно крестьянин, — тот даже не упомянут. В сварливом тоне говорится о мире, нетерпимо — о толерантности, сребростяжательно — о Боге. А где — в припадке немецкой высокопарности — восхваляется отечество, там попахивает местническим душком корыстолюбивых расчетов Нюрнберга, предусмотрительностью Саксонии, силезским страхом и страсбургской спесью. Все вместе выглядит жалко и глупо, потому что не продумано.
Речь Логау породила не смуту, но оцепенение. Оба манифеста, разнившиеся лишь стилистикой, пошли по рукам. Опять единственной очевидностью предстала пиитам их беспомощность и недостаточное знание политических сил. Ибо когда (против ожиданий) встал старый Векерлин, то все сразу почувствовали, что с ними заговорил человек не просто осведомленный в политике, но понаторевший в ее играх, вкусивший от власти, научившийся владеть ее весами с их неточными, стершимися от употребления гирями.
Говорил старец вовсе не поучающе, скорее подсмеиваясь над собственным тридцатилетним опытом. Говорил, прохаживаясь взад-вперед, будто повторял путь десятилетий. Говорил, обращаясь то к Даху, то к чертополоху, словно это и была вся его публика. Говорил и в открытое окно, где внимали ему два привязанных мула, то прикрывался намеками, то рубил напрямик, точно вспарывая большой мешок. Да мешок-то был пуст. Или с мусором. Тщетное усердие служанки. Перечень поражений. Как он, подобно покойному Опицу, состоял дипломатом на службе у разных лагерей. Как он, шваб, стал сперва агентом Пфальца в Англии, а поскольку без шведа все одно не обойтись, то и двойным агентом. И как он, таким вот образом лавируя, все же не достиг цели изощренного своего искусства: не склонил Англию вступиться военной силой за протестантское дело. Смеясь беззубым ртом, Векерлин проклинал английскую гражданскую войну и вечно веселый пфальцский двор, холодную твердость Оксеншерны и саксонское предательство, всех немцев целокупно, особливо же швабов: их скупость, их узость, их чистоплюйство, их лицемерное суесловие. Эта юношеская энергия ненависти ко всему швабскому в старце даже пугала, швабское отравляло в его глазах и растущий немецкий патриотизм.
Не пощадил он и самого себя, прямо назвав всех иреников умствующими дураками, лишь подливающими масла в огонь своими неуклюжими попытками потушить его. Ведь подобно тому, как он тщился вовлечь английские полки в немецкую войну за веру, так же и всюду чтимый Опиц, даже лежа на чумном одре, все еще пытался втянуть католическую Польшу в немецкую мясорубку. Будто, уже кричал Векерлин, мало чужеземных мясников поусердствовали на немецкой бойне — и швед, и француз, и испанцы с валлонами. Да не в коня добытый их усердием корм!
Под конец своей речи старику Векерлину пришлось сесть. Смеяться он уже был не в силах. Опустошенный, с отсутствующим взглядом, он уже не мог следить за происходящим, за тем, как прочие, громче всех Рист и Мошерош, все больше распаляясь, обращали свою ненависть ко всему чужому, негерманскому, в ненависть к своему родному, немецкому. Каждый выплескивал то, что накопилось и наболело. Гнев их походил на стихию. Разгораясь, как пламя, возбуждение сдернуло их со стульев, табуретов и бочек. Они били себя в грудь. Заламывали руки. Кричали друг другу: да где ж она, их Германия, где ее искать? Существует ли она вообще, и если да, то в каком образе?
Когда Гергардт в утешение вопрошавшим заявил, что им, избранникам, даровано будет не земное, но небесное отечество! — Грифиус выбрался из свалки и, поискав что-то глазами, ринулся к пустому табурету, схватил горшок с чертополохом, живую эмблему собрания, и мощно воздел его кверху, так что толпа раздалась при виде его угрожающей позы. Разъяренный дикарь, гигант, стенающий Моисей, он после нечленораздельных клокотаний проревел: вот сей чертополох, немой, колючий, носимый ветрами, пожираемый ослами, проклинаемый крестьянами, не растение, а исчадие Божьего гнева, — вот он-то и есть их отечество! С этими словами Грифиус грянул оземь чертополох-Германию, и горшок разбился вдребезги.
Такой эффект не удался бы никому другому. Он как нельзя лучше отвечал настроению собравшихся. Положение отечества нельзя было представить с большей наглядностью. Могло показаться, будто теперь-то мы наконец угомонились, по-немецки радуясь, что нашли удачное воплощение нашего горя. К тому же чертополох лежал невредимым среди земли и осколков. Смотрите, вскричал Цезен, наша родина способна пережить любое падение!
Все глядели на чудо. И лишь теперь, когда компанией завладела детская радость из-за того, что чертополох остался в целости, когда юный Биркен стал присыпать корешки землей, а Лауремберг побежал за водой, лишь теперь, когда собравшиеся утихомирились, но еще не успели заняться праздной болтовней, теперь только заговорил Симон Дах, рядом с которым встал и Даниель Чепко. Еще во время бурных дебатов и поисков утраченной, незримой или поросшей бурьяном родины оба деловито и прилежно занимались какой-то бумагой, которую перебелил Чепко, а Дах зачитал в качестве окончательного варианта манифеста.
Новый текст был свободен от громоподобных проклятий Риста. Никаких претензий на окончательную истину. Всего лишь просьба собравшихся поэтов ко всем приверженцам мира — внять озабоченности пусть бессильных, но все же обреченных бессмертию мучеников слова. Не называя французов или шведов разбойниками, не выпячивая баварское разорение, даже не упоминая ни одного из враждующих вероисповеданий, авторы текста обращали внимание на возможные опасности, подстерегающие дело мира в будущем: в долгожданный мирный договор могут вкрасться пассажи, из-за которых когда-нибудь вспыхнут новые войны; вожделенный религиозный мир при ущербе терпимости вновь поведет к неистовым распрям; при обновлении старого порядка, сколь оно ни желательно, любыми силами следует избежать того, чтобы возобновлялись старые несправедливости; и наконец патриотическая забота пиитов: империи грозит такое раздробление, что никто уже не признает в нем отечества, которое некогда называлось немецким.
Сие мирное воззвание в своей последней редакции кончалось упованием на милость Божию и без всяких споров было подписано — сначала Дахом и Чепко, потом и остальными, под конец и Логау, после чего подписавшиеся принялись радостно, с жаром обниматься, словно голос их уже был услышан. Наконец-то мы были уверены, что чего-то добились. И дабы придать деянию надлежащий ореол, Рист назвал историческим место, день и час подписания документа.
Впору было ударить в колокола, но зазвонил колокольчик на дверях большой залы, и не по столь важному поводу. Нас созывали к трапезе, на сей раз делала это не хозяйка, а Грефлингер, который подписал манифест последним, зато успел проследить за тем, как поджарили рыбу из его ночного улова.
Когда пииты гурьбою двинулись из большой залы в малую, никто уже не обращал внимание на уцелевший средь осколков чертополох. Все помыслы теперь были о рыбе. Запах ее звал, и мы последовали зову.
Симон Дах, что нес заветную бумагу с собой, должен был теперь продумать заключительные слова, сообразуясь с рыбным блюдом.
22
Мир не знал более благостной трапезы. Рыба как нельзя лучше соответствовала кротким речам, лившимся над длинным столом. Каждый обращался к каждому, говоря спокойно и тихо. Слушали друг друга, не перебивая.
Уже за молитвой, которую Дах напоследок поручил своему Альберту, кёнигсбергский органист задал тон напоминанием тех мест из Библии, в коих встречается рыбная ловля. После сего уже легко было нахваливать белую мякоть голавней, осторожно отделяемую и от румяной корки, и от скелета; но никто не брезговал и плотвой, что помельче и покостистее. Теперь было видно, как много всего — вместе с голавлями и плотвой также судаки, лини и молоденькая щука — зашло ночью в сеть Грефлингера и попалось на его удочки. Служанки все вносили и вносили рыбу на плоских блюдах, меж тем как хозяйка стояла, отвернувшись к окну.
Казалось, рыбины Грефлингера чудесным образом множатся сами собой. Нюрнбержцы — а прежде всех Биркен — уже тешились пасторальными рифмами. За ними и прочие пожелали, если не сразу же, то выждав, в минуту вдохновения, воздать рыбе поэтическую дань. И чистой воде тоже! — вскричал Лауремберг, который вместе с дружками зарекся когда-либо еще (да ни за что на свете, уверял Мошерош) налегать на темное пиво. На память им приходили легенды и сказки о заколдованных, сулящих счастье рыбах: сказание о говорящей камбале, например, что исполнила все желания алчной жены рыбака, кроме последнего. Общее благоволение и согласие все укреплялось. Прекрасен был жест Риста, пригласившего своего противника Цезена к себе в Ведель. (Я слышал, как Бухнер похвалил отсутствующего Шоттеля — за усердие в собирании слов.) Негоциант Шлегель собирал на блюдце серебряную и медную мелочь, чтобы отблагодарить служанок; давали все, даже смиренник Гергардт. Когда же старый Векерлин в учтивых выражениях стал просить хозяйку оторваться от окна и пожаловать к столу, дабы пииты могли засвидетельствовать ей — вопреки всему и после всего — свою признательность, все увидели, что стояла Либушка закутавшись в попону, словно и летом ей было зябко. Она ничего не слышала. Продолжала стоять, оборотив к ним ссутулившуюся спину. Кто-то высказал предположение: в мыслях своих она скачет, должно быть, по следам Штофеля.
Заговорили о нем и его зеленой безрукавке. Так как без сравнений обойтись не могли, то юную одинокую щуку уподобили сначала Гельнгаузену, потом приписали ее покровителю его Гарсдёрферу. Делились планами на будущее. Не только издатели — Мюльбен и Эндтер особенно — мечтали разжиться на будущем мире, авторы уже сочиняли или обдумывали тексты для праздничных игрищ во славу его заключения: Биркен держал в уме пространную аллегорию для Нюрнберга. Рист вслед за «Алчущей мира Германией» планировал выпустить «Ликующую о мире Германию», Гарсдёрфер не сомневался, что вольфенбюттельскому двору понадобятся либретто балетов и опер. (Согласится ли вот только Шюц оказать им честь своей великой музыкой?)
Хозяйка все еще являла им сгорбленную под попоной спину. После Бухнера напрасно пытался и Дах переместить Либушку, или Кураж, или на стороне прижитую дочь богемского графа Турна, или кто бы она ни была, за длинный стол к пиитам. Лишь когда одна из служанок (Эльзаба?), подавая на стол и по обыкновению болтая при этом, сообщила, что на холме близ Тельгте стали табором цыгане, так что городские ворота заперли, я увидел, как Либушка испуганно вздрогнула. Однако ж когда Симон Дах в заключительном, прощальном слове своем возблагодарил и Либушку, ее снова как будто не было с нами.
Он встал, с улыбкой окинул взором длинный стол с холмиками рыбьих скелетов, голых от головы до хвоста, взял в левую руку свернутый в трубочку и уже запечатанный манифест и заговорил, заметно волнуясь. Но потом, после того как, с трудом подбирая слова, Дах должным образом выразил печаль по поводу прощания с их дружеским союзом и неизбежного расставания, он, словно сбросив тяжкий груз, стал говорить легко и, скорее, так, будто легкостью речи хотел снизить значение их встречи, во всяком случае умалить торжественность ее. Он рад, что рыба Грефлингера как-то очистила их от скверны. Он не знает, удастся ли повторить встречу в обозримое время, хотя кое-кто требует уже сейчас назвать место и день ее. Не обошлось и без досадных неприятностей, конечно, но он не собирается на них задерживаться. Важно, что в целом замысел себя оправдал. Впредь каждый из них может чувствовать себя не столь одиноким. Кому же дома покажется слишком тесно, слишком хлопотно и горестно, слишком мишурно или бездомовно, тот да вспомянет уцелевший чертополох в трактире «У моста», что у тельгтских врат, где их немецкий язык даровал им и мирные дали, и блеск небосвода, и отечество, и все скорби мира. Ни один князь не сравнится с ними. Их богатства не купишь. Пусть даже захлестнет их ненависть черни, пусть побьют их камнями — и из-под груды их все равно протянется к миру рука, сжимающая перо. Только им одним на вечное хранение дано то, что можно назвать немецким: «Ибо пребудет в веках всякий стих, согласный с жизнью, друзья мои, — к сему устремимся, покуда отпущено нам краткое время земного бытия…»
Тут, посреди набиравшей силу речи Даха, сулившего бессмертие собравшимся пиитам, посреди фразы его о нетленном стихе и столь же непреходящем воззвании к миру — произнося ее, он потряс свитком, — раздался негромкий, но пронзительней любого крика голос хозяйки у окна: «Горим!»
Только после этого прибежали с криком служанки. Наконец и мы — Симон Дах стоял еще в такой позе, будто хотел довести речь до конца, — почуяли запах гари.
23
С заднего ската крыши, где покрывавший ее сухой камыш растрепался так, что бахромой свесился к окнам большой залы, огонь, взъярясь, вгрызся в продуваемый ветром чердак, одним порывом объял там соломенные тюки, солому, разостланную для спанья, связки хвороста и всякий хлам, запрыгал и побежал потом по косым балкам и стропилам, чтобы сверху пробить потолок помещений, обрушился горящими балками и бревнами в большую залу, овладел передним эркером, сбежал по лестнице вниз, захватил спешно покинутые, с открытыми дверями, комнаты по коридору, так что вскоре огненные снопы повалили из всех окон, дабы слиться с полыханием наверху в единой, ввысь устремленной пляске огненной стихии.
Такой эта картина предстала мне, возвышенному Цезену, сатанински мрачному Грифу, такой, хоть и каждый по-своему, увидели ее те, кто теперь поспешил с вещами вниз, во двор, и кому прежде уже доводилось видеть в пламени пожара Глогау, Виттенберг или Магдебург. Ни один засов не мог теперь ничего сдержать. Из сеней пламя перекинулось в малую залу, на кухню, в хозяйкину кладовку, в остальные нижние помещения. Огонь один поселился теперь в трактире «У моста»; посаженные с его подветренной стороны липы стояли как факелы. Несмотря на безветрие, искры сделали свое дело. Грефлингер с помощью Лауремберга и Мошероша едва успел вывести лошадей да выкатить оставшиеся повозки во двор, как занялась огнем и конюшня. Лауремберга при этом зашиб вороной, отчего он впоследствии хромал на правую ногу. Но его стоны и причитания никто не слушал, всем было не до него. И только я видел, как три служанки нагрузили мула узлами с бельем и с кухонной посудой. На другом муле сидела Либушка: повернувшись к пожару спиной, все еще в попоне, невозмутимо, будто ничего не случилось, с дворнягами, визжавшими у ее ног.
Биркен был безутешен: вместе со всей поклажей молодых людей на чердаке остался и его прилежный дневник. Издатель Эндтер лишился пачки книг, которые намеревался сбыть в Брауншвейге. «Манифест!» — вскрикнул Рист. Где он? У кого? Дах стоял с пустыми руками. Мирное воззвание немецких пиитов было забыто на длинном столе среди рыбьих костей. Логау, против всякого рассудка, рвался назад в малую залу: спасти манифест! — но был удержан Чепко. Так и осталось невысказанным то, чего все равно никто бы не услышал.
Когда же рухнул каркас трактирной крыши и во двор вместе с ним посыпались пылающие головни и искры, все скопище издателей и поэтов подхватило свои пожитки и устремилось к повозкам. О Лауремберге позаботился Шнойбер. Гарсдёрфер помог старцу Векерлину. Грифиуса и Цезена, которые как завороженные уставились на огонь, пришлось после напрасных уговоров оттаскивать силой — как пришлось тычками да пинками выводить из транса молящегося Гергардта.
В стороне от них Марта, Эльзаба, Мария погоняли обоих мулов — с поклажей и с восседающей Либушкой. Студиозусу Шефлеру Мария сказала, что путь они держат на холм, к табору. Похоже было, что будущий Силезиус тоже не прочь податься к цыганам. Он уж спрыгнул было с повозки, но Мария отделалась от него католической серебряной цепочкой с изображением тельгтской Божьей Матери. Не простившись и не оглянувшись, Либушка поскакала со своими служанками к внешнему Эмсу. Шавки ее — теперь было видно, что их четыре, — бежали следом.
Поэты же торопились домой. В трех повозках, целехоньки, добрались они до Оснабрюка, где и распрощались. Поодиночке или группами, как и приехали, отправились мы в обратный путь. Лауремберг задержался у пастора Риста залечивать ушибленную ногу. Гергардт доехал до Берлина вместе с Дахом и Альбертом. Без приключений вернулись домой силезцы. Нюрнбержцы не пожалели усилий на окольный путь, дабы выступить в Вольфенбюттеле. По дороге, в Кётене, с речью выступил Бухнер. Векерлин снова сел на корабль в Бремене. В Гамбург, с целью поселиться там, направился Грефлингер. А Мошерош, Цезен?
Никто не потерялся по дороге, все добрались до дома. Но в том веке собраться еще раз в Тельгте или где-нибудь в другом месте нам не пришлось. Я знаю, как недоставало нам дальнейших встреч. Знаю, кем я был тогда. Знаю много всего. Но вот кто предал огню трактир «У моста», не знаю. Не знаю…
ГОЛОВОРОЖДЕННЫЕ, или НЕМЦЫ ВЫМИРАЮТ 1980
Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus
1980
© И. Розанов, перевод на русский язык, 1997
ПОСВЯЩАЕТСЯ НИКОЛАСУ БОРНУ
1
Пробираясь пешком сквозь бесконечную череду велосипедистов, схожих осанкой и одеждой, посреди этой, напоминавшей густые джунгли, толпы, в Шанхае, в том самом городе, в котором живет одиннадцать из девятисот пятидесяти в массе своей чуждых нам китайцев, нас вдруг словно озарило: а если в дальнейшем в мире будет насчитываться девятьсот пятьдесят миллионов немцев, в то время как после переписи жителей обоих немецких государств выяснится, что количество китайцев с трудом достигает восьмидесяти миллионов. Исконно немецкая склонность к предварительным подсчетам тотчас заставила меня произвести некоторые вычисления, согласно которым составлявшие неотъемлемую часть немецкого народа свыше ста миллионов саксонцев и сто двадцать миллионов швабов должны были эмигрировать, чтобы, объединив усилия, предложить миру свои услуги.
Мы содрогнулись от страха посреди этой толпы велосипедистов. Можно ли придумать себе такое? И следует ли вообще придумывать такое? Можно ли вообще представить себе мир, населенный девятьюстами пятьюдесятью миллионами немцев, число которых даже при ограничении нормы прироста населения 1,2 % к 2000 году превысит один миллиард двести миллионов? Сможет ли мир вынести это? Или ему следует воспротивиться (но каким образом)? А может быть, ему следует смириться с таким количеством немцев (включая саксонцев и швабов), как он в настоящее время мирится с девятьюстами пятьюдесятью миллионами китайцев?
И какова могла быть наиболее реальная причина столь мощного демографического взрыва? В каких условиях, после какой окончательной победы немцы могли бы начать размножаться в таком кошмарном количестве? Что могло способствовать этому: упорядоченный образ жизни, онемечивание, культ матери или «Лебенсборн»?
Не желая больше путаться в умозаключениях, я успокоил себя мыслью: возрождение прусских традиций позволит так или иначе управлять миллиардом немцев, точно так же, как китайские чиновничьи традиции, несмотря на все революционные потрясения, гарантируют управляемость основной массы этого народа.
Затем Уте и мне пришлось вернуться в реальный мир и внимательно следить за передвижением велосипедистов. (Лишь с большим трудом мне удалось выдержать такое тяжкое испытание, как проход пешком сквозь вереницу немцев-велосипедистов. Мы вышли из него целыми и невредимыми, не попав под их колеса и счастливо избежав других инцидентов, которые, безусловно, произвели бы на нас самое гнетущее впечатление.) Но когда мы после продолжавшегося целый месяц путешествия по Китаю через Сингапур, Манилу и Каир вновь вернулись в Мюнхен, Гамбург и Берлин, то обнаружили, что в немецкой действительности возобладала противоположная тенденция: повсюду рассуждали и высказывали предположения на аналогичную тему, но на сей раз это было вызвано именно падением рождаемости.
Спорили о цифрах, стоявших позади запятой. Христианско-демократическая оппозиция обвиняла правительство в том, что оно препятствует нормальному размножению немцев. Дескать, из-за допущенного социал-либеральной коалицией развала экономики произошел упадок в производстве людей. И над немецким народом нависла угроза полного исчезновения. Только с помощью иностранцев удается пока удержаться на цифре в шестьдесят миллионов. Это позор. Ибо, если не учитывать иностранцев — что вполне естественно и даже как бы само собой разумеется, — то уже сейчас следует рассчитывать на сперва постепенный, а затем все более ускоряющийся процесс старения нации и наконец полное исчезновение немцев с лица земли, как, впрочем, с другой стороны нужно, исходя из предварительных статистических выкладок, считаться с тем, что население Китая до 2000 года увеличится на семьдесят миллионов.
Вполне возможно, что усилению этих страхов оппозиции способствовал тот самый официальный визит правительственной делегации КНР, который окончательно затянул ведущиеся в бундестаге и широких кругах общественности дебаты по проблеме падения рождаемости. Итак, опасения были высказаны открыто. А поскольку страхи в Германии всегда имели тенденцию к росту и размножались быстрее, чем китайцы, они сделались программой нагнетающих их политиков.
Немцы обречены на вымирание. Пространство без народа. Можно ли такое себе представить? Следует ли вообще такое себе представлять? Как выглядел бы мир без немцев? И не придется ли ему тогда возрождаться с помощью добродетелей, исконно присущих именно китайцам? Не лишит ли народы отсутствие немецкой приправы вкуса к жизни? И будет ли мир вообще иметь без нас смысл? Не придется ли ему придумывать новых немцев, включая саксонцев и швабов? Не окажутся ли вымершие немцы в ретроспективе понятнее, если их выставят в витринах на всеобщее обозрение: наконец-то их уже ничто не будет тревожить?
Далее возникает вопрос: разве это не поистине выдающееся деяние — добровольно отказаться от участия в исторических событиях, воздержаться от увеличения собственной численности и превратиться просто в учебное пособие для более молодых народов? Поскольку этим размышлениям и предположениям, видимо, суждена долгая жизнь, они сделались для меня темой нового произведения. Я только не решил, будет ли это книга или фильм? «Головорожденные» — так могла бы называться книга, или фильм, или и то и другое, и сослаться можно было бы на Зевса, из головы которого появилась на свет богиня Афина; что может быть в наши дни более противоестественно, чем беременные мужские головы?
Ранее я держал наготове другую тему. Посвященная ей рукопись составляла четырнадцать страниц, кроме того, был уже готов вариант на английском языке: «Две немецкие литературы» с возможным подзаголовком «Германия как литературоведческое понятие». Ибо мой тезис, который я собирался изложить в Пекине, Шанхае и еще целом ряде мест, гласил: общим для народов обоих немецких государств является только литература; для нее не существует границ, которые устанавливаются в ущерб ее развитию. Немцы не хотят или не должны знать об этом. Поэтому в политическом, идеологическом, экономическом и военном отношении они скорее враждуют, а не мирно соседствуют друг с другом, у них никак не получается безболезненно ощутить себя единой нацией, просто разделенной на два государства. Потому, что в них обоих возобладал именно материализм, их народы лишены возможности осознать себя культурной нацией. Помимо капитализма и коммунизма им ничего в голову не приходит. Они желают сравнивать только свои цены.
И лишь совсем недавно, с тех пор, как выяснилось, что норма прироста населения никак не желает увеличиваться и жизненные соки постепенно начинают иссякать, принялись искать позитивное содержание, то есть своего рода заменитель, призванный заполнить физический вакуум. Начали усиленно разгребать завалы в поисках духовных ценностей, которые, чтобы избежать чрезмерной интеллектуальной изощренности, следует назвать базовыми ценностями. Распродажа этики в конце сезона по сниженным ценам. Ежедневно на рынок поступает новая трактовка образа Христа. Доступ к культуре практически не ограничен. На лекциях, докладах, выставках яблоку негде упасть. Бесконечные театральные сезоны. Музыкой все уже несколько пресыщены. Словно утопающий за соломинку, обыватель хватается за книгу. Популярность писателей и в том, и в другом немецком государстве превысила предел, допустимый полицией одного из них, где бы очень хотели иметь такую же демоскопию, как у соседа; поэтам это внушает опасения.
Прибегнув к простым, даже упрощенным терминам, я собирался изложить историю сдвинутой по фазе немецкоязычной послевоенной литературы, написать о ее неуклюжей прямолинейности и мелкотемье.
Двумстам (из девятисот пятидесяти) миллионам китайцев я сказал в Пекине: «В 1945 году потерпели поражение не только вооруженные силы Германии. Были разрушены не только ее города и заводы. Был причинен гораздо больший ущерб: национал-социализм лишил немецкий язык его смысла, он коррумпировал его и превратил его семантические поля в пустыню. На этом израненном языке, таща за собой все причиненные ему увечья, писатели не столько писали, сколько издавали жалкий лепет. Они выглядели особенно беспомощными рядом с Томасом Манном, Брехтом и прочими титанами эмигрантской литературы; ведь по сравнению с ними даже творения великих классиков относятся к жанру невнятного бормотания».
И тогда один из немногих, получивших разрешение собираться вместе китайцев сказал: «Так обстоят у нас дела сегодня. Около десяти лет тому назад „банда четырех“ (он имел в виду „культурную революцию“) обманула нас. Ничего мы не знаем. Мы оказались в дураках. Все было запрещено — даже наша классическая литература. И язык они тоже изуродовали. Теперь кое-кто из писателей начал очень осторожно, говоря вашими словами, лепетать, рассказывая о том, что произошло на самом деле. Они также пишут на запрещенные ранее темы: о любви и так далее. Разумеется, без всяких описаний телесной близости. Здесь все еще строго придерживаемся прежних канонов. Вы же знаете, что нам разрешается жениться только в довольно зрелом возрасте. По вполне понятной причине: из-за роста населения. Нас ведь стало уже довольно много, не правда ли? А противозачаточные средства выдают только семейным парам. Никто пока еще не описал бедственного положения молодых людей. У них нет здесь места. Они не вправе его иметь».
Человеку в обычной для китайца синей одежде на вид было чуть больше тридцати лет. Немецкий язык он, несмотря ни на что, изучал во время «культурной революции» по учебникам, которые был вынужден маскировать, обертывая в идеологически выдержанные обложки. После низвержения «банды четырех» он получил возможность на год отправиться в Гейдельберг и довести свои познания до уровня жителей ФРГ.
«Нас, то есть наше поколение, — заявил он, — воистину превратили в дураков». — Сейчас он учитель, который желает продолжить свое образование. — «Теперь мы довольно много времени уделяем учебе. Тридцать восемь часов в неделю…»
Моя супружеская чета учителей — эти головорожденные — родом из Итцехое, окружного центра в Гольштайне, расположенном между Маршем и Геестом, где наблюдается тенденция к уменьшению числа жителей и увеличению ущерба, причиненного окружающей среде. Ему лет тридцать пять, ей на пару лет меньше. Родился он в Хадемаршене, где до сих пор живет его мать, она — в Кремпер-Марше, куда ее родители удалились, продав свой стариковский надел в Кремпе. Оба они ветераны студенческого движения, упорно анализирующие события тех лет. Познакомились они в Киле: во время акции протеста то ли против войны во Вьетнаме, то ли против деятельности концерна Шпрингера, то ли против того и другого. Пока я говорю — Киль. Но это вполне мог быть Гамбург, а возможно и Берлин. Десять лет тому назад они хотели «уничтожить то, что нас уничтожает». Во всяком случае, насилие они позволили себе применить против материальных предметов, и их культурная революция закончилась очень быстро. Поэтому изучение ими педагогики если и затянулось, то совсем ненадолго, и после непродолжительных метаний, выразившихся в смене партнеров в стенах общежитий, они смогли пожениться: для создания семьи благословение церкви вовсе не обязательно.
Это все было семь лет тому назад. Вот уж пять и, соответственно, четыре года оба они — государственные служащие. Сперва они вдвоем были референдарами[21], затем асессорами и вот теперь являются штудиенратами[22]. Два испытывающих друг к другу спокойные любовные чувства партнера. Образцовая пара. Супружеская чета, где партнеры настолько похожи, что их можно даже перепутать. Пара, словно сошедшая со страниц современной книги с картинками. У них есть кошка, но до сих пор нет детей.
И не потому, что не получается, но потому, что он, если она «наконец-то» хочет ребенка, говорит «пока не надо», и в свою очередь, если он выражает желание иметь ребенка — «Я могу себе это представить хотя бы теоретически» — произносит чуть ли не программную речь: «А я нет. Или уже нет. Нужно все учесть, если хочешь ответственно отнестись к этому делу. Какое будущее ты можешь предложить ребенку? У него же нет перспективы. Кроме того, детей и так слишком много. В Индии, Мексике, Египте, Китае. Посмотри на статистические данные».
Оба они преподают иностранные языки — он английский, она — французский — в школе имени императора Карла, коротко именуемой ШИК, а заодно еще и географию. Школа называется так потому, что Карл Великий в IX веке направил в Гольштайн карательную экспедицию, которая обосновалась примерно там, где ныне Итцехое делится на две части. И потому, что оба они с особым удовольствием преподают географию, они превосходно разбираются в проблеме прироста населения, а не только в реках, горных хребтах, строении почвы и залежах руды. Он солидаризуется с тезисом Маркса о законе капиталистического накопления путем присвоения прибавочной стоимости, она сыплет цифрами, рисует графики, приводит данные расчетов: «Вот здесь, прирост в Южной Америке. Повсюду три процента. В Мексике даже пять. Из-за них прогресс почти невозможен. А этот идиот Папа по-прежнему запрещает противозачаточные средства».
Сама она регулярно принимает их. Как правило, перед началом нового урока. Причуда или причудливая демонстрация ее рационализированного отказа. И поэтому «Головорожденных» вполне можно начать с кинокадров: во весь экран географическая карта индийского субконтинента; на ее фоне она с глубоким вырезом на груди, прикрывая собой наполовину Бенгальский залив и целиком всю Калькутту и Бангладеш, как бы машинально глотает таблетки, захлопывает книгу (очки она не носит) и говорит: «Мы исходим из того, что в федеративном государстве Индия программа контроля над рождаемостью в духе целенаправленного планирования семьи потерпела полный провал».
Теперь она могла бы задать ученикам вопрос о количестве населения и его переизбытке в таких штатах, как Бихар, Керала, Уттар-Прадеш, так, чтобы сам класс не появлялся в кадре: выраженное в цифрах бедственное положение Индии. Школьный предмет под названием «Нищета». Будущее.
Поэтому я сказал Фёлькеру Шлёндорфу, с которым Маргарет фон Тротта и я встретились сперва в Джакарте, а потом в Каире: «Если мы хотим сделать фильм, то должны снимать его в Индии, или на Яве, или — после того как я побывал там — в Китае, если, конечно, получим разрешение на съемку».
Ведь наша супружеская чета учителей должна была отправиться в путешествие подобно мне, Фёлькеру и Маргарет. И точно так же, как и мы, чувствовать себя там совершенно чужими и, истекая потом, сравнивать реальность со статистическими данными. Перелет из Итцехое в Бомбей. Разница во времени. Начатая книжка в ручной клади. Сведения, которые они успели собрать. Профилактические прививки. Заново ощущаемое чувство высокомерия: мы пришли, чтобы учить…
При этом сперва они почувствовали страх. Оба они (как мы в Шанхае) могли посреди Бомбея, где кишмя кишит народ, предаться размышлениям: миру вместо индусов следовало бы рассчитывать на появление семисот миллионов немцев. Однако эта промежуточная величина нам не подходит. По немецким меркам она недостаточно умозрительна. Мы или вымрем, или нас будет миллиард. Или — или.
Шлёндорфы и мы, исходя из профессиональных соображений, отправились в путешествие при посредничестве «Гёте». Несмотря на весьма плотную программу, нам так удобнее. Они демонстрируют свои фильмы, я читаю отрывки из моих книг, наша супружеская чета учителей намерена во время отпуска пополнить свой багаж знаний, поэтому путевку они покупают в фирме, предлагающей «ориентированные на реальность» программы туристических поездок. Как обстоят дела с «Гёте», я знаю; остается вспомнить туристическую компанию (и ее «супержесткую» программу). Мы всецело зависим от руководителей «Института Гёте»; наша супружеская чета учителей во всем должна полагаться на штатного руководителя группы, который знает буквально все: где купить статуэтки бога Ганеша или яванские куклы, что в Индии покачивание головой означает знак согласия, что можно есть и чего нельзя, сколько чаевых принято давать рикше, и можно ли, если путешествуешь вдвоем — разумеется, в сопровождении местного жителя — за хорошую плату осмотреть и сфотографировать трущобы.
Ни слова о руководителях «Института Гёте» и их сугубо личных неприятностях. О нашем штатном руководителе группы, который, узнав, что мы собираемся снять фильм, специально взялся изучать язык и историю Индии, можно сказать: у него лицо состарившегося ребенка. Выражение водянистых глаз свидетельствует о широком кругозоре. Нечто вроде Господа Бога в никелированных очках. К тому же у него обо всем двоякое мнение.
Как и у нас. С одной стороны, строительство атомных электростанций может привести к последствиям, опасность которых никак нельзя недооценивать; с другой стороны, только применение новейших технологий может обеспечить уже ставшее для нас привычным благополучие. С одной стороны, обработка почвы вручную позволяет восьмистам миллионам китайских крестьян получить работу и пищу; с другой стороны, увеличить урожайность с гектара можно только с помощью современной сельскохозяйственной техники, благодаря которой как с одной, так и с другой стороны свыше половины крестьян окажутся безработными, или их придется использовать для решения других — неизвестно еще каких — задач. С одной стороны, следует провести санацию трущоб в Бангкоке, Бомбее, Маниле и Каире; с другой стороны, трущобы тогда будут еще больше привлекать к себе покинувших деревни крестьян. С одной стороны — с другой стороны.
Вот и наша супружеская чета из Итцехое — это неподалеку от Брокдорфа — при осуществлении своих политических прав, в своей частной жизни и вообще настроены играть в столь любимую обществом в различных центрально-европейских странах игру «С одной стороны — с другой стороны». Она активно сотрудничает с СвДП; он снабжает местные организации СДПГ в прилегающих районах докладами на тему «Третий мир». И оба говорят: «С одной стороны, „зеленые“ совершенно правы, с другой — именно они приведут Штрауса к власти».
Такое просто в голове не укладывается. Ему не хватает перспективы, ей — смысла жизни вообще. Она целиком зависит от настроения, у него ближе к вечеру появляется ощущение зыбкости и ненадежности своего бытия. Она попрекает отца тем, что «он за бесценок продал их подворье крупной птицеферме», он намерен содержать на учительскую зарплату мать, которая осталась одна в Хадемаршене, и одновременно ищет, по его словам, «разумный выход», подыскивая такой дом для престарелых, где ей был бы обеспечен хороший уход. Она, твердо убежденная в том, что каждая женщина должна родить ребенка, с тех пор как индийский субконтинент начал тяготиться своим незримым присутствием на уроках географии, вновь взяла на себя обязательство не иметь детей. Он изрядно, а в конце недели особенно устающий от школьников, заявил недавно: «В нашей квартире в старом доме с окнами в сад вполне хватит места для троих, даже если мама переберется сюда».
Словом, им довольно нелегко. Тема ребенка постоянно присутствует в их разговорах. Отправляются ли они за покупками в супермаркет в Итцехое или же едут в потоке машин через плотину на Эльбе близ Брокдорфа, лежат ли на двойном надувном матрасе или ищут подержанный автомобиль — ребенок всегда дает о себе знать, она высматривает детские вещи, когда они окунаются в прорубь, просит, чтобы его для поддержания бодрости духа также облили холодной водой, и требует разрешить ему участвовать в гонках на детских автомобилях. Но все ограничивается «Было бы хорошо…» и «Ах, если бы…» — причем мать Харма сперва (в качестве эрзац-дитя) допускают в учительскую квартиру, а затем отправляют в дом для престарелых — до тех пор, пока ее однажды в полдень не шокировали слова одной из школьниц; именно это обстоятельство и заставило их сойти с заезженной колеи и сменить традиционную тему своих диалогов.
Когда преподаватель Дёрте Петерс на уроке географии диктовала своему классу 10 «а» в качестве программы борьбы с перенаселением перечень мер по планированию семьи, включавший в себя и профилактику беременности, и добровольную стерилизацию, одна из учениц (такая же светловолосая, как и Дёрте Петерс) внезапно вскочила с места и благодаря высказанному протесту стала еще красивее: «А что у нас делается? Никакого прироста населения. Немцев все меньше и меньше. Почему у них нет детей? Почему? В Индии, Мексике, Китае люди размножаются, как кролики. А мы, немцы, вымираем!»
Шлёндорф и я пока еще не знаем, как класс отнесется к этому обвинению. Может быть, столь бурное проявление чувств объясняется ситуацией в семье этой ученицы? Не лучше было бы, если один из учеников сделал резкий выпад в адрес иностранных рабочих, откровенно заявив:
«В Итцехое теперь пуповину перерезают почти одним турчанкам»? Или же ученицам и ученикам следовало обрушиться друг на друга с взаимными обвинениями?
Во всяком случае, утверждение «Немцы вымирают» (после недолгого, устрашающе быстро прервавшегося смеха класса) сеет тот непостижимый, даже преподавательнице гимназии Дёрте Петерс присущий страх, что в сочетании с другими страхами создаст ту гремучую смесь, которая в будущем году, когда намечены выборы, наполнит речи Франца-Йозефа Штрауса.
«Есть еще одно препятствие, — сказал я Шлёндорфу. — Если мы хотим приступить к съемкам в 80-м году, это можно будет сделать только в июле или в августе. Зимой, весной и осенью предвыборная кампания. Я не знаю, как ты это сделаешь. Но я не хочу быть просто зрителем. Слишком многим хотелось бы, чтобы мы потерпели неудачу, ибо это лишь подтвердило бы истинность их ничтожных устремлений».
В Пекинском университете и Шанхайском институте иностранных языков никто не спрашивал о планах воссоединения Германии, в осуществлении которых КНР могла бы сыграть определенную роль. Я также не знаю, вызвал ли мой совершенно не привлекший у нас внимания тезис о последней еще имеющейся у нас возможности объединения двух немецких государств интерес у китайских студентов и преподавателей. Я сказал: «Наши соседи как на Востоке, так и на Западе, познав горький опыт двух мировых войн, очагом которых стал центр Европы, никогда больше не допустят концентрации там экономической и военной мощи. Однако наши соседи с пониманием отнеслись бы к существованию обоих немецких государств, объединенных именно общими культурными ценностями. Это также соответствовало бы национальному сознанию немцев».
Еще одна иллюзия? Мечты литератора? Неужели же моя позиция, которую я отстаивал в Пекине, Шанхае, а затем еще в ряде мест с настойчивостью чудака-миссионера — воистину немецкие писатели в отличие от своих сепаратистски настроенных правителей оказались настоящими патриотами — была порождена лишь упорным стремлением, несмотря ни на что, отстоять свою правоту? Имея под рукой доказательства, почерпнутые из произведений Логау и Лессинга, Бирмана и Бёлля, я по наивности (возможно, даже в чем-то очень трогательной) предполагал у своих слушателей знание немецкой культуры в ее историческом развитии. (Даже оба моих учителя, которых звали Харм и Дёрте, небрежно отмахнулись, продемонстрировав, что они не в силах меня понять: «Дружище, — сказал Харм, — это ведь показывают только по третьей программе».
Вернувшись после долгого отсутствия домой, человек всегда узнает много нового и интересного. Когда мы вернулись домой из Азии, то выяснилось, что наряду с визитом китайской правительственной делегации и опасениями по поводу грядущего вымирания немцев умы волновали метания Баро между Востоком и Западом, ежевечерние демонстрации по телевидению проводимого в Камбодже геноцида, делающие зрителей как бы причастными к нему, а также натужные усилия устроителей завершившейся Франкфуртской книжной ярмарки. В течение последних тридцати лет, то есть за время существования рядом двух немецких государств, постоянно приходилось скрывать нацистское прошлое статс-секретаря Аденауэра Глобке, федерального канцлера Кизингера, премьер-министра одной из федеральных земель Филбингера, нынешнего председателя бундестага Карстена и автоматически прятать их личные дела; теперь же в еженедельнике «Цайт» под заголовком «Мы будем и дальше творить, пусть даже мир превратится в руины» была опубликована статья, относившая дату появления послевоенной немецкой литературы еще к временам нацизма и оспаривавшая традиционную точку зрения, согласно которой отсчет надлежало вести с 1945 года.
Эта статья вызвала бурную и надолго затянувшуюся полемику. Не подлежит сомнению незапятнанность репутации произведений послевоенной литературы, в особенности тех ее представителей, которые в период Третьего рейха не покинули Германию и публиковали свои сочинения в том вольере, в котором нацисты великодушно позволили им резвиться; но поскольку вызвавшие дискуссию тезисы были напичканы не вполне верными, то есть недостоверными, сведениями, призванными доказать близость некоторых писателей к различным нацистским инстанциям, здесь эта тема затрагивается лишь попутно. Однако пристальное внимание будет уделено уязвимым местам и оплошностям автора этой, вызвавшей столько споров, статьи.
Его назвали доносчиком. Его надлежало уничтожить, как настоящего врага. Роясь в холодном металлоломе, он обнаружил горячее железо и схватился за него, схватился при всех. Когда же на автора устроили самую настоящую охоту, он завилял и начал выписывать пируэты. Сколько ему еще удастся продержаться? Нарушение табу предполагает, согласно соответствующему обычаю, жестокую кару.
До тех пор, пока немцы — как преступники, так и жертвы, обвинители и обвиняемые, виновные и родившиеся затем невинные — буквально вгрызаются в свое прошлое, они судят о нем очень предвзято и хотят сохранить за собой право получить его. Ослепленные — и упорствующие в своих ошибках — они постоянно держат в памяти прошлое и не дают затишья ранам. Из-за этого время не может их исцелить, не может сгладить противоречия и хоть немного забыться.
Ко мне это также относится. Я словно привез с собой в багаже непреодоленное немецкое прошлое в Азию и доволок его до Пекина, а затем (за чаем и сладостями) расспрашивал китайских коллег, как они обошлись с теми писателями, которые на протяжении продолжавшейся двенадцать лет «культурной революции» выступали на стороне «банды четырех». В принятой здесь иносказательной манере мне ответили так: «В худшие годы литература была запрещена. Под ледяным ветром ничего не расцветало, и лишь одному-единственному автору, считавшемуся любимцем „банды четырех“, было позволено заполнить восемью своими произведениями полностью опустошенный репертуар Пекинской оперы. Да, он все еще вправе называть себя членом Союза писателей. Он останется им и тем временем уже написал свое девятое драматическое произведение. Оно столь же талантливо, как и предыдущие пьесы. Он очень одаренный драматург. С ним много и часто дискутируют».
Мы, вне зависимости от того, в каком из немецких государств живем, наверняка потребовали бы его исключения из Союза писателей. (Как вежливо заверили меня в Пекине, они просто не хотели повторять ошибки, совершенные «бандой четырех».) Какие и кем ранее совершенные ошибки повторяем мы?
Моя супружеская чета учителей из Итцехое, что на реке Штер, родилась после войны — он в сорок пятом, она в сорок восьмом. Его отец незадолго до капитуляции погиб в битве при Арденнах. Ее отец в начале сорок седьмого года вернулся из советского плена: преждевременно состарившийся молодой крестьянин. Так как ни Харм, ни Дёрте не знают, что такое фашизм, они очень легко бросаются этим термином. Это слово так и вертится на языке. И с легким шипением вырывается изо рта, когда нужно, к примеру, охарактеризовать кандидата.
— Нет, — говорит Харм, — он не фашист.
— Он этого сам не сознает, — отвечает Дёрте, — иначе бы он, услышав возражения, не выкрикивал: «Фашисты! Вы красные фашисты!»
Оба они сходятся на определении «латентный».
Вскоре они собираются паковать чемоданы. Легкие летние вещи из хлопка очень удобно носить в тропическую жару. Пока еще не сделаны последние прививки. Перед отъездом нужно посетить мать Хармса и родителей Дёрте и пристроить кому-нибудь кошку. Ведь Харм и Дёрте, с обоюдного согласия решив не обзаводиться пока ребенком и располагая достаточным количеством времени — летние каникулы продолжаются довольно долго даже для учителей, — собираются совершить поездку в Индию, Таиланд, Индонезию — или в Китай, если Шлёндорфу и мне разрешат проводить там съемки.
2
Спор продолжается. Я вмешиваюсь в него. Ведь он непосредственно касается меня. Называются очень важные для меня имена: Эйх и Хухель, Кеппен и Кестнер. Я не знаю, что побудило вышеуказанных лиц пойти на такой шаг. Я также не в состоянии дать оценку их поведению в период пребывания нацистов у власти (продолжать заниматься литературным творчеством и публиковать свои произведения), но могу предположить, что каждый из них соизмерил для себя (а Эйх и Хухель в споре друг с другом) свое поведение с судьбой тех писателей, которые покинули Германию, были доведены до самоубийства, а то и попросту убиты. Или же они позднее были вынуждены сравнивать себя с теми авторами, которые также остались в Германии, однако отказались воспользоваться устроенным для них хитроумными нацистами заповедником.
Я не хочу никого судить. Мне выпало сомнительное счастье родиться в 1927 году, и это обстоятельство запрещает выносить кому-либо приговор. Я был тогда еще слишком молод, чтобы выдержать серьезные испытания: в тринадцать лет я принял участие в устроенном издаваемым «гитлерюгендом» журнале «Хильф мит»[23] конкурсе на самый лучший рассказ. Я довольно рано начал писать и был одержим жаждой славы. Но так как я, очевидно, ошибся адресом и прислал на конкурс отрывок из своего рода мелодрамы из жизни кашубов, мне не суждено было получить ни премии «гитлерюгенда» вообще, ни премии журнала «Хильф мит» в частности.
Вот так я сумел выкрутиться. То есть я ничем не запятнал себя. Нет никаких уличающих меня конкретных фактов. Они возникают, когда меня начинает тревожить мысль, что я мог бы их датировать задним числом. И тогда я мысленно отношу начало своего жизненного пути на десять лет раньше, что такое десять лет: лишь шаг во времени. С помощью воображения я легко могу его сделать.
Итак, я родился в 1917 году. Значит, в 1933-м мне было бы не шесть, а шестнадцать лет, в начале войны соответственно не двенадцать, а двадцать два. Так как я немедленно стал военнообязанным, то подобно большинству юношей моего года рождения едва ли имел шанс уцелеть. Однако несмотря на вполне вероятную гибель на войне ничего (за исключением стремления выдавать желаемое за действительное) не препятствовало моей вполне осознанной эволюции в убежденного национал-социалиста. Как выходец из мелкобуржуазной, старающейся забыть о своих кашубских корнях семьи, я был воспитан в духе приверженности исконно немецким идеалам, считал соблюдение правил гигиены своим основным жизненным принципом, безусловно пришел бы в полный восторг от провозглашенных нацистами великодержавных целей и уж наверняка согласился бы с трактовкой субъективной несправедливости как объективного блага (хотя мой дядя Франц служил в польском почтовом отделении, данцигский отряд СС осенью 1939 года вполне мог на меня рассчитывать, я бы даже дал письменное обязательство).
Благодаря своему приданому — очевидному литературному таланту — я бы наверняка воспевал в песнях и стихах сперва события, связанные с памятными датами в истории «Движения» (приход к власти, праздник урожая, день рождения фюрера), а позднее сражения второй мировой войны; к тому же поэтика «гитлерюгенда» (см. творчество Алакера, Шираха, Баумана, Менцеля) позволяла буйное нагромождение слов в духе позднего экспрессионизма и различные словесные метафоры. Вполне можно представить себе написанные мной тексты, посвященные «утренним празднествам». Или же я — под влиянием обладавших тонким вкусом учителей немецкого языка — сделался бы кротким как ягненок, всем сердцем возлюбил бы природу и пошел бы по стопам Кароссы или же еще более смиренного и прекраснодушного Вильгельма Лемана: яркие краски лета, буйное многоцветье осени, неизменное желание поспеть за временами года. В любом случае, насколько я себя знаю, где и как бы мне ни довелось служить — на Атлантическом валу, в фиордах Осло, на овеянном мифами и легендами побережье Крита или же на подводной лодке (как уроженец портового города я пошел бы добровольцем), я, несомненно, искал бы и нашел издателя.
Вероятно, после Сталинграда у меня бы открылись глаза на свое бедственное положение. Наверное, тогда я уже был бы обер-лейтенантом и ефрейтором. Замешанный в расстрелах партизан, карательных акциях и «чистках», принявших воистину невиданные масштабы депортаций евреев, я как очевидец придал бы моему выдержанному в духе позднего экспрессионизма искусству стихосложения или умению красочно воспевать хвощи новые тона — скорбь, которая может охватить человека в любом месте, бессвязный набор слов, обилие непонятных изречений, многозначительность. Вероятно, к началу отступления у меня бы (в отличие от совпавшего по времени с периодом грандиозных побед начальной стадией моего творчества) уже получались так называемые «стихи для всех времен».
Этот литературный стиль, который в сорок четвертом пришелся бы по душе как издателю, так и цензуре, позволил бы мне с легкостью пережить (разумеется, если бы я остался жив) безоговорочную капитуляцию, мнимый час «Ч», возможно даже два года плена, и наполнить свое творчество новым, крайне скудным, бескалорийным, проникнутым демократическим и антифашистским духом содержанием; о том, как это происходило, известно из ста и более биографий.
Насколько я знаю, только Вольфганг Вейраух признал описанные в своей биографии факты достоверными. Я дополнил мое головорожденное создание: все правильно. Не было никакого краха. Для нас вовсе не наступил внезапно час «Ч». Переход из одного состояния в другое происходил довольно вяло. Ужас, вызванный масштабами тех преступлений, которые мы терпели, которым прямо или косвенно способствовали, но за которые в любом случае несем ответственность, охватил нас гораздо позднее, чем несколько лет после мнимого «часа Ч», когда вновь начался подъем. Этот ужас остался в наших сердцах.
Поэтому я вмешиваюсь в спор. Мы вновь все взвесили и обдумали. Имея за плечами демократический опыт, мы спокойно делимся своими соображениями. Слишком многое нам теперь понятно. Непреклонное стремление к власти и готовность пойти ради этого на любые злодеяния трактуются как проявление «витальности». Способность витального человека извергать потоки лжи и клеветы и в ярости выкрикивать оскорбления объяснялась исключительно его баварским темпераментом. Трусливое прятанье нами головы в песок мы называли выражением либеральных взглядов. Даже редакционные комнаты в радиостудиях приспособлены для внутренней эмиграции. Нужно только уехать куда-нибудь и вернуться домой: старое, вечно новое ощущение ужаса тут же проявится.
В поездку по странам Азии помимо текста лекции «Немецкие литературы» и своего романа «Палтус» я прихватил три листка записей на тему «Головорожденные». На всех стадиях поездки я постоянно зачитывал наиболее доступную для понимания главу из «Палтуса»: как Аманда Войке прививала жителям Пруссии любовь к картофелю. Придуманная в восемнадцатом столетии сказка и ныне актуальна в Азии, особенно в тех регионах, где наряду с традиционным разведением риса собираются засеять также мак и соевые бобы, однако эти планы терпят провал из-за упорного сопротивления крестьян до тех пор, пока китайская или яванская Аманда Войке…
Предназначенные для головорожденных записи я прочел только лишь во время полета в Азию и внес в них множество дополнений. Лишь теперь, по возвращении домой, когда я вновь оказался зажатым в узкие рамки немецкого жизненного уклада, записи выпали из папки: наша супружеская чета учителей из Итцехое — Дёрте и Харм Петерсы — отвергла мои возражения и контрпредложения. Они все еще готовятся к поездке.
Она хочет уделить все внимание Индии: «Иначе мы будем слишком разбрасываться и ничего толком не увидим».
Он желает непременно навестить на Бали своего старого школьного приятеля: «Интересно узнать, как он там существует. И потом нам нужно немного расслабиться. А кроме того, там, внизу, наверняка очень красиво. Природу они еще не погубили».
Она только в последний день школьных занятий уже после выдачи аттестатов (двое остались на второй год) познакомила класс со своими планами: «Впрочем, я собираюсь в научную командировку и помимо всего прочего в Индию. Может быть, осенью мне удастся дать вам более наглядное — я имею в виду собственные впечатления — представление о проблеме перенаселения».
Он хочет узнать у своего класса: «Мы недавно проходили Индонезию. Я с женой предполагаю посетить во время летних каникул Яву и Бали. На что мне следует обратить особое внимание? Что именно вас интересует?»
В ответ он слышит от одного из учеников: «Сколько стоят на Яве мотоциклы?»
И позднее в Джакарте Харм Петерс выясняет у китайского торговца стоимость «кавасаки» в рупиях, чтобы затем уже в конце фильма суметь (в педагогических целях) ответить своему ученику, которого ничего больше не интересует: он стоит столько-то и столько-то, в пересчете на марки получается столько-то и столько-то, для индонезийского рабочего, зарабатывающего всего лишь столько-то и столько-то, это составляет пять месячных зарплат, в то время как немецкий наемный работник…
В другом эпизоде член СДПГ Харм Петерс читает лекцию. Подробно рассказав о проблемах местного самоуправления, он (возможно, на фоне диапозитивных вставок) переходит к проблеме трущоб в крупных азиатских городах, причем со ссылкой на предстоящую поездку в Азию объявляет, что в следующей лекции «глубже вникнет в эту проблематику». Но как только Харм Петерс приглашает товарищей начать дискуссию, активист профсоюза металлистов сразу же высказывается на совершенно иную тему: «Я бы хотел еще раз вернуться к третьему пункту повестки дня. Установят нам когда-нибудь светофор возле реального училища или нет?»
На Петерса, требующего высказываться по теме своего доклада, со всех сторон обрушивается град упреков: «Товарищи, мы обсуждаем исключительно проблему стран „третьего мира“». — «Ну да, конечно. Но для нас главное — обеспечить безопасность школьников по дороге в школу. Это ведь тоже очень важно. Но тебе этого не понять, Харм. У тебя ведь нет детей!»
Здесь должна была бы последовать реакция на эту реплику: в прошлом году Дёрте, когда она, с одной стороны, хотела ребенка, а с другой стороны, не была готова дать «моему ребенку жизнь в этом, все больше и больше отравляемом радиацией мире», сделала аборт. Харм также требовал этого: «Только если ты сможешь всю себя посвятить ребенку и если пройдут выборы в ландтаг, вот тогда…»
Это и прочие обрушившиеся на мир бедствия они обсуждают на плотине, воздвигнутой на Эльбе между Холлереттерном и Брокдорфом. Они стоят на возвышенности прямо напротив окруженного стеной, изгородью, рогатками и тому подобными заимствованными у ГДР защитными устройствами строительного участка, который медленно увеличивается в размерах и после запрещения строительства атомной электростанции в Брокдорфе постепенно превращается в эдакое идиллическое место. Вскоре, однако, после слушания дела в Силезии и вынесения прямо противоположного приговора запрет был снят.
Харм говорит: «Это все отговорки, надуманные отговорки! То демографический взрыв в странах „третьего мира“, то предстоящие выборы в ландтаг, то моя мать, которая вообще не собирается переезжать к нам, а в самом крайнем случае проекты новых атомных электростанций или официальное разрешение на их дальнейшее строительство мешают нам здесь или где-либо еще дать жизнь нашему ребенку».
Но Дёрте также присущ этот переменчивый страх перед будущим: «Если уж у нас нет никаких перспектив, то как мы можем ребенка, я спрашиваю тебя, нашего ребенка…»
Харм впадает в цинизм: «Реакторы-размножители с быстрой реакцией предотвращают беременность! Такой кричащий заголовок вполне мог быть напечатан на первой полосе газеты „Бильд“. И кто позднее позаботится о нашей старости?»
— Но я не хочу! — кричит она.
— Потому что он нарушит твой комфорт! — кричит он.
Может быть, здесь Дёрте, невольно смеясь, соглашается: «Ну хорошо. Разумеется, мне не хочется расставаться с привычными удобствами. Но не только мне. В твоей жизненной концепции также нет места ребенку. Твое стремление к независимости, любовь к путешествиям и все такое прочее, так вот, всему этому ребенок, я хочу сказать, если он у нас появится…»
Харм стоит на плотине в позе священника в день Страшного суда. Однако он обращается с проповедью не столько к своей Дёрте, сколько к бредущим мимо овцам и коровам и плывущим по Эльбе крупноналивным танкерам: «Воистину, скажу я тебе! И твое священное право на самореализацию также в опасности! Разве мы, дорогая Дёрте, можем отправиться в поездку по странам Азии, о которой так долго мечтали, имея на шее маленького ребенка? Разве нам не следует спросить самих себя, позволяет ли наша программа, обещающая не только знакомство с обычными достопримечательностями, но и предполагающая познакомиться, я цитирую, с „зачастую очень жестокой реальностью Азиатского региона“, отправиться в поездку с очаровательным малышом, который станет для нас чем-то вроде ручной клади? Неужели Дёрте Петерс желает таскать своего ребенка по Индии, где и без того имеется много, даже чрезмерно много детей? И от каких болезней, если потребуется, мы должны будем сделать прививку нашему сынишке? От оспы, холеры, желтухи? Следует ли ему подобно нам за три недели до отъезда глотать противомалярийные таблетки или брать с собой стерилизованные консервированные продукты? И нужно ли нам брать с собой весь этот хлам — пятьдесят воздухонепроницаемых банок, коробки, пакеты, пеленки, стерилизатор, детские весы и что там еще поместится в багаж, чтобы наш сыночек…»
Теперь Дёрте по-настоящему и даже чересчур громко смеется. И тут же спонтанно меняет свое решение: «Но я хочу ребенка, хочу ребенка! Хочу быть беременной, хочу иметь большой круглый живот и глаза как у коровы. И говорить „му“. Ты слышишь! Говорить „му“. И на этот раз, мой дорогой Харм и отец моего столь желанного ребенка, никаких двух месяцев. Как только мы вылетим, ты слышишь — как только мы вылетим отсюда и эти недотепы из вашего „атомного концлагеря“ на той стороне окажутся под нами или за нами, я немедленно прекращаю принимать таблетки!»
Так звучат указания режиссера: оба смеются. Но поскольку камера останавливается на них, они не только смеются. Они хватают друг друга за руки, устраивают потасовку, а затем срывают друг с друга джинсы, чтобы, по словам Харма, «пофакаться» или, по словам Дёрте, «потрахаться» на плотине, среди коров и овец — открытые всем взорам люди под открытым небом. Однако лишь несколько имеющих в своем распоряжении бинокль и собак охранников участка все еще предполагаемого строительства атомной электростанции Брокдорф могут увидеть их. А также пилоты двух проходящих на бреющем полете реактивных истребителей. («Чертово НАТО!» — стонет Дёрте.) Вдали поток кораблей на Эльбе. Летние облака.
Вот что по этому поводу сказано в одной из моих насильственно увезенных в Азию и все же возвратившихся домой заметок: «Незадолго до высадки в Бомбее или Бангкоке — сразу же после завтрака — Дёрте принимает таблетку, и притворяющийся спящим Харм, видя это, покоряется судьбе».
Все происходит слишком быстро. Прежде чем дать им обоим возможность улететь, я бы хотел еще какое-то время мучиться сомнениями. Нет программы. Зато много, очень много проспектов туристических фирм. Ни один не годится на роль головорожденного. Исходя из названия, мне следовало бы выдумать проспект. Туристическая программа будущего. Ведь завтра такое уже вполне возможно: посещение туристами трущоб. Пресыщенные обычными достопримечательностями, мы хотим наконец увидеть то, что не изображено ни на одной почтовой открытке, а именно: то, от чего страдает мир, на что расходуются выплачиваемые нами налоги, как живут в трущобах люди — судя по фотографиям из проспекта, очевидно, довольно весело, несмотря на всю нищету.
Харм и Дёрте расценивают предложение туристической фирмы «Сизиф» (А почему Сизиф? Об этом я спрошу позднее) как «довольно бесчеловечное».
Она: «Слушай, они же циники».
Он: «Но хотя бы не обманывают».
Рекламный текст свидетельствует о стремлении идти пока еще нехожеными тропами. «Кто хочет скатить с горы камень, у кого есть силы увидеть и понять, что их в глубине души тревожит, кто не боится признавать пусть даже самые горькие факты…» Эти умело напечатанные на машинке слова предваряют скудную информацию о смертности младенцев в странах Юго-Восточной Азии, о плотности населения и доходах на его душу на острове Ява. Для своих туристов «Сизиф» специально вычислил, какова в той или иной местности нехватка протеина, а рядом (статистика обвиняет) привел данные о повышении цен на соевые бобы на Чикагской бирже.
— Ну ясное дело, — говорит Харм, — они поняли, что таким людям, как мы, нужна альтернативная программа. Мы хотим окунуться в реальную жизнь и не желаем, чтобы нас, как стадо скота, гоняли по полям больших городов. Здесь же черным по белому написано: «Увидеть Азию без прикрас».
После того как Дёрте сперва выразила свое возмущение тем, что они «хотят только деньги заработать», она сочла программу туристической поездки хорошо продуманной. «Достаточно обширный культурный раздел. Получаются самые настоящие каникулы».
Здесь я тоже не был исключением. И меня также обуревали смешанные чувства. Так, например, в свое время Уте и я также отправились в туристическую поездку без проспектов. По утрам мы посещали различные трущобы, в полдень отдыхали в снабженном кондиционерами отеле, во второй половине дня осматривали буддийские храмы, а вечерами (после моего обязательного доклада) за выпивкой и легкой закуской слушали сообщения нескольких экспертов о положении в расположенном в двухстах милях отсюда голодающем регионе, в который мы отправлялись на следующий день, прихватив с собой ощущение дистанции, умеренное чувство скромности и внимательно и увлеченно взирали на происходившее вокруг, не испытывая при этом никакого отвращения. Все почерпнутые из статистических справочников сведения я во время поездки отложил в сторону и объявил себя своего рода губкой, способной лишь впитывать и собирать. Я редко задавал вопросы, слушал, смотрел, нюхал и не делал никаких записей. Фотографии, возникшие как бы мимоходом и чисто случайно, позднее также не принимались во внимание. Мне было стыдно за свое бесстыдство. Теперь я хочу отправить Харма и Дёрте Петерсов по нашему маршруту, однако они возражают. Они вовсе не желают откладывать в сторону собранные ими ранее сведения. Они рассматривают все это как чрезмерное требование. Пока еще им трудно заставить себя отправиться в поездку по намеченной мной смешанной программе. Им стыдно. Но так как им не хочется оказаться в роли обычных туристов, а хочется, по словам обоих, быть уверенными в «правильности своих объективных суждений», они — Дёрте первая — подписывают контракт с туристической фирмой «Сизиф» и напряженно ожидают начала поездки.
Пока я еще не знаю, как отразить в фильме, где все должно быть сказано четко и недвусмысленно, мои раздумья и отговорки. И даже когда они оба подписали контракт, заказали билеты на самолет и выбрали предложенный мной маршрут, я все-таки еще воздерживаюсь от принятия окончательного решения. Сперва я должен поговорить со Шлёндорфом. Одни лишь кошмарные впечатления и перемена места — какие же могут быть еще у Харма и Дёрте побудительные мотивы? Помимо споров, заканчивающихся то желанием, то отказом завести ребенка, их обоих ничего не волнует. Но во всяком случае побудительным мотивом может стать желание Харма навестить на Бали своего школьного друга по имени Уве.
Ведь в Итцехое живет сестра Уве, которую зовут Моника. Она (а вовсе не мать Харма в Хадемаршене) забирает под свою опеку кошку. Она, перебирая груду писем, находит адрес брата. Она: «Последний раз он прислал весточку два года тому назад. И написал: „У меня все отлично. Только очень хочется простой грубой пищи…“» И Моника Штеппун — ее муж работает печатником в типографии «Грунер и Яр» — напоминает Харму о прожорливости его школьного приятеля. «Ты наверняка запомнил, как Уве в Брунсбюттеле, покатавшись на велосипеде, запросто умял пять порций студня с жареной картошкой…»
Итак, Харм покупает в мясной лавке в Итцехое килограмм ливерной колбасы домашнего копчения, готовясь к новым климатическим условиям, он просит положить колбасу в целлофановый пакет и заклеить его. «Я уверен, — говорит он Дёрте, — что Уве очень обрадуется. Ведь в нижних широтах нет ничего подобного. А я до сих пор помню, с каким удовольствием он жрал натощак ливерную колбасу».
Целлофановый пакет позднее занимает место в ручной клади. О школьном приятеле помимо сведений о его спортивных успехах (гандбол) известно, что он сперва в Сингапуре, а затем в Джакарте несколько лет исполнял обязанности представителя то ли фирмы «Хехст», то ли концерна «Сименс» и будто бы разбогател — «Он всегда был толковым парнем», — говорит его сестра, — а затем, по слухам, вышел на пенсию и перебрался на Бали.
Свою серую с белыми лапками кошку Харм и Дёрте относят в корзине к Штеппунам. Эрих, муж Моники, относится к своему неустанно разъезжавшему по свету шурину без особого почтения: «Он очень ненадежный человек. И я понятия не имею, какие у него политические убеждения».
Харм в полном восторге от своей покупки: «Ты только представь себе, какие он сделает глаза, когда мы появимся у него на пороге и предложим отведать колбасы. Надеюсь, он не поменял адреса». (У четы Штеппунов также нет детей, и поэтому они очень рады появлению в их доме кошки.)
Должен признаться, что идея покупки ливерной колбасы (как одного возможного второстепенного побудительного мотива) связана с эпизодом из моей биографии. Незадолго до нашего отлета посол ФРГ в Пекине передал нам, что ему очень хотелось бы отведать грубой ливерной колбасы домашнего копчения. Поэтому мы просим нашего деревенского мясника в Вевельсфлете, Келлера-младшего заклеить целлофановый пакет с двумя батонами копченой, в плотной оболочке колбасы, размешаем это гольштейнское изделие среди ручной клади и вылетаем в Китайскую Народную Республику. Поскольку посол Эрвин Викерт в начале 80-х был отправлен на пенсию и не занимал больше никаких дипломатических постов, я могу откровенно говорить об этом.
Итак, ливерная колбаса не порождение моей фантазии, но вполне реальный факт. И знаток Китая и писатель Викерт обрадовался ей вовсе не потому, что этого требовал дипломатический протокол, но вполне искренне. Суровый, дисциплинированный человек, умевший построить в шеренгу даже собственные страсти. Он был воспитан в прусских традициях, придерживался консервативных взглядов, и мне после ночного разговора о присущем китайцам образе мыслей и привычке немцев выносить слишком категорические оценки удалось привлечь его к участию в предстоящей избирательной кампании. Разумеется, заявил он, от него вряд ли стоит ожидать восторженного отношения к проекту создания комплексных школ или предоставления рабочим права на участие в управлении производством, однако он хотел бы соизмерить внешнеполитические проспекты кандидата на должность канцлера со своими китайскими идеалами. Дескать, этот авантюрист не должен занимать пост канцлера.
Может быть, следовало для примера аккуратности и щепетильности возродить некоторые прусские добродетели, которые можно было бы также назвать китайскими добродетелями: ведь когда мы вернулись из Азии, посол Викерт (на бланке с указанием всех своих звучных титулов) уже успел отблагодарить мясника Келлера за его смачную копченую ливерную колбасу; точно так же, как и я, в свою очередь, отблагодарил его за идею, позволившую придать сюжету некую динамику: итак, она, то есть колбаса, вылетает вместе с Хармом и Дёрте Петерсами в юго-восточном направлении. Туристическую группу, в состав которой они оба входят, ожидает ее руководитель, сотрудник туристической группы «Сизиф» некто д-р Конрад Вентин.
Нужен ли этот персонаж и как его следует назвать? Не уместно ли здесь в соответствии с законами такого жанра, как кино, придумать нечто иное, не имеющее отношения к разговорам на тему «Давай заведем ребенка — Нет, давай не будем заводить ребенка»? И не нужно ли предусмотреть и такой вариант, когда между этим Вентином и нашим человеком на Бали, школьным приятелем Харма, увы — вне всякой связи с доставленной на остров самолетом ливерной колбасой — вроде как бы случайно, а на самом деле в соответствии с пришедшей в голову новой идеей — установится взаимодействие и это в конце концов создаст новую сюжетную линию?
Я попытаюсь помешать этому, хотя Харм Петерс, которого книги мало интересуют, и если он и читает что-то, то запоем детективы, склонен к сумбурным размышлениям и любит выдвигать самые невероятные предположения. (Он уже теперь предполагает, что длина колбасы превышает ее вес). Я также не хочу скрывать, что Фёлькер Шлёндорф, которому я рекомендовал роман Вики Баум «Любовь и смерть на Бали», недавно подарил мне «Контрабанду оружия» Эрика Эмблера; теперь этот английский оригинал триллера, действие которого происходит в Гонконге, Маниле, Сингапуре и на Суматре, занимает место в дорожном багаже Харма.
Я уже начинаю замечать, что писать сценарий фильма — весьма увлекательное занятие. Ведь здесь такое обилие материала. Одна вставка порождает другую. Все в итоге сводится к «экшн». Постоянно делать так, чтобы кадры говорили сами за себя. В мыслях постоянно присутствует монтажный столик. Язык образов. Нагромождение отдельных сюжетов. При этом я хотел все же предаться размышлениям на совершенно иную тему и вернуться к тем мыслям, которые впервые посетили Уте и меня посреди Шанхая, сделавшись своего рода епифанией, когда девятьсот пятьдесят миллионов китайцев обернулись миллиардом немцев, которые, будучи разделенными, стремятся обрести национальное самосознание: они отнюдь не на велосипедах, но все сплошь моторизованы.
Мысль о том, что количество беспокойных немцев увеличится с восьмидесяти до миллиарда, внушает определенную тревогу. Ведь среди них соответственно окажется множество саксонцев и швабов. Что это, как не прирост населения? Это приводит в трепет и настраивает на эпический лад. Это вызывает опасения. Что делает их такими беспокойными? Что они ищут? Бога? Абсолютное число? Смысл в самом смысле? Или они хотят обрести гарантию от пустоты и забвения?
Они хотят наконец познать самих себя. Они с угрозой и вместе с тем с надеждой на помощь спрашивают своих испуганных соседей, которые по сравнению с невероятным количеством немцев превратились в малые народы: Кто мы? Откуда мы родом? Что делает нас немцами? И что такое, черт возьми, Германия?
Так как немцы, даже увеличившись до миллиарда, по-прежнему очень обстоятельны, они создают многочисленные комиссии по розыску национального самосознания, которые занимаются глубинными изысканиями. Только представить себе, какое количество бумаги при этом расходуется, какие вызванные распределением полномочий споры возникают между отдельными федеральными и земельными ведомствами. Одержимые лишь стремлением добиться идеальной организации своего проекта, они забыли о подлинной цели.
Настал мой час. Теперь я беру слово. Но мое давнее, внесенное еще до наступившей епифании предложение при всем присущем немцам разнообразии осознать себя связанными общей культурой встречает понимание только у маргиналов. Тезисы мои как полностью, так и их отдельные аспекты обсуждались вначале только представителями творческих меньшинств — из общего числа в два с половиной миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч составляли писатели. Что такое культура? Все ли является культурой? Можно ли считать гигиену физической культурой? И какова именно должна быть доля культуры в валовом социальном продукте?
Однако следовало ожидать, что вскоре объединения, представляющие гораздо большие общественные группы, не только церковь и профсоюзы, принадлежавшие частным лицам и обобществленные отрасли промышленности, но также примерно равные по численности, насчитывающие около восемнадцати миллионов человек армейские соединения обоих немецких государств начинают воспринимать себя как носителей культуры, а солдаты и офицеры элитных подразделений даже как творческих личностей. Они хотят стать символом нации. На их долю выпадает выполнить почетное, имеющее глубокий смысл задание: ведь где мы окажемся, если проблемы национального самосознания будут решать только певцы, актеры, музыканты и писатели, то есть на редкость плохо поддающийся организации народец. Я слышу выкрики: «Эти лица свободных профессий! Эти люмпены! Лунатики! С их вечными выходками. Пусть только не делают вид, будто культуру им отдали в вечное пользование. И если ныне в нашем обществе более-менее широкой демократии что-либо играет определенную роль, то это, конечно, как внутренние, так и адекватные досугу субкультуры, субсидируемая основополагающая культура — понятно! — а уж никак не эта элитарная дерьмовая надстройка». Таким образом мой замысел, который, должен признаться, был скроен только на восемьдесят миллионов немцев, потерпел полный провал. Мне не остается ничего другого, кроме как предоставить миллиарду немцев возможность и далее пребывать в состоянии беспокойства и продолжать беспокойный процесс обретения самих себя. Распевая частично лихие, частично тоскливые песни, огромная масса немецкого народа растворяется в море случайностей.
Все-таки у меня остаются Харм и Дёрте. С ними все ясно. Их проблема как головорожденных для меня вполне разрешима. Теперь, перед посадкой она, вопреки клятвенному заверению: Я хочу ребенка — принимает таблетку: Нет, я не хочу ребенка! — И теперь, наконец, они приземляются в Бомбее с килограммом немецкой ливерной колбасы в ручной клади.
Однако окончательному решению позволить им обоим наконец приземлиться в Бомбее все еще препятствуют соображения, связанные с конкретными обстоятельствами и при разработке первого варианта как бы лишенные права голоса, теперь, когда появился уже третий вариант, предлагающий купить смачную ливерную колбасу не у какого-то мясника в насчитывающем едва ли тридцать четыре тысячи жителей городке Итцехое, а в магазине деликатесов Крузе на Кирхштрассе, прямо напротив церкви святого Лаврентия; в нескольких шагах от него находится книжный магазин Герберса, где Харм покупает себе детективы, а Дёрте — специальную литературу по проблеме «ласкающей энергии».
На и позади двух отличающихся богатым убранством витринах двое братьев в белых халатах целыми днями раскладывают деликатесы. Предлагаемый ими товар способен ввести Харма в соблазн, побуждая помимо смачной ливерной колбасы попросить взвесить ему также копченую гусиную колбасу, однако в итоге все ограничивается той самой колбасой, которая стала для них побудительным мотивом. В книжном магазине Герберса Дёрте помимо справочников об Индии и Индонезии могла бы спросить какую-нибудь развлекательную литературу, но такую, где бы действие происходило в экзотических странах, и тогда господин Герберс мог бы лично рекомендовать ей «Любовь и смерть на Бали» Вики Баум; все, однако, ограничивается статистическими сборниками, ибо до романа очередь еще не дошла. Лишь фигурально выражаясь, можно сказать об Итцехое, что этот город расположен на берегу Штера, так как в семьдесят четвертом году отцы города, одержимые безумной страстью к разного рода проектам, приказали засыпать петлю, которую река образовывала посреди новой части города. Кроме того, на мысль сделать покупки именно в магазине деликатесов Крузе наводит то, что примыкающая к Кирхштрассе территория «Походной кузницы» является пешеходной зоной. Там иногда можно увидеть, как товарищ Харм Петерс вместе с еще одним товарищем (Эрихом Штеппуном) раздают прохожим газету «Ротфукс» — печатный орган отделения СДПГ в Итцехое. В пешеходной зоне «Походная кузница», которая другим концом прилегает к «Гольштейн-Центру», ко времени осенней стадии предвыборной кампании происходят дискуссии с жителями города.
Харм входит в состав редакции «Ротфукса». Дёрте покупает в книжном магазине Герберса больше, чем она сможет прочесть. Итцехое основан в 1238 году. А килограмм немецкой ливерной колбасы в ручной клади, который был куплен в магазине деликатесов Крузе и теперь вместе с Хармом и Дёрте приземляется в Бомбее, действительно изысканная пища.
3
Тут еще раз следует протест: на самом деле они кружат над Бомбеем и никак не могут получить разрешения на посадку, поскольку я забыл то, о чем сделал соответствующую заметку и о чем следовало подумать перед вылетом: о будущем.
Так как Харм и Дёрте Петерсы могут отправиться в путешествие лишь после начала летних каникул, то моей летящей в самолете чете учителей уже известны результаты прошедших в начале мая выборов в ландтаг земли Северный Рейн — Вестфалия. Я же ничего не знаю о них и почти не в состоянии дать им оценку; в то же время, когда я пишу эти строки, мне стали известны итоги выборов в ландтаг Баден-Вюртемберга (середина марта). Отделенные запятыми доли процентов громко хихикают. Молебен во славу демократии с венчиком роз на голове. «Если» идет перед «но». Так будущее насмехается надо мной. Каким образом я могу знать в ноябре, что в мае «зеленые» смогут перешагнуть пятипроцентный барьер, а в марте — нет. Если в СРВ[24] они добьются большего, то никогда не располагавшие значительной поддержкой избирателей «свободные демократы» вообще останутся за бортом; однако вполне возможно, что в конце концов большинство депутатских мандатов сумеет заполучить ХДС.
Итак, «зеленых» — только прошу не злиться на меня — следует приласкать и позволить им получить не меньше трех процентов голосов, чтобы надежда Зонтхофера на появление четвертой партии не развеялась как дым еще в первом туре голосования. Но предположим: «зеленые» застряли на двух процентах, СВДП держится на своих 5,6 и еще раз образует в Дюссельдорфе коалицию с социал-демократами. Разве Штраус не выбросит тогда полотенце на ринг, не пробормочет нечто вроде «меня никто не любит» и не эмигрирует на Аляску?
О будущее! Что бы мы делали без него? Кто может заменить его буквальную дословность? С кем еще можно будет тогда проиллюстрировать наши кошмары? Куда я без него послал бы тогда моих «головорожденных»? Будущее кроется в кофейной гуще. Что я знаю, что я могу знать. Я просто могу предположить: в СРВ все останется по-прежнему, Штраус не уйдет в отставку, все еще впереди, а Харм и Дёрте улетают (и наконец приземляются), будучи твердо уверенными в том, что, вернувшись в конце лета на родину, они застанут этого доморощенного предвещателя Апокалипсиса бодрым и здоровым.
Но почему Бомбей? Разумеется, Харм и Дёрте вполне могли бы сделать первую остановку в Таиланде; для чартерных рейсов часто используются окольные пути. Сразу же после прохождения паспортного контроля руководитель группы д-р Вентин мог бы встретить своих подопечных и впервые произвести на них впечатление фразой «Азия — это нечто совсем иное». Поскольку наша супружеская чета учителей заранее усердно собирала информацию, а фирма «Сизиф — Предлагаем увидеть контрасты» хочет убедить клиентов в том, что их ожидает не только знакомство с культурно-историческими достопримечательностями (храмы, храмы!), весьма забавным, кишащем ворами рынком Бангкока и катание на «хлунгах», но также осмотр «Хлунг Тоя» — указанных в туристическом проспекте трущоб в портовом квартале, который д-р Вентин, подчеркнув, что нужно «приплатить местному экскурсоводу», считает вполне вероятным и даже интересным из-за возможности сразу же получить представление о здешней социальной действительности; «Только, пожалуйста, наденьте обувь покрепче!»
Конечно же, Вентин никому не рекомендует воспользоваться содержащимся в проспекте «Сизифа» предложением переночевать у проживающей в самых настоящих трущобах и типичной для этой местности огромной семьи. Он советует сразу же забыть о нем; «Ведь мы только что прибыли сюда. И климат, как я погляжу, даже здесь, на тенистой террасе отеля, не позволяет вам прийти в себя».
Разумеется, в Бомбее Харм и Дёрте Петерсы также могли сделать первую остановку. И здесь впервые прямо на месте д-р Вентин, который повсюду превосходно ориентируется, мог бы наряду с перечисленными в проспекте достопримечательностями (среди них храм секты парсов) рекомендовать им посетить расположенный близ моря квартал трущоб «Чита-Камп». Эта экскурсия также полностью соответствовала бы предложенной «Сизифом» программе. Вместе с тремя остальными членами группы они (после принятой здесь доплаты, о которой, правда, ничего не говорится в проспекте), стараясь держаться в тени, при тридцати восьми градусах жары в течение двух часов знакомятся с прочно обосновавшейся на обширной территории нуждой, после того как д-р Вентин во время езды сюда на принадлежавшем «Сизифу» микроавтобусе подробно изложил им все этапы истории этих трущоб, которые всего лишь несколько лет тому назад назывались «Яната-Колони» и находились в непосредственной близости от индийского Центра ядерных исследований: «Конечно же, это не могло продолжаться долго. Местность была объявлена зоной особого риска, и бульдозеры сровняли трущобы с землей. Семидесяти же тысячам их обитателей мгновенно была выделена территория, которую очень часто затопляло в сезон дождей. К сожалению, она располагалась около арсенала индийского военно-морского флота, и поэтому вновь встал вопрос об обеспечении безопасности. Отбросы приходится убирать. Как видите, у Индии также существуют проблемы, связанные с охраной окружающей среды».
На наивный вопрос Дёрте и Харма, были ли затем на освободившейся территории «Янаты» возведены дома, позволяющие людям жить в человеческих условиях, д-р Вентин со смехом ответил: «Да ну что вы! Теперь там место проведения досуга для сотрудников Центра ядерных исследований с плавательным бассейном, площадкой для гольфа и культурным центром. Такие вот дела. От прогресса нигде не скроешься. Здесь элита также не отличается аскетизмом».
Во всяком случае, они оба вполне могли в «Хунг Тое» или «Чита-Кампе» пережить свой первый шок или же такое с ними могло случиться сперва в Бомбее, а затем (вкупе с подлежащей обязательной оплате ночевкой в квартале трущоб) в Бангкоке. Как в истории про соревнующихся между собой зайца и ежа, д-р Вентин всегда оказывается именно там, где они приземляются. Как только группа после завтрака намечает себе с его помощью программу на день, д-р Вентин начинает говорить по-немецки так, словно он родом из Ганновера. В квартале трущоб «Чита-Камп» он переводит вопросы своих подопечных на хинди и, как только слышит ответы принадлежащих в основном к касте «неприкасаемых» обитателей трущоб, демонстрирует превосходное знание нескольких его диалектов и южнотамильского наречия. Тем самым Дёрте и Харм узнают, что почти у всех детей глисты и что обитатели трущоб вынуждены покупать воду в канистрах, поскольку «Чита-Камп» не подключен к городской системе водоснабжения.
Так как д-р Вентин владеет также тайским языком, он вполне мог бы разместить их после того, как они оба достаточно акклиматизировались, в одной из проживающих в трущобах тайских семей. Благодаря его содействию у них возникли бы по-настоящему сильные ощущения. Такое не забывается: постоянный смрад болотной клоаки над подпертыми столбами, грубо сколоченными сортирами, рой мух, крысы, страшная теснота и гостеприимство насчитывавшего двенадцать человек веселого семейства, соседи которых, резко уменьшив свой рацион, кормят ребенка на убой, чтобы он мог завоевать один из призов на проводимом крупнейшей ежедневной газетой детском конкурсе красоты. Харму разрешили снять ребенка видеокамерой. На вопрос о том, сколько у них детей, оба они попытались на примитивном английском и с помощью жестов объяснить радушным хозяевам свою проблему — «Хорошо, мы заведем ребенка» — «Нет, давай не будем заводить ребенка». Многодетные семьи ничего не поняли, но зато были очень удивлены.
А Дёрте бессонными ночами ведет дневник. При свете карманного фонаря она записывает «Больше всего меня шокирует веселое настроение этих несчастных. Этот Вентин — очень противный, но свое дело знает. Разумеется, то, чем мы сейчас занимаемся, — очень цинично. Но наша плата за пансион — какие-то жалкие десять марок с носа — поможет этой семье продержаться полмесяца. Собственно говоря, всем нашим уставшим от „общества потребления“ демократам следовало бы провести пару ночей в трущобах, чтобы они наконец сполна вкусили своего проклятого изобилия…»
Однако Харм и Дёрте тем не менее от души радуются, когда возвращаются к себе в оснащенный кондиционером номер, где есть нормальный туалет, где можно принять душ и имеется наполненный напитками холодильник. Поскольку они оказались единственными членами туристической группы, воспользовавшимися предложением фирмы «Сизиф» переночевать в трущобах, д-р Вентин поздравляет Харма и Дёрте с тем, что у них «хватило мужества познать здешнюю реальность». Естественно, риск был сведен к минимуму. Вентин снабдил их обоих бутылками с дезинфицированной водой из отеля, а также оказывающими иммунное воздействие таблетками, кексами и завернутыми в прозрачную фольгу фруктами. (Несколько лет тому назад он передавал с рук на руки в борделях Бангкока принадлежавших к среднему классу немецких туристов, оснащенных именно таким образом.)
Такая ситуация — едва вернувшись из трущоб, тут же ринуться к холодильнику — позволяет показать, что Харм поместил доставленную сюда на самолете в герметически запечатанном пакете ливерную колбасу среди банок с экспортным пивом. И так как мы хотим снять наш фильм в год выборов, д-р Вентин мог бы еще в Бомбее или же сразу после ночевки в трущобах (или лишь в промежутке между осмотрами двух балийских достопримечательностей) в присущей ему ехидной манере спросить обоих гольштейнцев, имеет ли кандидат на пост канцлера шанс одержать победу на выборах: «Как я слышал, вы активно занимаетесь политикой. Достигнуты ли уже первые успехи в деле баваризации Германии? Вы ведь знаете, что со времен Тридцатилетней войны остались неразрешенными кое-какие внутригерманские конфликты».
Или же мы отбросим Индию, Таиланд, Яву и Бали и снимем фильм в Китайской Народной Республике без всякого участия д-ра Вентина — разумеется, если нам там разрешат снимать. Тогда руководить туристической группой будут уже местные уроженцы. Но тогда даже если сохранить прежнее название и связанный то с желанием, то с нежеланием завести ребенка сюжет, это будет уже совершенно другой фильм.
Полное отсутствие трущоб в Пекине, Шанхае, Квелине, Кактоке. Только Гонконг показывает то, что может позволить себе Запад: богоугодный, благословляемый на воскресных молебнах социальный контраст. Богохульное богатство рядом с загнанной в похожие на клетки трущобы нищетой. Довлеющее на свободном рынке право сильного. Ад (и его пастыри) на земле. Современный мировой театр: статисты в лохмотьях и полицейский в опрятной форме.
В Китайской Народной Республике нет таких контрастов, хотя здесь уже не стригут всех под одну гребенку. Призыв прадедов «Беден, но чист» вполне мог бы венчать собой транспаранты, если бы не было огромных, величиной с целый дом деревянных щитов, на которых «Четыре модернизации» наглядно поясняли, какое до ужаса радостное будущее ожидает китайское общество: фанатичная вера в компьютеры, сладострастное желание обзавестись ракетами и увеличить прирост населения. Остались в прошлом «большой скачок», «пусть расцветают сто цветов» и «культурная революция» вместе с «бандой четырех». Они были отброшены далеко назад, с огромным трудом наверстали упущенное, сдвинули горы, справились с голодом, занялись самоистреблением, а затем, наоборот, увеличили свою численность, грозя довести ее вскоре до миллиарда и не увеличив при этом соответственно площадей для посева риса, пшеницы, проса, кукурузы и соевых бобов. Они открыто демонстрируют Западу свое нынешнее состояние и намерены — об этом вежливо-двусмысленно говорит каждый китаец — учиться у Запада. При этом мы также могли бы (а может и должны) учиться у них.
Но Запад с присущим ему высокомерием заинтересован (помимо заключения сделок) в колеблющемся курсе на либерализацию китайского общества. У нас свои представления о степени свободы. Репортеры «Штерна» и «Шпигеля» считают девушек в юбках, головы с химической завивкой, следы губной помады и тому подобные атрибуты западного либерализма; они фотографируют их, пишут соответствующие тексты и благодаря уже заранее составленному мнению позволяют пичкать себя ложной информацией. Разве не объективнее, а потому справедливее было бы соизмерить состояние китайского народа и его общественный строй с положением в тех странах «третьего мира», в которых насаждался либерализм западного образца и которые побили печальные рекорды по части массового бегства сельского населения в города, трущобизации, хищнической обработке земли и ее закарстовыванию, плохому питанию и голоду, сочетанию роскоши и нищеты, произволу чиновников и, самое главное, коррупции.
Если нашей супружеской чете учителей из Итцехое на Штере (как в фильме, так и в реальной жизни) суждено объездить Китай, не следовало ли им ранее подышать воздухом трущобных кварталов индийских городов, познакомиться с жизнью голодающих северо-восточных регионов Таиланда, распознать ставшую неотъемлемым атрибутом жизни всех слоев индонезийского общества коррупцию и в результате признать, что усилившаяся за счет Японии эффективная западная экономическая система там повсюду причинила разрушения и принесла людям горе: тиски свободного рынка, стремление любой ценой добиться прогресса, перевод капиталов на счета в швейцарские банки, рост числа нищих и обездоленных.
Разумеется, Дёрте и Харм Петерсы, которые в Китае также еще окончательно не решили, стоит ли им производить на свет ребенка, в Индии, Таиланде и Индонезии слишком уж быстро подтвердят собранную ими ранее об этих странах информацию термином «неоколониализм». («Да-да! — восклицает Харм. — Всюду они замешаны: Сименс и Унилевер».) К тому же фатализм индусов, кротость яванцев и почти беззаботные улыбки тайцев уже на первый взгляд объясняют многое, и с этим ощущением можно продолжить путешествие («Боже мой! — восклицает Дёрте, — как же они здесь живут без присущего нам страха за собственную безопасность!») Но правительства всех трех государств обладают полным суверенитетом. Они проводят в жизнь свою политику, отнюдь не считая, что все в мире фатально предопределено, вовсе не обладая кротостью и мягкосердечием, и уж тем более им не свойственна беззаботность. Опорой им служит применяемое с помощью полиции и армии насилие, кастовые предрассудки, коррупция и все инструменты власти, которые достались им в наследство от предшественников или же были получены с доставкой на дом из арсеналов западных демократий.
«Ну да, конечно, — говорит Дёрте Петерс, — мы не должны подходить к здешним порядкам с нашими понятиями о демократии».
«Это же ясно, — говорит Харм Петерс, — с индуизмом даже Мао не смог справиться». Его интересуют социальные проблемы: каждого встречного он расспрашивает о его почасовой и еженедельной оплате; она бы хотела накопить в своем дневнике как можно больше сведений о положении в здешних школах. И оба они говорят в один голос: «Прежде чем будем требовать здесь свободы слова, нам лучше у себя дома…»
Остальные члены туристической группы придерживаются такого мнения. А д-р Вентин, который склонен каждый вечер за стаканом апельсинового сока разглагольствовать о здешней жизни, поучает свою небольшую и тем временем уже изрядно сбитую с толку туристическую группу: «Каким бы горестным ни казалось нам положение местных жителей, как бы они с нашей западной точки зрения ни нуждались в помощи, именно здесь определяется будущее нашей планеты. Отсюда нам, привыкшим молоть чепуху о правах человека, навяжут совершенно новые представления о них. Я твердо уверен в том, что жажда Европы познать тайны Азии будет навсегда утолена. Все демоны и духи — уж поверьте мне, они существуют — набросятся на нас».
Эти слова Вентин произносит после того, как они согласно своему пожеланию проводят свой последний день на индийской земле в расположенной неподалеку от Бомбея рыбацкой деревне. Они надеются таким образом немного передохнуть, и поначалу посещение сельской местности настраивает на мирный, спокойный лад. На устаревшем, достойном быть запечатленным на множестве фотографий пароме их доставляют на остров рыбаков Манори. Когда их посадили на запряженные быками телеги, они, глядя поверх спин украшенных роскошными рогами вьючных животных, фотографировали дорогу, ведущую к отведенной под отель простой, но довольно опрятной хижине.
«Наконец-то без кондиционера!» — восклицает Дёрте.
«Наконец-то море!» — восклицает Харм.
И можно запечатлеть на пленку, как тянутся к небу пальмы. И обширный песчаный пляж, где на выброшенную на берег черепаху сразу же нацеливается глазок фотоаппарата. И местные женщины, угощающие недозрелыми кокосовыми орехами и чаем. Свои сшитые из цветных тканей одеяния они связали узлами между ног; однако Харм не торопится заснять их подчеркнуто грациозные движения. Дорога в деревню проходит вдоль пляжа — «Только, пожалуйста, оденьтесь!» — предупреждает д-р Вентин — и природа, пальмы, море, мертвая черепаха и женщины в завязанных странными узлами одеяниях — «Меня здесь все как-то привлекает!» — действуют на Дёрте так, что она внезапно выражает желание иметь ребенка: «Наш ребенок, ты слышишь? Его нужно страстно захотеть, а не только размышлять о нем. Животом, а не только головой. Это же живое существо, ты слышишь?»
Но Харм, который не скрывает, что его здесь все — «Ну да, очаровательный вид!» — также привлекает, отнюдь не желает дать своей голове передышку. «Предположим, — говорит он, — у нас будет ребенок. Предположим, что он родится здоровым. Предположим даже, что он вырастет, не получив обычных ранневозрастных травм. Предположим опять же, что мы будем не слишком заняты на работе и сумеем уделить достаточно внимания нашему желанному ребенку: все равно это хорошим не кончится. Я сразу говорю тебе, окружающая среда, наша система школьного образования, навязываемые телевидением стереотипы жизненного поведения, все, вообще все деформирует сознание нашего ребенка и полностью унифицирует его. Точно так же как тем временем оказалось деформированным и унифицированным наше сознание. А теперь еще и новейшие технологии. Ты только представь, нашего ребенка подключат к школьному компьютеру. Естественно, не только его одного, но и весь класс, всех детей школьного возраста, ну да, скажем, где-то с конца семидесятых годов им уже преподают не как прежде обходящиеся слишком дорого и с трудом поддающиеся контролю получившие классическое образование учителя, а учебные компьютеры, в которые заложены разработанные государством программы: непосредственно подключены к мозговым клеткам наших милых детей: так! Покончено с дурацкой зубрежкой. Малая и большая таблицы умножения? Через полчаса она уже накрепко засела в памяти. Тикедигетак! Английские неправильные глаголы? Десятиминутная программа и полный порядок. Тикедигетак! Тетрадь для записи слов? Смех да и только. Все сделают установленные в детских спальнях маленькие компьютеры. За обучением во сне — будущее! И дети с их заполненными датами, цифрами, формулами, глаголами мозгами будут знать все и одновременно ничего. А мы, мама Дёрте и папа Харм, будем только глупо таращить глаза, не имея в голове ничего, кроме ненужных воспоминаний, полузнаний и моральных соображений. И за такого ребенка, я спрашиваю тебя, ты собираешься нести ответственность?»
Тем временем они уже оказываются в центре деревни — так стремительно гнала их речь Харма, — если, конечно, у деревни может быть центр. Шаткие деревянные строения, обмазанные глиной хижины. Попавшие в сети величиной с палец рыбки и еще более мелкие обитатели моря сушатся на жесткой земле или на воткнутых друг над другом в стены рогах. Рыбакам не принадлежат ни лодки, ни сети, ни пойманная рыба, ни мельница, на которой пойманная рыба перемалывается в рыбную муку. Деревня насчитывает пять тысяч жителей, среди них три тысячи детей. Эти дети измучены глистами, явно больные, с воспаленными, гноящимися глазами. Они не просят милостыню, не смеются и не играют. Они стараются держаться незаметно, явно понимая, что их слишком много.
Дёрте, которая в восторге от обилия живой природы, непременно хотела иметь ребенка и настаивала, что для нее это не абстрактное понятие, а живое существо, говорит на обратном пути: «Дети в трущобах были гораздо веселее».
Вечером на террасе скромного и больше напоминающего хижину отеля д-р Вентин читает для членов своей туристической группы небольшой доклад о рыбном промысле в Индии: «Пользы от него никакой. Хотя в Индийском океане за исключением прибрежных вод, где уже почти ничего не осталось, водится необычайно много рыбы и при условии развития океанского рыболовецкого промысла вполне можно было бы ликвидировать хронический дефицит протеина, от которого страдает питающееся в основном растительной пищей население: сперва у тех, кто обитает на побережье, а если создать сеть рефрижераторов, то и у жителей глубинных районов. Но ведь мы имеем дело с индусами. Они могут только размножаться. 57.000 детей в день. Каждый месяц количество индусов увеличивается на миллион. Китайцам следовало бы ввести здесь „свои порядки“.»
Когда Дёрте ночью под москитной сеткой еще раз возвращается к разговору о ребенке и приводит в качестве примера так любимых Вентином китайцев, Харм кричит в ответ: «Нет! Нет! Пусть немцы все вымрут! Я ничего не имею против!»
Неужели все так плохо? Разве многие создавшие выдающиеся культурные ценности народы не сохранились ныне просто в качестве достойных удивления музейных экспонатов? Хеты, шумеры, ацтеки? Разве нельзя представить себе мир, в котором принадлежавшие к новой, еще нарождающейся народности дети стоят перед музейными витринами и удивляются: умению немцев обустраивать свои жилища, их манере поглощать пищу? Их упорству и трудолюбию? Их склонности систематизировать все, даже свои мечты? И разве не может немецкий язык подобно латыни превратиться в мертвый язык, также содержащий не меньшее количество часто цитируемых выражений? Разве политические деятели, привыкшие заливаться соловьем и украшать свои речи высказываниями мудрых латинян, не смогут по прошествии добрых тысячи лет пробуждать интерес к своим словесным потокам, к примеру, цитатой из Гельдерлина: «Так я оказался среди немцев… я не мыслю себе более разобщенного народа…» И разве не может случиться такое, что после того, как немцы вымрут, и даже благодаря их гибели для всех станет очевидной вся полнота и многообразие их культуры (и литературы как составной ее части), и ее поэтому будут беречь как драгоценное сокровище? «Нет, — скажут о немцах по прошествии веков, — их никак нельзя назвать только воинственными, привыкшими с тупым упорством расширять свои владения и заниматься лишь своим ремеслом варварами…»
Я пишу эти строки, прекрасно сознавая всю бесплодность своих мечтаний. Где бы мы ни остановились при заполнении анкеты для приезжающих, я добросовестно пишу в графе «профессия»: писатель. И если в начале, действительно, было слово, то эта профессия уходит корнями в глубь столетий. Прекрасная, опасная, дерзкая, сомнительная профессия, вызывающая в памяти определенные ассоциации и легко позволяющая по-разному себя трактовать. Какой-нибудь партийный бонза из ГДР, хунвэйбин, а ранее Геббельс вполне могли бы назвать писателей «крысами и навозными мухами», как это год назад сделал Йозеф Штраус (позднее много спорили по поводу того, имели ли он и выступавшие вслед за ним ораторы в виду вообще всех писателей или только некоторых из них).
Но даже если в Китае его имя не упоминалось, поскольку проблема заключалась в использовании во всем мире примерно аналогичных слов, речь также зашла и о нем. Китайским писателям хорошо известна ничтожная власть, сравнивающая своих врагов с грызунами и насекомыми и готовящая средства для их уничтожения. Они сдержанно, словно стыдясь, рассказывают о перенесенных ими в самые худшие годы страданиях: заточение в тюрьмы, избиение палками, публичные оскорбления, запрет заниматься литературным трудом, чистка уборных, это все уже в прошлом, однако последствия сказываются до сих пор. Поэтому новую, не отличающуюся богатством форм и неуверенно заявляющую о себе литературу называют «раненой литературой».
Они спрашивают о положении своих восточногерманских коллег. (Пожилой человек из Объединения пекинских писателей несколько лет тому назад беседовал на одном из конгрессов с Анной Зегерс.) Я рассказал, как мы, четыре-пять западно-, семь-восемь — восточноберлинских авторов, регулярно — с 1973 по 1977 — встречались на разных квартирах в Восточном Берлине, читали друг другу отрывки из своих рукописей, горько оплакивали ситуацию, в которой мы оказались разделенными, но сохранившими общий язык, и как могли веселились. Я сказал: «Где-то каждые три месяца. Ну да, за пивом и картофельным салатом. Жена хозяина дома, словно лотерейные билеты, вытаскивала из шапки записки, на которых стояли имена тех, кому предстояло зачитывать свое произведение. Разумеется, за нами следили. Мы как могли держались. Затем начались лишения гражданства. Первым оказался Бирман».
Я назвал имена и заглавия книг тех писателей, которые ныне живут на Западе и оказались как бы между двух государств: колючки в теле и той, и другой Германии. И в Шанхае, где я еще раз попал в общество своих коллег, для них также была важной каждая деталь: пограничный контроль, уловки цензуры, используемая в обращении с писателями западно-восточная терминология. Словом, все, что касается нас, привыкших как к кочевой, так и к оседлой жизни осквернителей собственных жилищ.
Их проблемы не были чужды или слишком далеки от нас. Китайским писателям хорошо известно, что такое идеологическое одурманивание и узкие рамки партийных догм. В их памяти навсегда запечатлелись презрительные высказывания власть имущих. Пришлось только перевести им значение слов «крысы и навозные мухи», но отнюдь не содержавшийся в них откровенный призыв к истреблению тех, кого подразумевали под ними. Они сказали: «Это коснулось даже наших классиков. Теперь нам приходится заново открывать их молодежи, которая ничего не знает».
Мы вели нашу беседу во время встречи, носившей торжественный, поначалу просто церемониальный характер. Не обошлось и без застольных речей (я лично охотно прочитал бы стихотворения Кунерта и Борна). Мы ели палочками кисло-сладкие морские огурцы, утку по-пекински и желе из столетних яиц. Мы пили шестидесятиградусную пшеничную водку. За что же мы пили? Поскольку в стаканы часто подливали, мы пили за противоречия, за постоянно по-разному оспариваемую истину и конечно же (а разве могло быть по-другому?) за благополучие народа, за белую, взывающую к словам, еще не запятнанную и, наоборот, слишком часто пятнаемую бумагу. И мы также пили за нас — «крыс и навозных мух».
Среди моих записей, посвященных «Головорожденным», имеется взятая в скобки заметка (перед отъездом супружеской четы учителей или же, напротив, после ее возвращения в конце августа в Итцехое Дёрте Петерс говорит: «Пока еще не надо, Харм. Мы должны дождаться исхода выборов. Я не желаю производить на свет ребенка, если к власти придет Штраус».) — Просто смешно. Нет, ей не следует использовать такой предлог.
4
Николас Борн умирает вот уже несколько недель. Мы навещаем его в берлинской больнице «Вестэнд». Рак уже пустил метастазы по всему его телу. После последовавшей вслед за удалением части легкого операцией на мозге его вестфальская голова (обритая наголо и как-то даже уменьшившаяся в размерах) хоть немного успокоилась, но, судя по разговорам, жить ему осталось еще три месяца.
Он извиняется за свое состояние. У нас, сидящих возле его кровати, слишком здоровый вид. Когда я рассказываю ему о вручении Дублинской премии Герольду Шпэту, он просит нас не тревожить его память и не вынуждать называть имена и побудительные мотивы. В ней теперь зияют пробелы. Слова также словно исчезли куда-то. Он беспокойно ворочается, лежа на спине, и выискивает на высоком потолке затерявшиеся там придаточные предложения. Ирмгард Борн приподнимает кровать так, чтобы мужу было удобнее сидеть. На боку ему легче переносить непрерывные боли.
«Скажите, как нам быть, когда мы всюду и везде…» Мы стараемся вести обычную беседу и не создавать ощущения, будто мы пришли проститься. Мы рассказываем ему о том, что он сам уже не помнит: о китайцах-велосипедистах, о двух китайских матросах, которые в Шанхае поразили уже тем, что гуляли взявшись за руки, словно влюбленная пара. Это сравнение вызывает у него смех. (Или он просто хочет порадовать нас и, зная, что мы хотим развеселить его, ведет себя соответствующим образом?) Наконец на его лице появляется усталое выражение, однако заснуть ему так и не удастся: много, слишком много он принимает лекарств.
(Теперь я читаю его книгу «Подлог», которую он заканчивал из последних сил. Она читается так, словно он предвидел свою и нашу болезнь: абсурд, ставший нормальным явлением. Почти уже никого не пугающие инциденты. Обыденность кошмара. Резонерствующее безумие. Порождающее отчуждение сближение. Превратившаяся в ложный маяк любовь. Сужение нашего бытия.) Странно, что он, инфантильный, как и все писатели, упорно дожидается объявленного в «Шпигеле» обсуждения его книги. Он хочет знать, сколько дней осталось до понедельника.
Едва мы расстались с другом — это именно расставание — и покинули больницу «Вестэнд», вновь появилось все то, что его уже больше никак не касается: ближайшее кафе — нам ведь нужно подкрепиться, нам! — транспорт, будущее и их цели, распределение ближайших часов и дней на определенные временные циклы, проблемы, связанные со школьным образованием и уплатой налогов, погода, таящее в себе угрозу грядущее, которое неизбежно будет названо именем Штрауса, и ужас более отдаленных годов: Хомейни. Но также и такси, которое можно вызвать по телефону, сигареты, разменная монета, по-прежнему сильные впечатления от поездки по странам Азии. Как это было? Расскажи. Ведь над этим я сейчас работаю: головорожденные.
Среди моих заметок есть следующая запись: «Как и на индийском острове рыбаков Манори, на Бали Харм Петерс также собирает на пляже раковины, которые он, хотя Дёрте не проявляет к ним ни малейшего интереса, намерен хранить в своей квартире в Итцехое вместе с раковинами, найденными им на европейских пляжах: на подоконнике, в застекленном шкафу или старинных бонбоньерках».
Прогуливающийся по пляжу человек, который постоянно нагибается. Он уходит от нее и ее проблем. Бесповоротно решив завести ребенка, — «Мое решение окончательное», — она бредет по тропе, ведущей к Богу. Вместе с балийскими женщинами она относит украшенные цветами чаши с рисом в жертвенные храмы под священными деревьями, где время от времени должна находиться белая женщина, желающая зачать. Этот свой совет д-р Вентин, который знает ее и Харма заботы, выразил словами, свидетельствующими о его приверженности индуизму: «Пусть даже это просто суеверие, нам все равно лучше не отвергать его, а с чистой душой выразить наши желания».
Поэтому она отказывается спать с Хармом в одной постели. «Пока еще нет, — говорит она, — пока я еще не совсем готова». Поэтому недовольный Харм бродит по пляжу. Чуть в стороне пожилые женщины за грошовую плату тащат из волн прибоя корзины с насквозь мокрыми осколками раковин. Владельцы мельниц перемалывают их, а владельцы печей затем сжигают помол, превращая его в известь. Харм смело ступает в накатывающие волны прибоя: «Запомни, глупышка! Так дело не пойдет. Даже если ты, наконец, изъявишь желание, я этого не захочу. Твоя затея с храмами — просто бред! Мне не нужен ребенок, рожденный каким-то иррациональным способом!»
Одновременно он помогает пожилой женщине, которой все это кажется смешным, таскать корзину с разбитыми вдребезги раковинами. Довольно неумело он взваливает на плечо корзину.
Еще в Бомбее, а позднее в Бангкоке Дёрте Петерс в промежутке между осмотрами храмов и трущоб искала фарфоровые статуэтки индуистских богов и в конце концов обнаружила в лавке старьевщика танцующего на крошечной подставке Шиву величиной с дюйм. Изображен он был в свои детские годы, эдакий бог-ребенок. Но лишь на острове Бали, где, в отличие от остальных тринадцати тысяч индонезийских островов, ежедневно туристам демонстрируются индуистские ритуалы, прежде практичная и одержимая сбором фактического материала преподавательница с головой погружается в трансцендентный мир; она, говоря словами Харма, «совершает экскурсию к Богу».
Может быть, именно расположенные уступами, водянисто отражающие небосвод рисовые поля, бамбуковые рощи, извергающий клубы дыма вулкан, эта опасная, благословенная, за каждым поворотом меняющаяся местность и возвышающиеся посредине каждой деревни вайрингиновые деревья произвели на Дёрте такое сильное впечатление, что она стала верующей. Не подражая их скользящей походке, она идет вместе с балийскими женщинами в одном ряду, несет в руках то, что туземки обычно нагромождают на голову, кладет (после принесения в жертву чаш с рисом) записку со своим пожеланием на дерево, которое обещает помочь ей родить ребенка. Теперь ее записка красуется среди многих других, в которых просьбы подарить еще ребенка и без того многодетным семьям; в то время как Дёрте мечтает только об одном и (здесь нет никаких сомнений) единственном ребенке.
«Кто бы ты ни был, добрый дух, — написала она в своей записке, а затем подробно обосновав, в своем дневнике, — подари мне дочь. Я назову ее Ламбон». (Об этом имени она узнала из романа «Любовь и смерть на Бали», который дал ей почитать д-р Вентин.) А в свой дневник дочь крестьянина Хинриха Вульфа записывает: «Если отца разозлят иностранные женские имена (Так детей не называют! — заорет он), — я спрошу его, почему меня назвали Дёрте».
Она уже хорошо знакома с местными обычаями и старается не нарушать табу. Чтобы доказать чистоту своих помыслов, она бросает свои таблетки, три упаковки, в считающуюся, разумеется, священной или демонической пещеру, в которой якобы проживает богиня-змея, посетить которую д-р Вентин настоятельно рекомендует своей группе и которая в проспекте туристической фирмы «Сизиф» именуется «Пещерой летучих мышей»; Харм сфотографирует этот эпизод или снимет на видеокамеру.
Перед тем, как этот эпизод превратится в сцену в фильме, мне бы хотелось еще добавить, что Харм тем временем попытался доставить по назначению привезенную на самолете в запечатанном пакете ливерную колбасу. Пока у него ничего не получалось. В Денпасаре, столице острова, где он, показывая повсюду записку с адресом, ищет своего школьного приятеля, Уве Енсена, найти не удается. Где бы покрытый потом Харм с ливерной колбасой в спортивной сумке ни предъявлял свою бумажку, ему всегда указывают противоположное направление. Совершенно непонятный ему поток слов. Предложения купить тот или иной товар. Чаевые всегда веселым паренькам, которые отвозят его в расположенную в укромном месте хибару. Обилие не предназначенных для туристов реалий обыденной жизни. И все это в полуденную жару, когда Дёрте лежит в тени под пальмами возле отеля. Это даже чересчур для содержащейся в синтетической упаковке ливерной колбасы. Это противоречит ее естеству. Она хочет обратно в отель «Кута-Бич». Она хочет храниться в морозильном отделении.
После еще одной напрасной попытки — на этот раз в столичном управлении полиции, но без колбасы в спортивной сумке — Харм попросит помощи у д-ра Вентина, который, разумеется, сразу же поймет, в чем тут дело. Через связных он начнет развивать ту побочную сюжетную линию, у истоков которой с самого начала стояла ливерная колбаса: разного рода акции, фальшивые накладные, китайские торговцы-посредники, малайский кинжал…
Мне это все не подходит. Затаившийся в подполье Уве Енсен вполне мог оказаться замешанным в нелегальные торговые сделки с оружием, которые в соответствии с сюжетными выкрутасами Эмблера и любовью Харма Петерса к авантюрным похождениям могли сделаться основной сюжетной линией. Судя по намекам Вентина — «Ваш друг, — говорит он, — видимо, отправился по делам на остров Тимор», — торговля оружием отнюдь не исключение; ведь в восточной части Тимора, когда-то являвшейся португальской колонией, борющиеся за его независимость партизаны до сих пор сражаются с индонезийской армией, а Тимор, как и Бали, принадлежит к группе Малых Зондских островов.
Нет, здесь мы не будем вмешиваться. Во всяком случае, едва обозначившись, эта побочная сюжетная линия может проявиться как противостоящее мечте Дёрте о ребенке головорожденное создание. Пусть все будет так, как он пожелает. В своих мечтах Харм представляет себя партизаном. Он сражается с автоматом (русским) в руках. В тропических джунглях, в горах. Он прикрывает огнем своих соратников. Вместе со своим другом Уве он борется за свободу и независимость Тимора. Они рискуют жизнью; надо же ведь куда-то девать в фильме ливерную колбасу.
Однако так способствующий развитию сюжета сувенир вполне уравновешивают различные чудеса природы. Из моих записей: «Перед „Пещерой летучих мышей“, вход в которую напоминает церковный портал и под низкими сводами которой висят во тьме сто тысяч летучих мышей, Харм и Дёрте ссорятся».
Конечно же, из-за ребенка. Летучие мыши издают резкий, то усиливающийся, то затухающий свист. Пещера дышит, и фильм не в состоянии передать исходящую от нее вонь. Три-четыре дюжины из общего числа в сто тысяч летучих мышей вырываются наружу, выделывают в воздухе немыслимые пируэты и снова повисают вниз головой под сводами пещеры. Маленький храм у входа в пещеру весь покрыт их засохшим дерьмом. В пещере, где тьма делает ее невидимой, живет то ли змея, то ли богиня в облике змеи.
За возглавляемой Вентином туристической группой неотступно следуют просящие подаяния дети, и несколько девочек из их числа предлагают корзины с цветами. Дёрте покупает одну корзину и ставит ее перед оскверненным маленьким храмом.
Не обращая внимания на остальных членов группы, Харм кричит: «Я хочу осознанно сделать ребенка. Ты слышишь? Без всяких индуистских штучек!»
А Дёрте, утратив всякий самоконтроль, кричит в ответ: «А я не смогу забеременеть из-за нашего идиотского благоразумия! Я должна вырваться из этого мира, должна воспарить над ним. Я хочу в другой мир, где я стану другой не только внешне, но и внутренне, только не смейся, я хочу в трансцендентный мир, то есть я хочу сказать, что должна как-то почувствовать божественную силу…»
Теперь она роется в своей сумке. Теперь она, размахнувшись, красивым жестом швыряет три упаковки с таблетками в пещеру и, словно желая догнать их, сама бежит туда мимо храма и исчезает в пещере. Светлое платье, длинные светлые волосы мелькают в черной дыре и пропадают в ней.
Страх туристов выражается как в тихих возгласах, так и в диких криках. Даже д-р Вентин позволяет своему лицу оцепенеть от страха. А Харм кричит, ругается, затем вскидывает видеокамеру и, словно это может помочь, принимается снимать тьму, в которой мелькают силуэты летучих мышей, до тех пор, пока в объективе не появляется возвращающаяся Дёрте.
Она идет очень медленно. Шаг за шагом она приближается, постепенно высвечиваясь. На голове у нее летучая мышь. Она шипит перед все еще снимающим фильм Хармом и отпрянувшими назад остальными туристами. Молчаливые маленькие оборвыши окружают ее, и она показывает на летучую мышь. Она улыбается так, как никогда раньше не улыбалась. Теперь она снимает летучую мышь с головы, и та тут же улетает. Молчаливые маленькие оборвыши трогают ее руки, ее ноги в сандалиях, хотят схватить ее за светлые волосы, которые стали еще светлее. Дёрте плачет — очевидно, от счастья.
Явно смущенные туристы отворачиваются (мы слышим, как д-р Вентин среди прочих иностранных слов шепотом произносит «Карма»). Дворняжка, которая ранее спала у входа в пещеру, поднимается и начинает есть одну из валяющихся вокруг дохлых летучих мышей. Харм кричит: «Нет! Я хочу домой!»
Мои записи побуждают меня задать себе вопрос: «Захочет ли она после этой акции лечь с ним? Или она непременно захочет, потому что ощутит себя наконец очищенной от скверны, но он не захочет, не захочет больше потому, что воспримет это как обязанность? Или он не сможет, хотя обязан и даже испытывает желание?»
По-моему, он откажется. В конце концов он (как, впрочем, и Дёрте) принадлежит поколению, которое десять лет тому назад начало исповедывать «идеологию отказа»: она отказывалась выполнять обязательства, накладываемые системой, как, впрочем, и заниматься сексом по принуждению. Они хотели жить исключительно в свое удовольствие. Правда, с тех пор от их принципов не так уж много осталось, ибо тем временем оба они поймали себя на том, что вполне свыклись с конъюнктурными требованиями «общества потребления», а сексом занимаются без всякого удовольствия, однако в достаточной степени сыграла определяющую роль стадия студенческого движения протеста, которая побудила расстаться с обилием усвоенных в прежние годы слов и терминов, и теперь — где бы они ни стояли или летали — для них это не более, чем спитой чай, ненужные воспоминания о прошлом или попросту мусор.
В номере, взглянув на балкон, который Дёрте, по словам Харма, «превратила в домашний храм», он уже твердо знает: «Это твое бегство в религию меня по члену как камнем бьет».
Даже при желании он уже не может. Ее сперва подчеркнуто покорное, а затем откровенно агрессивное ожидание, по его словам, «отводит мне какую-то дьявольски зависимую роль». Когда она, полусоблазняя, полуугрожая говорит: «Ну иди же ко мне, Харм. Я смогу возбудить тебя», он тут же возводит между собой и ею баррикаду из слов: «Я обязан выполнить свой супружеский долг. Это принуждение. Это именно то, чего я не хочу, не могу, но должен, это навязываемое извне предназначение. И порождено оно религиозным безумием. Но ко мне оно не имеет никакого отношения. Так ты можешь забеременеть от кого угодно. К примеру, от твоего исповедника, этого специалиста по вознесению на небеса».
Туристическая группа, которую д-р Вентин в Бомбее знакомит с религиозными обычаями парсов, в Бангкоке объясняет молитвенный ритуал буддийских монахов, на Яве рассказывает о берущем свое начало в мусульманстве индуизме и на Бали описывает сохранившуюся несмотря на все карательные меры голландцев по-детски наивную веру в богиню-олениху, состоит из двух супружеских пар, которым уже сильно за сорок, двух подруг, которые вот-вот переступят сорокалетний рубеж, статной женщины с хилой, болезненной дочкой, веселой вдовы пастора, бывшего чиновника финансового управления, а ныне пенсионера из Вильгельмсхафена, а также Харма и Дёрте Петерсов. Ее, однако, можно увеличить за счет еще одной супружеской четы в этом же возрасте и уменьшить за счет вдовы пастора. Во всяком случае, все они по-разному воспользовались услугами, предлагаемыми «Сизифом». Одна из супружеских пар не принимает участия в осмотре трущоб. Хилая дочь статной женщины не желает больше смотреть на храмы. Только Харм и Дёрте решаются переночевать в трущобах. У входа в пещеру с летучими мышами не оказывается обоих подступающих к пятидесятилетнему возрасту подруг и чиновника финансового управления из Вильгельмсхафена, которые, с другой стороны, крайне возмущаются — «Опять они позволяют себе отклоняться от намеченного маршрута» — если Харм и Дёрте отделяются от группы и идут своими, неведомыми путями: «Этим медленно бредущим стадом я сыт по горло!»
В полном составе группа появляется в кадре лишь тогда, когда д-р Вентин в холле отеля обсуждает с ней ежедневную программу, или на вводимых наплывом быстро промелькнувших на экране кадров, изображающих экскурсии в снабженных кондиционерами автобусах фирмы «Фольксваген», или во время плавания на лодках по речным заводям Бангкока, или во время массовой сцены петушиных боев, которые, собственно говоря, запрещены законом. Но это возможно не только благодаря азарту балийцев; обширные связи Вентина позволяют туристам принять в них участие.
Под пропускающими солнечные лучи пальмовыми кронами. На деревенской площади. После долгое время не прекращавшихся выкриков болельщиков — внезапная тишина. Уже во время первого петушиного боя Вентин находит повод произнести длинную речь, что он, как того требует его профессия, должен был сделать уже давно: «Обратите внимание на ножи на шпорах! Как птицы бросаются друг на друга! Как они занимают позиции! А теперь, вы только посмотрите, как петухи едва не находят друг друга своими глупыми глазами, как тут же перестают драться и со скучающим видом довольно мирно клюют зерна. Точно так же нас, людишек, натравливают на борьбу друг с другом, а ареной для нее являются рабочие места, демократическое общество и в крайнем случае — супружеское ложе. Достаточно вспомнить о ставшей уже у нас дома заурядным явлением борьбе за повышение тарифных ставок, о новом законе о разводах или о бушующей в настоящее время предвыборной борьбе: наскакивающие друг на друга петухи из разных партий…»
Это все он говорит тихо, чуть гнусаво, как бы устав от собственной мудрости, под пропускающей солнечные лучи пальмовой кроной, окруженный членами своей туристической группы, посреди пока еще добродушных, лишь зараженных лихорадкой азарта и потому трясущихся от возбуждения мужчин острова Бали. Как они сидят на корточках. Как четко выделяются их облитые потом мышцы. Как они на пальцах или издавая гортанные звуки договариваются о заключении пари. Как эти мужчины науськивают своих боевых петухов, как целуют их, как дуют им на перья, как они их любят.
Женщинам не разрешается смотреть, как петухи с прикрепленными к шпорам ножами прыгают друг на друга: это позволяется только туристкам. Побежденных петухов забивали на краю боевой арены. У Дёрте верхняя губа покрылась потом. Хилая дочь хочет немедленно уйти: «Я не могу больше смотреть на это». Подруги, которым под сорок, фотографируют. «Какую вы поставили выдержку?» — кричит пенсионер-чиновник из Вильгельмсхафена. Еще кое-кто в полном восторге: «Ты только посмотри, как летят перья!» А Харм долго, тщательно снимает все это на свою видеокамеру.
Он хочет — а так как это его желание, то его можно показать на экране наплывом и с опережением — продемонстрировать своему объединению СДПГ «иррациональный характер и одновременно практический смысл» петушиных боев. «Это вполне в духе старинного лозунга „Хлеба и зрелищ“, дорогие товарищи и любители тотализатора!» Дёрте также подключают: «А ну-ка подержи экспонометр!»
«Вы видите, — говорит д-р Вентин. — Если петухи не желают больше драться, им после непродолжительного ритуала нахлобучивают на головы корзины, и это вынуждает их снова биться друг с другом. Как только корзину в соответствии с традиционной церемонией снимают, продолжение боя гарантировано».
«Как и у товарищей в Итцехое, — восторженно кричит Харм, не переставая снимать фильм, — когда они опять отстаивают благородные принципы!»
Два новых выпущенных на арену петуха наскакивают друг на друга. На заднем плане появляется забойщик. «Деточка, не смотри туда!» — кричит статная дама хилой дочке. Вооруженная петушиная нога отрубается и откладывается в сторону, чтобы наточить нож для новых боев и для новых петухов. Дёрте шипит: «Мужчины! На такое способны только мужчины!» Подруги, которым уже под пятьдесят, находят все это «безумно живописным». Чиновник финансового управления с трудом вставляет новую пленку: «Мне кто-нибудь может помочь?» И над всем происходящим звучит гнусавый голос мудрого д-ра Вентина: «Вечный цикл. Все течет. Умирает и рождается…» Монтаж.
После чего всегда одинаковый и как бы бесполый руководитель группы (однако без своих заключивших контракт с «Сизифом» туристов и без Харма Петерса), стоя рядом с маленьким индуистским храмом, глядя не на Дёрте Петерс, а на морской прибой, настойчиво и монотонно убеждает ее: «Поэтому вам следует не отказываться от участия в жизненном цикле, а покорно идти по кругу и зачать ребенка, выносить и родить его, чтобы вечный цикл смерти и рождения… Поэтому завтра мы отправимся в так называемую „Пещеру летучих мышей“, где сотни тысяч летучих мышей висят вниз головой…»
Итак, совершенно очевидно: в Китае не будет никаких съемок, даже если Шлёни, как ласково называют его наши дети, получит на них официальное разрешение в этой Народной республике. В Китае голод, высокая смертность! Небытие рядом со слишком высокой рождаемостью. Пособие выплачивают лишь на первого ребенка. После рождения второго лишают пособия на первого. Если же родители рискнут произвести на свет еще и третьего ребенка, им придется вернуть ранее полученные деньги.
Это бесчеловечно, жестоко, это насилие, это обман! — сказал бы, наверное, Харм Петерс. И никакого добрачного секса. И никакого внебрачного секса. Куда же они тогда девают свои чувства и страсти, избыточную энергию, свой инстинкт размножения, врожденную привычку обзаводиться большими семьями?
Или вопрос может быть поставлен по-другому: какие комплексы гнездятся в них? Как называются присущие китайцам неврозы? Есть ли у китайцев вообще время на комплексы, неврозы и тому подобные, имеющие хождение на западных рынках, товары? И даже предположим, они у них есть: дальше что? Следует ли Западному миру — он так любит оказывать помощь — осчастливить китайский народ пятьюстами тысячами психиатров? Может быть, таким образом не просто избавились бы от избыточного количества лиц с высшим образованием, но еще и пользу бы принесли? Не был бы это совсем другой фильм, который пришлось бы снимать уже не Шлёндорфу и мне? И что было бы с нами, немцами, если бы мы вместо китайцев увеличили свою численность до миллиарда, а затем, лишенные возможности удовлетворить свои плотские вожделения до и вне брака, приобрели незаметные, никем не лечимые, ни на какой кушетке не исследованные комплексы и неврозы китайцев, в то время как уменьшившийся вместо нас до восьмидесяти и меньше миллионов, оказавшийся на грани вымирания и пресытившийся плотскими удовольствиями китайский народ страдал бы от наших, исконно немецких комплексов и неврозов, то есть был бы вынужден кормить резко увеличившееся количество психиатров, аналитиков и терапевтов?
Я забыл спросить, существует ли в КНР психоанализ? Есть ли там время и деньги на этот многолетний ритуал? Может быть, носящая там совершенно иной характер любовь к плотским удовольствиям… А может быть, с помощью акупунктуры…
Вскоре после аборта, два года тому назад Дёрте и Харм из-за своих споров по поводу ребенка прошли курс лечения: сперва раздельно, а затем вместе. Толку от этого было мало: средней величины материнский комплекс у Харма и чрезмерная привязанность Дёрте к отцу. Они охотно придерживались такого вот противоположного мнения: но дорогими, слишком дорогими показались им эти два академических часа в неделю.
«О том, что я всегда как ребенок любил мать, — сказал тогда Харм, — я и раньше знал. И без всякой платы. Лучше уж мы отправимся в туристическую поездку на эти деньги».
«Возможно, эта поездка позволит нам сделать еще один шаг в своем развитии, — говорит Дёрте. — И я никому не позволю лишить себя любви к своему отцу, хотя старый брюзга изрядно действует мне на нервы рассказами о своем пребывании в Сибири в те времена».
Это можно использовать в фильме: дряхлая вдова военнослужащего в своем собственном домике, крестьянка из северных краев без своего двора. И Харм и Дёрте на кушетке: только сейчас не на двуспальной. Невнятное бормотание матери. Ссоры с отцом. Последние и предпоследние сны широким планом, бесконечное топтание вокруг анальной фазы, в то время как мать Харма в Хадемаршене и отец Дёрте на своем стариковском наделе в Кремпе не только не сознают своего определяющего влияния на сына и дочь, но наслаждаются заботой сына (конфеты из магазина деликатесов Крузе) и веселым спором с дочерью (проданный за бесценок двор). (Мать Дёрте, которая теперь занимается исключительно стиркой, упоминается лишь вскользь.)
По-моему, если уж необходим такой экскурс в прошлое, то лечащий их психоаналитик должен быть копией д-ра Вентина и высказать его гнусавым голосом следующую мудрую мысль: «Если ваше объективное желание иметь ребенка наталкивается на субъективную боязнь иметь его, что попеременно приводит к отказу от секса или ослаблению потенции, то виной этому ваша чрезмерная привязанность к матери, а также ваша чрезмерная зацикленность на отце…»
Но такого не будет. Вентину не следует играть двойную роль. Если только не предположить, что в нашем фильме ему в дальнейшем не будут отведены роли индийского гуру и жреца в одной из балийских деревень.
Например, он мог бы отправить Харма и Дёрте на взятом в аренду мотоцикле в глубь острова Бали, то есть в поистине райские места. И там они под отбрасывающим тень на площадь священным Вайрингином вполне могли бы встретить пожилого или без возраста мужчину, закутанного, правда, по местному обычаю в кусок ткани и сидящего на корточках, но которого играет актер — Шлёни предлагает Отто Зандера, — исполняющий также роли руководителя туристической группы д-ра Вентина и психоаналитика в Итцехое.
Ибо они вполне могут заменять друг друга. Наши комплексы и неврозы — серийный товар. Вентин вполне мог бы преподавать аэробику или быть корреспондентом «Квелле». Такие учителя, как Харм и Дёрте, имеются в любом окружном центре. И Итцехое с его причиненным окружающей среде ущербом, с его связанными с уборкой мусора проблемами и его пешеходной зоной вполне мог бы называться Туттлингеном и располагаться на берегу любой реки.
Но Брокдорф есть Брокдорф. Ведь эту общину, этот церковный приход, это популярное место решили подмазать, преподнеся ей в качестве утреннего дара плавательный бассейн, и с тех пор предназначенный для строительства атомной электростанции участок оказался обнесенным стеной, и теперь это расположенное прямо за плотиной на Эльбе место, делаясь все более и более идиллическим, ждет, когда сюда явится принц, который разбудит его своим поцелуем и отменит судебное решение, запрещающее строительство: тому есть единственный пример в немецкой сказочной литературе. Итак, этого ждет наша окруженная проволочными заграждениями спящая красавица. Ее пример весьма показателен, а территория теперь как нельзя лучше подходит для проведения демонстраций и использования сил полиции. Здесь то ли четыре года, то ли пять лет тому назад Харм и Дёрте вместе с еще тысячами людей выражали свой протест. Здесь по отношению к ним едва не применили насилие. На какое-то время оба здесь словно помолодели. Об этом они до сих пор готовы беседовать в любое время: «Помнишь, как мы здесь вверху и вон там внизу этим „бульдогам“… „Здесь их место“».
С плотины можно кинуть взгляд очень далеко и за запретной зоной разглядеть славящийся обилием убойного скота Вильстермарш. Затем взор оказывается словно в ином мире, ибо с плотины за выступающими на берегу. Эльбы пляжами и постоянно расширяющейся к устью рекой видно, как она несет в Гамбург и обратно крупноналивные танкеры, пароходы с бананами и каботажные суда. Устремленный вдаль взгляд парит теперь еще дальше, уже по ту сторону, где начинаются (такие же, как здесь, в Марше) прибрежные равнинные земли Нижней Саксонии. Ах, и сколько облаков над такой огромной равниной. И заходы солнца, окрашивающие все вокруг в чернильный цвет. Камера парит над пустотами!
И не обращая никакого внимания на пока еще не отмененный и по-прежнему опасный план строительства — ведь на 26 ноября в Шлезвиге вновь состоятся судебные слушания по этому поводу, — телята и овцы пасутся на заросшей травой плотине, дует то теплый, то холодный ветер, сменяются времена года, природа притворяется дурочкой.
С этого момента действие фильма начинает развиваться совсем в ином ракурсе: нам все время приходится возвращаться на экране к Брокдорфу, — к этому головорожденному созданию. Кто нам может запретить проводить здесь съемки? Какую еще точку исхода могли бы иметь наши учителя?
Дёрте Петерс руководствуется экзистенциальными соображениями — «Поскольку это направлено против природы, против человека» — и настроена весьма решительно, представляя аргументы, которые сводятся к выражению «как-то»: «Нужно как-то экономить или как-то найти другие источники энергии», Харм же исходит из интересов наемных работников — «Их всегда первыми заставляют раскошеливаться!» — но с оговоркой: «Разумеется, сперва следует решить вопрос о дезактивации, а в промежутке проблему хранения отходов, иначе здесь ничего не получится».
Дёрте и Харм заняли определенные позиции. Их «как-то против» и «с оговорками за» путешествуют вместе с ними по странам Азии вместе с ливерной колбасой в запечатанном пакете, как и с оказавшимся вполне транспортабельным конфликтом из-за ребенка, чье появление на свет — так и так весьма маловероятное — теперь все больше и больше зависит от решения проблемы ядерной энергии: «Как только будет пущен в ход следующий скоростной реактор-размножитель, у меня, во всяком случае, окончательно пропадет желание иметь ребенка».
Эти слова Дёрте Петерс произносит не на плотине, а незадолго до религиозного искушения в Бомбее, когда у Харма после посещения трущоб, расположенных на территории, ранее именуемой «Яната-Колони», а теперь получившей название «Чита-Кати», начинается понос, так как он слишком поздно принял таблетки «Мексаформ-Плюс».
Отделившись от группы (и д-ра Вентина), они отправляются на поиски сувениров. И прямо в толпе, возможно даже перед расположенным на небольшой возвышенности индийским центром ядерных исследований, струя нечистот извергается из него прямо в штаны. Он испражняется, окруженный нищими и детьми, которые не видят ничего особенного в том, что у него течет прямо через хлопковую ткань. Дёрте стыдливо отворачивается. Харм кричит: «Ну и что? Здесь каждый испражняется там, где захочет!»
Довольный как ребенок (или скажем так: радостно-возбужденный), он беспомощно дергается в своих заляпанных дерьмом штанах. Он сознает себя таким же, как все здесь. Ничего больше ему не нужно. Он предчувствует ощущение новой, ранее неведомой ему свободы. Никакого «с одной стороны — с другой стороны». «Наконец-то! — восклицает Харм. — Как же это пошло мне на пользу!» Он присаживается рядом с сидящими на тротуаре на корточках местными жителями. Один из них предлагает ему бетель. Он жует его и, подобно им, выплевывает красный сок.
Стоявшую между ними Дёрте бросает то в жар, то в холод. Затем она отходит в сторону. Она здесь посторонняя, от нее исходит чужой запах. На ней безупречно сидит бело-голубое полосатое летнее платье. Волосы ее остаются светлыми, слишком светлыми, принципиально светлыми, в то время как белокурые волосы Харма начинают темнеть и становятся иссиня-черными, делая из него натурального брюнета. Да и в остальном он начинает постепенно опускаться и становится вскоре неузнаваемым, а затем к нему уже нельзя прикоснуться, ибо он принадлежит теперь к касте «неприкасаемых», которых в Индии, согласно статистическим данным, насчитывается свыше восьмидесяти миллионов человек.
Дёрте плачет, кричит, визжит и убегает сломя голову, преследуемая просящими милостыню, еле передвигающими ноги, искалеченными детьми. И все же ей удается добраться до отеля, где в прохладном холле ее встречает и сердечно обнимает одетый в новый костюм из хлопковой ткани Харм, у которого вновь такие же белокурые волосы, как у Дёрте.
Об этом я бы охотно поговорил с Борном: о соответствующей подготовке, изображении и выявлении эстетических свойств в процессе утилизации страха. Но Николас Борн больше не разговаривает с нами. Он умирает, так ничего и не высказав. Он сосредоточен только на себе. Здесь нет для нас ничего необычного, мы достаточно хорошо знаем его, однако на сей раз даже его умирающая индивидуальность не дает о себе знать. Он не хочет больше растрачивать себя. Никогда больше он уже не сможет расслабиться в творческом порыве. Никогда мы уже не услышим его двенадцатисложных стихов. Никогда больше он не будет менять местами правильные слова, хотя именно те слова, которые он поменял местами, и есть наиболее правильные. Кто еще, кроме него, мог быть так поразительно точен в неточностях?
Мы и все остальные (Хауфс, Мекель, Бух, Петерс, Шнайдер) вот уже четыре года подряд ежегодно каждые два месяца отправлялись с вокзала Цоо на вокзал Фридрихштрассе. Со сложенными рукописями в карманах мы перелезали на руках через контрольные заграждения. Оказавшись наконец вместе на другой стороне, мы отправлялись на такси к Шэдлиху: путем Красной шапочки, или к Кунерту в Бух, или к Сибилле Хенчке в ее однокомнатную нору на Ленбахштрассе, или к Саре Кирш в высотное здание, откуда открывался вид как на эту, так и на другую сторону.
Борн был всегда с нами. Он читал нам из своей «…обратной стороны Земли…», Шэдлих читал свои запрещенные, сделавшие его изгоем рассказы, Кунерт — свидетельства своих загубленных талантов, Сара — стихотворения, вызывающие слезы на глазах, Кунерт вещал о следующем ледниковом периоде, я читал черновики разрывающего мне грудь романа «Палтус», а Брам просто извергал накопившуюся в душе ярость. Если же мы не читали друг другу свои произведения, то говорили о чем угодно. Вполне возможно, что нас подслушивали спрятанные под обоями или под слоем штукатурки «клопы». Или же среди нас был шпик, который ел вместе с нами сосиски и сладкие, посыпанные корицей пироги, и хлебал суп из свежей капусты. «Штази»[25] вполне мог все слышать, записывать на пленку разговоры и все же так ничего и не понять в литературе — подобно своим коллегам с другой стороны, которые для расшифровки текстов, наверное, обратились бы за помощью к официальным экспертам. Что они как на Востоке, так и на Западе понимают в разорванных строках Сары, описаниях кладбищ Кунерта или размышлениях Борна о смысле и значении слов? Они чуют опасность чуть ли не за каждой точкой с запятой. Они опасаются интервала между строфами. Они твердо убеждены, что когда в написанном в усложненной форме стихотворении упоминаются (случайно) паданцы, то под ними подразумеваются именно они — как на Востоке, так и на Западе.
Во время одной из последних наших встреч — примерно в начале семьдесят седьмого — Бирман был уже лишен гражданства, и вскоре такая же участь должна была постичь Шэдлиха, Сару, Брамма и Юрека Бекера — Николас Борн прочитал начальные главы своей книги «Подлог», судьба которой была еще неясна. Мы ничего не знали, а он мог лишь догадываться, чем все это кончится.
Затем государства вынесли свои вердикты (одному из них всегда приходит на ум подходящая рифма к слову «литература», другое же вообще никак не реагирует на него).
Теперь мы живем каждый сам по себе и перезваниваемся только в случае крайней необходимости. Все попытки продолжить наши встречи не удались из-за изменившихся условий. Здесь на Западе очень трудно сосредоточенно слушать. Очень много посторонних шумов.
При этом вы бы охотно, я твердо знаю, ибо охотно сделал бы то же самое, прочитали друг другу черновые варианты своих произведений: робко или, наоборот, весьма самоуверенно. Шэдлих о том, что вызывает у него грусть. Сара о том, что ее любовь всегда остается с ней. Юрек свои воспоминания. А я бы рассказал о своих головорожденных созданиях и о том, почему они — немцы — вымирают.
Мы поговорили бы о форме, ставшей содержанием: о том, как будущее наплывом уничтожает прошлое и вместе с ним становится настоящим. Если бы Дёрте и Харм Петерсы смогли напитать свой студенческий протест — «А ты помнишь, как АСТА…» — воспоминаниями о детстве, затхлой атмосферой пятидесятых годов и свои разговоры о былых подвигах доставить из Киля и Ноймюнстера через Итцехое на остров Бали. Или если бы они оба, занятые бесконечным пережевыванием подробностей покушения на Дучке, вдруг оказались в ситуации, позволяющей предвосхитить будущее — его просветительские лекции о странах «третьего мира», ее решение записаться в ряды «зеленых» в том случае, если Шмидт и Геншер по-прежнему словно заведенные будут настаивать на более широком использовании ядерной энергии: «Нужно рискнуть и посмотреть, на что способен Штраус, хотя это и очень рискованно».
Или же я спрашиваю вас и тебя, Николас, — что делать с этой проклятой ливерной колбасой, которая для меня все больше и больше превращается в реальную вещь: следует ей остаться дома или вместе с остальным, образующим побочные сюжетные линии материалом лететь в Азию? Разве это, постепенно приходящее в негодность инородное тело не могло бы обозначать вехи блужданий Харма?
Уже в полицейском участке Денпасара, где Харм спрашивает о своем школьном друге, он сразу вызывает подозрения. Вентин передает его (вместе с колбасой) по цепочке множеству посредников-китайцев, но Харм даже предположить не может, что здесь намечается нелегальная торговля оружием. Он даже бронирует место в самолете, совершающем чартерные рейсы на остров Тимор. В багаже Харма несколько ящиков, которые ему попросту навязали. Но приземлится ли он на территории, занятой повстанцами? И что об этом скажет Дёрте? Или его арестуют на аэродроме в Денпасаре, а затем подвергнут допросу? Будет ли тогда ливерная колбаса вскрыта по всей длине или ее просто выборочно проверят, а разрез в целлофане позднее заклеют скотчем? А теперь чисто практический вопрос: выдержит ли немецкая ливерная колбаса все эти испытания? И не должен ли ангел-спаситель в лице д-ра Вентина освободить Харма из-под ареста, чтобы, наконец, вновь могли начаться споры по поводу ребенка?
Но Николас Борн уже никогда больше не разрешит мои сомнения с помощью своих. Наши вымыслы уже нельзя больше сравнивать. Его оставляет холодным то, что бросает меня в пот. Он на десять лет моложе меня и поэтому никогда не шел вслед за командиром взвода знаменосцев «гитлерюгенда», никогда не стоял в рядах тех, кто приносил присягу знамени со свастикой, и мои умозрительные размышления на тему вины, соучастия и причастности к преступлениям были ему чужды, ибо совсем иное внушало Борну страх; ведь до тех пор, пока я, родившийся в семнадцатом году, то есть на десять лет раньше него, обретаюсь среди своих головорожденных созданий, его нет рядом, как нет его рядом, когда я весной сорок первого высаживаюсь с воздушным десантом на Крите (вместе с Максом Шмеллингом) и также принимаю участие (опять же без него) во всем остальном с помощью своего пера, одержимый игрой слов: у меня свежи в памяти не только стихотворения, посвященные дням рождения фюрера, и гимны, воспевающие дорийские колонны, но и расстрелы партизан, которые лишают меня дара речи, и уничтожение украинской деревни. Когда я бежал, пригнувшись, по снегу, то видел ее перед собой перед тем, как мы сожгли ее: согласно приказу…
«Какое мы имеем к этому отношение? — кричит Харм своей Дёрте. — Мы родились, когда вся эта мерзость была уже позади. На нас лежит вина за совершенно иное дерьмо. Однако нас повсюду спрашивают, есть ли у нас еще нацисты. Можно подумать, что весь мир хочет этого. Нет! У нас совсем другие заботы. Мы не хотим вечно копаться в окаменевшем дерьме прошлого. Иначе нам не понять, что же такое будущее. Как же тогда достойно встретить восьмидесятые годы? Но Штраусу в них делать нечего. Он, он также из позавчерашних. Он до сих пор хочет удержать Сталинград».
5
Мы на пороге восьмидесятых: они наступят, когда Харм и Дёрте отправятся путешествовать. Я начинаю писать в ноябре семьдесят девятого и хочу закончить первый вариант «Головорожденных» в сочельник перед тем, как у нас соберутся гости.
Вскоре на всех нас обрушится десятилетие Оруэлла. «Нет, дорогой Джордж, — с этой фразы вполне могла начаться другая книга, — все далеко не так плохо, или если и плохо, то совсем по-другому, а в некоторых сферах даже несколько хуже».
Например, ежедневно стирающие друг друга информационные блоки. Мы знаем и одновременно забываем все вплоть до отделенных запятыми цифр, хорошо знакомым тонким голосом разум учит нас воспринимать новейшее безумие как относительно прогрессивное явление. Нас стремятся убедить в том, что только вооружение может положить начало так страстно желаемому обеими сторонами разоружению. Чтобы дать представление о нашей демократии, каждого кормят через растерную систему, а на энергетический кризис мы отвечаем увеличением производства. Мы глотаем таблетки, чтобы избавиться от вреда, причиненного употреблением таблеток. Наши выходные — это повод для всяческого потребления, наши времена года заканчиваются сезонными распродажами. К тому же мы достаточно хитры: чтобы в этом в основном голодающем мире, где, правда, есть отдельные совершенно зажравшиеся регионы, сохранить стабильными цены на продовольствие, мы громоздим на складах целые горы из масла и свинины. Согласно статистическим данным, в мире ежегодно умирает от голода пятнадцать миллионов детей, однако на самом деле их гораздо больше, — об этом свидетельствует их массовая гибель в Камбодже в конце уходящего года. Но поскольку для любого самого кошмарного явления мы находим подходящий термин, то за выражением «недостаточное снабжение» скрывается гибель множества людей. Но у нас есть новый Папа — уроженец Польши, который столь же непогрешим, как и Хомейни в Персии. В общем-то у нас нет недостатка в выдающихся лидерах: ханжа-проповедник в Вашингтоне и больной, недалекий человек в Москве позволяют принимать за себя решения, а затем возвещают о них миру. Разумеется (как фирменные знаки спасения), еще имеются добрый старый капитализм и добрый старый коммунизм: только оба они благодаря своей исконной вражде (ты это предвидел, дорогой Джордж) становятся все более похожими друг на друга; два злобных старика, которых мы обязаны любить потому, что никуда нельзя деться от их навязанной нам любви. У «Большого брата» есть близнец. Во всяком случае, можно спорить о том, стерегут ли нас однояйцовые или двуяйцовые близнецы «Большого брата».
Так рыдая и стеная, мы входим в следующее десятилетие, на страницах школьных сочинений и первых романов их авторы соревнуются между собой, выясняя, кто нарисует более мрачную перспективу. Еще до его начала с жизнью будет покончено. Ежедневно наши поэты выблевывают за завтраком тысячи своих стихотворений: превосходные мастера четырехкратного сальто бессмыслиц и других дисциплин. Так уж повелось: с тех пор как эпоха Просвещения — эта священная корова — оскудела, из прогресса больше не выдоить ни капли сока. Наши избалованные дети согласны выйти, как только им оплатят проезд по обходным путям. С грустью наши вчерашние революционеры (выразив протест) переходят в чиновничье сословие. И каждый утверждает как нечто само собой разумеющееся, что испытывает страх, уже появились школы, в которых в соответствии с принципом групповой динамики внушают страх и учат его преодолевать. Дрожащее от озноба общество мы пытаемся согреть собственным теплом. «Ощетинимся пиками, — говорят теперь друг другу в знак приветствия. — Мы постепенно ощетиниваемся иглами». Ускорить разработку проекта автомобиля, экономящего горючее, все покрыть теплоизоляцией, обеспечить звуконепроницаемый выхлоп фантазии (по части хобби), пополнить запасы музыки и в ожидании грядущего придумать парочку славных альтернатив: если бы еще подлинные потребности… если бы каждый столько, сколько он… если бы никто ни в чем не нуждался… если бы я при условии… если уж не получается демократическим способом… если демократия оказывается непригодной… если ты или, предположим, я… если я, один лишь я, обладал бы всеми полномочиями…
Однажды стать диктатором. Уже совсем скоро, прямо в сочельник. Сразу же в начале восьмидесятых годов. Совсем маленькая, сугубо личная, глубоко затаенная исконная мечта, которая (подобно остальным исконным мечтам) присуща всем: летать как птица, проходить сквозь стены, всегда оставаться ребенком, стать невидимым, всемогущим как Бог, иметь подряд одиннадцать женщин, предвидеть будущее, сдвигать горы, иметь неограниченные полномочия и чтобы никто не смел даже возразить.
Только на год. Мне было бы вполне достаточно. Затем возвращение к нормальной демократии смягчило бы мои благодеяния. Я не хочу упразднять все, только это и вон то. С собственностью я поступил бы так, как уже давно поступают с интеллектуальной собственностью: на протяжении семидесяти лет, прошедших после смерти автора (я имею в виду себя), его (то есть мои) права, являющиеся общественным достоянием, и я (как диктатор) хочу на основании закона распространить этот принцип на любую приобретенную или полученную по наследству собственность, будь то дом, фабрика или земельный участок, так, чтобы только дети и до некоторой степени внуки могли унаследовать их и пользоваться ими. Все остальные избавлены от тягот наследования, на них не распространяется действие дедовского завещания, и они вполне могут, говоря откровенно, добывать все своими усилиями…
Поскольку я не пацифист, то как диктатор намерен не ликвидировать бундесвер, но, напротив, преобразовать его в маневренную партизанскую армию, с которой на протяжении длительного срока придется считаться любым оккупационным властям. В эту партизанскую армию будут подлежать призыву помимо всего прочего женщины и дети, а также все домашние животные, дедушки и бабушки, потому что моя партизанская армия станет применять не обычные методы ведения боевых действий, но сумеет развязать сопротивление, которое окажется настойчивым, изнурительным, учитывающим любое настроение и охватывающим также интимную и семейную сферы и осторожно заставляющим противника пойти на уступки. Такое сопротивление невозможно сломить: так был ослаблен и поглощен враждебными элементами Рим.
Разумеется, как диктатор я буду принимать такие популярные меры и приму закон, обязующий любого судью отбыть десятую часть всех тюремных сроков в соответствии с вынесенными им приговорами. Диктаторские полномочия позволят мне разрешить энергетический кризис путем отключения ночью электроэнергии и смягчить остроту ситуации через избавление территорий всех городов от автомобильного транспорта. Кроме того, я (подобно всем диктаторам, склонным немного пошутить со своими согражданами) вновь объявлю обязательным для немцев ношение традиционных ночных колпаков при ночевке в неотапливаемых спальнях; после чего выяснится, что отключение электроэнергии и ночные колпаки приведут к прекращению снижения роста населения и произойдет нечто совершенно противоположное: оно начнет увеличиваться.
Поскольку я, зная причину краха всех школьных реформ, отменил бы обязательное среднее образование, вскоре вновь появились бы неграмотные дети, которые, одержимые ярым желанием читать, разбирали бы по складам печатные буквы. И вновь появились бы странствующие домашние учителя и соответствующие любовные истории. По всей стране на весь период восьмидесятых годов были бы запрещены любые беседы на педагогические темы, любое распространение старых или новых педагогических концепций, а далее вообще такие термины, как цель обучения, педагогика, дидактика, краткая биография, общефедеральная конференция педагогов, определение ребенка в школу, перевод ребенка в другую школу и интенсификация процесса обучения, то есть вообще термины, все порожденные немецким педагогическим безумием.
Таким образом — после избавления от тягот учителей — остается лишь упразднить вообще чиновничье сословие. Тем самым Федеративной Республике Германии — а я мыслю себя ответственным только за ее территории — было бы оказано еще одно, снимающее с этой прекрасной страны тиски благодеяние… «Сим я, — говорилось бы в моем, именуемом „Амнистия“ указе, — возвращаю свободу этим несчастным, на протяжении стольких десятилетий обделенным риском людям. Никогда больше их не будут так безнадежно обеспечивать до конца жизни. Им не придется больше стыдиться своих привилегий. Никогда больше они не будут чувствовать себя изолированными от общества из-за своих преимущественных прав. Наконец-то им будет предоставлена возможность вкусить всю сладость риска». Возможно я, варьируя слова кайзера Вильгельма, даже выдвину девиз восьмидесятых годов: «Для меня нет больше никаких чиновников, для меня есть только немцы».
А своему восточному соседу-диктатору я сделаю следующее предложение: обоим немецким государствам следует каждые десять лет обмениваться своими системами так, чтобы была обеспечена справедливость, и ГДР смогла бы отдохнуть при капитализме, а ФРГ при коммунизме избавиться от многих своих недостатков, и — при строгом сохранении общей границы — общегерманское ведомство занималось бы возвращением собственности и денационализацией производства…
На этом я выполнил бы свою роль диктатора, если не считать, конечно, еще нескольких небольших, но составленных в крайне резком тоне второстепенных указов. Ну это не так уж много, скажет кое-кто, и у такой диктатуры нет перспективы. Я, однако, должен признаться, что для меня этих немногих, улучшающих жизнь мер пока вполне достаточно, к тому же Харм Петерс наконец также пожелал получить необходимые полномочия и стать великим диктатором — «Хотя бы на годик».
Дёрте вдохновила его на этот шаг. Во время одной из экскурсий, на этот раз к вулкану в центре острова, ей удалось (снова) сделать из своего Харма клоуна. Такого, словно с цепи сорвавшегося и прыгающего среди кусков застывшей лавы, она любит еще больше: большой ребенок. Вечный мальчик. Идеальный нордический герой, с дубинкой в руках сражающийся с демонами и гигантами и глоткой пытающийся усмирить населяющих этот мир дьяволов.
Поскольку туристическая группа после лекции Вентина — «Еще в 1963 году Гунун Агун унес пятнадцать тысяч жизней…» — устраивает себе получасовой полуденный отдых с лимонным соком на участке пути прямо под вулканом, они оба оказываются предоставленными сами себе и с удовольствием валяют дурака. Пока Дёрте сооружает из обломков окаменевшей лавы крохотный храм и, сознавая свой долг, приносит сюда пожертвования — чашку риса, два-три апельсина, кучку семян из шишек пиний, Харм начинает проверять акустику в этом устремленном ввысь, самой природой созданном театре: «Я, Харм, — восклицает он, — пришел объявить войну вам, духи и демоны! Я намерен покончить с любым суеверием. А ну выходите! Покажите ваши рожи! Вы хотели украсть у меня мою деву! Я хочу привить вам тевтонский дух! Семерых одним ударом. Один против всех. Рыцарь, смерть и дьявол!»
Какими бы смешными ни казались Дёрте прыжки и ужимки Харма, от его речей ей становится несколько не по себе. «Пожалуйста, Харм, — восклицает она, — мы здесь всего лишь гости. Ты же обычно такой терпимый. А вулкан, я хочу сказать, ты можешь его разгневать. Может, ты кого-нибудь или чего-нибудь еще освободишь! Ну, например, угнетенное общество или разделенное отечество. Давай, Харм, сделай это. Если бы ты обладал в Германии необходимыми полномочиями. Ну стал бы диктатором, поскольку от демократии так и так вскоре ничего не останется».
И Харм внимает ее призыву. Он, рассудительный, образцовый демократ, готовый всем предоставить избирательные права и для которого любой разумный компромисс является священным, он, который семь раз на дню произносит выражение «базовая демократия» и для которого основным принципом является формула «с одной стороны — с другой стороны», он, который (с цитатами из Розы Люксембург на устах) готов в любое время выступить в защиту прав инакомыслящих, он берет на себя эту роль и среди окаменевшей лавы становится великим диктатором.
Разумеется, без меня здесь не обходится. Никогда я не допущу, чтобы Харм злоупотребил сосредоточенной в своих руках огромной властью и, к примеру, запретил бы партии, называющие себя демократическими. Но Дёрте и я с одобрением относимся к его намерению отменить налог на содержание церкви. «Воистину, — взывает он (к упирающейся в облака вершине вулкана), — церковь вновь должна стать бедной, ведь Иисус Христос был бедняком!» Однако он готов компенсировать отмену церковного налога: «Вместо него, так я приказываю, вводится прогрессивный налог на такую же сумму, который будет взиматься в пользу государств „третьего мира“. Но он пойдет не на строительство неуклюжих промышленных объектов — о нет! Приоритет будет отдан проектам развития сельского хозяйства, чтобы положить конец бегству населения из сельской местности, а вместе с ним и трущобизации крупных городов».
Дёрте в восторге. «Хайль Харм!» — кричит она. Но как только я пытаюсь через диктатора Харма издать свой собственный диктаторский указ, отменяющий всеобщее среднее образование, преподавательница средней школы страстно высказывается против него: «Он отбросит нас на несколько столетий назад. Выгоду из этого вновь извлекут привилегированные слои». Так как Харм также не слишком благожелательно относится к моему указу, который должен способствовать пробуждению подлинной, никаким обязательным посещением школы не сдерживаемой любви к чтению и продуктивному проведению свободного времени, я подсовываю ему указ об упразднении чиновничества, который радикальнейшим образом ликвидирует узаконенные привилегии германского чиновничества: это была бы революция! Вся бы вонь вышла вон! И наконец-то в канцелярии проник бы свежий воздух!
После некоторых колебаний — в конце концов Харм и Дёрте как учителя также принадлежат к чиновничьему сословию — он прописывает населению Западной Германии этот рецепт радикального излечения болезни, который он, выражаясь моими словами, именует «избавлением чиновников от тягот противоречащих их человеческому естеству привилегий». «Да! — кричит Дёрте, — мы, учителя, хотим быть свободными. Избави нас, великий Харм, от особого чиновничьего права!»
Меня также поражает то обстоятельство, что ни Харм, ни Дёрте не хотят вывести бундесвер из состава НАТО и отвергают предложенную мной в качестве альтернативы концепцию создания занимающейся подрывной деятельностью, маневренной, способной ослабить и изнурить любого оккупанта партизанской армии. Правда, Харм высказывает мою идею: «Основывающаяся на ведении многолетней партизанской войны оборонительная концепция способна запугать Советский Союз гораздо сильнее, чем запланированное нами ракетное чудо…» Но его возражения против применения стратегии подрывных действий в конце концов убеждают также и меня: «Партизанская война противоречит немецкому характеру. Немцы не желают прибегнуть к коварству и выжить в условиях подполья. Напротив, они готовы, если потребуется, погибнуть на поле битвы».
Тем не менее диктатор Харм вместо моей хитроумной идеи разрабатывает еще более ошеломительную: «Сохраняется бундесвер и членство в НАТО. Мы также будем способствовать разоружению с помощью гонки вооружений. Только, согласно немедленно вступающему в силу указу, все вооружение бундесвера, от пушки до ракеты, от ракетного эскадренного миноносца до всепогодного истребителя, будет заменено внешне ничем не отличающимися от них муляжами, чтобы наряду с нашей непреклонной решимостью обороняться продемонстрировать противнику наш радикальный отказ от войны как средства проведения политики. Никто больше не отважится выступить против наших теоретически обладающих гораздо большей боевой мощью картонных танков, против наших несущих смерть и гибель муляжей ракет, против наших целлофановых, имеющих такой страшный вид кулис. Да их же тогда на смех поднимут. Никто не хочет быть посмешищем, и русские в том числе. Впрочем, эта программа перевооружения приведет к созданию сотен тысяч новых рабочих мест».
После этой воистину эпохальной речи Харм по-прежнему в ударе. Дёрте восхищена тем, как он, следуя моим намерениям, решает в восьмидесятых годах проблему получения энергии. Сила ветра и насосы по перекачке теплоэнергии, гигантские солнечные коллекторы и жесткая программа сбережения энергии вызывают у нее восторг. Она согласна даже, правда без особого желания, сохранить на переходный период несколько ядерных реакторов. Она называет грандиозным его предложение выкачать из всех вулканов Тихоокеанского региона, к которым относятся как страшный Гунин Мерапи на Центральной Яве, так и здешний Гунун Агун, их разрушительную силу для последующего накопления энергии; но как только великий диктатор Харм Петерс приступает к решению германского вопроса, его супруга застывает в недоумении: что он хочет? Не может же он предлагать такое на полном серьезе. И ведь все это касается обоих германских государств.
Ибо Харм, сделавшись диктатором всей Германии, объявляет (после того, как он отверг мою идею «смены систем каждые десять лет») «среднесрочную программу перспективного решения германского вопроса».
Стоя на обломках загубленного лавой дерева, он диктует: «Население обоих германских государств незамедлительно принимает решение о безоговорочном и социально защищенном, радующем душу, вот именно радующем душу, ибо это осчастливит человечество, поголовном вымирании. Больше не будет зачат ни один ребенок. Любая случайная беременность немедленно прерывается. Родившиеся несмотря на запрет дети лишаются гражданства и передаются на воспитание в проживающие в странах Азии семьи. Следуя германскому жизненному девизу „Все или ничего“, основной целью объявляется достижение ничего. По библейским меркам, то есть через семьдесят, ну самое большее через восемьдесят лет немецкий народ, возликовав душой, окончательно прекратит свое существование. Его государственные, правоохранительные и административные учреждения, его притязания и долги будут несуществующими и недействительными. Всю ответственность за образовавшийся вакуум возьмет на себя природа. Леса и пустоши увеличатся в размерах. Реки облегченно вздохнут. Наконец-то на германский вопрос будет дан ответ, полностью соответствующий германскому характеру и его склонности к самопожертвованию. Разумеется, австрийцы и немецкоязычные швейцарцы могут присоединиться к среднесрочной программе самопожертвования, но они вовсе не обязаны это делать. Мое решение основывается на „малогерманском“ принципе. Роковой воинственный клич „Германия будет жить, даже если нам придется умереть!“ наконец-то обрел миролюбивый смысл. Да здравствует наш вымирающий народ!»
«Нет! Дёрте больше не желает в этом участвовать. Ее отказ лишает власти диктатора Харма. Она молит вулкан выразить протест: „Великий, священный Гунун Агун, ты слышал?! Скажи свое слово. Заткни ему рот!“»
Поскольку гора молчит, Дёрте приходится сделать это за нее. «С этим не шутят, — говорит она. — Теперь, когда я наконец решилась доносить ребенка». Она ощупывает свое тело так, словно она уже беременна. Она говорит: «У меня есть право на ребенка». Она плачет посреди застывшей лавы. И даже вполне искреннее предложение Харма положить начало вымиранию немецкого народа только после рождения ребенка не слишком утешает ее. Она требует обещания никогда больше не изображать из себя диктатора. И Харм делает широкий жест и идет ей навстречу. Но уже ее следующее требование навсегда забыть выражение «Ребенку нет!» и говорить лишь «Ребенку да!» — «И зачать его немедленно, Харм, прямо здесь, на кусках лавы!» — вызывает у него страх.
Оно гонит его вниз по склону. Он не хочет, не может, не хочет хотеть, не хочет мочь. Он бежит и прыгает по каменной осыпи, и мы слышим его дикий крик: «Нет! Нас и так вполне достаточно! Вымираем! Медленно вымираем! Когда-нибудь всему этому нужно положить конец! Этому бесконечному писанию! Этому пенсионному страхованию! Всем этим среднесрочным перспективам!»
Но Дёрте, которая медленно спускается вслед за ним с горы, уже вновь взяла себя в руки. Такая уж она есть, крестьянская дочь: очень сильная натура. «Кричи, парень. Накричись до изнеможения. А потом ты будешь таким, каким тебя я захочу. Потому что ко мне прикоснулась богиня. Потому что меня благословили. Повсюду». — Затем она отцепляет от волос летучую мышь, а из-под подобранного подола платья показывается змея, обвившаяся вокруг ее левой ноги. И пока со склона горы доносятся крики Харма, она с улыбкой вешает летучую мышь на торчащее из лавы дерево. Змея соскальзывает с ее ноги на сандалию — если это вообще можно изобразить средствами кинематографа — и, грациозно извиваясь, скрывается в расщелине скалы.
Этого уже никак не вычеркнешь. Летучая мышь в волосах и обвившаяся вокруг ноги змея так же реальны, как и разоружения путем вооружения и германское чиновничье право. В конце концов, Дёрте ведь пережила все это, и снятый Хармом на видеокамеру фильм, который сперва запечатлел ее возвращение из «Пещеры летучих мышей», позволяет предположить, — хотя кадр получился несколько смазанным — что Дёрте впервые подверглась искушению, когда в ее светлых волосах обосновалась летучая мышь. Это вовсе не означает, что фильм завершит католический символ Божьего благоволения, заставляющий поверить в «непорочное зачатие Дёрте», однако до тех пор, пока Харм и Дёрте пребывают на Бали, я не могу исключать другие граничащие с чудом явления.
Например, Дёрте каждый вечер ожидает на балконе своего номера появления летучей мыши; она действительно прилетает и поселяется в волосах Дёрте, после чего в дневнике появляется следующая запись: «Только что меня вновь посетило Божественное животное. Каждый вечер Божий знак. О мой дорогой Харм, если бы ты знал, как глуп твой разум…»
Например, Харм, когда группа смотрит на Бали танцевальное представление, во время знаменитого огненного танца, подобно танцору, прыгающему на горящей рисовой соломе до тех пор, пока она не обратится в пепел, внезапно впадает в транс, и остальные члены группы с трудом удерживают его от намерения также исполнить босиком танец на горящей соломе. В конце концов д-р Вентин и чиновник судебного ведомства из Вильгельмсхафена отводят его к тому самому автобусу марки «Фольксваген», который туристическая компания «Сизиф» содержит на Бали для проведения экскурсий.
Но это лишь эпизоды, которые позволяют связать фильм в единое целое и которые не нужно объяснять. Только кадр наплывом, изображающий Дёрте, выступающую на предвыборном собрании в окружении весьма импозантных дам, наглядно демонстрирует, что внезапно повисшая на волосах референтки отделения партии свободных демократов летучая мышь воспринимается в Итцехое как инородное тело, а не как аргумент в пользу сохранения социал-либеральной коалиции.
Визжащие дамы в кафе «Шварц» успокаиваются лишь после того, как Дёрте истолковывает образ летучей мыши как воплощение всех ужасов восьмидесятых годов. Затем она спокойно помогает ночному животному выпутаться из волос, открывает боковое окно в отведенном под предвыборное собрание помещении и выпускает летучую мышь в густеющие сумерки позднего лета. «Тем самым, дорогие дамы, — говорит она, — я хотела всего лишь продемонстрировать вам, что мы обязаны решительно бороться с грозящими нам в грядущем десятилетии опасностями».
Аплодисментами импозантных домашних хозяек и работающих дам завершается этот наплыв, и после мягкого, а если Шлёндорф хочет, жесткого монтажа мы вновь оказываемся на Бали, где летучая мышь в волосах не нуждается в рациональном объяснении, а воспринимается как вполне естественное явление подобно тому, как в Германии воспринимается ливерная колбаса в запечатанном целлофановом пакете.
Она вновь оказывается на Бали, где вызывает подозрение. Харм никак не хочет расстаться с ней. Он все еще ищет своего школьного друга, доброго славного Уве, который с таким аппетитом пожирал слегка копченую, грубоватую на вкус ливерную колбасу. Харму очень нелегко объяснить индонезийской полиции как свое поведение, так и наличие этой колбасы. Кроме того, подозрительный предмет в вакуумной упаковке выглядит между тем уже изрядно попорченным: он сочится. Если бы не д-р Вентин, который умеет снять любые подозрения с Харма и его подвергающегося двойной угрозе деликатеса, колбасе пришлось бы выдержать выборочную проверку, а разрезанные места надо было бы заклеивать пластиком.
Наконец им разрешили удалиться вместе с привезенным из Германии подарком. За стаканом фруктового сока в тени, где доставленное из Германии на самолете постороннее тело тем не менее подвергается воздействию приблизительно тридцатиградусной жары, д-р Вентин кратко и одновременно довольно пространно объясняет: «На Бали, мой дорогой друг, нет ничего постижимого; но то, что есть, оказывается непостижимым. К примеру, ваш школьный друг, этот господин Енсен. Я хорошо знаю его, и все же он не существует. Впрочем, он передает вам привет. Он также просит передать привет его сестре, которая дома временно приютила вашу кошку. Кроме того, он советует вам по-прежнему исполнять свои обязанности в системе немецкого образования и воспринимать ливерную колбасу, за которую он вам сердечно благодарен, как символ бренности: если вы все же, так говорит ваш друг, непременно желаете лично передать ему этот гольштейнский деликатес, то существует опасность, что эта трансакция, сопряженная с доставкой еще нескольких тяжелых ящиков, таит в себе немалый риск. Она могла бы навлечь опасность на преподавателя средней школы из Германии и к тому же еще и социал-демократа, для которого революционные деяния обычно всегда оставались только на бумаге. Другими словами, дорогой господин Петерс, — это советует также ваш друг — давайте предоставим ливерную колбасу самой себе. Вам не следует ставить перед собой задачи, которые вам не по плечу. Вам следует стремиться испытать себя не в чрезвычайно кровопролитных боях на острове Тимор, а в готовящейся развернуться в родных краях предвыборной борьбе. Как говорят у нас дома: проблема грядущих восьмидесятых годов.»
Тем самым, я надеюсь, мы избавимся от ливерной колбасы. Она, как оказалось, не слишком способствовала развитию сюжета. Остался лишь издавна накапливаемый целый набор среднемасштабных конфликтов и обострившихся кризисов, накал которых теперь начинает постепенно ослабевать: вот так сюрприз!
Такое же беспокойство высказывает д-р Вентин. На собрании членов своей группы в связи со съемкой их на вводимый наплывом кадр — он показывает на искусственное, располагающееся тремя террасами на благословленной из-за трех урожаев риса в год местности сооружение и говорит: «Разумеется, истинный рай! Советую запомнить мои слова, уважаемые дамы и господа, перед тем, как начнется всеобщий исход».
А как будет вести себя Сизиф в десятилетие Оруэлла? Следует ли рационализировать его камень, окажется ли его камень после этого убранным с горы?
Всегда, если Харм Петерс рассматривает заимствованный с изображения на античной вазе символ туристической компании на дверце автобуса — человека, катящего на гору камень, — он испытывает склонность к философским размышлениям: он сравнивает труд и мировоззрение Сизифа с задачами и этическими постулатами демократического социализма. «Вот так я это рассматриваю, Дёрте. Именно так. Закатывать камень на гору, плюх — и он вновь оказывается внизу. Снова вверх, и он снова внизу. И так все время. Всю жизнь. Мне кажется, стоит только провести какую-нибудь реформу и уже думаешь, ну вот, все в порядке, как раз — уже назрела новая. Это никогда не кончится. Никогда, скажу я тебе, это никогда не кончится. Камень всегда оказывается внизу».
Возможно даже, на экране промелькнут кадры, представляющие Харма, вообразившего себя Сизифом. По усыпанному кусками застывшей лавы склону, на котором он уже изображал из себя диктатора, он катит вверх огромный камень, демонстрируя тем самым перспективы экзистенциального реформизма. («Смотри, Дёрте, — стонет надрывающийся Харм, — это седьмая попытка реформы системы пенсионного обеспечения».)
Или мы видим, как он тащит огромный валун вверх по крутому берегу пруда в Брокдорфе (проблема сбережения энергии), видим, как камень, едва Харм затащил его наверх, вдруг начинает проявлять беспокойство (скоростная съемка) и сам скатывается к пруду, видим, как Харм еще и еще раз затаскивает его наверх, а Дёрте в это время кричит ему: «Давай, Харм! Только не сдаваться! Ты своего добьешься. И еще раз. Так и только так ты одолеешь восьмидесятые годы. Принять вызов времени. Не быть размазней. Ну давай же! Не сдаваться. Браться за дело. Скажем камню: „Да!“ Здесь, здесь. Даже в нашем туристическом проспекте сказано: „В этом и заключается скрытая радость Сизифа. Он сам вершит свою судьбу. Камень — это дело его жизни“.»
И Харм слушает Дёрте и Камю. Ему не страшен Оруэлл. Харм — герой абсурда вопреки абсурдной ситуации, он герой истории.
В разгар войны, в 1943 году Альбер Камю опубликовал свое эссе. Я прочел «Миф о Сизифе» в начале пятидесятых годов. Но еще раньше, еще не зная так называемой проблемы абсурда, я, глупый, вернувшийся с войны двадцатилетний юнец, полагал себя сведущим во всех вопросах бытия, а значит и в экзистенциализме. И когда позднее понятие абсурда воплотилось для меня в конкретной личности, когда я (преисполнившись отвращения к христианско-марксистской чепухе, основанной на стремлении внушить человеку надежду) воспринял веселого, катящего камень человека как того, кто приглашал радостно и весело катить камень, подвергаясь при этом насмешкам, проклятиям и наказаниям, я нашел свой камень и стал счастлив с ним. Он придает смысл моей жизни. Он такой, какой он есть. Никакие боги не отнимут его у меня; разве только они капитулируют перед Сизифом и оставят камень на горе. Но это было бы очень скучно, не стоит желать такого.
Но что есть мой камень? Маета с никак не желающими заканчиваться словами? Бесконечная череда книг? Или же типично немецкая барщина, которая представляет человеку, катящему камень (и другим таким же исповедывающим философию абсурда чудакам) немного свободы, чтобы они могли подниматься в гору? Или любовь вместе с присущей ей эпилепсией? Или борьба за справедливость, этот с таким трудом закатываемый на гору и так легко устремляющийся в долину камень?
Это все делает мой камень круглым и угловатым. Я мысленно представляю себе, как он угрожающе наклоняется и в конце концов оказывается внизу. Он никогда не разочаровывает меня. Он ничего не хочет от меня, а я не хочу избавления от него. Мне он по-человечески близок и вполне соизмерим с моими способностями. Это мой бог, который без меня ничто. Никакой небесный Иерусалим не может встать вровень с ним, никакой рай на земле не может сделать его бесполезным. Поэтому я высмеиваю любую философию, обещающую мне конечную остановку, когда камень окончательно замрет на вершине. Но я также стенаю над камнем, который опять, опять и еще раз опять сделает меня героем. «Смотри, камень, — говорю я, — с какой легкостью я беру тебя. Ты настолько абсурден и так мне привычен, что вполне годишься для фирменного знака. Сизиф подходит для рекламы. С тобой можно отправиться в туристическую поездку».
6
Считается, что очагом первой мировой войны стал сербский город Сараево, а второй — мой родной город Данциг: теперь же для этого вполне подходит Тегеран. Весь мир в свободное от болтовни о семейных скандалах, результатах спортивных состязаний и скачках, курсе цен на золото непрестанно говорит о затянувшемся удержании заложников, этом локализованном очаге войны. Человечество воистину дошло до последней точки, хотя людей в целом никак нельзя назвать полными невеждами.
А может быть, ввиду того, что американская и русская державы научили нас дрожать от страха и (после Вьетнама и Праги) навязывают нам свою мораль, не следует ли мне отказаться от игры словами, изрядно подпортить весь излишний юмор, дать отставку музам и отправить в мир иной моих головорожденных со всеми их душевными метаниями еще до того, как они научатся кричать «папа» и «мама»? Это означало бы оказать уважение силам, от которых нельзя ожидать ничего, кроме глупостей, и признать их вонючую мораль — вот что это означало бы. Это означало бы признать ту логику развития событий, которая принесла такую дурную славу сербскому городу Сараево и разрушила мой родной город Данциг; в то время как я, мысленно, разумеется, восстановил город Данциг, который теперь называется Гданьском. Ни один из сильных мира сего мне даже в подметки не годится. Они стали всеобщим посмешищем, да к тому же еще и шарлатанами. С надменным видом я лишаю их права препятствовать мне в написании этого произведения.
Все (как в моей голове, так и на бумаге) должно происходить одновременно. Великое путешествие в Азию уже началось, но я все еще вижу, как Дёрте и Харм внимательно рассматривают проспект туристической фирмы «Сизиф». «Ты только посмотри сюда! Они завлекают клиентов даже с помощью цитаты из Камю, из его „Мифа о Сизифе“».
И пока Дёрте вслух читает используемый для рекламы литературный текст — «Борьба с вершиной вполне может полностью увлечь человека…» — я слышу, как д-р Вентин на Бали, на этот раз внутри индуистского храма, продолжает цитату: «Нам надлежит представить себе Сизифа как счастливого человека».
И если Харм незадолго до начала туристической поездки заявляет: «Ну ясное дело, мы заведем ребенка. Хватит нам чушь болтать. Я твердо решил. И именно на Бали…», — то я слышу, как он в отеле «Кута-Бич» нерешительно говорит: «Да-да, конечно. Говорил, не спорю, говорил. Но сейчас все по-другому. Во всяком случае, не нужно спешить. Нужно все хорошенько обдумать. Ну да, именно здесь, и все. Это заставит хорошенько встряхнуться».
Дёрте чувствует себя «оплеванной». С озабоченным видом она заворачивает спасающие от бесплодия индуистские священные реликвии в платок из батика — «Извини, я также считаю, что вела себя глупо. Я говорю про эту свою возню, — она имеет в виду старание, с каким она в Итцехое паковала свои свежевыглаженные вещи. — И если я вернусь беременной, то сразу же с головой уйду в предвыборную борьбу. Пособие по беременности для работающих женщин и так далее…»
Харм, напротив, отправился в поездку с намерением «оставить дома весь этот свойственный ФРГ политстресс». Но и во время прогулок вдоль пляжа, и при покупке последних сувениров — «А вот браслет в форме змеи из слоновой кости для тебя, дорогая Дёрте» — политика постоянно вмешивается в их жизнь: «Мне здесь на многое открылись глаза. Это началось еще в Бомбее. Когда вернемся, я это все изложу в нескольких тезисах. Замечания по поводу разницы в уровне жизни на Севере и Юге. Это нужно очень четко и ясно выразить. И именно во время избирательной кампании».
Если положение в мире позволит нам снять фильм во время летнего туристического сезона, то ангажированные головы наших преподавателей окажутся переполненными датами, почерпнутыми из карманного календаря Харма и свидетельствующими, что даже во время туристической поездки предвыборная борьба для них ни на минуту не прекращается. Сидя на пляже под пальмой, он планирует: «2 сентября утренний „круглый стол“ в Келлингхузене. 5 сентября дискуссия с „зелеными“ в Вильстере. 12 сентября собрание молодых избирателей в Глюкштадте. 17 сентября уличная дискуссия в пешеходной зоне…» Оказался ли он по моей воле на омываемом прибоем пляже или на рисовом поле, где плещется стая уток и где всегда можно найти себе визави, я неизменно заставляю Харма заниматься предвыборной борьбой. Позднее на Бали — пока Дёрте в надежде забеременеть совершает свои ритуальные вылазки к пещере — я слышу, как он активно выступает против Штрауса, а затем, оставив его в покое, против Штольтенберга и Альбрехта: «Что эти господа могут предложить нам в восьмидесятые годы?» За крепкими выражениями следуют долгие и путаные рассуждения, построенные по принципу «с одной стороны — с другой стороны» об общеобразовательной школе и будущем Северогерманского радиовещания, об охране окружающей среды и проблеме отходов. Вдали от мест, где он запланировал свои выступления, Харм выдавливает из себя несколько шаблонных фраз: «Наше хорошо продуманное „Да“ ограниченному расширению использования ядерной энергии включает в себя четко выраженное „Нет“ созданию установок по ее регенерации!»
Или «Поддерживая необходимое оснащение армий государств — членов НАТО дополнительными видами вооружений, мы не должны забывать о том, что подлинной нашей целью является разоружение». И постоянно он призывает к «ответственности промышленно развитых стран за судьбы „третьего мира“».
В то время как в стороне пожилые женщины собирают в корзины выброшенные прибоем на берег обломки раковин, он страстно желает изменения этого обстоятельства: «Столь характерное для семидесятых годов выражение „Богатые становятся все богаче, бедные — все беднее“ должно в восьмидесятые годы потерять актуальность…»
И еще много всяких изречений. У Фёлькера Шлёндорфа получится наплывом показать, как сказанные под грохот волн — вода к тому времени уже успела остыть — или брошенные в стаю уток фразы вызывают аплодисменты или возгласы, в которых явственно слышится страх: на утреннем «круглом столе» в Келлингхузене, во время собрания молодых избирателей, в насквозь прокуренной распивочной в Вильстере. Как и при споре о головорожденном ребенке, время останавливает свое течение, места соединяются в единое целое, все происходит в настоящем времени, и только ливерная колбаса — она снова здесь — способна развиваться и изменяться: она портится. Все остальное приходится тащить из Итцехое в Азию и обратно. И здесь и там многое вполне уместно. То, что здесь следует осушать, там приходится орошать: тяжелый грунт в Вильстермарше, возделывание залитых водой полей на популярном среди туристов острове. И разве нельзя перенести расположенные на заболоченных землях трущобы Бангкока на обнесенную заграждениями и отведенную под строительство атомной электростанции площадку?
По крайней мере по размерам они одинаковые. И такое переселение вполне может произойти в будущем. Таким образом, мы показываем это (с помощью как жесткого, так и плавного монтажа) и экономим расходы на транспорт: пятьдесят тысяч обитателей трущоб из Юго-Восточной Азии теперь живут как в загоне на расположенной прямо за плотиной на Эльбе стройплощадке. Лачуги из досок или жести на столбах вдоль шатких, готовых вот-вот обрушиться мостков над илом, грязью, сточными водами, в то время как вокруг коровы и телята пасутся на тучных лугах. Сочная, словно выдавленная из тюбика трава. Над всем этим небо Северной Германии.
Харм и Дёрте видят это все с плотины или в соответствии с предложением «Сизифа»: «Увидеть Азию без прикрас» еще раз, стоя на плотине, разыгрывают сцену своей ночевки в трущобах. Все это вполне можно себе представить, а значит, это вполне реально. («Чисто теоретически», — говорит Харм.) Поэтому им обоим не трудно перенестись из Бомбея или с острова своей заветной мечты в классную комнату школы имени императора Карла. Тотчас ученики засыпают их вопросами: «Ну как поездка?» — «Вы наконец забеременели?» — «Когда ваша жена родит ребенка?» — «Что? Ничего не вышло?» — «Неужели мы, немцы, просто вымираем, в то время как индусов и китайцев становится все больше и больше?»
На эти вопросы, задаваемые (как с горечью заявляют Харм и Дёрте) агрессивно настроенными учениками, которые, как правило, мямлят и бормочут словно в полусне, д-р Вентин мог бы уже приготовить ответ, произносимый на ходу и поэтому занимающий довольно много времени и позволяющий расширить пределы пальмового сада отеля «Кута-Бич»: «Не только это. Самое худшее еще впереди. Любящие путешествовать индусы, египетские феллахи, избыточное количество мексиканцев и яванцев и, может быть, лишь семь процентов от одного миллиарда китайцев соберут свои пожитки и отправятся в путь. Они покинут родные края, где слишком много солнца. В дороге они понесут неизбежные потери, однако количество их будет все же достаточно велико, и они начнут просачиваться к нам: постепенно, сперва толчками, затем волнами, наконец просто неудержимым потоком. Вы можете сами посчитать, дети, и знаете от господина Петерса и его достопочтенной супруги, что человеческая популяция до двухтысячного года увеличится на добрую треть, то есть почти на семь миллиардов человек, из которых четыре миллиарда будут сидеть на корточках, плотно прижавшись друг к другу на азиатской земле. Каждый день нас, людей, становится больше на сто семьдесят тысяч. Им тоже нужно где-то разместиться. У этого избыточного количества есть вполне определенная цель. Европа с ее социальной системой, с ее системой защиты прав человека, о которых принято писать исключительно каллиграфическим почерком, с ее обусловленными христианской верой угрызениями совести представляет собой поистине идеальное место для них. Только не бойтесь, дети. Эти люди отличаются трудолюбием и скромностью. Они будут работать за нас. Они многому научатся быстрее нас. И им не нужно много места. Им вполне хватит двух комнат на одну большую семью. Им вовсе не нужны помещения для отдыха. Они будут размножаться — нормальным способом, а не путем головорождения. Они составят тот прирост населения, на который мы сможем опереться. В то время как вы, дети, сможете отдохнуть, расслабиться и вообще забыться. Это уже началось: в Англии, Франции и у нас. Эти люди сравнительно быстро привыкают к нашему климату. Почему „Яваансе Джонгенс“ — так называется голландский табак — не может чувствовать себя немцем? Почему бы нам, если мы считаем себя интеллигентами, не выучить несколько обиходных китайских выражений, столько же, сколько таковых имеется в немецком языке? Кто может помешать нашему столь малочисленному будущему поколению, то есть вам, дорогие дети, а позднее вашим детишкам, также оказавшимся единственными в семьях, смешать свою кровь с кровью потомков феллахов из Верхнего Египта и мексиканских метисов? Желанными окажутся изящество и пылкость обитавших на побережье китаянок и кроткие характеры мужчин с Зондских островов, обретет популярность имеющая мистический налет примесь индусской крови. Не бойтесь, немцы не вымрут. Благодаря смешению кровей возникнет гораздо более утонченный вариант, они станут гораздо многочисленнее, их количество возрастет на двести-триста миллионов. Мир — как бы это выразиться — будет поглощен немцами. Быть немцем будет означать обретение мировой сущности. Мы вновь станем кем-то! — Что? Что я слышу, дети? Вы не желаете ни с кем смешивать свою кровь? Вы, гибриды германцев, славян и кельтов, хотите соблюсти чистоту расы и крови? Вы, сидящие на дотациях болваны, хотите сами себя ограничить и в таком состоянии выжить? Мы останемся такими, какие мы есть! — кричите вы. Закрыть границы! — кричите вы. На крепкий замок! Отгородиться от всех! Замуроваться! — Но это же смешно. Как будто стены еще имеют какой-то смысл. Как будто они могут остановить этот черно-желто-коричневый поток. У нас же через всю страну проходит стена. Умело построенная, надежно охраняемая. И разве эта стена способствовала сближению или разъединению тех немногих немцев там и тех немцев, количество которых неуклонно уменьшается, здесь? Разве эта стена не стала единственной причиной для того, чтобы время от времени проделывать в ней все больше и больше дыр? Стену нужно убрать! — кричите вы. Правильно, дети. Стены давно уже отжили свой век».
Это мы видели во время нашей туристической поездки. На вожделенном и открытом как для отечественных, так и для иностранных туристов участке Великой Китайской стены близ Пекина я неоднократно фотографировал Уте: она стоит у нижнего края снимка, у нее свойственные уроженкам Прибалтики постоянно слегка растрепанные волосы, а за ней застывшая, кажущаяся незыблемой (уже после начала строительства выяснилось, что это не так) стена, все более круто уменьшаясь, ползет по гребням гор. Разве она или другие заграждения воспрепятствовали китайцам во всем мире есть в честь праздника Луны тот самый «лунный пирог», сладкий вкус которого оказался для нас одинаковым в Кантоне, Гонконге и Сингапуре? И разве мог д-р Вентин, предсказывая передвижения народов, не вставить в свой рассказ эту деталь: «У нас, дети, чрезмерно сладкий китайский „лунный пирог“ также вскоре обретет вторую родину, однако это никак не будет означать утрату немцами вкуса к пирогу, посыпанному сахарным песком и корицей».
Или стены в портовом квартале одиннадцатимиллионного города Манилы. Они были воздвигнуты в конце шестидесятых годов, когда папа Павел посетил населенные католиками Филиппины и исповедовавшего католическую веру диктатора Маркоса, а стены были построены вдоль главной улицы и отделили занимающие огромную площадь трущобы, чтобы взор Святого отца не был оскорблен видом богопротивных убогих жилищ. (Этот шедевр строительного искусства также оказался совершенно бесполезен: ведь Святой отец вполне мог видеть примыкающие к левой стороне и поэтому открытые его взору трущобы, но то ли он ничего не понял, то ли счел это Божьим промыслом и просто упомянул о них в своей молитве. Папы вполне способны на такую заботу.) И стены схожи друг с другом. Только внешне они отличаются. В средневековье стены, и в том числе Великая Китайская стена, строились на века, чего бы это ни стоило; сооруженные для защиты папских глаз заграждения вокруг трущоб Манилы, воздвигнутая посреди Берлина и замуровавшая достижения реального социализма стена, а также соединившиеся в стену блоки вокруг отведенной под строительство атомной электростанции Брокдорф в Вильстермарше строились для современников, то есть очень быстро. Из этого факта д-р Вентин в беседе с Хармом и Дёрте Петерсами должен сделать соответствующие педагогические выводы, поскольку ученики школы имени императора Карла в Итцехое на Штере по-прежнему озабочены своим будущим. Они не хотят засилья иностранцев, не хотят смешения с другими расами и превращения своей страны в Евразию Оруэлла. (Они топают ногами и колотят кулаками по партам. «Это нервирует нас!» — кричит один из учеников.)
«Ну хорошо, — мог бы затем сказать д-р Вентин под сенью пальм, — вы непременно хотите отгородиться от всего мира, дорогие дети. Понимаю, вполне понимаю. Мне тоже кажется, что над этим вариантом стоит подумать. И конечно же, как на Западе, так и на Востоке имеются штабы по разрешению кризиса — вполне возможно, что есть даже объединенные штабы, — которые, разыгрывая соответствующие ситуации, занимаются проблемой отгораживания промышленно развитых стран. Поскольку наша, сегодня пока еще раздираемая сварой западно-восточная структура, то есть Север, должна защититься от начавшей просачиваться к нам с Юга волны эмиграции, то есть нового переселения народов, и поэтому — при всей заранее предсказанной безнадежности этой акции — разработать новую технологию строительства стен. В конце концов в настоящее время мы используем лишь небольшую часть наших знаний. Наша система спутникового контроля. Наши системы раннего предупреждения. Наши ядерные отходы. Чего только не выдумали наши великие умы. Это все, дети, оставляет нам надежду. К примеру, вполне можно представить себе глубоко эшелонированные защитные заграждения из лучей, которые протянулись бы от китайско-русской границы, охватывали бы также нефтяные месторождения в зоне Персидского залива и на Аравийском полуострове, защищали бы подступы к Африканскому побережью Средиземного моря, затем широким радиусом окружали бы Иберийский полуостров и если не всю Европу, то хотя бы страны — члены Североатлантического блока, и искали бы подсоединения к построенной по аналогичной программе лучевой защитной системе США. Вот как все просто. Разумеется, Япония и Южная Корея также могли быть отнесены к защищаемой нами цивилизации. И, разумеется, имелись бы специальные шлюзы, позволяющие заниматься свободной торговлей, а иногда также проводить карательные экспедиции в южном направлении — в том случае, например, если нам не разрешат использовать расположенные снаружи залежи сырья. Современная высокоразвитая система защиты воздушного пространства оказалась бы по сравнению с этим детской игрой, но при условии, что конфликт между Востоком и Западом был бы в дальнейшем окончательно разрешен. А почему бы и нет? Хотя они яростно выступают друг против друга, но если внимательно присмотреться, дорогие дети, то выяснится, что капитализм и коммунизм два сапога — пара. Вместе они окажутся способными приложить все свои силы. Ибо система тотального лучевого прикрытия отнюдь не означает бегство от мира. Напротив. Мы остаемся открытыми для всего мира. Мы по-прежнему предлагаем ему свои программы развития и спасения от голода; кариативный альтруизм и христианско-марксистские социальные утопии. Кто отважится отказаться от них? Мы вовсе не собираемся утаивать от мира интернациональный характер нашего экономического устройства. Нет-нет! Нам вовсе недостаточно самих себя. Ведь если мы, с одной стороны, отгораживаемся, то, с другой стороны, по-прежнему жаждем путешествовать. И вы, дети, вырастете не домоседами, а гражданами мира. Вот только засилья иностранцев мы не допустим. Нам и так уже изрядно надоели наши собственные проблемы с национальными меньшинствами. Мы, немцы, желаем оставаться обозримыми и исчисляемыми и не хотим превращаться в не поддающуюся учету массу. Мы же не индусы, не феллахи, не китайцы и не метисы. С нас вполне достаточно турок! Мы ни с кем не смешиваем свою кровь. Мы отгораживаемся. Мы по-прежнему ограничиваем себя. Мы вымираем со спокойной душой. И то, что раньше называлось „железным занавесом“ — ну да, дети, мы понимаем друг друга. Вот только угроза исходит совсем с другой стороны. Когда на нас пытаются нагнать страх — это просто смешно. Пусть они только наступят, эти восьмидесятые годы».
«Настало время Оруэлла» — вот так Харм Петерс, который все же читал этого автора, вполне мог высказаться в дополнение к последним словам д-ра Вентина. Если его вечерняя речь на террасе отеля (за стаканом натурального апельсинового сока) находит слушателей, то вся туристическая группа должна собраться там в полном составе. Звучат возгласы «Кошмар» и «Он прав, черт побери!» Количество тех, кто их выкрикивает, примерно одинаковое. «Как хорошо, что я до этого не доживу», «Ну и перспективы», «Слушайте, слушайте!» — так вполне могли высказаться соответственно вдова пастора, чиновник финансового ведомства из Вильгельмсхафена и одна из тех, кому сильно за сорок.
Д-р Вентин — превосходный знаток Азии. С цифрами в руках он доказывает, что Яву вполне обоснованно называют «перегруженным кораблем». Он помнит все даты из истории голландской колонизации вплоть до совершенного в самом ее конце грабежа: «В декабре 1906 года балинезийские раджи вместе с их придворными были доведены до самоубийства. Ответственным за эту освободительную акцию оказался генерал нидерландской королевской армии ван дер Вельде…» И о нынешней коррупции, всевозможных сделках, совершаемых президентской семьей — и в первую очередь госпожой Сухарто, — ему известно все, вплоть до участия в них западногерманских промышленников: «Солидную долю имеет концерн „Гутехофнутсхютте“ из Ганновера…»
Попутно Вентин является своего рода исповедником в нашей туристической группе. К нему приходят обе женщины за сорок, чиновник финансового ведомства, статная мать и чахлая дочь со своими «бо-бо» и жалобами на климат, стенаниями по поводу жизненных трудностей и приступами тошноты. К нему, великому гуру и специалисту по мировым кризисным ситуациям, замешанному (предположительно) в международную торговлю оружием, приходят Харм и Дёрте Петерсы с их головорожденными. Теперь, к концу поездки, все чаще и чаще.
При этом оба они по-отечески заботятся друг о друге и не переходят границы партнерских отношений. Она полощет не только свое бикини, но и его плавки, вымывая из них песок. Он каждое утро потчует ее молодым кокосовым орехом, из которого торчит соломинка. Даже если Харм и Дёрте уже не могут разговаривать друг с другом, они обсуждают тогда спорные проблемы. Даже в своем дневнике, на страницах которого она излагает все свои сокровенные мысли, а также желание иметь не только одного ребенка, Дёрте никак не затрагивает их двусторонние отношения. Они оба полагают и откровенно говорят: «Мы подходим друг другу». Но так как Харм с тех пор, как у Дёрте «появился религиозный бзик», наотрез отказывается спать с ней — «Я не могу, пойми ты. Я же не племенной бык!» — она изливает душу д-ру Вентину.
Она говорит: «Я хочу быть с вами совершенно откровенна. В моем положении я вполне могу забыть про стыд. Сейчас самые благоприятные дни для зачатия. Я имею в виду, если это получится — а это должно наконец получиться, — то тогда я должна, я не знаю как, сегодня или завтра…»
Д-р Вентин улыбается. Он понимает. Ничто человеческое ему не чуждо. Он говорит: «Со своей стороны я также хочу быть откровенным: понятие отцовства может распространиться на кого угодно. На Суматре, как, впрочем, и в населенной дравидами Южной Индии, и поныне есть регионы, в которых отец — скажем так — играет всего лишь маргинальную роль. Неужели им непременно должен быть ваш в высшей степени симпатичный супруг, ваш строптивый Харм?»
Прежде чем Дёрте Петерс, неправильно истолковав эти, по словам Вентина, «чисто деловые соображения», отвергает их, посчитав это предложение чрезмерно альтруистическим, руководитель группы пускается в гораздо более пространные рассуждения: «Оглянитесь вокруг, дорогая госпожа Петерс. Эти юные, изящные жители Бали. Грациозность их движений. Их рассеянность, их привычка ни о чем не думать, ну разве лишь о том, как раздобыть немного денег на бензин. Впрочем, они очень породисты, эти населяющие Зондский архипелаг малайцы. Вы, как я погляжу, очевидно, с огромным интересом читаете роман Вики Баум „Любовь и смерть на Бали“. Настоящий шедевр. Очень умело написан. Как танцовщица Ламбон, хотя и являясь любимой женой раджи, тем не менее всегда находит возможность встретиться со своим Рака, великим танцором…»
Теперь, после того, как Вентин, пролистав переданный ему роман и, может быть, процитировав из него пару мест, вернул его Дёрте, он вполне мог бы приглашающим жестом показать на группу юношей, которые стоят возле отеля со своими «кавасаки» и ждут клиентов: «А теперь смелее, дорогая госпожа Петерс. Пока здесь будет быстро темнеть, небольшой тур вдоль широко раскинувшегося пляжа. А затем прямо под Южным крестом…»
Но я не хочу этого щекочущего нервы тура. Я против того, чтобы Дёрте Петерс, крепко вцепившись в спину одного из превосходно сложенных парней, уносилась бы вместе по быстро пустеющему пляжу, над которым не менее быстро сгущаются сумерки, по направлению к дюнам, где ее ожидали бы звездное небо и ощущение счастья от семяизвержения. Я не хочу никаких неожиданностей, порожденных «любовным треугольником». Ответ на вопрос, стоит ли и дальше продолжать играть в игру «Да, ребенок — Нет, ребенок», надлежит дать только Харму и Дёрте. На этой почве не взойдет чужое семя. И потом, Дёрте никогда не пойдет на такой вполне оправданный развитием сюжета фильма шаг.
Правда, она начинает медленно приближаться к ждущим клиентов парням, возможно даже она с нордической решимостью подходит совсем близко к группе и отыскивает среди юношей с кроткими глазами наиболее подходящего, даже останавливает свой выбор на одном из них — как обаятельно он улыбается — и на всех парах отправляется для исполнения своего заветного желания. Это означает: она садится на мотоцикл, показывает в сторону пляжа и дюн и уносится вместе с парнем, о чем свидетельствуют ее развевающиеся на ветру волосы; однако после наводки на резкость и показа пляжа крупным планом перед тем, как они исчезнут в надвигающихся сумерках, кадры начинают мелькать в обратной последовательности: впереди заднее колесо и ее развевающиеся волосы, «кавасаки», пятясь, словно рак, медленно подъезжает к оставшимся возле отеля парням. Дёрте слезает с мотоцикла. Снова обаятельная улыбка. Дёрте на прощание одаривает взглядом юношу с кроткими глазами, заставляет себя забыть о своем желании, с нордической решительностью идет назад и, наконец, вновь оказывается рядом с д-ром Вентином.
С дневником в руках Дёрте Петерс, дойдя в своих представлениях до той грани, которую она не может перейти, не поступившись своими принципами, небрежно говорит руководителю группы: «Ну да, преданность прекрасной Ламбон танцору Раке. Игра их тел. Две стрекозы. Было бы прекрасно. И никакого нарушения моральных норм. Только у меня есть свои принципы. Собственно говоря, это довольно глупо. Но что я могу поделать? Вы меня понимаете?»
Д-р Вентин все понимает. «Жаль, что не произошло зачатия, — говорит он. И еще: — Завтра нам нужно уже начинать постепенно паковать вещи. Проследите, пожалуйста, за тем, чтобы у вашего багажа не было лишнего веса».
У нас был лишний вес, но персонал «Люфтганзы» (из-за двухчасового опоздания) проявил снисходительность, и нам не пришлось за него доплачивать. Вместе с четой Шлендорфов, которые показывали свои фильмы в Джакарте, Тель-Авиве и, наконец, в Каире и чья поездка теперь завершилась, мы торчали в зале ожидания. Фёлькер обходил магазины сувениров в поисках подходящего кольца фараонов, но так ничего и не нашел. Как всегда в таких ситуациях, Уте вязала спицами для меня свободно ниспадающий зимний свитер землистого цвета. Маргарет также решила непременно взять с собой в следующую поездку вязальные принадлежности.
(Какой длины будет мой свитер? С какого момента он начнет увеличиваться в размерах?)
Во время поездки по железной дороге из Шанхая в Квелин через районы Южного Китая, когда молодой китаец — преподаватель немецкого языка рассказывал нам о том, как проходила «культурная революция» и ее последствиях, Уте начала вязать зимний свитер. По обе стороны бесконечной вереницей тянулись похожие на заплаты, аккуратно возделанные увлажненные поля. Пережившие режим крытые соломой хижины с выступающими вперед стенами, принадлежащие трудолюбивым, гнущим спины на полях работникам. Столько сделано полезного. И все рукой человека. В то время как межконтинентальные спицы Уте одновременно…
И когда мы, выехав из Кантона, где торжественно отмечался праздник Луны, покинули по железной дороге Китайскую Народную Республику и въехали на территорию зала демонстрации западного образа жизни, каковым является Гонконг, свитер увеличился в размерах на целый фут, хотя в снабженном кондиционерами поезде с туристами в головной части вагона капиталистическое телевидение своими передачами приучало к совершенно новым условиям жизни, и даже проживавшие в «красном» Китае проводницы позволяли себе смотреть рекламные ролики. Уте ни на минуту не прекращала свое занятие. Она упорно вязала и вязала. Во время полета в Сингапур, в зале ожидания аэропорта перед тем, как мы продолжили полет в Джакарту, а затем во время полета в Манилу, когда время постоянно одолевает пространство, мой свитер под ее руками заметно увеличился в размерах. И когда мы семнадцать часов летели по направлению к Каиру в окружении отправлявшихся в Мекку филиппинцев-мусульман, он уже обрел нормальную, хотя и не окончательную длину.
Я вспоминал о других поездках и рассказывал чете Шлёндорфов о принадлежавшем Уте клубке шерсти, который в прошлом году незадолго до промежуточной посадки в Анкоридже, когда самолет плавно начал снижаться над Аляской, упал с ее колен и покатился по центральному проходу салона в сторону кабины. Крайне несвоевременное событие. Тут же подбежала стюардесса и покатила к нам клубок. Уте поблагодарила ее. Мне пришли на ум литературные ассоциации. Стюардесса заявила, что при их профессии, когда приходится проводить столько времени в ожидании, шерсть для вязания должна стать неотъемлемой частью ручного багажа, а профессиональная подготовка включать в себя обучение вязанию.
Поэтому я хотел бы предложить Фёлькеру сделать так, чтобы Дёрте Петерс или исполняющая ее роль высокая светловолосая актриса во время поездки в Азию вязала бы спицами или крючком: возможно даже детские вещи, что, по мнению Харма, является довольно глупым занятием или, по крайней мере, преждевременным: «Ну подожди же. Я вообще-то суеверен. Или вяжи что-нибудь для меня. Длинный, землистого, охряного, коричневого, или умбряного цвета, свободно ниспадающий зимний свитер».
И с колен Дёрте в зависимости от того, вяжет ли она спицами или крючком, также вполне мог упасть клубок шерсти или ниток. Во время одного из полетов, лучше если это произойдет на обратном пути, незадолго до промежуточной посадки в Карачи, клубок покатится по направлению к кабине. И далее все будет показано глазами стюардессы: камера выхватывает разматывающийся и тем не менее постоянно увеличивающийся в размерах клубок. Дёрте также благодарит стюардессу.
Ведь то обстоятельство, что она с таким знанием дела обсуждает проблемы педагогики, местного самоуправления и использования промышленных и бытовых отходов и сознательно пошла работать по специальности, никак не мешает ей вязать спицами или крючком. Она отстаивает это свое чисто женское пристрастие и уже неоднократно на собраниях женщин «объясняла свою точку зрения», отвергая «ригоризм неверно истолкованной эмансипации»: «Я женщина. И поэтому люблю вязать. И уж совсем глупо было бы, если бы я ради абсолютного равноправия потребовала от своего мужа, чтобы он также взял в руки спицы или крючок. У него, впрочем, есть склонность к коллекционированию. Это чисто мужская причуда, которой нет у меня. Но, говорю я себе, пусть он себе коллекционирует столько, сколько хочет, и пока это доставляет ему удовольствие…»
Поэтому багаж их обоих вполне мог иметь лишний вес. Не только легкие раковины и морских улиток, но также корни причудливой формы и странного вида застывшие куски лавы Харм Петерс подобрал на пляжах и склонах вулкана; он непременно желает доставить эти коллекционные экземпляры в Итцехое.
«Слишком много и слишком тяжело», — говорит Дёрте. От чрезмерно больших кусков он вынужден отказаться. Его замечание «Ну да, ты также должна оставить здесь свои любимые сувениры» она воспринимает как «страшно оскорбительное». Дёрте Петерс отвечает на него пощечиной. И Харм, получив пощечину, извиняется: «Честное слово, мне очень жаль». У обоих на глазах выступают слезы.
Затем они продолжают паковать свои вещи. Все сувениры: платок из батика для Моники. Таиландский шелк для матери Харма. Отца Дёрте должен порадовать малайский кинжал. И еще платочек. Салатница для матери Дёрте. И тут вдруг вновь появляется ливерная колбаса.
Она лежит в морозильном отделении. Ее состояние вызывает опасения. Мы так и не смогли избавиться от нее. Потому что так и не нашли старого приятеля Харма Уве Енсена. Потому что я не сделал одной из сюжетных линий нелегальную торговлю оружием. Потому что индонезийская полиция, проведя выборочную проверку подозрительной колбасы, возвратила ее. Потому что надрезанные места были заклеены скотчем. Потому что Харм отказался от предложения Дёрте зарыть колбасу в песок. Потому что мне больше ничего не приходит в голову. Теперь она остается в морозильном отделении. Или же они заберут ее с собой и доставят на самолете в Федеративную Республику Германии Как и таскаемый ими повсюду вопрос, стоит ли им завести ребенка Совершенно неразрешимые проблемы.
Когда наконец объявили о начале посадки на самолет, следовавший прямым рейсом из Каира в Мюнхен, Фёлькер Шлёндорф и я увидели то, что подтвердилось лишь во время полета: на дорожке, ведущей к паспортному контролю, высилась изготовленная в подражание Генри Муру статуя матери в натуральную величину, которая должна была дать всем покидавшим перенаселенный Египет пассажирам наглядное представление о высоком уровне рождаемости в этой стране и ее плодородном чреве. Ну а цифры мы знаем.
7
Как мы слушали друг друга, как бросали друг другу вызов. Я не делал никаких записей, а он, наоборот, все время менял блокноты. Два ремесленника, прячущихся за своими инструментами. (Когда он экранизировал «Жестяной барабан», то охарактеризовал меня в своем дневнике как дестабилизирующий фактор; теперь я использую в своих целях его сопротивление.)
«Ты не мог бы сделать из меня мнимого персонажа?» — Но как? Хотя он всегда в пути, но фактически всегда оказывается здесь. С собой гость приносит оливковое масло холодного давления. Следует ли мне называть его мастером, словно я его действительно выдумал? Выходит, мастер с блокнотами посещает мастера без блокнотов и приносит с собой оливковое масло холодного давления? — Добро пожаловать! Я уже давно желал иметь рядом того, кто не претендует на гениальность. Нам не нужно состязаться друг с другом. Нас вполне могут развеселить подробности. Каждый из нас пребывает в хорошем настроении на свой манер.
«Каким-то образом, — говорит Фёлькер Шлёндорф, — Харм и Дёрте должны оставить кошку в Итцехое у друзей». «Я хочу, — говорю я, — уделить ей внимание в третьем варианте рукописи: чем они оба кормят кошку дома и какой они найдут ее по возвращении…»
…а теперь быстро, пока они еще не улетели, поразмыслить над своим весьма странным отношением к учителям. Что они мне сделали? Каких аттестаций я все еще опасаюсь? Чем меня влекут немецкие педагоги? Почему я так трусь об их цели обучения и системы раннего развития памяти?
Было бы ошибочным полагать, что в «Кошках-мышках» школьная тема в моем творчестве оказалась окончательно исчерпанной. Учителей на мою долю хватит с избытком. Мне уже от них не отделаться: фройляйн Шполленхауэр пытается обучить Оскара; в «Собачьих годах» Брунис сосет солодовые леденцы; в «Под местным наркозом» у преподавателя гимназии Штаруша болят зубы; в «Улитке» Герман Отт, даже заваленный в подвале, все равно остается учителем; даже «Палтус» оказывается педагогом, а теперь эти двое учителей из Гольштайна…
Может быть, я никак не могу отвратить от них свой взор потому, что из-за моих подрастающих детей школа ежедневно незримо присутствует в моем доме: эта неизменно мучающая множество поколений скука, эта суета вокруг отметок, эти метания в поисках смысла жизни, этот отравляющий любой свежий ветерок чад! — При этом Харм и Дёрте стали учителями из самых лучших побуждений…
Они уже больше не совсем здесь. Настал их последний день на полупансионе. Вечером самолет с Бали доставит их (с промежуточной посадкой) домой. В холле отеля уже стоят упакованные чемоданы. Дёрте сидит под отбрасывающими полутень пальмами и читает. Харм сидит в баре в саду отеля «Кута-Бич» рядом с хилой дочерью статной матери. Поскольку по садовым дорожкам принято скрести граблями, именно это и проделывается с дорожками, ведущими к пляжу и бару. Чтобы выстроившиеся в ряд чемоданы не потерялись, к каждому из них прикреплена карточка с указанием места назначения. Как обычно, юноши с кроткими глазами вместе со своими «кавасаки» ждут клиентов. Чуть поодаль балинезийки несут чаши с рисом к жертвенному алтарю. Дёрте читает роман, который ей дали на время. Под священным деревом совершают обряд жертвоприношения. Харм вместе с хилой дочкой пышущей здоровьем матери выпивает уже третий стакан кампари. Супружеская чета тех, кому уже сильно за сорок, пишут последние почтовые открытки. Д-р Вентин советует всем не платить слишком большие чаевые. Стоявшая посреди сада отеля клетка отнюдь не пустует. Балинезийские женщины не обращают никакого внимания на туристов. На песчаной дюне высится священное дерево. Оторвавшись от книги, которую ей дали почитать, Дёрте смотрит на несущих жертвенные дары местных жительниц. Пожилой человек скребет граблями дорожки. Д-р Вентин снует взад-вперед в мятых полотняных штанах. Обезьяны трясут прутья своей клетки. Дёрте торопится дочитать книгу. Харм пытается соблазнить хилую дочь. Появляется все больше и больше женщин с чашами с рисом в руках. Д-р Вентин говорит: «У нас еще очень много времени». В другом месте он заявляет: «Автобус отходит только в семнадцать тридцать». Дёрте пьет через соломинку молоко молодого кокосового ореха. Сперва дергавшие прутья клетки обезьяны теперь принимаются искать у себя вшей. Хилой дочке нужно еще кое-что забрать из своего номера. Грабли громко скребут по дорожкам. Харм не собирается больше сидеть за стаканом кампари. Супруги, которым уже сильно за сорок, продолжают старательно писать открытки и наклеивать на них марки. Под пальмами становится очень светло: Вентин по-прежнему раздает советы. Над первой страницей карманного издания появляются две руки, держащие половинку кокосового ореха. Стаканы с остатками кампари убирают со стойки бара. Обезьяны. Заставленный чашами с рисом жертвенный алтарь. Полная гармония в отношениях между супружескими парами. Уже не слышно, как грабли скребут по дорожкам. Теперь Вентин объясняет чиновнику финансового ведомства из Вильгельмсхафена международное положение. Читающая Дёрте. Последние почтовые марки. «Русские», — произносит Вентин. Под пальмами внезапно задувает свежий ветерок. Чемоданы с прикрепленными к ним карточками грузятся в автобус. Среди юношей с кроткими глазами наблюдается некоторое беспокойство. Дёрте закрывает книгу. Вентин хлопает в ладоши. Обезьяны в клетке делают то же самое. Определяется точная сумма чаевых. Харм и хилая дочь снова непринужденно беседуют друг с другом. Оставив молодой кокосовый орех с торчащей из него соломинкой, Дёрте, эффектно переставляя длинные ноги, медленно идет по расчищенным дорожкам. Д-р Вентин обещает раздобыть в здании аэропорта почтовые открытки. Кто-то (на экране сперва видны идущие загорелые ноги, затем выясняется, что это мальчик-рассыльный) приносит кому-то (Харму) забытую им вещь: ливерную колбасу в вакуумной упаковке. Перед тем как сесть в принадлежащий фирме «Сизиф» автобус, Дёрте машет сидящим на своих «кавасаки» юношам с кроткими глазами. Ливерная колбаса занимает место в ручной клади Харма. В автобусе или только в зале оформления и контроля багажа Дёрте собирается вернуть д-ру Вентину карманное издание, хотя «я еще не успела его до конца дочитать». Но руководитель группы дарит ей книгу: «Пусть она хоть немного напомнит вам об этой поездке, дорогая госпожа Петерс. Ведь мы оба, не так ли, мы оба любим Бали, этот райский уголок, который вскоре будет потерян навсегда…»
Примерно так я должен (но отнюдь не хочу) описать каждый эпизод. Следует оставить место для случайностей. Неизвестно, где именно вдова пастора в нужный момент сделает совершенно неуместные замечания. Ничего о небольшом недоразумении между подругами, которым под сорок. Я также не знаю, намерена ли Дёрте в салоне самолета, едва пристегнув ремни, продолжать чтение. Но перед тем, как наша супружеская чета улетит, оставив д-ра Конрада Вентина вместе с одновременно прибывшей новой группой туристов, которую направил сюда «Сизиф», я хочу еще высказать кое-какие соображения, сделать выводы и предвосхитить в какой-то степени развитие событий; как только самолет сингапурской авиакомпании поднимется в воздух, времени на размышления уже не останется.
О чем я хочу поразмыслить? О современной жизни. Когда я в конце пятидесятых и начале шестидесятых годов пространно писал о прошлом, критики восклицали: Браво! Прошлое должно быть преодолено. И трактовать его нужно, соблюдая дистанцию: ведь эти события никогда больше не повторятся.
Когда я в конце шестидесятых и начале семидесятых годов писал о современной жизни, например о предвыборной кампании шестьдесят девятого года, критики воскликнули: Фу! Как можно рассуждать о современной жизни, когда прошло так мало времени. И кроме того, будучи так явственно политически ангажированным. Таким он нам не нужен. Этого от него мы не ожидали.
Когда я в конце семидесятых годов (опять же весьма пространно) принялся писать о каменном веке (и последующих периодах) в непосредственной связи с событиями современной жизни, критики воскликнули: Ну наконец-то! Он снова стал самим собой. Очевидно, он смирился с судьбой и решил бежать в прошлое. Таким он нам гораздо больше нравится. Этим он обязан себе и нам.
Если же я незадолго до начала восьмидесятых годов снова (и опять же без соблюдения временной дистанции) впиваюсь зубами в современную жизнь — хотя Штраус представляет собой реликт пятидесятых годов, — критики — чего и следовало ожидать — воскликнут: Ну, ясное дело! Это его вклад в предвыборную борьбу. Он просто не может остаться в стороне. И что в данном случае означают головорожденные? Он же достаточно произвел на свет детей! Он вообще не имеет права высказываться по этой проблеме. Ему никогда не понять, что падение рождаемости — это общественная тенденция. Это тема для молодых авторов. Пусть он лучше продолжает писать о событиях прошлого, о том, что было когда-то.
Это все правильно. Мы именно так учили в школе: вслед за прошлым идет нынешний день, а потом будущее. Мне же гораздо привычнее прошлое, слившееся с будущим. Поэтому я не слишком придерживаюсь жанровых канонов. На используемой мной бумаге я способен на гораздо большее. Здесь лишь хаос обеспечивает порядок. Даже дыры здесь наполнены содержанием. А не связанные между собой сюжетные линии — это сюжетные линии, которые принципиально не связаны между собой. Здесь отнюдь не нужно приводить все к одному знаменателю. Поэтому дело Вентина так и остается нераскрытым. Ливерная колбаса продолжает обретаться в багаже, не утрачивая глубинный смысл. Но если я отказываюсь от описания внешности Харма и Дёрте и не позволяю себе упомянуть о том, что у него пронзительный взгляд, а у нее щербинка между резцами, то делаю это вполне умышленно. Шлёндорф заполнит эти четко обозначенные пустоты выразительной мимикой исполнителя и исполнительницы их ролей; только у него должны быть белокурые, а у нее — чуть более темные волосы.
И хорошо бы, если оба актера оказались бы не одинаково шепелявящими дилетантами, но обученными технике речи и свободно разговаривающими на богатом акцентами гольштайнском диалекте. (Сколько сейчас часов? — мог бы спросить Харм у Дёрте, и она бы в свою очередь предостерегла его: «Только не растягивай так слова».) Оба актера должны также обладать определенным комическим талантом, чтобы внести должную ноту в исполнение трагических ролей, так как если оба моих педагога порой приходят в отчаяние, у меня это вызывает только смех. Я хочу, чтобы актер, исполняющий роль оставшегося на аэродроме в Денпасаре д-ра Вентина, изображал его без налета демонизма и не кем-то вроде Мефистофеля, то есть эдаким загадочным на все времена персонажем, а прикидывающимся дурачком и изрекающим банальности хитрецом. Именно такими бывают дьяволы и демоны, исполняющие обязанности профессиональных руководителей туристических групп.
Я еще должен внести следующее дополнение: к диалогу на тему «Ребенок Да — Ребенок Нет» следует добавить повторяющиеся с определенной регулярностью размышления о том, что, может быть, им стоит взять на воспитание чужого ребенка, и ярко выраженный отказ от этой идеи. Как в Итцехое, так и в Бомбее, Бангкоке и на Бали: где бы Харм и Дёрте из страха перед будущим или в надежде на лучшую перспективу, из склонности к комфорту или из желания исполнить наконец родительский долг выражают желание завести ребенка или же, наоборот, решают не заводить его, перед ними вдобавок ко всему прочему встает еще и этот вопрос. Поэтому едва они вновь единодушно решают не производить на свет ребенка, ибо этот мир и так уж сильно перенаселен, в сухом остатке остается ощущение какой-то неудовлетворенности: «Мы ведь могли бы. Я имею в виду, что мы могли бы взять на попечение ребенка из социально ущемленной семьи. А поскольку наше финансовое положение…»
Однако ее самоотверженность отнюдь не безгранична. Харм, стоя в толпе просящих милостыню индийских детей, которые трогают его за полы пиджака и пытаются схватить за руки, говорит: «Пожалуйста, займись этим. Ассортимент достаточно большой, и он постоянно увеличивается. Но, пожалуйста, только одного из пятисот… из пятисот тысяч… из пяти миллионов».
И когда они оба, застигнутые тропическим ливнем, вместе с индонезийскими детьми ищут укрытия под жестяным навесом, Дёрте говорит: «Какого именно? Этого или того? Это же селекция. Слегка гуманизированная выбраковка. Остановить свой выбор на одном ребенке означает отказаться от остальных и бросить их на произвол судьбы». И в то время, как они оба находят прибежище в крытой тележке рикши, Харм перечисляет все возможные последствия усыновления или удочерения: «Ребенок навсегда останется в нашем городе чужим. Над ним, как обычно, примутся подтрунивать. Будут бить, вспомни турецкого школьника в Итцехое…»
Затем они оба, как всегда, решив не брать никого на воспитание, начинают размышлять над тем, а не забрать ли мать Харма из Хадемаршена в их просторную квартиру в старом доме, чтобы затем отказаться также и от этого социально полезного деяния. «Поверь мне, — говорит Дёрте, — мать у нас не приживется». — «Вот если бы у нас был ребенок, тогда еще может быть», — говорит Харм.
И вновь никакого решения. Только ежедневное головорождение. «Тогда лучше, — говорит он, еще сидя в тележке рикши, — в данной ситуации завести собственного ребенка». — «Или мы возьмем к себе твою мать», — говорит она.
И когда Харм Петерс прощается в зале аэропорта с д-ром Вентином, то слышит от него такие слова: «Ну, может быть, все получится во время следующей поездки. По Центральной Африке или куда-нибудь еще. Мы пришлем вам тогда открытку, великий мастер».
Они летят. Они летят так же, как и мы. Мы вернулись осенью семьдесят девятого, Харм и Дёрте летят домой на исходе лета. В конце августа восьмидесятого. Вчетвером мы тащили и тащим наши азиатские сувениры в Европу. Мы (двое на Бали, мы в Китае) так и не смогли избавиться от остаточных элементов нашей немецкой реальности. Стоило моей супружеской чете учителей приземлиться, как она немедленно принялась жевать и пережевывать тему предвыборной кампании: термины уже были четко определены. Нам же немедленно подали на стол всю обыденную жизнь ФРГ: свойственную нам узость мышления, спесь, выражающуюся в неумеренном потреблении, вошедшую в плоть и кровь привычку обмениваться ударами, нагнетание страхов, ложное сослагательное наклонение в устах тех, кто, высказывая свое мнение, стремится подстраховаться со всех сторон: «Я бы полагал… Я бы полагал…» А поскольку Харм и Дёрте Петерсы являются моими головорожденными созданиями, я кладу в их колыбель то, что касается непосредственно меня: например, продолжение судебного процесса, касающегося строительства в Брокдорфе атомной электростанции, в понедельник 26 ноября 1979 года в Шлезвиге. Так оба они по прошествии более чем полугода после окончания процесса вернулись с Бали в Итцехое, они должны уже знать, чем закончился конфликт, будет ли продолжено или, наоборот, прекращено строительство атомной электростанции и когда приговор (этого я еще и сам не знаю) вступит в законную силу.
Холодный, промозглый день. Они оба взяли в школе выходной. Я дождался прихода Дёрте. Крестьянская дочь с высшим образованием. Позднее мы смогли побеседовать во время обеденного перерыва. На наших зубах хрустели возможности, которые следовало бы обсудить. Но это лишь отвлекло бы нас: от разбираемого дела, от процесса.
Если я в первый день судебного разбирательства с помощью коричневой аккредитационной карточки с легкостью вошел в здание суда, то Дёрте с трудом добилась получения желтого пропуска. Вместе со мной она оказалась свидетельницей беспомощности, проявленной председателем суда Фейстом. Сперва он приказал отряду полиции особого назначения очистить отведенную для публики часть зала заседаний суда (из-за того, что там скопилось слишком много народа и могли вспыхнуть беспорядки), а затем разрешил еще раз войти в зал всем желающим после того, как несколько специально обученных полицейских сделали несколько групповых и индивидуальных фотоснимков для своего экспертно-криминалистического отдела. На новоязе это называется сбор оперативных данных. Так мы с Дёрте попали в картотеку. (Сидя, мы успели улыбнуться друг другу, и, судя по фотографии, у нас сложились вполне доверительные отношения.)
Как я, так и Дёрте считали, что бургомистр общины Вевельсфлет гораздо более страстно и правильно отстаивал интересы обвиняющей стороны (четыре общины и двести пятьдесят тех, кто выдвинул обвинение в частном порядке), чем ее адвокаты. Но если я воздерживался от комментариев, то она несколько раз выкрикнула: «Верно!»
Когда же Дёрте после выступления бургомистра Заксе захлопала в ладоши и крикнула: «Мы не позволим погубить Вильстермарш!», председательствующий счел необходимым предостеречь ее и всех остальных противников широкого применения ядерной энергии: «В нашем распоряжении имеются средства, позволяющие в подобающей форме довести этот процесс до полного завершения».
И как и я (молча), Дёрте (теперь только ворча вполголоса) слушает изобилующие сложными периодами разглагольствования тех, кто отстаивал интересы инициаторов строительства — шесть или семь адвокатов представляли землю Шлезвиг и несколько фирм — пристрастно и нетерпеливо: как они оспаривали полномочия общин на подачу иска и в результате своей болтовни оставили от «полномасштабной проверки» своего проекта какой-то жалкий остаток, как они приводили бесконечные цитаты из предыдущих судебных приговоров, на которые адвокаты обвиняющей стороны отвечали цитатами из других судебных решений. Я запомнил термин «мнение меньшинства».
Мы спокойно восприняли это. Таково правосудие. Возможно, я позволил себе тихо произнести словечко: абсурд. Но когда адвокат земельного правительства после многократного выявления «причинно-следственных связей» сделал вывод: «Общины могут спокойно заниматься планированием своей деятельности, так как принципиальная опасность, исходящая от атомных реакторов, никак на ней не отразится», Дёрте вновь не сдержалась и воскликнула во весь голос: «И это называется демократией? Атомное государство! Это путь к атомному государству!»
Поскольку судья, очевидно, расценил эту реплику как вполне допустимую, он не стал делать предупреждения выкрикнувшей ее женщине. Более того, он вообще не вмешивался в ход судебного заседания; поэтому Дёрте Петерс и я через несколько дней узнали о том, что ныне является непреложным фактом: инициаторы строительства в Брокдорфе атомной электростанции получили разрешение на сооружение реактора с кипящей, охлаждаемой из Эльбы водой. И если приговор столь же целенаправленно вступит в законную силу, в чем Дёрте и я нисколько не сомневаемся, нам придется еще до начала съемок нашего фильма искать для этого другое место, поскольку проводить съемки на «плотине на Эльбе близ Брокдорфа и расположенной рядом и огражденной изгородью строительной площадке» мы уже не сможем. Подтвердится также реплика Дёрте о перспективе создания «атомного государства».
Не только инициаторам строительства атомной электростанции, Шлёндорфу и мне также приходится считаться с возможными демонстрациями и использованием против них полиции. По ранее получившей столь безобидное, где-то даже идиллическое название стройплощадке, где Харм и Дёрте, стоя на плотине, горячо обсуждают проблему «Ребенок Да — ребенок Нет», начинают разъезжать большегрузные грузовики с прицепами. Над ней теперь стоит гул строительных работ. Им обоим, сражаясь за свое головорожденное создание, приходится повышать голос, и потом, они теперь зависят от другого, уже ядерного головорожденного создания; поскольку с тех пор, как могучая голова бога Зевса благополучно разрешилась от бремени, голова человека уже в любое время готова вынашивать плод; в ней всегда что-то находится в процессе становления, что-то вызревает, что-то придуманное принимает конкретные очертания. Когда заранее спланированная туристическая поездка Харма и Дёрте по странам Азии заканчивается, они летят назад, уже заранее зная: Брокдорф растет, а наш ребенок по-прежнему даже не зачат.
Наконец-то они летят сквозь следующую вместе с ними этим же маршрутом ночную мглу на высоте одиннадцать тысяч метров. Они уже воспользовались сервисом авиакомпании — съели курицу с приправой из риса и пряностей — и совершили первую промежуточную посадку (в Сингапуре). Собственно говоря, им хочется спать, но Дёрте читает подаренный ей роман, дойдя уже до описания страшной резни в заключительной главе, а Харм, который вообще-то собирался записать впечатления от туристической поездки — пещера с летучими мышами, музыка, исполняемая гамеланом[26], — уже вновь оказался в горниле неизбежной предвыборной борьбы и составляет теперь тезисы для своих выступлений: оппозиция без концепции. Почему Штраус, не будучи фашистом, тем не менее по-прежнему опасен? Каковы должны быть гарантии утилизации ядерных отходов, чтобы можно было выдать второе разрешение на частичное сооружение в Брокдорфе реактора с кипящей водой? А также размышления, вызванные озабоченностью дефицитом протеина в мире: он намерен установить взаимосвязь между голодной смертью, с одной стороны, и повышением цен на соевые бобы — с другой. От колебаний курса на Чикагской бирже зависят вопросы жизни и смерти. Дёрте читает. Харм марает цифры.
Они бодрствуют и чувствуют себя очень усталыми, он после третьего стакана пива, когда в головной части салона медленно разворачивается белое полотно экрана (за эту оказываемую на маршрутах дальнего следования услугу полагается вносить дополнительную плату). Сейчас покажут вестерн. Дёрте и Харм снимают наушники. Звук они слышать не могут. Но зато они могут (бесплатно) видеть на экране все, что захотят: свои желания, экранизацию своей двойной жизни, на определенном этапе принявшей трагический оборот.
Она сочетает сцены из «Любовь и смерть на Бали» с эпизодами из вестерна, действие которого разворачивается в определенной последовательности и никогда никуда не переносится. Он заменяет собой Джона Уэйна и оказывается втянутым в партизанскую борьбу на Тиморе. Дёрте играет в экранизации романа Вики Баум. Оба они исполняют главные роли. Она, закутавшись в сари, он в маскировочном комбинезоне. И в обоих фильмах Вентин, словно призрак, бродит — в одном случае по дворцу правителя Бали, в другом — по кривым и темным дорожкам незаконной продажи оружия. Он помогает Дёрте разделить ночью ложе с раджой, он знает, где Харм в конце концов может встретить своего школьного друга, доброго старого Уве. Внутренние покои дворца. Пещера в одной из скал в горах Тимора. Правда, радже (незадолго до кульминационного момента) приходится разомкнуть свои объятия из-за артиллерийского обстрела, которому подвергли его дворец голландцы, и излить свою страсть в сражениях, правда Харм, так как индонезийские солдаты приступили к выкуриванию обитателей штаб-квартиры Уве, вновь вынужден запаковать ливерную колбасу и вслед за своим другом прокладывать путь огнем из автомата, но Вентин — этот управляющий миром посредник — еще раз дает Дёрте и Харму шанс. И Дёрте (эта изменившая своим соотечественникам голландка), блуждая по горящему «Пури» — дворцу раджи, — ищет возможность обрести счастье, вобрав в себя порцию спермы. А Харм (с пробитой насквозь пулями, но чудеснейшим образом сохранившей свежесть ливерной колбасой) находит наконец своего умирающего друга. В то время, как на экране лишь иногда мелькают эпизоды из вестерна, мы через головы Харма и Дёрте видим, как на нем разворачивается двойное действие. Вместе с ними мы видим, как голландская пехота начинает штурм, как индонезийские солдаты смыкают кольцо окружения вокруг последних борцов за свободу Тимора. Как трогает последняя сцена, в которой Дёрте обнаруживает смертельно раненного раджу. Вместе с Хармом мы видим, как он кормит своего умирающего друга насквозь простреленной ливерной колбасой. Уже на пороге смерти раджа в лоне Дёрте дает жизнь новому существу. Лишь бородатый профиль Уве, на который смерть уже наложила свой отпечаток, позволяет нам увидеть, как он, уже на последнем издыхании, грызет колбасу и со словами «Спасибо, Харм, спасибо» испускает дух. И мы также слышим, как раджа шепчет: «Тем самым я даю Голландии то, что она отнимает у нас: жизнь, жизнь…» Ко всему прочему Вентин держит вместо факела карманный фонарь.
Изнуренные, Харм и Дёрте полулежат в своих креслах. По ее щекам катятся слезы. Он тяжело отдувается. После того, как вестерн вместе с время от времени появляющимися на экране и не имеющими к нему никакого отношения сценами закончился, им обоим осталось лишь несколько часов сна, который прерывается промежуточной посадкой в Карачи и подаваемым на маршрутах дальнего следования завтраком. Его им подают над Средиземным морем: жидкая яичница. Затем Дёрте вяжет, Харм дремлет. Мы видим, что, оказавшись в ручной клади, ливерная колбаса стойко выдерживает дорогу. Возможно ли ощутить ее запах и сможет ли ее вонь во время полета исполнить одну из второстепенных ролей? Или только теперь, незадолго до посадки в Гамбурге, клубок шерсти упадет с колен Дёрте и покатится по салону к кабине экипажа?
Все это потребовало бы слишком больших затрат. Шлёндорфу пришлось бы проводить натурные съемки вставных эпизодов, связанных с колониальной войной и участием Харма в кровопролитной партизанской войне, в тех местах, где действительно происходили эти события, используя огромное количество статистов, и кроме того инсценировать плавные переходы этих сцен из вестерна в порожденные мечтами фильмы и обратно. И даже если очередность обратного перехода продлится не дольше десяти минут, все это довольно сложно.
Но лучше бы она длилась пять минут — по метру пленки на минуту. Моя супружеская чета учителей должна вернуться в ФРГ. И обнаружить то, что обнаружили мы, когда, прибыв после более длительной поездки (вопреки моим предположениям), не затерялись среди миллиарда немцев, а смешались с западногерманскими потребителями, число которых едва достигает шестидесяти миллионов.
Этого оказывается вполне достаточно. Они должны обогатить и нас, и весь мир. Пусть они и дальше со спокойной душой воспринимают то обстоятельство, что их становится все меньше и меньше, пусть спокойно списывают несколько миллионов и соответственно экономят в свою пользу на двухместных автомобилях, забетонированных взлетно-посадочных полосах, киловатт-часах, спортивных командах, перешедших в более высокий или, наоборот, в более низкий класс, не превращаясь при этом в нищих в обезлюдевших местностях; ведь если бы (по китайским меркам) немцев насчитывался миллиард, а не с трудом набиралось восемьдесят миллионов в двух противостоящих друг другу государствах, то, учитывая одновременный рост их потребностей, протяженность их автострад, количество их рефрижераторов и хаотически нагроможденных законопроектов, наличный запас их коттеджей на одну семью, а также конфликты между обоими государствами, — создаваемая исключительно в миролюбивых целях оборонительная мощь увеличилась бы в двенадцать раз. В двенадцать раз стало бы больше немецких певческих кружков и матчей между претендующими на членство в высшей лиге командами в ФРГ и ГДР, все, в том числе потребление пива и колбасы, также увеличивается в двенадцать раз; равно как и число юристов, главных врачей, священников, партийных функционеров и чиновников; это в равной степени относится к порой беспрепятственно продолжающемуся и проектируемому строительству атомных электростанций на территориях обоих немецких государств, причем происходящий выброс радиоактивных отходов соответственно гарантировал бы также прирост и в этой прогрессирующей сфере.
Ведь у нас все сводится к приросту. Мы отнюдь не скромничаем. И никогда не удовлетворяемся достигнутым. Мы всегда хотим добиться большего. И записанное всегда претворяем в жизнь. Даже наши сны носят весьма продуктивный характер. И мы делаем все, что только можно делать, то есть все, что может прийти в голову. Быть немцем означает: невозможное сделать возможным. И разве были когда-нибудь немцы, которые, сочтя невозможное невозможным, не признавали бы тут же, что это возможно? Уж этого мы добьемся. Этого мы уже добиваемся! И все увеличивается в двенадцать раз.
При таких подсчетах (разумеется, если продолжать высказывать предположения) воссоединение 750 миллионов немцев примерно с 250 миллионами немцев является лишь вопросом времени. Но у времени (нашего) убывают совсем другие ресурсы. И надолго их запасов не хватит.
Это было моей ошибкой — сделать ставку на улитку. Десять и более лет тому назад я сказал: прогресс — это улитка. Они тогда воскликнули: слишком медленно! Для нас это слишком медленно! Пусть они теперь (вместе со мной) признают, что улитка ускользнула от нас и умчалась прочь. Нам теперь ее не догнать. Мы сильно отстали от нее. Оказалось, что улитка передвигается слишком быстро для нас. И даже если кто-нибудь видит, что она осталась позади, пусть не обманывается: она еще раз обгонит нас.
Это кадр из фильма. А вот еще один кадр. После того, как Дёрте Петерс в зале оформления багажа аэропорта Гамбург — Фюльсбюттель перевела свои часы на местное время, Харм Петерс говорит: «Ну вот, теперь мы вновь себя нормально чувствуем».
8
Деревенское кладбище за плотиной на Эльбе с видом на другую сторону. Совсем рядом Данненберг, это близ Горлебена. Один из холодных и солнечных декабрьских дней. Его пейзаж: заболоченный луг. Старинные фахверковые дома, вычищенные горожанами, похожи на игрушки. Его одиноко стоящие женщины. Его отчаянно веселые дети. Машины с берлинскими и гамбургскими номерами: прибывшие сюда участники траурной церемонии.
С тех пор, как ты умер, я заметно постарел. И если вчера я еще был бодр и весел, то ныне у меня произошел упадок духа. Сегодня у твоей могилы я слышу (через голову священника) крики петухов в окрестностях кладбища. Они как бы произносят по тебе надгробную речь.
Мне мучительно тяжело сознавать, что я пережил тебя и теперь вынужден произносить: как он уже тогда очень верно сказал…
Поскольку цели обычно оказываются покрыты туманом, ты также предпочитал выражаться весьма туманно и неопределенно. Но стоило нам пронизать взорами густую пелену, оказывалось, что ты находил весьма точные характеристики.
Находясь в безопасности, точное местонахождение которой, разумеется, неизвестно, ты с улыбкой говорил: На смену доступным человеческому взгляду туманам придут недавно плотно сгустившиеся. Это же ясно.
Итак, наше требование проницаемости способствует прогрессу, который покрыт завесой тайны.
Пока петухи кричат, а священник старается, ты говоришь: протест против прогрессивных сил был предусмотрен самими прогрессивными силами.
А твой протест?
И он тоже. Однако в их программе ничего не говорилось о моей смерти. Эти силы предпочли бы, чтобы я еще долго служил им. Чтобы я как бы пережил самого себя.
Итак, нам следует набраться сил, чтобы мы смогли продержаться именно как отвергающие туман стихотворения, состоящие из длинных строк, и поэты, обреченные на короткую жизнь. Это было бы очень просто и весьма труднодоступно для понимания.
А вот петухи смеются, говоришь ты, пока мы, стоя у твоей могилы, не скрываем истинное выражение наших лиц.
До того, как мое головорожденное создание вернется в родные края и в обличье Харма и Дёрте Петерсов громогласно вмешается в предвыборную борьбу, я обязан сказать несколько слов о Николасе Борне, который умер от рака (так во всяком случае утверждалось) 7 декабря 1979 года, когда не прошло и двух месяцев со дня нашего возвращения из Азии.
В то время, когда мы еще в своих фракциях спорили о путях и целях и достижимое в какой-то определенный момент объявляли достижимым всегда, он начал рассказывать о «скрытой от Земли стороне истории», сам испугался буквальной утилизации кошмара, увидел своим «глазом первооткрывателя» реальность в стороне от реальных фактов и предположил наличие насыщенного фактами подлога, чтобы (уже на смертном одре) разоблачить его.
Это было вчера или даже позавчера. Мне не нужно вспоминать о нем. Ныне я вижу, как мы с Николасом Борном сидим друг напротив друга в Берлине в начале шестидесятых годов. Я: за спиной заключительный вариант «Собачьих годов»; он, неуверенный в сделанных им первых шагах юноша, прибывший из Рурской области, как и большинство вестфальцев, широкий в кости, с намеренно замедленными движениями и речью, словно ему приходится удерживать под контролем, пока еще контролем, возможные ускорения (которые позднее лишат его покоя). Исполняемые нами роли назывались «Преуспевающий» и «Начинающий». Мы говорили — я: так сказать предупреждая, он: привыкший к предупреждениям — о том, что быть писателем довольно рискованно.
Уже довольно долгое время от него исходит спокойствие, делая его облик слишком ясным и запоминающимся. Спокойный Борн. Уравновешенный Борн. Крестьянин. Спокойствие. Происходящие порой приступы ярости и провоцирующие вызовы неизбежно влекут за собой извинения и отказ от провоцирующих вызовов. Таким его облик остается в достаточной степени неопределенным и вовсе не конкретизируется, даже когда он начинает давать себе волю, разрывая предписанную ему статичность движений, беспокойный, деловитый, заводной, всегда чем-то озадаченный, все больше и больше подвергающийся опасности Борн: одержимый страхом перед полетами летательный аппарат. Заранее готовый к падению.
Итак, он непостижим. Не укладывается ни в одну из предложенных схем. Да и не должен он это делать! Человека, который в 1972 году говорит: «Реальность проявляется только в разговорах. От всего остального она скрывается», уже никак нельзя рассматривать как вполне конкретное явление; даже в своих стихах, которые выражают его «я», он остается недоступным и нам, и себе.
«Если я теперь совершенно опустошен, То это мне мстит реальность»— две строчки, вслед за которыми, как бы извиняясь, следует пятистрочное пояснение:
(«Я снова унесся вдаль в своих мечтах о мире, где царит безвластье, и где польза, получаемая одним, не оборачивается ущербом для другого»).Его утопия? Головорожденное создание витающего в облаках, который пытается с помощью своих желаний уйти от действительности? Более внятно он никак не желает выражаться. Верный, не похожий ни на кого другого друг, который, говоря в крайнем случае куда-то в сторону, передает сообщения из своей отвернувшейся от земли реальности. Только чисто внешне, в непосредственной близости от себя, проявлялась его практичная натура: ежедневно и ежечасно он был абсолютно надежен.
Берлинские годы: я вижу его на еженедельном рынке во Фриденау вместе с двумя детьми с хозяйственной сумкой на плече. Мы договариваемся быстро выпить пива в погребке при ратуше. Мы разговариваем друг с другом как ремесленники. Я вижу его среди вершащих судьбы мира флипперов. Он стоит одиноко среди исполнителей ролей революционеров. Он хочет им сказать: Послушайте! Но они слушают только себя.
Я вижу его проходящим вместе с нами через контрольно-пропускной пункт Фридрихштрассе и садящимся в такси, чтобы добраться до Кепеника. У нас при себе есть кое-что. (Его состоящие из плотно прилегающих строк стихотворения.) Мы хотим прочесть друг другу свои произведения. Они ждут нас так же, как и мы их: неуверенно, отстраненно, заботясь о значении снов и их скрытом смысле, неуклонно заносясь слишком высоко.
Но где бы мы ни встречались: среди флипперов, на еженедельном базаре или в полночь в зале для отъезжающих, наши беседы представляли собой бесконечную череду отрывочных, бессвязных разговоров между друзьями, которые всегда останутся таковыми, поскольку ни один из них не желает искать более тесного сближения, чтобы не нарушить внутреннее одиночество и отчужденность другого. Эта стыдливость является предварительным условием. От него вообще нельзя ждать проявления ласки или заботы. Его любовь требует лишений и запретов. Он может прерваться на полуслове и уйти. Это вряд ли может кого-либо удовлетворить. Проклятие! Его еще недостаточно использовали. Следовало бы в судебном порядке добиться его возвращения с того света и доказать виновность махинатора Смерти в подлоге. Он должен вновь оказаться здесь и дать больше, отдать все; ведь последнее, что он мог предложить, это свою мучительную боль, которая старалась держаться на расстоянии и давала знать о себе как бы извиняясь.
Перед тем, как мы направились туда и петухи прокричали над могилой и гробом, я сказал в деревенской церкви: «Николас Борн мертв. Слов утешения я не знаю. Мы должны попытаться сделать так, чтобы он продолжал жить».
Но как, если реальность так откровенно опередила его? Аршинные заголовки в газетах. Судебный процесс по поводу строительства атомной электростанции в Брокдорфе проигран. Цены на нефть растут. Даже церковь принимает решения в связи с энергетическим кризисом: бензин наш насущный даждь нам днесь… Ежедневно везде и всюду Хомейни и взятые им заложники. Разоружения надлежит добиться путем вооружения. Картер продолжает угрожать. Мир держится на равновесии страха. Но зато из информационных выпусков исчезают сообщения из Камбоджи потому, что гибель там людей уже больше не новость, как, впрочем, и происходивший несколько раньше геноцид проживавших во Вьетнаме китайцев. Но даже когда это продолжалось — все равно устарело. Как и десять лет тому назад, когда ежедневно передаваемые по телевидению сообщения о непрерывном увеличении числа погибших в Биафре воспринимались гораздо менее трагически из-за надежд, возлагаемых на грядущие семидесятые годы, о которых теперь придется сказать прощальное слово ровно в сочельник: с одной стороны, они представляли собой… а с другой…
Ты не пожелал в этом участвовать. Но я не отпущу тебя. Под крик петуха в небе над кладбищем я хочу забрать тебя, Николас, в десятилетие Оруэлла. Тебе не избежать встречи с моими головорожденными созданиями. Вместе с тобой я хочу посмотреть, как Харм и Дёрте Петерсы в конце августа — дальше я не заглядываю — приземляются на аэродроме Гамбург — Фюльсбюттель, получают свой багаж, видят из окошка направляющегося в Альтону такси плакаты с призывами гарантировать безопасность, втягиваются в предвыборную борьбу и, едва оказавшись здесь, не кричат «Нет», уподобляясь тебе, сказавшему «Все — Перестаньте — Нет — Конец — Смерть», но вынуждены между строительными площадками перемывать косточки сильным мира сего, попав в спираль заработной платы и цен или, наоборот, цен и заработной платы, зажатые как в тиски материальными ценностями, с головой погрузившиеся в ежедневные перепады настроений и влекомые надеждами, ставшими для них как бы приманкой и за которыми им видится — а как же иначе! — нечто принципиальное.
— Ты знаешь, что такое тащить в гору камень? Когда мы произносили надгробные речи, Ледиг-Ровольт, твой старый издатель, сравнил тебя с Камю. («Я покидаю Сизифа у подножия горы! Его конец всегда можно найти».) Это и есть подвиг. Поэтому Харм и Дёрте для меня герои. Правда, им приходится тащить камни не слишком больших размеров, но их путь в гору и с горы на равнине также представляется абсурдным. Я хочу представить их тебе. Дёрте могла бы лечь с тобой, и потом ее то и дело повторяемые «Как-нибудь» — «Как-нибудь мы это уладим!» — были бы восприняты тобой с пониманием. И Харм, который, кроме статистических сборников и информационных бюллетеней, читает только детективы, также станет тебе близок, он ведь славный парень.
За плечами у них туристическая поездка. Подобно тебе, побывавшему в Ливане и видевшему там все и одновременно ничего, они оба вернулись из Азии, где не поняли ничего и одновременно постигли все. Вот только писать они не могут. Поэтому приходится их описывать: как они получили свои должности и их внешний вид — ведь они уже немолоды. Как они десять лет тому назад (приняв участие в движении протеста) получили очень сильные ощущения и как они с тех пор (несмотря на всю свою активность) не пережили ничего подобного. И как перед ними постоянно вставала по-новому их основная проблема «Ребенок Да — Ребенок Нет». Что они привезли из Азии, кроме сувениров, и что нового они узнали помимо полученной ранее информации. Почему они, не испытывая друг к другу пламенных чувств, довольно хорошо ладят между собой и как им удалось превратить любовь во вполне устраивающие их партнерские отношения. И почему ни он, ни она не представляют из себя ярких индивидуальностей и их вполне можно спутать друг с другом. И о чем они в фильме разговаривают между собой во время поездки на такси в Альтону.
«Так, — говорит Харм Петерс, — именно так я все себе и представлял. Море плакатов. Сборщик налогов Шмидт. Государственный деятель Штраус. И каждый гарантирует безопасность».
«Нет никаких гарантий, — твердо уверена Дёрте. — Все очень зыбко. Все они пытаются ввести нас в заблуждение. И лишь „зеленые“. Ты только посмотри, какие „зеленые“ старательные».
«Они, — говорит Харм, — заварят кашу со Штраусом. А расхлебывать ее будут и они, и мы».
«Эй, — говорит шофер такси, — вас, наверное, долго не было здесь?»
«Азия», — говорит Харм, — «Индия», — говорит Дёрте.
«Видел по телевизору, — говорит шофер такси. — Когда смотришь, что там у них происходит, понимаешь, что здесь у нас все же лучше».
И что надлежит сказать об этом Харму и Дёрте в фильме? Следует ли им поддержать уверенный голос канцлера? Придет ли им в голову что-нибудь типа «с одной стороны — с другой стороны»? Или они молча расплатятся, сядут в поезд, направляющийся в Итцехое, и поволокут свой спор на тему «Зеленые да — зеленые нет» из Итцехое в Глюкштадт по равнинным землям Кремпер — Вильстермарша точно так же, как они то договаривались, то, наоборот, отказывались завести ребенка на протяжении всего маршрута Бомбей — Бангкок — Бали? (Теперь он хочет «черт возьми, наконец, стать отцом»; она же снова хочет — «пойми же наконец» — принимать таблетки.)
И как проходит их возвращение в Итцехое, которое встречает обоих, выкрашенное в цвета предвыборной кампании? Здесь Харм мог бы прийти в ярость, вытащить на привокзальной площади из своей ручной клади ливерную колбасу и швырнуть ее. (Он целится в плакат с изображением Штрауса, но попадает в висящий рядом плакат с изображением Шмидта.) «За тебя, Франц-Йозеф!» — «Мне очень жаль, Гельмут…» Или же позволю им обоим (все еще вместе с колбасой) без всякого перехода добраться домой, где они распаковывают свои чемоданы: она — свои изящные фарфоровые безделушки, он — свои раковины и куски застывшей лавы.
Или же они забирают у Уве Енсена свою кошку, которая содержалась у него на полном пансионе. И там Дёрте вдруг начинает плакать навзрыд, поскольку их серая с белыми лапками кошка, которую вполне могли звать Дикси, тем временем окотилась.
«Пять штук, — говорит сестра Уве Моника. — Три дня тому назад. Они еще слепые. Ты посмотри, какие они славные!» Но глаза Дерте застилает пелена. Она больше не хочет прислушиваться к голосу разума.
Или я сразу же после жесткого монтажа (и потому, что каникулы закончились) отправлю эту супружескую чету учителей в школу, где ученики засыплют их вопросами: «Сколько теперь стоит в Джакарте мотоцикл?» — «Ну вы наконец-то забеременели, госпожа Петерс?»
Или же я после быстрой смены кадров — скорый поезд на Итцехое, равнинная местность Вильстермарша, разлетающаяся на куски колбаса, кошка, родившая пятерых котят, неприятные вопросы учеников — сделаю так, что они оба немедленно ввяжутся в предвыборную борьбу. Я направлю их в трактиры. В Келлингхузене, Лэгердорфе, Вильстере и Глюкштадте они скажут то, что скажу я, когда начнется предвыборная кампания. Что несмотря ни на что. Хотя все так зыбко. И это все же меньшее зло. Поскольку оно. И не будет разрядки. Поэтому следует вопреки давлению обстоятельств. Тем самым нет. Но при Штраусе да. Это обязаны также «зеленые». Что только. Иначе получится. Грядущие кризисы. С которыми Шмидт, как уже часто бывало. Даже если мы потуже затянем пояса. И если кто притворится мертвым, ему это никак не зачтется!
Ты ушел от нас, Николас! Ты оставил нам свое стихотворение «Без отходов», которое я перед тем, как священник приступил к выполнению своих обязанностей и прокричали петухи, прочел вслух для всех нас: «…Статисты в жизни, аутсайдеры. Припавшие к капельнице системы…» Это правильно во все времена. В подтверждение вечного смысла этих слов позволю себе привести цитату из сонета Бунцлауэра: «И гонят нас как ветер дым». Ведь и Грифиус, и Борн в своих переживших их самих строках предвидели конец своей эпохи.
Конец эпохи Грифиуса так и не наступил. Убийственно веселая жизнь продолжается. И конец эпохи Борна — ты это знаешь, Николас, — также никогда не наступит. Убивая, мы тем не менее выживем и будем веселыми. Мы приспособимся к самим себе, сумеем защитить, обустроитъ и обеспечить себя. Мы захотим выйти из игры и продолжить свой род; в конце (после окончания фильма) этого захотят также Дёрте и Харм.
Я не выйду из игры. Если же я пытаюсь это сделать, то постоянно (это лишь кажется, будто где-то в другом месте) оказываюсь коварнейшим образом связанным прежними договорами. Мои истоптанные сапоги, в которых я столько раз пытался бежать. Зачастую мне приходилось для разгона уходить в давние времена, чтобы вновь стать современным. Так было. Так есть. И так будет, только в гораздо большей степени. Я с интересом жду, когда наступят восьмидесятые годы: современник, который вмешивается в ход событий. Ну и чудесно, насвистываю я в лесу. Я мечтаю о героических поступках. Я тащу готовый устремиться в долину камень на гору и цитирую. Я отправляюсь путешествовать и беру самого себя с собой. Вернувшись из Пекина, я творю на немецком, создавая первоначальный, второй и окончательный варианты главных и придаточных предложений. Я рассчитываю на слушателей, которые пропускают услышанное мимо ушей. Я не могу работать без отходов. От моего усердия никакого прироста у вас не произойдет. Так как если я выступлю перед немцами и (как это уже было опробовано в Китае) покажу им богатство, заведу речь о двух немецких литературах и назову это свершенным нами чудом, я сумею, правда, доказать, что, в отличие от других уже изрядно обветшавших чудес, оно пока еще имеется в полном составе, но немцы ведь не знают себя и не хотят ничего о себе знать.
Постоянно они должны быть или в кошмарном большинстве или в жалком меньшинстве. Здесь ничто не произрастает без ущерба для них самих. Об их колоды раскалывается все. Тело и душа, практика и теория, содержание и форма, дух и сила — это всего лишь дрова, которые можно уложить рядами. Жизнь и смерть они также тщательно раскладывают по саженям: своих живых писателей они так охотно (или с сожалением) отправляют в изгнание; зато для своих мертвых писателей они вяжут венки и изображают из себя участников траурной церемонии. Они — родственники усопшего, готовые ухаживать за памятником на его могиле до тех пор, пока расходы на это остаются вполне приемлемыми.
Но нас, писателей, никак не получается превратить в мертвецов. Ведь мы — крысы и навозные мухи, которые подрывают согласие в обществе и пачкают чистое белье. Возьмите их всех, когда вы в воскресенье после обеда (пусть даже участвуя в викторине) стараетесь найти Германию: мертвого Гейне и живого Бирмана, Кристу Вольф там и Генриха Бёлля здесь, Логау и Лессинга, Кунерта и Вальзера, поставьте Гёте рядом с Томасом, и Шиллера рядом с Генрихом Манном, пусть Бюхлер окажется в заключении в Баутцене, а Граббе — в Штаммгейме, слушайте Беттину, уж если вы слушаете Сару Карш, и пусть Клопшток черпает познания у Рюмкорфа, Лютер у Джонсона, а вы познайте у мертвого Борна юдоль печали Грифиуса и у Жан-Поля мои иллюзии. Кого еще я знаю в прошлом. Не пропускайте никого. От Гердера до Гебеля, от Тракля до Шторма. И плюньте на границы. Пожелайте только, чтобы языку не мешали. Будьте богатыми в ином понимании. Заберите прибыль себе. Ведь ничего лучшего (по обе стороны проволочных заграждений) у нас нет. Только литература (и ее первооснова: история, мифы, чувство вины и прочие перипетии прошлого) возвышается над обоими угрюмыми, отгородившимися друг от друга границами государствами. Пусть они и дальше противостоят друг другу — по-другому они не могут, — но только заставьте их, чтобы мы не стояли больше согнувшись под проливным дождем, принять эту общую крышу, эту нашу неделимую культуру.
Они будут противиться, эти оба государства, поскольку источник жизни для них — противоречия. Они не хотят быть такими же умными, как Австрия. Они постоянно вынуждены отделять их Бетховена от нашего Бетховена (который покоится в Вене). Их — наш: ежедневно они лишают Гельдерлина гражданства.
Я скажу об этом во время предвыборной кампании: не упоминая о Штраусе, но в поддержку Шмидта, чтобы он слышал, созидатель, чтобы он созидал то, что нам осталось еще созидать.
Например, Национальный фонд. Брандт в своем правительственном заявлении объявил, что их насчитывается семьдесят два. Затем они стали предметом раздора между землями: никакого значения, обременительная статья бюджетных расходов. Оппозицию интересовала только проблема, связанная с местом их расположения, правительство вело себя трусливо, ибо самым важным для него оказалось «снижение расходов». Приоритет был отдан экономике, тарифным соглашениям и травле радикалов. Результатом запросов творческих личностей и их объединений стала лишь оплата дорожных расходов. Прогрессирующее невежество. Стремление взять с собой свою полную неспособность в следующее десятилетие.
Ныне я знаю, что ФРГ в преддверии решения этой задачи выглядит очень жалко — впрочем, ГДР в одиночку с ней также не справится. Только вместе — подобно тому, как они заключают соглашение о совместном ветеринарном контроле на границах, регулируют дорожные сборы, обременяют себя непосильными задачами в соответствии с законом Гауса и приходят в раздражение из-за способных вызвать катастрофу кульбитов мировой политики — они могли бы заложить фундамент Национального фонда немецкой культуры, чтобы мы, наконец, познали самих себя и чтобы мир воспринимал нас по-иному, а не как нечто совершенно ужасное.
Этот Национальный фонд вместил бы в себе очень многое. В нем нашлось бы место и для прусского культурного наследия, на которое так сварливо претендуют оба государства. Хаотично разбросанные остатки культуры потерянных восточных провинций могли бы через него научить нас распознавать причины наших потерь. Поместится здесь и современное искусство со всеми его противоречиями. Из многослойного богатства германских регионов вполне можно выбрать подходящие образцы. Оба государства и входящие в их состав земли не будут ревниво держаться за свое имущество и уже поэтому не обеднеют. Нужно создать не монстра наподобие огромного музея, а место, пригодное для того, чтобы любой немец смог отыскать свои корни и разрешить свои сомнения. Отнюдь не мавзолей, а, напротив, доступный, по мне, так через два входа (и как это принято у немцев, непременно надлежит позаботиться о выходах) источник знаний. — И где, — восклицают хитрецы, — можно найти его адрес? По мне, так на ничейной земле между Востоком и Западом, то есть на Потсдамской площади. Там Национальный фонд смог бы в одном-единственном месте убрать стену — этого грозною противника любой культуры.
Но так дело не пойдет! — слышу я громкие возгласы. Ее мы хотим оставить себе. Те, кто по ту сторону границы, никогда не пойдут на это. А если и согласятся, то какую потребуют плату? Что, они должны получить равные с нами права? Но их же гораздо меньше и у них там нет настоящей демократии. И мы должны наконец признать их, признать как суверенное государство? И что конкретно мы за это получим? Ну это же смешно, два государства одной нации. Пусть даже с единой культурой. Что на нее можно купить?
Я знаю. Это всего лишь сон наяву, увидеть который можно лишь бодрствуя. (Еще одним головорожденным созданием больше.) Мне известно, что я живу в условиях осемененного культурой варварства. Грустные цифры позволяют доказать, что в обоих немецких государствах после войны было уничтожено гораздо больше субстанций культуры, чем во время нее. И здесь, и там культуру во всяком случае субсидируют. По ту сторону границы опасаются развития искусства по его собственным законам, здесь «оговорки в отношении культуры» нахлобучивают нам на голову словно шутовской колпак. Когда Гельмут Шмидт 4 декабря на съезде СДПГ в Берлине два часа выступал очень умно — это даже на меня произвело впечатление, — он ничего не упустил в своей речи, однако проблема культуры предстала в ней лишь как перечисление центров европейской цивилизации и промышленно развитых регионов; и если Эрих Хонеккер в своих речах всячески высказывается в поддержку плановой экономики, возникает опасение, что он вот-вот примется рассуждать об отставании деятелей культуры при выполнении плана.
Почему я здесь (а вскоре и во время предвыборной кампании) высказываю то, что волнует лишь очень немногих, хотя столько людей, стоит заговорить о Германии и немецкой культуре, набивают рот словами так, что у них даже происходит спазм жевательных мышц? Потому, что я это лучше знаю. Потому, что традиция нашей литературы требует упорства при осознании своего полного бессилия. Потому, что нужно высказаться. Потому, что Николас Борн мертв. Потому, что мне стыдно. Потому, что наши недостатки обусловлены не материальными и социальными причинами, а бедственным положением в сфере духа. И потому, что оба моих принадлежащих к чиновничьему сословию преподавателя гимназии стоят с глупым видом возле своих профессиональных знаний, которые у них распадаются на факты, таблицы, краткие формулировки и информацию. Харм и Дёрте заполнили свой вакуум картотекой. Они держатся, оказавшись засыпанными лавиной информации. Стоит назвать код и получить все или ничего. «Надо было бы, следовало бы, нужно в конце концов что-то делать!» Когда они взбираются на плотину на Эльбе близ Брокдорфа и им открывается виц на широкий простор, у них обоих сразу же появляется желание спасти мир. Любая загадка им доступна, но вот самих себя (чувствуя себя, как немцы, промежуточной величиной) они понять не могут.
Что изменилось? Всего лишь окотилась кошка? Теперь они дома, но выступает ли он в полупустых трактирах, а она перед домашними хозяйками, Азия повсюду наносит им ответный удар. Оба они не будут участвовать в «поднятой в связи с поляризацией шумихе». Так как «зеленые» помимо своего «Нет, спасибо» ничего не могут предложить, Харм и Дёрте (не без колебаний) собираются задать им крайне неприятные вопросы: о разоружении путем довооружения. О пенсионном страховании. О предоставлении рабочих мест. Вообще о проблеме безопасности. Но так как им заранее приходят в голову только мягкие как воск ответы, они в своих кратких рефератах пускаются в пространные рассуждения о мировых проблемах.
«Конечно, — говорит Харм в Вильстере, — нашей целью по-прежнему остается полная занятость. Но мы не можем обеспечить потребность в энергоресурсах в семидесятые годы без учета мнения стран „третьего мира“.»
«Свободная рыночная экономика, — говорит Дёрте, обращаясь к домохозяйкам в Глюкштадте, — должна по-прежнему оставаться фундаментом нашего демократического строя. Однако наш потребитель обязан ежедневно считаться с дефицитом риса в Индонезии».
И если оба побывавших в Азии супруга говорят чрезмерно горячо и, войдя в раж, рассуждают о глобальных проблемах, если Харм приводит цитаты из книги Брандта «Новое устройство мировой экономики», если Дёрте назвала кошмарные цифры, содержащиеся в докладах «Римского клуба», д-р Конрад Вентин, тот самый, уже давно заслуживший репутацию «ужасно комичного чудака», руководитель туристической группы и гуру-чародей, плюет на всесторонне обоснованный конспект их речей.
И тут Дёрте заклинает, взывая к разуму: «Эти, фатально предопределенные и потому остающиеся неизменными структуры Индии»; а Харм, чей предвыборный лозунг «Страх — плохой советчик!» уже прозвучал, внушает страх собравшемуся в довольно большом количестве персоналу цементной фабрики в рабочем предместье Лэгердорф своим прогнозом: «На протяжении восьмидесятых годов население азиатских стран постепенно окажет давление и на Европу, оно даже заполнит наш континент. Я вижу, как они тысячами и сотнями тысяч просачиваются сюда и здесь, также и здесь в Итцехое, среди нас…»
Таким образом дело доходит до того, что на экране должны появиться массы. Пока Харм Петерс вовсю распространяется о своих кошмарных видениях, а Дёрте Петерс доводит существующий в мире дефицит протеста до все более ужасающих размеров, Шлёндорф вынужден собрать статистов, чтобы избыточное население азиатских стран в лице индусов, малайцев, пакистанцев и китайцев заполоняло бы собой трактиры Вильстермаршена и места проведения вечерних собраний домохозяек до тех пор, пока речи Харма и Дёрте не были бы встречены рукоплесканиями публики, состоящей в основном из представителей чуждых рас. Остатки же лиц немецкого происхождения в страхе затерялись среди восторженной массы.
На моих глазах это происходит как быстрая смена кадров. Одна фраза следует за другой, когда оба выступающих весьма наглядно изображают внушающее им такой страх переселение народов. — «Они приходят поодиночке и огромными семьями», — до тех пор, пока в слишком тесном для такого количества человек пивном зале не остаются одни лишь «новые европейцы», «трудолюбивые, прилежные люди. Скромные, и способные к учению…» Похоже, единственные из немцев здесь кельнер и две подавальщицы. Только теперь то на одном, то на другом предвыборном собрании в качестве содокладчика начинает выступать д-р Вентин. На всех доступных ему языках — хинди, тамильском, индонезийском и даже мандаринском — он возвещает о наступлении нового мирового порядка: «Континенты соединяются между собой братскими узами. Юго-Восток и Северо-Запад теперь едины. Европа добровольно и даже чувствуя себя при этом счастливой позволяет Азии поглотить себя…»
Выступающим бросают цветы, трибуна скрывается в исходящих от курительных палочек клубах дыма. В стороне играет гамелан. Речь Вентина создает необходимую гармонию: «Омоложенный таким образом немецкий народ наконец увеличит свою численность во много раз. Как многонациональное государство мы…»
Затем, после жесткого монтажа, на экране вновь преобладает окрашенная отнюдь не в яркие цвета реальность: Дёрте признается упитанным домохозяйкам из Итцехое, что она после долгой внутренней борьбы решила поддержать не «зеленых», а (разумеется, сохраняя за собой право критиковать) коалицию: «Этот баварский хам, сударыни, отнюдь не представляет собой альтернативы!» Харм завершает свое выступление перед рабочими цементной фабрики из Лэгердорфа следующим выводом: «Ожидаемые в восьмидесятых годах кризисы не позволяют нам пойти на риск, который называется Штраус или Альберт!» Обоим супругам долго аплодируют. Домохозяйки подливают кофе. Рабочие цементной фабрики требуют пива. Только обслуживающий персонал походит на выходцев из другой страны.
Наши участники предвыборной кампании очень устали. Ему или ей дома приходится убедиться в правильности выражения «Демократия — чертовски тяжелая вещь». Дёрте заворачивается в индонезийское сари. Харм разглядывает свои раковины. Постепенно они мысленно покидают двойное собрание. И лишь теперь они оба принимают решение, которое следовало принять еще неделю тому назад, сразу же по возвращении из Азии, но Дёрте непременно хотела позволить серой кошке с белыми лапками хоть немного насладиться материнским счастьем.
Только у одного из пяти котят уже есть хозяин. Остальных четверых никуда не пристроили. Сестра Уве Енсена Моника хочет взять себе котенка. Поскольку Харм заверил ее: «Слушай, у твоего брата на Бали все отлично. И как же он обрадовался ливерной колбасе…», она смогла убедить своего Эриха, который не хотел, чтобы дома у них была кошка: «У нас же нет детей. И эта славная кошка внесет хоть немного жизни в наш дом».
Остальных котят ликвидирует Харм. Он делает это украдкой в ванной комнате своего старого дома. Слышен только плеск воды. Он возвращается в кухню с целлофановым пакетом в руках и бросает его в мешок для мусора (при необходимости вместе с пока еще имеющейся здесь ливерной колбасой). «Завтра — восклицает он, — это барахло уберут!»
В общей комнате сидит Дёрте в сари и не плачет. Она поставила пластинку с индийской музыкой. По комнате бродит серая кошка с белыми лапками. Она мяукает. Дёрте говорит: «Я боюсь, Харм. И прежде всего нас самих».
В Марктхайдене, небольшом франконском городке, в который я десять лет тому назад заехал во время предвыборной кампании — «Улитка — это прогресс», — в промежутке между лекциями в Штутгарте и Лоре я прочитал Фёлькеру Шлёндорфу черновой вариант рукописи «Головорожденные». Мы сидим за бокалом франконского вина в расположенном на берегу Майна трактире. Несколько посетителей удивлялись зачитываемому вполголоса докладу, однако терпеливо сносили наше присутствие.
Я обозначил пока еще отсутствующий конец и, заполняя пробелы, приступил к рассказу: «Здесь в проспекте туристической компании „Сизиф“ отсутствует подходящая цитата…» (Позднее я выбрал фразу: «Человек абсурда говорит „да“, и с той поры его постоянно преследуют невзгоды и лишения».) Фёлькер демонстрирует сделанные им на Яве цветные фотографии — изображение уличных сцен и детей. Все выглядело так же фальшиво, как и в действительности, настолько хороши были фотографии.
Проклятье! Как нам погубить эстетику цветного фильма? Он делает все красиво, однозначно гладко, приемлемо. Например, страх. Страх Дёрте, Харма, наш страх. Это не выразить в цвете. Это серое с кислым привкусом. Следуя законам цветного кино, мы соглашаемся с предложениями кинопромышленности, которая вводит нас в соблазн и побуждает создавать блистательные подлоги. (Днем раньше я получил известие о смерти Борна.)
Итак, скажем «нет» всем предложениям. Отвергнем самые поразительные изобретения. Будем сознательно вести себя неправильно по отношению к техническому (человеческому) развитию, в ходе которого все достижимое достигается. Но достижимое заставляет споткнуться о пробный камень необходимости. То, что выдумает человеческая голова, не должно быть осуществлено, претворено в жизнь, не должно стать реальностью. Все, в том числе и мои головорожденные, — это абсурд. Поэтому Сизиф отказывается использовать для подъема в гору транспортные средства. Он улыбается. Его камню не нужно придавать скорость.
Возможно ли такое? Мы уже слишком зависим от наших самостоятельно развивающихся головорожденных созданий. Со времен Зевса они размножаются без сперматозоидов и семяизвержения. Компьютеры говорят о себе: мы принадлежим к третьему поколению. От отходов ускоренных реакторов-размножителей быстро не избавиться. Из-за новых систем раннего предупреждения новые ракеты устаревают, после чего новейшие ракеты заставляют снять с вооружения новые системы раннего предупреждения. Я ничего не знаю о генетике, но генетика знает меня. Я не имею ни малейшего представления о микропроцессорах, для которых это ровным счетом не имеет никакого значения. Мой протест против запоминающих устройств заложен в них. За меня уже думают. После того, как человеческая голова (поскольку это вполне достижимо) породила мозги, которые теперь вышли из-под ее контроля, освободившиеся, самостоятельные, тем временем уже вполне зрелые мозги парализуют человеческую голову (поскольку это вполне достижимо), чтобы она наконец успокоилась и дала им покой.
Она все еще что-то придумывает. Она все еще по-отечески горделиво (и лишь по-матерински несколько озабоченно) движется вслед за своими мятущимися головорожденными созданиями на полигон восьмидесятых годов. Как быстро они учатся! Как беззаботно они еще до того, как начать произносить «мама» и «папа», выкрикивают слово «самореализация». И как быстро они самореализуются, отказавшись от папы и мамы: быстрее и безжалостнее, чем Харм и Дёрте, которые еще десять лет тому назад в Кильском университете, на митингах и в листовках требовали права на самореализацию.
«Служить, подчиняться. Мы все лишь колесики в механизме спроектированной нами системы…» Нечто в этом роде, сказал я Фёлькеру Шлендорфу в Марктхайденфельде, вполне мог сказать д-р Вентин, после чего Харм и Дёрте сказали бы «нет», как они говорили «нет» ребенку, которого они вообще-то хотели иметь и которому вообще-то должны были сказать «да». Они оба ищут новый термин для обозначения прогресса. Ведь они (по привычке) хотят быть прогрессивными. Перемена взглядов была бы неправильно истолкована. Застой им непривычен. «Постепенно я начинаю испытывать страх, — говорит Харм, — мы идем, только я не знаю за кем».
Они стоят на плотине близ Брокдорфа и, поскольку после отказа суда в Шлезвиге удовлетворить иск обвиняющей стороны в соответствии с разрешением приступить к первому этапу строительства здесь начались работы, видят, как вырастает огромное самостоятельное, реализующее себя Да. Да прогрессу. Постоянно очищающее себя Да. Да восьмидесятым годам. Да «Большому брату», которому все еще несколько, но, правда, не слишком мешает Нет Оруэлла.
Борн Николас, сколько уже времени прошло со дня твоей смерти! Время пролетело очень быстро. Только что я вставил в пишущую машинку новый лист бумаги: я хочу от них избавиться, от этих головорожденных.
9
Китайские женщины удивляются ее манере держать спицы. Обычно они довольно боязливы, но сейчас им хочется поближе познакомиться с европейским методом вязания. (Если бы они объединились в могущественную организацию, в Интернационал вяжущих женщин, мужчинам оставалось бы лишь смотреть на них.) Ведь этот земляного цвета ниспадающий складками зимний свитер, который Уте начала вязать во время нашей поездки на поезде из Шанхая в Квелин и который удлинила во время нашего путешествия по Азиатскому региону, несмотря на обилие различных мешающих обстоятельств, был закончен к Рождеству, в то время как клубки моих мыслей блуждают, не находя выхода среди громоздких реалий изрядно засоренной современной жизни, и я до сих пор никак не могу их распутать.
Постоянно происходят все новые и новые небольшие катастрофы, которые подаются в виде новостей, словно последний из семидесятых годов стремится успеть до своего окончания произвести ревизию кассы: после приступа эпилепсии Руди Дучке в возрасте тридцати девяти лет тонет в ванной. Так поздно пришлось ему платить по так рано выписанному счету. Попытка убийства, подготовленная множеством набранных крупным шрифтом заголовков, привела через десять лет к гибельным последствиям. Уже тогда речь шла о среднесрочной перспективе. По телевидению показывают изрядно устаревшие кадры: он в роли пламенного оратора.
Почему же я так опечален — образцовый немецкий революционер. Как пленяло его желаемое. Как унеслись куда-то его идеалы, словно запряженные шестеркой лошадей. Как его видения грядущего деградировали до изложения их в изданиях карманного формата. Как он превратился в спокойного, любезного и очень нуждающегося в помощи милого Руди. Под конец он присоединился к «зеленым». Те дали ему возможность говорить — вопреки всем противоречиям.
Если Маркс излагает свои идеи устами Меланхтона, получается особая смесь протестантского красноречия и социалистических идеалов, которые позволяют Руди Дучке столь многозначительно истолковывать свою миссию. Рудольф Баро заботится теперь о том, чтобы здешняя политика была по-прежнему выдержана в присущем «зеленым» мессианском духе; вера, которая не позволяет себя смутить реальным положением вещей. Эти укоренившиеся в обоих государствах традиции, так как они не подвластны ни одной, даже самой надежной границе, сохранят для нас точку с запятой как символ немецкой задумчивости; так усердно и одно, и другое государство в борьбе друг с другом сажают леса восклицательных знаков.
Какое-то время Руди Дучке казался мне более понятным, когда он стал прибегать к демагогии и сделался моим вероятным противником. В конце шестидесятых годов бороться с ним и его врагами было небезопасно: взаимная ненависть побудила «левых» и «правых» объединиться против «центра». Позднее Дучке пришлось защищаться от своих сторонников. Многие по-своему истолковали его призыв «пройти маршем по государственным институтам» и сделались чиновниками.
Я спрашиваю себя, как воспримут смерть Дучке Харм и Дёрте Петерсы, которые видели его в Берлине во время массовой демонстрации и на протяжении двух семестров примыкали к нему. Как и передо мной — а я с возрастом старею — перед ними — они (вопреки ожиданию) также не остаются молодыми — летит подводящее черту под его жизнью сообщение. Потрясены ли они? Позволяют ли они себе быть потрясенными? Говорит ли он «Дьявольщина»? Говорит ли она: «В ванной — это что-то на него не похоже»? Возможно ли, что через восемь месяцев после смерти Руди Дучке — они оба совсем недавно вернулись из Азии — в их квартире в Итцехое над письменным столом Харма по-прежнему висит его вырезанная из газеты фотография (с написанной от руки датой смерти)? И плакала ли Дёрте из-за его овдовевшей беременной жены и его двух осиротевших детей? Или же они оба в соответствии с духом времени конкретизируют идеи и героев тех лет, когда они учились в университете и участвовали в движении протеста?
Возможно, Харм Петерс говорит: «Руди, он как политический деятель уже до покушения был мертв. Тогда, особенно после его интервью по поводу „Капитала“, все решения фактически уже принимали другие люди: Земмлер, Рабель…» И я слышу голос Дёрте Петерс: «Увлечь он еще мог. Но когда я потом читала сказанное им, то ничего не понимала. Честное слово, это все для меня загадка, и мое воодушевление, когда он…»
Они дистанционировались от него или утверждают, что сделали это. И им обоим не верю. Они теперь легко вторят о нем с чужого голоса, но тогда они вовсе так не считали: «Просто и так далее…» Только с существенными оговорками они высказались бы в поддержку данного явления или против него. И потом в Киле все происходило бы по-другому: гораздо дисциплинированнее.
Харм и Дёрте не могут признаться, что со смертью Дучке у них тоже кое-что умерло: определенный нерв, план, в котором им также была отведена определенная роль; ведь творящуюся в мире несправедливость (по их словам) они «с тех пор воспринимают близко к сердцу»; вот только та несправедливость, что творится у них под боком, их все меньше и меньше трогает.
Об этом им также придется говорить — в Бомбее или на Бали под пальмами у входа в отель. Там, где им следовало бы промолчать, они, наоборот, позволяют втянуть себя в разговор. «Должна признаться, — могла бы сказать Дёрте в трущобах Хлонг Той, — что сообщение о смерти Дучке подали в телевизионных новостях весьма эмоционально, но я восприняла его довольно спокойно. Однако все, что здесь происходит, я имею в виду в глобальных масштабах в „третьем мире“, и все, что здесь происходит не так, мы благодаря ему воспринимаем близко к сердцу».
Хотя Харм моментально соглашается со своей Дёрте — «Ну ясное дело, Руди объяснил нам кое-какие очень важные причины», — он все же считает, что воспринимать это близко к сердцу начал гораздо раньше Дучке: «О вопиющем различии в уровнях жизни Севера и Юга и тому подобных вещах Эннлер сказал гораздо раньше и гораздо более точно, что мы становимся все богаче, а они все беднее. Вот только мы не хотели слушать».
Оба они весьма приблизительно помнят свои истоки. От тех времен их отделяют слишком много реалий современной жизни: «Это нервирует». Чуть жалостливо — при этом иронизируя над своей жалостливостью: «Дорогой, мы уж очень плачемся…» — они сожалеют о своих упущениях, объясняя то один, то другой неверный шаг переменой обстоятельств или — как говорит Дёрте — «давлением со стороны общества». Этим они занимаются во всех жизненных ситуациях, в любом, самом отдаленном месте. За редким исключением еще ни одно поколение так быстро не исчерпывало себя; эти же или погибают, или не желают больше идти на риск.
Поэтому вопрос «Ребенок Да — ребенок Нет» после того, как под давлением сопутствовавших путешествию по странам Азии обстоятельств на него не был дан однозначный ответ, подвергается новым превратным толкованиям. Правда, они оба (во время возникшего в ходе предвыборной кампании перерыва) договорились отправить мать Харма в дом для престарелых, если она окажется больше не в состоянии одна справляться с хозяйством в Хадемаршене. — «Она же сама говорила, что лучше переберется туда, чем переедет к нам» — но когда Харм швыряет пилюли Дёрте в унитаз и хочет наконец выяснить «в чем тут дело», а его Дёрте ведет себя сперва в ванной, а затем в соседней комнате как слон в посудной лавке, она произносит в конце фильма слова, которые я намереваюсь вложить в ее уста в его начале: «Это ничего не даст, Харм. Все теперь зависит от исхода выборов. При Штраусе я ни за что не решусь произвести на свет ребенка».
Как будто он — будущее. Как будто его победа повлечет за собой вымирание немцев. Как будто после его поражения все обернется к лучшему. Одним он внушает надежду, другим опасения, но в любом случае он олицетворяет собой столь необходимый немцам страх. При этом вовсе не гарантировано, что его кандидатура не будет снята в день выборов. Он все еще роется в закромах проката костюмов в поисках подходящих возможностей. Он примеривает их, отбрасывает в сторону, клянет зеркало в гардеробе и желает носить одежду, предназначенную для гораздо более стройной, чем у него, фигуры. Даже самые удачные его выступления по-прежнему оставляют ощущение, что исполнитель — способный, но роль для него выбрана неудачно. В настоящий момент он копирует Шмидта, что гораздо труднее, чем может показаться на первый взгляд. Даже потеть у него не получается. Так он меняет одну роль за другой и становится все более неузнаваемым.
При этом надо отдать ему должное: он столь же откровенен, как и жесток. В недалеком прошлом его можно было увидеть как в Чили, так и в Греции, где он поддерживал тесные отношения с военными хунтами; в Португалии и Испании, где он весьма благожелательно относился к остаткам «Фаланги»; где бы ни оказался Штраус, он всегда шел рука об руку с крайними реакционерами.
Стоит прочесть его зонтхофенскую речь, произнесенную 19 ноября 1974 года (повод проверить нашу память) и напечатать огромным тиражом разработанный этим кандидатом проект программы завоевания власти, чтобы он вновь стал узнаваемым, чтобы мы запомнили, как лихорадочно и вместе с тем как четко ищет он выражение своим террористическим устремлениям.
И все же ни один из кризисов, которых он так страстно желает и способствовать разжиганию которых призывает своих единомышленников, так и не разразился. Постоянно повторяемые слова — «Я же предупреждал…» — характеризуют его как полемиста, желающего доказать, что победы, одержанные когда-то его противником, привели, якобы, к нынешнему хаосу. Но какими бы мрачными красками ни описывал в Зонтхофене он современную ситуацию, ни один из этих библейских плачей не сделал из него избавителя от кризисного состояния и невзгод. Он рассчитывал потоком своих речей посеять в душах немцев великий страх, однако на этот раз у него ничего не получилось, хотя обычно они радушно поселяют у себя все страхи мира; поэтому даже в родных краях далеко не все захотели внимать его пророчествам.
Государство не развалилось под тяжестью своих долговых обязательств, а число безработных вовсе не достигло желаемых им высот. Несмотря на глупейшие законы, волна терроризма идет на спад. Хотя экономика до сих пор исправно оказывает финансовую помощь Штраусу и ему подобным, она тем не менее не пожелала оказать ему наибольшую любезность, ибо вовсе не желала своего полного краха, а, напротив, воспользовалась конъюнктурой и занялась инвестициями (с предоставлением налоговых льгот). Даже мировые кризисы, на губительные последствия которых в Зонтхофене возлагались такие надежды, далеко не так сильно затронули страну, поскольку социал-либеральная коалиция сумела им противостоять; канцлер в случае необходимости даже может преподать урок соседям.
Страдающий тяжким недугом доллар не увлек марку на смертное ложе. Не пришлось также ограничивать нормы выдачи бензина. Напрасными оказались надежды на массовое обнищание населения. Никакого всеобщего стона и зубовного скрежета, никаких слившихся в единый вопль криков, взывающих к появлению спасителя. Нигде так и не прозвучало в этой связи имя человека, так усердно создававшего атмосферу страха. Оставшись невостребованным, он буквально навязал себя своей партии. Теперь он готовится выйти из-за кулис. Он хочет исполнять две главные роли, он хочет быть одновременно Францем Моором и Карлом Моором? Но его первая реплика так и не прозвучала.
Поскольку теперь, накануне нового десятилетия реальностью станут настоящие, а не вызываемые словами кризисы, оценивать его будут по поведению в серьезной ситуации, а значит, он скукожится и превратится в совершенно заурядного человека. Только среди себе подобных в Зонтхофене он был выдающейся личностью — на словах. Но даже те его соратники, которых он своей пулеметной речью, казалось бы, прошил насквозь — Лейзлер, Кин, Барцель, Коль, — никуда не делись и с нетерпением ждут его ухода с политической сцены.
Я бы охотно предоставил Харму Петерсу возможность произносить такие речи в Келлингхузене или Вильстере. Но он лишь без особого желания склонен превозносить успехи своей партии и своего такого далекого от него канцлера. Правда, приведя две цитаты из Брандта и одну из Шмидта, он говорит: «Наши успехи можно продемонстрировать всему миру!» — но пока этот дефицит протеина и другие проблемы «третьего мира» ему гораздо ближе, чем плата за жилье и реформа системы пенсионного обеспечения.
Харм также забывает изложить мой тезис о единой культуре нации, разделенной на два государства, хотя я (может быть, даже слишком настойчиво) просил об этом. Во всяком случае, в сменяющих друг друга пивных залах он, отдав должное соглашению о взаимной ветеринарной помощи, то и дело восклицает: «Нужно продолжать политику разрядки!» Ничего более конкретного относительно Германии ему в голову не приходит.
С другой стороны, мне (с помощью примеров из времен моего пребывания в «гитлерюгенде») удается побудить Харма и Дёрте Петерсов не использовать при характеристике кандидата такие термины, как «фашизм, фашизоидный, латентно-фашистский». Я также доказал им, что Штраус не подходит на должность федерального канцлера, ибо достиг еще очень малого, даже если считать достижениями связанные с его именем скандалы.
«Никудышный министр обороны, который во время Карибского кризиса вел себя как невменяемый, должен быть дисквалифицирован!» — восклицает Харм под громкие аплодисменты. «Со времени его пребывания на посту министра финансов, — говорит Дёрте, — в памяти осталось только его упорное и противоречащее здравому смыслу нежелание поднять курс марки». В Итцехое в кафе «Шварц» выясняется, что Харм полностью разделяет мое мнение: «Ни к одному привносящему чуть больше социальной справедливости закону, ни к одной относительно демократической реформе он не имеет ни малейшего отношения. Даже с консервативной точки зрения он выдвигал всегда лишь идеи-однодневки. Даже „доктрину Хальштайна“ нельзя назвать его именем. Штраус — это наделенный даром красноречия неудачник!»
Во всяком случае в области политики. В других сферах, на мой взгляд, он мог бы преуспеть. Уже довольно часто я думал: вот если бы он…
Да-да, дорогие коллеги, я знаю: он опасен. Он привлекает к себе массы. Его сторонники и его противники уверены: он сумеет обращаться с властью. И если он придет к власти, она сделается для него самоцелью. Ежедневно ему приходят все новые мысли о том, как пользоваться властью.
Идеи у него есть, их даже слишком много. Он отнюдь не зануда. Его запас слов поистине неисчерпаем. Распираемый желанием говорить, он швыряет, а иногда даже извергает из себя остатки тех словесных запасов, которыми вот уже на протяжении десятилетий никто не пользовался. Зачастую с ним происходит просто словесный понос. Его убойные, сформировавшиеся в колонны фразы вдруг разбегаются. Но его способность закончить толчеей слов целый вечер, его умение устроить с помощью слов самый настоящий поднимающий настроение праздник заставляют нас предположить, что человеку, который в погоне за властью окончательно замучил себя и сделался совершеннейшим сумасбродом, присущи совсем иные таланты.
Ведь собственно он — это все говорится для того, чтобы окончательно распрощаться с ним как с политическим деятелем — обладает даром, которым только неправильно воспользовался, однако у него еще есть время опомниться. Сделай он это раньше, он был бы ныне одним из нас. Вспомним, дорогие коллеги, как мы начинали. Разве наши первые произведения не грешили экзальтацией, сочетавшейся с убогостью мысли и скудостью словарного запаса? Тогда, когда для нас еще не пробил «час О». Тогда, в мае, когда «сплошная вырубка» была объявлена литературным стилем.
Я уверен: при некотором старании он (после нескольких неудачных попыток создать во время службы в вермахте выдержанные в «патриотическом» духе произведения) вскоре после войны сделался бы весьма плодовит: обвинительный пафос в сочетании с пацифистской тенденцией, скудость слова и мысли в кратком, написанном буквально на развалинах стихотворении. Я даже не исключаю его участия в заседаниях членов «Группы 47» даже на раннем этапе ее существования, пусть не в самых первых в Баннвальдзее, но хотя бы в тех, что состоялись через три года в Инцигхофене, когда впервые была (Гюнтеру Эйху) вручена премия группы. Во всяком случае, в начале пятидесятых годов на проходившем — в Бад-Дюркгейме — под председательством по-отечески снисходительного и в то же время довольно строгого Ганса-Вернера Рихтера заседании он вполне мог зачитать отрывки из своего откровенно антивоенного романа (или радиопьесы) «Карабин 98 калибра» или найти издателя (возможно, им оказался бы Деис).
При его склонности мужественно сказать «Нет» он мог бы принять участие в акциях «Грюнвальдского кружка», в «борьбе против атомной смерти» и в пасхальных маршах протеста. Вместе с еще очень многими людьми он наверняка был бы включен в «черный список» Барцеля. До сих пор памятна произнесенная им в Зонтхофене речь, в которой он, проявив не просто мужество, а даже показав полное бесстрашие, призвал выступить «против ремилитаризации».
С середины пятидесятых годов я дружил с ним, а он, в свою очередь, тем временем довольно близко сошелся с Вальзером и Карлом Амери. В Бебенхаузене и Нидерпекинге я вижу, как мы так изумительно спорим друг с другом и одновременно портим все своей болтовней о девяти мировых проблемах. Успех моего романа «Жестяной барабан» отнюдь не омрачает нашей дружбы. При вручении премии «Группы 47» в Гросхольцлейте он чуть было не получает ее за первую главу своей сатиры «Дядюшка Алоис», которая, едва увидев свет, сразу же оказывается под угрозой попасть под определение суда об обеспечении иска. Он первым поздравляет меня с получением премии (Бог мой, мы даже выпили за это. А как мы бахвалились. И как пытались превзойти друг друга в игре словами. Инфантильные, эгоцентричные, жизнерадостные, впечатлительные, богохульствующие, благочестивые, упоенные словами…)
Он пишет в свободной манере. «Природный талант, берксерк» — критики так чествуют его или, наоборот, раздирают в клочья, именуя «лишенным самообладания подрывным элементом». Все, что своей грубой непосредственностью возмущает нас, например, воля к власти, у него превращается, разумеется, лишь на словах, в великое, позволяющее понять эпоху и общество движение. Даже подлые интриги он использует для того, чтобы увлекательно и несколько иронически описать католическую среду и сделать далеко идущие выводы. Возникают два романа и один рассказ, в которых отражается, преломляется и высвечивается наша жизнь и наша эпоха: «Трилогия о первой среде великого поста» — выдержанное в документальном стиле эпическое повествование о семейной династии баварского пивовара со множеством сюжетных линий. А затем он потрясает нас внутренним монологом пилота терпящего катастрофу «Старфайтера». Он назвал его «Неудачное приобретение». Бременской литературной премии ему не дали, но зато вручили премию Бюхнера. (Как же я восхищался им.)
Лишь с середины шестидесятых годов после того, как еще во время скандала со «Шпигелем» мы были единого мнения, наши пути расходятся из-за слишком активной поддержки мной СДПГ. В журнале «Конкрет» он под заголовком «Пекари мелких реформ» весьма иронично отзывается о моем «возврате к мелкобуржуазным стереотипам поведения». Я отвечаю ему. Он наносит ответный удар. Наши имена теперь противостоят друг другу: решительный настрой, лаконичность.
Поэтому не удивительно, что в ходе студенческих выступлений он оказался на крайне левом фланге. (Осенью 1967 года он, несомненно, пытался в союзе со студентами из Эрлангена сорвать последнее заседание группы в Пульвермюне.) Теперь он состоит в дружбе с Леттау, Фридом, Энценсбергером и пишет на диалектах стихотворения, которые направлены против пакета законов о чрезвычайном положении и издаются у Вагенбаха. В «Курсбухе» он сразу же обращает на себя внимание как автор статьи об освободительной борьбе тирольцев против Наполеона, где его сравнение Андреаса Хофера с Че Геварой наделало много шума.
Он настроен весьма воинственно. Разумеется, лишь на словах. Ибо когда через несколько лет его начинают подозревать в симпатиях к террористам и после совершения ими ряда насильственных акций даже именуют их «духовным отцом», то выясняется, что уличить его можно лишь в нахождении в плену вместе с убитым позднее крупным промышленным магнатом.
Гораздо более достоверным кажется его стремление после спада волны студенческого протеста сблизиться с ГКП, не становясь, разумеется, ее членом. В это время он пишет две пьесы, действие которых развертывается в баварской социальной среде и которые имеют довольно громкий успех. Написанные простонародным языком диалоги заставляют забыть наметившуюся в пьесе довольно примитивную партийную тенденцию: критик Кайзер в полном восторге. Однако громкий скандал, вызванный проникновением шпиона в ведомство федерального канцлера, и последовавшая затем отставка Брандта вынуждают его сделать паузу.
После разрыва с ортодоксальными коммунистами он несколько месяцев не дает о себе знать, а затем вновь поражает многих своими переводами Людвига Тома на латинский язык. Не только в Баварии, но и в других землях небольшого формата книга включается даже в школьные программы. Равным образом в кругах знатоков имеет успех сборник его собственных стихотворений на латинском языке «De rattis et calliphoris», однако ее автору приходится сносить нападки левых критиков, упрекающих его во все более явной симпатии к эзотерическим учениям. (Здесь я хочу возразить критикам, так как весьма образованный автор в своих написанных на новолатинском языке лирических стихотворениях страстно защищает социальное поведение крыс. При его любви к изысканным выражениям он просто не может не отметить пролетарской красоты навозных мух. Его написанные в подражание Горацию стихи, я уверен, выдержат любые критические нападки.)
С тех пор, дорогие коллеги, он начинает болезненно любить природу. Он ведь всегда отличался гибкостью. Недавно мы видели, как он в своих предвыборных воззваниях призывал поддержать «зеленых», хотя его симпатии больше на стороне «пестрых». После того, как я на одном из заседаний в Берлине — мы оба члены Академии искусств — вовлек его в более-менее дружескую беседу и высказал ему свои соображения — «Твое выступление в поддержку „зеленых“ может привести к власти твоего тезку», — он, как обычно, радикально настроенный, громогласно возразил мне: «Ну и что! И пускай! Это общество не заслужило ничего другого. Эту систему нужно потрясти до самого ее основания. С этими вопиющими злоупотреблениями можно справиться лишь с помощью тотального кризиса. А уж затем кто-нибудь железной рукой…»
Я сознаю свое бессилие: эти писатели! Они постоянно хотят перевернуть все вверх дном. Как хорошо, что их никто не слушает.
Например, Харм и Дёрте. Литература нужна им лишь для того, чтобы хоть немного отвлечься. За исключением своих информационных бюллетеней и брошюр, содержащих астрологические прогнозы и научно-фантастические произведения, Харм читает (разумеется, в оригинале) только английские детективы. Иногда он повышает свою квалификацию учителя с помощью учебных пособий и справочников. Дёрте, которая, хотя и росла среди крестьян и в детстве несомненно была книжным червем, теперь также читает только книги по своей специальности, если, конечно, не считать чтением равнодушное просматривание литературных новинок — «Для меня это все с общественной точки зрения недостаточно актуально».
При этом я охотно сделал бы их обоих (как своих головорожденных созданий) эдакими эпическими персонажами, напустил бы больше полутонов и позволил бы даже некий трагический оттенок. Мне бы доставило удовольствие слушать, как Дёрте приводит цитаты из стихотворений Борна, стоя на плотине. Лишь с помощью туристической компании «Сизиф» и цитат из ее проспекта мне удалось (надеюсь) пробудить в Харме интерес к Камю. (Действительно ли он читал Оруэлла или только использовал название его книги для того, чтобы напугать аудиторию?) Кроме того, д-р Конрад Вентин вполне мог немного способствовать (а именно посредством романа Вики Баум) умственному развитию моих обоих учителей. Нашим квалифицированным преподавателям средней школы только на пользу пойдет их будущее превращение в читающих педагогов: еще одна среднесрочная перспектива.
Теперь фильм нужно заканчивать. Продолжаются лишь преподавательская деятельность и предвыборная борьба. Ее исхода я не знаю. Точно так же год восьмидесятый вообще покрыт завесой тайны, и поэтому можно высказывать любые предположения. Согласно последним сообщениям, советские войска вошли в Кабул. Назревают какие-то (неконтролируемые) события. Скорее найти в атласе Афганистан. Распространение безумия происходит по строгим логическим законам. Обе великие державы также могут быть подвержены настроениям. Или же ошибка в переводе приведет к непредсказуемым последствиям. Сотрудники спешно создаваемых во всем мире штабов по преодолению кризиса рассуждают так же глупо, как и я — ведь если разразится война, Шлендорф и я уже не сможем снять фильм. Они разыгрывают ситуации, так как их учили постепенно запугивать друг друга. Но ведь они полные невежды — Сараево, Данциг…
Надеюсь, погода не переменится. Уте и я пригласили гостей. Мы хотим отпраздновать сочельник. На столе будет грудинка в зеленом соусе. А до этого рыба: конечно же, палтус.
Поскольку Харм и Дёрте Петерсы после окончания уроков в школе имени императора Карла садятся в свой старый, приобретенный еще во время стажировки и весьма ухоженный «фольксваген» и перед началом предвыборной шумихи направляются перекусить на скорую руку в свою квартиру в старом доме, где полным-полно сувениров, к своей серой кошке с белыми лапками, в одном из отнюдь не самых оживленных переулков — Дёрте за рулем — им дорогу перебегает мальчик. Однако Дёрте успевает резко затормозить, и поэтому ничего не происходит. Этому улыбающемуся турецкому мальчику лет девяти-десяти еще раз повезло. Его ждут другие турецкие ребята. Они от души радуются, что их приятель остался жив. Из соседних улиц и задних дворов выбегает все больше и больше детей и все они — иностранцы. Индийские, китайские, африканские, очень веселые дети. На улицах становится шумно, они машут из окон, спрыгивают со стен, их уже несметное количество. Все они радуются спасению юного турка, которому еще раз повезло. Они толпятся вокруг него и ощупывают его руками. Затем они принимаются стучать по хорошо сохранившемуся «фольксвагену», где сидит и не знает, как с ними объясниться, наша бездетная чета учителей.
КРИК ЖЕРЛЯНКИ Повесть 1992
Unkenrufe
Erzählung
1992
© Б. Хлебников, перевод на русский язык, 1992
ХЕЛЕНЕ ВОЛЬФФ
1
Случай свел эту пару — вдовца и вдову. Впрочем, может быть, и нет тут особой случайности, поскольку их встреча пришлась на День поминовения? Так или иначе, вдова уже стояла на том месте, где было суждено пройти встрече, когда вдовец споткнулся, толкнул ее, но равновесие удержал.
Так они оказались рядом. Ботинки сорок третьего размера и туфельки тридцать седьмого. Вдова и вдовец нашли друг друга возле крестьянки, которая торговала грибами, лежавшими в корзинке и на разостланной газете, а также цветами, стоявшими в трех ведрах. Крестьянка расположилась неподалеку от крытого рынка среди других торговок и привезенной с огородов петрушки, крупной, размером с детскую голову, брюквы, зеленого лука и красной свеклы.
Его дневник запечатлел и День поминовения, и размер обуви. А споткнулся он о бортик тротуара. Слово «случай» отсутствует. «Видно, само Провидение свело нас именно в этот день и час, ровно в десять утра…» Тщетными остались его усилия обрисовать молчаливую свидетельницу их встречи, равно как и попытки описать цвет ее головного платка. «Пожалуй, не умбра, не торфянисто-черный, а какой-то землянисто-бурый цвет…» Зато монастырская стена характеризуется довольно метко: «струпьистая». Остальное приходится довообразить.
Выбор цветов был небогат, в ведрах стояли лишь георгины, астры да хризантемы. Из корзинки выглядывали волнушки. Пяток чуточку тронутых слизнями белых грибов лежал рядком на первой странице старого номера местной газеты «Głos Wybrzeza» вместе с лучком петрушки и бумагой для кульков. Цветы были так себе.
«Подобная скудость неудивительна, — записано в дневнике, — ведь в День поминовения цветы нарасхват. Даже накануне, на Всех святых, спрос обычно превышает предложение…»
Хотя георгины и хризантемы казались пышнее, вдова решила взять астры. Вдовец поверяет дневнику свои догадки: «Что же, собственно, привлекло мое внимание? Может, довольно поздние для этой поры волнушки и белые? А потом меня будто ударило — или это пробили колокола? — и что-то меня потянуло, какая-то неведомая сила…»
Разглядывая три-четыре ведра с цветами, вдова вытащила сначала одну астру, потом следующую, затем неуверенно третью, поставила ее обратно, заменила на другую, выбрала четвертую, поменяла снова, после чего и вдовец принялся вытягивать астру за астрой, так же придирчиво производя замены, причем отбирал он, как и она, только темно-красные астры, хотя рядом стояли бледно-фиолетовые и белые. Совпадение вкусов смутило его. «Это походило на немой сговор! Ведь я тоже люблю именно темно-красные астры, их тихое пламя…» Во всяком случае оба продолжали вытаскивать из ведер темно-красные астры до тех пор, пока их там совсем не осталось.
Ни у вдовы, ни у вдовца цветов на хороший букет не набралось. Оба уже раздумывали, не вернуть ли небогатый улов обратно в ведра; вот тут и произошло то, что именуется завязкой. Вдовец подарил вдове свой темно-красный трофей. Он протянул цветы, она их взяла. Жест безмолвный и необратимый. Негасимое пламя астр. Так образовалась эта пара.
Колокола пробили десять утра — это были часы на церкви св. Катарины. Мои собственные, отчасти позабытые, а отчасти отчетливо припоминаемые представления о месте их встречи дополняются результатами тщательных изысканий, которыми вдовец перемежал свои записи, например, сведениями о том, что поднимающаяся на высоту семиэтажного дома сторожевая башня с восьмиугольным основанием была северо-восточным угловым сооружением крепостной стены, которая окружала город.
Ее называли «Что в кастрюле?», позаимствовав это прозвище у башни поменьше, которая первой получила его, потому что примыкала к Доминиканскому монастырю, и сверху можно было заглядывать в монастырскую кухню, но потом старая башня стала рушиться, лишилась крыши, на ней выросли деревца и кусты, отчего ее на некоторый период даже окрестили «Клумбой», а в конце 19 века ее и вовсе снесли вместе с монастырскими руинами. На освободившемся месте в 1895 году построили выдержанный в неоготическом стиле крытый рынок, названный Доминиканским павильоном; он пережил обе мировые войны и до сих пор размещает под своей широкой сводчатой крышей шесть торговых рядов с лотками, где выбор бывает порою неплохим, но чаще бедным: нитки и копченая рыба, пирожки с маком и чересчур жирная свинина, американские сигареты и польские маринованные огурчики, пластмассовые игрушки из Гонконга и зажигалки со всего света, тмин и мак в кульках, мягкий сыр и перлоновые чулки.
От бывшего Доминиканского монастыря сохранилась только мрачная Николаевская церковь с черно-золотой роскошью внутри — слабым отблеском жуткого прошлого. Впрочем, крытый рынок не связан с монашеским орденом ничем, кроме имени, то же самое можно сказать и о летнем празднике Доминика, который пережил со времен позднего средневековья все политические перипетии и ныне собирает своими уличными базарами и дешевой распродажей толпы местных жителей и заезжих туристов.
Именно здесь, между Доминиканским павильоном и Николаевской церковью, наискосок от восьмиугольной башни по прозвищу «Что в кастрюле?», и повстречались вдовец со вдовою в те времена, когда подвал сторожевой башни с намалеванной от руки табличкой «Кантор» превратился в меняльную лавку. У ее входа, возле грифельной доски, на которой ежечасно переписывались цифры ползущего все выше и выше обменного курса доллара, постоянно толпился народ, что свидетельствовало о скверном положении дел в этой стране.
— Вы позволите? — с этих слов все и началось. Вдовец, вознамерившись расплатиться не только за свои, но и за ее астры, которые составили теперь единый букет, уже вытащил из бумажника деньги, испытывая при этом легкое замешательство при виде большого числа нулей на местных банкнотах. Вдова не без акцента ответила:
— Не позволю.
Она говорила на чужом языке, поэтому ответ прозвучал, пожалуй, излишне резко, но, видимо, за этим не последовала бы ее реплика: «А букет получился красивым», с которой, собственно, разговор и завязался по-настоящему, если бы случайная встреча вдовца со вдовой не пришлась на времена стремительного падения курса злотого.
Как потом записал вдовец, пока вдова расплачивалась, он завел речь о грибах, особенно о поздних, о запоздалых белых. Причиной тому служат, дескать, долгое лето и мягкая осень. «На мое замечание о глобальных изменениях климата она отреагировала смехом».
Этим «ясным, временами облачным» ноябрьским днем стояли они друг перед другом, и никакая сила не могла сдвинуть их с места, где торговали цветами и белыми грибами. Он не мог оторвать взгляда от нее, она от него. Вдова часто смеялась. Ее смех казался беспричинным, он как бы предварял или завершал собою едва ли не каждую фразу, которые она произносила чересчур отрывисто. Вдовцу нравился этот смех, очень звонкий, во всяком случае дневник свидетельствует: «Словно колокольчик! Иногда даже вздрагиваешь от пронзительности, а мне нравится. Я даже не спрашиваю, над чем она, собственно, все время смеется. Может, надо мной потешается? Ну и пускай, мне даже это приятно».
Так они и стояли. Точнее, так они и продолжают стоять, словно позируя мне, чтоб я немножко попривык к ним обоим. Она — модно одета (по его словам, даже «вызывающе модно»); его твидовый пиджак и вельветовые брюки придают ему солидный, вполне подходящий к дорогой сумке с фотоаппаратурой вид добропочтенного туриста, путешествующего с познавательными целями.
— Если уж нельзя заплатить за цветы, то соблаговолите принять хотя бы то, что послужило поводом для завязавшейся беседы, а именно несколько белых грибов, допустим, этот, вон тот, тот и тот. Выглядят они аппетитно, не правда ли?
Она соблаговолила. Но проследила при этом, чтобы он отдал торговке не слишком много купюр.
— Здесь сумасшедшие цены! — воскликнула она. — Хотя ведь у господина полно немецких марок. Ему наши цены нипочем.
Интересно, действительно ли он прикинул в уме соответствие цифры со многими нулями на польских банкнотах немецким маркам и собирался ли всерьез, без опасений, что она вновь посмеется над ним, напомнить о Чернобыле и необходимых мерах предосторожности; по крайней мере, в дневнике подобная запись налицо. Вполне достоверно, что перед покупкой грибов он их сфотографировал, назвав попутно марку своего японского фотоаппарата. Снимок, сделанный сверху и чуточку сбоку, так что объектив захватил мыски туфель сидящей торговки, запечатлел внушительные размеры белых грибов. Пара тех, что помоложе, имела крепкие ножки, даже более толстые, нежели шляпки, зато у грибов постарее мясистые, слегка перекрученные ножки были прикрыты широкими, пышными шляпками с краями, выгнутыми либо вовнутрь, либо наружу. Четверка грибов, повернутых фотографом друг к другу высокими и широкими шляпками, причем так, чтобы ни один из них не закрывал соседа, являла собой удачный натюрморт. Вероятно, именно таким и был комментарий вдовца, а, может, это вдова сказала: «Прямо настоящий натюрморт, да?», во всяком случае, в сумке, которая висела у вдовы через плечо, нашлась авоська, куда и были положены завернутые в газету грибы, а также пучок петрушки, подаренной торговкой в придачу.
Он хотел было понести авоську. Она не выпускала ее из рук.
Он настаивал. Она не позволила:
«Дарить, а потом самому еще и нести? Ну, уж нет».
В ходе некоторых препирательств, попыток завладеть авоськой, но так, чтобы не пострадало ее содержимое, моя пара оставалась на прежнем месте, будто не могла с ним расстаться. Авоська переходила из рук в руки. Вдова не давала ему нести и астры. Они спорили, будто давние знакомые, у которых имелось достаточно времени, чтобы хорошенько отрепетировать свои роли. В опере из них получился бы отменный дуэт, я даже знаю, что это за опера и на чью музыку.
Не было недостатка и в зрителях. Молча взирала на эту сцену торговка. Да, все вокруг стали свидетелями: восьмиугольная сторожевая башня, расположившаяся ныне в ней и битком набитая людьми меняльная лавка, широченный, словно разбухший от нутряных ароматов павильон крытого рынка, мрачная Николаевская церковь, торговки с площади и их покупатели; всюду толпились и суетились озабоченные своими повседневными нуждами люди, чьи и без того скудные капиталы ежечасно падали в цене, а вдова со вдовцом вели себя при этом так, будто речь шла о дележе совместно нажитого имущества: они спорили и не могли расстаться друг с другом.
— Все-таки мне пора.
— Нельзя ли вас проводить?
— Это довольно далеко.
— Мне было бы очень приятно, правда.
— Но мне нужно на кладбище…
— Если я буду в тягость, то…
— Ну хорошо, пойдемте.
Она понесла астры. Он авоську с грибами. При ходьбе он сутулился, как это бывает с высокими, худыми людьми. Она шла короткими шажками и звонко стучала каблучками. Он же слегка подволакивал ноги, отчего порой едва ли не спотыкался. Ростом он был выше ее на целую голову. Она была голубоглаза, он дальнозорок. У нее были золотисто-рыжие, подкрашенные волосы. У него усики с легкой проседью. От нее исходил сладковатый запах духов, от него слабый запах одеколона.
Они исчезли в прирыночной сутолоке. Отмелькал среди голов его берет. Произошло это незадолго до того, как колокола с церкви св. Катарины пробили одиннадцать. А что же я? Придется и мне последовать за моею парой.
Когда, интересно, взбрело ему на ум послать все это барахло мне на дом? Почему не пришел ему в голову адрес какого-нибудь архива? Неужели этот чудак не сумел найти себе иного чудака вместо меня?
Пачка писем, подшитые счета, фотографии с датами на обороте, объемистая, растрепанная записная книжка, которую он использовал то в качестве дневника, то в качестве хранилища для скорых записей обрывочных мыслей, кипа газетных вырезок, магнитофонные кассеты — все это уместнее отдать какому-нибудь архивисту, нежели мне. К тому же ему надлежало бы знать о моей склонности к сочинительству. Если же он нуждался не в архивисте, а вовсе наоборот, то почему не отправил свою посылку какому-либо газетному или журнальному борзописцу? А главное, что меня-то заставило потащиться за ним, точнее, за ними обоими?
Разве лишь то, что полвека назад мы якобы протирали штаны за одной и той же партой? По его словам, «в первом ряду от окна». Не помню такого соседа. «Петровское реальное училище, старшие классы?» Было такое дело. Впрочем, проучился я там не больше двух лет. Мне довелось сменить слишком много школ. Разных и одинаково пропахших потом коридоров. Разных и одинаково озелененных школьных дворов. Тут и вправду не вспомнишь, кто, где и когда разрисовал рядом с тобою парту пляшущими человечками.
Открыв посылку, я обнаружил сопроводительное письмо. «Тебе это наверняка пригодится. Причем именно потому, что все так невероятно». Он обращался ко мне на «ты», будто со школьных времен для него ничего не переменилось. «По другим предметам ты не блистал, зато твои сочинения уже тогда позволяли предположить, что…» Хорошо бы вернуть посылку, только куда? «В сущности, подобная история могла бы быть выдумана тобой, но мы действительно пережили ее и взаправду испытали на себе все то, что произошло больше десяти лет тому назад…»
Он опередил события, проставляя дату. На письме значилось 19 июня 1999 года. В завершение вполне здравых рассуждений он вдруг сетует на то, что весь мир готовится праздновать смену тысячелетий: «Пустые хлопоты, напрасные траты! Ведь это был век истребительных войн, массовых изгнаний, неисчислимых жертв. Зато с началом нового века жизнь опять…»
И так далее. Можно не продолжать. Важно отметить следующее: их встреча состоялась при ясной погоде, второго ноября, за несколько дней до падения берлинской стены. Когда завязывалась эта вполне банальная история, дотоле неизменный мир, по крайней мере часть его, неожиданно начал меняться, причем стремительно, прямо-таки с головокружительной быстротой. Повсеместно ниспровергались кумиры. Мой бывший одноклассник хотя и упоминал в дневнике эти сенсации, которых приходилось порою сразу несколько на один день, но это была скорее простая констатация фактов. Как бы вскользь, мимоходом говорилось о событиях, каждое из которых могло по праву претендовать на звание исторического, однако они производили на него впечатление лишь постольку, поскольку, как он пишет, «отвлекали от главного, от нашей идеи, великой идеи примирения народов…»
Ну вот, я уже ловлю себя на том, что их история уже заполнила меня. Я и говорю-то так, будто был рядом, видел собственными глазами его твидовый пиджак, ее авоську, его берет, которые, впрочем, и впрямь существовали реально, как и его вельветовые брюки и ее туфли на шпильках, что подтверждается черно-белыми и цветными фотографиями. И размер ее обуви, и запах ее духов и его одеколона оказались удостоенными дневниковых записей. Авоська тоже не выдумана мной. Позднее он с любовью, прямо-таки со страстью опишет каждый ее узелок, словно речь идет о некой реликвии; признаюсь, однако, что столь раннее — уже при покупке грибов — появление вязаной авоськи, доставшейся вдове в наследство от матери, — это моя придумка, как и забегание вперед с упоминанием берета, который в действительности всплыл гораздо позднее.
На то он и был специалистом по истории искусств, да еще профессором. Прежде красноречивыми свидетельствами истории для него служили надгробные плиты и камни, костники, склепы и изъеденные молью траурные флаги, геральдика, эмблематика и мемориальные надписи готических церквей, сложенных из обожженного кирпича и рассеянных по всему балтийскому побережью; эти надписи, оттерев от грязи, чтобы их можно было разглядеть, он тщательно изучал и описывал. Зато теперь таким же памятником ушедшей культуры для него стали унаследованные вдовой авоськи (а она получила их в наследство целых шесть штук), которые позднее оказались вытесненными безобразными клеенчатыми сумками, после чего деградация дошла до полиэтиленовых пакетов. Он записывает: «Четыре авоськи связаны крючком, а две остальные сплетены тем же способом, каким раньше вручную плели рыбацкие сети. Из вязаных авосек лишь одна одноцветная, болотно-зеленая, все прочие, и вязаные, и обе плетеные — разноцветны…»
В своей докторской диссертации он истолковал наличие трех репейников и пяти роз в гербе теолога Эгидиуса Штрауха на барельефе его надгробия в церкви св. Троицы, где Штраух священничествовал в конце 17 века, как символы взлетов и падений его судьбы (Штраух провел несколько лет в заточении), теперь же профессор пытался выявить культурологический смысл унаследованных вдовой авосек. Постоянное наличие у вдовы одной из полудюжины авосек он справедливо объяснял постоянным дефицитом, преследующим восточноевропейские страны. «Допустим, где-то вдруг появились свежие огурцы или цветная капуста, либо новоявленный коробейник станет продавать бананы прямо из багажника своего „польскою фиата“, вот тут-то авоська бывает весьма кстати, тем более, что полиэтиленовые пакеты до сих пор представляют здесь собою немалую редкость».
На протяжении целых двух страниц он сокрушается далее о забвении рукоделия и триумфе полиэтиленового пакета, этого очередного шага к утрате человеком своих подлинных ценностей. Лишь до конца выговорившись, он вновь возвращается к вдовушкиным авоськам, исполненным для него столь глубокого смысла. Вот почему я предположил, что в сцене покупки грибов фигурировала авоська, а именно, как мне почему-то кажется, вязаная, одноцветная.
Итак, сутуловатый вдовец шагает, слегка шаркая ногами, рядом с цокающей каблучками вдовой, в руках у него, по воле автора, — ее семейная реликвия, которая, заметим, идет ему ничуть не меньше профессорского берета, будто именно он получил авоську в наследство, а японскую фотокамеру лишь позаимствовал на время, причем выглядит он так, словно находится у себя дома и направляется на занятия в своем Рурском университете, захватив в авоське, вязаной или плетеной, какой-либо фолиант, скажем, монографию по барочной эмблематике.
И пускай я, его бывший одноклассник, все еще не могу припомнить его имени, зато я начинаю угадывать его старческие причуды и возрастные недуги; облик вдовы, идущей рядом с ним на кладбище, также обретает постепенно более ясные черты: мне кажется, например, что она женщина с характером и ей, возможно, даже удастся отучить его шаркать при ходьбе.
Путь у них долог, но нескучен, ибо вдова развлекает спутника пояснениями; она говорит краткими и поневоле все упрощающими фразами, которые время от времени сопровождаются ее звонким смехом. Между церковью св. Катарины и Большой мельницей, мимо которых течет сильно обмелевший Радаунский канал, она замечает: «Канал уже воняет. Да что теперь не воняет?!», а перед многоэтажным отелем «Гевелиус» ехидничает: «Надеюсь, номер у вас высоко и с прекрасным видом на город?»
Лишь дойдя до библиотеки и бывшего Петровского высшего реального училища, двух зданий, построенных в прусско-новоготическом стиле и пощаженных войной, вдовец перехватил инициативу в беседе. Он поведал, что с юности был страстным книгочеем, завсегдатаем городской библиотеки, а учился вот в этом заведении, которое до сих пор используется по прежнему назначению — тут он принялся пространно разъяснять жаргонное словечко, которым в свое время ученики именовали школу. Лишь оставив позади церковь св. Якоба, он завершил свои юношеские воспоминания сообщением о том, какие именно книги из городской читальни оказали на него самое заразительное, но одновременно и самое целительное, то есть благотворное воздействие: «Вы себе не представляете, насколько я был жаден до книг. Я их прямо-таки глотал, особенно кнакфусовские монографии по искусству».
Перед воротами верфи им. Ленина, вскоре переименованной, им открылась площадь с тремя высокими крестами, на которых были как бы распяты корабельные якоря. Вдова сказала: «Здесь была „Солидарность“, — а затем добавила, словно желая смягчить сухость своей эпитафии: — Ставить памятники поляки еще умеют. Кругом мученики да их памятники». Ни до, ни после этой фразы она не рассмеялась.
Вдовцу послышалась в ее словах «горечь, граничащая с отчаянием», что могло выразиться лишь в безмолвном жесте. Вытащив из букета астру, она положила ее к лежащим горкой цветам у мемориальной стены, после чего перевела, по его просьбе, строку за строкой высеченные в камне стихи Чеслава Милоша о бренности жизни. Затем она неожиданно сравнила участь свою и своей семьи с участью поэта и его семьи, также насильственно переселенных с востока на запад, а потом вдруг провела новую параллель: «Всем нам пришлось убираться из Вильно, как всем вам пришлось убираться отсюда».
Еще на площади, но уже двинувшись дальше, она достала сигарету.
Дабы сократить описание дальнейшего пути на кладбище, упомянем лишь следующее: куря сигарету, вдова повела вдовца к пригороду по мосту, под которым с тех пор, как был снесен крепостной вал и построен главный вокзал, проходили все поезда, идущие из Гданьска или Данцига на запад, либо, наоборот, с запада в Данциг или Гданьск. Поскольку в дневниковых записях немецкие и польские названия чередуются совершенно произвольно, я вынужден следовать этому топонимическому беспорядку, а потому вместо того, чтобы употребить нынешнее название «Брама Оливска», скажу так: вдова повела своего спутника к пригороду сначала через «Оливовы ворота», затем по ответвляющемуся влево шоссе на Картузы, которое делает легкий подъем по холму Хагельсберг к бензоколонке, где иностранные туристы заправляют свои машины бензином без свинцовых добавок; за бензоколонкой и начиналось старое, затененное буками и липами кладбище — его передняя часть принадлежала некогда общине Тела Христова, два участка позади — общинам св. Иосифа и св. Бригитты, а задняя часть — нескольким внеконфессиональным общинам. Давно переполненное для новых захоронений, кладбище было закрыто. Ворота оказались заперты. Моя пара прошла вдоль поросшей кустарником ограды. Напротив памятника красноармейцам, установленного на площадке перед солдатским кладбищем, на которой играла в футбол дюжина подростков, вдова отыскала в ограде дыру.
Едва они очутились под сенью кладбищенских дерев, среди заросших зеленью одиночных и парных могил, как вдовец по всей форме представился: «Позвольте, наконец, хотя и с явным опозданием, назвать вам мое имя — Александр Решке».
Ее довольно продолжительный смех, показавшийся ему неуместным здесь, среди могил, отчасти нашел свое оправдание, когда она, все еще смеясь, представилась в свою очередь: «Александра Пентковская».
То был перст судьбы, заключает по этому поводу дневниковая запись. Ничего не поделаешь, мой бывший одноклассник, ставший впоследствии любителем-летописцем (кстати, посадили нас друг с другом, видно, в классе четвертом-пятом), счел созвучие их имен символичным, хотя такое совпадение больше подошло бы для комической оперы, примером чего служит небезызвестный зингшпиль, или, на худой конец, для персонажей сказки, но уж никак не для случайно сошедшейся пары. Тем не менее, пускай они остаются Александром и Александрой — ведь это их история.
Впрочем, вдовца и вдову (которых я называю так, хотя сами они при случайном знакомстве и не задумывались, каково семейное положение обоих) также смутило совпадение имен. Словно желая вопреки этому совпадению утвердить свою независимость, Александра Пентковская отошла в сторону и принялась за поиски. Она то скрывалась за надгробиями, то выныривала вновь, чтобы тотчас исчезнуть опять. Александр Решке также предпочел держаться на некотором расстоянии. Если листва под подошвами ботинок шуршала слишком громко, он уходил на беззвучные мшистые тропинки. Его беретка мелькала тут и там. Вроде бы без особой цели он задержался у одного памятника, у другого — много диабаза, до блеска отполированного гранита, меньше песчаника, мрамора и ракушечника.
На памятниках под польскими фамилиями значились даты смерти, начинавшиеся с конца пятидесятых годов; только на одном участке с рядами детских могил на деревянных крестах и на надгробиях стояли цифры «1946» — год эпидемии. Отдаленные крики мальчишек, гоняющих мяч, не могли нарушить здешней тишины, а шумы с бензоколонки не пробивались сюда через листву. Читаю в дневнике; «До чего точно это выражение — „кладбищенская тишина“ — опять подумалось мне».
Александр Решке нашел то, что искал. На краю кладбища он обнаружил два покосившихся надгробных камня, затем еще два и еще, совсем заросшие бурьяном. Разобрать на них было почти ничего невозможно, однако он разглядел даты смерти, очень давние — от начала двадцатых годов до середины сороковых. Полустертые надписи под фамилиями, вроде; «Почил в бозе…», «Смерть — врата к жизни» или «Здесь покоятся наши мама и дядя», напоминали о более далеком прошлом этого кладбища. Решке записывает: «И тогда использовался преимущественно все тот же материал: диабаз и черный шведский гранит».
Оставим его на несколько минут одного. Тем временем госпожа Пентковская успела, видимо, поставить свои астры в вазу на могиле родителей. Эта парная могила, обсаженная буком, была, как мне представляется, не слишком густо завешена листвой по сравнению с соседними. Отец умер в 58-м году, мать — в 64-м. Обоим не исполнилось семидесяти. Всюду видится мне обычное для Дня поминовения оживление. Горящие там и сям свечи с защитным колпачком от ветра, говорят о том, что на могилах недавно побывала родня.
Впрочем, вдовец и вдова по сторонам уже не оглядываются, а смотрят друг на друга.
«Была у папы с мамой. А муж лежит на Лесном кладбище в Сопоте», — проговорила Александра Пентковская, обращаясь к Александру Решке, которого старые надгробия увлекли мыслями в прошлое, поэтому прозвучавший за его плечом голос заставил его, видимо, вздрогнуть и возвратиться в сегодняшний день.
И вот они снова рядом. Поскольку она уже дала понять, что вдовствует, следовало бы и ему поведать о смерти супруги, а также о ранней, преждевременной кончине родителей, однако вместо этого он доложил, чем занимается, назвался доктором искусствоведения и профессором истории искусств, преподающим в Рурском университете, упомянул даже, ради полноты сведений о себе, тему своей докторской диссертации, защищенной уже давным-давно, — «Могильные надписи и эпитафии данцигских церквей» — и только после этого неожиданно добавил: «Моя Эдит умерла пять лет назад».
Вдова промолчала. Она сделала шаг, потом еще шаг к покосившимся надгробным камням, которые заинтересовали профессора, и неожиданно разразилась неуместно громкими восклицаниями: «Какой позор для Польши! Все убрали, где по-немецки хоть слово написано. И здесь, и всюду. Даже на Лесном кладбище. Мертвых в покое не оставляют. Все сровняли с землей. Сразу после войны, да и потом. Хуже русских. И это они называют политикой, сволочи!»
Судя по дневниковой записи, Решке попытался успокоить ее ссылкой на ряд объективных причин, которые он перечислил в следующем порядке: оккупация Польши, эксцессы военного времени и получивший широкое распространение крайний национализм. Разумеется, уничтожение могил граничит с варварством. Он и сам при виде этих выброшенных со своих мест надгробий испытывает чувство горечи. Да, отношение к покойникам должно быть более гуманным. Ведь могила — это последняя память о человеке. Однако нельзя не признать, что во всех основных церквях города, как и в госпитальной церкви Тела Христова, надгробные плиты немецких патрицианских родов, как правило, защищены от вандализма. Тем не менее, ему хорошо понятно ее волнение. Конечно, желательно, чтобы могилы родных и близких находились в приличном состоянии. Приехав впервые после войны в Гданьск («Это было весной 1958 года, когда я работал над диссертацией».), он пошел навестить могилу отцовских родителей, похороненных на Сводном кладбище. К своему ужасу, он обнаружил там разор и запустение. «Жуткое зрелище! Поверьте, госпожа Пентковская, я разделяю ваше негодование. Но мне в то время оставалось лишь молча скорбеть, ибо приходилось делать скидку на известные исторические факты. В конечном счете, именно мы положили начало подобному варварству. Не говоря уж о прочих преступлениях…»
Эта пара была словно создана для таких разговоров. Он владел даром красноречия, высоким слогом, она обладала неподдельным темпераментом. Под редеющей листвой высоких — возвышающихся над любыми политическими перипетиями — буков и лип, подле двух покосившихся надгробных камней вдовец со вдовой быстро пришли к единодушному заключению, что уж если и быть где-то на свете такому месту, куда нельзя допускать треклятую политику, то этим местом должно быть кладбище. «Я всегда говорила, — воскликнула она, — что мертвый враг — уже не враг».
Они называли друг друга «господин Решке» и «госпожа Пентковская». Слегка расслабившись от столь явного единодушия, они вдруг заметили поблизости и вдали от себя других посетителей, которые пришли на кладбище со свечами и с цветами. Именно в эту минуту вдова и сказала фразу, воспроизведенную в дневнике дословно: «Мама с папой хотели бы лежать в Вильно, а не здесь. Тут для них все было чужим, чужим и осталось».
Не послужила ли искоркой уже эта фраза? Или же их разговор на кладбище был слишком отягощен грузом тех надгробных камней, что были выброшены со своих могил? Мой бывший одноклассник, сделавший профессорскую карьеру, красноречивый Александр Решке оказался щедрым на жанровые зарисовки, вроде: «Осенние деревья похожи на безмолвный комментарий к мыслям о бренности, которые поневоле приходят здесь на ум». Или: «Старый плющ, уцелев при уничтожении кладбища, разросся еще больше и, подобно бессмертному герою, вышел победителем из этой схватки со временем». Затем следует критическое вкрапление: «Неужели нельзя воздержаться от курения хотя бы на кладбище?!» И лишь потом он не без раскаяния пишет: «Почему же все-таки мне не хватило духу рассказать Александре о том, что мои родители, никогда не говоря об этом вслух, до конца своих дней лелеяли одну-единственную мечту — быть хотя бы похороненными на родине, лечь в родимую землю, раз уж возвращение домой при жизни немыслимо».
Моя пара никак не могла уйти с кладбища. Разговору, казалось, не будет конца. Они отыскали чугунную скамейку, уцелевшую вместе с плющом, и уселись на ней, отгороженные зарослями тиса. Как записал Решке в дневнике, посторонний мир напоминал о себе лишь слабым шумом с соседней бензоколонки, поскольку подросткам, гонявшим мяч на площадке перед советским военным кладбищем, играть, видно, уже надоело. Выкуривая сигарету за сигаретой, будто их дымок будил все новые и новые воспоминания, Александра — так отныне Решке именует ее в дневнике — рассказывала о детстве и юности, проведенных в родном Вильно, как Вильнюс или Вильна называются по-польски. «Все, что Пилсудский забрал тогда у Литвы, снова принадлежало Польше. Красивый город, кругом барокко, белизна и золото. А за городом леса, леса…»
Рассказав несколько забавных историй о школьных подругах, две из которых были еврейками, о каникулах в деревне и о сборе картофельных жуков, она вдруг умолкла, словно нить воспоминаний оборвалась. «В войну там было ужасно. До сих пор мне мерещатся трупы на улицах».
И вновь: приглушенный шум бензоколонки. Кладбищенские деревья без птиц. Курильщица и некурящий. Пара на чугунной скамейке.
Тут, опять внезапно (отчасти просто из-за импульсивности, а отчасти потому, что к созвучию имен и объединяющему их вдовству ей захотелось добавить еще одно совпадение), Александра сообщила: «А ведь мы коллеги. Я тоже училась на факультете искусствоведения. Правда, всего три курса. Профессора из меня не вышло. Зато получился практик, притом хороший».
Решке узнал, что Пентковская вот уже три десятка лет занимается реставрацией, а именно золочением. Всеми видами соответствующих работ. «Матирую и полирую. Работаю с сусальным золотом, которое делается из червонного. Золочу барочных ангелов, гипсовую скульптуру. Особенно люблю деревянные резные алтари в стиле рококо. И вообще алтари. Отреставрировала три дюжины. В Доминиканской церкви, в разных других. Материал получаем из золотобитной мастерской дрезденского народного предприятия „Сусальное золото“».
Ах, услышал бы кто эту беседу под редеющими кладбищенскими кущами, разговор двух специалистов, перекличку двух смежных профессий: эмблематика и золочение замысловатых эмблем. Стоило ему завести речь о тридцати восьми эпитафиях из св. Марии, описанных у Курике, она тут же отвечала рассказом о том, как ей довелось однажды золотить считавшуюся утраченной эпитафию, которая датировалась 1588 годом. Он обращался к голландским маньеристам, а она вспоминала позолоченную конскую голову на красном поле и три лилии на синем фоне в гербе теолога Якобуса Шадиуса. Он расхваливал анатомическую точность восстающих из гроба скелетов на известном рельефе, она тотчас вспоминала золотые инициалы на черном фоне нижнего полуовала. Он увлекал ее вниз по ступеням темного склепа, она же водила его от алтаря к алтарю по церквям в св. Николае.
Никогда еще эти могилы не слыхивали стольких подробностей о золотой основе или золотой фольге, о ручной позолоте или инструментах позолотчика: специальной подушечке и специальном ножичке. По мнению Решке, который в своем историческом экскурсе дошел вплоть до египетских фараонов, золото вообще следует считать цветом смерти, точнее — сочетание золотого с черным. О, это сияние золота с его переливами от червонного до лимонного. «Золотой отблеск смерти!» — воскликнул он и не мог успокоиться.
В очередной раз Пентковская рассмеялась лишь в заключение своего подробнейшего отчета о том, как несколько лет назад она золотила в Иоанновской церкви фасад органа, который в войну был демонтирован, вывезен на складское хранение и тем самым спасен. «Побольше бы таких заказов. Купите за марки орган для церкви Девы Марии! А мы покроем фасад сусальным золотом. Будет дешево и красиво!»
Потом оба замолчали. Пожалуй, разговор прервался потому, что пример немецко-польского сотрудничества по спасению и реставрации старинного органа вновь высек некую искорку. Недаром Решке записал: «Замечательная мысль! Почему бы эту мысль не перенести на другие сферы?»
Возможно, что на время, которого хватило на то, чтобы выкурить две-три сигареты, обоими завладела элегическая грусть под стать кладбищенской тишине. Вероятно, возникшая позже идея наметила свои очертания, которые, однако, тут же растворились в воздухе, подобно сигаретному дымку. Во всяком случае, идея витала над ними, ее оставалось только ухватить.
Решке указывает в дневнике, что Александра отвела его на могилу своих родителей, точнее, она попросила: «Пожалуйста, мне бы очень хотелось, чтобы мы вместе сходили на мамину и папину могилу».
Они помолчали у большого гранитного камня — между прочим, со свежепозолоченной надписью, — перед которым стояла ваза с темно-красными астрами и две свечи с колпачками от ветра, после чего вдова, опять неожиданно, решила взять инициативу в свои руки. Будто услышав у родительской могилы материнский совет, она указала на доставшуюся ей в наследство вязаную авоську, с которой профессор не мог расстаться, и, засмеявшись, предложила: «Поджарю-ка я вам грибов! И покрошу петрушки».
Через дыру в ограде они вернулись в послеполуденную реальность. Теперь авоську несла вдова. Вдовцу осталось лишь подчиниться, причем он и на этот раз не решился напомнить о Чернобыле и необходимых предосторожностях.
Они проехали на трамвае мимо Главного вокзала до Высоких ворот, которые теперь назывались Brama Wyzynna. Александра Пентковская жила на Огарной улице, идущей справа от параллельной ей улицы Ланггассе. Когда-то Огарная именовалась Хундегассе, но прежняя улица сгорела во время войны дотла, как и весь город, а в пятидесятые годы ее с изумительной точностью восстановили; впрочем, теперь, подобно остальным улицам и переулкам возрожденного города, она уже нуждалась в серьезном ремонте, ибо лепнина на карнизах отваливалась прямо-таки кусками. Решке заметил на стенах пузыри и отслаивающуюся штукатурку. Долетавшие из порта кислотные испарения разъели каменные фигуры на фронтонах. Время состарило их. Особенно обветшалые фасады стояли в строительных лесах. «Эту поразительную и дорогостоящую имитацию придется повторять снова и снова».
Жилье в исторической части Старого города и Правого города котировалось высоко и давалось только членам партии, поэтому есть основание предположить, что Пентковской весьма пригодилось ее членство в ПОРП, сохранявшееся до начала восьмидесятых годов, но еще больше ей пригодился орден, которым она была награждена за заслуги по реставрации памятников культуры. Она жила здесь с середины семидесятых. Прежде они занимали с сыном и мужем, который досрочно уволился на пенсию («Яцек служил в торговом флоте».), двухкомнатную квартиру между Сопотом и Адлерсхорстом, теперь Орлово, откуда ей было далеко добираться до мастерской в центре города. Понятно, что она обратилась в свою парторганизацию. Имея многолетний партийный стаж — со времени участия во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Бухаресте в 1953 году, — она считала себя вправе претендовать на жилплощадь поближе к месту работы. Мастерская реставраторов и позолотчиков размешалась в Зеленых воротах, ренессансном здании, которое замыкало улицы Лянггассе и Лянгер-маркт, спускающиеся на западе к реке, в сторону Моттлау.
Через несколько лет после переезда на Хундегассе ее муж умер от белокровия. А когда Витольд, ее единственный сын, поздний ребенок, уехал в самом начале восьмидесятых годов, вскоре после введения генералом Ярузельским военного положения, на Запад, чтобы учиться в Бремене, вдова осталась совсем одна в прежде тесноватой, а теперь просторной трехкомнатной квартире; впрочем, одиночество не сделало ее несчастной.
По какому-то градостроительному капризу это здание на Хундегассе оказалось уникальным в том смысле, что у него возникла пристройка, терраса, отчего дом получился как бы сдвоенным и даже имел двойной номер: ул. Огарная, 78–79. В период военного положения нижние этажи заняло правительственное агентство «Polska Agencja Interpress», которое теперь готовилось к приватизации. Фасад террасы украшал рельеф из песчаника, изображающего Амура с амурчиками. Решке замечает: «Следовало бы позаботиться об этом жизнерадостном памятнике буржуазной культуры, который крошится и покрывается плесенью».
Квартира Пентковской находилась на четвертом этаже, в той части дома, что как бы заканчивала собою улицу, которая, как и все восточные улицы Правого города, имела ворота, в данном случае — Коровьи ворота, выходящие на Моттлау. Вид из гостиной открывал туповерхую башню Мариинской церкви и стройную башню ратуши — верхняя треть обеих башен казалась обрезанной крышами противоположных домов. Из комнаты сына, ставшей теперь ее рабочим кабинетом, была видна автострада в южной части города. Там находился прежде район Предместья, называвшийся Поггенпфуль, от которого уцелела лишь Петровская церковь. Вдова показала гостю и спальню, также выходящую окнами на юг, и ванную. А в кухне она сказала: «Как видите, живу роскошно. По нашим меркам, конечно».
Почему все-таки, черт возьми, я увязался за ними? Чего ради преследую? Что я потерял на том кладбище или в квартире на Хундегассе? Какое мне дело до досужих умозаключений постороннего человека? Может, разгадка в том, что вдова…
Вслед за описанием трехкомнатной квартиры Решке вновь вспоминает глаза Александры: «Под сенью кладбищенских кущ они из голубых превратились в ясно-синие, причем синева еще и оттенялась начерненными тушью (по-моему, чересчур сильно) ресницами, которые густыми стрелками обрамляли нижние и верхние веки. А когда она смеется, делаются заметными тоненькие морщинки в уголках глаз…» Лишь после этого Решке воспроизводит то, что сообщил ей о собственной квартире: «С тех пор, как от рака умерла моя жена, а дочери зажили самостоятельно, я тоже целиком занимаю довольно большую трехкомнатную квартиру (которая практически вся обставлена как рабочий кабинет) в невзрачной новостройке с далеко не импозантным видом на индустриальный ландшафт, разбавленный, правда, немалым количеством зеленых насаждений».
Здесь сравнение жилищных условий между Западом и Востоком было прервано ворвавшимся в кухню долгим и надрывно-трагическим перезвоном колоколов с ратушной башни, который еще не раз будет прерывать их беседу. Когда отзвучал последний удар, вдова сказала: «Громковато, конечно. Но можно привыкнуть».
Из дневника мне известно, что прежде чем Решке принялся за петрушку, Александра повязала ему передник. Сама же она взялась чистить четверку пузатых, с большими шляпками, белых грибов, ножки которых не были ни деревянистыми, ни червивыми. Потому и отходов оказалось совсем мало, пришлось лишь чуточку снизу поскоблить шляпки, а также места, тронутые слизнями. Потом Решке вызвался чистить картошку и настоял на своем. Он, дескать, после смерти жены наловчился в этом деле, так что оно ему не в тягость.
Разнесшийся по кухне запах жарящихся грибов побудил обоих к попыткам описать его. По дневнику неясно, кто из них рискнул назвать грибной дух «возбуждающим». Ему, во всяком случае, белые грибы часто напоминают детство, саскошинские леса, куда он хаживал с бабкой по материнской линии собирать лисички. «Подобные воспоминания острее любого грибного блюда в итальянском ресторане; вот в Болонье, когда я там был последний раз с женой…»
Вздохнув, она сказала, что, к сожалению, не бывала в Италии, зато ей довелось изрядно поработать в Западной Германии и Бельгии: «Польские реставраторы зарабатывают валюту для казны. Их экспортируют, вроде польских гусей. Была я в Трире, Кельне и Антверпене…»
«Иногда кухня становится мастерской», — пишет Решке и отмечает на кухонных полочках множество баночек, скляночек и всевозможных инструментов. Аромат жареных грибов быстро забил и запах олифы, и запах ее духов.
Поставив картошку вариться, вдова растопила на горячей сковородке кубик сливочного масла, порезала туда небольшими кусочками грибы, и оставила их жариться на среднем огне. Вдовец попробовал научиться правильно выговаривать по-польски «масло». Стоя у плиты, она снова закурила, это ему опять не понравилось. Особой записи в дневнике удостоился тот факт, что очки понадобились не только ему, чтобы чистить картошку, но и ей, когда она занималась грибами: «Дома она носит очки на плетеном шелковом шнурке». Вижу, как он открывает футляр, достает свои очки, потом снимает, складывает и прячет обратно в солидный старомодный футляр. Ее очки обращают на себя внимание броской оправой, дорогой, отделанной стразом: «Побаловала себя подарком в Антверпене!» Его круглые очки в роговой ореховой оправе придают ему весьма ученый вид. Оба снимают очки одновременно. Позднее, сильно забегая вперед и датируя запись самым концом века, он жалуется: «Почти совсем ослеп, не могу ходить без трости…»
Поначалу вдова выбрала для ужина кухонный стол, покрытый клеенкой: «Давайте останемся здесь! На кухне уютнее», — но потом все же предпочла гостиную. Мебель шестидесятых годов, кое-что из обстановки в «крестьянском стиле». На стенах в рамках репродукции старых фламандцев, но также и «Христос въезжает в Брюссель» загадочного Энсора. На чертежной доске фотографии: трирские Черные ворота, антверпенская ратуша и дома цеховых собраний. В стеллажах среди детективов и послевоенных польских романов выделяются толстые справочники по морскому делу. В шкафу за стеклом другие фотографии: покойный муж в морской форме, он же с женой на сопотском пирсе, мать и сын перед замковой церковью в Оливе («Мать улыбается, — пишет Решке, — в глазах у нее сияют звездочки, зато сын хмур и замкнут, а на лице офицера портовой службы торгового флота равнодушная мина»).
— Видите, каким высоким был муж, — сказала Пентковская, расставляя тарелки, от которых поднимался парок. — Почти на две головы выше меня.
Вдовец засмотрелся на фотографию с пирсом.
— Ну, хватит. Давайте есть. А то все остынет.
Они сидели напротив. На столе стояла бутылка красного болгарского вина. Вдова добавила в грибы сметаны, поперчила, а разварившуюся картошку заправила нарезанной петрушкой. Наполняя бокалы, Решке пролил вино. Вдова рассмеялась. Красное пятно присыпали солью. Вновь раздался то ли трагический, то ли героический перезвон электронных курантов с ратушной башни.
— Это мелодия на знаменитые стихи Марии Конопницкой, — объяснила вдова. — Мы не оставим той земли, которой рождены…
Грибы следовало доесть без остатка. Лишь после поданного в маленьких чашечках кофе, очень густого, как его любят поляки, курильщица и некурящий вернулись к разговору, который велся на кладбище.
Поначалу вновь пошли школьные истории. Преобладали виленские воспоминания. «В лицее нам учиться не разрешалось. Обеих моих подруг забрали. А у папы отняли сахароварный заводик…»
Только теперь Решке не без некоторого пафоса поведал о том, что на деле было лишь заурядным совпадением. Оказывается, вместе с родителями и братом он жил когда-то поблизости, на Хундегассе, чуточку наискосок отсюда, в скромном доме под островерхой крышей, разумеется, не в нынешней добротной копии, а, так сказать, в оригинале. Отец служил почтовым чиновником еще в «вольном городе Данциге». До главпочтамта от дома рукой подать. «Между прочим, отцовские родители похоронены в семейной могиле на Сводном кладбище, там же имелось зарезервированное место и для моих родителей».
«Мои папа с мамой тоже заранее знали свое место на виленском кладбище», — воскликнула вдова.
Тут-то, видно, их и осенило. А роды общей идеи получились быстрыми и легкими, потому что она давно уже свербила у них в уме; так же легко слетает с уст засевший в голове простенький, неотвязный мотивчик, особенно если он одинаково приятен и для польского, и для немецкого, и вообще для человеческого слуха.
Беседа затянулась, они несколько раз варили кофе, слушали перезвон колоколов, и вот, буквально за минуту до девятичасовых курантов, появилась на белый свет эта новорожденная мысль, которая сразу же была признана обоими счастливой и очень скоро обрела форму вполне конкретного замысла, призванного служить высокой цели примирения народов. Вдова отнеслась к этому замыслу с восторгом, вдовец же не преминул вернуться к своей теме «век изгнаний», он перечислил многие сотни тысяч тех, кого принудили к переселению или бегству — армян и крымских татар, евреев и палестинцев, бенгальцев и пакистанцев, эстонцев и латышей, поляков и, наконец, немцев, которым пришлось, бросив имущество и захватив лишь кое-какие пожитки, уезжать на запад. «Сколько их погибло в пути, ведь мертвых никто не считал… Тиф, голод, холод. Миллионы покойников. И никому не ведомо, где и кто похоронен. Их закапывали просто в придорожных канавах, иногда поодиночке, а иногда сразу помногу. Но нельзя забывать и о тех, кто развеян пеплом по ветру. Нельзя забывать о фабриках смерти, о массовом истреблении людей, о геноциде, о злодеяниях, которые непостижимы. Поэтому сегодня, в День поминовения…»
Позже Решке заговорил о том, что у людей часто возникает потребность найти последний приют там, откуда их изгнали, там, где по праву рождения человек как бы получил на земле свое место, впоследствии утраченное, вновь обретенное и отнятое опять. «Понятия „родина“, „родимый край“ гораздо ближе сердцу, чем такие понятия, как „отечество“ или „нация“, поэтому многие, хотя и не все (это чувство усиливается с возрастом), испытывают желание лечь после смерти в родную землю, причем нередко такое желание оказывается трагически неисполнимым, ибо его осуществлению препятствуют объективные обстоятельства. Но ведь речь идет о, так сказать, фундаментальном естественном праве. В перечне основных прав человека следовало бы закрепить и это право. Нет, я вовсе не имею в виду то „право на родину“, которого добиваются иные деятели из наших „Союзов беженцев“ — эта родина повинна в тягчайших преступлениях, ее мы потеряли навсегда, — но право мертвых на возвращение к себе на родину можно и должно было бы признать законным».
Думаю, профессор Решке, излагая свои рассуждения о смерти и последнем приюте, расхаживал по гостиной, как это он привык делать перед большой аудиторией. Он вообще любил долгие предисловия перед тем, как перейти к сути вопроса, а высказав какую-либо смелую мысль, он сам же ставил ее впоследствии под сомнение.
Другое дело — Александра Пентковская. Она предпочитала определенность. «Но почему „бы“? Ох, уж это мне сослагательное наклонение! Знаю, учила. Только лучше: „можно и должно признать законным“, безо всяких „бы“. И мы это сделаем. Мы скажем: когда человек умер, политика кончилась. У покойника ничего нету. Только последняя воля. Мама с папой до последнего дня чувствовали себя здесь чужими. Хотя иногда, когда мы ездили в кашубские горы, мама говорила: „Красиво тут. Совсем как дома!“»
Когда вдова волновалась, а большое количество кофе, выпитого по ходу затянувшейся беседы, и пространные монологи профессора с их сослагательными излишествами не могли ее не разволновать, речь ее становилась еще более отрывистой и иногда не вполне грамотной. Однако приходится все цитировать дословно, как того требует документальность материалов, присланных мне моим одноклассником. Теперь, когда главная идея высказана, все пути назад для меня отрезаны. Кстати, приложенное к посылке письмо содержало немалое количество инсинуаций в мой адрес. Например, будто бы его самого и других соучеников восторгал мой трюк с заглатыванием живых жаб. Как бы то ни было, а его наживку я заглотнул.
По всей видимости, еще на рынке, самое позднее — на кладбище, Решке поинтересовался у Пентковской, разумеется, сопровождая свой вопрос комплиментами, откуда она знает немецкий язык. Однако подробный ответ приводился в дневнике лишь гораздо позже. «Ее мать не говорила по-немецки, зато говорил отец. В Познани она изучала не только историю искусства, но и германистику. К тому же ее супруг, неплохо владевший еще и английским, был, судя по всему, большим педантом. „Ни одной ошибки не прощал. Вечно поправлял“. Витольду, ее сыну, это пошло на пользу. Он хорошо говорит по-немецки, только как-то уж очень заковыристо, пожаловалась Александра. Чего, дескать, о ней самой не скажешь. Это верно. Но и не так мало внимания уделяло государство моей позолотчице, посылая ее в зарубежные командировки на заработки валюты для казны. Она и сама так считает: „Три месяца в Кельне, четыре месяца в Трире. Каждый раз что-то в голове остается“. Недавно, когда мы ездили с магнитофоном в Вердер, она даже спела мне кельнскую карнавальную песенку».
Но это произошло позднее, к тому времени их идея уже самообособилась, обрела размах и зажила собственной жизнью. А в этот вечер, когда впервые зашла речь о том, какие права остаются у человека после смерти, Пентковская разволновалась, заговорила еще более отрывисто, чем обычно, и даже стала примешивать к немецким польские слова: «Последний приют свят. Надо, чтобы люди, наконец, помирились. Есть такое немецкое выражение „кладбищенский порядок“. Niemiecki porzadek! Вот пусть и будет немецко-польский кладбищенский порядок. Пора нам этому учиться».
Должно быть, в холодильнике нашлась вторая бутылочка красного болгарского вина. Во всяком случае, дневник отмечает, что Пентковская стала чаще смеяться. Решке даже попробовал пересчитать «лучики морщинок» в уголках ее глаз. Впрочем, едва идея была сформулирована, разговор перешел к таким скучным материям, как организация ритуальных услуг, транспортировка покойных, сложности с перевозкой гробов или урн через границу, зато поводом для ее смеха, звонкого, как бубенчик, послужила попытка Александра подобрать название для их общей затеи.
Он предложил: польско-германское акционерное общество по созданию миротворческого кладбища. Она возразила, что, поскольку «немцы богаче», они должны стоять на первом месте, то есть пусть акционерное общество называется «немецко-польским».
В конце концов, памятуя о Вильно, оба согласились, что богатому и в этом смысле первому партнеру более пристало центральное место, а потому утвердили следующее название: польско-немецко-литовское акционерное общество по созданию миротворческого кладбища, сокращенно АО МК. Таким образом, второго ноября 1989 года акционерное общество было если и не учреждено, то по крайней мере провозглашено; недоставало, разумеется, ряда компонентов, а именно, прочих акционеров, учредительного договора, устава, регламентации делопроизводства, наблюдательного совета и — поскольку ничего на свете не дается задаром — учредительного капитала с банковским счетом.
Если, к несчастью, в доме не нашлось больше красного вина или, на худой конец, водки, то уж в бутылке медового ликера не могло его не остаться как раз на две рюмочки, которыми они и чокнулись. Он потянулся поцеловать ей ручку, как это принято у поляков. Тут она не рассмеялась. Затем вдовец откланялся. Вдова на прощание сказала:
— Надо все хорошенько обдумать. Утро вечера мудренее! — И добавила, впервые назвав его по имени: — Не правда ли, Александр?
— Да, Александра, — ответил он с порога. — Мы все хорошенько обдумаем.
2
Допускаю, что как-то раз мне захотелось похвастать, и я, поддавшись уговорам изнывавших от скуки ребят, действительно взял в рот жабу. Скажем, это могло произойти в сельской школе-интернате. Другое дело — лягушата, которых я ловил на спортплощадке или у речки, заглатывал живьем на потеху зрителям, потом отрыгивал и отпускал на все четыре стороны. Но ведь Решке утверждает, будто видел собственными глазами, как я проглотил здоровенную жабу, точнее — краснобрюхую жерлянку, проглотил взаправду и не подавился.
Зрелище было просто потрясающим, пишет он. Этот сумасброд с его бредовыми идеями вообще помнит обо мне чересчур много, гораздо больше того, чем мне бы хотелось. Например, будто бы я раздавал в классе презервативы или, как они у нас назывались, гондоны. И вот теперь, когда оставшийся у меня запас писательских сил впору употребить на что-либо иное, он вновь возвращает меня к школьной поре. «Помнишь, как вскоре после Сталинграда обер-штудиенрат Корнгибель заявился вдруг без партийного значка на лацкане?..» Возможно, в начале 1943 года я действительно назначал свидания его кузине, которую звали Хильдой, Хильдочкой, причем — он, видите ли, даже это запомнил — у главного входа крытого рынка. Сразу после уроков. Я и Хильдочка. Но не будем отвлекаться от нашей пары: Александра только что проводила Александра после двух прощальных рюмочек медового ликера.
Итак, он уже на улице, один. Каждый описанный им в дневнике маршрут до дома Александры или обратно я и сам исходил еще в школьные годы, слишком хорошо знакома мне еще по воспоминаниям эта точная копия восстановленного из руин прежнего города, а нынешний окольный маршрут профессора через Бойтлергассе к Мариинской церкви мог бы быть избран и мной, так что я без труда мысленно следую за ним, приноравливаясь к его шаркающей походке, став его тенью и эхом.
Александру Решке не хотелось возвращаться мимо рынка. Пустынность громадного павильона, застоявшиеся запахи могли спугнуть приподнятое настроение. Рисковать не стоило. Слышу, как он на ходу что-то тихонько напевает, то ли «Маленькую ночную серенаду», то ли «Гольбергскую сюиту». Обогнув позднеготическую громаду, за которой открывалась улица Фрауенгассе с ее террасками, он постоял, размышляя, не пропустить ли еще рюмочку в каком-нибудь баре, например, в клубе актеров, который, судя по распахнутым дверям и доносившемуся оттуда пению, еще работал, однако искушению не поддался и остался верен торжественности настроения, то есть продолжил путь к отелю.
И все же в «Гевелиусе» ему не захотелось сразу же подниматься к себе в номер на пятнадцатом этаже. Он помялся в холле, но гостиничный бар показался ему непривлекательным. Мимо безучастного портье он вышел обратно в ночь с ее долетавшими сюда из порта запахами серы. Целеустремленно, хоть и без обычной задумчивости, он зашаркал к пивнушке — точно воссозданному фахверковому домику, который прятался среди зелени на берегу Радауны, сразу позади высотного отеля.
Решке заглядывал туда и раньше, во время своих прежних приездов в этот живущий бедновато, зато богатый шпилями город, в те времена, когда был страстно увлечен наукой, а церкви, например, очищенная от щебня Петровская церковь, давали возможность изучать новые надгробные плиты.
С Радауны долетел ветерок. «Увы, Александра, река воняла всегда, уж, во всяком случае, так было еще в мои школьные годы».
Посетителей в фахверковом домике почти не было, у стойки полно свободных мест. Решке записал потом, что испытывал хотя и смутное, но несомненное предчувствие: этот удивительный день еще не завершен. Не хватало еще чего-то, какого-то события, пусть не самого приятного, но яркого, необычного. «Я даже слегка испугался снедавшего меня любопытства. Мой довольно рано проявившийся дар предвидения (точнее способность как бы оглядываться из будущего на то, чему еще только предстоит произойти) подсказывал мне, что должно случиться нечто необычайное».
Тем не менее новый знакомый показался ему поначалу всего лишь навсего «занятным», не более того. К Александру Решке обратился через три пустые табуретки сидевший у стойки слева от него одинокий посетитель, одетый на манер юго-восточных дипломатов, впрочем, своеобразный гортанный английский выдавал в нем скорее интеллигентного пакистанца или индуса. Худощавый, чрезвычайно энергичный господин в серо-голубом, застегнутом до подбородка сюртуке представился британским подданным, который родился в Пакистане, стал беженцем, образование получил в Кембридже, где изучал современную английскую литературу и экономику, а предпринимательский опыт набирал в Лондоне, занимаясь преимущественно транспортом. Передвинувшись на одну табуретку ближе к собеседнику, он сказал, как это воспроизведено у Решке в вольном переводе с английского: «Прошу видеть во мне человека, за которым стоят девятьсот пятьдесят миллионов соотечественников. А скоро их будет целый миллиард».
Решке также пересел на соседнюю табуретку, так что между собеседниками осталось всего одно свободное место. Названные числа представлялись при наличном малолюдьи ирреальными, однако, проговорив со вдовой весь день до поздней ночи о покойниках да их последней воле, вдовец был рад, что неожиданное знакомство началось с упоминания такого несметного количества живых людей. Должно быть, оглядев тесную пивнушку, Решке наглядно представил себе, какая сутолока ожидается здесь в недалеком будущем.
Представившись в свою очередь, Решке объяснил, чем занимается, и не удержался от замечания о том, насколько многообразна эмблематика барокко. Он назвал своих научных кумиров — Эрнста Кассирера,[27] Эрвина Пановски[28] и других, поведал о знакомстве с Лондоном и о работе в Варбургском институте.[29] Далее Решке попробовал пошутить, назвав «немецким айнтопфом»[30] объединение Германии, которое стало вполне вероятным благодаря новейшим политическим событиям. При этом он признался, что его беспокоит подобная концентрация восьмидесяти миллионов напористых и целеустремленных соотечественников в самом центре Европы. «Хотя это и не идет ни в какое сравнение с вашими цифрами, но тем не менее!..»
Мистер Четтерджи, который, как и Решке, потягивал экспортное пиво, попытался развеять тревоги своего нового знакомого. «Покуда Европа похожа на птичью стаю, где существует право „первого клевка“, проблемы действительно возможны. Но такое положение дел не вечно. Все течет, как говорили древние греки. Рано или поздно сюда придем мы. Ведь мы не можем не прийти сюда, потому что нам у себя тесно. Мы будем толкаться, подталкивать друг друга, пока не произойдет гигантский сдвиг. Сотни тысяч людей уже тронулись с мест. Пусть не все дойдут сюда. Но за ними следом собирают пожитки другие. Считайте меня гонцом, квартирмейстером будущего миропорядка, при котором эгоцентрические страхи ваших соплеменников попросту затеряются среди общих потрясений. Даже полякам, которые всегда хотели обособиться, быть только самими собой и никем иным, придется смириться с тем, что к их Черной Богоматери Ченстоховской присоединится другая Черная богиня, ибо мы принесем с собою нашу любимую и грозную праматерь, богиню Кали, которая уже заняла свое место в Лондоне».
Решке поднял пивной бокал в знак полнейшего согласия. Более того, поскольку его собственные догадки насчет Азии, которая «втихомолку завоевывает плацдарм за плацдармом», нашли столь образное подтверждение, он заявил, что разделяет прогнозы своего собеседника. «Так и будет! — воскликнул он. — Да исполнится ваше пророчество, да воздвигнется двойной алтарь симбиозу Кали и Марии!»
Специальностью профессора являлись местные надгробия, однако он обнаружил недурные познания в индуистском пантеоне богов, в частности, о том, что другим именем богини Кали было Парвати. Поэтому не просто из вежливости, а из убежденности он повторил: «Так и будет, непременно!» Он выразил надежду, что в процессе межнациональной ассимиляции будет происходить, наконец-то, подлинный культурный обмен. Дескать, новому миропорядку, предсказанному господином Четтерджи, будет соответствовать подлинно мировая культура.
Неисправимо-своеобычное английское произношение профессора, с одной стороны, и специфически бенгальский вариант некогда великоимперского языка, с другой, поначалу несколько затрудняли взаимопонимание. Но спустя некоторое время молоденькая — и, по мнению Решке, миловидная — барменша, решив испробовать свои школьные познания в английском, спросила, не угодно ли господам «more German beer»,[31] на что Четтерджи откликнулся сперва по-польски, а затем учтиво пригласил по-немецки профессора выпить еще бокал пива, после чего с красноречивым жаром принялся рисовать картину обновленной Европы, выпевая гласные, гортанно или жестко выговаривая согласные, смачно чмокая влажными губами и присвистывая на шипящих, не говоря уж о свистящих.
Смеялись все трое. Смех ничуть не портил миловидности юной барменши. Тонкая рука Четтерджи будто срослась с пивным бокалом. Внимательный наклон продолговатой профессорской головы. Беретку Решке забыл у вдовы. Барменша, которая назвалась Ивонной, оказалась студенткой-медичкой; за стойкой она подрабатывала лишь дважды в неделю. Четтерджи расхваливал пиво. Решке объяснил, что его импортируют из Рура. Потом он, в свою очередь, угостил собеседника пивом, а студентка-медичка позволила уговорить себя на рюмку виски. Если бы мне довелось быть там и сидеть где-нибудь на расстоянии нескольких табуреток от этой компании, то я заказал бы себе водки.
Пошел спокойный разговор о погоде, о курсе доллара, о затяжном кризисе, переживаемом местной верфью. Великой Азии больше не касались, запал угас. Даже когда Четтерджи оживлялся и принимался что-то доказывать, его полуприкрытые веками глаза оставались безучастными или, по выражению Решке, «печально-отсутствующими». Впрочем, разговор не умолкал. Собеседники даже читали стихи: бенгалец — Киплинга, а профессор — Эдгара По.
Собеседники поинтересовались возрастом друг друга, но вначале предложили эту загадку Ивонне. В конце концов, сорокалетний возраст бенгало-британского предпринимателя, родившегося в год разделения индийского субконтинента, удивил ее сильнее, нежели шестидесятидвухлетний возраст моего одноклассника, который родился в тот год, когда был затеян ремонт башни Мариинской церкви и ее одели строительными лесами по самую макушку. Реденькие волосы Четтерджи явно проигрывали в сравнении с пускай поседевшей, но все еще плотной шевелюрой профессора, которому подходила пора готовиться к пенсии; зато когда бенгалец начинал жестикулировать, то умиротворенно-плавно, то темпераментно, рассказывал едва ли не в буквальном смысле на пальцах свои бесконечные, по-восточному витиеватые истории, он молодел прямо-таки на глазах. Профессор же ограничивался всего лишь несколькими однообразными, вялыми жестами, вроде безмолвного стариковского всплескивания рук. Во всяком случае, я представляю себе их именно такими.
Третьей бутылки импортного пива оказалось достаточно. Четтерджи сказал, что ему нужно поддерживать хорошую спортивную форму. Ивонна, которая, очевидно, знала бенгальца не только по его визитам в бар, при этих словах расхохоталась и долго не могла остановиться, отчего ее симпатичное личико подурнело. Переведя дух, она назвала Четтерджи «чемпионом мира по велогонкам», да еще как-то презрительно прищелкнула пальцами, на что бенгалец и бровью не повел, однако сразу же пожелал расплатиться, а потом с нетерпением ждал, пока расплатится Решке.
Минула полночь, когда новые знакомые распрощались перед фахверковым домиком. «Мы наверняка еще свидимся!» — воскликнул маленький, вновь заряженный энергией бенгалец с британским паспортом, после чего быстро ушел берегом реки в ночную тьму. Профессору же предстояло всего лишь пересечь автомобильную стоянку перед отелем.
Болгарского красного вина, рюмки медового ликера и трех бутылок дортмундского пива не хватило, чтобы свалить профессора в постель; Решке оставался настолько бодр, что сумел подробнейшим образом отчитаться в дневнике за весь необычайный день. Он воспроизвел почти дословно едва ли не каждую реплику из своих разговоров, не упустил ни одного нюанса своих настроений. Все ему было важно — вплоть до легкой головной боли или изжоги, от которых в дорожной аптечке имелось множество снадобий: таблеток, капель, пилюль.
На сей раз я готов опустить подробности того, как он доставал из футляра очки, раскрывал дужки, дышал на стекла и протирал их. Он писал, не отрываясь. Стоило ему поймать себя на излишнем многословии, например, на чрезмерных похвалах грибному блюду без учета возможных последствий, Решке тут же, словно опытный протоколист, резюмировал: «Опять переел, хотя прекрасно знал, что делать этого не следует». Напророченное Четтерджи великое переселение народов, которое повлечет за собою неудержимые волны иммиграции, давало своим драматизмом вполне оправданный повод для взволнованных словоизлияний, однако Решке и здесь сумел подвести краткий итог: «Сей британский бенгалец дал весьма наглядный образ Азии, сравнив ее с переполненной чашей. Все, что сказано им об индийском субконтиненте, вряд ли можно опровергнуть. Неужто грядет конец Старому Свету? Или же Европе предстоит лишь болезненный курс радикальной терапии, который приведет к долгожданному омоложению ее организма?»
Странное дело: Решке описал события в обратной последовательности, предпослав утренним часам то, что завершило день.
При этом он часто впадал в умиление, отчего случайное знакомство в пивной становилось «подлинным венцом» долгого дня. Четтерджи, который назвался всего лишь предпринимателем, занимающимся перевозками, Решке именовал не иначе, чем «крупным экспертом по проблемам транспорта», отмечая к тому же его «чрезвычайную любезность».
И только после всего этого он пишет о том, как споткнулся у ведра с цветами, о темно-красных астрах, о вдове и Провидении, которому было угодно свести их вместе. Госпожа Пентковская вскоре превращается просто в Александру. Он отмечает ее жизнелюбие, склонность к сарказму, сохранившийся — несмотря на разочарования — интерес к политике, упрямство, но при этом и добросердечие, а также житейскую мудрость. «По-моему, Александра пытается уравновесить своим шармом какую-то полудетскую строптивость. Забавно наблюдать за этой внутренней дуэлью, тем более быть секундантом. Ее стремление не отстать от моды проявилось, например, в рискованном макияже. Меня же она называет „кавалером старой школы“, упрекает в старомодности, однако, судя по всему, ей нравятся мои, признаться, несколько чопорные манеры».
Далее следуют жанровые зарисовки, характеризующие «бедность поляков», падение курса злотого и рост цен, вопиющее несоответствие между заработками и ценами; Решке сетует на безудержную спекуляцию, на малолетних попрошаек, осаждающих отель, на отвратительные тротуары, плохое уличное освещение, на рост преступности, которым сопровождается «распад коммунистического государства», а также на усиливающееся влияние католического клира; не забывает он и серный запах, выхлопные газы и смог над городом. После этого речь вновь заходит об Александре Пентковской. Решке называет ее «неотразимой». У него прорываются даже признания, вроде — «чертовски хороша» или «мал золотник да дорог». О себе он пишет: «С нею во мне вновь пробудилась жизнь».
Лишь обрисовав во всех подробностях Хагельсбергское кладбище, Решке переходит к делу, а именно к предложению Пентковской создать польско-немецко-литовское акционерное общество. «Будучи только что зачатой, наша идея уже обретает плоть», — сказано в дневнике. «Литовский компонент» Решке считает «вполне логичным и желательным, однако трудно реализуемым». Но надежды он не теряет: «Средства для виленского проекта найдутся. Если у Вильнюса возникнут возражения, мы сумеем переубедить оппонентов. В конце концов, все взаимосвязано. Если уж поляки способны признать право мертвых немцев вернуться на родину, то почему бы не признать такое же право мертвых поляков? Это право не ведает границ!»
Высокие слова! Честно говоря, все эти благородные жесты по отношению к мертвецам не понравились мне с самого начала. «Бред!» — гаркнул я на полях дневника. И тем не менее что-то захватило меня. Может быть, это слова вдовы «на кладбище нет места политике!», с которыми я абсолютно согласен, заставили меня пойти по следам моей пары. А теперь и вовсе интересно посмотреть на крах их затеи.
Было и еще кое-что, что говорило в их пользу. Их вдовство. Если бы эта история была замешана на обычном прелюбодеянии, банальной супружеской измене, если бы Решке расписывал в своем дневнике один из до смерти надоевших, набивших оскомину адюльтеров, если бы речь шла о том, как Александр ловко обманывает жену или Александра наставляет рога собственному мужу, то, поверь мне, Решке, я бы ради тебя и пальцем не шевельнул; однако тут каждый из этой пары овдовел несколько лет тому назад, стал вновь независимым, а к тому же их дети уже выросли и зажили самостоятельно, поэтому ничто не мешает мне, не отвлекает, и я могу спокойно последить за судьбой моей пары.
В конце записей, посвященных Дню поминовения, Решке опять возвращается к авоське. Снова и снова подчеркивается символичность этого бытового предмета, доставшегося вдове по наследству. Решке вспоминает, как нравилось ему нести авоську, идя рядом с Александрой, и как растрогала его сия давно вышедшая из моды вещица. Сколько чаяний, надежд и желаний уместилось в ней! «Кажется, я и сам попался в эту сетку…» — заключает он.
Вот так вдовец и заснул, опутанный хитросплетением петель вдовьей авоськи из материнского наследства. А может, прежде чем заснуть, ему пришлось начать счет тех девятисот пятидесяти миллионов, о которых говорил мистер Четтерджи? Что же до Александры Пентковской, то она, видно, принялась перед сном прикидывать, сколько денег понадобится на создание акционерного общества. Когда получилось, что стартового капитала нужно не меньше полумиллиона марок, она задремала, и снились ей вереницы нулей.
Зал гостиничного ресторана с огромными окнами. Две колоннады: одна со стороны окон, другая со стороны кухни. У тех колонн, что ближе к окнам, бетонное основание и керамическая шишковатая облицовка. Те же колонны, что ближе к кухне, отделаны под красный кирпич. Стены обшиты гладкими деревянными панелями.
Выйдя около девяти часов к завтраку, Решке отыскал свободный столик. Он намеревался заказать чай, поскольку предпочитал его здешнему, слишком густому кофе, а также сыр и мармелад. Официантка, вся в белых рюшах, подошла медленно, словно нехотя. Едва Решке сделал заказ, к нему подсел некий господин — как сразу же выяснилось, соотечественник; в отличие от сидевших за соседними столами пожилых мужчин и женщин, он приехал сюда не с туристической группой, а по делам частной больнично-страховой кассы, дирекция которой обосновалась в Гамбурге. Разговорились.
Представитель страховой компании, оставшийся в дневнике безымянным, пытался с помощью волшебной палочки, именуемой СП, то есть «совместное предприятие», обзавестись полезными связями, благодаря которым можно было бы приобрести дома отдыха или санатории в лучших курортных местах; точнее, он предлагал долевой капитал западных партнеров, а также потенциальную клиентуру. Он рассказал, что его фирма предлагает своим клиентам краткий или длительный курс лечения и отдых в Восточной Европе, особенно в бывших германских землях. Спрос велик. Государственные профсоюзы, в ведении которых находятся дома отдыха и санатории, также проявляют живейший интерес к западным партнерам: «Еще бы! Да они сейчас хватаются за любую соломинку».
Тем не менее собеседник пожаловался профессору на недостаточную готовность поляков пойти навстречу. Понятно, что вопрос собственности — тема деликатная, поэтому осмотрительность и даже недоверчивость здесь вполне уместны. Но ведь можно, допустим, оформить долгосрочный договор на аренду с преимущественным правом выкупа. «А иначе у них ничего не выйдет. Пора им это уразуметь. Уж если решили устроить у себя капитализм, надо и поступать соответственно. А то хотят и невинность соблюсти и капитал приобрести. Только задаром полякам никто ничего не даст».
Решке, которому подобные дела стали со вчерашнего дня уже не чужды, поинтересовался, каковы же вообще шансы на создание совместных предприятий.
Пожалуй, это прежде всего вопрос политический, услышал он. Надо признать, наконец, границу по Одеру — Нейсе. Причем безоговорочно. И без оглядки на кучку бывших беженцев, давно превративших свою беду в профессию. Тогда многое сделается возможным. Полякам без нас не обойтись. С тех пор, как в ГДР все пошло кувырком, здесь началась паника. Да и на кого им еще надеяться? Не на французов же. Вот я и говорю: года через два-три мы будем задавать здесь тон. Без наших марок им не выжить. А если поляки заупрямятся, обратимся к чехам или венграм. Они посговорчивей…
Встав из-за стола, где почти нетронутым остался обильный завтрак, в том числе два заказанных яйца, энергичный господин, которому на вид было под пятьдесят, сказал на прощанье: «А все-таки здесь нам было бы лучше всего, хотя Балтийское море уже не то, что прежде. Я уже присмотрел несколько домов отдыха на Свежей косе и на Геле. Боже, какие там в дюнах сосняки! А Кашубская Швейцария?! Это же великолепные курорты, к тому же здешние места полны воспоминаний для тех из наших клиентов, которых некогда выгнали отсюда. А ведь таких немало. Взять хотя бы мою семью. Мы родом из Мариенвердера. Я хорошо помню депортацию, хотя был тогда совсем еще маленьким».
На улице Александра Решке поджидала хорошая осенняя погодка, на удивление теплая для начала ноября. Хотя он и давал себе зарок не уступать маленьким попрошайкам, которые осаждали отель, но не удержался и, явно переплатив, купил набор видовых открыток у мальчугана, державшего за руку сестренку. Решке потоптался у входа, размышляя, сходить ли напоследок в Мариинскую церковь или же просто побродить по утреннему Гданьску, из которого завтра ему предстояло уехать; он уже отдал было предпочтение надгробным церковным плитам, как услышал, что его окликают по имени. По весьма своеобразному английскому произношению Решке сразу же узнал своего вчерашнего ночного знакомого, бенгальца с британским паспортом.
В дневнике читаю: «Чуть поодаль от нескольких такси возле своей велоколяски стоял мистер Четтерджи в спортивном костюме. Стоял себе, как ни в чем не бывало, положив руку на руль. Хотя коляска и отличалась от тех, с которыми бегают китайские кули, однако выглядела она здесь диковинно и как-то неуместно. Мистер Четтерджи жестом подозвал меня, я подошел поближе и внимательно разглядел это транспортное средство, оказавшееся его собственностью. Сверкание и блеск! Откидной навес, призванный защитить седока от непогоды, выкрашен в красно-белую полоску. Синее прочное шасси, ни единой оспинки облупившегося лака, ни пятнышка ржавчины. Четтерджи сказал, что периодически меняет места стоянок, поджидает клиентов то перед одним отелем, то перед другим. Могли бы, дескать, увидеться здесь и раньше. Нет, свою велоколяску он привез отнюдь не из Дакки или Калькутты, она голландского производства и отвечает требованиям европейских стандартов. Фирменный знак „Спарта“ говорит сам за себя. Особенно хороша конструкция системы передач: „Sophisticated!“[32] У него есть еще шесть таких велоколясок, все новехонькие, только что с завода. Но для обзорных экскурсий по городу используются пока лишь две. Да, он оформил лицензию, ему разрешено ездить в центре, включая пешеходную зону, а с недавних пор — даже по Грюнвальдской аллее. Поначалу возникли кое-какие затруднения, однако Четтерджи удалось расположить к себе тех, от кого зависело решение. Так заведено во всем мире, тут уж ничего не поделаешь. К сожалению, не хватает водителей, или, как их называют в Калькутте, „рикшавалов“, хотя у местных таксистов почти нет работы, в чем легко убедиться на соседней стоянке. Виною всему гордыня, она мешает полякам стать водителем велоколяски. А платит он очень хорошо. И вообще считает свой бизнес перспективным. Недаром же в Голландии заказана еще целая дюжина колясок. „За велорикшами будущее! — воскликнул мистер Четтерджи. — Причем во всей Европе, а не только в бедной Польше“.»
Решке сразу же высоко оценил предпринимательскую дальновидность бенгальца, что и отметил в своем дневнике. Более того, проект, описанный утренним соседом по столу, и это экологичное транспортное средство показались ему удачными дополнениями к идее создать совместное предприятие, то бишь акционерное общество. «Во всех трех начинаниях есть нечто общее. Они служат интересам людей, особенно пожилых. В этом смысле можно говорить о гуманистической направленности и возрастной адресованности наших проектов».
Поощряемый живой заинтересованностью профессора и его расспросами, Четтерджи охотно поделился своими мыслями о близком автотранспортном коллапсе во всех густонаселенных европейских центрах, о преимуществах для внутригородского передвижения высокоманевренных и почти бесшумных велоколясок, широкое использование которых уменьшит загрязнение окружающей среды выхлопными газами; затем речь опять пошла об оздоровлении Европы за счет притока свежих сил из Азии; кроме того, Четтерджи не без иронии заметил, что ему удалось воспользоваться рыночным принципом капиталистической экономики и обнаружить пустующую конъюнктурную нишу, которую он и рассчитывает заполнить. Едва он сказал это, как сама жизнь словно бы решила подтвердить его правоту. К отелю подъехала велоколяска той же модели, что у бенгальца; сидевший за рулем пока единственный польский водитель привез с утренней обзорной экскурсии по городу улыбчивого старичка, а к Четтерджи обратились две нарядные пожилые дамы, вероятно, ровесницы Решке; веселясь и толкаясь, будто дети, они принялись усаживаться в коляске.
Решке пишет: «Менее других стесняются пользоваться велорикшей западные немцы. Большинство из них выросло здесь. Они возвращаются сюда, чтобы, по их собственным словам, освежить детские воспоминания. Из щебетания дам я понял, что они хотели осмотреть город, а потом проехаться по Большой аллее от Данцига до Лангфура и обратно, как когда-то, в школьные годы. В детстве они, наверное, были подружками и ездили по этому маршруту на велосипедах. Любопытно, что они называли старые названия улиц, однако мистер Четтерджи прекрасно их понимал».
Бенгалец надел велосипедную кепочку. Решке пожелал ему счастливого пути. Подружки защебетали: «Советуем прокатиться! Такое удовольствие! Вы ведь тоже родом из этих мест, не так ли?» Мощно нажимая на педали, Четтерджи взял старт с таким видом, будто перевозка полнотелых дам представляет собой всего лишь спортивное развлечение; на прощание он крикнул профессору «До скорой встречи!»
Ну, хорошо! Допустим, по просьбе моих одноклассников я действительно глотал когда-то жаб, не буду спорить. Возможно, я обнимался с кузиной Решке на парковых скамейках затемненного города, не обращая внимания ни на воздушную тревогу, ни на сигнал отбоя. Похоже на правду и то, что мы сидели с Решке за одной партой, и я списывал у него латынь и математику. Но таскаться за ним по пятам теперь? Нет, это уж слишком! Тем более, что он и так еле ноги волочит, во всяком случае шаркает подошвами. И вообще дорожки у нас разные. Так что шел бы он себе без беретки и фотоаппарата по своим делам, а я лучше последую мысленно за велорикшей, который, куда бы он ни ехал, катит навстречу будущему.
В пустой зальной церкви, новые своды которой покоятся и, ежели не произойдет очередного разрушения, будут покоиться на двадцати шести восьмиугольных опорах, находились лишь несколько заблудших туристов да один молящийся поляк. Когда свод обрушился в последний раз, некоторые из напольных могильных плит треснули. Тем не менее путь вдоль боковых капелл, по главному нефу, трансепту и дальше, мимо алтаря, оставался вымощен прославленными именами и подобающими надписями. По свидетельству Решке, пес на вычурном нойвергском гербе продолжал глодать свою каменную кость, как делал это еще в 1538 году, когда плиту с гербовым рельефом положили на могилу Зебальда Рудольфа фон Нойверга.
Как бы прощаясь с объектами своих научных изысканий, сильно истертыми множеством подошв, профессор обошел напольные могильные плиты; он вглядывался в ставшие почти неразличимыми даты жизни и смерти некогда могущественных патрициев, перечитывал библейские изречения в стиле немецкого барокко. Родовые гербы, геральдические аксессуары — все это отшлифовано ногами многих поколений богомольных горожан, а позднее — любопытных туристов; неподалеку от Прекрасной Мадонны в северном боковом нефе на напольной плите красовался геральдический щит, поделенный вертикалью на два поля; слева друг под другом две звезды и дерево, справа — корона, над ними череп; поверх щита летел лебедь, намекавший на уважительный поэтический титул литератора и придворного историографа Мартина Опица фон Боберфельда, которого в «Плодоносном обществе» именовали «Силезским лебедем», пока чума не уложила его под эту каменную плиту в августе 1639 года.
Решке снова был раздосадован «глупым местническим тщеславием», когда прочитал высеченное в 1873 году дополнение: «Поэту от земляков», зато опять порадовался датированной 1732 годом надписи на надгробии супругов Маттиаса и Ловизы Лемман: «Живы семенем и прославлены именем в потомках своих».
И тут на глаза ему попалось нечто неожиданное. «В главном нефе я набрел вдруг на собственное захоронение. На серой, стоптанной могильной плите я разобрал свое имя и свою фамилию, написанные в старинной орфографии, готическим шрифтом, хотя надпись казалась высеченной совсем недавно; рядом с моим именем соседствовали имена братьев, и получалось — Александр Ойген Максимилиан Ребешке. Я снова и снова перечитывал эту надпись, сначала про себя, затем вслух, будто желая таким образом удостовериться, что зрение меня не обманывает. Дата смерти, разумеется, отсутствовала. Не удостоился я и эпитафии, не говоря уж о гербе. Словно испугавшись видения собственной могилы, я, как полоумный, бросился бежать, стуча каблуками по плитам так громко, что люди вздрагивали и удивленно смотрели мне вслед. С самых ранних студенческих лет я проникся мыслью о смертности всего живого, однако предвестие собственного конца оказалось невыносимым. И я бежал, стремглав бежал от самого себя, выскочил из бокового южного портала и помчался дальше, так, как не бегал уже давным-давно, пока не опомнился, наконец, и не сообразил, что несусь туда, где…»
Дело в том, что на двенадцать Александр Решке и Александра Пентковская назначили свидание у фонтана Нептуна на Лянгер-маркт. Вдова отпросилась с работы. Им хотелось поискать место для кладбища, чтобы их общая идея приобрела более определенные очертания, тем более, что завтра вдовцу предстояло возвращаться домой.
Запыхавшись, Решке прибыл на место встречи точно вовремя, но вместо того, чтобы объяснить свою спешку, он с ходу, словно никак не мог остановиться, проговорил: «Поедем на машине!»
Решке в автомобиле. Среди фотографий не нашлось такой, где его сняли бы за рулем. Моя пара часто фотографировалась, однако никогда не снималась на фоне машины, в объектив ни разу не попало что-либо вроде мерседесовской звезды. Дневник также не содержит ни малейших указаний на сей предмет, встречаются лишь обмолвки: «Добирались машиной…» или «Оставив машину на стоянке…»
Попробуем угадать. Как, например, насчет «шкоды», которая здесь, на западном берегу Эльбы, выглядит довольно экзотично? Вообще-то Решке позволял себе известную экстравагантность, скажем, бархатный воротник к демисезонному пальто и разрез до самой талии, поэтому, возможно, ему подошла бы такая ностальгическая модель, как «пежо-404» со старомодной кожаной обивкой салона, но с дорогим сверхсовременным катализатором, встроенным в двигатель по спецзаказу, ибо Решке пользовался только экологически менее вредным бензином без свинцовых добавок. Во всяком случае, я просто не могу себе представить Решке перед отелем «Гевелиус», допустим, на спортивном «порше».
Нет, придется смириться с неопределенностью восклицания: «Поедем на машине!» Поскольку до избранных для осмотра церквей Решке предпочитал добираться пешком, то естественно предположить, что его машина оставалась на принадлежащей отелю охраняемой автостоянке. Впрочем, и Пентковская, пришедшая на свидание к фонтану с размахивающим трезубцем Нептуном, имела подготовленный маршрут, воспользоваться которым можно было только на машине. Прежде чем отправиться к автостоянке, Александра вытерла профессору лоб: «Ах, как вы запыхались, Александр!», после чего надела ему на голову забытую вчера беретку.
Решке пишет, что первоначально считал самым подходящим местом для задуманного кладбища территорию между Бреннтау и Маттерном; там росли высокие буки, а они обычно стоят просторно, не теснятся, поэтому создадут удачное естественное обрамление. В крайнем случае, некоторые деревья придется вырубить. Зато густой подлесок нужно основательно разредить: ведь тот, кто возвращается домой для последнего пристанища, не должен быть упрятан в зарослях, но осенен высокими кронами деревьев.
Это место было бы поистине идеальным, если бы только не мешал близлежащий гданьский аэродром, чьи взлетно-посадочные полосы находились на прежнем немного горбатом, а позднее выровненном поле, где деревушку Биссау окружали крестьянские наделы. Кроме того, аэродром Ребихово предполагалось расширить до самой Матарнии. Кому понравится непрекращающийся рев взлетающих или идущих на посадку самолетов? Какой уж тут вечный покой?
Долина к юго-востоку от Оливы, к сожалению, также оказалась непригодной. Вместо памятных Александру Решке лесных полян, куда родители вывозили его для воскресных прогулок, ныне там сгрудились типовые деревянные домики с крохотными садово-огородными участками. И хоть каждый клочок земли за оградой был заботливо обихожен, а несмотря ни на что сохранившийся Оливовский лес до сих пор украшал долину, Решке тем не менее повернул машину назад. Нет, здесь места не осталось. Слишком уж все застроено и перенаселено.
Было еще довольно рано, когда они решили возвращаться в город. Вероятно, оба молчали, если еще не вконец разочарованные, то уж сильно удрученные: их затея терпела неудачу, не успев толком явиться на свет, поэтому и вчерашняя пылкость сегодня заметно поутихла.
Проезжая по Большой аллее, которая соединяет предместье Вжещ с центром и называется теперь Грюнвальдской, мимо здания бывшего спортзала, Решке сбросил скорость и, махнув рукой вправо, на обширный парк, сказал: «Раньше там находилось Сводное кладбище, где были похоронены родители моего отца».
Пентковская тут же попросила, нет, приказала остановить машину.
— Именно здесь будет наше кладбище.
— Однако…
— Никаких «однако». Выходим из машины!
— Но ведь того, что там было, уже…
— Я и говорю. Раз было, значит, может быть снова.
— Историю нельзя…
— Это мы еще посмотрим…
Пока Решке паркует машину, пока моя пара некоторое время еще препирается по поводу необратимости истории, попробую-ка вспомнить примерные размеры и планировку Сводного кладбища, каким оно было до его ликвидации: на территории нынешнего Академического парка, между Поликлиникой и Высшим техническим училищем, полтора гектара занимали протянувшиеся параллельно Большой аллее и ведущему к крематорию Михаэлисовскому шоссе кладбища общин св. Биргитты и св. Иосифа; эта католическая часть Сводного кладбища была уничтожена, как, впрочем, и все остальные части, в 1966 году; на соседнем, размером в два гектара, евангелическом Мариинском кладбище построен теперь Студенческий госпиталь, обращенный фасадом к Михаэлисовскому шоссе; три с половиной гектара занимало евангелическое Катарининское кладбище, в восточной части которого встали новые здания прежнего Высшего технического училища, ныне Гданьской Политехнической школы; на двух с половиной гектарах располагалось католическое кладбище общин св. Николая и Королевской капеллы, по ту сторону Михаэлисовского шоссе находилось кладбище крематория размером в гектар с третью, сохранился и сам крематорий — импозантное здание из клинкерного кирпича с большим ритуальным залом и двумя высокими дымовыми трубами. Это кладбище, где прежде захоранивались урны, было также уничтожено в конце шестидесятых годов, а на его месте возник городской «Park XXV-lecia PRL», то есть Парк имени двадцатипятилетия Польской Народной Республики.
Можно вспомнить и о ликвидированных кладбищах на противоположной стороне Большой аллеи; за Малым плацем, ныне переименованным в Майское поле, и за Штеффенсовским парком[33] продолжалось Сводное кладбище; тут были Иоанновское кладбище, Варфоломеевское, Петропавловское, к ним примыкало Меннонитское кладбище, а дальше шли уже железнодорожные пути, поселок Новая Шотландия, верфь и порт. Впрочем, Решке имел в виду то самое кладбище, на котором были похоронены его дед с бабкой и зарезервированы места для его родителей, поэтому он оставил свою машину там, где в начале века стояло памятное Александру Решке с детских лет фахверковое здание дирекции, как бы охранявшее главный вход на Сводное кладбище.
У вдовы имелись собственные воспоминания: «Последние немецкие кладбища уничтожались при Гомулке. Почему я не вышла из партии еще тогда? Зачем дождалась военного положения, когда уже стало поздно?»
От дирекции и до сих пор тянулась липовая аллея в сторону Михаэлисовского шоссе; тут, над бывшими могилами или, по словам вдовы, «прямо на костях мертвецов», встала новая студенческая больница.
От кольцевой дорожки посередине липовой аллеи вправо и влево расходились прогулочные аллеи; образовавшееся перекрестье, четыре сектора с группами деревьев или деревьями-одиночками позволяли угадать прежнюю планировку кладбища. От перекрестья по-кладбищенски торжественных главных аллей ответвлялись боковые дорожки, обсаженные тенистыми каштанами, вязами и плакучими ивами. На уцелевших скамейках Александру и Александре попадались то мужчина с бутылкой пива, то молодая мать с ребенком, там газету почитывают, там парочка целуется. Решке даже видел студента, который вполголоса читал стихи, да еще по-французски.
У входа в Высшее техническое училище вдовец со вдовой повернули на поперечную аллею и дошли по ней до Поликлиники, при этом они считали шаги, чтобы прикинуть размеры Академического парка; Александра Пентковская сразу же переводила шаги длинноногого Решке в метры. Глядя на здание Поликлиники, построенное в начале двадцатых годов, Решке сказал: «Здесь мне гланды удалили. Зато потом разрешили есть ванильное мороженое». Александра откликнулась: «Смешно. Мне тоже именно тут вырезали гланды, когда я была маленькой».
Обойдя весь парк, Александр и Александра попробовали вычислить площадь бывшего кладбища. Пентковская явно завысила цифры, а Решке, насчитав десять-двенадцать гектаров, почти точно назвал прежние официальные данные. Такое количество земли, которое можно использовать для нового кладбища, привело обоих в неописуемый восторг. Натренированному в предвидениях Решке уже чудились стройные ряды могил. А когда за Михаэлисовским шоссе (которое теперь названо в честь Траугутта,[34] вождя повстанцев) они обнаружили еще одну площадку, пригодную для кладбища или колумбария, то основание для восторгов увеличилось по крайней мере еще гектара на полтора. Эту площадку они также измерили шагами. Сразу за крематорием, ритуальный зал которого использовался, по словам Александры, поселившимися в Гданьске после войны белорусами для богослужений по православному обряду, Академический парк, имевший здесь ветхую ограду, переходил в садово-огородные участки. «А дальше, — пишет Решке, — находятся, как и прежде, спортивные сооружения, относящиеся к футбольному стадиону».
Дневник моего одноклассника напомнил мне, что в 1939 году, вскоре после «аншлюса», стадион имени Генриха Элерса был назван по-новому — в честь тогдашнего гауляйтера Франконии, к которой был присоединен «имперский округ Данциг — Западная Пруссия».
Да, Решке, память тебя не подводит. «Нам, учащимся Петровской школы, доводилось принимать участие в ежегодных Всеимперских детских и юношеских играх на стадионе им. Альберта Форстера. Пот, судейские свистки, команды и смертельная скука. Ужасные воспоминания…»
Могу кое-что добавить к ним. Помню футбольные матчи данцигской команды — между прочим, довольно средненькой — против клубов из Бреслау и Фюрта, даже против «Шальке». Не позабылись фамилии известных в те времена футболистов, например, Гольдбруннера или Ленера. Осталось в памяти воскресенье 22 июня 1941 года, когда по радио объявили о начале войны с Россией; я как раз был на стадионе и со стоячих мест смотрел вниз, на футбольное поле, где уж и не знаю, кто против кого играл.
«Вот тут-то мы все и устроим!» — воскликнула Александра Пентковская, когда они вернулись на кольцевую дорожку. Она обвела взглядом перекрестье аллей и махнула рукой в каждую из четырех сторон. На Решке этот хозяйский жест произвел весьма сильное впечатление. «Не только я, но и Александра будто воочию увидела перед собой то, что еще недавно казалось несбыточной мечтой. Ей чудились ряды могил, немецкие фамилии на надгробиях. Она повторяла слова будущих эпитафий, словно заклинания: „Спи спокойно!“ или „Мир праху твоему!“ В ее глазах как бы отражалось то, о чем она говорила: „Сюда, именно сюда, должны вернуться немцы. Они возвратятся на родину, хоть и не при жизни“. Я страстно желал, чтобы сбылись эти слова, которые Александра произнесла так громко, что многие удивленно обернулись, но одновременно ее пророчество меня испугало».
Видимо, вдова сумела его успокоить. С чувством убежденности в праве покойника вернуться на родину и уверенностью в успехе задуманного дела, когда пара двинулась, наконец, к выходу из парка, она сказала: «Тут нечего бояться. Страшно было раньше, когда поляки разоряли кладбища. Или когда политика лезла куда надо и куда не надо. Страшно, что я так поздно поняла настоящую цену коммунизму. Теперь все будет иначе, поверьте. Наша идея понравится людям, потому что она человечна. Только надо все хорошенько посчитать. Расчет должен быть точным. Понимаете? Rachunek!»
И тут же, еще по дороге от бывшего кладбища к машине, прямо на аллее с ее равными промежутками меж старых лип, Александра принялась излагать результаты своей почти бессонной ночи, когда она вычисляла необходимый размер стартового капитала. Она то останавливалась, то продолжала шагать, стуча каблучками. Короткие, сильные пальчики реставраторши, взявшие на себя для пущей наглядности роль арифмометра, были красноречивы и убедительны. Поскольку злотый ни на что не годен, доказывала Александра, за основу надо брать немецкую марку. Ничего не поделаешь, все на свете стоит денег, даже смерть. «А с марками все получится. Я уже вижу, как тут будет хорошо…»
Когда машина тронулась к городу, уже темнело. По дороге они не переставали вести подсчеты. Может, у Решке был «сааб»? «Дня начала нужно не меньше миллиона!» — заключила Александра. Хороший автомобиль «сааб», надежный. Оба сидели, пристегнувшись ремнями. Это было даже кстати, чтобы грудь не слишком распирало от радости. Они замолчали. У Оливовых ворот Решке почудилось, будто он обогнал велорикшу с двумя седоками. Вроде бы мелькнула и велосипедная кепочка Четтерджи, во всяком случае, Решке записал в дневнике: «Судя по тому, как энергично водитель давил на педали, это наверняка был он. Ах, если бы наша затея исполнилась с такой же стремительностью, с какой несется его велоколяска».
Так что же за машина была у Решке? «Сааб» или «вольво»? Или все-таки «пежо»? Ладно, хватит гадать. Машина осталась на стоянке перед отелем… Впрочем, прежде чем рассказ, подгоняемый развитием событий, пойдет дальше, следовало бы, пожалуй, упомянуть один небольшой эпизод. Решке поведал дневнику, что когда они с Александрой стояли на кольцевой дорожке и вдова представила себе, каким будет новое кладбище, то в порыве чувств она бросилась ему на шею. Он воспринял это объятие не без робости. Поднявшись на цыпочки, маленькая и крепкая женщина оказалась почти такого же роста, как и он сам. Что-то шевельнулось в нем, какое-то вроде бы давно забытое чувство. Руки с побрякивающими браслетами обвили его шею. Вдова расцеловала его в обе щеки: «Ах, Александр! Вот если б удалось найти похожее местечко в Вильно!» Поднять руки он не посмел. «Стоял истуканом, потрясен и недвижим».
Вдовий прилив нежности смутил вдовца; почувствовав через юбку и жакет ее крепкое тело, он по крайней мере не воспротивился заразительному порыву. Что же касается названной Пентковской суммы, то позднее, уже в Бохуме — запись датирована девятым ноября — он отреагировал на нее следующей, по собственному признанию, довольно-таки самоуверенной репликой: «Ах, милая Александра! Деньги — это уж моя забота. Было бы просто смешно, если бы я не сумел достать такой суммы. В нынешние времена, когда все и без того шатко, риск необходим. Излишествовать не будем, но и скаредничать — тоже. Ясно одно: наша совместная затея потребует от меня полной самоотдачи».
Город уже погрузился в ноябрьские сумерки, когда Решке припарковал машину на стоянке перед отелем «Гевелиус». Велорикши исчезли, зато вереница такси по-прежнему ждала у входа. Знакомый сладковато-горьковатый запах смеси выхлопных газов и серы. Не зная, чем бы занять ранний вечер, вдовец пригласил вдову посидеть в баре, который находился чуть дальше стойки администратора отеля. Экскурсионные автобусы фирмы «Орбис» с туристическими группами еще не вернулись из Мариенбурга и Пельплина, Эльбинга и Фрауенбурга, поэтому Решке с Пентковской оставались и за первым стаканчиком виски, и за вторым — единственными посетителями бара. Поездка сблизила их, но сейчас они чувствовали себя немного отчужденно. Постукивание льда в стаканах порою заменяло собою беседу.
Позднее бар заполнился прибывающими друг за другом группами туристов, публика весело загомонила, и Решке поспешил расплатиться, чтобы увести Пентковскую от шума и сутолоки. Мужчины были одеты дорого и солидно, дамы в дорожных костюмах имели явный перебор драгоценностей. Прислушавшись, Решке понял, что все эти люди родом из здешних мест: «Слишком уж хорошо знали они Гданьск. В основном это мои ровесники, то есть наша затея им рано или поздно пригодится».
Та же самая мысль пришла в голову и вдове, которая громко прошептала:
— Скоро все они станут нашими клиентами…
— Помилуйте, Александра…
— А что? Марок у них хватит.
— У нас не рынок.
— Ладно. Молчу.
И тут она рассмеялась. Утихомирить Александру было непросто. Еще бы немножко и, воодушевленная двумя порциями виски, она прямо в баре принялась бы рекламировать новое кладбище; возможно, Александра просто не успела этого сделать, потому что Решке встал и с отменной учтивостью пригласил ее отужинать в ресторане отеля.
Но Пентковская его приглашение отклонила: «Там же цены бешеные и совсем невкусно», после чего, в свою очередь, предложила: «Я знаю, куда нам пойти».
Совсем неподалеку, за церковью св. Якоба, нашелся частный ресторанчик, где Александра попросила столик на двоих. Ужинали они при свечах, а заказали то, что и было обещано Пентковской: «Настоящая польская кухня. Совсем, как у мамы в Вильно».
Хороший ужин — закуски, главное блюдо, десерт — сделал мою пару весьма разговорчивой. Нельзя сказать, чтобы Решке слишком уж разоткровенничался о покойной жене, а Пентковская о своем рано умершем муже, тут они ограничились немногочисленными, с тактом отобранными воспоминаниями. Разговор лишь вскользь коснулся сына Александры, который учился философии в Бремене, и троих дочерей Александра, давно самостоятельных, работающих и вышедших или почти вышедших замуж. «Я уже дважды дед…»
Собеседники легко перескакивали с одного на другое; если речь и заходила о политике — «Берлинская стена вот-вот падет», — то разговор быстро сбивался, например, на обмен расхожими представлениями немцев о поляках или наоборот, но в основном он вертелся вокруг общей для обоих профессиональной темы, поскольку Александре нередко приходилось месяцами золотить геральдические орнаменты и надписи, в том числе эпитафии, вырезанные на дереве или высеченные в камне; последний раз она занималась этим в церкви св. Николая. Она досконально изучила фамильные гербы многих знатных патрицианских родов, скажем, герб члена муниципалитета, шеффена Ангермюнде или герб купца Шварцвальда, чей портрет был писан в Лондоне самим Гольбейном; кстати, этот купеческий герб имел в своей основе сочетание золотого с черным, хотя был там также красный цвет (косица флага) и синий (шлем); а взять, к примеру, герб Иоганна Упхагена, на котором серебряный лебедь несет в бугристом клюве золотую подкову, или феберовский герб с тремя свиными головами; да, все эти гербы были ей досконально, в буквальном смысле слова — близко знакомы каждой завитушкой, каждой мелочью, каждой геральдической деталью. Заметно менее уверенно позолотчица чувствовала себя среди истертых подошвами напольных могильных плит, поэтому ее просьба к Решке выслать при случае его диссертацию объяснялась отнюдь не только вежливостью: «Видите ли, господин профессор, когда становишься старше, то чувствуешь, что одних наитий недостаточно. Нужны знания. Пусть не обо всем. Точнее, хорошо бы обо всем понемножку».
Судя по всему, Александра Решке покоробило столь официальное обращение — «господин профессор». Но по мере того, как опустошалась бутылка вина, на сей раз венгерского, вдова начала добавлять к академическому титулу ласковое «голубчик» — к этому времени разгорелся жаркий спор о том, следует ли считать родившегося в Данциге художника и графика Даниэля Ходовецкого[35] выдающимся поляком или же презренным чиновником-пруссаком, — а потом, поглядывая поверх бокала, она даже стала называть его «мой милый профессор», причем иногда это произносилось шепотом, Решке почувствовал, по его собственным словам, «что смеет надеяться на ее расположение».
Кстати, из-за Ходовецкого они едва не поссорились. Пентковская оказалась способной на взрыв патриотических эмоций. Она обвинила художника, который к концу жизни провел реформу Его Величества Прусской академии изящных искусств, в «измене польскому делу» за то, что он в тяжелейшие после раздела Польши времена отправился служить не куда-нибудь, а именно в Берлин.
Решке возражал. Он упрекнул Александру в «узости взгляда на человека, творчество которого имеет общеевропейскую значимость, ибо он шагнул за пределы эпохи рококо». Будучи протестантом, Ходовецкий не рвал связей с Польшей, родственно близкой ему по отцовской линии. Хотя эмигрировавшим в Пруссию протестантам он доверял, естественно, больше, чем католическому духовенству. «Тем не менее, дорогая Александра, у вас есть все основания гордиться этим выдающимся поляком и европейцем!» — воскликнул Решке, подняв бокал. Вдова чокнулась с ним и впервые уступила: «Будь по-вашему. Вы помирили меня с великим польским художником. Спасибо вам, профессор, голубчик! Мой милый, милый профессор!»
Подали десерт. Видимо, Решке не был знатоком сладких блюд, поэтому дневник упоминает лишь красную ботвинью, пирожки, карпа под соусом из солодового пива и только.
Ужин завершился обменом любезностями. Она настояла на своем желании расплатиться за обоих. Ему пришлось подчиниться. Зато когда они дошли до отеля и дальше она вознамерилась идти одна к своему дому на Хундегассе, да еще по плохо освещенным улицам, он заупрямился, взял ее под руку и зашагал, пошаркивая, рядом; она же, как обычно, зацокала каблучками. Так Решке довел Пентковскую до пристроенной к ее дому террасы, на которой красовался рельеф из песчаника с почти неразличимыми в темноте амурчиками и уточками.
По дороге, переходя от одной улочки к другой, они становились все молчаливей. Во всяком случае, дневник сохранил лишь единственную реплику Александры, которая сказала: «Если берлинская стена падет, все переменится. Начнутся проблемы. Закроется дрезденское народное предприятие „Сусальное золото“. Неоткуда будет брать материал».
Потом, быстро поцеловав профессора на прощание и сказав только: «Пишите, пожалуйста!», вдова скрылась в дверях, а вдовец, шаркая ногами, двинулся один в обратный путь.
Нет, на сей раз его не тянуло в фахверковый домик на берегу Радауны. Около одиннадцати он забрал у портье ключ, доехал лифтом до пятнадцатого этажа, открыл дверь своего номера, переобулся в домашние тапочки, которые неизменно возил с собой, вымыл собственным мылом руки, подсел к столу, положил перед собою дневник, раскрыл футляр и надел очки. Затем он закрыл футляр и быстро взял ручку, словно ему не терпелось удостоверить письменно все, что с ним произошло.
Возможно, ему не давала покоя могильная плита, увиденная в Мариинской церкви, и потому он поспешил обратиться к имени того человека, в честь которого назвали высотный отель, то есть астронома Иоганна Хевелке,[36] а по латыни — Гевелиуса, и к имени его жены Катарины, урожденной Ребешке, или Ребешкин, ибо Александр решил попытать счастья и сделать то, что некогда не удалось отцу: проследить уходящие в глубь семнадцатого века родственные связи с семейством пивовара Ребешке и хотя бы отчасти объяснить таким образом жутковатое появление собственного надгробия, но тут в дверь постучали, сначала тихонько, затем посильнее.
«Это опять я», — проговорила вдова Александра Пентковская, появившись вскоре после полуночи у вдовца Александра Решке.
Она никак не могла отдышаться. Кроме обычной сумки на длинном ремешке, которую она носила через плечо, у нее была с собой еще и авоська из маминого наследства, на этот раз коричнево-синяя, плетеная зубчатым узором. Она наспех собрала кое-какие подарки, сунула их в сетку и бросилась догонять профессора, который проходил к тому времени мимо Доминиканского рынка; она торопилась, делала короткие, но стремительные шаги, и стук ее каблучков разносился по тихим улицам.
«Вот. Чуть не забыла. Это вам гостинцы, возьмите с собой».
В авоську уместилась банка консервированной свеклы, нитка сушеных белых грибов, кусок янтаря величиной с крупный грецкий орех: «В янтаре муха!»
Она сбросила серый плащ, сняла жакетку и осталась в голубой шелковой блузке, у которой потемнели подмышки. Ей до сих пор не удавалось перевести дух.
Что же мне теперь делать? Стоять соглядатаем? Держать им свечку? Впрочем, света в гостиничном номере хватало. Она уставилась на его домашние тапочки, он отвел взгляд от темных пятен на блузке. Авоська с гостинцами соскользнула на пол. Он снял очки и даже положил их в футляр. Она сделала шажок навстречу, он тоже шагнул к ней, при этом едва не споткнулся. Потом оба одновременно сделали еще шаг. А затем бросились друг другу в объятья.
Наверняка, так все и было. Во всяком случае, такой представляется мне эта сцена, дневник же не содержит насчет нее никаких подробностей. После жутковатого видения, каким было собственное надгробие, после гипотез и домыслов о дальнем родстве — «К сожалению, первый брак Гевелиуса остался бездетным», — речь в дневнике идет лишь о сухих грибах, консервированной свекле, янтаре с мухой и темных пятнах на голубой блузке. Заметив на следующее утро у вдовы принесенную ею с собой из дома зубную щетку, Решке пишет об ее «неожиданной, но вполне разумной предусмотрительности». А в связи с ее репликой, прозвучавшей ночью или уже под утро, — «Нам повезло, климакс у меня уже позади», — он восклицает: «Удивительное простодушие. Она без стеснения называет все своими именами».
В дневнике упоминается, что кровать в одноместном номере оказалась узковата, ковер же — грязноват. Возникли и кое-какие разногласия: он хотел выключить свет, она возражала. Затем следует признание: «Да, мы любили друг друга, мы хотели этого, и у нас все получилось. Боже мой, я еще способен любить».
Вот и все. А сверх того, что поведал мой одноклассник об узкой гостиничной койке, выдумывать не хочется. При свете ли, в темноте ли — он оставался таким, каким был: худощав, но не старчески тощ; и она оставалась — крепкотелой, но не толстой. Пара из них вышла вполне подходящая.
Сон их в ту ночь был короток. К любви они отнеслись серьезно и основательно. В их возрасте требовалось терпение и, пожалуй, — толика юмора, страхующего от неудач. За завтраком в гостиничном ресторане они шутливо заверяли друг друга, что ни он, ни она в минуты краткого сна не храпели. Впрочем, гораздо позднее Решке отмечал в дневнике ее легкое похрапывание, но, вероятно, и Александра проявила не меньшую снисходительность. Кстати говоря, благодаря именно ее предложению повернуться спиной к спине, чтобы заснуть хотя бы ненадолго, появилась следующая, довольно странная, дневниковая фраза: «Давай-ка изобразим двуглавого орла!»
Заходила ли ночью речь об их совместном замысле? Упоминались ли, пускай мимоходом, гданьское и виленское кладбища? Говорилось ли о деньгах? Или в узкой кровати хватало места только для любви и ни для чего другого? А, может, наоборот — они освятили любовью свою идею, которой до сих пор пока еще не доставало начального запала? За завтраком Решке поинтересовался у Александры, как она узнала номер его комнаты, — неужели спросила у администратора? — на что Александра, рассмеявшись, сказала: «Ты же сам назвал мне номер и этаж, когда мы спорили о великом польском художнике, попавшем в Прусскую академию».
Прощание получилось недолгим. Оплатив счет за проживание в отеле, Решке сказал: «Я скоро дам о себе знать, Александра. Ты от меня не отделаешься!»
Он уже взялся за чемодан, когда она проговорила: «А я знаю. И будь поосторожней за рулем, Александр. Теперь я уже не вдова».
Пентковская ушла, не дожидаясь, пока Решке отнесет чемодан в машину. Такой у них был уговор. Портье получил чаевые, хотя Решке не доверил ему чемодан. Утро выдалось солнечное, во второй половине дня ожидалась легкая облачность.
Решке вышел из отеля около восьми утра. Таксисты еще не подъехали, зато три велорикши дожидались на солнышке седоков. Трое водителей беседовали, среди них Четтерджи в велокепочке. Еще один водитель также был похож на иностранца. Заметив Решке с чемоданом, Четтерджи в два-три шага оказался рядом и первым делом представил своего нового работника-пакистанца. «А остальные стоят перед „Новотелем“».
Мой одноклассник поздравил Четтерджи, но порадовался и тому, что другим водителем был поляк, которому, видимо, удалось побороть свою гордыню.
Четтерджи поинтересовался: «Когда вернетесь к нам, мистер Решке? Заранее приглашаю на обзорную экскурсию по городу. Вы же знаете мой девиз: „Если уж у чего-то и есть будущее, то прежде всего у велорикши!“»
Решке вновь отметил печально-отсутствующий взгляд бенгальца, протянувшего на прощание целую пачку рекламных проспектов «Chatterjees-Sight-Seeing-Tours»:[37] «Возьмите для своих друзей в Old Germany![38] У вас вечные пробки на улицах, стресс, шум. Обращайтесь к Четтерджи! Он знает, чем помочь городу-гиганту!» Решке сунул проспекты в отделение для перчаток. На соседнее сиденье он положил другой сувенир — плетеную авоську с гостинцами, в том числе — с сушеными грибами.
3
Отсюда мог бы начаться эпистолярный роман, похожий на обмен электрическими разрядами. Голоса звучат отчужденно, а молчание красноречиво и постоянно заставляет доискиваться до его смысла. Откровенность, не ведающая никаких ограничений, кроме знаков препинания. Истома вопросительных предложений. Любовь по переписке, не терпящая посторонних.
Впрочем, наша пара поспешила предать свой замысел огласке, поэтому на сцену выходят новые действующие лица, которые — в соответствии с учредительным уставом — захотят воспользоваться правом голоса и не пожелают оставаться статистами. Вскоре эти новые действующие лица потребуют установить, а главное — соблюдать регламент.
К отосланным мне вещам мой бывший одноклассник приложил свою авторучку, поэтому тут — в отличие от машины — можно оценить его выбор. Это черная авторучка марки «Монблан» с золотым пером, толстая, как бразильская сигара; он даже заполнил ее для меня фиолетовыми чернилами. Ах, Решке, пишу я его авторучкой, во что же ты меня втравил…
Свое первое письмо Александре он отправил еще из Польши, из познанского отеля «Меркурий», где остановился передохнуть. Проще всего было бы привести целиком это многостраничное послание, в котором соблюдены ровные поля, а почерк столь аккуратен, что хоть сейчас выставляй отличную оценку по чистописанию. Но нет, эпистолярного романа не будет. Кроме того, процитировать письмо целиком невозможно хотя бы потому, что три из пяти исписанных с обеих сторон листов занимают неоднократные обращения к любовным сценам, разыгравшимся минувшей ночью в узкой кровати одноместного гостиничного номера, причем значительную роль играет порою весьма поэтичная, а порою довольно пошлая генитальная метафорика.
Выспренность безудержных словоизлияний мешает понять, что же происходило на самом деле в слишком узкой для любовников постели, во всяком случае зрелый мужчина потерял голову, будто юнец. Поток непристойностей, словно прорвав запруду долголетнего воздержания, устремился на бумагу, испещряя страницу за страницей безукоризненно четким почерком и оставляя ровные поля. Да, эти эмоциональные перехлесты можно объяснить, недаром сам он — после барочно-длинной вереницы эпитетов — называет свой пенис «инфантильным переростком». Александра прямо-таки распирает мальчишеское желание срамословить, а в двух-трех местах письма он не может удержаться от напоминаний Александре тех фраз, которые она шептала ему в порыве страсти или потом, когда она просила не уходить от нее.
Вполне понятен протест Александры в ответном письме, которое, проплутав по неисповедимым почтовым путям Польши, дошло до Бохума лишь через десять суток. Дескать, та ночь, проведенная в узкой кровати, незабываема, и хотелось бы, чтобы она скорее повторилась, однако негоже впредь цитировать в письмах чересчур откровенные слова, подсказанные сильным чувством. «Цензуры я не боюсь, но не будем бестактны».
Последняя часть его письма выдержана во вполне деловом тоне и практически обходится без восклицательных знаков. Осторожно, делая всяческие оговорки, Решке тем не менее уверен, что у их общей идеи есть шансы на успех: «Люди достаточно настрадались от несправедливостей, в которых сами же и повинны, и вот теперь, когда горизонты светлеют и становится реальным то, что еще вчера казалось несбыточным, необходимо добиваться не только лучшего будущего для живых, но и дать возможность мертвым воспользоваться своим человеческим правом. В словах „кладбищенский покой“ обычно чудится отрицательный смысл, ныне было бы возможно — ах, милая Александра, я уже вижу, как сослагательное наклонение вновь заставляет тебя недовольно наморщить лоб — нет, ныне совершенно необходимо наполнить эти слова новым содержанием. Пусть век изгнаний закончится под знаком обретения родины. Лишь тогда можно будет праздновать его завершение. Итак, никаких промедлений. Любимая, как я и обещал, сразу же по возвращении я свяжусь с некоторыми людьми и организациями, в том числе близкими к церкви, а также начну составлять картотеку…»
Пентковская планирует примерно то же самое: «Учти, почти каждый житель Гданьска и Гдыни, да и всего воеводства, является уроженцем виленского края и хотел бы, когда настанет срок, быть похороненным на родине. В церкви св. Варфоломея, что находится рядом с твоим отелем „Гевелиус“, часто устраиваются встречи земляков из Вильно и Гродно. Я собираюсь написать оливскому епископу. Но действовать буду осторожно; с церковью всегда нужна осторожность, потому что здесь от нее зависит все…»
В последующих письмах Решке сумел обуздать свой темперамент, однако тема личных отношений или, как он выражается, «нашей несравненной любви» по-прежнему занимает в них существенное место. Буйство генитальной метафорики теперь поутихло, но мотив «слиянности» продолжает звучать то многоголосным органом, то одинокой струной. «Я вновь и вновь слышу внутри себя наш единый финальный аккорд, похожий на литургические „gloria“ или „credo“. Даже твой смех — хотя порой мне и кажется, будто ты смеешься надо мной, — не смолкает во мне. Я с болью прислушиваюсь к его отголоскам, потому что они обостряют чувство разлуки, которое стало теперь для меня радостным и одновременно томительным лейтмотивом».
Воздав похвалу каллиграфическому почерку Решке, не могу не пожаловаться на неразборчивость каракулей Пентковской. Она не ладит с немецкой орфографией и грамматикой, но беда не в этом, а в самом ее почерке — буквы то заваливаются на спину, то, наоборот, клонятся вперед так сильно, будто они стремятся опередить пишущую руку. И буквы, и слова страдают какой-то удивительной неустойчивостью. Они лезут друг на друга, теснятся, наступают соседям на пятки, не дают просвета и воздуха ни словам, ни строчкам. Но в то же время не могу отказать этой нестройной пляске букв в неизъяснимой визуальной прелести.
Удивительно, но вычитанный из этой кромешной неразберихи текст оказывается вполне связным, разумным и резонным. Если Решке дает слишком большую волю чувствам, то она пытается их осмыслить: «Может, мы столкнулись на рынке и случайно. Но когда мы не поделили цветы, а потом заспорили про деньги, я поняла, что этот странный господин оказался там не просто так…»
Признаюсь, Александра мне симпатична и мое отношение к ней нельзя считать непредвзятым, поэтому моим мнением, что вместо Решке ей больше подошел бы кто-либо другой, вполне можно пренебречь.
Пентковская никогда не называет Решке в письмах как-либо по-приятельски, например, — Алекс. Нет попыток ласково поддразнить его неким прозвищем, как это бывает у некоторых пар (возможно, тогда Решке получил бы, скажем, шутливое прозвище «Шаркун»). Лишь изредка в ее письмах появляется обращение «профессор, голубчик» как ответ на его чрезмерную увлеченность профессиональной тематикой.
Из предрождественских, рождественских и новогодних писем более или менее ясно, в каком направлении Пентковская и Решке ведут свою организационную работу. Александра, например, сообщает, что католическая церковь в лице оливского епископа «одобрила нашу идею и даже сочла ее „богоугодной“, хотя отметила и трудности по ее реализации». «Это очень важно, — подчеркивает Александра. — Ведь правительства в Польше приходят и уходят, а церковь остается». Что же касается земляков польско-литовского происхождения, то они «лишь недоверчиво качают головами, когда слышат о нашем плане. Впрочем, он им по душе. Многие хотели бы быть похоронены на виленском кладбище. Некоторые плакали, так они были растроганы».
Решке рассказывает о своих первых контрактах с землячествами беженцев. «Эти люди куда менее реакционны, чем можно подумать по некоторым передовицам земляческих газет». Многие местные отделения из нижнесаксонских и шлезвиг-гольштайнских городов ответили на мой запрос вполне положительно, кое-кто проявил определенный скепсис. В одном письме был засвидетельствован «самый живой интерес к возможности вернуться на родину, пусть даже речь идет пока лишь о покойниках». Идея акционерного общества, которое возьмет на свое содержание кладбище для репатриантов, встречала, по словам Решке, на удивление доброжелательный отклик. «Разговоры с видными деятелями лютеранской церкви — беседа с католическими священнослужителями еще не состоялась — завершились успехом. Консисторский советник, уроженец Эльбинга, сказал мне, что подобный проект вызывает у него чувство оптимизма. Как видишь, дорогая Александра, имея дело со смертью, наш замысел несет в себе жизнеутверждающее начало, ибо внушает людям надежду. Как тут не вспомнить Пляску смерти, средневековый мотив, символизирующий мечту о равенстве перед лицом вечности. Сочетание гибельности и оптимизма; вспомни любекскую „Пляску смерти“, к сожалению, уничтоженную войной, или произведение того же мастера Бернта Нотке,[39] сохранившееся в Ревеле, — эта бесконечная вереница представителей всех сословий от патриция до ремесленника, от короля до нищего; все они несутся в разверзтую могилу, и так по сей день. Это характерно для эпох великих перемен с непредсказуемым исходом. Окольными ли, прямыми ли путями, но до нас дошли свидетельства тех колоссальных переворотов. Одни из них были разрушительны, другие, возможно, благотворны. Во всяком случае, я не могу безоговорочно разделять нынешнюю эйфорию, тем более, что для многих ей суждено смениться разочарованием. Я встретил закат „эры берлинской стены“ с глубоким удовлетворением, однако меня беспокоят дурные предчувствия. Да, я колеблюсь, меня бросает из жара в озноб; слава Богу, у нас в отличие от Румынии обошлось без кровопролития, однако я не могу исключить мысли о жестокостях особого рода, ибо Германия всегда…»
Из этих строк видно, что переписка Александра и Александры испытывала на себе немалое влияние текущих политических событий. В одном из декабрьских писем — а всего их было четыре — Решке подробно информирует Пентковскую о дальнейших успехах совместного плана и тут же добавляет: «Намечающееся объединение Германии, как бы я его ни желал, начинает меня пугать».
Пентковская отвечает ему с поразительной твердостью, будто чем сильнее обесценивался злотый, тем меньше поляки боялись будущего: «Не понимаю тебя, Александр! Я, полька, ото всей души рада за твой народ. Тот, кто хочет единства польской нации, обязан приветствовать такое же единство немецкого народа. Неужели, по-твоему, в Гданьске должно быть два кладбища — одно для восточных покойников, а другое для западных?» Однако она тут же замечает, что необходимо решить проблему немецко-польской границы: «Иначе единство твоей нации станет опасным для всего мира, как это уже не раз бывало в истории».
Можно предположить, что натиск исторически значимых событий, которые будут увековечены календарями, грозил помешать зарождающейся любви; политика вмешивалась в интимную жизнь нашей пары, ибо даже до сновидений долетали «галоп мирового духа» и призывы с транспарантов. Усиленный мегафонами рев толпы «Мы — единый народ!» заглушал шепот влюбленных и их тихий обет: «Мы — единая плоть!»
Фотографии лейпцигского понедельника[40] облетели планету. Новогодний праздник у открытых Бранденбургских ворот вызвал сочувствие в индийских и бразильских трущобах, мировое сообщество глядело на Германию и удивлялось. Александра в Гданьске и Александр в Бохуме следили за этими событиями по телеэкрану. Разве мыслимо в такие часы оторваться от телевизора ради того, чтобы лишний раз взглянуть на фотографию с белыми грибами или же подержать на просвет кусочек янтаря величиною с грецкий орех?
Нет, любовь ничуть не пострадала. В своем рождественско-новогоднем письме Пентковская, которой обычно присущ более деловой тон, вспоминает худощавое тело Александра рядом с собою, над и под собою. Все осталось в ее памяти до осязаемости живо, уверяет она, например, то, как ее пальцы пересчитывали его «ребрышки». «Ты похож на мальчика!» — восклицает Александра. Даже скудость поросли на его груди умиляет ее. Однажды она употребляет словечко, подхваченное не иначе, как во время командировок в Трир или Кельн: «Ты меня замечательно трахал, и мне хочется этого еще и еще…»
Решке же теперь, напротив, избегает плотских нескромностей, он описывает свои чувства понятиями высокими, как бы вознося любовь на пьедестал. Эпохальные исторические события используются при этом вроде подъемного устройства. Так, в первые новогодние дни он пишет: «Встреча Нового года, состоявшаяся у знаменитых Бранденбургских ворот, архитектурного памятника классицизма, куда долгие годы вплоть до самого недавнего времени доступ был закрыт; завершение ровно в полночь прежнего десятилетия, кровавого, до конца бряцавшего оружием и потерпевшего неожиданный крах; начало нового десятилетия, с которым связаны мои тревоги и волнения, а вслед за его первым, уже необратимым мгновением буйное ликование и рев толпы, ибо берлинцы, да и жители других наших городов словно с ума посходили — все это самая читаемая газета, каждодневно обращающаяся к немецкому народу, охарактеризовала одним-единственным словом, вынесенным в заголовок: „НЕВЕРОЯТНО!“ Да, Александра, этим словом положено начало следующему десятилетию. Оно звучит сегодня вместо приветствия, когда люди встречаются друг с другом. „Невероятно! Не правда ли?“ — „Правда! Невероятно!“ Все пронизано невероятностью. Где бы и что бы ни происходило, это слово заменяет любые объяснения случившемуся. И даже наша встреча — невероятная, безумная случайность, из разряда тех безумий, что возвышают и окрыляют любовь, но все же именно случай привел нас обоих к цветочнице, отправил на кладбище, усадил за стол с жареными грибами, позднее свел опять и, наконец, уложил нас вместе в узкую кровать. Я благословляю это невероятие и эту веру и говорю им — „да!“, „да!“ и еще раз „да!“…»
Позднее, примерно с середины января, все становится каким-то неопределенным. Мне трудно отчетливо представить себе мою пару, вижу лишь ее расплывчатую тень. Сохранились все письма этого периода; кого-либо другого, возможно, развлекло бы их воркование, постоянное возвращение к совместной идее-фикс, но мне нужна конкретика, а ее-то как раз и не хватает. Приходится цепляться за каждую деталь, выжимать до последней капли ту или иную подробность, чтобы сюжет развивался подинамичней.
Впрочем, такая ситуация вполне объяснима. Теперь Решке и Пентковская больше разговаривали по телефону, нежели переписывались, а от телефонных бесед в архиве ничего не сохранилось, если не считать обмолвок из писем или дневника о том, как сложно бывало дозвониться до Востока с Запада и наоборот. Эти слова оказываются не нейтральными обозначениями сторон света, а едва ли не олицетворением добра и зла: даже не названные, они присутствуют в письмах, подобно водяным знакам на бумаге. Но каждый из адресатов вкладывает в них свой смысл. Для Пентковской «Восток» связан с тяготами жизни, дороговизной, со столовыми для бедных — теперь поляк, предъявив «куроневку», то есть справку, названную по имени министра социального обеспечения Яцека Куроня, мог получить бесплатно тарелку супа; Решке же жалуется на западное потребительство, роскошь, грабительский курс немецкой валюты. Пентковская упрекает себя за то, что слишком долго не выходила из партии, и обвиняет коммунистов во всех смертных грехах, даже в косности католической церкви, чей догматизм оправдывался, дескать, противостоянием идеологическому догматизму коммунистов; Решке же возлагает на капитализм ответственность за все зло мира, а заодно и за собственные слабости: купив компьютер из соображений налоговой выгоды («это связано у нас с определенными льготами»), он корит себя за то, что поддался капиталистическому соблазну потребительства — «Ведь у нас в университете вполне достаточно вычислительной и информационной техники».
Решке сообщает о своей покупке как бы мимоходом, а между тем этому компьютеру предстоит сыграть немалую роль при создании акционерного общества, хотя поначалу Решке чувствует себя в компьютерных делах дилетантом. Речь идет, вероятно, о модели фирмы «Apple». Впрочем, точных данных, технических характеристик у меня нет, а поскольку сам я упрямо пренебрегаю этой штуковиной в собственной работе, то мне неохота высасывать их из пальца.
Так или иначе, Решке вскоре уже называет свой безымянный компьютер «полезным приобретением», и оно действительно оправдывает себя тем, что на основании статистики и сведений от местных организаций союзов беженцев удалось спрогнозировать, сколько «желающих», как называет их Решке безо всякой иронии, хотело бы приобрести место на кладбище в Польше. «Таковых набралось около тридцати тысяч, — пишет Решке, — и они готовы внести по тысяче марок задатка, не говоря уж о последующих выплатах из больничных и страховых касс. При надежных гарантиях для создания нашего кладбища можно рассчитывать на стартовый капитал в 28 миллионов, не меньше. Правда, треть нужно зарезервировать для виленского кладбища и положить на особый счет, ибо литовцы, несомненно, захотят твердую валюту за предоставление полякам возможности быть похороненными на родине. Тут уж, милая Александра, ничего не поделаешь. Мы сумеем исполнить наш замысел лишь благодаря немецкой марке…»
Прежние жители Данцига, бывшего до 1939 года вольным городом и позднее присоединенного к рейху, а также прежние жители данцигских окрестностей нашли свою вторую родину преимущественно в Шлезвиг-Гольштайне, Гамбурге, Бремене и Нижней Саксонии — ну, если не вторую родину, то по крайней мере приют и сносные условия жизни; добавив запад и юг Германии, компьютер насчитал еще пятнадцать тысяч «желающих». Мой одноклассник прогнозировал и дополнительный контингент, который может появиться после воссоединения Германии, правда, «для восточных немцев первичный взнос придется снизить до пятисот марок, ибо здесь население столкнется с теми же застарелыми проблемами, что и в Польше, хотя возможно, у восточных немцев дела пойдут лучше. Ведь у вас нет „старшего брата“, который знает ответ на любой вопрос…»
Решке явно увлекся своим компьютером. Его письма запестрели терминами «монитор», «сеть», «дисплей». Он объяснял Александре, что ROM или Read Only Memory — это постоянное запоминающее устройство, то есть рабочая память с набором инструкций. Поскольку идея создания кладбища находила положительный отклик, к Решке начали стекаться различные материалы, которые он с помощью keyboard (клавиатура) вводил в компьютер или записывал на hard disks (жесткие диски). Нельзя сказать, чтобы компьютер заменил Александру далекую возлюбленную, но говорит он о нем с нежностью: «…как поведал мне тихонько гудящий, ритмично пощелкивающий и такой деликатный собеседник, начальный капитал нашей фирмы превзойдет, судя по всему, мои предварительные оценки…»
Никогда бы не предположил у Решке подобных технических способностей. Поначалу он еще оправдывал необходимость компьютера своей научной работой и перечислял, сколько полезных сведений умещается в электронной памяти: цитаты, библиография, подробности всего завитушечного многообразия барочной эмблематики, но вскоре профессор стал пичкать сей «продукт капиталистического развития» почти исключительно информацией, связанной с экономическими предпосылками польско-немецко-литовского акционерного общества.
Посмотрев полученные через университетскую библиотеку годовые подшивки ежемесячного журнала «Наш Данциг», Решке занес в память компьютера — вижу, как он сидит в домашних тапочках перед дисплеем своего Apple — сведения, почерпнутые с последних страниц этого издания. Там публиковались извещения о смерти, поздравления к юбилеям, к серебряным, золотым или бриллиантовым свадьбам, а также в связи с «уходом на заслуженный отдых». Фотографии встреч бывших выпускников и подписи под этими фотографиями позволяли подсчитать, скольких тогдашних учеников, а ныне весьма пожилых людей «тянет навестить покинутую родину». Здесь же публиковались старые фотографии целых классов из начальных и средних школ, училищ, лицеев, гимназий, которые запечатлели ряды сидящих на полу, на скамье, стоящих позади скамьи и, наконец, стоящих на скамье мальчиков и девочек, указанных в пофамильных списках под каждой фотографией. Проборы у мальчиков и косы у девочек, отложные воротнички и банты, гольфы и носочки, ухмылки, улыбки и скованность, серьезность, а по бокам от ребят — директор и учителя. По этим материалам Решке мог судить о долголетии многих из беженцев. Кстати, он нередко колеблется между понятиями «переселенец» и «беженец»; подразумевая одно, он говорит порой совсем другое и даже называет наших постаревших соотечественников «переселенными беженцами».
В доказательство завидного долголетия Решке выслал Пентковской несколько скопированных из журнала поздравлений ко дню рождения, к юбилею, а также несколько извещений о смерти: например, Аугустин Хабернолль одновременно отпраздновал свое девяностопятилетие и семидесятипятилетний профессиональный юбилей в качестве органиста; Фрида Книппель отметила в полном здравии свой восемьдесят шестой день рождения, а Отто Машке скончался после продолжительной болезни на девяносто втором году.
Вот что читала Александра: «Разве подобное долголетие бывших переселенцев не подает нам знака о том, с каким нетерпением, страстным желанием дожидаются теперь эти люди нашего кладбища? По-моему, именно страх перед до сих пор неизбежным погребением в чужой земле и надежда дожить до возможности обрести последний покой на родине продлевают век моих земляков. Растет число столетних мужчин и женщин. Очередь становится все длиннее. Мне слышится зов стариков: „Спешите! Не заставляйте нас долее ждать!“ Мне нравится, что в данцигском журнале, довольно консервативном (его издатели все еще надеются повернуть историю вспять), вместе со старым адресом юбиляра, допустим: „Прежнее место жительства: Данциг, Ам Браузенден Вассер, 3б“, указывается и новый адрес: „Ныне: 2300 Киль 1, Лорнзенштрассе, 57“. Мне удалось собрать таким образом более тысячи адресов, и мой компьютер получает ежедневно все новую пищу. Большинство землячеств и их местных организаций откликнулись на мою просьбу о распространении среди своих членов подготовленной мною анкеты. Семьдесят два процента желают быть похороненными на родине и поддерживают нашу идею о создании кладбища. При этом пятьдесят один процент хотели бы как можно скорее выплатить свой взнос целиком, тридцать пять процентов предпочитают оплату долями, а остальные пока не приняли определенного решения. Я несколько раз перепроверял расчеты и неизменно поражался замечательным возможностям моего компьютера, который раньше считал бездушной железякой и поэтому не слишком ему доверял. Вскоре мы обязательно поставим такое же чудо современной техники в твоей квартире на Хундегассе. Уверен, что моя Александра научится обращаться с ним гораздо быстрее меня».
По поводу возможных перемен у себя дома Пентковская заметила: «Всегда-то немец знает, чему нам, полякам, следует научиться…»
Это было в конце февраля, когда Восточная Германия стремительно разбегалась на Запад, а Решке ежедневно суммировал данные о нынешних беженцах. Подсчеты показали, что за короткий срок восточная часть готовой к воссоединению Германии может вконец обезлюдеть. В дневнике говорится: «Последние события вызывают у меня тревогу за наш общий замысел, который может погибнуть под тяжестью проблем внутринемецкой несовместимости…»
От Пентковской незамедлительно пришел ответ, в котором она, желая, видимо, успокоить Решке, сравнивает постоянно хмурую физиономию своего премьер-министра с обычно жизнерадостным выражением лица западногерманского канцлера: «Тебе ли жаловаться, Александр? Если бедной Польше достался Рыцарь Печального Образа, то ваш толстый Санчо Панса вечно улыбается…»
По-моему, пора дать волю моей досаде. Какое мне, собственно, дело до их переписки? Какое отношение имеют ко мне его компьютерные забавы? Почему этот сюжет до сих пор занимает мое воображение? Разве не ясно, что их история стала банальной, а бизнес на покойниках обречен на успех? Неужели я должен снова глотать по чужой прихоти лягушек? Ради чего?
Аккуратные или неряшливые, их февральские письма оправдывают мое раздражение. Пентковская сообщает, что ее сын, ныне бременский студент, осудил планы матери и ее ухажера создать акционерное общество, то бишь кладбище, как «типичный продукт мелкобуржуазного идеализма». «Витольд любит позлить меня. Он уверяет, будто стал троцкистом в отместку за то, что я слишком долго пробыла в партии. И подружки у него, мол, нет, потому что мне бы этого очень хотелось. А еще он называет наш план результатом извращенного мировоззрения».
Решке отвечает ей жалобами на «эгоистическую нечуткость» по крайней мере двух из трех своих дочерей: старшая упрекает отца в «пережитках патриотического культа», средняя и того пуще — в «некрофильствующем реваншизме». Младшая дочь отмалчивается, но, видимо, лишь из-за полнейшего равнодушия к отцовской затее.
Далее он досадует на университетских бюрократов, на поражение сандинистов в ходе последних выборов, на погоду и на неонационалистические настроения среди своих коллег. Пентковская же обходится без сетований, когда рассказывает о нынешней работе в Мариинском соборе: «Там стоят большие астрономические часы. Сделал их, как тебе известно, Ганс Дюрингер. По преданию, он сам же их и сломал, после того, как патриции велели ослепить его, выколоть глаза, чтобы он никогда больше не создал столь же чудесных часов. Теперь я занимаюсь их реставрацией…»
Работа Александры состояла в восстановлении позолоты на разных кругах циферблата, например, на числах церковных праздников. Когда Александра писала это письмо, она как раз занималась декабрьскими праздниками — днем св. Барбары, св. Николая, св. Люции и Непорочного зачатия. А впереди были еще Золотое число, Лунный круг с числами от единицы до девятнадцати, двенадцать часовых делений с золотыми цифрами на внешней окружности циферблата и золотые знаки зодиака на его внутренней окружности. «На Льве осталось больше всего следов первой позолоты. Предвкушаю удовольствие от работы над ним. Ведь я родилась под знаком Льва…»
Итак, наша пара прилежно трудилась. Опять меня потихоньку разбирает любопытство. К счастью, ни его, ни ее жизнь не была подчинена одной лишь идее-фикс. Пока Пентковская золотила остановившееся время, профессор Решке придумывал темы для занятий со своими студентами. «Твой подарок, который мне очень дорог, навел меня на одну мысль, отвлекшую меня от университетских дрязг и интриг; я затеял семинар по предметам бытового обихода, которые использовались для покупок того, что потребно в домашнем хозяйстве. Подразумевалось все, что так или иначе запечатлено произведениями изобразительного искусства: корзинки, короба, мешки, кошели, авоськи, сумки, котомки, рюкзаки, которые снова вошли в моду у молодежи, к сожалению, вместе с безобразными полиэтиленовыми пакетами. Особенно много материала дают, конечно, малые голландцы. Начиная с позднеготического периода на ксилографиях появляются поясные кошельки, сделанные порой весьма искусно. Современные же художники, вплоть до Бойса,[41] прямо-таки упиваются бытовыми предметами; тут все идет в ход, даже войлочные шлепанцы. Между прочим, Ходовецкий — помнишь наш спор? — изобразил на своих гравюрах и рисунках немало полезных вещей из домашнего обихода, особенно на листах, созданных во время путешествия из Берлина в Данциг, а также в самом Данциге — взять, к примеру, прелестный набросок служанки с корзиной. Эти работы привели в восторг моих студентов. Они совсем обезумели от восхищения, когда я принес им — надеюсь, ты не возражаешь? — твой подарок. Мне хотелось дать им наглядный пример, перекинуть мостик между искусством и бытом. Не удивительно, что две студентки, а за ними один студент принялись плести авоськи с зубчатым узором. За образец взята твоя авоська — впрочем, я ведь уже могу считать ее моей, не правда ли?..»
Вероятно, повседневный контакт с астрономическими часами пробудил у Пентковской, натуры довольно-таки приземленной, тягу к отвлеченным философским размышлениям, ибо в ее первом мартовском письме говорится: «Надо спешить. Ведь время идет. Дело не только в том, что немцы после объединения могут забыть про наше кладбище. Все идет на убыль. Понимаешь, наступает дефицит времени, как раньше у нас был дефицит мяса или сахара. Сейчас в магазинах полно продуктов, только больно уж все дорого. Теперь не хватает денег. Нам тоже не хватит времени, если мы не будем спешить…»
Такие же тревоги испытывал и Решке, правда, в те дни его больше беспокоили капризы погоды, нежели быстротечность времени. «25 января через Англию, Бельгию и север Франции пронесся ураган, натворивший немало бед. Есть жертвы. А за этим первым ураганом последовали еще пять. Они учинили в и без того больных лесах жуткий бурелом. Людям страшно. В Дюссельдорфе и других городах отменены традиционные карнавальные шествия. Прежде такого никогда не бывало. Зато между ненастьями погода стоит теплая, даже слишком теплая для февраля. Настоящей зимы у нас давно не видали. С середины месяца в палисадниках и парках распустились шафран и другие цветы. Видишь ли, Александра, подобные аномалии тревожат не только меня, но и моих университетских коллег, которые занимаются климатологией; причиной мощных ураганов они, при всей осторожности оценок, свойственной серьезным ученым, считают так называемый парниковый эффект. Прилагаю несколько статей на эту тему, поскольку не знаю, пишут ли ваши газеты о глобальных изменениях климата. У нас слышны серьезные опасения… Впрочем, догадываюсь, у вас сейчас иные заботы…»
Решке и университет. Следует, пожалуй, охарактеризовать моего бывшего одноклассника более полно, нежели это делает его переписка. Отчасти такую возможность дает другой присланный мне материал, иначе пришлось бы прибегнуть к изысканиям и расспросам. Кое-что можно позаимствовать из моих собственных школьных воспоминаний, правда, довольно смутных: вот мы оба, хоть и соседи по парте, стоим в разных отрядах на утренней линейке «гитлерюгенда» или перед трибуной для руководства и почетных гостей на Майском поле, которое называлось раньше Малым плацем и находилось рядом со спортзалом.
Решке учился в Гейдельберге, защитился в Гамбурге, где вскоре после депортации поселился его отец, почтовый служащий. Позднее, уже в сорок лет, Решке стал профессором. Он получил профессуру в Бохуме, в Рурском университете. Возможно, этому способствовали политические перемены конца шестидесятых годов; не один ассистент, доцент или профессор обязан успешной академической карьерой тем временам. Решке казался тогда радикалом по своим взглядам на реформу высшего образования, на участие студентов в управлении учебным процессом и особенно по своей трактовке исторического искусствознания. Он настаивал на изучении мира труда, каким тот запечатлен в изобразительном и прикладном искусстве. Докторская диссертация о надгробиях содержит основные положения его концепции, получившее позже свое развитие. Диссертация рассматривала детально описанные погребальные обряды как модель, отражающую социальную структуру общества с его полюсами, которым, с одной стороны, соответствует нищенский погост, а с другой — родовой княжеский склеп.
Однако радикалом он был весьма умеренным. Как член педагогического коллектива, да и сам по себе, он отвергал сверхреволюционные требования, выдвигавшиеся на тогдашних сходках. После идейных шатаний, которые ненадолго сблизили его даже с одной из коммунистических группировок, Решке занял леволиберальную позицию и оставался в общем-то верен ей, хотя два десятка лет привнесли, разумеется, немало поправок. Впрочем, многие люди сумели примирить свои, казалось бы, непримиримые внутренние противоречия благодаря простой формуле: «Жизнь продолжается!»
Студенты восьмидесятых годов добавили к его взглядам нечто свое, поэтому к остаткам леволиберальных принципов Решке присовокупил и экологические. Широкий мировоззренческий диапазон нередко приводил его к спорам с самим собою. Он жаловался на затхлую атмосферу, на косность и ограниченность некоторых коллег, ибо, побывав с продолжительными научными командировками или лекциями в Лондоне и Уппсала, Решке, подобно другим профессорам, повидавшим мир, не мог отделаться от ощущения провинциальности своего университета.
Нынешняя молодежь, предпочитая преподавателей строгих, относилась к Решке с долей иронии, считая его «ветераном-шестидесятником», однако у большинства из студентов он пользовался симпатией. И все же к тому времени, когда переписка особенно оживилась, Решке мучился глубокой раздвоенностью и отсутствием перспективы. Университет, а точнее — как он выразился в письме — «преподавательская работа», ему опротивел. Не удивительно, что ему пришлась по душе идея, зародившаяся на закрытом данцигском кладбище. У него появилась цель, к тому же цель гуманная. Имея поначалу локальный характер, эта идея могла приобрести со временем глобальную значимость. Решке даже говаривал об «эпифании», ибо любил высокие обозначения для самых обычных вещей, смутных ощущений, мимолетных мыслей, мечтаний и даже бредовых фантазий.
Одна из студенток его семинара, посвященного корзинкам, авоськам и полиэтиленовым пакетам, рассказывала мне позднее: «Профессор имел жалкий вид со своей вечной береткой на голове, но вредным он не был, разве что казался старомодным, особенно когда занудствовал насчет всяких мелочей, пустяков, из которых складывал свои загадочные картинки и головоломки. Он, пожалуй, даже нравился нам. Что еще сказать? Иногда он был каким-то пришибленным, ныл о мрачном будущем, климатических сдвигах, транспортном хаосе, об опасностях, которые несет с собою воссоединение Германии, и прочей чернухе. Хотя во многом он оказался прав, разве нет?»
Он не знал, какое прозвище дали ему студенты; своего профессора Александра Решке за глаза они называли Ункой.[42]
Вот, значит, каким был Решке: внутренне раздвоенным, неспособным к решительному действию, мечущимся из стороны в сторону; любое событие вызывало в нем противоречивые чувства, недаром по поводу немецкого воссоединения у Решке имелось равное количество аргументов «за» и «против». «Чисто эмоционально» он приветствовал подобное решение германской проблемы, однако в то же время опасался подъема националистических настроений; ему чудился «жуткий колосс в самом центре Европы», как сказал он в своем читательском письме, адресованном одному из известных периодических изданий.
Тот факт, что миллионы немцев были вынуждены после второй мировой войны покинуть свою родину, то есть Силезию и Померанию, Восточную Пруссию и Судеты, или же, как мои и его родители, город Данциг, также вызывал у Решке двойственные чувства; впрочем, подобная двойственность не означала в его случае полного раздвоения личности, а если бы медики действительно обнаружили два сердца в его груди, то оперативное удаление любого из них сделало бы его вовсе бессердечным. В одном из писем он называл себя «до гамлетовщины немцем», для него было вполне естественным сначала утверждать одно, а следом нечто противоположное, поэтому он мог говорить то об «изгнанных», то о «переселенцах». Пентковская же всегда называла немцев и поляков, депортированных из Вильно и Данцига, «несчастными беженцами».
Столкнувшись в его записной книжке, больше похожей на дневник, и в неопубликованной рукописи «Век изгнаний» со множеством вопиющих противоречий, я задался вопросом: каким же образом этот внутренне раздвоенный человек оказался во власти одной идеи, которая сделала его настойчивым, пробивным, заставляла действовать без страха и сомнений изо дня в день? Откуда в нем, нытике, Унке, такая напористость?
Мои разыскания свидетельствуют о том, что однажды, уже будучи профессором, Решке также загорелся одной идеей, которую сумел осуществить, проявив решительность и настойчивость, несмотря на сопротивление коллег с других факультетов. Речь шла о практической ориентации студентов-искусствоведов. С помощью статистики Решке доказал, что большинство университетских выпускников совершенно не подготовлены к реальной жизни. Вакансий для них в музеях мало, издательства книг по искусству экономят на штате редакторов, должности в отделах культуры при муниципалитетах раздаются по политическим соображениям, поэтому для будущих искусствоведов необходимо искать новые возможности трудоустройства.
Его программа была рассчитана на подготовку будущих преподавателей в системе образования для взрослых, а также на выпуск специалистов по массовому туризму, организации досуга и работе с престарелыми. Для чтения лекций были приглашены руководители крупной туристической фирмы, директриса большого парка со всевозможными аттракционами и развлечениями, куда приходят миллионы посетителей, а также научный руководитель летней школы, ответственный за составление ее программ. Проводилось анкетирование крупных отелей, гольф-клубов и домов для престарелых, чтобы выявить потребность в специалистах по культурно-развлекательным мероприятиям.
Решке добился успеха. Его программа ставилась в пример за свою практическую направленность. Министр науки и культуры земли Северный Рейн — Вестфалия одобрил выделение для этой программы немалых средств из университетского бюджета, указав на ее «социальную значимость». Многие газеты расхваливали Решке, впрочем, другие, естественно, с таким же жаром ругали за то, что его программа, дескать, понижает академический уровень знаний, а сам университет превращается в бюро по трудоустройству и т. д.
И все-таки Решке достиг своей цели. Другие университеты переняли его программу «практической ориентации студентов-искусствоведов». Мой бывший одноклассник Решке, которого я, всматриваясь в прошлое, представляю себе все отчетливее — не он ли в годы войны организовывал у нас обязательный тогда для школьников сбор картофельных жуков, причем всегда добиваясь успеха за счет продуманной системы премий? — внутренне раздвоенный Александр Решке был, оказывается, вполне способен действовать целеустремленно, осуществлять то, что поначалу выглядело фантазией, призрачной идеей.
Поэтому меня не так уж удивило письмо, датированное началом марта, из которого следовало, что Решке, предъявив союзам беженцев «статистику выявленных и потенциальных пожеланий о захоронении на родине», встретил заинтересованность и договорился о встречах в Бонне, Дюссельдорфе и Ганновере. В его идее усматривался вклад в улучшение немецко-польских отношений, а планы расценивались как конструктивные и заслуживающие поддержки. Отмечалось даже, что столь долгосрочный проект может пойти на пользу и общегерманскому единству. Соответствующий пункт следует включить в государственный договор с Польшей по вопросу о границе, который становится совершенно безотлагательным. Ведь теперь нужно извлечь максимальную выгоду из отказа от территориальных притязаний.
Официальные документы говорят о том, что Решке сумел обеспечить всем «желающим» налоговые льготы при уплате вступительного взноса. Эти документы он приложил к письму Александре. «Наше дело, как видишь, продвигается. Переписка с „Данцигским центром“ в Любеке позволяет мне высказываться более определенно. Здесь, да и в других местах, пора действовать решительно. Беседы с представителями двух крупных похоронных бюро показали, что эти фирмы готовы к подобному эксперименту. Одна из них уже провела переговоры с аналогичным учреждением в ГДР, которое согласно тамошним обыкновениям называется Народное предприятие „Ритуальная мебель“ и производит недорогие гробы. Этому Народному предприятию грозят трудности со сбытом. Существуй наше акционерное общество уже сегодня, я бы и сам вложил деньги в производство гробов. Никогда не думал, что практическая реализация нашей идеи, то есть калькуляция накладных расходов, разработка будущих „Правил внутреннего распорядка“ для нашего кладбища, подготовка каталога гробов, проведение переговоров с так называемыми „профессиональными беженцами“ и т. д., доставит мне столько удовольствия, точнее — глубокого удовлетворения. Между прочим, обе немецкие фирмы ищут польского партнера, чтобы создать совместное предприятие. Они же со временем возьмут на себя транспортировку из Гданьска в Вильно…»
Однако из Вильнюса Пентковская получила скверные известия. Хотя литовская сторона выразила принципиальную заинтересованность в деловых контактах, особенно таких, где ожидается валютная выручка, но сам проект был признан нереалистичным. Александра пишет: «Ничего у нас не получится с литовцами. Главное для них — стать независимым государством. Они хотят, во что бы то ни стало, выйти из Советского Союза, и их можно понять. Обидно, что мы до сих пор зависим от проклятых русских. У тебя успешное начало, а мне придется ждать, пока наши политики дадут свое благословение. Что ж, организуем немецко-польское акционерное общество. Контактов с тобой ищут представители местной администрации и церкви. Вице-директору Национального банка тоже не терпится. Приезжай, Александр. Жду тебя, жду всем сердцем…»
Но до того, как Решке снова приехал в Гданьск, они встретились в гамбургском аэропорту Фульсбюттель. Оттуда они доехали на такси, то и дело попадавшем в заторы, до главного вокзала, а затем на поезде — до Любека. Здесь Решке заказал в отеле «Кайзерхоф» два соседних номера с видом на Мельничные ворота и старые башни. Среди прочих документов на моем столе лежат ксерокопии гостиничного счета, авиабилетов, железнодорожных билетов, квитанции об оплате поездок на такси. Решке собирал подтверждающие документы буквально на все траты, есть даже чек за бутерброды, которые были съедены у буфетной стойки гамбургского вокзала.
Решке договорился с Пентковской об этой встрече по телефону, поэтому кроме даты, 15 марта, мне известно совсем немного. Кое-что можно восстановить по отправленным позднее письмам. Например, то, что, переночевав в соседних номерах, они на следующее утро прогулялись по городу, осмотрели собор и его астрономические часы, потом отобедали в ресторане «Корабельный цех», а после обеда встретились с «несколькими влиятельными дамами и господами» из данцигского землячества в «Доме ганзейского города Данциг».
Вероятно, между обедом и деловой встречей осталось время, чтобы осмотреть церковь Девы Марии. Там Решке мог рассказать Пентковской историю художника Мальската, который подделывал фрески, и показать высоко на хорах следы от смыва, издевательские пробелы на стенах. Я так и слышу, как Решке заливается соловьем. Слышу его старомодно-велеречивую манеру изъясняться с долгими отступлениями от темы, его всегда как бы немного обиженный голос… На самом же деле, мне известно только мнение Пентковской по делу Мальската, высказанное позднее в ее письме: «Зачем уничтожили фрески, если они получились такими удачными? Ведь мы тоже расписываем фасады не совсем так, как это было прежде. Искусство вообще всегда немножечко подделка, разве нет? Впрочем, понимаю. Немцев интересуют только подлинники, на сто процентов…»
Об обеде в «Корабельном цехе» — ресторане, где посетители сидят на длинных скамьях за длинными столами под точными моделями-копиями кораблей со всем их такелажем, свидетельствуют счет и меню; на последнем Решке приписал бисерным почерком с краю: «Александра пожелала заказать что-нибудь экзотически-северогерманское и взяла „моряцкое блюдо“ из рыбы с мясом и картошкой. Моя свежая сельдь, которую она попробовала, понравилась ей больше, а на десерт нам подали „красную кашу“, пудинг с фруктовым соком…»
Вряд ли наша пара говорила за столом о политике, хотя в Любеке было много приезжих из Шверина и Висмара, которые больше рассматривали витрины, чем что-либо покупали — да и на какие деньги?
Мне бы не хотелось, чтобы застольная беседа ограничилась интимом, ибо газеты уже тогда начали писать о враждебности местных жителей к иностранцам, особенно к приезжающим в Германию полякам. Но наша пара обменивается еще не остывшими впечатлениями от минувшей ночи, когда они бегали друг к другу из номера в номер, говорит о накопившейся за время разлуки и теперь с новой силой вспыхнувшей страсти; разве что после десерта речь зашла о политике; Александра занимали выборы в Народную палату умирающего и теряющего свое население государства, Александру же беспокоила растущая дороговизна; затем они принялись согласовывать общую позицию перед встречей в «Доме ганзейского города Данциг».
Последующие письма не содержат подробностей второй ночи любви, нельзя же считать таковыми похвалы отелю, который запомнился Александре тем, что «все было красиво, чисто и хорошо пахло», — зато о проведенных переговорах говорится довольно пространно. Оба напоминают друг другу множество деталей, касающихся осмотренной выставки, на которой в застекленных витринах экспонировались старинные гравюры, видовые открытки и пожелтевшие грамоты; Решке оценивает итог переговоров как «существенный шаг вперед», а Пентковская замечает; «До чего обходительны эти господа из руководства землячества. Вот уж не ожидала, И никакие они не реваншисты…»
Конечно, подобные сведения весьма скудны. Мне доподлинно известно лишь то, что Решке предоставил собеседникам не только таблицы и статистические выкладки, выданные усердным компьютером, но и гарантийные письма от немецких похоронных бюро, страховых и больничных касс, положительные отзывы о проекте от высокопоставленных министерских чиновников, налоговую документацию и эскизный топографический план будущего кладбища. Пентковская имела с собой письма от администрации воеводства, от гданьского филиала Национального банка, от двух депутатов сейма и от епископа. Добавьте к сему ораторское мастерство Решке, отточенное на лекциях; с присущим ему красноречием он ряд за рядом заполнил могилами все прежнее Сводное кладбище в полном соответствии с будущими «Правилами внутреннего распорядка».
Позднее я узнал, что землячество — или, как оно официально именует себя, «Союз жителей Данцига» — обещало без особого афиширования поддержать проект. Открывался доступ к картотеке землячества. Личное участие членов землячества в миротворческом проекте не обуславливалось какими-либо требованиями со стороны землячества. Подчеркивалось, что никто не вправе выставлять их, поскольку речь идет о гуманном совместном начинании, а именно таковым было признано немецко-польское акционерное общество по созданию кладбища для репатриантов. Госпожа Иоганна Деттлафф заявила в этой связи: «Мы говорим сейчас только о клочке родной земли для каждого желающего и ни о чем другом». Участники переговоров пришли к единодушному мнению, что данный проект служит делу мира и взаимопонимания между народами.
В составленной Александром Решке протокольной записи отмечено все, вплоть до поданного кофе, кекса и нескольких рюмочек водки; упомянуто и то, что на госпоже Деттлафф, бодрой женщине шестидесяти с лишком лет, было ожерелье из отшлифованных янтарных кругляшей. Пентковская подарила землячеству копию серебряного, частично позолоченного кубка данцигской гильдии пивоваров с выгравированным посвящением и датой «1653»; ответный подарок землячества был, по всей вероятности, не без умысла подсказан Александром Решке — выпущенная в 1907 году издательством «Фельхаген унд Клазинг» монография «Гравюры на меди Даниэля Ходовецкого».
Они уехали из Любека вечером. Сохранившийся счет подтверждает, что ночь с 17 на 18 марта они провели в гамбургском отеле «Прем», на сей раз в двойном номере. Утром они посетили большое, похожее на парк Ольсдорфское кладбище, о чем свидетельствует восторженная реплика Пентковской из письма: «Как хорошо, что я это увидела. Немецкое кладбище в Гданьске тоже должно быть красивым. Пусть не таким большим, но таким же ухоженным. Пусть людям захочется там погулять и, может, поискать местечко для себя…»
Затем наша пара провела несколько дней в Бохуме. Сведений о новом осмотре какого-либо кладбища не осталось. Есть только краткая запись об итогах выборов в Народную палату, которые Решке назвал «пирровой победой демократического блока». Неизвестно, понравился ли Александре Рур, а вот про квартиру она сразу же по возвращении домой пишет: «Твоя квартира была для меня приятным сюрпризом, Александр. В образцовом порядке не только книги, но и все остальное, вплоть до постельного белья. Просто не верится, что так живет холостяк…»
От этой первой поездки в Бохум сохранились фотографии, на которых наша пара снята то отдельно, то вместе с другими людьми. Решке водил Пентковскую в университет, где представил ее коллегам, ознакомил со своей программой, «ориентированной на практические нужды». «Импровизированная лекция Александры о золочении как важной реставраторской специальности, о необходимости восстанавливать исторические центры разрушенных войною городов, — пишет Решке в дневнике, — вызвала у моих студентов живой интерес. Это и не мудрено, ибо ее шарм оказался куда сильнее, чем довольно спорное утверждение, будто любая реконструкция всегда немного подделка…»
Они редко сидели дома и не забывали о делах. Так, в Дюссельдорфе они нотариально заверили в присутствии министерского чиновника из Бонна предварительное соглашение, которое позволило открыть в Немецком банке целевой счет. Все обошлось без особого бюрократизма, однако должные формальности были соблюдены. Боннское министерство по общегерманским вопросам признало проект заслуживающим поддержки, поэтому для стартового капитала были выделены кое-какие средства, которые пошли на особый счет. Решке указывает в своей первой бухгалтерской записи 20 000 марок. Упоминается рассылка бланка с заявлением о вступлении в акционерное общество, где оговорено, что членский взнос может быть выплачен сразу или в рассрочку; гарантировался возврат денег, если до конца года акционерное общество не будет зарегистрировано.
Фотография запечатлела нашу пару перед входом в здание; видна латунная табличка, на которой нотариус увековечил дни и часы работы своей конторы. На Пентковской — купленный в Эссене бордовый костюм, не раз упомянутый в дневнике, на голове у Решке — неизменная беретка. Авоська отсутствует. Зато Решке держит в руке «дипломат».
21 марта Александра уехала домой. Еще до ее отъезда на целевой счет поступили первые взносы. Компьютерный прогноз подтвердился: лишь треть вкладчиков пожелала платить в рассрочку. К 31 марта на счете имелось уже 317 400 марок. Для начала весьма недурно. Идея явно оправдывала себя. Вскоре набрался первый миллион.
Можно было бы задаться вопросом, почему вдовец и вдова так долго откладывали новое свидание и не встретились, допустим, уже на Рождество. Даже если учесть, что Пентковской требовалось для оформления визы определенное время, то Решке мог приехать к ней поездом или прилететь на самолете без особых проблем. Они могли бы договориться о каком-то нейтральном месте, например, о Праге. Однако ничего подобного дневник не сообщает. В письмах они уверяли друг друга в своей страсти, их слова были проникнуты желанием, тем не менее Александр и Александра не собирались торопить события. Каллиграфическим почерком написано: «Жизненный опыт подсказывает, что в нашем возрасте надо сохранять благоразумие».
Читаю ее каракули: «Наша любовь не пустяк. Она от нас никуда не денется».
Александр пишет в декабре: «Мы ждали друг друга годами, так что лишний месяц не в счет…»
«Знаешь, — отвечает Александра, — когда я сижу на лесах перед астрономическими часами, время летит совсем незаметно».
Он кажется самому себе похожим на муху внутри янтаря: «Ведь ты тоже целиком вместила меня».
«А ты — меня, милый Александр».
«Но желание мое велико…»
«Еще не время, любимый, погоди…»
Не забудем, что у нашей пары имелись еще и семейные обязанности. Пентковскую навестил на Рождество сын: «Витольд был очень мил. Я баловала его, как маленького». Решке целых три дня провозился с внуками: «Они утомили меня гораздо меньше, чем их родители, которые вечно ищут спора со мной».
Возможно, еще в Гданьске, например, за завтраком в отеле «Гевелиус», они договорились одарить себя следующим свиданием лишь тогда, когда их идея встанет на ноги, но при этом было условлено, что в спорных случаях приоритет должен отдаваться делу, то есть польско-немецко-литовскому акционерному обществу по созданию миротворческих кладбищ. Недаром в одном из своих апрельских писем Пентковская вспоминает поговорку: «Делу время, потехе час». Так или иначе, пасхальные отпуска прошли, и лишь потом, на середину мая, была назначена новая встреча. К этому времени предполагалось закончить подготовку к учреждению акционерного общества.
Решке выехал на машине, другие три человека вылетели из Гамбурга самолетом: госпожа Иоганна Деттлафф, 65 лет, супруга ушедшего на пенсию директора районной сберкассы из Любека; господин Герхард Фильбранд, 57 лет, владелец средней по размерам фирмы из Брауншвейга, и доктор Хайнц Карау, консисторский советник североэльбско-лютеранской церкви. Все трое согласились стать соучредителями акционерного общества и занять три отведенные немецкой стороне места в наблюдательном совете; кандидатура госпожи Деттлафф была предложена данцигским землячеством. Их сопровождал юрисконсульт, фамилия которого не упоминается.
Номера для гостей и конференц-зал на семнадцатом этаже Пентковская заказала в отеле «Гевелиус» с учетом его удобного расположения в самом центре города. У меня есть копии документов обо всех связанных с этой встречей расходах, оплаченных из средств банковского счета, открытого при содействии министерства по общегерманским вопросам. Из тех же средств дважды оплачивался обед на четырнадцать персон. Заключительный ужин, состоявшийся на второй день переговоров и прошедший, по словам Решке, «в дружеской атмосфере и с застольными речами», был оплачен, судя по всему, либо Гданьским воеводством, либо польским Национальным банком, во всяком случае, счет за него у Решке не сохранился.
Кое-что остается загадкой. Почему Решке и Пентковская избрали роль учредителей с распорядительными функциями, но без права решающего голоса в наблюдательном совете? Неясно, на какой правовой основе велись переговоры. Копии учредительного договора у меня нет.
Во всяком случае, достоверно известно следующее: за исключением участка, на котором располагалась Студенческая больница, вся остальная территория бывшего Сводного кладбища вместе с Академическим парком, то есть комплекс общей площадью одиннадцать с половиной гектаров, был арендован немецко-польским акционерным обществом по созданию миротворческого кладбища, сокращенно АО МК, сроком на шестьдесят лет; договор предусматривал также преимущественное право купли этой территории. В соответствии с немецкими кладбищенскими нормативами тут могли разместиться двадцать тысяч могил, включая места для захоронения урн. Стоимость аренды, хоть и непонятно как рассчитанная, составила 484 000 немецких марок, плата должна была вноситься ежегодно до второго ноября. Общая стоимость землепользования за весь срок арендного договора равнялась шести миллионам; эта сумма должна была быть оплачена в течение двух лет. Накладные расходы несло акционерное общество.
Полагаю, что на ноябрьской дате настояла наша пара, приурочив ее, видимо, не столько ко Дню поминовения, сколько к иному событию, о чем, естественно, не говорилось. Разумеется, расходы по захоронению и уходу за кладбищем брали на себя частные лица, которые решали воспользоваться услугами акционерного общества. Разработанные Александром Решке «Правила внутреннего распорядка» были одобрены; адвокаты внесли лишь две поправки относительно срока, когда на прежнем месте возможно новое захоронение, и права на анонимное захоронение, после чего оба распорядителя, Александра Пентковская и Александр Решке, подписали договор. Литовская часть проекта («Польское кладбище в Вильнюсе»), на которую резервировалось определенное валютное финансирование, была закреплена в отдельном параграфе — компромисс, на который Пентковской пришлось пойти.
Решке пишет: «Мы заседали в скромно обставленном зале, зато вид с семнадцатого этажа на город, восставший всеми своими башнями из руин, как бы демонстрировал собравшимся масштабность принимаемых решений. Завершение работы получилось весьма торжественным. Не возьму в толк, кому пришла мысль заказывать шампанское и кто за него расплатился…»
В состав наблюдательного совета вошли с немецкой стороны Деттлафф, Фильбранд и Карау, а с польской стороны Мариан Марчак, Штефан Бироньский, Ежи Врубель и Эрна Бракуп, которая, будучи по происхождению немкой, как бы уравновешивала несоответствие трех голосов против четырех, что Решке счел «жестом доброй воли поляков, тем более, что госпожа Бракуп — случай особый. Этой даме уже за восемьдесят, она постоянно что-то бормочет…»
На следующий день после подписания договор стал достоянием общественности. Мой одноклассник назвал его «одним из значительнейших событий века» и потому довольно болезненно реагировал на критику. Журналисты посетовали на то, что получили возможность задать вопросы лишь после того, как дело уже сделано, но Решке попросту отмахивался от подобных упреков, будто от назойливых мух: «К брюзжанию придется привыкать…»
И все же он в целом был доволен исходом пресс-конференции. «Вопросы оказались скорее безобидными, чем ехидными. Когда главный редактор местной студенческой газеты напомнил присутствующим, что Германия до сих пор официально не признала западной границы с Польшей, я указал ему на специальный пункт учредительного договора, где зафиксировано, что в случае непризнания границы договор аннулируется. Между прочим, именно этот пункт был принят практически единогласно, лишь при одном воздержавшемся…»
По мнению Решке, удовлетворительному исходу пресс-конференции в немалой мере способствовал вышеупомянутый Мариан Марчак, вице-директор Национального банка, который с «деликатной настойчивостью» разъяснил, что переориентация экономики на рыночные принципы служит интересам Польши и не терпит половинчатости, в противном случае коммунистический феномен дефицита продолжит свое существование. «Пан Марчак мне понравился, хотя я не во всем разделяю его либеральные экономические взгляды».
Присутствующие с одобрением встретили сообщение Пентковской о том, что в перспективе акционерное общество планирует арендовать одно из виленских кладбищ, которое также стало бы миротворческим, ибо примирение необходимо и литовцам с поляками. Сначала по-польски, а затем по-немецки она сказала: «Все мы настрадались. Так довольно этих страданий…»
Решке с сожалением отмечает ее резкие — он даже пишет «грубые» — антирусские выпады, пусть они делались не перед журналистами, а уже после пресс-конференции. «Больно слышать подобные слова из уст Александры. Ненависть многих поляков к русским вполне объяснима, но наша идея не терпит огульных обвинений. Ей следовало бы быть посдержанней, хотя бы из уважения ко мне…»
В остальном же ничто не омрачило для нашей пары тех майских дней. Решке почти не пользовался своим номером в отеле «Гевелиус», ибо в его распоряжении была квартира на Хундегассе. Решке очень порадовал Александру своим подарком — портативным компьютером, который она очень быстро освоила.
Наверное, это были счастливые дни. Учредители Деттлафф, Фильбранд и Карау уехали, после того как наблюдательный совет принял устав и регламент, а также избрал своим председателем вице-директора Национального банка. Несмотря на кое-какие организационные дела, которыми приходилось заниматься, у нашей пары оставалось достаточно свободного времени для прогулочных поездок в Кашубию и Вердер, до самого Тигенхофа. Они ездили на машине. Когда же мой бывший одноклассник решил однажды добраться до арендованного кладбища на велорикше, произошла размолвка, которая едва не привела к серьезной ссоре.
Судя по дневнику, Александр уступил Александре. А мистер Четтерджи, на которого тем временем работало уже более трех десятков велорикш, пообещал Решке устроить такую поездку в следующий раз.
Собственно, причиной размолвки стали отнюдь не велорикши сами по себе. Если бы на Четтерджи работали пакистанцы, бенгальцы или, скажем, русские, Пентковская рискнула бы, пожалуй, воспользоваться непривычным средством передвижения, но поскольку за рулем всех велоколясок сидели поляки и только поляки, то в Александре взыграла национальная гордость, что, в свою очередь, раздосадовало Решке. «Дожили! — воскликнула Александра. — Не хватало еще, чтобы поляки превратились в китайских кули!»
4
Мой бывший одноклассник описал мне немало разных людей, например, вице-директора Мариана Марчака, носившего сшитые на заказ костюмы, или священника Стефана Бироньского — в джинсах и муниципального служащего Ежи Врубеля, про которого сказано, что неустанные поиски свободных земельных участков он совершает в своей неизменной ветровке; как живая, встает передо мной Эрна Бракуп в старомодной шляпе горшком и в галошах.
Вместе с Карау и Фильбрандом из Гданьска уехала Иоганна Деттлафф, которая, по словам Решке, отличалась на переговорах женственной улыбкой и способностью считать в уме с поразительной быстротой; они уехали, чтобы вернуться назад по первому же зову Марчака, когда тот решит собрать наблюдательный совет. Александру и Александре еще часто предстоит иметь дело со всеми этими людьми, которые сочтут своим долгом вмешиваться в события, принимать решения голосованием «за» и «против», контролировать их исполнение; но пока что у нашей пары есть время для себя, только осталось его не так уж много.
Пентковская вновь приступила к работе, теперь она занималась внешней окружностью циферблата на астрономических часах. Решке продолжал переговоры с польскими членами наблюдательного совета; особенно часто он беседовал с Марчаком, который вел по либеральному экономическому курсу свой банк, расположенный в старинном здании у Высоких ворот. Гранитные колонны, кассетный потолок с орнаментом из майолики (обрамление выдержано в зеленых, белых и охряных цветах, а середина — коричневая, охряная и белая) придавали банку вид солидный и надежный, что особенно важно в период столь стремительно меняющихся валютных котировок; возможно, именно поэтому Решке охотно заглядывал сюда.
В эти же дни компьютер Пентковской регулярно пичкался накопленными в Бохуме записями информации. Из агентства «Интерпресс», находившегося по соседству с квартирой Александры, Решке вел международные телефонные разговоры, позднее он там же получил возможность пользоваться факсом. Кто-то, видимо, Врубель, посоветовал быть поосторожнее, так как телефонные разговоры могли, по старой привычке, прослушиваться, а факсы перехватываться, на что Решке невозмутимо сказал: «Нам скрывать нечего!» В его дневнике на каждое число записано множество дел, тем не менее на выходные Александр и Александра дважды выезжали на машине за город — один раз в Вердер по мосту через Вислу, другой — к морю.
В самом начале мая повсюду зацвел рапс. «Слишком рано, — пишет Решке. — Зрелище удивительное, однако это пиршество желтого цвета лишь упрочает мои подозрения: ох, недаром мне в нынешней, начавшейся февральскими ураганами ранней весне чудится подвох. Пускай Александра смеется надо мной, пускай называет это непроглядное золото Божьим даром, которому, дескать, грех не радоваться, я же остаюсь при своем мнении — не завтра, так послезавтра настанет срок расплаты за все наши деяния и упущения. Я предвижу, что произойдет с нами вскоре, уже на рубеже тысячелетий, когда, по предсказанию Четтерджи, велорикши вытеснят из городов автотранспорт. Будут установлены жесткие ограничения. Многое из того, что сегодня считается престижным, вообще отомрет, канет в прошлое. Былая роскошь! Но нашей идеи, обретшей ныне постоянную прописку, грядущие катаклизмы не коснутся, ибо она служит не живым, а мертвым. Впрочем, при озеленении кладбища, миротворческая суть которого подчеркнута самим названием, подсказанным нам консисторским советником Карау, то есть человеком церковным, а потому слегка склонным к некоторой велеречивости, следует предусмотреть отбор растений, способных выдержать будущий перегрев атмосферы. Тут я, к сожалению, не знаток, но непременно поинтересуюсь этим вопросом. Какие из растений привычны к малому количеству влаги и даже к продолжительной засухе? Все это пришло мне на ум, когда мы возвращались назад через Тухлер Хайде, песчаную и безводную местность. Увидев можжевеловые заросли, я подумал, что нам, пожалуй, более всего и подошел бы как раз можжевельник…»
Не только преждевременное цветение рапса давало пищу дурным предчувствиям моего бывшего одноклассника, которому еще в школе, на сдвоенном уроке эстетического воспитания удалось сделать жуткое пророчество, хотя речь шла всего лишь о неумелом и наивном детском рисунке, — в середине 1943 года он нарисовал, как наш город, тогда еще целый и невредимый, гибнет под градом бомб и в пламени пожаров со всеми своими старинными башнями. Теперь же нашлись места, прямо-таки вдохновляющие на пророчества, — заливные луга Вердера и морское кашубское побережье, где в болотистых низинах и камышах распевали свои свадебные песни жабы и лягушки, среди которых Решке различил голоса краснобрюхих жерлянок. «Здесь они еще сохранились! — пишет он в дневнике. — А в местных озерах и прудах водятся даже желтобрюхие жерлянки».
Когда Пентковская, гордясь своим немецким словарным запасом, воскликнула: «Настоящий лягушачий концерт!», профессор искусствоведения не хуже заправского биолога прочитал ей целую лекцию о семействе круглоязычных, о крестовках, о жабах серых и зеленых, о лягушках и квакшах, а главное — о краснобрюхих жерлянках. «Прислушайся! Их голос совершенно не похож на другие. Он звенит вроде хрустальной рюмки, если стукнуть по ней ножом. Сначала отрывистый одиночный крик, потом протяжный двойной. Это жалобный стон, пророческий плач: „Горе вам!“ Не удивительно, что с жерлянкой связано столько поверий и суеверий, даже больше, чем с совой или сычом. Во многих немецких сказках — да наверняка и в польских — жерлянка предвещает несчастье. Накликает беду, как говорят в народе. Жерлянкам посвящали свои баллады Бюргер, Фосс и Брентано.[43] Некогда жерлянкам приписывали особую мудрость, позднее, в трудные времена, именно жерлянке, а не, к примеру, серой жабе отвели роль предвестницы беды».
Вряд ли кто сумел бы сравниться с Решке, коль скоро разговор зашел об этой теме. На заросшем тростником морском берегу под Картузами, на шоссе ли между Нойтайхом и Тигенхофом, где они останавливали машину под придорожным деревом, чтобы сфотографировать безвершинные ивы над берегом Тиги или ирригационными канавами, профессор цитировал строки романтических стихов и баллад, посвященных жерлянкам, ибо они кричали повсюду, а последняя цитата из Ахима фон Арнима[44]
Плачут унки неустанно из болотного тумана в ночь святого Иоанна…[45]вновь вернула Решке к размышлениям о ранней весне: «Ведь если здесь упомянута Иоаннова ночь, то имеется в виду конец июня, а, значит, сейчас, в середине мая унканье жерлянок до жути опережает положенные сроки. Поверь, Александра! Неспроста раньше времени цветет рапс, неспроста раньше времени разункались краснобрюхие и желтобрюхие жерлянки. Они хотят предупредить нас о чем-то…»
В дневнике написано, что на длинные монологи о чересчур рано пробудившейся природе Александра поначалу отзывалась смехом и репликами вроде «Неужели нельзя попросту сказать: Какой красивый рапс!» или «Сам ты жерлянка!», но затем она принялась курить сигарету за сигаретой, приумолкла и, в конце концов, совсем затихла. «Мне еще не доводилось видеть Александру такой неразговорчивой. По-моему, она произнесла одну-единственную фразу: „Давай вернемся в город; здесь как-то жутко“…»
Из дневника не ясно, где была произнесена эта фраза: на берегу моря или под ивами, но кое о чем можно догадаться по сохранившейся магнитофонной пленке, на которой Решке каждый раз сообщает, где установлен его высокочувствительный микрофон для записи нежного, заунывного унканья жерлянок; в Кашубии под Хмельной среди этих звуков слышен голос Александры: «Меня комары заели!», затем снова: «Хватит на сегодня. Уже поздно». — «Еще четверть часика. Надо зафиксировать соотношение интервалов…» — «Меня всю искусали…» — «Очень жаль, дорогая, но…» — «Понятно-понятно! Во всем нужна основательность…»
Вот так, с мельчайшими подробностями, записано на магнитофон это трио: бормотание Решке, жалобы Пентковской и унканье жерлянок. Теперь я знаю, что краснобрюхие жерлянки ункают с более продолжительными интервалами, чем желтобрюхие; знаю, как тепло, мягко, слегка басовито и немного насморочно звучит голос Решке и какие требовательные нотки слышатся в просьбах Пентковской, перемешанных с хоровым унканьем.
С помощью того же магнитофона Решке записал рассказы Эрны Бракуп, той самой польки по паспорту и немки по происхождению, которую избрали в наблюдательный совет немецко-польского акционерного общества. Эрна Бракуп являлась также полномочной представительницей гданьских немцев, неумолчно бормочущей спикершей этого национального меньшинства, которое до недавнего времени вообще оставалось немым, ибо власти не признавали его существования.
Магнитофонная пленка, сохранившая бормотание Эрны Бракуп сразу же вслед за унканьем жерлянок, освежает воспоминания моего детства. Именно так говорили бабушка и дед, родители моего отца. Так говорили соседи, возчики пивных бочек, рабочие с верфи, брезенские рыбаки, работницы маргаринового завода «Амада», кухарки, а по субботам — базарные торговки, по вторникам — мусорщики, и, наконец, пусть немного смягчая диалект, так же говорили штудиенраты, почтовые служащие, полицейские чины, а по воскресеньям — пастор на проповеди.
«Настрадались мы да намучились не только от начальства…» — в речи Эрны Бракуп — а носителей местного диалекта осталось здесь в живых совсем немного — полувековая немота сохранила некоторые редкостные диковины, так сказать, перлы, которым угрожает полное забвение. Знает ли еще кто-нибудь, что такое вязель или, например, лядвинец? Она говорила на умирающем языке, поэтому, пишет Решке, «ей по праву досталось место в наблюдательном совете. Когда придет ее час, то вместе с этой почти девяностолетней старухой похоронят и сей архаический языковой пережиток; тем больше оснований записывать на магнитофон бормотание Эрны Бракуп…»
В моем распоряжении более полудюжины магнитофонных кассет. Однако прежде чем запустить первую, мне придется обратиться к высшим политическим сферам, что, как ни странно, поможет лучше понять старческое бормотание. Сразу же после начала переговоров об учреждении немецко-польского акционерного общества состоялся государственный визит западногерманского президента, постаравшегося своими хорошо продуманными выступлениями в Варшаве, а затем и в Гданьске исправить полудюжину оплошностей федерального канцлера и посодействовать таким образом добрососедским отношениям двух народов, у которых накопилось немало взаимных обид.
Эрна Бракуп находилась в толпе любопытствующих, когда высокий гость со своею свитой прошелся по Ланггассе, делая вид, будто внимательно слушает исторические пояснения, поглядывая умными глазами по сторонам и терпеливо снося как нечто неизбежное окружение фотографов и агентов охраны, а затем поднялся по лестнице к ратуше, приветливо и скромно помахал сверху собравшимся, после чего скрылся в здании, где ему предстояло осмотреть достопримечательности, часть которых сияла новой позолотой благодаря искусным рукам Пентковской. Эрна Бракуп осталась снаружи среди туристов и местных жителей, почувствовавших на себе взгляд президента.
Позднее она сказала Александру Решке, когда тот записывал ее на магнитофон: «Охота мне было с президентом поговорить. Вот уж радость-то была бы на старости лет. Дожить бы до того денечка, когда немецкое кладбище снова будет на старом месте. Сестрица моя младшенькая после войны в Германию подалась, живет, почитай, уже пятьдесят лет в Бад-Зееберге, на Йорг-Фукс-штрассе, дом четыре. Я бы сказала президенту: низкий, дескать, вам поклон, господин президент, за то, что с немецким кладбищем пособили и исполнилась заветная мечта Фризы, сестрицы моей. Я сама, хоть долго полькой считалась, а когда Господь призовет, желаю упокоиться на немецком кладбище, а не с поляками, которые всех нас перемешали, пока немцев тут совсем не осталось. Только больно уж толкучка была большая вокруг президента, разве ж к нему пробьешься…»
Александр с Александрой, как и Эрна Бракуп, стояли перед ратушной лестницей, обрамленной каменными фонарями. Когда президент помахал сверху, блеснув на солнце сединой, туристы дружно зааплодировали. Местные жители подивились его серебряному нимбу, но хлопать не стали. Решке тоже воздержался от аплодисментов, хотя понимал, что даже объявление о предстоящем государственном визите на высшем уровне сыграло самую положительную роль для проекта миротворческого кладбища. Все учредители, от Эрны Бракуп до вице-директора Национального банка, рассчитывали теперь на правительственную поддержку. Пентковская уверяла Ежи Врубеля, что ее Александр если уж не подстроил сам президентский визит, то по крайней мере сумел приурочить к нему переговоры.
Позднее, когда государственный визит был давно позади, Александра сказала Александру — ее голос на магнитофонной пленке заглушает ункающих жерлянок: «Добрый глаз у твоего президента. Ему не нужны темные очки, как нашему. И приехал он в удачное время. А то, боюсь, ничего бы у нас с кладбищем не вышло…»
Из-за множества новых дел Решке ушел в отставку из университета, который ему к тому же надоел. Вернувшись в Бохум, он сначала передал ассистентам свои семинары и спецкурс профориентации для студентов-искусствоведов, а затем вовсе отказался от преподавательской работы на следующее полугодие. На первом же заседании наблюдательный совет установил распорядителям твердые оклады, тем легче было Александру Решке распрощаться с университетом и университетскими коллегами.
Разумеется, те подтрунивали над Решке, однако его это ничуть не смущало; он даже посмеялся вместе с другими, когда знакомый филолог назвал его «профессором Гринайзеном», намекая на знаменитое похоронное бюро. За долгие годы изучения барочных надгробий на северных немецких кладбищах Решке собрал большую коллекцию гробовых гвоздей ручной ковки, которую он снабдил подробнейшим каталогом; это увлечение, казавшееся раньше причудой, теперь обрело свой смысл. Гвозди прямые и кривые, изъеденные ржавчиной, целые и без шляпки, граненые гробовые гвозди длиной с указательный палец, выкованные во времена раннего барокко или позднего «бидермайера», — все они, полученные от могильщиков и церковных служек, предвосхищали то нынешнее дело, которое так захватило Александра Решке. Он написал Пентковской: «Вот уж не думал, что сей побочный продукт моей диссертации приобретет для меня когда-нибудь столь важное значение…»
В своей холостяцкой квартире Решке устроил рабочий секретариат акционерного общества, предоставив бывшей университетской секретарше одну из комнат, где освободил от книг несколько стеллажей. Книги же вместе с коллекцией гвоздей переселились в большую прихожую.
Критически проверив свой гардероб, он купил себе черный суконный костюм, черные туфли, черные носки, серый галстук, черную итальянскую шляпу «берсалино», асфальтового цвета плащ итальянского же производства и в тон ему зонтик; все покупки подтверждены чеками. На вторую половину июня планировалось торжественное освящение нового миротворческого кладбища и соответственно — первые захоронения.
На сей раз Александр привез в подарок Александре фаянсовую мойку. Решке учитывал в организационной работе каждую мелочь, но не меньшую предусмотрительность обнаружила и Пентковская. Пока сам он и его секретарша, которая поначалу работала лишь до полудня, завязывали на будущее полезные контакты с консульским отделом польского посольства, Александра зарезервировала через польское туристическое бюро «Орбис» достаточное количество одиночных и двойных номеров в гостинице для тех, кто приедет на похороны.
Перевозку покойников взяла на себя западногерманская похоронная контора, нашедшая в Гданьске партнера и подписавшая с ним договор о сотрудничестве. Восточногерманское народное предприятие «Ритуальная мебель» выбыло из дела, поскольку выпускаемые там гробы годились бы разве что для кремаций, а их предполагалось осуществлять по последнему месту жительства покойного. Восстановить старый крематорий на Михаэлисовском шоссе, печи которого были демонтированы сравнительно недавно, пока не представлялось возможным.
Хорошо, что Решке не упускал в своих записях и бытовых подробностей: «Наконец-то старая мойка заменена. Александра очень довольна, что я, несмотря на великое множество хлопот, не позабыл ее просьбы».
И вот настал долгожданный день. Правда, оливский епископ, обещавший совершить богослужение, не сумел или не захотел приехать, поэтому миротворческое кладбище освятили священник Петровского собора отец Бироньский и доктор теологии, консисторский советник Карау; получился экуменический обряд, ибо в нем участвовали священнослужители католической и евангелической церквей, что вполне соответствовало не только смешанному составу наблюдательного совета, но и его решению не делить кладбище на части по различным вероисповеданиям, как это было на прежнем Сводном кладбище.
Открытие произошло без лишней шумихи. Газетчиков было мало, телевизионщики отсутствовали вовсе; впрочем, Решке частным образом заказал снять на видеокассету освящение кладбища и, — разумеется, с надлежащего расстояния, — первые захоронения. Эта получасовая кассета присовокуплена к присланным мне материалам. Я несколько раз просмотрел ее, поэтому, хотя она и не озвучена, мог бы считать, будто сам побывал на открытии и похоронах.
Освящение кладбища и оба первые захоронения, которые состоялись в правом дальнем углу территории, там, где аллея, ведущая к главному зданию Высшего технического училища, образует границу миротворческого кладбища, пришлись на первый день лета. Несмотря на прекрасную погоду, ясное небо с редкими облачками, любопытных, к счастью, собралось немного; поодаль робко жались в сторонке несколько старух и безработных. Во всяком случае, камера снимала лишь непосредственных участников похорон. Решке был, естественно, в новом черном костюме, шляпу он нес в руке, на которой висел и зонтик. Рядом с ним шла Александра в трауре; широкополая шляпа делала ее весьма элегантной. Иное дело маленькая, сморщенная Эрна Бракуп с ее горшкообразной шляпкой и галошами. Следом шагал Ежи Врубель. По бокам его лысины свисали длинные пряди, а на лице застыло свойственное художническим натурам вечное удивление. От неизменной ветровки, которую Решке не устает каждый раз упоминать в дневнике, Врубелю пришлось отказаться — она была бы для данного случая слишком неуместной.
В тот же самый день, именно 21 июня, в ином месте происходило важнейшее политическое событие, поэтому многие укрепились во мнении, что тандем Решке — Пентковская умело приспосабливает подобного рода ситуации к своим целям. Расчет, дескать, очевиден. Дневник утверждает обратное: никакого умысла не было, все получилось случайно, впрочем, можно говорить, конечно, и о счастливом совпадении. «В тот же день, даже в тот же час, когда мы освящали миротворческое кладбище, Бонн и Восточный Берлин, бундестаг и Народная палата приняли акты о международно-правовом признании западной границы Польши; это создает благоприятный климат для дальнейшего осуществления нашего замысла. Начиная с августа, можно будет, вероятно, отпевать покойных в бывшем ритуальном зале крематория. Кстати, белорусская община обставила это весьма строгое помещение с некоторой помпезностью, к которой тяготеет православная церковь…»
Собравшиеся стояли у открытых могил. Можно было подумать, что наша пара нарочно подобрала именно этих двух покойников — старика-лютеранина и старую католичку, которых похоронили друг за другом, так что две группы родственников и близких как бы оказались участницами обеих траурных церемоний. Да и погода не располагала к тому, чтобы спешить отсюда. Солнечные лучи, отфильтрованные раскидистыми кронами, мягко ложились на скорбные лица. На видеофильме все это очень хорошо получилось.
Хоронили Эгона Эггерта (82 года; прежний адрес: Данциг, Гроссе Кремергассе, 8; последнее место жительства: Беблинген) и Аугусту Кошник, урожденную Нассенхубен (91 год; прежний адрес: пригород Данцига; последнее место жительства: Пейне). Один гроб черного цвета, другой — орехового. Бироньский и служки в белом и фиолетовом, Карау — в брыжах и рясе.
По словам Решке, на похоронах присутствовали не только родственники или друзья покойных, но и наблюдатели от ряда отделений землячества, а его руководство прислало Иоганну Деттлафф. Они хотели убедиться, что нынешняя польская реальность позволяет организовать похороны на достойном уровне, а также взглянуть на расположение кладбища, узнать, каким будет уход за ним. Особый интерес проявлялся к парным могилам. Марта Эггерт, вдова Эгона Эггерта, смогла заручиться для себя местечком рядом с могилой мужа. Вполголоса задавались вопросы, на которые Ежи Врубель, чувствующий себя должностным лицом, давал обстоятельные ответы, стараясь выдерживать приличествующую моменту интонацию.
Даже потом, сидя над дневником, Решке не может избавиться от волнения, охватившего его на тех первых похоронах. При просмотре видеофильма мне почудилось, что у Пентковской во время обоих прощаний под широкими полями шляпы блеснули слезы. Молодой долговязый священник из Петровского собора в начале надгробной речи трогательно попросил извинения за свой «очень плохой немецкий». Немного затянулась проповедь консисторского советника Карау, который, пожалуй, чересчур часто и с излишним нажимом употреблял выражения «родимая земля» и «возвращение на родину». Приветствие от имени Союза данцигских беженцев по случаю торжественного открытия кладбища подготовила госпожа Деттлафф — если я при просмотре видеофильма угадал верно, то это была статная, со вкусом одетая дама в черном, — однако Решке уговорил ее произнести заготовленную речь в другой раз, когда возможные, пусть даже маленькие недоразумения будут менее неприятны.
Обе стороны проявили такт. Во всяком случае, пресса оценила первые похороны на миротворческом кладбище как вполне благопристойные и свободные от политических наслоений. Когда присутствующие подходили к ближайшим родственникам покойных, чтобы выразить соболезнование, видеокамера дала панораму парка, обвела перекрестье аллей, кольцевую дорожку, отдельные группы деревьев, вязы и каштаны, плакучие ивы и буки, а поскольку оператор был поляком, то вольно или невольно он проставил при этом свои акценты, захватив объективом обычных посетителей парка, женщин с малышами, пенсионеров, студентов с учебниками, играющих в карты, безработных, одинокого пьяницу, — и все они не обращали на траурную церемонию ни малейшего внимания. Затем в видеофильме появляется похожий на игрушку домик у входа в парк или на кладбище, а на желтой стене из клинкерного кирпича — латунная табличка с указанием по-немецки и по-польски будущего предназначения нынешнего парка: «Миротворческое кладбище» — «Cmentarz Pojednania».
Пожилым участникам похорон не понравилось, что молодежь, в том числе правнуки покойных, приехали на кладбище и вернулись оттуда в отель на велорикшах, хотя, по мнению Решке, «ничего неприличного не произошло; коляски были даже обвиты траурными лентами, как и такси, зато проезд стоил дешевле…»
То, что раньше называлось поминками, состоялось в отеле «Гевелиус». Обе группы разместились за длинными столами в ресторане. Судя по дневнику, госпожа Деттлафф произнесла все-таки свою речь, впрочем, вполне корректную. Видеосъемка, к сожалению, не производилась, а текст не сохранился. Но позднее, когда разговорилась Эрна Бракуп, Решке включил магнитофон. Слышу ее голос среди сопутствующих шумов и звуков: «Возьму-ка еще свининки. Коли послал Господь, грех отказываться… А похороны удались на славу. Все, конечно, по-другому, не так, как было на Сводном-то кладбище. А все одно — хорошо, так бы сама и легла в могилку. Эх, Йезус-Мария! Только я еще чуток погожу…»
Не знаю, о чем думал Решке, сопровождая записи о поминках в «Гевелиусе» сравнительным описанием погребальных обрядов у мексиканцев и китайцев, а также перечислением достоинств индуистского ритуала кремации. При этом он положительно отмечает «минимизацию останков» и даже рискует говорить об «экономии места». Неужели Решке опасался, что на миротворческом кладбище станет тесно и оно окажется переполненным? Или, возможно, он, выступающий против братских могил («Это не должно повториться!»), предвидел неизбежность тех или иных форм коллективных захоронений?
Побывав (в новом костюме, а при дожде — под зонтиком) еще на нескольких похоронах, чтобы вместе с Пентковской выразить соболезнование, а заодно приглядеть за порядком и, если понадобится, кое-что поправить, Решке уехал из Гданьска в Бохум, где ему предстояло обеспечить регулярное поступление покойных на миротворческое кладбище. В коротеньком, поспешном письмеце говорится: «Я поступил абсолютно правильно, дорогая, когда загодя обзавелся секретариатом. Госпожа фон Денквиц очень помогает мне в нашем деле. Она долгие годы работала моей секретаршей, ей я могу довериться целиком. Рад сообщить об отличном состоянии наших банковских счетов. Скоро наберется четвертый миллион. На особый счет для благотворительных пожертвований поступают наряду со скромными денежными переводами и весьма значительные суммы, в том числе из-за океана. Госпожа фон Денквиц работает теперь не по четыре часа, а полный день…»
Дела, таким образом, продвигались успешно, однако не обходилось без неприятностей; среди почты накопилось довольно много злых писем. Порою и газетчики соревновались в «ехидности и цинизме». Решке переживал это столь болезненно, что я задаюсь вопросом — не был ли мой прежний сосед по парте тем долговязым, прыщавым юнцом, который отличался ужасным самолюбием: малейшая критика доводила его до слез. Круглый отличник, он всем давал списывать, однако хотел, чтобы его везде и всегда хвалили, непременно хвалили. Когда же он нарисовал наш город разбомбленным и горящим, и этот, действительно не слишком удачный рисунок вызвал порицание учителей и насмешки товарищей, он разревелся. А ведь он оказался провидцем…
Во всяком случае, ярлык «неисправимого реваншиста» Решке счел попросту смехотворным. Обвиняли его и в стремлении «нажиться на покойниках». Одна из газетных статей под заголовком «Немецкий порядок кладбищу обеспечен!» дошла до упрека в том, что Решке, дескать, захотел «с помощью мертвецов отвоевать назад утраченные земли». На эту статью Решке, будучи завсегдатаем газетных колонок с читательскими письмами, ответил решительным протестом, а свою работу назвал «последней попыткой достичь взаимопонимания между народами».
Нет, вряд ли Решке был тем самым долговязым прыщавым мальчиком, который болезненно жаждал всеобщих похвал. К тому же, помнится, мой сосед по парте бойко командовал нашим гитлерюгендским отрядом и отличился не только в охоте за картофельным жуком, но и на сборе теплых вещей для солдат; в первую и вторую зиму русской кампании он организовал спецпункт, куда люди приносили шерстяные вещи, свитера и напульсники, кальсоны, даже шубы, не говоря уж о наушниках или лыжах. Все это упаковывалось и отсылалось на Восточный фронт. И все-таки злополучный рисунок был нарисован тем же самым мальчиком, командиром отряда Александром Решке; только он один обладал даром предвидения.
Впрочем, некоторое количество критических статей вполне уравновешивалось одобрительными откликами и письмами, исполненными признательности. Соотечественники писали даже из Америки и Австралии. Вот характерная цитата: «…меня очень порадовала последняя газетка нашего землячества, которая приходит сюда с большим опозданием. Она сообщила, что на Аллее Гинденбурга вновь открывается Сводное кладбище. Поздравляю! Для своих семидесяти пяти лет я еще бодр, до сих пор помогаю на стрижке овец, однако подумываю, не воспользоваться ли и мне замечательной возможностью, которую вы предоставляете. Не желаю лежать в чужой земле! Ни за что!» Со временем покойников, действительно, стали привозить и из-за океана.
На это письмо Решке ответил сам. Однако подавляющую часть корреспонденции он передоверил секретарше, которая за долгие годы совместной работы в совершенстве овладела его эпистолярным стилем. Иных интимностей между ними не было и вообще, ничего такого, что могло бы повредить Александре; признаться, и мне побочный сюжет был бы ни к чему.
Эрике фон Денквиц, чьей фотографии у меня нет, было всего пять лет, когда ее мать с тремя детьми, а также вместе с семьей управляющего имением отправилась на двух конских повозках, груженных поклажей, из Штума на запад. Участь беженцев оказалась ужасной, брат и сестра Эрики и жена управляющего умерли в дороге. Уцелела лишь одна конская повозка. Свои куклы маленькая Эрика потеряла.
Решке удивляется в своих записях тому, насколько глубоко засели в памяти его секретарши образы детства и подробности деревенской жизни в западной Пруссии: впрочем, госпожа фон Денквиц не захотела встать на компьютерный учет желающих получить место на данцигском кладбище. Причины ее сомнений понятны, и я не пытаюсь переубедить ее, пишет Решке, который продолжает «высоко ценить ее преданность, несмотря на отдельные разногласия». Спустя неделю Решке полностью передал секретариат в ее ведение. Что-что, а доверять мой одноклассник умел, иначе не сидел бы я сейчас над этими страницами.
Вернувшись в Гданьск, Александр первым делом успокоил свою Александру, встревоженную недавним введением единой валюты в обеих частях Германии. Ей чудилось, что западногерманская марка, подступая непосредственно к границе бедной Польши, несет с собою большую угрозу. «Ваши богачи купят нас с потрохами. И пикнуть не успеем!»
Решке же полагал, что немецкой марке хватит пока хлопот с экономикой ГДР. «Вряд ли останется много денег на Польшу. Ситуация, конечно, осложнилась, но наше акционерное общество практически не пострадает. Когда люди думают о смерти и откладывают на это деньги, то о рыночной конъюнктуре забывают. На собственных похоронах не экономят, поверь мне, дорогая!»
Этот разговор состоялся вскоре после возвращения Решке из Бохума, когда наша пара отправилась на выходные в Кашубию. Поехали на машине. Рапс уже отцвел, а погода оставалась хорошей. Кругом алели маки, желтели подсолнухи; крестьяне пахали на лошадях. С навозной кучи горланил петух, будто нарисованный в детской книжке.
Александра купила для пикника провизию, которую, устроившись у озерца под Цукау, они разложили на нарядной сине-голубой скатерке: чесночная колбаса, творог с репчатым и зеленым луком, банка маринованных огурчиков, редиска, крутые яйца (их было чересчур много), маринованные грибы, масло, хлеб и, разумеется, соль в солонке. Четыре бутылки пива охлаждались на поплескивающем мелководье. Среди камышей нашлась укромная песчаная проплешинка, как раз для двоих. Они примостились на складных стульчиках, он подвернул брючины.
Нет, лягушки не квакали. Где-то вдалеке застучал, но тут же затих мотор. Над водой сновали стрекозы, шмели, белые бабочки-капустницы… Вечерело. Время от времени из озерца выскакивала рыбина, плюхалась обратно. Сигаретный дым отгонял комаров. И вдруг звонко ункнула одна-единственная жерлянка. Это было похоже не столько на крик, сколько на удар колокола. «Мы уже было решили, что больше не услышим ее, но тут снова трижды пробил колокол: короткий звук, протяжный и еще раз протяжный. Он далеко разносился над водной гладью… Но откуда он долетел? Издали, нет ли, не знаю. А в остальном все было тихо, если не считать жаворонков, которые выводили свои трели где-то высоко-высоко над рано вызревшими полями, С северо-востока надвигались серые кучевые облака — непременная деталь кашубского лета. А унканье все не прекращалось…»
Среди этой тишины и этого неумолчного унканья Пентковская вдруг сказала: «Сейчас нам самое время остановиться!» Решке откликнулся не сразу. «Ты считаешь, нам не удастся довести наше дело до конца?» «Нет. Тут другое. Надо остановиться, потому что лучше уже не будет». — «Но ведь мы только начали…» — «Все равно». — «Даже третий ряд могил еще не заполнен…» — «Поверь, Александр, лучше не будет». — «Значит, пустить все на самотек? Ведь ничего уже не остановишь…» — «И все лишь потому, что идея пришла в голову именно нам?» — «Да, и если не осуществить ее до конца, то она окажется пустой фантазией…»
Александра положила конец этому спору, которому вторило унканье жерлянки, — магнитофонная пленка запечатлела ее звонкий смех.
Конечно же, они продолжили свою работу (теперь, черт меня побери, я и сам не хочу, чтобы они бросали ее), однако предложение Александры остановиться, пока все еще хорошо, стало поворотным моментом, своеобразной цензурой повествуемой истории. Позднее я нашел этому подтверждение у Решке: «Та жерлянка подсказывала Александре не дожидаться финала, а поставить точку самим, пока не поздно. Надо ли было прислушаться к этой подсказке?..»
К эпизоду с пикником остается добавить, что четыре бутылки пива так и не охладились в теплой озерной воде. «Жаль, мы не захватили купальных принадлежностей, хотя я советовал…» — пишет Решке, а лично я этому обстоятельству весьма рад, иначе мне пришлось бы описывать купание профессора с реставраторшей, вдовца со вдовой, бледную худобу Решке и дородность, дебелость Пентковской, Олека и Олю, пожилую пару.
Он в засученных брюках и она с поддернутым подолом зашли на мелководье. Решке разглядывал через воду собственные ступни, они расплывались, рябили, казались чужими и далекими. Пентковская, придерживая правой рукой подол, не выпускала из левой сигарету.
Решке стал приподнимать с песчаного дна плоские, почти не замоченные сверху валуны.
— Когда я был мальчишкой, тут водились раки, — сказал он, убедившись, что под камнями ничего нет.
— А когда мама с папой приехали сюда после войны, раков еще было много, — откликнулась Александра и добавила: — Что было, то сплыло.
— И уже не вернется, — согласился Александр.
На следующий день Решке вновь надел свой черный костюм. Предстояли трое похорон, два покойника были протестантами, один — католиком. Родственники приводили каждый раз своего священника, что вполне допускалось договором.
Хоронили весьма пожилых дам, собралось довольно много народу. Похороны по католическому обряду открывали четвертый ряд могил. На фотографиях, даты на которых Решке пометил собственноручно, даже не различишь, кто несет гробы, немцы или поляки. Кроме могильщиков, акционерным обществом были наняты к этому времени два садовника для ухода за парком. В домике из клинкерного кирпича с окошками на Большую аллею посадили человека присматривать за кладбищем; он же давал справки посетителям, а кроме того, хранил тележки, лопаты и прочий инвентарь.
Работа у смотрителя была пока что нехлопотной, поэтому это место поначалу очень хотела занять Эрна Бракуп. Врубелю с большим трудом удалось втолковать ей, что должность кладбищенской сторожихи несовместима с постом в наблюдательном совете солидного акционерного общества; старушка дала себя уговорить лишь после того, как Врубель указал ей на ее особую миссию в качестве полномочной представительницы национального меньшинства, а Решке предложил за магнитофонные записи приличную плату. «Нельзя, так нельзя. А я бы ладно в сторожке-то устроилась, славно. Хоть ночь, хоть темень — сиди себе, поглядывай. Уж я бы стерегла, чтобы озорники какие на кладбище не забрались или воры. Да чего уж там. А вообще-то я всегда мечтала быть при кладбище смотрительницей».
Не только Решке слушал ее по возможности со включенным магнитофоном. Ежи Врубель, который родился в Гродно, а после войны попал в разрушенный Данциг, вырос среди строительных лесов и теперь жадно интересовался историей воскресшего из руин города, не довольствуясь земельными книгами кадастрового ведомства. Школьные учителя и священники вдалбливали ему в голову, что Гданьск всегда был польским, истинно польским. Но позднее детская вера оказалась поколебленной, и Врубель захотел узнать больше, чем можно прочесть в документах. Ему было недостаточно многих связок бумаг на немецком языке о судебных тяжбах, где оспаривались права на землевладение и пользование дорогами, просроченные права на имущество и наследство, всех этих накопившихся веками кляуз; с тем большим азартом глотал он любопытные подробности, которые сообщала ему Эрна Бракуп, подробности, имевшие свой особый запах и вкус. «Хороши края далекие, а только жить на чужбине плохо», — эти слова Эрны Бракуп свидетельствовали об ее нерушимой укорененности в родной земле. Из кладовых памяти извлекала она то городские сплетни, то рассказы о политических катаклизмах. Она помнила, кто проживал на Большой аллее, то есть по соседству со Сводным кладбищем. «Директора там жили, богатеи. Прислугу держали и домоправителей. Здесь вот и были их дома — от Аллеи Гинденбурга до улицы Адольфа Гитлера, как ее тогда называли. Помню, ходила я на виллу доктора Цитрона, сердчишко у меня пошаливало. Хороший он был доктор, правда, хоть и еврей. Допекли его, врачевать запретили, поэтому пришлось ему в Швецию податься».
На любой вопрос Врубеля — где проходили трамвайные маршруты? кто читал проповеди в такой-то церкви и сколько лет? — у Эрны Бракуп всегда находился ответ. Жена рабочего с верфи, который погиб в 1942 году в Крыму, она отлично знала, кто с кем враждовал в те времена, когда Данциг имел статус вольного города: «Скажу по секрету, пан Врубель, здесь в Шихау и на вагонном заводе — жуть что творилось. Красные лупили коричневых, а те дубасили ротфронтовцев. Пока Адольф не пришел и всех не утихомирил…»
Врубель слушал и не мог наслушаться. Он сидел вместе с Решке и Пентковской, а Эрна Бракуп рассказывала бесконечные истории, вроде своей двоюродной бабки, которая «уж коли начнет старину вспоминать, обязательно до маршала Пилсудского доберется, как он в Вильно входил — глаза блестят, усы торчком, белый конь яблоки роняет». Александра рассмеялась: «Небылицы!» А Решке записал в дневнике: «Не стоит упиваться старыми историями, не надо ворошить прошлое. Недаром и Бракуп твердит: „Не бей палкой по луже, а то заляпаешься грязью!“ Да, с кладбищем забот хватает. Наша идея устремлена в будущее, даже если обещает человеку клочок родной земли лишь после смерти». Это замечание относилось к обычным захоронениям, однако уже в конце июля возникла необходимость заложить на миротворческом кладбище колумбарий, ибо участились заявки на кремацию. Чаще всего такие заявки, оговаривающие отказ от церковного обряда, поступали из различных мест Восточной Германии, практически уже прекратившей свое существование в качестве суверенного государства. Не называя себя атеистами, клиенты из Штральзунда, Нойбранденбурга или Бад-Доберана просили лишь о «скромных похоронах без священника и надгробных речей». Определенную роль играло тут и то обстоятельство, что перевозка урн обходилась дешевле, чем перевозка гробов — ведь новая валюта, которая обменивалась по курсу один к одному лишь в ограниченном объеме, хотя и не потеряла своего блеска, но оставалась весьма дефицитной.
Восстановить прежний крематорий на Михаэлисовском шоссе пока не представлялось возможным — там обосновался салон видеопроката, — поэтому первый колумбарий был заложен на самом кладбище, в его западной полосе, идущей параллельно Большой аллее.
На захоронение урн народу приезжало меньше, обычно только самые близкие родственники. Все чаще привозились урны с пеплом уже давно умерших покойников, что также объясняло малочисленность сопровождающих. Родственники исполняли волю покойного обрести последний приют на родине. Это «отложенное» исполнение принесло немецко-польскому акционерному обществу определенные неприятности; впрочем, не будем забегать вперед.
Пока все шло как по маслу. Правда, Решке, будучи, так сказать, эстетом по профессии, проявил известную требовательность к привозным урнам. По всем хранящимся в компьютере адресам он разослал циркулярное письмо, где ссылкой на «Правила внутреннего распорядка» запрещалось использование пластмассовых урн. Рекомендовались урны из обожженной глины.
Вслед за этим возник вопрос о том, какими должны быть надгробия, хотя по-настоящему актуальным он станет лишь тогда, когда земля на могилах осядет. Пентковская свела Решке с каменотесами, которые выполняли муниципальные заказы на реставрационные работы. После того, как реставрация фасадов была в основном закончена — последней улицей оказалась Бротбенкенгассе, — каменотесы жаловались на нехватку новых заказов. Получив беспроцентный кредит, утвержденный наблюдательным советом, после кратких, частично телефонных согласований, каменотесы открыли на территории бывшего крематория мастерскую по обслуживанию миротворческого кладбища.
Решке тщательно следил за тем, чтобы каждый памятник изготовлялся в строгом соответствии с «Правилами внутреннего распорядка», где имелся, например, следующий пункт: «…надгробие должно быть надежно установлено и скреплено дюбелем с цоколем или фундаментом. Не разрешаются фотографии, венки из искусственных цветов, таблички из стекла и эмали…» Среди прочих запретов имелся и запрет на использование искусственного камня.
Однако Решке не ограничился запретительными предписаниями; он рекомендовал каменотесам несколько образцов, копии которых есть в моем распоряжении. Эти образцы призваны возродить барочные традиции оформления надгробий. Решке предложил варианты старинных эмблем и орнаментов. Цитируя свою докторскую диссертацию, он рекомендовал для рельефов следующие библейские сюжеты: грехопадение, притчу о блудном сыне, чудесное воскресение Лазаря, положение Христа во гроб, воскрешение из мертвых… Но не забыты аканты и фруктовые гирлянды.
Труднее было с надписями. Многие из заказанных родственниками надписей приходилось отклонять, что зачастую требовало длительной переписки. Некоторые эпитафии, не попавшие на надгробия, я обнаружил в дневнике, например:
«Врагами отнятую пядь Ты смертью возвратил опять».Или: «В родимой немецкой земле покоится наш любимый отец и дедушка Адольф Целлькау». Или: «Вернулась из изгнания в родной немецкий край и почиет здесь в Боге Эльфрида Напф, урожденная Цайдлер». И, наконец, совсем кратко: «В земле немецкой лежит…»
Один спорный случай обсуждался на наблюдательном совете, где предприниматель Герхард Фильбранд и вице-директор Мариан Марчак высказали противоположные мнения по поводу эпитафии:
«А справедливость все ж победила. Ты не утратил родины милой».После недолгих препирательств, проявивших в равной мере как немецкую самоуверенность, так и польскую щепетильность, слово взяла Эрна Бракуп, которая сказала: «Уж не знаю, как насчет справедливости. По-моему, нету ее нигде. А вот родина завсегда остается родиной»; в результате был достигнут компромисс, и первую строку эпитафии сняли, вторую же сохранили.
Впоследствии Фильбранд принес письменное извинение за то, что в предварительном телефонном разговоре употребил слово «цензура», а Марчак попросил отнестись снисходительно к невольной горячности в дискуссии. Пентковская же лишь посмеялась: «К чему этот спор? Зачем вообще нужны эпитафии? Разве недостаточно просто имени и фамилии?»
Август не единожды подтвердил свою особую склонность к кризисам. В Гданьске, да и в других городах, туристов заметно поубавилось. Хотя сильно упавший курс злотого, по мнению Варшавы, стабилизировался, и злотый даже стал конвертируемой валютой, однако цены продолжали стремительно расти безо всякой оглядки на зарплаты и оклады. Где-то далеко — впрочем, в век телевидения все делается близким, — Ирак напал на Кувейт, начался так называемый кризис в Персидском заливе. Обострилась и без того сложная ситуация в Грузии, Литве и Югославии. Однако кризисы потрясали не только далекие страны, конфликт назревал и внутри немецко-польского акционерного общества.
Сразу же после его учреждения возник вопрос, стоит ли возводить ограду вокруг отведенной под кладбище парковой территории между Высшим техническим училищем и Поликлиникой; но обсуждение этого вопроса, не считавшегося первоочередным, неоднократно откладывалось. Когда же со свежих могил начали пропадать цветы и венки, появляясь затем, пускай без траурных лент, но во вполне пригодном виде, на лотках цветочников у Доминиканского рынка, когда, несмотря на компенсацию ущерба, жалобы пострадавших родственников стали раздаваться все чаще и звучать все требовательней, когда, наконец, была опрокинута, причем явно нарочно, одна из урн, оставшаяся, правда, целой, — тогда наблюдательный совет, сумев, несмотря на отсутствие с немецкой стороны Фильбранда и Карау, собрать кворум, после кратких дебатов принял по настоянию Иоганны Деттлафф, назвавшей обсуждаемые события «недопустимыми и возмутительными», решение обнести кладбище оградой, а также нанять для обходов ночного сторожа, разумеется, за счет акционерного общества.
Вот тут-то и сыграло свою роль то обстоятельство, что Пентковская и Решке, будучи распорядителями, не имели права голоса в наблюдательном совете. По их мнению, ограда вызвала бы недоброжелательное отношение к кладбищу и повредила бы ему, однако эти соображения не были приняты во внимание. Даже Врубель проголосовал за сооружение ограды.
К середине августа, когда кризис в Персидском заливе стал для ежедневных газет лишь одной из прочих тем, вдоль Грюнвальдской улицы встали столбы высотой в человеческий рост, на которых предполагалось крепить проволочную сетку. Пресса сразу же зашевелилась. Посыпались язвительные замечания насчет того, что, мол, «немцы любят заборы», а само кладбище «превращается в концлагерь»; их переплюнула одна газета, которая посоветовала сэкономить деньги на покупку дорогой проволочной сетки, а вместо нее завезти, да еще беспошлинно, бетонные блоки разобранной за ненадобностью берлинской стены, чтобы оградить ею немецкое кладбище: «Даешь берлинскую стену в Гданьске!»
Насмешек было, пожалуй, больше, чем серьезного осуждения. Не успели смонтировать ограду целиком, как было принято решение ее убрать; при этом с бетонными столбами и проволочной сеткой обращались бережно, ибо они вполне еще могли пригодиться на дачах, в курятниках и так далее. Демонтаж ограды превратился едва ли не в народное торжество.
«Зрелище, однако, было неприятным», — пишет Решке. Между тем на кладбище ежедневно происходило от шести до десяти похорон. Заполнился уже шестой ряд могил, требовалось расширить колумбарий. Кладбище, если можно так выразиться, процветало, когда разгорелись страсти вокруг ограды; не удивительно, что многие родственники покойных стали задавать вопросы о том, достаточно ли надежно обеспечены уход за могилами и их сохранность. Одно из семейств даже увезло, возмутившись, гроб с покойником обратно домой. Митинги протеста возле остатков ограды, скандирование лозунгов, нарушавшее кладбищенскую тишину, заставили наблюдательный совет пересмотреть свое решение; переговорив друг с другом по телефону, члены совета пришли к единодушному мнению, что политический скандал никому не нужен.
Остатки изгороди исчезли моментально. Зато против быстро растущей живой изгороди никто не возражал; Решке предложил можжевельник. Наблюдательный совет публично выразил свое сожаление о случившемся, журналисты же вскоре поутратили интерес к этому событию. Несмотря на ночных сторожей, отдельные кражи цветов и венков продолжались, зато на кладбище воцарился покой. Чего не скажешь о различных районах мира, будь то в арабской пустыне, где испытывались новейшие системы оружия, или в Советском Союзе, который разваливался на части, действительно отстоящие очень уж далеко друг от друга. Август перевыполнил свою программу, и лишь из Германии шли новости, претендовавшие на оптимизм, — здесь была загодя объявлена дата грядущего объединения.
Последний подарок из Бохума Решке вручил Пентковской седьмого августа; на этот день все кризисы были позабыты, ибо Александра отмечала свое шестидесятилетие. Подарил же Решке хромированный душевой смеситель с регулятором. Он пишет: «Ах, как Александра умеет радоваться. „Что за роскошь!“ — воскликнула она. Мы быстро смонтировали смеситель, и она настояла, чтобы мы немедленно обновили его; мы плескались под душем вместе, будто маленькие дети…»
Потом наша пара навестила рабочее место Александры, то есть астрономические часы. Работа выглядела законченной. Александра не без гордости указала Александру на знаки зодиака, особенно на Льва, который вместе с Раком и Стрельцом, Тельцом и Девой не лоснился, а лишь матово поблескивал новой позолотой. «Это мой знак. Потому я склонна к авантюрам и немножко легкомысленна. Лев властолюбив, но великодушен. Он любит путешествия и праздники в кругу друзей…»
Круг друзей, собравшихся отпраздновать юбилей, оказался совсем маленьким. В квартиру на Хундегассе пришла лишь подруга с работы да Ежи Врубель. К столу подавался копченый угорь, потом — филе из судака. Говорили о разном, но больше о кризисах, далеких и близких. А до застолья наша пара совершила прогулку по городу, смешиваясь с туристами и местными жителями на уличных базарах, которые обычно устраивались в день св. Доминика едва ли не на каждом углу. От этой прогулки сохранились вырезанные ножницами из черной бумаги профили Александры и Александра. Ее носик и его нос. Ее пухлый рот и его поджатая нижняя губа. Ее двойной и его не слишком волевой подбородок. Его высокий лоб. Его затылок, выдающийся назад почти так же сильно, как выдается вперед ее бюст. Парочка мирных обывателей, и под стать ей — второй подарок Решке ко дню рождения Александры: альбом с силуэтными вырезками в стиле «бидермайер».
Судя по имеющимся у меня материалам, в этот период они не затевали дальних путешествий. Они слишком долго прожили друг без друга, и теперь настала пора для близкого знакомства. Но не думаю, чтобы они раскрывали свою подноготную, чересчур откровенничали. Ни у вдовы, ни у вдовца не было особых причин жаловаться на покойного мужа и покойную жену; в бохумском доме и в квартире на Хундегассе хранились альбомные и настенные фотографии на память о вполне нормально и счастливо прожитых годах. Не было причин углубляться в прошлое, тем более, что события, слегка выпадавшие из размеренного течения жизни, оставляли зачастую лишь смутные и расплывчатые воспоминания. Да, в четырнадцать лет он был командиром гитлерюгендского отряда, а она в свои семнадцать лет была активисткой коммунистического союза молодежи, но подобные факты воспринимались ими как «врожденный порок» своего поколения, самокопание и самоедство были тут бесполезны, хотя Александру в иные минуты казалось, будто он перебарывает в себе гитлерюгендскую закалку, а Александра жалела, что не вышла из партии еще в 68 году или спустя два года, «когда милиция расстреливала рабочих».
С конца августа они все реже посещали похороны. Этим продолжали заниматься лишь Эрна Бракуп и Ежи Врубель, без которых не обходились ни одна панихида или поминки в «Гевелиусе». Дела миротворческого кладбища шли своим чередом. Пентковской оставалось доделать на астрономических часах совсем немного: позолотить солнце между Раком и Близнецами да луну между Весами и Скорпионом. Решке занялся организационными проблемами.
Бохумский компьютер регулярно общался с компьютером на Хундегассе, происходила взаимная подпитка информацией, и это обеспечивало бесперебойную, равномерную работу миротворческого кладбища. Польская и немецкая пресса успокоилась. На первый план вышли иные темы, например, каждодневное наращивание военных сил и техники в Персидском заливе, новости из Литвы, затяжное противостояние между неизменно печальным премьер-министром и обосновавшимся в Гданьске лидером рабочего движения, который, подобно многим людям маленького роста, мнил себя призванным для свершения великих дел. Впрочем, состояние банковских счетов акционерного общества свидетельствовало о том, что мировые катаклизмы не могут повредить немецко-польскому миротворческому эксперименту.
Несмотря на значительные расходы, денег у акционерного общества оказалось неожиданно много. Шестнадцать миллионов марок были вложены так удачно, что за счет больших ежемесячных процентов со вкладов транспортные расходы и расходы по содержанию кладбища почти не уменьшали основной капитал, не говоря уж о том, что свою долю оплаты вносили страховые и больничные кассы. Имелся также и особый фонд для добровольных пожертвований — из этих средств оплачивались похороны малоимущих. Им, как и представителям немецкого национального меньшинства в Гданьске, гарантировались тем самым места на миротворческом кладбище. АО МК (акционерное общество по созданию миротворческого кладбища) подтверждало свой благотворительный характер.
Все было бы хорошо, если бы не та треть основного капитала и проценты с нее, которые оставались зарезервированными для литовской части проекта; однако литовцы в своем стремлении к национальной независимости пренебрегли правами меньшинств. До сих пор не была выделена территория под кладбище для поляков, живших когда-то в Вильно, решение этого вопроса якобы временно откладывалось; первоочередным считалось создание национального государства без постороннего вмешательства. Возможно, позднее, когда русские уйдут, можно будет начать переговоры о кладбище, разумеется, на валютной основе, но пока…
В дневнике читаю: «Александру мучает столь отрицательное отношение к нашей идее. Чтобы хоть чем-то помочь, она посылает в Литву через „Общество друзей городов Вильно и Гродно“ польские учебники. Только этого мало, слишком мало, тут мы оба согласны. Однако Александра не дает своему настроению омрачить наше летнее счастье…»
Позднее были сделаны те фотографии, символизм которых Решке явно преувеличивал. Произошло это в начале сентября, на выходные. На обороте фотографий нет обычной пометки о том, где произведена съемка, поэтому остается лишь гадать. Во всяком случае ясно, что Пентковская и Решке воспользовались паромом, который ходит в дельте Вислы от Шивенхорста до Никельсвальде; одна из фотографий запечатлела Пентковскую в голубой блузке у поручней на этом автомобильном пароме. Значит, они поехали по шоссе, идущему вдоль узкоколейки на Штутхоф и Фрише Нерунг. Это тянущееся по опушкам прибрежных лесов шоссе похоже на туннель, перекрытый кронами деревьев. Мое предположение основывается на следующей дневниковой записи: «Проезжая по низине, видишь, что промышленные районы города разрослись к востоку, подобно раковой опухоли, и только река не пускает их дальше. „Это еще при Гереке началось! — сказала Александра. — Кругом воняет серой…“»
На четырех фотографиях — белесый асфальт дороги. На его фоне отчетливо выделяется силуэт расплющенной жабы. Это не одна и та же жаба. Их четыре, и каждую из них машины, наверняка, переехали не раз и не два. Вероятно, они перебирались через шоссе группой или парами. Но, возможно, они попали под автомобильные колеса за многие километры друг от друга, и лишь из-за соседства фотографий кажется, что жабы лежали рядом. Наверное, через дорогу перебегали не четыре жабы, а больше, только другим повезло, а этим нет. Расплющенные, превратившиеся в отпечаток, жабы все-таки остались узнаваемыми. Обычное, похожее летом на туннель шоссе, обсаженное липами и каштанами, стало для жаб гибельной ловушкой.
На фотографиях хорошо видны все четыре пальца передних лапок и перепончатых задних, различим даже недоразвитый пятый палец. Плоские головы, глазницы вдавлены. Отчетлив бородавчатый узор на спине. Высохшая шкурка — вся в складках. На двух фотографиях сбоку от телец — ссохшиеся внутренности.
Насколько я разбираюсь в сих тварях, а я, признаться, знаток неважнецкий, сфотографированы обыкновенные серые жабы, но Решке на обороте фотоснимков помечает: «Это была жерлянка». — «Эта жерлянка свое отункала». — «Раздавленная жерлянка». И: «Еще одна раздавленная жерлянка. Дурная примета».
Возможно, он прав. Краснобрюхие и желтобрюхие жерлянки меньше жаб, а поскольку указываются размеры расплющенных телец — пять, дважды по пять с половиной и шесть сантиметров, — то речь идет, действительно, о жерлянках, а не о жабах, которые достигают в длину пятнадцати сантиметров. Раздавили их в приречной зоне, стало быть, это низинные жерлянки. Если бы Решке осторожно отделил расплющенные тельца от асфальта и сфотографировал их в перевернутом виде, то я мог бы с чистой совестью подтвердить, что это были краснобрюхие жерлянки. Однако профессору показался достаточным вид со спинки. Настолько он уверен в себе.
Полагаю, Решке с Пентковской не доехали до Штутхофа,[46] до мемориала существовавшего там одноименного концлагеря. Видимо, Александра попросила повернуть назад. Она была безбожницей (даже сказала однажды: «Тут я остаюсь коммунисткой, хоть и вышла из партии».), однако и у нее имелись свои суеверия.
На сей счет Решке никаких протоколов не вел. Ни расходных записей, ни фотографий от этих неоднократных встреч не сохранилось. Лишь дневник выдает тайну, сберегаемую даже от Александры: начиная с сентября Решке несколько раз виделся с Четтерджи, а свою таинственность он мотивирует так: «Этот предприимчивый, повидавший мир бенгалец заражает меня все новыми надеждами, хотя порою у меня возникает весьма двойственное чувство. Из любой, самой тяжкой проблемы он ухитряется извлечь выгоду. Например, он радуется росту цен на нефть. Ведь из-за них дорожает бензин, а это больно бьет по бедным странам, особенно по Польше. Зато тем больше клиентов будет у его велорикш. Тут он прав. Я и сам ежедневно вижу доказательства тому, что его ставка на растущую дороговизну оправдывается. Теперь верткие велорикши, на которых уже давно не стесняются работать молодые поляки, снуют не только по старому городу, но и по Грюнвальдской; их частенько видишь в Сопоте и Оливе, причем возят они не одних лишь туристов. Инженеры-судостроители, муниципальные служащие, прелаты и даже милиционеры охотно пользуются этим недорогим транспортом, который доставляет их прямо к дому. Четтерджи говорит: „Велорикши экологичны и ни от чего не зависят. Да, они не зависят от добычи нефти, борьба за которую обострится еще больше. Мы гарантируем умеренные цены. Чем хуже вокруг, тем лучше для нас. Вы же знаете девиз: „Будущее за велорикшами!““ Я не возражал, да и крыть было нечем…»
Мой бывший одноклассник часто, видимо, вспоминал о той первой встрече в фахверковом домишке, где он познакомился с бенгальцем и распивал с ним дортмундское пиво. Представляю себе их беседы за стойкой бара. Решке, правоту которого подтвердила расплющенная жерлянка, предвещает катастрофы как расплату за экологическое грехопадение, произошедшее повсюду, от бразильских джунглей до буроугольных карьеров в Лаузице, а Четтерджи излагает планы спасения забитых автомобилями европейских столиц — Рима и Парижа. Единственная проблема, которая, дескать, его, Четтерджи, беспокоит, — это слишком долгие сроки поставки велоколясок голландскими предприятиями-изготовителями да постоянные осложнения на таможне.
Естественно, я обнаружил сообщения и о дальнейших операциях предприимчивого бенгальца, имеющего британский паспорт. «Четтерджи вложил деньги в бывшую верфь им. Ленина. Новые либеральные законы дают такую возможность. В двух средних по размеру сборочных цехах, которые пустуют с тех пор, как верфь потеряла заказы, он налаживает собственное производство. Лицензия одной роттердамской фирмы уже получена. Обеспечен будет не только польский рынок сбыта. Четтерджи собирается выпускать велоколяски на экспорт. Из прежнего коллектива отобрано двадцать восемь высококвалифицированных рабочих, с ними заключены контракты, а для переобучения приглашены два голландских специалиста. Они же помогут наладить серийное производство, которое вскоре будет запущено…»
Между двумя бутылками импортного пива в Решке заговорил профессор, который напомнил бенгальцу, что Гданьск на протяжении тех веков, пока он еще именовался Дантциком, поддерживал торговые связи с Голландией и Фландрией, а также приглашал к себе мастеров, например, архитектора Антония ван Оббергена из Мехелена, который по заказу магистрата построил в стиле позднего Ренессанса старую ратушу, большой цейхгауз на Волльвебергассе и доминиканские дома неподалеку от церкви св. Катарины, а Четтерджи, вероятно, рассказал, что до того, как Калькутту захватили англичане, на реке Хугли имелись голландские торговые поселения, а рикшу изобрел примерно в 1870 году францисканский миссионер-голландец; дело было в Японии, и слово «рикша» произошло от японского выражения «ин рики шав», что означает «бегун, тянущий повозку».
Какие-либо конкретные суммы в дневнике не указаны. Нет выписок из банковских счетов, которые могли бы оправдать рискованное самовольство. Дневник упоминает лишь «кое-какие перспективные операции». «Мистер Четтерджи умело рассеивает мой скептицизм и даже мгновенно превращает его в нечто радужное, эдакий розовый мираж. Ах, если бы мне удалось убедить Александру в том, что замыслы Четтерджи воистину гуманны. Мне бы очень хотелось свести их обоих поближе, ведь он является по существу нашим единомышленником. Для меня, во всяком случае, очевидна внутренняя взаимосвязь между нашим делом, хотя оно затеяно ради тех, кого уже нет в живых, и его будущим заводом. Мы остро чувствуем свой долг перед мертвыми, он же дает людям возможность выжить. Мы думаем о конце, он же видит пред собою начало. Если в высоких словах еще есть смысл, то только здесь, на нашем совместном поприще. Возвращение покойников на родину, ставшее на нашем кладбище повседневностью, и велорикша как средство передвижения, которым особенно охотно пользуются прибывшие на похороны молодые родственники, — вот лучшее подтверждение великим словам (не побоюсь повторить их): „Умри и возродись!..“»[47]
И все же Александра осталась в стороне. Даже самый смелый поворот сюжета не смог бы на эту пору подтолкнуть ее к Четтерджи. Она не только упорно отказывалась от поездок на мелодично позванивающих велорикшах, но и возмущается их владельцем, человеком для нее непонятным. Что-то в нем, дескать, не то. Что-то чужое. Не верит она ни ему, ни его словам. «И глаза у него вечно полузакрыты!» — говорила Александра. Решке записал ее реплику в адрес Четтерджи задолго до первых похорон: «Самозванный англичанин. Ничего, мы ему еще покажем, как показали поляки туркам под Веной…»
Что касается национальной принадлежности, то недоверчивость Александры оказалась оправданной. В одной из бесед за стойкой «рикшевладелец», как пренебрежительно называла Пентковская Субхаса Чандру Четтерджи, он признался, что является бенгальцем только по отцу. Его мать, не без смущения пояснил он, принадлежит к касте торговцев «марвари», которые пришли в Бенгалию с севера, из Раджастана, но вскоре взяли под свой контроль рынок недвижимости, потом скупили в Калькутте джутовые фабрики, за что чужаков невзлюбили. Но таковы уж марвари, деловая хватка у них в крови. Он, Четтерджи, пошел скорее в мать, а столь громкое имя дал ему отец, любитель поэзии, мечтавший о власти и славе. Однако самому Четтерджи вовсе не хотелось следовать примеру честолюбивого легендарного вождя Индии Субхаса Чандры, тем более, что кончил тот плохо; скорее уж он, любимый сын своей матери, чувствует в себе предпринимательский талант, свойственный всем марвари. «Поверьте, мистер Решке, чтобы иметь обеспеченное будущее, надо загодя вкладывать в него денежки…»
Все это, конечно, не обсуждалось в квартире на Хундегассе, где обосновался со своими шлепанцами Александр Решке. Впрочем, думаю, Александра о чем-то догадывалась. Однако те беседы в пивной принадлежали к редким исключениям; приглашений наша пара почти не принимала и жила весьма по-домоседски. Лишь на несколько минут позволялось телевизору заполнять гостиную сообщениями о кризисах и конфликтах. Александр и Александра охотно стряпали друг для друга — причем оба предпочитали итальянскую кухню, тут они были единодушны. Он выучил несколько польских слов. По очереди они забавлялись компьютером. Решке любил смотреть, как Пентковская грунтует на кухне рамы для картин, а потом покрывает их позолотой, пользуясь специальной подушечкой. Если же дело касалось эмблематики или разговор заходил о барочных надгробиях, скрытом смысле их символики, то Александра буквально глядела ему в рот. Иногда Олек и Оля слушали вместе магнитофон, именно то, что записывалось на субботних и воскресных прогулках у реки или у тростниковых зарослей кашубских озер, где хором и поодиночке ункали жерлянки.
5
На фотографиях они сняты идущими под руку или держась за руки. Так они и ходили на субботних и воскресных прогулках, одевшись по погоде и даже в тон друг другу. Прогулки прекратились, когда Решке уехал в Бохум. О том, что было дальше, свидетельствуют дневниковые записи, копии счетов, различные квитанции и письма, в которых теперь говорилось о любви лишь как бы между прочим. Что касается дел, то Решке пишет о «необходимости перераспределить средства» и «организовать систему банковских счетов». Ссылаясь на растущий курс акций ряда страховых компаний, он считает целесообразным без особой огласки создать «некоторые резервы». Впрочем, соображение о том, что «нынешний высокий уровень процентных ставок, обусловленный политической конъюнктурой, дает возможность выгодных капиталовложений», Решке не доверил письмам, а занес своим каллиграфическим почерком в дневник, из чего, по крайней мере, я могу сделать вывод: Решке умел обращаться с деньгами.
Да, Александр Решке всегда умел обращаться с деньгами; это можно подтвердить хотя бы примером из тех военных лет, когда нас, школьников, обязывали собирать картофельных жуков или, говоря тогдашним языком, мобилизовали на борьбу с американским вредителем — колорадским жуком. Сделав по-военному четкий доклад районному «бауернфюреру», Решке добился повышения премии на целых десять пфеннигов за каждую полную литровую банку колорадских жуков, то есть довел эту премию почти до одной рейхсмарки. Разницу он «без особой огласки» откладывал в качестве «резерва», и позднее на эти деньги наша «колонна» — а я, разумеется, тоже участвовал в операции «колорадский жук», — накупила себе к заключительному торжеству, состоявшемуся в амбарах поместья Кельпин, сладких пирогов, леденцов и солодового пива; у других «колонн» подобных яств не было.
Развивая те ранние навыки, профессор искусствоведения пустил в дело часть капиталов немецко-польского СП. Без согласования с наблюдательным советом он, полагаясь исключительно на собственное чутье, раздробил банковские счета, какие-то акции приобрел, потом какие-то вовремя и прибыльно продал, в результате чего образовались кое-какие финансовые «резервы», благодаря которым немецко-польское акционерное общество стало весьма разветвленным, а попросту говоря, довольно-таки запутанным «гешефтом». Впрочем, в самом бохумском секретариате царил строгий порядок, хотя, по признанию Решке: «Жить в квартире не очень-то удобно. Госпожа Денквиц взяла себе в помощь машинистку, а также человека, который будет вести усложнившийся бухгалтерский учет».
В конце сентября — начале октября Решке совершил продолжительную командировку. Дневник фиксирует важные деловые встречи во Франкфурте-на-Майне, в Дюссельдорфе и Вуппертале, пренебрегая немаловажными политическими событиями тех дней; лишь в письме, датированном четвертым октября, говорится: «Итак, объединение Германии закреплено документом. Для жителей Рура, которых я, признаться, изучил не слишком хорошо, это событие не имело особого значения, однако вызвало восторги, похожие на те, которые наблюдаешь порою на трибунах футбольного стадиона. Вероятно, ты права, дорогая Александра, мы, немцы, толком не умеем радоваться».
А затем речь вновь заходит о доверенных ему деньгах. С ними нужно обходиться бережно, но и разумно. Деньги должны работать, а не лежать мертвым капиталом. Поэтому он, дескать, собирается приумножать имеющиеся средства, излишне не афишируя тех способов, какими это будет делаться. «Пускай политика лезет себе вперед, на авансцену; нашим усопшим приличествует тишина, их покой не должен быть потревожен никакими перипетиями истории».
С этой мыслью, а также багажом иного рода — среди прочих вещей находился очередной подарок, очень красивый торшер — Решке вернулся в квартиру на Хундегассе. Но нашей паре никак не удавалось ограничить жизнь только собой и своей миротворческой идеей. Если в ноябре кладбищенские дела еще шли обычным чередом, то в декабре драматические события надвинулись и на Польшу. Премьер-министр, которого Пентковская сравнила однажды с известным испанским Рыцарем Печального Образа, проиграл двухэтапные выборы на пост главы государства, потерпев поражение уже на первом этапе и уступив поле дальнейшего сражения двум другим кандидатам, не скупившимся на предвыборные обещания. О победителе же Александра сказала: «Он был хорош во время рабочих забастовок. А теперь он решил стать маленьким Пилсудским. Посмеялась бы, да не до смеха…»
Едва ли не умиление вызывает у меня эта пара, воспарившая на крыльях своей идеи и потому оказавшаяся как бы в стороне от своих сограждан или даже над ними, что позволяло глядеть на происходящее то ли немного вчуже, то ли свысока. Из их ежевечерних бесед можно выбрать десяток примечательных суждений о немцах и поляках, например, такое: одним, богатым соседям, не хватило зрелости, чтобы повести себя после объединения, как подобает взрослой нации; другие, бедные соседи, всегда ощущали себя единой нацией, даже при отсутствии собственной государственности, однако им не хватило демократической зрелости, ибо прежде демократы имели лишь опыт политической оппозиции, поэтому теперь незрелость во взаимоотношениях соседей расцветет пышным цветом. «Плохо будет!» — резюмировал Решке. «Уже плохо!» — воскликнула Пентковская.
Оценка этих мрачных прогнозов не входит в число задач, поставленных передо мною моим бывшим одноклассником, да, пожалуй, и невозможно повысить отметки в этом двойном аттестате незрелости; к тому же по нынешним временам скептики чаще всего оказываются правы; с другой стороны, подобный пессимизм отчасти опровергается примером хотя бы нашей немецко-польской пары, которая проявила достаточную зрелость при решении насущных проблем, связанных с зимовкой в квартире Пентковской. Хозяйка снисходительно относилась к появлявшимся иногда у профессора менторским интонациям, не говоря «вечно ты со своими поучениями…», а он терпеливо сносил ее ненависть к русским, объясняя это чувство теми или иными причинами — в конце концов, он даже нашел оправдательную формулу: дескать, такая ненависть есть не что иное, как разочаровавшаяся любовь. Возможно, именно международные кризисы, заполнявшие потоками жутких теленовостей каждую квартиру, настраивали нашу пару на примиренческий лад, во всяком случае Пентковскую не раздражали профессорские шлепанцы, а Решке даже не пытался навести порядок в ее библиотеке. Более того, она любила его вместе со шлепанцами, свалянными из верблюжьей шерсти, Александру же была мила Александра вместе с неразберихой на покосившихся книжных полках. Она не собиралась отучать его шаркать ногами, он не покушался на ее дурную привычку смолить сигареты одну за другой. Полька и немец! Ах, какая бы получилась из них книжка с картинками — слишком чудесными, чтобы быть похожими на правду.
Гости наведывались к ним редко. В дневнике упоминается лишь настоятель Петровского собора с его неизменной темой: как поправить своды в центральном нефе до сих пор не восстановленного после войны храма. Дважды заходили Эрна Бракуп и Ежи Врубель. В день св. Мартина Александра продемонстрировала свои кулинарные способности, приготовив традиционного гуся, фаршированного яблоками и полынью. Магнитофонная запись, датированная серединой ноября, сохранила голос Эрны Бракуп: «Давненько я гуся-то с яблоками не едала. Вот когда тут вольный город был…» Так Врубель узнал цены в гульденах на тогдашних кашубских гусей и услышал имена всех, кто сидел за свадебным столом у младшей сестры Эрны Бракуп, когда та, Фрида Формелла, осенью 1932 года выходила замуж за Отто Прилла, мастера с маргаринового завода «Амада».
Год потихоньку завершался. Осень никак не хотела кончаться, зима обещала быть мягкой, а, значит, если земля промерзнет не глубже, чем на штык лопаты, кладбище будет разрастаться как бы само собой: ряд за рядом могил, один участок колумбария за другим. Тут можно было бы ограничиться кратким замечанием: ничего, мол, кроме обычных похорон, не происходило, если бы не дневниковая запись: «На кладбище все нормально. Однако 5 ноября на заседании наблюдательного совета разгорелась дискуссия. С тех пор чувствуется напряженность…»
Уже День поминовения, который Александр и Александра намеревались скромно отметить на Хагельсбергском кладбище, получился крайне суматошным. «Приезжих оказалось гораздо больше, чем ожидалось; многих не отпугнула даже очень дальняя дорога. Номеров в гостиницах не хватало, на наше миротворческое кладбище хлынула буквально толпа посетителей. Госпожа Денквиц загодя прислала нам предупредительные факсы и уведомила по телефону, но такого наплыва никто не предполагал… Посыпались жалобы. Скудный выбор цветов на Доминиканском рынке не мог, естественно, не вызвать нареканий. Пришлось отделываться заверениями, что в следующий раз все будет учтено, и выслушивать упреки, вроде: „Типичная польская безалаберность!“ Лишь под вечер, незадолго до сумерек, мы с Александрой сумели выкроить часок, чтобы съездить на могилу ее родителей. Врубель вызвался проводить нас. Он, изучивший все ликвидированные кладбища между Оливой и Орой, позднее отвел нас на находившееся когда-то по соседству гарнизонное кладбище. Здесь обнаружились подлинные раритеты, которые Ежи показывал нам со смущением и гордостью первооткрывателя. Кое-что сохранилось тут с давних времен, например, заросший бурьяном и репейником крест из ракушечника, сработанный отменным мастером; надпись на кресте сделана в память французских военнопленных, которые умерли тут в 1870-71 годах. Окончания креста имели форму трилистника. Поодаль, также среди бурьяна, Ежи продемонстрировал нам известняковую стелу, а перед нею — заржавевший корабельный якорь. Это был датированный 1914 годом памятник матросам с крейсера „СМС Магдебург“ и матросу с торпедной лодки номер 26. Наш друг приберег для нас и иные сюрпризы — например, вмонтированную в стену мемориальную плиту из известнякового туфа: на плите рельеф с дубовыми ветками и абрисом полицейского шлема времен вольного города, под ними потертая и побитая надпись: „В память наших усопших!“ Александру удивила дюжина черных полированных надгробий из гранита, на которых вместе с полумесяцем и звездой были высечены имена полонизированных татар, а также даты рождения и смерти. Все они умерли до 1957 года. „Почему они очутились здесь, на военном кладбище?“ — спросила Александра. Но даже Врубель, у которого, кстати, проскальзывают порою довольно-таки шовинистические нотки, как и у Александры, не знал, что ответить; он, стоя в своей неизменной ветровке, долго молчал, но, в конце концов, смущенно пробормотал: татарские могилы являются, видимо, „самовольными захоронениями“. Неподалеку, на детских могилах возвышались деревянные кресты с обозначенным годом „1946“ той страшной эпидемии; этот год мы видели еще в прошлый День поминовения рядом с немецкими и польскими именами. Я сказал: „Помнишь, Оля?…“ — „Еще бы…“ — „Я держал авоську с грибами…“ — „А у папиной и маминой могилы нам пришла хорошая мысль…“ Вот так мы и отметили День поминовения. Прошлое настигло нас. Я тщетно подыскивал формулировку, которая вместила бы в себя все произошедшее с нами. Вдруг Ежи и Александра, ужаснувшись, словно остолбенели — у трухлявого забора, за которым начинались садово-огородные участки, виднелась братская могила русских солдат времен первой мировой войны, измалеванная краской. Смертельная летопись истории и такое кощунство! Сколько же мертвецов погребено в чужой земле?! Разве этого недостаточно, чтобы побудить к примирению?! А листва со старых и молодых деревьев опадала и опадала. Летящий лист. До чего же все-таки прочно связана эмблематика смерти с природой! Внезапно я увидел себя и Александру ищущими свои могилы в чужой земле… Когда совсем стемнело и Врубель повез нас назад, я предложил привести здесь все в порядок, разумеется, за счет акционерного общества. Ежи пообещал поставить этот вопрос на повестку дня следующего заседания наблюдательного совета. Александра же рассмеялась, непонятно почему…»
Поначалу заседание проходило спокойно — вице-директор Национального банка сообщил, что аренда уплачена в установленные сроки, — однако затем немецкая сторона вызвала дискуссию по принципиальному вопросу, причиной которой послужило вроде бы простое изложение некоторых соображений. Дескать, приезжающие на похороны сверстники покойных вновь и вновь высказывают пожелание провести остаток дней если не в непосредственной близости от миротворческого кладбища, то хотя бы в его окрестностях, среди столь любезных сердцу родных пейзажей. Поэтому Фильбранд внес предложение о строительстве нескольких комфортабельных приютов для престарелых, желательно на берегу моря, среди кашубских дюн и сосен; предложение было поддержано Иоганной Деттлафф.
Если госпожа Деттлафф взывала скорее к эмоциям, то Фильбранд прибег к аргументам практического свойства. «Наши пожилые соотечественники готовы поселиться в местных профсоюзных домах отдыха, естественно, после их основательного ремонта, тем более что эти дома сейчас пустуют, а некоторым и вовсе грозит банкротство». Затем Фильбранд предложил уже сейчас «подумать о будущем», то есть запланировать новостройки. Мол, интерес к приютам, которые находились бы в родных краях, заметно вырос. Вполне очевидна готовность (можно даже сказать — решимость) родственников исполнить эту волю своих родителей, бабушек и дедушек или даже прабабушек и прадедушек. Деньги тут не проблема. Ряд страховых компаний намереваются участвовать в финансировании этого проекта. По предварительным оценкам, приютами захотят воспользоваться не менее двух-трех тысяч человек. Понадобится много сиделок, обслуживающего персонала. Значит, возникнут новые рабочие места. Будут обеспечены заказами мелкие мастерские, что благотворно повлияет на развитие среднего сословия. «Более всего Польше недостает сейчас именно здорового среднего сословия!» — воскликнул Фильбранд. Если же желание пожилых людей вызывает какое-то подозрение или даже прозвучавшее, например, в реплике его преподобия господина Бироньского опасение, что новый проект может повлечь за собою неконтролируемый поток возвращенцев, а потому, дескать, нужны какие-то рамки, то вся программа, уже получившая рабочее название «На склоне лет — в родном краю», вполне могла бы быть осуществлена строго в рамках положения о немецко-польском миротворческом кладбище — ведь речь идет, по существу, о создании домов, куда люди приедут умирать, о своего рода моргах, хотя, разумеется, в проспекте предлагаемого проекта таких слов не будет. Там будет говориться просто о приютах, о приютах для престарелых.
Госпожа Деттлафф с чувством зачитала несколько выдержек из писем. Консисторский советник господин Карау напомнил, что старость недаром сравнивают с возвратом к детству, с возвращением к родным истокам. Отец Бироньский неожиданно вновь заговорил о своем разрушенном и после войны до сих пор не восстановленном Петровском соборе. «Прошу не отвлекаться от темы!» — подал голос председательствующий, господин Марчак. Врубель отреагировал на изложенный проект перечислением всех профсоюзных домов отдыха на берегу залива, в котором, кстати, купаться все равно запрещено, а также на полуострове Гела, где в Ястарнии, называвшейся прежде Гайстернест, есть весьма подходящий дом отдыха «Фрегат». Кроме того, он вызвался показать членам совета несколько любопытных мест по Пелонкенскому проезду, скажем, похожую на замок летнюю усадьбу семейства Шопенгауэров или же господский дом Пелонкенов, который некогда уже служил приютом для престарелых. Будто заправский маклер, Врубель расхваливал большой дом со множеством комнат, с флигелями, описал портал с колоннадой, обсаженную ясенями кольцевую аллею во внутреннем дворе и, наконец, пруд с карпами у опушки Оливовского леса.
Все произошло так, как того и следовало ожидать. Национальный банк в лице своего вице-директора выразил заинтересованность. Польская сторона поначалу одобрила, а затем и утвердила внесенное предложение. В учредительный договор внесли дополнение, из которого явствовало, что немецкая сторона на финансирование не поскупится.
Позднее состоялись осмотры. Одни варианты отвергались, другие принимались, как, например, дом Пелонкенов с его флигелями и прудом, хотя и здание, и территория после длительного расположения там воинской части пришли в упадок.
Александр и Александра участвовали в этих осмотрах. Решке повсюду видел запустение, да ему и хотелось видеть только запустение, поэтому именно оно потом отразилось в дневниковых записях. «Жутко видеть троллейбус с выпотрошенными внутренностями между господским домом и хозяйственными постройками. Единственное, что здесь функционирует, — это солнечные часы. Еще абсурднее идея устроить приют в усадьбе Шопенгауэров. Похоже, летняя резиденция отца должна задним числом оправдать философию сына. А о современных домах и говорить нечего. По словам Александры, их построили при Гомулке. Впрочем, они развалились, едва их сдали в эксплуатацию. Лучше бы Врубель, допущенный к земельному кадастру и черпающий оттуда свою информацию, держал ее при себе. Тошно смотреть, как Фильбранд ко всему примеривается — тут по штукатурке постучит, там половицу проверит, не сгнила ли. А Бироньский помалкивает, потому что Карау обещал выделить деньги на ремонт церкви с ее „бесспорными элементами поздней готики…“»
Еще до конца года были заключены первые арендные соглашения, чему Решке вряд ли порадовался, ибо ему для авансирования этих сделок пришлось изрядно опустошить несколько банковских счетов, в том числе «резервных». Остальные средства предоставили частные страховые компании и благотворительные общества. Денквиц взяла в бохумский штат еще одного человека.
Вскоре в полудюжине домов отдыха — некоторые из них имели вид на море — начался ремонт. На Пелонкенском проезде, который теперь называется улицей Полянки, удалось арендовать несколько вилл, а также упомянутую «летнюю резиденцию», после чего там сразу же приступили к их переоборудованию. Никаких осложнений с прежними арендаторами не возникло, они получили щедрое вознаграждение и легко подыскали себе новое жилье.
Все это было оформлено решением совета при одном воздержавшемся — так была расценена реплика Эрны Бракуп: «Не стала бы я остаток лет проводить в родных-то краях, а пожила бы лучше годок-другой на том острове, что немцы Махоркой зовут».
Решение совета не вызвало особого протеста у нашей пары. Насколько я могу судить, Александр и Александра остались весьма довольны тем, что предложение Ежи Врубеля по бывшему гарнизонному кладбищу было принято единогласно — достаточное количество валюты, немецких марок, поможет навести там порядок.
Возможно, они вправду считали, что приюты для престарелых — неплохая затея, или даже что они удачно дополнят первоначальный замысел миротворческого кладбища. Во всяком случае «морги» не служили темой для вечерних бесед в квартире на Огарной. Оба придерживались мнения, что досуг принадлежит только им двоим. Тому, кто обрел друг друга так поздно, жаль времени. Слишком многое нужно наверстывать. Отсюда и общие планы. Решке записал: «У Александры редко возникают желания, которые касались бы только ее одной. Ей все хочется делать вместе, все делить на двоих…»
Однако вскоре Пентковская изъявила-таки желание, которое могло быть лишь ее собственной мечтой:
— Хочу проехаться по всему итальянскому сапогу. И, если получится, повидать Неаполь.
— Почему именно Неаполь?
— Есть такая поговорка…
— Тогда уж непременно надо посмотреть Умбрию, пройтись по следам этрусков.
— Но потом — Неаполь!
На покосившихся книжных полках, среди морских лоций или под стопкой детективных романов у Александры наверняка нашелся атлас; представляю себе, как оба уселись над ним, разглядывая итальянский сапог.
— Ассизи — обязательно! Орвието — тоже! И не забыть Флоренцию!
Ей хотелось поехать в Италию вместе, ведь он столько о ней знает и не раз все там видел.
— Будешь мне все показывать.
Такими я их и вижу — счастливыми. И они мне нравятся. После свиного жаркого с панированной капустой они дружно, как полагается образцовым хозяевам, вымыли в кухне посуду. Завешанная тряпицей зеркальная оправа ждет позолоты. Вновь бьют электронные куранты на ратуше. В эту пору хорошо спокойно выкурить сигаретку. Александра теперь пользуется мундштуком. Обрел свое место красивый торшер. За руки они не держатся, но сидят на тахте рядышком, оба в очках. Атлас, унаследованный от офицера торгового флота, предлагает множество вариантов.
— Вот увижу Неаполь, можно и помирать.
Сказала она и рассмеялась.
Была ли действительная необходимость в том, чтобы наша пара предъявила себя детям? По моим представлениям, мой рассказ вполне мог бы ограничиться историей рождения одной замечательной идеи и ее скверного осуществления.
Стоило ли вообще предпринимать это путешествие? По-моему, хотя, разумеется, мое мнение в счет не идет — в таком возрасте официально представлять партнера своим родственникам уже необязательно. Возникает неловкость, получается что-то вроде просьбы о снисхождении.
Разве снятые автоспуском фотографии нашей пары — например, на пароме через Вислу или у кромки морского прибоя — не делали достаточно явственной их позднюю связь? А уж если они все-таки решили навестить все семьи своих детей, то следовало ли это делать именно в праздники?
Сочельник они провели в Бохуме. Александр подарил Александре духи с тонким запахом, она ему — пару модных галстуков. К полудню первого рождественского дня они приехали на машине в Бремен. На второй день праздников они уже очутились в Геттингене, отель «Гебхард», где у них был заказан номер на двоих.
Еще через сутки они приехали в Висбаден. Тридцатого декабря на очереди оказался Лимбург, где они решили отпраздновать Новый год и осмотреть старый город. Ничего из этого не вышло. Александра увидела лишь собор, да и то с шоссейного моста — где-то далеко в котловине. Новый год они отмечали вдвоем в бохумской квартире, которая одновременно являлась секретариатом, оба измученные и подавленные, еще обиженные, однако довольные по крайней мере тем, что все мытарства уже позади. «Хорошо, что Александра сообразила заранее поставить в вазу еловые ветки со свечками».
Все четыре визита вылились у Решке в сплошные дневниковые стенания. Ни единой мажорной ноты. Видно, плохо было обоим, хотя не всегда вместе: то хуже было одному, то другому. Нельзя сказать, что сын Александры Витольд прямо обидел или оскорбил спутника своей матери; дочери Александра — София, Доротея и Маргарета — также не отнеслись к спутнице отца с издевкой, пренебрежением или, допустим, непочтением; нет, как пару их восприняли совершенно равнодушно. Интерес к немецко-польскому кладбищу, пишет Решке, проявили лишь зятья: один иронически, другой снисходительно, третий даже принялся давать циничные советы. На угощение жалоб нет. Рождественские подарки отцу и матери забыты не были.
О первом визите — в Бремен — говорится: «Александру задело то, что Витольд вообще отказался поговорить с нами о миротворческом кладбище. Его слова „Это ваши дела. Меня это не колышет“ свидетельствуют по крайней мере о том, что он вполне овладел немецким молодежным жаргоном. На мой вопрос о его занятиях на философском факультете он объяснил: „Сейчас Блоха долбаем. Ну, дерьмо его, насчет утопии. Так раздолбаем, что мокрого места не останется“. Вот так, в таких тонах проходила наша беседа за ужином, который состоялся, признаться, в вызывающе шикарном ресторане нашего отеля. Витольд сказал, что простая „обжираловка“ ему больше по душе.
Еще за супом он обругал мать, причем по-польски. Меня для него словно не существовало. Он вскакивал с места, опять садился. Кое-кто из посетителей оборачивался. Вначале Александра попыталась возражать, потом делалась все молчаливей и молчаливей. Позднее, когда Витольд, не дождавшись десерта, ушел, она расплакалась, но так и не призналась, чем он обидел ее. Она лишь сказала, уже снова смеясь: „Зато у него появилась девушка. Наконец-то“. Запакованный в полиэтиленовый пакет рождественский подарок Витольда — дорогая барсучья кисть для позолоты — остался лежать рядом с тарелкой матери».
О пребывании в Геттингене Решке пишет: «Вполне естественно вели себя лишь дети Софии; сначала они стеснялись, потом оттаяли, стали ласковы не только по отношению ко мне, но и к Александре. Моя младшая дочь, педагог, подвизающаяся в сфере социального обеспечения, говорила только о своей работе, точнее, жаловалась на плохие условия, на коллег, на трудности, на маленькую зарплату, тем более, что имела она только полставки. Когда я спросил, не хочет ли она взглянуть на фотографии миротворческого кладбища, которые я собираю для текущего архива, она отмахнулась: „Меня праздники замотали, без фотографий тошно“. Ее муж, книготорговец, сетовал на чересчур большой приток „восточников“, натужно иронизировал над тем, как они хватают справочную литературу по менеджменту или трудовому праву, а о кладбище произнес лишь одну-единственную фразу: „Заманчивая перспектива!“ И ухмыльнулся. Прожженный циник, раньше он был леваком, а теперь надо всеми посмеивается, например, над сторонниками мира и их протестом против войны в Персидском заливе. Хозяева дома повели с недавних пор решительную борьбу с никотином, поэтому Александре, когда ей хотелось курить, приходилось выходить на балкон. Он подарил мне книжицу о половой потенции в пожилом возрасте — смешно, очень смешно! София подарила мне шлепанцы, которые она называет „шлепками“, ужас. Только их дети порадовали меня».
О визите в Висбаден читаю: «Боже, что стало с Доротеей. Профессию детского врача она забросила. Кругом сладости, она заметно толстеет, становится угрюмой, замкнутой; ей интересен разговор только о собственных недугах — одышке, чесотке и т. д.»
Доротея ни разу не обратилась к Александре. Ее муж, дослужившийся до должности начальника отдела в Министерстве экологии, хотя и поддержал беседу о нашей затее, о трудностях ее реализации, однако говорил при этом, как обычно, свысока: «Поляки отдали бы все и дешевле. Аренда — чепуха. Теперь, когда граница признана, нужно требовать передачи земли в полную собственность, по крайней мере, территорию кладбища. Это вполне оправдано; в конце концов, когда-то все там принадлежало нам». Александра смолчала, а я заметил: «Не забывайте, что и мы сами, и наши покойники — там всего лишь гости». Потом мы перешли к таким темам, как гессенские мусорные свалки, становящиеся все более мелкими межпартийные склоки и предстоящие выборы в ландтаг. Подарили мне альбом, который у меня уже есть, — Дрост, «Мариинский собор», а Александре — набор кухонных ножей, купленный в какой-нибудь дешевой лавчонке «Товары стран „третьего мира“. Получив эти подарки, мы промолчали».
И наконец — последний этап на этом крестном пути, который мой прежний одноклассник счел необходимым пройти шаг за шагом, так же педантично, как он исследовал напольные мемориальные плиты. Поразительна выдержка Пентковской; она крепилась до самого Лимбурга, вынесла троих дочерей Решке и их сожителей, а ведь могла бы все бросить еще в Геттингене. Сам Решке отнесся к ее выдержке так: «Любимая! Сколько тебе пришлось вытерпеть! Эта холодность! Это бездушие! — Первоначально мы собирались встретить Новый год с Маргаретой и ее Фредом. Так захотела Александра. Когда же моя дочь вдруг высказала-таки свое отношение к нашему кладбищу, то это оказалось слишком даже для Александры. Грета, как я называл ее раньше, ткнула пальцем в разложенные фотографии, прищелкнула языком. „Вы застолбили на рынке свой участок, спрос обеспечен! — воскликнула она. — А сколько вы на этом заработаете?“ И тут же добавила: „Да, мозги у вас в порядке“. Фред, который считает себя артистом, а на самом деле живет на содержании у моей дурехи Греты, подхватил: „Точно! Тут главное — сообразить. И греби деньги лопатой. Надо еще разрешить перезахоронение тех, кто уже раньше был похоронен здесь, тогда вам покойников до конца века хватит!“ Мне захотелось влепить ему пощечину. Александра сказала потом: было бы много чести. Мы сразу же собрались и уехали. К приготовленным рождественским подаркам: коробка конфет для Александры, а для меня — симпатичный очешник — „югендстиль“ — мы даже не притронулись. Маргарета, эдакая типичная училка, напоследок вдруг грубо сказала: „Не любите критики? Оскорбленных из себя строите? Да по мне, хоть сами ложитесь в могилу на своем кладбище. Миротворческое кладбище! От смеху лопнуть можно. Ведь на мертвецах наживаетесь“.»
Позднее Решке написал: «Не знаю, откуда у Александры берутся душевные силы, чтобы сохранять в таких случаях спокойствие и быстро приходить в отличное настроение. Когда мы, наконец, вернулись домой и, чокнувшись, пожелали друг другу счастья в Новом году, она попросила меня включить хорошую музыку. Пока я искал что-либо подходящее, Александра зажгла на еловых ветках две свечки и сказала: „А я понимаю твоих дочерей. Отчасти и Витольда. Они — совсем другое поколение. Им не довелось пережить того, что пережили мы, когда тебя выгоняют из дома на улицу в холод. Все у них есть, и ничего-то они не знают“. Мне остается лишь гадать, какую музыку подобрал Решке. Наверняка что-нибудь классическое. В дневнике о музыке почти ничего не говорится. Не упоминается ни один из композиторов, даже Шопен. Впрочем, и о праздниках больше ничего не сказано, если не считать замечание о том, что погода была теплой, слишком теплой: „Опять Рождество без снега…“»
Когда по истечении первой январской недели наша пара вернулась в трехкомнатную квартиру на Хундегассе, зима все же взяла свое. Похолодало, выпал снег и не стаял, а остался лежать. Решке замечает: «Природа как бы извиняется за долгое бесснежье. На крышах старых домов — белые шапки. Ах, до чего я соскучился по скрипу снега, по отпечаткам подошв на снегу. Александре пришлось отказаться от своих туфелек на шпильках…»
Эта дневниковая запись достаточно оправдывает покупку «ужасно дорогих сапожек на меху» для Пентковской, себе Решке также купил теплую обувь. Снарядившись таким образом, они совершали прогулки к Леегским воротам или отправлялись вместе с Врубелем на старое Сальваторское кладбище на берегу Радауны, которое хотя и было ликвидировано, тем не менее его территория в полтора гектара вполне угадывалась даже под сугробами; вероятно, порою, когда занятость мешала Врубелю присоединиться к ним, они ходили вдвоем по левой стороне Большой аллеи к миротворческому кладбищу. Хорошо представляю их себе: она — кругленькая, в меховой шапке, он — в черном пальто свободного покроя; Решке идет, наклоняясь вперед, будто против ветра, хотя никакого ветра нет, зато морозно. Поскольку и на нем меховая шапка, возникает вопрос — обновка ли это, или же Александра достала ему шапку из старых пронафталиненных запасов?
Глядя на фотографии, можно строить догадки, выдвигать предположения. Пентковская и Решке не раз фотографировались на улице, на миротворческом кладбище, многие из фотоснимков — цветные.
Захоронения пришлось приостановить. Земля сильно промерзла, и копать ее было невозможно. При минус семнадцати не удавалось захоронить, как следует, даже урну. Решке пишет: «Хорошо побыть среди могил вдвоем. Удивительно, до чего быстро заполнились ряды. Холмик за холмиком. Весною будет занята вся правая верхняя четверть кладбища. Нижняя четверть, отведенная под урны, тоже будет заполнена. Хотя каждая могила оформляется по желанию семьи индивидуально, однако снег делает их однообразными. Впечатление однообразия усиливается скромными временными крестами, на которых значатся только имена и даты; все плотно укутано снегом — самшитовые бордюры, еловый лапник, которым на зиму прикрыты могилы. На урнах тоже белые шапки, которые рассмешили Александру. Впервые слышу, как она смеется, когда кругом снег. Она опять весела. „Смешные у вас горшки. На польских кладбищах таких нет. У нас все делается строго по католическому обряду“. Позднее наше уединение было нарушено. Очень тепло одетая, к нам приплелась в своих валенках Эрна Бракуп, которая без остановки что-то бормотала…»
Я весьма признателен Решке за то, что, вернувшись с кладбища, он сразу же записал словоизлияния этой старой женщины, не пытаясь стилистически выправить ее бормотание.
«Видали по телевизору войну с арабами?» Эту фразу Эрна Бракуп выкрикнула вместо приветствия. Именно ее словами отмечено в дневнике начало войны в Персидском заливе. «От веку так повелось. Ежели те, кто наверху, не знают, что дальше делать, так затевают войну. Сперва-то я думала, что фейерверк показывают. Раньше в Домиников день завсегда фейерверки пускали. Потом уж скумекала: это они всех арабов перебить решили. А за что, спрашивается? Не люди они нешто, арабы-то? Может, они и сотворили что не так… Только ведь и всяк не без греха. Вот я и спрашиваю вас, господин профессор! Неужто на свете вовсе милосердия больше нету?..»
Не знаю, кто взялся объяснить старой, уже пережившей свой век женщине смысл войны в Персидском заливе, Решке или Пентковская. Прямого указания на сей счет дневник не дает. Замечание Решке о том, что Бракуп опять в курсе новейших событий — «Удивительно, до чего живо интересуется она происходящим вокруг…» — никак не характеризует его отношения к современной разрушительной технике, которая торжествовала на телеэкране свой триумф. Судя по дневнику, мнение Решке, как всегда, раздваивалось: с одной стороны, он оправдывал эту войну, а с другой — называл ее варварской бойней. Пока не истек срок ультиматума, его, главным образом, возмущали поставки немецкого оружия Ираку, причем это возмущение носило довольно общий характер — например, Решке именует боевые химические вещества «немецкой отравой», но одновременно пишет: «Похоже, люди сознательно стремятся истребить друг друга, чтобы на земле вообще никого не осталось…»
Решке сфотографировал Эрну Бракуп в снегу, а та сняла нашу пару между могильных холмиков, заснеженных урн и как бы обсыпанных сахарной пудрой кладбищенских лип. Все эти фотографии напоминают мне о январских морозах, январском солнце, белом снеге с голубыми тенями. Как выглядела наша пара на фоне зимнего пейзажа, уже известно; новой тут оказалась Эрна Бракуп.
В несколько слоев обмотанная платком, маленькая, уже ссохшаяся старушечья головка, из-под этого мотка выглядывают лишь узко посаженные глаза, покрасневший нос и впалый рот, который бормочет в кладбищенскую тишину: «Когда война кончится, будет там то же самое, что было тут, в Данциге. Кругом разруха. И мертвецов бессчетно…»
Странной и совершенно не подходящей для архива представляется фотография, которую, вероятно, сняла Пентковская. Решке вместе с Бракуп — на кольцевой аллее. Они застигнуты в движении, поэтому изображение получилось немного смазанным. Эрна Бракуп, прочно расставив ноги в валенках, оставшихся еще с военной поры, бросила снежок и попала в цель. Снежок аж рассыпался. Решке замахнулся для ответного броска, шапка съехала набок. Детская война, игра в снежки.
Холода стояли до середины февраля. Кладбище будто вымерло. Однако вынужденное затишье отнюдь не оставалось бездеятельным. Несколько бывших профсоюзных домов отдыха начали работать как приюты для престарелых. В других — неплохими темпами продвигался ремонт. Медленнее шли дела с виллами и особняками на Пелонкенском проезде. Решке упоминает их лишь вскользь; у него с Пентковской не находилось аргументов против все новых и новых арендных договоров, а правом решающего голоса в наблюдательном совете распорядители не обладали.
Теперь этот проект под названием «На склоне лет — в родном краю», вовсю разрекламированный роскошными проспектами, приобрел вполне самостоятельное значение. Росло количество желающих. Пришлось завести списки очередников. Были заключены арендные договоры еще на восемь зданий, в том числе на обанкротившиеся гостиницы; разумеется, договоры предусматривали преимущественное право на приобретение арендованного здания. Фильбранд отдавал немало времени новому делу, тем более что его собственная фирма, специализирующаяся на системах подогрева полов, получила для себя широкий фронт работ.
На какое-то время этот проект увлек даже Решке с Пентковской. Их поразила жизнерадостность многих стариков, — а в первых пяти приютах разместилось более шестисот человек, — поэтому задним числом распорядители одобрили решение наблюдательного совета. Решке выделил дополнительные суммы из своих хранимых в тайне «резервов», когда решался вопрос о строительстве геронтологической клиники, которую собирались оборудовать по западным стандартам. После непродолжительного подъема сил, связанного с радостью возвращения на родину, старикам и старушкам вновь напомнили о себе их возрастные недуги, больше того, кое у кого перемена места, пусть долгожданная и желанная, в конечном счете отрицательно сказалась на состоянии здоровья. Геронтологическая клиника была необходима из-за ненадежности польских больниц, однако на переходный период к их услугам пришлось все-таки обратиться. Так или иначе, смертность в приютах возрастала. К концу февраля, по признанию даже Фильбранда, возникла критическая ситуация.
Решке, первоначальные опасения которого подтвердились участившимися смертями, тем не менее отверг упрек одного западногерманского журнала, пришедшего к выводу, что «ради извлечения прибыли из ностальгии стариков им строят мрачные ночлежки и едва ли не „покойницкие“, которые необходимо прикрыть». В своем опровержении Решке, как распорядитель немецко-польского акционерного общества, указал прежде всего на преклонный — или, по его выражению, «библейский» — возраст умерших. Из тридцати восьми смертных случаев, имевших место со дня открытия первого приюта, семь человек умерли в возрасте от девяноста до почти ста лет; ни один из покойных не был моложе семидесяти. Важно далее учесть, что переезд в Польшу был неизменно исполнением твердой воли покойного, которая повторяется во множестве писем и может быть выражена словами: «Хотим умереть на родине».
От имени наблюдательного совета Фильбранд поблагодарил Решке за четкое опровержение. В дневнике читаю слова, отчасти оправдывающие Фильбранда: «Недавно у нас состоялась беседа с глазу на глаз. Поразительно, до чего серьезна его заинтересованность в экономическом оздоровлении Польши. Трогательна готовность не щадить своих сил. Когда Герхард Фильбранд повторяет „Польше не хватает здорового среднего сословия“, то не только Марчак с Бироньским начинают утвердительно кивать головами, но и Врубель с Александрой; кивают все, а потому иногда киваю даже я».
И все же конфликт назревал. Уже на заседании в начале марта почувствовалась нервозность. Фильбранд внес предложение — как всегда, в форме сопоставления затрат и прибыли, результат которого, естественно, оказывался положительным; этим предложением поначалу заинтересовался лишь вице-директор Национального банка. Предусматривалось выделить место для перезахоронения останков, привозимых из Германии в Польшу. Марчак, сразу же поддержавший это предложение, даже назвал дату, с которой мог бы начаться отсчет, — 1 декабря 1970 года, день, когда в Варшаве был подписан первый немецко-польский договор. Всем переселенцам, умершим позднее этой даты, предоставилась бы возможность перенесения их останков на родину. В заключение Фильбранд сказал: «Можно смело рассчитывать на тридцать тысяч заявок и даже больше. Все это, несомненно, окупится. Естественно, я тоже намереваюсь перезахоронить моих родителей, которые умерли в конце семидесятых годов. Наши польские друзья могут быть уверены, что я вполне сознаю, о сколь солидных суммах идет речь. Однако когда дело касается примирения наших народов, то это стоит любых затрат».
Были названы числа с изрядным количеством нулей, хотя имелась в виду твердая валюта. Говорилось о том, что оплата перезахоронения должна быть существенно выше, чем оплата обычных похорон. Тем не менее польская сторона, если не считать вице-директора, проявила сдержанность. Стефан Бироньский как священнослужитель решительно высказался против. Ежи Врубель тихим, но явно взволнованным голосом сказал, что в подобных планах есть «антигуманный элемент». Пентковская, громко рассмеявшись, спросила Фильбранда, насколько его предложение «послужит оздоровлению среднего сословия в Польше». Возник спор, даже перебранка. Короче, то, что было названо Фильбрандом «Проект перезахоронений» и что было дипломатично переименовано Марчаком в «Расширение спектра ритуальных услуг, предоставляемых кладбищем», не получило бы большинства голосов и оказалось бы погребено под лавиной возражений, если бы в Александре Решке вновь не победил профессор.
Он не удержался от того, чтобы прочитать наблюдательному совету целую лекцию, которая названа в дневнике «кратким экскурсом». Последовало довольно нудное изложение имевшихся у Решке сведений о том, как осуществлялись захоронения в церквях. Решке подробно рассказал о высеченных на напольных надгробиях определенных сроках, по истечении которых останки переносились в иное место, а также о перезахоронении праха из семейных могил в родовые склепы приходских церквей; но место там было ограниченным, поэтому небольшие погребальные лари доверху заполнялись черепами, костями и тем самым, по выражению Решке, становились «наглядными символами смерти».
Уверен, что свою лекцию, которая, в конце концов, все испортила, профессор приукрасил рассказами о находках, показанных ему Ежи Врубелем в развалинах церкви св. Иоанна сравнительно недавно, в середине февраля, когда поослабли морозы.
Они пролезли через ограду, легко отодвинули доски, прикрывающие вход в правый портал; Врубель шел впереди. Решке с восхищенным ужасом пишет: «Какое зрелище! В полумраке среди строительных лесов, балок, треснувших могильных плит, превратившихся в щебень готических сводов лежат свидетельства людской бренности: мелкие косточки, осколки черепов, тазовые кости, ключицы и позвонки. Впечатление было таким, будто война свершила все это лишь вчера, когда город разрушился под градом бомб, снарядов и погиб в пламени пожаров. Я явственно представлял себе эту картину, хотя покинул город, пока он оставался целым… Слава Богу, в центральном нефе кто-то уже начал собирать кости в ящики.
Надпись с одного из них Ежи мне перевел: „Осторожно: стекло!“ Но куда их деть? Не могут же эти ящики оставаться здесь, среди окурков и пивных бутылок. Если уж невозможно оборудовать настоящий костник, надо хотя бы вырыть особую яму, а потом закрыть ее. Например, у основания церковной колокольни… Позднее я обнаружил под щебнем, справа от разрушенного главного алтаря полупровалившиеся в могилы надгробные плиты, на одной из которых значились фамилии двух капитанов — церковь св. Иоанна покровительствовала морякам, парусных дел мастерам и рыбакам — и известняковую плиту с неразборчивым именем и барельефом: две руки, обхватившие чашу. Там тоже лежали кости и осколки черепов…»
Вот этими-то подробностями, освободив их от барочной мрачности, и воспользовался Фильбранд после того, как он поблагодарил господина профессора за обстоятельное сообщение: дескать, перезахоронения ставили и ставят прежде всего проблему экономии места. Большое количество заявок потребует такой экономии. Можно было бы устроить, например, общую могилу для каждых пятидесяти вторичных захоронений. При этом фамилии перезахороненных будут высечены на скромном камне, в алфавитном порядке. Или же, что, вероятно, больше понравится господину профессору, надпись можно сделать на намогильной плите. Можно предусмотреть традиционную символику, вроде упомянутой чаши. Каждая проблема имеет свое решение. Нужно только желание, а выход всегда найдется.
Однако пока никто своего желания не изъявлял. Решке возразил против произвольного истолкования строго научных данных; и вообще, исторические «костники» — это, так сказать, «устаревшая модель». Консисторский советник Карау признался, что его «терзают сомнения». Госпожа Иоганна Деттлафф заявила: «Меня до сих пор смущает внесенное предложение; какое-то оно жутковатое». Бироньский и Врубель подтвердили свое решительное несогласие. Марчак проговорил неуверенно: «Возможно, со временем…» Александре удалось прекратить эти прения, возникшие после выступления Решке; она напомнила о парной могиле своих родителей на Хагельсбергском кладбище и высказала категорическое мнение, что даже если бы перенос их праха в Вильно был и впрямь возможен, то она бы на это никогда не согласилась: «Кто уже погребен, должен оставаться в своей могиле».
Так что поначалу предложение не приняли. Марчак отложил голосование. В последнем пункте повестки дня обсуждалось «разное», а именно сообщения о реакции общественности. С удовлетворением был воспринят положительный итог дебатов в сейме по вопросу о немецко-польском акционерном обществе. Бывший депутат от коммунистов заподозрил в этом миротворческом начинании «замаскированный реваншизм». В пылу полемики была произнесена даже такая фраза: «Полчища немецких мертвецов ринулись отвоевывать наши западные провинции!» Марчак доложил, что целый ряд депутатов сейма отверг подобные заявления и разоблачил их как «сталинскую пропаганду», после чего Марчак пригласил собравшихся в бар отеля на бокал вина.
Конференц-зал на последнем этаже семнадцатиэтажного отеля «Гевелиус» представляет собою помещение, составленное из двух обычных гостиничных номеров, между которыми убрана стенная перегородка. Замечателен был разве что вид сверху из окон на все башни Старого и Правого города. Благодаря Марчаку, его шарму заседания наблюдательного совета проходили вполне корректно и даже при острых разногласиях не превращались в обмен личными выпадами, хотя словесные перепалки на двух языках, а порою еще и по-английски, оказывались довольно-таки взрывоопасными. Всегда со вкусом одетый, сияющий большими залысинами, очень высоким и словно отполированным лбом, Марчак, которому было лет сорок пять, умел погасить страсти своих разноязыких собеседников, смягчить резкость их реплик; делал он это с помощью жестов, будто дирижер: тут приглушит, там успокоит, порой даже скажет несколько слов по-французски. Длинноты Врубеля он сокращал промежуточными вопросами. Карау, с его проповедническим жаром, услышав от Марчака подходящую цитату из Библии, остывал и приходил в себя. Настойчивое требование госпожи Деттлафф запретить курение во время заседаний нейтрализовывалось объявлением перекуров, чем могла воспользоваться Пентковская. Когда Эрне Бракуп случалось вздремнуть, Марчак без тени иронии, тем более издевки, обращался к ней, чтобы вернуть ее к обсуждению очередного пункта повестки дня. Ему удалось значительно сократить количество претензий Фильбранда к мелким отклонениям от регламента; Стефана Бироньского, на которого частенько нападала скука, удавалось приглашающим жестом заставить прислушаться даже тогда, когда Решке вновь считал необходимым напомнить собравшимся об изначальной идее миротворческого кладбища. Марчак уверенно держал в своих руках все нити; не было исключением и то заседание, где обсуждался вопрос о перезахоронениях, но не удалось принять решения. Бироньский со вниманием поднял голову, Бракуп встрепенулась, отгоняя дремоту, когда Решке, рискуя вызвать протест со стороны Фильбранда и Карау, добавил к своей излюбленной теме «век изгнаний» новый аспект, заявив, что «перенос праха — также своего рода изгнание». Врубель зааплодировал. «Ну, это уж слишком!» — воскликнула госпожа Деттлафф. Фильбранд пригрозил уходом с заседания. Бракуп что-то забормотала себе под нос, хотя на магнитофон ее никто не записывал. Пентковская закурила, несмотря на то, что перекур не объявлялся. Однако Мариан Марчак всех обезоружил своей беспомощной и милой улыбкой.
Позднее, в баре, установилась дружелюбная атмосфера, напряжение спало, настроение у всех сделалось едва ли не веселым. Представляю себе, как забавно выглядела Эрна Бракуп на высокой табуретке за стойкой бара.
Спустя неделю после того заседания Решке вновь встретился с Четтерджи, но теперь уже не в фахверковом домике на берегу Радауны, а конспиративно — на заброшенном кладбище за церковью Тела Христова, где явкой им послужил забытый или сбереженный временем семейный памятник Клавиттеров.
«Черный, до блеска отполированный гранит на сером цоколе. Ржавая железная решетка огораживает довольно большое пространство. Имя последнего Клавиттера, президента Торговой палаты, высечено в самом низу. Этой находкой я обязан, разумеется, Врубелю. Мистер Четтерджи очень внимательно слушал меня, когда я рассказывал об Иоганне Вильгельме Клавиттере, который заложил в здешних краях первую верфь…»
Мой бывший одноклассник описал эту тайную встречу в своем дневнике; я воспроизвожу ее очень сжато, на самом же деле она длилась более получаса. «Он поджидал меня, прислонившись к ограде. Меня вновь и вновь очаровывает этот бенгалец, которому, казалось бы, должна быть чужда наша работа, работа, имеющая дело со смертью, ибо сам он по натуре человек прямо-таки утомительно живой, неподдельно жизнерадостный и жизнелюбивый, что неизменно подтверждается делом; в общем, Четтерджи должен бы быть чужд наш пафос служения смерти. Он вообще считает кладбища напрасным расходом земли. Я мог бы по-настоящему подружиться с ним, если бы интуитивно не ощущал, что от него исходит какая-то угроза. Я абсолютно принимаю на веру все его пророчества относительно транспортных проблем, и сам, как автолюбитель, готов к полному самоотказу и переходу на велоколяску, которая призвана спасти крупные города, однако я совершенно не могу согласиться с его взглядами на нынешнюю войну и ее глобальные последствия. Его выводы меня ужасают. Четтерджи считает, что война в Персидском заливе необходима, чтобы показать, сколь невыносимых масштабов достигло обнищание в странах Азии и Африки. Военная мощь Запада одновременно служит доказательством немощи западного мировоззрения. То, что сейчас пришло в движение, уже не остановишь. Жребий брошен. С этим он хотел примирить меня словами Ницше о переоценке всех ценностей. „Мы уже в пути. Пока еще только сотни тысяч. У нас маловато скарба, но полно идей. Вы пришли к нам, чтобы научить нас двойной бухгалтерии, мы же придем, чтобы совершать с вами сделки на взаимовыгодной основе“. Тут он опять заговорил о велорикшах, поскольку успех его предприятия действительно красноречив. Внезапно Четтерджи перескочил, будто через гимнастический снаряд, через железную ограду высотою по пояс, после чего выразил мне признательность за вложенные в его бизнес средства и, указывая на могильный камень основателя верфи, пообещал возродить к жизни его предпринимательский дух. Затем Четтерджи опять перепрыгнул через ограду и начал сыпать множеством цифровых выкладок, а после следующего прыжка без помощи рук он поклялся именем Клавиттера превратить верфь в золотое дно. Конечно, было тут много театральности, однако нельзя не признать, что производство велоколясок идет в трех цехах прежней верфи полным ходом. Поначалу предусматривается удовлетворить потребности внутреннего рынка, затем продолжить выпуск на экспорт. Поскольку управленческая работа является преимущественно сидячей, мой партнер заметно поправился. К сожалению, он не может служить у самого себя по найму, поэтому перестал водить велоколяску и подрастерял спортивную форму. Приходится поддерживать ее гимнастическими упражнениями. Тут он снова перепрыгнул через ограду к памятнику, потом опять ко мне, чтобы сообщить, что вызвал себе на помощь шестерых из своих многочисленных племянников — четверых из Калькутты, двоих из Дакки; оказав кое-кому некоторые услуги, удалось добиться разрешения на въезд племянников и на их пребывание. Трое племянников — марвари, которые, как известно, отличаются особыми предпринимательскими способностями».
Свидетелем этого разговора стал забытый или сохраненный временем памятник основателю Клавиттеровской верфи, а могильная ограда служила бенгальцу гимнастическим снарядом: снова и снова прыгал он через решетку безо всякого разбега. Кругом кустарник, ржавые железки, рядом развалившийся сарай, дальше — огородные участки. Здесь, не доходя до Шихау, начинал Клавиттер свое дело. Здесь был построен первый пароход. И лишь гораздо позднее объявился Ленин, пароходов он не строил, лишь провозглашал идеи.
И опять: хоп! И снова: хоп! После двенадцатого прыжка — Решке считал их про себя — Четтерджи указал на полированный гранит, тронул пальцем самое верхнее имя, потом даты «1801–1863»: «Вот кого бы взять в партнеры». А Решке, бедный Решке, который ни за что не сумел бы перескочить через решетку, зато хотел бы вместо Клавиттера стать настоящим партнером бенгальца, вновь предложил ему кое-какие дополнительные средства из своих тайных «резервов». Были названы конкретные суммы, счета и банки. При свидетеле, коим являлся стоящий за их спинами могильный камень высотою с человеческий рост, фирма по производству велоколясок и немецко-польское акционерное общество при миротворческом кладбище, динамика и покой, живые и мертвые, вновь заключили сделку, как сказал Четтерджи, на взаимовыгодной основе.
Решке поинтересовался у Четтерджи, как идут дела зимой, и узнал, что даже в январе, когда ударили морозы, многие поляки пользовались велорикшами, оценив выгоды невысокого тарифа, среди них — вице-директор Национального банка. «Мистер Марчак является нашим постоянным клиентом и доволен нами», — сказал бенгалец, совершив заключительный прыжок через железную ограду.
Эрна Бракуп также с удовольствием пользовалась велорикшей. Когда заседал наблюдательный совет, ее подвозили к самому входу в отель, что всегда вызывало любопытство прохожих. Между прочим, именно она подала Четтерджи идею использовать велоколяски для нетяжелых грузовых перевозок, например, чтобы доставлять вещи при переезде на новую квартиру. Вскоре фирма стала также предлагать курьерские услуги и развозку посылок.
С приближением весны деятельность миротворческого кладбища оживилась, поэтому Эрна Бракуп теперь часто проезжала по Большой аллее к старому домику у входа на кладбищенскую территорию. Она не пропускала ни одних похорон. Всем родственникам и близким она высказывала свои соболезнования одной-единственной фразой: «Вечный ему (или ей) покой!» А Четтерджи, который установил для нее льготный тариф, она заявила: «Мы оба с тобой — национальное меньшинство. Значит, надо друг дружке пособлять. Особенно против поляков и тамошних немцев. А то они нам на шею сядут». Она даже заставила Решке, как тот ни упрямился, перевести свою тираду на английский, добавив: «Скажи: ты, мол, мне, а я — тебе. Вот как нам жить-то надо!» Предложенные ею грузовые перевозки сделались настолько популярными, что Четтерджи наладил в своих цехах выпуск специальной конструкции велоколясок, а Эрну Бракуп одарил целой пачкой бесплатных проездных билетов. Когда Бракуп подъезжала к воротам кладбища, всегда собирались зеваки. Она же заходила в домик, где могильщики и садовники хранили инвентарь и где сидели смотрители, брала свою лейку и лопаточку с грабельками.
У меня есть фотография, на которой Эрна Бракуп сидит в велоколяске с поднятым верхом, хотя, судя по всему, на улице неплохая погода. Она сидит, будто в раковине; на ней все та же шляпа горшком и оставшиеся еще от военной поры валенки. Пальцы переплетены. Лицо серьезное, неулыбчивое.
Водитель белокур и, стало быть, не пакистанец, а поляк или, если уж не поляк, то кашуб. К сожалению, у меня мало фотографий, которые запечатлели работу велорикш. Зато это подлинный документ, как и те черно-белые снимки из Варшавы времен немецкой оккупации, когда едва ли не все было запрещено и полякам не разрешалось иметь автомашины или работать таксистами; тогда существовали велорикши, их водили поляки и возили они поляков, а также разные грузы. Велосипеды и коляски выглядят на тех снимках обшарпанными, водители мрачными, пассажиры озабоченными. На одном снимке велорикша везет ящики. Казимеж Брандыс в своем романе «Рондо» описывает это тогдашнее транспортное средство.
У писателя Анджея Щепиорского также упоминается велорикша…
Зато на цветной фотографии с Эрной Бракуп в центре поблескивает новехонькая велоколяска, изготовленная в цехах бывшей верфи. Сбоку от водителя читается зеленая по белому лаку надпись, причем сделанная не по-польски, а по-английски, видимо, чтобы быть понятной туристам: «Chatterjees Rikscha-Service». Подъемный верх коляски выкрашен в национальные цвета: белая полоса — красная полоса, белая — красная. На водителе форменная, но вполне спортивная одежда: гоночная кепочка, рубашка навыпуск и без воротника, брюки до колен, похожие на стародавние бриджи, все серо-голубого цвета. Нагрудную полоску украшает название фирмы и номер водителя. У того, что сфотографирован, номер 97.
На черно-белых снимках военной поры у седоков застывшие лица, вот и Эрна Бракуп глядит прямо в объектив, неподвижная, будто вросла в коляску. Снимал ее, вероятно, Решке; он же иронически пометил на обороте: «Представительница немецкого меньшинства в Гданьске ездит теперь к миротворческому кладбищу, будто барыня».
Снимок датирован концом марта. После краткого периода стабилизации курс злотого вновь начал падать, усилились инфляционные тенденции, цены продолжали расти, объемы производства сокращались, а зарплаты оставались на низком уровне. Новый президент, о котором Пентковская сказала: «Теперь электрик хочет стать королем Польши», взял себе нового премьер-министра, лишенного меланхолической ауры своего предшественника. Впрочем, в стране от этого веселее не сделалось, зато кругом росли церкви — множество новых уродливых церквей.
Решке отмечает: «Совместные предприятия, которые прежде отличались напористостью и оптимизмом, ныне терпят крах. Если год назад американцы не решились взять обанкротившуюся верфь им. Ленина, то сейчас голландцы сомневаются, стоит ли вообще вкладывать деньги в переживающую такой же глубокий кризис верфь им. Парижской Коммуны, которая находится по соседству в Гдыне. Впрочем, за это же время имели место многочисленные махинации, позволившие подставным иностранным фирмам и старой номенклатуре местных хозяйственников нажить немалые капиталы. Возможно, поэтому фирма Четтерджи, пусть средняя по масштабам деятельности, зато солидная, пользуется растущим авторитетом…»
Фотография Эрны Бракуп в велоколяске говорит мне больше, чем это может сделать обычный снимок. Бенгалец с британским паспортом прижился в Польше. Шестеро его племянников, среди них — трое марвари, имея хороший задел, открыли филиалы в Варшаве, Лодзи, Вроцлаве и Познани. Решке поступил абсолютно правильно, вложив более или менее крупную часть капитала своего акционерного общества в производство велоколясок. Вероятно, рано или поздно прежняя верфь им. Ленина (а когда-то верфь «Шихау», первоначально же Клавиттеровская верфь) будет переименована в честь бенгальской Черной богини Кали или бенгальского национального героя Субхаса Чандры Босе.
Во всяком случае, вместе с Четтерджи в Польшу пришла надежда.
Если верить Решке, а я не могу не верить, то немецко-польское акционерное общество имело недурную репутацию, которая, к сожалению, порою подвергалась сомнению. АО МК уважали, зато Четтерджи обрел славу истинного благотворителя. Тем не менее Решке смело сравнивает себя с бенгальцем. Он все чаще называет его другом и партнером по делу, которому принадлежит будущее. Вот уж не думал, что Алекс, как мы его называли в школе и в ту пору, когда он был рядовым вспомогательной службы ВВС, обнаружит такую предпринимательскую дальновидность; впрочем, его проект пришелся на благодатную пору, когда мир выскочил из старой колеи и все заколебалось; хорошо еще, что Александра оказалась Александру надежной опорой.
Теперь они уже повсюду представали не вдовцом со вдовою, а настоящей парой. Они как бы наглядно воплощали собою собственную миротворческую идею, будь то на приеме в ратуше, в гостях у оливского епископа, в ложе для почетных гостей Балтийской оперы или на публичной дискуссии «Мужество для примирения», а то и просто среди толпы людей, приглашенных на торжественное открытие четвертого цеха, которое устроил Четтерджи, угощавший всех бесплатным пивом и жареными колбасками. Мероприятия были самыми разными, наша пара никому не отказывала — всегда вместе, плечом к плечу, а если надо, то спиной к спине, как это потребовалось, например, на последнем апрельском заседании, где пришлось дать бой.
Поддержка Ежи Врубеля была ненадежной, ибо он всегда слишком погружался мыслями в прошлое, да и со стороны Стефана Бироньского было важнее всего собрать пожертвование на восстановление своей церкви, поэтому в лучшем случае приходилось рассчитывать лишь на Эрну Бракуп, при условии, конечно, что она не задремлет; нечего удивляться, что апрельское заседание закончилось очень плохо, хуже некуда. На повестке дня опять возник (по-новому сформулированный) вопрос о перезахоронениях. Фильбранд зачитал подготовленный им текст предложения. Лаконичный, строгий, короткая стрижка ежиком, очки без оправы — он выступал, будто генерал перед сражением.
Представитель среднего сословия по-своему истолковал недавнюю лекцию профессора и представил многократно упомянутые в ней барочные костники перспективным образцом, после чего сама идея перезахоронений прозвучала как нечто весьма практичное и ни в коей мере не предосудительное. Фильбранд предложил спроектировать общие могилы оптимальных размеров с мемориальными плитами, подчеркнув: «При всей экономии места следует позаботиться о благопристойном оформлении».
Так оказалось, что профессорские изыскания лили воду на мельницу Фильбранда. Обтекаемость, скучность его выступления притупили бдительность Бироньского. Врубель мысленно совершал очередное путешествие в прошлое. Бракуп задремала под съехавшей на глаза шляпой. Решке не мог не признать: «Фильбранд добил меня моими же аргументами, которыми я, по наивности, сам вооружил его в пользу чудовищного плана перезахоронений. Этот апологет голого практицизма, оставаясь абсолютно корректным, лишил меня возможности защищаться. Даже высказанный на двух языках решительный протест Александры, подытоженный фразой: „Перезахоронения только через мой труп!“ — был произнесен как бы в пустоту. Нет, определенный эффект он произвел, даже немалый. Эрна Бракуп проснулась и заговорила. Проповеднику Карау почудилось нечто вроде глоссалий. Бироньский и Деттлафф встрепенулись, будто их кто-то окликнул, госпожа Деттлафф была шокирована, Фильбранд окаменел…»
Бракуп, стоя в своих неизменных валенках и шляпе, заявила: «Если сюда начнут уже похороненных покойников возить, то скоро новым усопшим места не хватит. А кто выкопает немцев, которые погибли кто где, особенно в конце войны и сразу после? Ведь ни один черт не знает, где полегли по дороге беженцы. И кто за все это заплатит? Нет уж! Несправедливо это. Ежели ты богатый немец, тебя перезахоронят. А поляк еще и наживется. Но ежели ты бедный, то останутся твои косточки там, где сгинул ты в лихую годину, когда тоже никакой справедливости не было. Нет! Нету на то моего согласия. Тогда и меня закопайте где ни попадя. Хоть с арабами в пустыне, где сейчас война. Только раньше, говорю я вам, выйду я из вашего совета!»
Итак, если не считать обоих распорядителей, то единственный голос «против» принадлежал Эрне Бракуп. Врубель и Бироньский воздержались. Тремя немецкими голосами «за» плюс голос Марчака дело закончилось бы принятием положительного решения, однако Бракуп угрозой отставки добилась того, что решение было отложено. Следующее заседание назначили через две недели, обстоятельства торопили. Фильбранд начал действовать, не ставя в известность обоих распорядителей. По его данным, при взносе, увеличенном до целых двух тысяч марок, поступило 37 тысяч заявок на перезахоронение. Вице-директору Гданьского филиала Польского Национального банка не составляло труда подсчитать, какую это сулило выгоду.
А теперь следует рассказать о поездках, предпринятых в различных направлениях не только Решке с Пентковской, но и Четтерджи, однако если бенгалец уехал по заранее намеченному маршруту, то наша пара собралась в дорогу так поспешно, словно она хотела воспользоваться недолгим временем до следующего заседания наблюдательного совета. Решке отправился в Любек, выезд Пентковской в Вильнюс затянулся на несколько дней из-за опоздавшей визы. Четтерджи успел побывать за это время в нескольких европейских столицах. Каждый из них имел срочные дела, поэтому путешествовал налегке. Решке воспользовался машиной, Пентковская поездом, а Четтерджи, разумеется, самолетом.
Хотя намерения нашей пары не имели связи с планами бизнесмена, производящего велоколяски, однако всех троих объединяло служение своей идее, правда, в одном случае речь шла об ее спасении, а в другом — о том, чтобы придать ей новый импульс. Четтерджи ездил ради расширения фирмы или создания ее филиалов, Пентковская собиралась в последний раз попытаться открыть польское кладбище в Вильнюсе, а Решке намеревался воспрепятствовать перезахоронениям.
Четтерджи сопровождали двое из его шестерых племянников. В соответствии со своей теорией, он рассчитывал помочь забитым автомобильными пробками, задохшимся от выхлопных газов и оглохшим от рева моторов городам, предлагая поставки новехоньких велоколясок, правда, пока что в ограниченном количестве; Пентковская же действовала, вооружившись финансовыми гарантиями, а именно третьей частью всех капиталов акционерного общества, и только Решке поехал с пустыми руками, полагаясь только на себя; он заявил в Любеке протест против, как он выразился, «антигуманной спекуляции на перезахоронениях».
С учетом транспортной ситуации в западно- и южноевропейских столицах, успех Четтерджи был запрограммирован: политики, ответственные за данную сферу коммунального хозяйства, с жадностью ухватились за предложенную концепцию; Амстердам и Копенгаген сразу же выразили свою заинтересованность в концессиях на внедрение велорикш для внутригородских перевозок, Париж и Рим, поразмыслив некоторое время, последовали их примеру, Лондон также присоединился, хотя и с некоторыми оговорками, Афины же приняли положительное решение лишь после того, как кое-кому были оказаны некие услуги.
Состоявшийся в Литве референдум выявил отрицательное отношение среди национальных меньшинств (белорусов и украинцев, многих русских и поляков) к государственной независимости, ибо они считали, что требуемый большинством населения суверенитет может ущемить их права. Это предопределило неблагоприятный фон для переговоров, которые вела Александра. При всей финансовой привлекательности проекта местные власти не обещали создать кладбище для польских граждан, родившихся здесь. Было сказано: «Сначала освободимся от Кремля!»
В Любеке опасения и тревоги Решке были выслушаны со вниманием, однако члены землячества, и среди них госпожа Деттлафф, не сочли для себя возможным оказать какую-либо помощь, так как изъявленное многими соотечественниками желание перенести останки своих родственников на гданьское миротворческое кладбище не могло быть отменено каким бы то ни было официальным решением. Вопрос закрыт, так Александру Решке и заявили.
Признаюсь, я рад, что Решке вернулся ни с чем, ибо его затея казалась мне безнадежной с самого начала, а вот Александру Пентковскую мне жаль — она возвратилась настолько расстроенной, что ничего не хотела рассказывать о своей неудаче; не срабатывала даже обычная отдушина, которую Решке называл «поруганием русских». Зато Четтерджи при следующем свидании у могилы Клавиттеров сумел похвастать успехами, по словам Решке, «умопомрачительными». Он, предчувствующий любую беду, почему-то слепо поверил бенгальцу; мне невольно рисуется эдакое видение: новехонькая велоколяска с жерлянкой в качестве седока катит навстречу будущему…
Не знаю, чем утешали друг друга Александр и Александра. Их любовь могла вынести многое. Помогали, видимо, не только объятия, но и нежные слова. В дневнике говорится: «Поначалу она совершенно замкнулась в себе, даже не плакала. Потом она слегка разрядилась, несколько раз выкрикнув: „Проклятая политика. Она все только портит!“ А вчера Александра меня напугала. Она, обычно лишь слегка пригубливающая ликер, влила в себя целую бутылку „Водки выборовой“, после чего посыпались такие ругательства, которые я не решаюсь воспроизвести. Досталось всем — и литовцам, и русским, и полякам. Справедливости ради, я, причем без водки, высказал пару крепких слов в адрес немцев. Следующий вывод Александры относился ко всему сразу: „История ничему их не научила. Повторяются одни и те же ошибки“. Я не мог с этим не согласиться. Пока что у нас пропало желание осматривать кладбища, хотя Врубель постоянно находит что-нибудь интересное. Опасаюсь, что Ежи в своем неуемном рвении найдет места для перезахоронений, поскольку миротворческому кладбищу все равно не справиться с таким количеством человеческих останков».
Зато на верфи, благодаря поездкам Четтерджи, дела пошли в гору. Расширенное производство велоколясок заняло еще несколько цехов. Транспортный коллапс, грозящий не только европейским столицам, но в недалеком будущем и средним, даже небольшим городам, ускорил переход к новым средствам передвижения. В мастерских Четтерджи был изготовлен трехзвучный звонок, мелодичные сигналы которого стали известны вскоре едва ли не всюду. «По моему совету, — пишет Решке, — звонок напоминал унканье жерлянок. Этот прекрасный, печальный аккорд быстро вытеснил агрессивный рев клаксонов, если и не на всех дорогах мира, то по крайней мере на улицах городов».
Производство велоколясок увеличивало количество рабочих мест и поддерживало жизнь умирающей верфи, которая обязана своей всемирной известностью слову «Солидарность». Не случайно Четтерджи решил назвать новую модель велоколясок, завоевавшую впоследствии огромную популярность на внешнем рынке, в честь польского рабочего движения, которое уже вошло в историю. Велоколяска марки «Solidarność» была запущена в серийное производство, чтобы перешагнуть европейский континент и обеспечить потребности крупных городов Африки, Азии и Южной Америки. Эта модель также была снабжена ункающими звоночками.
Но прежде, чем все это произошло, Четтерджи пришлось вызвать к себе еще нескольких племянников, часть которых опять-таки были марвари. Теперь их набралось уже более дюжины, всех их отличала напористость вкупе с предприимчивостью. Польша же предоставляла рабочую силу. Судя по записям моего одноклассника, которые часто опережают время, президент страны, вроде бы, предложил свое имя процветающей фирме, все еще называвшейся верфью и действительно нуждающейся в переименовании. Решке пишет: «Производственный коллектив единодушно отклонил это предложение». Благодаря «личной скромности Четтерджи» верфь, которая прежде называлась «Шихау», затем «Верфью им. Ленина», получила перед самым концом тысячелетия имя бенгальского национального героя Субхаса Чандры Босе, фигуры, на мой взгляд, скорее все-таки сомнительной, чем героической. Но это уже другая история.
Остается добавить, что перезахоронения фактически начались, хотя решения наблюдательного совета не было. Ежи Врубель, этот услужливый, внимательный, старательный, даже чересчур старательный молодой человек, сумел-таки отыскать подходящий участок. Место нашлось в парке по другую сторону Большой аллеи. Там, где стоит — надолго ли? — мемориальный советский танк, где в наши школьные годы находилось любимое жителями Данцига кафе «Времена года», Врубель шагами отмерил довольно большой участок, который и был предоставлен акционерному обществу, заключившему договор об аренде и землепользовании. Раньше здесь, сразу же за Штеффенсовским парком, начиналось Мариинское кладбище площадью в три с половиной гектара, тут росли липы, ясени, березы, клены и даже плакучие ивы, отчасти сохранившиеся до сих пор. Надгробные памятники и камни были убраны отсюда еще в конце сороковых годов, их перевезли по соседству на товарную станцию, а потом в Варшаву — для повторного использования.
До самой железной дороги и рабочего поселка, построенного еще при кайзере и в те времена, когда закладывалась верфь, тянулись занимавшие восемь гектаров Сводные кладбища — Иоанновское, Варфоломеевское, Петропавловское и Меннонитское. А еще дальше шли бараки, и за ними — Майский луг, на котором в дни моего детства проходили парады и смотры, играли оркестры, раздавались крики «Зиг хайль!», звучали команды и речи гауляйтеров.
Здесь, чуть в стороне от Большой аллеи, сразу за уцелевшим складом бывшего кафе «Времена года», в двух общих могилах были захоронены две первые партии перевезенных останков, по сто небольших деревянных ларцов в каждый могиле. Ни Решке в его черном суконном костюме, ни Пентковская в ее широкополой шляпе при сем не присутствовали, зато приехало много родственников перезахороненных покойных. Впрочем, речи над могилами были краткими и сдержанными, поэтому польскую общественность не смутил наплыв немцев, тем более, что после непродолжительной церемонии толпа сразу же разошлась и превратилась в обычных туристов.
Будучи поставленной перед свершившимся фактом, наша пара была вынуждена смириться, заявив, разумеется, свой протест. У меня есть этот документ с четкой подписью Александра и неразборчивыми каракулями Александры; документ отразил их бессилие: «Позор на наши головы! Если раньше живой человек сам мог изъявить свою волю вернуться после смерти на родину, чтобы обрести там последний покой, то теперь решение принимается за умерших. Победила жажда наживы, убив уважение к воле покойного. Немецкие аппетиты растут. Это нужно искоренить в самом зародыше!»
Тут явственнее слышен голос Решке, однако следующая фраза, несомненно, принадлежит Пентковской: «Если наше особое мнение не будет зафиксировано протоколом, подаю в отставку. Немедленно!»
Ее записал в дневник Решке. Возражения против занесения особого мнения в протокол не упомянуты. Бироньский и Врубель отмолчались. Одной-единственной строчкой сообщается об отставке Эрны Бракуп.
Сделала она это отнюдь не бессловесно. Она даже стукнула кулачком по столу, причем не раз и не два. Повысив голос, Эрна Бракуп заявила: «Свинство! Видала я эти ящички, раньше в таких маргарин возили. Ставили их друг на дружку и рядком. Аккуратненько! Пошондек! У немцев всегда порядок. Только не хочу я быть такой немкой, лучше уж оставаться полькой, все равно я католичка. Деньги во всем виноваты. Но я-то не продамся! Ухожу я из вашего совета. Тьфу!»
6
Решке и я, я и Решке. «Мы оба были рядовыми ВВС, — пишет он, — служили в батарее восьмидесятивосьмимиллиметровых зениток, которая стояла в Брезене-Глетткау…» Тогда же в Брезене жила Эрна Бракуп. Она была одной из шестисот немцев, которые остались в Гданьске и его окрестностях. А может, их было всего пятьсот, и они действительно считали себя немцами, потом их становилось все больше и больше. Когда сотни тысяч немцев ушли, забрав лишь скудные пожитки, эти задержались — кто по случайности, кто по неспособности к передвижению, кто просто не сумел примкнуть к людскому потоку на Запад; они ютились в чудом уцелевших домах среди неделями дымившихся развалин города или же в бедняцких кварталах пригородов, где никто не оспаривал у них чердачных и подвальных комнатенок.
Конец войны сорокалетняя Эрна Бракуп встретила вдовой; трое ее детей умерли в 1946 году, когда разразилась эпидемия тифа. Она быстро, пусть с грехом пополам, научилась обиходному польскому языку и жила, как улитка в раковине, в рыбацкой и курортной деревушке, которая теперь звалась Бжезно; слева и справа от ее халупы, а также по обе стороны трамвайной линии к Новому порту мало-помалу начали расти типовые новостройки. Пока функционировал старый курзал, она работала там официанткой, позднее устроилась продавщицей в промтоварный магазин. С середины 60-х годов она прирабатывала к пенсии, выполняя чьи-то мелкие поручения или, например, выстаивая за кого-нибудь очередь в мясную лавку. На родном языке, точнее, на его становившемся все более диковинном диалекте она говорила лишь со своими, да еще с туристами, когда те спрашивали, как пройти к причалу или на пляж.
Когда после недавних радикальных перемен в Восточной Европе всем оставшимся в Польше немцам сначала нерешительно, а потом без особых помех позволили создавать собственные объединения, Эрна Бракуп приняла в их организации далеко не пассивное участие. Ей удалось добиться того, чтобы объединению гданьских немцев выделили помещение на Йешкентальской; в организацию вошло около трехсот членов, которые, старые и никому не нужные, толком не понимали, что происходит. Теперь им даже разрешали петь свои песни: «Леса великолепные!..» или «У старого колодца», а то и — посреди зимы — «Денечки майские настали…» Вот так и вышло, что Эрна Бракуп получила место и право решающего голоса в наблюдательном совете немецко-польского акционерного общества. Теперь ей выплачивалась некоторая сумма за участие в заседаниях, причем вполне заслуженно — например, Эрна Бракуп добилась, чтобы за небольшую плату в злотых здешним немцам также предоставлялось место на миротворческом кладбище. А кроме того, она выпросила кое-какие деньги с благотворительного счета, на которые закупались песенники, иллюстрированные журналы, каталоги фирмы «Квелле» и прочая роскошная полиграфическая продукция. Не внять голосу Эрны Бракуп на заседаниях наблюдательного совета было попросту невозможно.
«Частенько члены совета начинают переглядываться, едва Бракуп берет слово, — пишет Решке. — Эта старая женщина кажется госпоже Иоганне Деттлафф ненастоящей немкой, она относится к Эрне Бракуп с какой-то брезгливостью, будто то немногое, что когда-то было привезено госпожой Деттлафф, беженкой из Данцига, в Любек — ганзейская спесь, — за это время удвоилось». О Фильбранде говорится: «Этот обожающий лаконизм господин поначалу пытался остановить словоизлияния Эрны, но сразу же увидел, какова она в гневе: „А вы послушайте, когда я-то говорю!“ Консисторский советник Карау считает ее оригиналкой».
Другая сторона также воспринимала Эрну Бракуп не без предвзятости. Ее судьба напоминала полякам о тех несправедливостях, которые не могли, как обычно, быть списаны на русских. Марчак и Бироньский смущенно умолкли, когда старушка поведала однажды о том, как тяжко ей было после войны.
Только Ежи Врубель обращался к старой женщине с расспросами безо всякой опаски, приходя к ней иногда, словно любовник, с букетом цветов. Ее бормотание служило для него живительнейшим источником. Помешанный на исторических подробностях, он выпытывал, как выглядел теперешний Брезен с его новостройками раньше, до разрушения, кто из рыбаков и по каким ценам продавал свой улов, какую музыку играл на дневных концертах оркестр в раковине курортного парка, ибо Бракуп прекрасно помнила, например, кто жил в немногочисленных рыбацких халупах, а кто за облупившимися стенами домов у трамвайной остановки, сколько стоила свежая камбала и как звали каждого из смотрителей купальни. Она рассказывала о поездках по льду замерзшего моря: «Таких суровых зим больше уже не бывает!» А еще она напевала и насвистывала Врубелю популярные мелодии из оперетт «Царевич» или «Госпожа Луна».
Вместе с Врубелем и Александра Пентковская заинтересовалась прошлым своего города, чью историю от средневековья до барокко она изучала, работая над позолотой алтарей или пышных драпировок на одеяниях молитвенно просветленных святых; однако лишь от Эрны Бракуп она могла узнать, где в Лангфуре, нынешнем Вжеще, находился раньше универмаг, когда и какие фильмы с Астой Нильсон или Гарри Пилем, Зарой Леандер или Гансом Альберсом шли в обоих пригородных кинотеатрах. Пентковская сказала как-то Александру: «Раньше все это для меня ничего не значило. А теперь я знаю, где был универмаг Штернфельда. Весьма приличные вещи стоили там довольно дешево». И все же только Ежи Врубель умел извлекать прямую пользу для миротворческого кладбища и акционерного общества из такого источника информации, как Эрна Бракуп.
Примерно в середине марта Ежи Врубель пригласил нашу пару объехать на «польском фиате» несколько старых, ликвидированных кладбищ. Пентковская и Решке, назвавший эту затею «немного суетной», приняли приглашение без особой охоты; с тех пор, как начались перезахоронения, оба чувствовали себя так, будто их обокрали, будто кто-то присвоил себе их сокровенную идею.
Сначала Ежи отвез их в Ору, рабочее предместье, где прежнее кладбище стало парком, не слишком пригодным для отдыха, так как этот парк оказался зажатым между двумя железнодорожными линиями. Затем они заехали в Шидлиц, где о существовавшем там раньше Барбаринском кладбище, также превращенном в парк, напоминали лишь несколько надгробных камней; центральная аллея и четыре поперечных прогулочных аллеи поднимались на взгорок; здесь росли липы, каштаны, изредка попадались клены, а у остатков кладбищенской ограды, проломы в которой были перегорожены шпалами, сгрудились березы.
Здесь они взобрались через пустырь на Епископский холм. «Нижняя треть ликвидированного лишь в семидесятых годах Иосифовского кладбища покрыта хитросплетениями трубопроводов теплоцентрали, которая идет к новым кварталам».
Затем они обошли Епископский холм сзади. Врубель вел их, а они плелись за ним, спотыкаясь (Александра в городских, чересчур легких для такой прогулки туфлях), через заросшее бурьяном кладбище, где спутник и гид нашей пары показывал ей один за другим поваленные, треснувшие, но иногда и целые могильные камни, отыскивая их среди бурьяна. Тут встречались такие имена, как Аугуста Вигандт и Эмма Чапп, урожденная Родлер; буквы были едва различимы, стерты, порой поверх одной, уничтоженной надписи, виднелась другая. На покрытом бурыми пятнами граните было высечено имя Пауля Штелльмахера, прожившего свой век с 1884 года по 1941 год; эта надпись осталась посланием, неизвестно кому и зачем адресованным.
Только после этого Ежи Врубель отвел их туда, где в стороне от поселка Штольценберг, по ту сторону Епископского холма, который по-польски называется Хельм, находился парк, переходящий в лес; они дошли по склону до жалких остатков старого еврейского кладбища, откуда лежащий в котловине город скорее угадывался, чем был виден.
Представляю себя рядом с Александром Решке. Уже на входе в кладбище он натыкается, словно на порог, на поваленное надгробие с фамилией Зильберштейн. Многие камни лежат ничком, их еврейские и немецкие надписи обомшели, сами камни заросли травой; лишь Врубель знает, где их найти. Думаю, Решке прав, когда утверждает, что камни были повалены, видимо, еще до войны. Врубель не возражает. Но Александра говорит: «Зато мы их не поправили и не восстановили».
Старые камни сами рассказывают о себе. Абрахам Ролльгербер, родился в 1766 году. Александр Дейчланд, родился в 1799 году, умер в 1870. Если очистить ото мха готические буквы, можно узнать больше. Позор, бормочет Решке. Вдвойне позор, восклицает Пентковская. Я знаю, что Данцигская синагогальная община была вынуждена продать это и другие кладбища городу, чтобы получить средства для выезда своих членов в Палестину. Решке и мне было в ту пору лет десять-одиннадцать… Здесь тихо, если не обращать внимание на кое-какие шумы. В сторонке, на лишившемся своего надгробия цоколе, примостились два паренька с наушниками от плейеров. Надгробных камней немного. И все же всегда остаются камни, которые говорят…
Догадываюсь, каково было на душе у Пентковской и Решке, когда все трое снова уселись в «польский фиат» («Мы почти не разговаривали».) Однако они не возражали, когда Врубель решил повезти их мимо кладбища Христа Спасителя и Меннонитской церкви, которая служит теперь молельным домом пятидесятников, к Мариинскому кладбищу. Рядом находилась бывшая тюрьма Шисштанге; впрочем, здание до сих пор можно использовать по назначению. Александра сказала: «В декабре семидесятого, когда шли забастовки, сюда сажали рабочих».
Ей расхотелось осматривать кладбище. Слишком легкая обувь была совершенно неподходящей для продолжения прогулки. Александра выглядела усталой и грустной. «Мне надо немного посидеть. И голова должна отдохнуть». Поэтому дальше они поехали не на могилу Клавиттеров, а к храму Тела Христова, который находился неподалеку; с конца четырнадцатого века храм был римско-католической госпитальной церковью, но после второй мировой войны ее передали польской старокатолической общине. «Ежи привел из бывшего госпитального здания священника, тот любезно открыл церковь и провел нас между скамьями, объясняя по дороге свое отношение к Папе, в непогрешимость которого он, дескать, как истый христианин верить не может. Намогильные плиты хорошо сохранились, в середине восьмидесятых годов их перенесли из центрального нефа в левое от алтаря крыло. Александра присела на скамью».
Я опускаю пространное описание парной могилы братьев Макензен, описание большой порфировой плиты, на которой изображен скачущий олень, опускаю и различные толкования этого изображения и заметки о домашнем руническом гербе патриция Георга Бротхагена, а также соответствующие цитаты из докторской диссертации Александра Решке. Все это лишь отвлекает и не позволяет сосредоточиться на сути дела.
Когда Решке в связи с переносом могильных плит поинтересовался перезахоронением останков, священник предложил осмотреть склеп под левыми рядами скамей. Поскольку в Александре вновь проснулось любопытство, Решке пропустил ее вперед, а потом протиснулся следом за ней сквозь лаз. Священник остался наверху.
«Ежи сразу же нащупал выключатель. Холодный, сухой воздух, отсутствие какого-либо определенного запаха. Под лестницей обнаружилось выложенное кирпичом помещение шириною с центральный неф. В нем стояли штабелями гробы; слева от лестницы они возвышались до самого потолка, с другой стороны и прямо перед нами их было вполовину меньше. Мы теснились, не решаясь войти в узкий проход. На каждом гробу был размашисто написан номер. Номера шли вперемешку, но общее количество гробов, пожалуй, соответствовало трем десяткам перенесенных могильных плит…»
— А там есть кто-нибудь? — спросила Александра.
Врубель ответил утвердительно, а Решке предположил, что это могут быть останки Бротхагена, братьев Макензен, патрициев Моевеса, Шмида и Гралата.
— Нельзя ли какой-нибудь открыть? Вот этот, например!
— Вам очень хочется?
— Ну, раз уж мы сюда пришли…
— Не знаю, право…
— Хоть одним глазком…
Врубель приподнял градусов на сорок пять крышку стоявшего к ним изножием гроба, а Решке, хотя Александра его ни о чем не просила (видимо, это было собственное желание иметь документальное свидетельство), сделал несколько фотоснимков, заглянув объективом в отверстую щель. Несколько раз, выдерживая краткие паузы, необходимые для перезарядки, сработала вспышка. Дело оказалось совсем простым: открыть крышку, щелк-щелк, закрыть крышку. Правда, Ежи Врубель начинал тяжело дышать, когда его просили поднять крышку повыше.
У меня есть два цветных, точнее, серо-коричневых фотоснимка. На обоих запечатлена в несколько разных ракурсах одна и та же мумия, скрестившая руки ниже живота, правая поверх левой, на старом, когда-то белом, а теперь покрывшемся пятнами саване. Это были по-мужски длинные руки, чьи кости (в отличие от головы, превратившейся в череп) сохранили на себе кожу, которую видно из-под складчатых рукавов савана; на пальцах правой, лежащей сверху руки имелось даже три ногтя. Ни колец, ни четок, на всем лишь песочного цвета тонкая пыль. Закаменевшая подушка приподнимает череп, уткнувшийся подбородком в воротник. На снимке есть правая рука Врубеля, она живого телесного цвета; ею, а также не попавшей в кадр левой рукой он держал крышку гроба со стороны изножия. Различимы два болтающихся на крышке гвоздя, которые могли бы пополнить собою коллекцию Решке.
Александр Решке не преминул отметить в дневнике «трогательную красоту мумифицированного мужского тела», чуть склоненного набок черепа и все еще пышных складок савана, который закрывал фигуру до самых ступней. «Я благодарен Александре, — пишет он, — за возможность лицезреть эти два века абсолютного покоя, если отвлечься, конечно, от краткого промежутка, когда мумию потревожили переносом из нефа сюда, в склеп».
Высказав мысль, что такой покой даруется только смертью, Решке выдвигает предположение: речь идет об останках бургомистра Даниэля Гралата, который умер в 1767 году; его главной заслугой считалась закладка Большой аллеи. «У мумии неоспоримая патрицианская величавость. Гралат был одним из тех, кто пожертвовал немалые деньги на орган для храма Тела Христова; жаль, что от органа сохранился лишь отреставрированный фасад, а сам он, как пожаловался старокатолический священник, был сразу же после войны расконсервирован и отправлен в Бытов».
Затем следует запись о том, что осмотр склепа и мумии пробудил в Решке и Пентковской новые силы и вызвал у них желание продолжать начатое дело вопреки любым препятствиям. Стоя перед классическим порталом, Александра, по словам Решке, вновь рассмеялась и сказала: «Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я знаю, наша идея была верна. Но переносить прах все равно нельзя, потому что это нарушает покой усопших».
Эрна Бракуп ушла в отставку. По моей прихоти, об этом будет подробно рассказано только сейчас, хотя на самом деле Эрна Бракуп ушла в отставку сразу же после того, как о ней было заявлено наблюдательному совету. Сказав свое последнее слово, Эрна принялась обувать валенки, которые носила обычно с осени до весны, но предпочитала снимать в хорошо натопленном зале заседаний; она обула сначала левый валенок, затем правый, слегка постанывая, не произнося, однако, ни слова.
Все за столом следили за этой процедурой. Обув валенки, Эрна Бракуп, пятясь спиной, шаг за шагом направилась к двери. Она двигалась назад, не спуская глаз с наблюдательного совета, теперь уже не полного. Пусть все члены совета запомнят, что произошло; ведь они видели и слышали, как Эрна Бракуп, топ-топ, уходит от них, неумолимо. Вот так, в валенках, которые она иногда снимала, и в шляпе горшком, которую она не снимала никогда, осуществила Эрна Бракуп свой уход в отставку, будто наказывая остальных.
Наказанными и почувствовали себя Врубель, Решке и Пентковская, когда Бракуп, нащупав дверь, открыла ее спиной, шагнула в коридор, бросила оттуда последний взгляд и захлопнула за собой дверь. Решке пишет: «Все долго молчали. Мы наверняка молчали бы и дальше, если бы Фильбранд не сказал: „Перейдем к делу!“»
Продолжи я мою историю скупым сообщением о том, как наблюдательный совет перешел к делу, я чересчур быстро вернулся бы к простому изложению так называемого сюжета. Ну уж нет. Расставаться с Эрной Бракуп я не тороплюсь.
Кроме текста, к обсуждению которого призвал Фильбранд, до меня дошла фотокопия письма — старая женщина написала его тогда же, в день своей памятной отставки, написала чуть дрожащей рукой и тем зюттерлиновским шрифтом, который вдолбили в нас на уроках чистописания в школьные годы и которым мы продолжали пользоваться, пока благодаря послевоенным демократическим преобразованиям он не исчез вместе с прочими нелепостями.
Заостренными, угловатыми и округлыми буквами, отчасти передающими неповторимую интонацию речи Эрны Бракуп, сказано: «Глубокоуважаемый совет! Когда я уходила в отставку, то очень распереживалась и забыла, чего я еще хотела сказать. Я всегда мечтала про немецкое кладбище. Потому что немцы должны покоиться вместе с немцами, а поляки вместе с поляками. Но сейчас дело делается не по-людски. Про человека-то опять забыли. Так было до войны и после. Я это знаю, сама видела. Но если наше кладбище, которое стало почти таким же красивым, как раньше, делается не ради людей, а только ради денег, то не надо мне этого кладбища, когда мне времечко придет. Вот чего я вам хотела сказать, а особенно пану Врубелю, потому что у него добрая душа, и сказала это от чистого сердца Эрна Бракуп, урожденная Формелла».
Вероятно, именно это письмо подтолкнуло к отставке и муниципального служащего Ежи Врубеля, ожидавшего затем лишь подходящего случая, который представился в середине апреля. Однако пока что я продолжаю рассказывать о том заседании, когда Ежи Врубель, вместе со священником Петровского собора, а также с консисторским советником и с нашей парой, еще надеялся, что Эрна Бракуп, поостыв, вернется к ним в своих валенках и шляпке горшком. Поэтому все они последовали призыву Фильбранда, и наблюдательный совет продолжил работу.
Отчет, подписанный Пентковской и Решке, перечислял успехи, но указывал и на нерешенные проблемы. Наиболее приятными были сообщения о создании аналогичных акционерных обществ и об открытии миротворческих кладбищ в таких прежних немецких городах, как Бреслау, Штеттин, Ландсберг-на-Варте, Кюстрин и Глогау. Лишь в Позене имелись некоторые осложнения. Зато из Бромберга пришел категорический отказ. «Тем не менее семя нашей идеи разбросано широко, — говорил Решке, — и во многих местах поднимаются добрые всходы. Можно надеяться, что вскоре будут открыты миротворческие кладбища в Штольпе, Алленштейне, Хиршберге, Бунцлау и Гляйвице…»
Это сообщение вызвало аплодисменты. Марчак и госпожа Деттлафф поздравляли нашу пару. Количество заявок от бывших переселенцев из Силезии, Восточной Пруссии и Померании значительно превысило данцигские масштабы, поэтому Фильбранд и Марчак предложили учредить межрегиональный совет с резиденцией в Варшаве. Это соответствовало пожеланию польской стороны координировать работу из единого центра.
Консисторский советник Карау и его преподобие отец Бироньский, являя пример немецко-польского единодушия, предупредили об опасности чрезмерной централизации. Врубель и Решке также высказались против центрального наблюдательного совета. Развернулась продолжительная дискуссия, подогреваемая злободневными спорами о плюсах и минусах федерализма; в конце концов эта дискуссия приобрела настолько отвлеченный характер, что нет нужды останавливаться на ней подробно.
Одобрительно было воспринято и следующее сообщение об увеличении числа приютов для престарелых, которые прежде в кое-каких газетах были окрещены «покойницкими»; ныне в этих приютах успешно проводилась попечительско-благотворительная работа, например, нуждающиеся получали там бесплатные обеды. Немецкая сторона подхватила инициативу бывшего польского министра, занимавшегося проблемами социального обеспечения — впрочем, от талонов, вроде прежних «куроневок», решено было отказаться; раздача обедов осуществлялась без особой бюрократии.
Отчет оказался слишком длинным. Внимание слушателей начало ослабевать. Бироньский и Врубель, даже Карау, сидели с отсутствующим видом. Теперь речь зашла о пересмотре «Правил внутреннего распорядка» для кладбища, о нехватке гостиничных мест с учетом растущего количества родственников и близких, приезжающих на похороны, а также о православной церкви в бывшем крематории. Правила внутреннего распорядка были дополнены новым разделом «Вторичные захоронения и оптимальное использование площадей», по настоянию Пентковской, было предусмотрено право на анонимные захоронения. Кроме того, совет постановил содействовать строительству новых гостиниц. По третьему вопросу совет обратился за помощью к Бироньскому, который уже предоставил место для армянской общины в боковой часовне Петровского собора; была высказана просьба подыскать место и для православной общины. В свою очередь, Бироньский тут же попросил финансовую субсидию для восстановления свода в центральном нефе. Субсидию ему предоставили. Так решался вопрос за вопросом. Заседание шло гладко, даже чересчур.
Лишь когда на повестку дня встало обсуждение нового проекта, польская сторона явно забеспокоилась, тем более, что наша пара предварила эту часть отчета следующим предупреждением: «Подобное предложение кажется нам весьма сомнительным и несовместимым с миротворческим характером нашего замысла. Рекомендуем данное предложение отклонить».
Речь шла о строительстве дач и площадок для гольфа. Внуки и правнуки покойных, приезжая на похороны, осматривали не только город с его многочисленными башнями, но и равнинные, слегка холмистые окрестности, поэтому у молодых людей, нередко разбогатевших за счет наследства, возникало желание провести отпуск в тех краях, где похоронены или перезахоронены их дедушки и бабушки, или прадедушки и прабабушки. Особенно нравились мягкие холмы между Картхаузом и Берендтом, то есть так называемая Кашубия. Они называли ее сказочной, а поскольку юг Европы был уже заполнен туристами, само южное побережье — изуродовано застройками, им хотелось отдыхать (или, как процитировано у Решке, «подзаряжаться») на родине предков, где жизнь среди очаровательного пейзажа была до сих пор простой и спокойной.
В отчете указывалось, что инициаторы проекта обещали бережно относиться к природе при строительстве дачных поселков и обустройстве площадок для гольфа. Дескать, «ошибки, допущенные при освоении средиземноморского побережья, будут исключены». Здешний регион должен разрабатываться с максимальной осторожностью и только там, где сельскохозяйственные угодья бесперспективны; это будет происходить в тесном взаимодействии с польскими архитекторами, предварительные проектные наметки которых прилагались; проект преследовал своей целью популяризацию одного из самых экономичных видов спорта, каковым является гольф; разумеется, предполагалось, что членами гольф-клубов смогут становиться и поляки. Клубы не должны носить элитарный характер; более того, в заявке говорилось: «…миротворческой идее необходимо предоставить такую среду, где ее будут осуществлять не только мертвые, но и живые…»
Итак, проект был заявлен. Намечалось заложить первый дачный поселок на лесистом холме у моря. Площадки для гольфа занимали семьдесят пять гектаров, они тянулись по низинам и склонам холмов, не трогая зеленых насаждений. На берегу моря не должны были строиться многоэтажные здания, а лишь невысокие дома с плоскими крышами; дома поднимались террасами к скромному бетонному зданию клуба. Кровля из дранки была призвана возродить кашубский стиль.
Финансовое обеспечение проекта устраивало польскую сторону: примерно триста будущих членов гольф-клуба изъявили готовность внести по тридцать тысяч марок, авансируя проект под названием «Дачи-гольф». Инициаторы заверили, что приобретение земли в собственность не является предварительным и обязательным условием. Если польская сторона возражает против купли земли, достаточно получить соответствующую территорию в аренду на сто лет. Кроме того, объединение Европы все равно заставит пересмотреть вопросы собственности, которые сегодня вызывают настороженность. А ведь Польша, несомненно, захочет стать составной частью объединенной Европы.
Обсуждение этого последнего пункта повестки дня прошло по уже отлаженной схеме. Все опасения, высказанные Пентковской и Решке, вначале были сочувственно выслушаны, затем Фильбранд попытался их рассеять, но муниципальный служащий Ежи Врубель выступил с решительными возражениями против проекта, в то время как вице-директор Национального банка назвал подобные суждения несколько скоропалительными — вскоре его «нет, однако…» превратилось в «да, при условии…» Теперь уже речь пошла лишь о том, чтобы сократить срок аренды, предусмотреть долевое участие АО МК в проекте «Дачи-гольф», обеспечить предоставление новых рабочих мест исключительно польским строителям, озеленителям, обслуживающему персоналу клуба, поварам, официантам и т. д. и т. п…
Решке с Пентковской молчали. Дискуссия сделалась вялой; Решке встал и подошел к окну. С семнадцатого этажа отеля «Гевелиус» он посмотрел вниз на город, обвел взглядом его панораму справа налево, будто пересчитывая исчезающие в сумерках башни: щипец Большой мельницы, шпиль «Что в кастрюле?» над Катарининой церковью, башню Доминиканского собора позади круглой крыши рынка. На первом плане высилась церковь св. Биргитты. Слева от нее в густеющих сумерках над крышами домов темнела массивная башня церкви св. Иоанна с ее острым шпилем. А дальше, уже в предместье, скорее угадывался, чем виднелся, Петровский собор. Громада Мариинской церкви, возвышающаяся надо всем, закрывала собою стройную башню ратуши. Сколько же башен на сравнительно небольшом пространстве! А поверх них низкие, чернильные облака. Ах, да — совсем внизу, как бы у подножия высотного отеля, зазывал на доверительную застольную беседу игрушечный фахверковый домик на берегу Радауны.
Решке слегка приоткрыл окно и тут почувствовал, что рядом стоит Александра с сигаретой. Дымок заструился в щель, а оттуда повеяло вечерним дыханием города, сладковатым, припахивающим выхлопными газами. Позднее Решке записал в дневник: «Весь город показался мне миражом, реальностью был только этот пропитанный выхлопными газами ветерок, которым пахнуло через щель шириною с ладонь. Во мне вновь возникло желание покоя, такого же покоя, который я ощутил недавно в склепе храма Тела Христова — вечного покоя. А потом мне почудилось, что все эти церкви, башни, мельница, цейхгауз, рынок снедаемы каким-то внутренним огнем, который вот-вот полыхнет из высоких окон, и весь город займется пожаром, пламя пойдет гулять по улицам… небо осветится заревом… Хорошо, что Александра стояла рядом. А она сказала: „Они продают нас. И не знают меры“».
Порою мои сведения расходятся с теми, которые приводит мой бывший одноклассник. Например, он осуждает прозвучавшие в сейме опасения относительно «новой немецкой оккупации», однако с подобными заявлениями парламентарии стали выступать позднее, гораздо позднее; кроме того, иначе обстояло дело с записанным у Решке вопросом, который обсуждался еще на предпоследнем заседании наблюдательного совета, — речь шла о захоронениях в Данцигской бухте; поэтому сообщаю, что хотя это предложение было отклонено со ссылкой на плохое экологическое состояние прибрежных вод, однако впоследствии нелегальные захоронения с рыбацких судов все-таки происходили, так как они сулили неплохой приработок рыбакам из Путцига и Гайстернеста. Остается, пожалуй, еще упомянуть, что, начиная с февраля, покойники стали прибывать чартерными авиарейсами в гданьский аэропорт Ребихово, где на грузовых складах пришлось специально оборудовать холодильные камеры.
Подробности Решке опускает. Кое-что он нарочно умалчивал или описывал довольно туманно; мой прежний сосед по парте прислал мне великое множество бумаг, однако теперь я вижу пробелы. Например, неясно, когда именно появился в дюссельдорфской конторе акционерного общества штатный плановик. Кто взял его на работу? Сам Решке? Или эта кандидатура была ему навязана наблюдательным советом, чтобы обеспечить контроль? Чего не знаю, того не знаю, я не Решке.
Во всяком случае, нагрузка на нашу пару возросла. Если раньше можно было просто переговорить по телефону с секретаршей в Бохуме или послать факс с помощью «Интерпресса», то при новом объеме работ все стало куда сложнее. Когда начались перезахоронения, акционерному обществу потребовался плановик. Но наша пара возражала против перезахоронений, так что, вероятно, нового сотрудника подыскал наблюдательный совет, точнее, Фильбранд; однако пока в Бохуме сидела бывшая секретарша Решке, госпожа фон Денквиц, сам Решке ничего не замечал или не придавал особого значения переменам.
Мне же известно лишь следующее: доктор Торстен Тиммштедт приобрел опыт управленческой работы в страховой компании; его родители не были беженцами, но в свои тридцать четыре года он счел деятельность землячества перспективной, энергично взялся за дело и вскоре показал себя истинным профессионалом, с которым Александру Решке, способному организатору, но все же дилетанту, тягаться было трудно. Последний пункт отчета разрабатывался уже дюссельдорфской конторой; таким образом, учреждение при немецко-польском акционерном обществе дочерней фирмы «Дачи-гольф» послужило для Тиммштедта как бы боевым крещением в качестве штатного сотрудника АО МК. С его приходом деятельность АО МК заметно оживилась. Уже к концу марта, по словам Фильбранда, «подул свежий ветер».
Пентковская и Решке, пока еще остававшиеся распорядителями, отнеслись к этому спокойно; Решке даже похвалил Тиммштедта за новые формы обслуживания клиентов: «Я давно уже подумывал о тактичных, но более широких формах предложения наших услуг, вплоть до визитов на дом, однако сам я сейчас не могу этим заняться, ибо слишком привязан к Гданьску…»
Верю, его место было именно здесь. Если бы он взялся теперь за те дела, которые вел сейчас молодой менеджер, Александру Решке пришлось бы переехать в Дюссельдорф, поддержать проект «Дачи-гольф», расширять сеть обслуживания; но следствием всего этого стала бы разлука, чего он не мог себе даже вообразить. Поэтому наша пара пошла на уступки, она смирилась с утратой влияния, зато осталась вместе. С другой стороны, наша пара дала повод для пересудов. Пентковская в основном теперь работала дома, в своей трехкомнатной квартире; Решке же принял там на себя роль домохозяйки; Ежи Врубель частенько бывал в их доме 78–79 на Хундегассе. Некоторые члены наблюдательного совета сочли такое совместное проживание нашей пары неприличным.
К концу очередного заседания, когда обсуждалось «разное», госпожа Иоганна Деттлафф упрекнула распорядителей за упущения в работе, а Карау поддержал ее предложение занести в протокол пожелание, чтобы «личные моменты отделялись от деятельности акционерного общества». Что же касается подозрений относительно некоторых финансовых отчетов Эрны Бракуп, то их — уверен — высказал Фильбранд.
Все эти щекотливые вопросы обсуждались уже после того, как Решке с Пентковской вернулись из своего уединения у приоткрытого окна к остальным и сели за стол; Александра больше не курила. Тут госпожа Деттлафф заявила, что намерена проверить так называемые «резервы» — «Я жена директора окружной сберкассы, поэтому знаю, что говорю». Однако Марчак, который предпочитал помалкивать о том, что ему было известно, хотя ему-то было известно больше, чем другим, попытался успокоить ее: дескать, финансовые операции, осуществленные господином Решке, действительно несколько необычны, зато эффективны. Врубель же попросил проявить снисходительность к финансовой некорректности Эрны Бракуп, а заодно призвал выразить безоговорочное доверие обоим распорядителям. «Ведь мы прекрасно помним, кому принадлежит идея создания миротворческого кладбища и кто внес наибольший вклад в ее реализацию…»
Врубель говорил тихо, будто просил извинить какие-то ошибки. В финансах, мол, он не разбирается, однако уверен, что ничего худого не произошло — ведь деньги не пропали, наоборот, каким-то чудом их даже удалось приумножить. Поэтому не стоит быть чересчур щепетильными. Вот и пан Марчак так считает, а уж он-то в финансовых делах собаку съел.
Несколько дней спустя, все тот же Врубель таким же скорбным голосом сообщил в квартире на Хундегассе тревожную новость. Пентковская как раз грунтовала правое крыло позднеготического коленопреклоненного ангела, поэтому попросила Решке вскипятить кофе для гостя, который принес весть о том, что Эрна Бракуп захворала.
Ангел, тем более кофе были на время отложены. Врубель последнее время экономил бензин (о профессорской машине дневник вообще не упоминал уже несколько недель), поэтому все они сели на остановке Брама Выжинна в трамвай, шедший до Нового порта, и сошли в Бжезно. Там к холодной сырости добавился пронизывающий северо-западный ветер. Порывы дождя хлестали по лицу. Бывший курорт и рыбацкая деревушка переживали явный упадок. Причем поизносившимися выглядели не только старые, но и построенные недавно дома. Мостовые и тротуары имели столь же плачевный вид. Пришлось прыгать через лужи.
Врубель провел их в тупик, где слева меж подгнивших деревянных сараев стояли рыбацкие халупы, а справа высились коробки новостроек, одна из которых замыкала тупик. В противоположном направлении улица вела к дюнам, сквозь проем виднелся краешек рябого моря.
Эрна Бракуп занимала половину крытого толем фахверкового домика с верандой. Лежа на перине, в шляпе, она прокричала: «Заходите, гостюшки. Мне, вроде, полегчало. Вот встать собираюсь». У изножья старой кровати примостились валенки, из-под кровати выглядывал ночной горшок.
Потом она заговорила по-польски с Врубелем, иногда обращалась к Пентковской, однако ни словечка не сказала Решке.
Все, что Александра переводила Александру, как бы поворачивало время вспять, только кашель рассказчицы оставался в настоящем, а сами ее рассказы относились либо к военной поре, либо к довоенной. Детство, проведенное частью в деревне, частью в Нижнем городе, оказалось насыщенным драматическими событиями: между Рамкау и Матерном снова и снова тяжко телилась корова, у учителя начальной школы на Вайденгассе ломалась розга, то случался высокий паводок, то пожар, в котором сгорал хлев или амбар; затем пошли рассказы о первой мировой войне, где погиб один из братьев, и о голодной зиме 1917 года, запомнившейся смертоносной испанкой. Между приступами кашля не раз, видно, вспоминался сбор картофельных жуков, иначе Решке не стал бы сравнивать в дневнике свое детство с детством Эрны Бракуп: «Удивительно, какой проблемой колорадский жук оказался уже в первую мировую. Нам-то внушали, будто он перебрался через Рейн лишь в середине тридцатых годов, правда, затем быстро распространился вплоть до Украины…»
Верно! Со времен польской, самое позднее — французской кампании нас заставляли собирать жуков в бутылки, под дождем, когда пальцы коченели от холода. Отвратительные насекомые в черно-желтую полоску. Нам говорили, будто англичане сбрасывают их по ночам тоннами со своих самолетов. За день полагалось набрать доверху три литровые бутылки… Алекс организовывал сбор… Уже тогда мы с ним… Во всяком случае Эрне Бракуп также приходилось в любую погоду…
Ее мучил сухой кашель. Спальня служила одновременно и столовой. Напротив кровати на стене висели остановившиеся часы. Газовая плита находилась на застекленной желтыми и зелеными стеклами веранде, впрочем, некоторые из них были разбиты и заменены матовыми. Пентковская вскипятила воду, часть кипятка пошла на заварку грудного чая, а остаток был налит в фаянсовую флягу, которая использовалась как грелка. Эрна послушно выпила мелкими глотками заваренный чай.
Над кроватью, точнее над изголовьем, висела картинка, изображавшая Иисуса с кровоточащим сердцем. Алые капли, стекающие в золотую чашу, перекликались с такой же кроваво-алой брошью на шляпе Эрны. Ее скуластое лицо стало заметно меньше, как будто съежилось. Она выпростала из-под перины правую руку и нащупала ладонь Врубеля, тот ответил ей легким рукопожатием. Теперь дыхание Эрны выровнялось. От нее шел кисловатый запах. Все подумали, что она заснула, и поднялись с мест, тут, однако, она снова заговорила на своем странноватом диалекте: «Чего совет-то поделывает, из которого я ушла? А война в пустыне еще не кончилась? Вы уже идти собрались? Ну, ладно. Ступайте».
Врубель вернулся с Пентковской и Решке в квартиру на Хундегассе. Коленопреклоненный ангел, загрунтованный и покрытый специальной мастикой, ждал позолоты. Врубель зашел лишь на чашку кофе. Метровый ангел стоял на столе. Пока Решке готовил кофе, Пентковская начала накладывать тонкие кусочки золотой фольги, приглаживая их мягкой кисточкой. Мужчинам не разрешалось делать резких движений, чтобы на ангела не дунуло, поэтому они примостились с чашками в сторонке.
Сначала разговор шел об Эрне Бракуп, о том, долго ли она протянет, а затем — о наблюдательном совете. Досталось каждому члену совета; Врубель и Решке шутливо сравнивали Карау с Бироньским, покритиковали проект «Дачи-гольф», обсудили возможность совместной поездки весной в Силезию с целью осмотреть новые миротворческие кладбища, выбрали для посещения дополнительно Алленштейн и Штольп, решили заехать в Бромберг, дабы предпринять там последнюю попытку с кладбищем, одобрили бесплатные обеды в домах для престарелых и вообще положительно оценили то, как осуществлялась миротворческая идея, за исключением перезахоронений; и вот тут, пока Пентковская разглаживала плоской кисточкой позолоту на ангельском крыле, Ежи Врубель мимоходом сказал о своей отставке — на последнем заседании совета он действительно заявил, что выходит из него. Дескать, он больше не может оставаться его членом. Как поляк он, мол, весьма сожалеет о том, что своими краеведческими знаниями и информацией, почерпнутой из кадастровых книг, помогал новой немецкой колонизации. Будучи патриотом, он просто не может не уйти в отставку. К сожалению и стыду, этот шаг сделан слишком поздно.
Это произошло в самом начале заседания. Совет принял отставку. Наша пара промолчала. Возможно, свою роль сыграли тактические соображения; Решке с Пентковской ждали, когда будет принято решение по проекту «Дачи-гольф» и начнет обсуждаться третий пункт повестки дня. Речь шла о пояснительных табличках на зданиях, имеющих историческое значение, а также о табличках с названиями улиц в Старом и Правом городе. Подробную письменную заявку на эту тему подготовил Врубель, который, однако, после принятия своей отставки тут же покинул зал заседания, поэтому заявку огласил его преподобие отец Бироньский. Предлагалось указывать на уличных табличках рядом с польским названием также прежнее немецкое и давать необходимые пояснения, как это уже было сделано с Варфоломеевской церковью. Там на зеленой табличке с украшенной орнаментом рамкой можно было прочесть название церкви на польском, английском, русском и немецком языках.
В поддержку своей заявки Врубель приводил мнение ряда известных польских историков, которые уже давно выступали за признание немецкого вклада в культурное наследие западных провинций Польши. «Время замалчивания, отрицания прошло. Представления об общеевропейской культуре требуют новой открытости…»
Консисторский советник Карау подхватил слово «общеевропейский» и поддержал идею делать многоязычные надписи на красивых больших табличках. Он добавил бы еще французский и шведский языки.
Ему возразил вице-директор Национального банка, который сослался на сравнительно небольшое количество скандинавских туристов даже в сезон отпусков. Американцы и французы также заезжают сюда не часто. От русских надписей можно, наконец-то, и вовсе отказаться. Бироньский одобрил это выступление, Мариан Марчак привел статистические данные, согласно которым более семидесяти процентов зарубежных туристов прибывают из немецкоязычных стран, причем эта тенденция имеет нарастающий характер.
Когда пришла пора голосовать по третьему пункту повестки дня, Фильбранд поинтересовался мнением распорядителей, которые до сих пор помалкивали. С уходом Врубеля над ними как бы опустился стеклянный колпак. А возможно, они уже и вовсе унеслись мыслями к коленопреклоненному ангелу, поджидавшему нашу пару на кухне у Александры.
Решке встал, чего ораторы обычно не делали, и от имени обоих распорядителей сказал, что возражений против двуязычных табличек нет, хотя предпочтительней были бы четырехязычные надписи, включая русский язык. Всестороннее признание вкладов в общую сокровищницу культуры является составной частью той миротворческой инициативы, с которой год назад выступила госпожа Пентковская и он сам. С тех пор эта инициатива завоевала определенный авторитет не только в Гданьске, но и в Силезии и Померании. Открывается все большее количество кладбищ для тех, кто хочет быть похороненным на родине. «Им, покойным, мы и обязаны своим успехом. Их безгласная помощь рождает ту энергию, которая питает немецко-польское акционерное общество. Однако за последнее время к основополагающей идее примешивается корыстный интерес, отчего изначально благородное дело начинает дурно, весьма дурно пахнуть…»
В этом месте Решке, видимо, повысил голос. Во всяком случае это можно предположить, судя по дневниковой записи: «Мы подошли к последнему рубежу! Если с приютами для престарелых еще можно было согласиться, ибо там люди, вернувшиеся на родину, уже приготавливают себя к смерти, то нажива на переносе праха, этот процветающий гешефт с перезахоронениями — не просто скандал, а прямо-таки кощунство. Теперь же возникает вопрос о приобретении земли. Поколение внуков и правнуков пристрастилось к неким развлечениям, так отчего бы не поживиться?! В ход идет демагогия, будто площадки для гольфа служат едва ли не прямым продолжением наших миротворческих кладбищ. Нет, и еще раз — нет! От изначальной идеи, в сущности, ничего не осталось. Речь уже попросту идет о возвращении экономическими средствами того, что потеряно в результате военного поражения. Да, конечно, все происходит вполне мирно, без артиллерийской канонады и пикирующих бомбардировщиков. Не правда ли, господин Фильбранд? Не правда ли, пан вице-директор Национального банка? Всем правят деньги! Только нам, обоим распорядителям, с вами не по пути. Мы подаем в отставку».
Вижу, как Решке опускается на свое место совершенно без сил, хотя, будучи профессором, он приобрел достаточный ораторский навык; а вот долго или коротко царило молчание после его выступления, об этом остается лишь гадать. Об иронических аплодисментах, допустим, со стороны Фильбранда дневник ничего не говорит, зато приводятся слова Александры: «Вопреки нашей договоренности она взяла слово и — стоя, как и я — выразила сожаление, что в нашем начинании не удалось осуществить литовскую часть. „Во всем виноват кавардак в Советском Союзе!“ — воскликнула она. Тем не менее у нее, мол, благодаря моральной поддержке пана Решке, еще теплилась какая-то надежда. Александра попросила вычеркнуть литовскую часть из учредительного договора, а деньги, зарезервированные на целевом банковском счете для виленского миротворческого кладбища, передать на другие нужды: „Бедных людей всегда хватает!“ Если я к концу моей речи излишне повысил голос, перешел едва ли не на крик, то она заговорила совсем тихо. Каждую фразу она произносила сначала по-польски, а затем — со своим милым акцентом — по-немецки, поэтому я успел записать все дословно: „Теперь речь идет о Польше, только о ней. Я не националистка, но боюсь за нее. Почему, собственно? Ведь раньше я никогда и ничего не боялась. Пан Александр частенько повторял: не дай Бог попасть Польше в немецкое меню. Теперь я убедилась: у немцев аппетит не проходит, даже когда они сыты. Вот чего я боюсь!“ Тут моя Александра села и сразу потянулась за сигаретой. Она закурила, не обращая внимания на госпожу Деттлафф. Она сидела, закрыв глаза, браслеты на руках тихонько позвякивали друг о друга…»
«Но, дорогая госпожа Пентковская! К чему такой пессимизм?» — заговорил консисторский советник Карау.
Александру Решке послышалось, что госпожа Деттлафф прошептала: «Настоящая коммунистка, до сих пор видно!»
Фильбранд, также поднявшись с места, сказал: «Мы все глубоко потрясены и считаем вашу совместную отставку большой потерей для нас. Что же касается непомерных германских аппетитов, то этот упрек я решительно отвергаю. Видит Бог, история многому нас научила. Мы годами посыпали себе голову пеплом. Скорее уж следовало бы признать, что мы излишне скромничаем. Ни у кого нет оснований бояться нас! Поэтому очень прошу вас воздержаться от поспешных шагов. Пожалуйста, дорогая госпожа Пентковская и дорогой профессор Решке, обдумайте еще раз ваше решение. Недаром же в вашей замечательной песне поется: „Еще Польска не сгинела“.»
После этого дело приобрело довольно странный, точнее смешной и даже нелепый оборот. Ах, Решке! Какого черта он и Александра, решительно заявив о своем уходе, вдруг послушно согласились принять невесть кем выдуманное «почетное президентство», которое не было предусмотрено учредительным договором; впрочем, остаток наблюдательного совета тут же провел голосование и без единого голоса «против» предложил эту почетную должность Пентковской и Решке. Неужели они надеялись таким образом спасти свою идею от надвигавшегося оползня вполне конкретных материальных интересов? Но для этого отсутствовал инструмент. Почетные президенты не имели возможности ни приостановить решение, ни наложить вето. От них не требовалось какой-либо подписи, однако соответственно нельзя было и отказаться что-либо подписать. Контроль за финансами также не входил в их компетенцию. Все «резервы» были выявлены, равно как и финансовые операции, которыми занимался Решке.
Едва оба распорядителя сложили свои обязанности и сделались президентами, их функции были переданы Иоганне Деттлафф и Мариану Марчаку, после чего кресла еще раз передвинулись. Следом за этим Фильбранда попросили назвать кандидатов на освободившиеся места в наблюдательном совете; тот вызвал по телефону четырех, ровно четырех претендентов, которые, оказывается, уже ожидали приглашения в своих гостиничных номерах; после приветствия и краткого собеседования все четверо были утверждены в новых должностях. Обоим почетным президентам оставалось лишь дивиться тому, насколько хорошо все было заранее спланировано и как четко исполнено.
Среди четырех свежеиспеченных учредителей был и Торстен Тиммштедт, чья работа в Дюссельдорфе упоминалась лишь между прочим, ибо все присутствующие (кроме, конечно, нашей пары) сочли избрание Тиммштедта само собой разумеющимся. Судя по дневниковой записи, все новички были моложе сорока, но старше тридцати. Места Бракуп и Врубеля, ушедших в отставку, а также место Марчака, ставшего распорядителем, заняли два молодых человека, родившихся и выросших в Гданьске, а также молодая женщина, которая, по ее словам, была немкой, хотя языка своих родителей она практически не знала. Если Тиммштедт, заменивший в наблюдательном совете госпожу Деттлафф, приобрел управленческие навыки в страховой компании, то оба молодых поляка имели иной профессиональный опыт, благодаря чему все удачно дополняли друг друга. Один из них руководил архитектурной мастерской, которая уже готовила чертежи к проекту «Дачи-гольф», второй работал в секретариате оливского епископа. Не говорящая по-немецки молодая немка оказалась совладелицей частного туристического бюро, которое начинало успешно конкурировать с государственным турагентством «Орбис». Все новички единодушно полагали, что главное в любом деле — результат.
Наивный Решке пишет: «Молодые люди произвели на меня освежающее впечатление; едва приступив к работе, они продемонстрировали отсутствие каких бы то ни было предубеждений. Они поддержали мое предложение о четырехязычных табличках, отдали за них свои голоса, и соответствующее решение было принято; правда, русский язык был заменен шведским. Зато нам с Александрой не понравилось, что все они, особенно Тиммштедт, потребовали интенсифицировать перезахоронения. Он заявил: для оптимального планирования работы необходимо добиться более регулярных поставок для коллективных могил. Дескать, количество предоплат уже превышает количество перезахоронений. Клиентов (он прямо так и сказал: „наших клиентов“) беспокоят долгие сроки исполнения договорных обязательств. Бохумский секретариат не справляется с возросшим объемом работы. Госпожа фон Денквиц придерживается того же мнения и готова, забрав всю документацию, переехать в Дюссельдорф, просит, однако, чтобы этот вопрос был согласован с господином почетным президентом, ибо она по-прежнему дорожит его доверием…» Александру Решке не оставалось ничего иного, как кивнуть.
Затем Тиммштедт предложил взять в аренду еще одно кладбище, чтобы ускорить перезахоронения. Не знаю, какое решение принял на этот счет обновленный состав наблюдательного совета. Едва Тиммштедт изложил свои планы и общую «стратегию фронтального наступления», Пентковская попросила Решке уйти с заседания пораньше. «Нас на кухне ждет ангел», — сказала она.
Поэтому наша пара лишь позднее узнала, что немецко-польское акционерное общество приобрело еще одну территорию, которая располагалась между бывшим спортзалом, перестроенным в шестидесятые годы под здание «Балтийской оперы», и уже арендованным участком бывшего Сводного кладбища. Речь шла о старом Малом плаце, позднее переименованном в Майский луг: когда-то здесь маршировали колонны, празднуя грядущую окончательную победу рейха, в этих колоннах шли я и Решке, оба в юнгфольковской форме, а там, где трибуна со знаменем и прочей символикой отбрасывала воскресным утром густую тень, теперь будут тесниться коллективные могилы.
Между прочим, в том спортивном зале после войны судили гауляйтера, именем которого некоторое время назывался стадион за миротворческим кладбищем; в те годы, когда Решке и я еще были школьниками, и потом, когда мы стали рядовыми ВВС, или отбывали трудовую повинность, тогда позади Сводного кладбища еще действовал крематорий.
Метровый коленопреклоненный ангел на застеленном газетами кухонном столе. До чего благоговейно описывает Решке ремесло своей Александры. Каждый инструмент оказывается чем-то вроде культового предмета, им не работают, а священнодействуют; взять хотя бы специальную подушечку для нарезания золотой фольги на подходящие по размеру квадратики — Решке называет ее «алтарем, с которого Александра берет самшитовым пинцетом тончайший золотой листочек, чтобы прижать его мягкой верблюжьей кистью к загрунтованному деревянному ангелу.
Складной пергаментный зонтик оберегает квадратики золота на подушечке от случайного сквозняка…»
Решке снова и снова указывает, что золочением можно заниматься лишь при плотно закрытых окнах и дверях. Ему самому, любопытному зрителю, который в лучшем случае почитывает книгу или перешептывается с Врубелем, запрещалось делать резкие движения; даже страницы следовало переворачивать крайне осторожно; сама Александра также снимала и накладывала золотые листочки осторожными и плавными движениями. Все происходило будто в замедленной съемке. Работая, она никогда не смеялась. Иногда эту кухонную идиллию разрешалось слегка разнообразить приглушенной «хорошей музыкой».
Он не забывает ничего: полировочный камень из агата, различные кисти, которыми наносятся восемь слоев грунтовки; обрезки телячьей кожи, из которых на кухонной плите варится клей, потом в него добавляется хинная кора. Будучи знатоком истории искусств, Решке не преминул заметить, что золочение имеет четырехтысячелетние традиции. «Уже древние египтяне расплющивали золото на тоненькие листочки, которые до сих пор собирают по двадцать пять штук — десть листового золота».
Александра работала с последними остатками тех запасов, которые некогда поступали из Дрездена, с «народного золотобитного предприятия». Тихая кухня, где не бывало даже слабенького сквозняка и где коленопреклоненный ангел все больше покрывался золотом, стала теперь главным местом обитания обоих почетных президентов АО МК. Они почти не выходили из дома, разве что навещали Эрну Бракуп, «которая все чаще и чаще погружалась в воспоминания детства».
В рабочих перерывах они часто пили кофе. Решке называл ангела «работой безымянного мастера из Южной Германии или Богемии». Пентковская же возражала: «Типичная краковская школа». В кухне приходилось постоянно измерять влажность воздуха, чтобы поддерживать ее на определенном уровне.
Пока Александра работала, они почти не разговаривали. Решке либо ставил долгоиграющую пластинку, либо включал радиостанцию, которая с утра до ночи передавала классическую музыку. Куранты на ратуше били каждый час: «Мы не покинем той земли, которой рождены…»
Коленопреклоненный ангел, вырезанный из липы, дул в трубу; он имел, вероятно, какое-то отношение к Страшному суду. «Видимо, раньше ангелов было много, целый золотой хор; от звука их труб раскрывались склепы, гробы и гробницы; исполнялось то, что я прочитал недавно на могильной плите в храме св. Троицы:
Я почию в могиле тесной, Но час настанет, я воскресну, Чтобы за муки, может быть, Блаженства вечного вкусить.Александрин ангел возвещал об этом часе».
Она забрала эту фигуру из другой мастерской. Заплаты, пробочки, зашпаклеванные дырочки от древоточца свидетельствовали о том, что с деревом возились долго. Ангел, припавший на левое колено, выглядел довольно жалко — эдакий ветеран исторических перипетий. Даже покрытый восемью слоями искусной грунтовки, которая, впрочем, не огрубила богатую позднеготическую драпировку, ангел, казалось, многое потерял навсегда от своей прежней красоты.
Однако по мере того, как он покрывался позолотой, как заблестели оба крыла и Александра нанесла на грунтовку смесь белого и червонного золота, а потом начала полировать агатом позолоту от воронки трубы до пальцев ног, фигура постепенно обрела задуманную безымянным мастером первозданную красоту. Если прежде трубящий ангел имел жалкий вид и напоминал своими взбитыми локонами скорее все же задрапированного юношу, нежели деву, то теперь в фигуре появилась та терпкая прелесть, которая, по словам Решке, отличает «ранних ангелов Рименшнайдера…»
И все-таки он оценивал отреставрированную скульптуру не слишком высоко: «Скорее всего, ангел принадлежал к групповому фону на алтаре, а не был центральным символом воскресения из мертвых, как я ошибочно предполагал раньше. Но удивительно, до чего помолодела под руками Александры эта древняя вещь. Полируя фигуру, продвигаясь снизу вверх, она не раз твердила мне: „Вот увидишь. Будет, как новенький“.»
Тем временем настала весна. Когда же на кухне Пентковской воссиял, наконец, отполированный золотой ангел, символизирующий воскрешение, муниципальный служащий Ежи Врубель принес известие о смерти Эрны Бракуп.
Прежде, чем ее похоронят, надо бы добавить следующее: в апреле, а точнее с восьмого апреля, Польшу поразила «выездная лихорадка», поскольку именно с этого дня поляки обрели возможность безвизового выезда через западную границу в Германию и дальше — во Францию, Голландию или Италию, лишь бы хватило злотых, которые теперь можно было поменять на твердую валюту. Заветные желания стали вполне осуществимы. На две-три недели, пусть даже на один день, можно было позабыть о всех тех заботах и проблемах, которые приносили с собою польские будни. Однако едва поляки переступали через границу, как их встречала дикая злоба. К ним относились с нескрываемой ненавистью, даже угрожали расправой, вновь оживали картинки из хрестоматии по истории немецко-польских связей, и все прекраснодушные слова, которые звучали в недавнее время, сразу как-то развеялись и забылись. Становилось жутко. Недружелюбие быстро отбило у поляков охоту к путешествиям, поэтому не удивительно, что многие из тех, кто собирался поехать куда-нибудь на Запад, оказался на похоронах у Эрны Бракуп.
Панихида состоялась в часовне Матарнийского кладбища. Эрна Бракуп взяла с Ежи Врубеля клятвенное обещание, что ее похоронят не на новом миротворческом кладбище, а на Матарне. Собралось больше сотни человек разного возраста, все в трауре. Места в часовне не хватило. Фотография запечатлела много народу перед входом.
Бракуп лежала в открытом сосновом гробу. Отпевание проходило по католическому обряду, медленно и громко. На Эрне было черное шерстяное выходное платье. Все пели охотно, жалостно. Нет, на сей раз Эрне обули не валенки, а полуботинки со шнурками, шляпа тоже осталась дома; только редкие прядки волос покрывали маленькую старушечью голову. Отпевали Эрну Бракуп два священника — один из Бжезно, другой из Матарнии. А вот брошку с полудрагоценным, алым, как Христово сердце, камнем, кто-то (вероятно, Ежи Врубель) снял со шляпы и прикрепил к высокому воротнику платья, под самым подбородком. Священники и служки в белом и фиолетовом. Гроб обставлен свечами и тюльпанами. В переплетенных пальцах Эрна держала четки и иконку, на которой Решке разглядел Черную Мадонну.
От него же я узнал, что во время католического отпевания можно исповедоваться и причащаться. Облегчить свою душу захотелось многим, поэтому отпевание длилось больше часа. Решке не был католиком и вообще не причислял себя к какому-либо вероисповеданию, зато Пентковская, которая не раз говорила, что, обновив две дюжины алтарей, осталась при этом безбожницей, вдруг отодвинулась от Александра, встала со скамьи и присоединилась к длинной очереди перед кабинками для исповеди, где священники подставляли свое ухо кающимся; священник, постучав по перегородке, дал знак, Пентковская зашла в кабину и вскоре вышла оттуда; отрешенная от мира и погруженная в себя, она стояла среди тех, кто уже побывал на исповеди, и смиренно ожидала последних грешников, затем с другими одетыми в траур людьми она преклонила колена на скамье для причастия, запрокинула, не снимая шляпы, голову, приняла облатку и, потупив глаза, вернулась на прежнее место; здесь она вновь преклонила колена, после чего еле слышно сказала Александру, что в Польше можно оставаться неверующим, но вести себя при этом как католик. Решке пишет: «Я ее ни о чем не спрашивал и уж тем более не допрашивал. Александра сама по дороге домой, рассмеявшись, сказала: „Вот теперь можно сделаться безбожницей. До следующего раза“.»
Похороны Эрны Бракуп оказались, вообще, по-своему веселым событием. Она и сама улыбалась, лежа в отполированном гробу с белой обивкой; об этой улыбке, запечатленной на фотографии, которую снял Решке, он же и говорит в дневнике: «Лицо Эрны имело скорее насмешливое, чем просветленное и умиротворенное выражение». Каким-то образом эта улыбка сообщила, видно, присутствующим особое настроение; старых людей было много, и все они принялись вспоминать разные истории, связанные с Эрной. Когда настала пора прощаться, они подходили к гробу, поглаживали переплетенные пальцы на груди покойной, и Решке слышал отнюдь не скорбное бормотание: «Тебе хорошо теперь!» «Отмучилась, бедная!» Или: «Спасибо тебе за все!» «Прощай, Эрна!» И даже: «Ну, пока. До скорого!»
Сами же похороны прошли быстро. Земля была глинистой. С кладбищенского холма можно было разглядеть за деревней аэропорт Ребихово. Впрочем, здание аэропорта и ангары лишь угадывались. Пока хоронили Эрну, ни один самолет не взлетел и не сел.
Когда гроб уже выносили из часовни, когда были развернуты хоругви с ликами святых, когда вытянулась черная похоронная процессия, — впереди священники и служки, Врубель шел за гробом первым, — ко входу на кладбище подъехал на такси С. Ч. Четтерджи и присоединился к процессии с венком и траурной лентой; он, как и остальные, был одет в черный костюм, тем не менее заметно выделялся из толпы.
На Матарнийском кладбище похоронены почти одни кашубы. Девяностолетняя Эрна Бракуп, урожденная Формелла, заняла свое место между Стефаном Жлучем и Розалией Швабе. Девяностолетний юбилей был отпразднован еще в январе, когда кругом лежал снег, в квартире на Хундегассе. Осталась фотография, на которой Врубель танцует с Эрной Бракуп.
Когда Решке после похорон подошел к Четтерджи, бенгалец с улыбкой и отсутствующим взглядом сказал: «Она была моей лучшей клиенткой. Особенно часто она ездила на ваше кладбище. Почему же ее похоронили не там, а здесь? Или она показалась вам не совсем настоящей немкой?»
К этому времени в записях моего бывшего одноклассника начинается беспорядок. Он часто перескакивает на много лет вперед или назад. Правда, почерк сохраняет прежнюю четкость, но непонятные сдвиги происходят даже в середине фразы. Внезапно то, что случилось прямо сейчас, видится как бы в далеком прошлом. Вот, например, описывается приезд Четтерджи на Матарнийское кладбище, а дальше Решке пишет о нем, словно много лет спустя, став уже глубоким стариком, и даже зовут его не Решке, а как когда-то, до онемечивания фамилий — Решковский; события разворачиваются будто бы в начале следующего тысячелетия, и он лишь смутно вспоминает о похоронах Эрны Бракуп и о приезде Четтерджи на кладбище: «…сегодня я попытался припомнить тот день 1939 года, когда, поддавшись настояниям отца, я онемечил собственную фамилию; то давнее событие вызвало теперь мое негодование, и тут на память мне вдруг пришел мой старый друг Четтерджи, тот самый, который ввел в наш обиход велоколяски, получившие теперь столь широкое распространение…»
Решке, точнее Решковский, так описывает, оглядываясь назад, нынешнее положение дел: «Ах, какие беды грозили, казалось, всему миру. Голод, войны, бесчисленные смерти, потоки беженцев, ищущих пристанище… Огненные слова „мене, текел, упарсин“ проступали на каждой стене. Надеялся ли кто-нибудь тогда на то, что жизнь вновь станет прекрасной. Смел ли кто подумать, что города и их окрестности вновь переживут экономический расцвет. Правда, всем сейчас заправляют бенгальцы, но это не ущемляет ничьих интересов. Даже Александра не жалеет для бенгальцев доброго слова. Планируется грандиозный эксперимент по использованию климатических изменений для выращивания на балтийском побережье, в Кашубии, соевых бобов. „Новым“ немцам трудновато смириться с теперешним положением вещей; поляки же относятся к выходу азиатов на ведущие роли спокойно, тем более что индуизм не слишком противоречит католицизму…»
Я и сам почти начинаю верить подобным пророчествам. «Недавно в храме св. Троицы освящали новый алтарь. Здесь мирно соседствуют, призывая к общей молитве, виленская Черная Мадонна с ее сияющим нимбом и калькуттская богиня Черная Кали с ее красным язычком. Теперь и Александра обрела свою веру, а поскольку мы вместе, то благость нисходит и на меня…»
7
Сидя на диване, Александр и Александра смотрели телевизионные новости. Он — в домашних тапочках, она — с сигаретой в мундштуке, а на экране быстро сменялись картинки: наводнения, горящие скважины, курдские беженцы; эти картинки и были свежими новостями взамен устаревших вчерашних. Наша пара глядела на войну в Персидском заливе, чьих жертв никто не считал.
Кроме дивана и кресел, здесь же наличествовал стол, на нем стояла вазочка с солеными палочками. Когда вулкан, проснувшийся на острове Лузон, засыпал пеплом предыдущие картинки с горящими нефтяными скважинами и курдскими беженцами, обещанную скорую победу и весьма приблизительные цифры погибших, промелькнувшие картинки утратили свою актуальность, хотя и сохранили некоторую значимость для последующих телерепортажей. Решке, записав увиденное в дневник своим бисерным почерком, встал с дивана, взял соленую палочку и подумал, что ничто на свете не кончается. Мне же хочется вспомнить осень сорок четвертого. Мы уехали из Данцига до того, как город погиб в пожарах. Трудовая повинность закончилась, нас обрядили в солдатскую форму и послали на военную подготовку; Решке стал радистом, я — танкистом, потом нас бросили в последнее сражение западнее Одера. И лишь случайно — понимаешь, Решке! — совершенно случайно, а вовсе не по доброй воле Провидения, мы с тобою выжили, уцелели, если не считать царапин, и сумели уйти на Запад; а вот брата Александры, семнадцатилетнего мальчишку, нашего ровесника, расстреляли как партизана годом раньше; Максимилиан, брат Александра Решке, погиб летом 1943 года — он был танкистом и сгорел под Курском; другой его брат, Ойген, наступил под Тобруком на противопехотную мину и был разорван на куски; это для них все кончилось, а для нас — нет.
Эта тема связана с одним разговором, о котором, пусть задним числом, стоит упомянуть. Прежде чем Эрна Бракуп со сложенными на груди руками и переплетенными пальцами была похоронена на Матарнийском кладбище, наша пара побывала в последний раз в ее рыбацкой халупе. Услыхав от Врубеля о смерти Эрны, Александр и Александра отправились, как и раньше, на трамвае до Бжезно, по линии, идущей мимо Саспенского кладбища и хорошо знакомой мне в связи с иной историей. Впрочем, скачок во времени обусловлен не этой трамвайной поездкой, не прощальным визитом к покойной, а прогулкой по берегу довольно спокойного моря в сторону Елитково; эта прогулка занимает в дневнике изрядное место, и Решке не единожды мысленно возвращается к ней, вначале непосредственно, а потом, как бы оглядываясь назад, по прошествии семи лет.
Из отрывочных дневниковых фраз можно понять, что в единственной комнате, а также на веранде было полно народу, стульев не хватало, люди толпились вокруг смертного одра. Свечи, цветы, ладан и т. д. Решке пишет: «На веранде, сидя за столом, громко молились соседки; как только освободилось местечко, Врубель подсел к ним, чтобы помолиться вместе с остальными. Я обратил внимание на три блюдца с леденцами, два блюдца уже почти опустели; плачущие и молящиеся брали леденцы, чтобы не охрипнуть.
Бесконечному кругу четок вторила нескончаемая молитва, которая время от времени прерывалась плачем. Врубель тоже взял леденец, я воздержался. Без шляпы наша милая Эрна выглядела непривычно; зато на губах ее застыла знакомая улыбка, которая показалась Александре скорее насмешливой, чем прощальной: „Это она смеялась над нами. Над нашим согласием принять почетное президентство. Какой уж там почет?!“»
А дальше, безо всякого перехода, наша пара вдруг оказывается на берегу моря. Врубель остался при леденцах, запас которых по мере надобности пополнялся. Наверное, Александр и Александра вышли на берег мимо старой начальной школы, через дюны. Решке описывает море угрюмым, серым, неподвижным; о погоде он ничего не сообщает, замечает лишь, что на всех пляжах уже несколько лет назад запретили купаться, после чего он обрушивается на стаи копошащихся у кромки воды лебедей, называя их «паразитами испоганенного моря». «О, это нахальство! Лебединая пара красива, но орда обожравшихся и все еще ненасытных птиц…» Я вижу Александра с Александрой как бы через бинокль, то в одни окуляры, то в другие, то близко, то далеко. Иногда я опережаю их, иногда плетусь позади и снова обгоняю; они приближаются ко мне, вырастают, потом снова уменьшаются: блуждающая пара, две фигуры, слишком разные по росту. Возле самого Елиткова они повернули и пошли назад, не переставая говорить — он как бы поверх нее, она — как бы мимо, лебеди от них не отставали.
Решке передает содержание разговора. Дескать, кончина Эрны Бракуп напомнила ему о смерти братьев. Открылась связь между их преждевременной гибелью и жертвами войны в Персидском заливе. Все взаимосвязано. «Ибо, утверждаю, ничто на свете, даже отдельно взятая жизнь, не имеет конца. Застреленный брат Александры, мой сгоревший и другой, подорвавшийся на мине брат продолжают жить. Похороненные известно или неизвестно где, они не желают умирать, а хотят оставаться с нами, жить в нас…»
После этого, никак не обозначив временной сдвиг, Решке пишет: «Кто мог надеяться, что все эти отравленные моря, реки и озера вновь наполнятся рыбой и, благодаря ровному и мягкому климату, в них опять можно будет купаться? Ведь когда померла Эрна Бракуп, нельзя было себе даже представить, что курорт откроется вновь. Казалось, будто Балтийское море погибло навсегда. Признаться, я в то время также видел будущее в самом мрачном свете, поэтому Александра, зная мою страсть угадывать огненные знаки беды на вполне еще прочных стенах, не раз подтрунивала надо мной: „Тому, кто пророчит несчастья, дается долгий век. Пусть убедится, что все его пророчества оказались зряшными“.»
Характерно, что Решке, когда он рассказывает о том, как неподалеку от Брезена он предложил Александре руку и сердце, не заглядывает слишком далеко. Сразу же после слов: «Сегодня под вечер, во время прогулки по грязному берегу моря, я сделал Александре предложение», — он говорит о «семи годах счастливого супружества». «Эти годы не умалили нашей любви. Пусть наши объятия не так часты, зато они остаются по-прежнему пылкими… Ответив, не задумываясь, на мое предложение согласием, Александра, видимо, знала, что впереди нас ожидает счастливая старость, а в беде мы будем помогать друг другу и заботиться друг о друге…»; впрочем, Решке тут же возвращается к тяжелым воспоминаниям: «А ведь накануне свадьбы мы были близки к отчаянию. Мысль о совместном конце витала, так сказать, над нами, ибо причин для этого было предостаточно. Почетное президентство мучило нас, унижало. Да еще скверная погода. Весна никак не хотела наступать. Потом прозвучали оскорбительные, грязные подозрения насчет машины. Неудивительно, что однажды, вскоре после моего предложения Александре, мы попросту хлопнули дверью, причем довольно громко. Это принесло облегчение, но возникло и ощущение пустоты. Иллюзии развеялись… Однако мы лишились и своей идеи…»
В двух местах дневника перекликаются давние и недавние воспоминания. Например, Решке увлеченно описывает световые эффекты, подмеченные им на веранде Эрны Бракуп: «Поначалу, когда, обводя взглядом безостановочно молящихся и жалобно причитающих людей, исполняющих католический обряд, я обратил внимание на блюдца с розовыми леденцами, а окрашенный цветными стеклами веранды свет остался как бы на втором плане; теперь же, вспоминая ту картину, я вижу перед собою прежде всего эти желто-зеленые стекла, которые превращали стол и сидящих за ним женщин и мужчин в некий аквариум. Молитвы и плачи были беззвучны. Прощание с покойной происходило как бы под водой. Все эти люди казались жителями подводного царства, они были одновременно здесь и где-то далеко отсюда…»
В другом месте «стаи жадных лебедей на грязном мелководье» превращаются, по прошествии нескольких лет, в одного-единственного «нахального лебедя, который, попрошайничая, мешал мне своими криками объясниться с Александрой». Хорошо, что ей запомнился не этот наглый лебедь, а мое, признаться, несколько старомодное предложение руки и сердца: «Не хочешь ли ты, дорогая, чтобы мы стали мужем и женой перед законом?» До сих пор в моих ушах звучит ее ответ: «Да-да-да-да!»
Исполнив необходимые формальности, 30 мая они отпраздновали свадьбу. Но до этого им в качестве почетных президентов пришлось участвовать еще в одном заседании наблюдательного совета. Госпожа Деттлафф и Мариан Марчак доложили на нем о встрече распорядителей всех акционерных обществ, создавших миротворческие кладбища на севере и западе Польши. Большим успехом было сочтено повсеместное заключение долгосрочных арендных договоров. Количество миротворческих кладбищ приближалось к сотне, соответственно рос финансовый оборот. Собравшиеся распорядители учредили центральное управление с резиденцией в Варшаве. Марчак уверял, что, кроме Гданьска, предлагались также Краков и Познань, однако после ожесточенных споров предпочтение было отдано столице. «Такова уж польская традиция, и нам, немцам, придется с нею считаться», — сказала госпожа Деттлафф.
Консисторский советник Карау и его преподобие отец Бироньский назвали центральное управление «излишеством» и «бюрократическим абсурдом». Один взволнованно, другой резко, оба попросили о немедленной отставке и о выдвижении новых кандидатов на свои места в наблюдательном совете. По поводу отставки было высказано сожаление, после чего аплодисментами было встречено сообщение о «широком распространении миротворческой инициативы», поскольку программа «На склоне лет в родном краю» обернулась повсеместным открытием домов для престарелых, также повсеместно осуществлялись перезахоронения и реализовывались проекты вроде «Дачи-гольф».
О последних успехах доложил новый член наблюдательного совета, начальник дюссельдорфского планового отдела Торстен Тиммштедт: действительно, в Кашубии близ Картузов найдена подходящая для гольфа территория на берегу моря, пригодная и для дачного поселка. Правда, при заключении договора удалось получить аренду лишь на шестьдесят лет, зато там же записано преимущественное право выкупа. Аналогично обстоит дело в Ольштыне, где такое же акционерное общество планирует реализовать проект «Дачи-гольф» на Мазурских озерах. Из Эльблага поступила информация о намерении освоить так называемую Наклонную равнину. Заинтересованность высказывают также в Нижней Силезии и Померании.
Решке цитирует Тиммштедта: «Нет ничего убедительней выгоды… Наконец-то в Польше начинают считать, точнее — мыслить, по-европейски… В будущем станет второстепенным, кто является собственником земли… Всем этим, да и не только этим, мы обязаны нашим почетным президентам, которым АО МК всегда будет признательно…»
Далее пошла как бы цепная реакция событий. На похороны приезжало все больше родственников и близких, среди них бывали представительницы молодого поколения, внучки и правнучки, которые порой не боялись отправляться в путешествие даже на последнем месяце беременности, что приводило либо до похорон, либо после к неожиданным, преждевременным родам. Госпожа Деттлафф, сделавшая сообщение на эту тему, сказала: «Отрадно, конечно, что на нашей исторической родине вновь появляются на свет немцы, однако мы не можем обременять этим и без того перегруженную систему здравоохранения наших польских друзей».
Тут же было решено открыть родильное отделение во флигеле просторного дома для престарелых на Пелонкенском проезде. При этом было сказано: «Медицинское оборудование должно отвечать западным требованиям. Что же касается врачей и акушерок, то в Польше найдется достаточно квалифицированных специалистов, чтобы позаботиться о маленьких уроженцах Данцига…»
Затем совет обсудил предложенные образцы табличек с названиями улиц и с пояснениями к историческим или культурным памятникам. Образцы, на которых разноязычные названия и пояснения давались одинаково крупным шрифтом, были отклонены. Немецкие члены наблюдательного совета высказали мнение, что верхняя польская часть должна быть значительно крупнее, чем тексты на трех остальных языках. Подобная тактичность вызвала взаимный обмен комплиментами, к которому подключились даже почетные президенты.
Когда же Александра Пентковская спросила, нельзя ли с учетом экономических перспектив Гданьска предусмотреть пятый текст, а именно на бенгали, то присутствующим явно изменило чувство юмора. «Этого еще не хватало!» — воскликнул Фильбранд. Марчак твердо заявил: «В Польше такое немыслимо». И только Тиммштедт отреагировал спокойно: «Почему бы и нет? В свободном обществе все возможно». Решке сопроводил вопрос Александры и невозмутимый ответ Тиммштедта репликой: «Для всех, особенно для Марчака, будет немалым сюрпризом, когда Грюнвальдскую, бывшую Большую аллею, потом Аллею Гинденбурга (после того, как на непродолжительное время она получит имя своего создателя, бургомистра Даниэля Гралата, на гербе которого изображен лев, несущий два серебряных костыля) назовут, в конце концов, в честь моего бенгальского друга и партнера за то, что он повсеместно внедрил велорикшу…»
И тут же, вновь как бы оглядываясь назад из будущего, что происходило с профессором все чаще, он вносит поправку: «Четтерджи проявил личную скромность, поэтому бывшая Грюнвальдская по предложению влиятельной бенгальской общины переименована в Аллею Рабиндраната Тагора. Ничего удивительного; мы-то с Александрой прекрасно помним, сколько улиц, площадей, городов, стадионов и верфей переименовывалось на нашем веку, порой многократно; это случалось едва ли не после каждого нового исторического поворота, иногда даже казалось, что этим переименованиям не будет конца».
Заседание, о котором идет речь, надо представить себе уже не на семнадцатом этаже отеля «Гевелиус». Магистрат предоставил немецко-польскому акционерному обществу в соседней ратуше Старого города помещение, выдержанное в духе семнадцатого века, с большим дубовым столом и дюжиной староданцигских дубовых стульев.
Есть фотография заседания за этим длинным столом, во главе которого находятся распорядители, госпожа Деттлафф и пан Марчак, а в противоположном конце, ближе к двери — наша пара, почетные президенты. Вдоль стола, по обеим сторонам расположились члены наблюдательного совета, однако немцы не сидят строго против поляков, места выбраны свободно; так, Фильбранд очутился между двумя новыми членами совета: слева от него — молодая директриса туристического агентства — личико Мадонны, прямой пробор; самого Фильбранда я узнал по очкам без оправы и по прическе ежиком, которые часто упоминаются в дневнике. Вполне определенно можно утверждать, что осанистый господин с волнистой серебряной сединой, которая похожа на весьма подходящий к старинной мебели белый парик, — не кто иной, как консисторский советник Карау; его сфотографировали вскоре после добровольного ухода в отставку. Скучающего господина, облокотившегося на подлокотник высокого стула, легко узнать по его «прозодежде» — это его преподобие отец Бироньский. Остальных членов совета трудно определить по внешности, даже не поймешь, немцы это или поляки: все они довольно молоды, не наделены яркой индивидуальностью, зато симпатичны, а главное, отличаются той ненатужной работоспособностью, которая обеспечит акционерному обществу высокую рентабельность. Вот этот молодой, совсем еще не тертый жизнью человек и есть, пожалуй, Торстен Тиммштедт; с помощью макетиков, величиною не больше спичечного коробка, он пытается склонить совет в пользу новых моделей гробов.
Лупа дает мне возможность получше разглядеть интересные по цвету, различные по форме, яйцеобразные, ящикообразные, похожие на пирамидки и даже на виолончели гробики, которые Тиммштедт предлагает включить в сервисную программу наряду с гробами традиционной формы, сужающейся к изножию. Новые, постмодернистские модели соперничают с надоевшей рутиной. Даже стеклянный гроб Спящей царевны имеет шанс войти в моду. Решке замечает: «Творческое развитие классических моделей, на сегодняшний вкус излишне помпезных, вполне оправдано. Я не мог также не приветствовать предложение Тиммштедта запретить изготовление гробов из таких тропических пород дерева, как тик, махагони и полисандр…»
Интересно, что сказали все еще весьма моложавая госпожа Деттлафф и господин вице-директор Национального банка об этих экстравагантных новинках «Ритуальной мебели»? Оба они, сидящие спиной к окнам, оказались рядом, но выглядят случайными соседями, зато оба почетных президента, которых, скорее, угадываешь за высокими спинками стульев, чем действительно видишь, смотрятся настоящей семейной парой, хотя к этому времени они еще не успели пожениться.
Больше из этих фотографий ничего не выжмешь. Спинки с роскошной резьбой, торжественная черно-коричневая полировка стульев вызывает впечатление если не удобства (для этого стулья слишком угловаты), то, по крайней мере, барочной устойчивости. Астроном и пивовар Иоганн Гевелиус, который в свое время был членом муниципалитета Старого города и жил неподалеку, в Пфефферштадте, вполне мог бы занять место среди членов наблюдательного совета немецко-польского акционерного общества, чтобы поведать им о фазах Луны или о том, во что обошлись ему недавние похороны супруги Катарины, урожденной Ребешке…
Попавшие ко мне материалы кончаются; впрочем, есть еще целая стопка записок о том, что Решке собирался сделать, но так и не сделал. В одной из записок Решке планирует побеседовать с Тиммштедтом о новых моделях гробов, а также об идее создать некрополь неподалеку от некогда восточнопрусского города Растенбурга и организовать выставку, «которая перекинула бы мостик от этрусских саркофагов, погребальных ларей, катафалков и традиционных гробов к новейшим произведениям ритуально-прикладного искусства». Ничего из этого не получилось. А может, Тиммштедт все-таки провел позже такую выставку?
На другом листочке бисерным почерком записан совет Александре получить, наконец, документ, который бы уточнил срок ее активного членства в партии, чтобы, если на этот счет возникнут вопросы, быть готовой к ответу. Этого документа у меня нет. Ясно одно: будучи еще совсем молоденькой девушкой, Пентковская стала членом партии, веря в нее, а в пятьдесят лет она вышла оттуда, окончательно разочаровавшись. На бухарестском фестивале молодежи и студентов она выступила с кратенькой речью и чествовала Сталина как освободителя Польши. Затем — сомнения, колебания, конформизм, чувство стыда, молчание, желание сделать вид, будто тебя вообще нет на свете. «Я была среди „мертвых душ“ задолго до 68-го, когда в Варшаве началась антисемитская кампания…»
Это записано в дневнике, и Решке сочувственно добавляет: «Александра винит себя, перечисляет свои прегрешения, но признает, что до самого выхода из партии верила в коммунистические идеалы и только введение военного положения стерпеть уже не могла. Чем было ее утешить? Моим таким же давним чувством глухого протеста? Или тем, что в свое время я тоже был правоверным членом „гитлерюгенда?“ С этим надо жить. Мы и живем. Жаль только, что потерпела крах наша прекрасная идея…»
В следующую субботу они совершили поездку в Кашубию. Хотя за рулем сидел Врубель, но вел он отнюдь не свой «польский фиат». На одном из листочков помечено: «Наконец-то мы выбрались за город на новой машине».
Погода не слишком располагала к загородной прогулке. Если в прошлом году все было преждевременным, слишком ранним (рапс, жерлянки), то теперь все запаздывало. Расцветшие фруктовые деревья пострадали от ночных заморозков. Но жаловались не только крестьяне, общее настроение сложилось под стать сырому холодному маю. Плохие вести сыпались друг за другом, а политики, не справясь с проблемами в собственной стране, спасались бегством в прожекты объединенной Европы. Воссоединившись, немцы почувствовали себя более разобщенными, чем когда бы то ни было прежде; свободная Польша все сильнее попадала под власть церкви. Любое начинание давалось с большим трудом. Рапс же и не думал цвести даже в середине мая.
Впрочем, когда наша троица выехала за город, погода несколько улучшилась, иногда проглядывало солнышко. Они отправились на Радаунские озера, под Хмельно. Провизию для пикника собрала Александра. На этот раз она не взяла ни польских маринованных грибков, ни яиц вкрутую. Зато в наличии имелись консервированные гренландские крабы, норвежский лосось, французский сыр, нарезанная ломтиками копченая колбаса мортаделла и салями, датское пиво и испанские оливки. Теперь все это можно было купить (правда, дорого, очень дорого), даже новозеландский фрукт под названием киви.
Однако пикник не получился. В долгих промежутках между слишком краткими прояснениями моросил дождь, поэтому «второй завтрак» пришлось отменить, тем не менее они решились на вылазку из машины. При спуске от шоссе к лежащему ниже озеру выяснилось, что Александра опять выбрала совершенно неподходящую обувь. В прибрежных камышовых зарослях удалось найти прогалину, на которой кто-то уже устраивал стоянку, о чем свидетельствовало мокро поблескивавшее кострище; тут же полукругом лежали крупные камни, какие порою используются в качестве межевых. «Некоторые из них похожи на валуны, которые теперь со скромной надписью можно встретить на нашем кладбище, в том числе — на общих могилах».
Видимо, десяток бойскаутов прикатил эти камни сюда, на берег озера, к костру. Теперь тут сидели трое. Пентковская сразу же закурила, хотя комаров отгонять не требовалось. Корзинка с провизией осталась в машине. Все трое сидели на своих камнях молча. Издалека через озеро доносились голоса, грубые и бранчливые, потом вновь наступала тишина. Врубель принялся швырять камешки, пуская «блинчики» по воде, но эту забаву никто не поддержал, поэтому он вернулся на свое место. Вновь издалека долетели ссорящиеся голоса. Потом от шоссе, где осталась новая машина, донеслось придушенно хриплое, будто с бойни, мычание коров. И снова — тишина, тем более, что небо над озером было пустым, без жаворонков.
Решке описал мне этот пейзаж так, будто рисовал его акварельной кисточкой: слева реденький перелесок, поля, спускающиеся к озеру, на взгорке — деревянный хлев с плоской крышей, другой перелесок, опять поля, а среди полей группки деревьев. На озере — ни лодки, ни паруса; Решке упоминает только двух плывущих навстречу друг другу уток. «Ветерок лишь изредка рябит водную гладь».
И лишь выписав все это своей аккуратной кисточкой, даже побуревший хлев, Решке вдруг заглядывает в озеро, будто в зеркало, и видит там то, что мне хочется воспроизвести дословно. «Эта незастроенная земля — если не считать хлева — на холмах, где перелесок сменяется полем или наоборот, вдруг представилась мне как бы отраженной в глади озера, только отраженной странным образом: на берегу озера, повиснув вниз красночерепичными, а не серодраночными крышами, расположился поселок; он подымается по холмам террасами и поэтому мягко вписывается в ландшафт, но одновременно оккупирует его, так что перелески и отдельные группки деревьев исчезают, подчиняясь воле архитектора и строителей, чтобы не нарушить компактности поселка, чей зеркальный, отраженный в озере образ мне хорошо знаком. Проект задуман со вкусом, его можно считать удачным; поселок, который поднимается по склону (точнее, для меня он опускается под воду, вниз), увенчан зданием клуба, а между холмами и на самих холмах зеленеют просторные лужайки для гольфа; этот перевернутый вверх ногами архитектурный комплекс проникнут вниманием к окружающему ландшафту, однако чем дольше я смотрюсь в это зеркало, тем печальнее делается у меня на душе, даже сейчас, когда порывы ветра всколыхнули воду и картинка исчезла. Нам лучше отправиться домой, Александра».
Не знаю, поведал ли Решке о своем видении или, лучше сказать, предвидении, Пентковской и Врубелю; если поведал, то сомневаюсь, чтобы они до конца узрели в нарисованной им картине все последствия широкомасштабной деятельности строительной компании «Дачи-гольф». Провидческим даром обладал лишь Решке. И этот дар вновь подтвердился. Решке опять сумел заглянуть далеко вперед. Тем не менее Александр и Александра вместе сложили с себя почетное президентство в немецко-польском акционерном обществе.
Они составили письменное заявление наблюдательному совету. К заявлению Решке приложил магнитофонную кассету, на которой сам он объяснился довольно пространно, Пентковская — кратко. Все это было сделано буквально на следующий день, так спешили они осуществить свое решение об отставке.
К этому времени акционерное общество, наблюдательный совет которого заседал в ратуше Старого города, уже располагало собственным офисом в высотном здании, построенном при Гереке неподалеку от верфи. Этажом выше арендовала офисное помещение фирма «Четтерджи и К°». Проверка банковских счетов обнаружила, насколько прибыльным оказалось происходившее без ведома наблюдательного совета (только Марчак все знал, но предпочитал помалкивать) сотрудничество между партнерами; Решке вкладывал поделенные на множество счетов капиталы акционерного общества в каждый новый цех по производству велоколясок, тем самым интересы обоих партнеров переплелись довольно тесно, поэтому вполне понятно, что офис процветающего АО МК разместился этажом ниже, в том же самом здании, что и стремительно наращивающая экспорт фирма «Четтерджи и К°».
В этот офис Решке и передал магнитофонную кассету вместе с персональным компьютером Александры. В письменном заявлении и на кассете Решке указывает, что этот компьютер, связанный с его бохумским аналогом, верой и правдой послужил делу реализации миротворческой идеи; Решке даже рискнул пошутить: «Передаваемый нами информационный банк и программы от вируса чисты».
Магнитофонная запись была сделана ночью. Первая попытка, предпринятая еще на берегу озера, закончилась неудачей. «Погода была чересчур капризной. Даже маленького пикника не получилось. Этой весной все слишком запаздывает. Поэтому, наверное, не слыхать жерлянок…»
Вторая, ночная попытка увенчалась успехом, лишь благодаря некоторым манипуляциям. «Помогло унканье жерлянок, записанное в низине меж ив прошлой ранней весной. Тогда нам посчастливилось услышать продолжительные, весьма мелодичные, хотя и печальные, брачные призывы жерлянок. Это ункание послужило как бы фоном для нашего заявления, я бы сказал, для нашей прощальной песни; мы говорили в промежутках между отдельными криками, и получилось, будто сама природа зовет прислушаться к нашим предостережениям».
У меня есть копия письменного заявления, но поскольку сохранилась и прошлогодняя кассета с весенним унканием жерлянок, то я догадываюсь, как подействовала на собравшийся наблюдательный совет смикшированная магнитофонная запись. Молодежь позабавилась и покачала головами. Фильбранд, уверен, постучал себя пальцем по виску, а госпожа Деттлафф вполголоса проговорила, что в таких случаях следует приглашать психиатра. Марчаку же, с его пристрастием к некоторой театральности, запись, думаю, понравилась. Полагаю, Тиммштедт счел присланный «коллаж» весьма остроумным.
Письменное и устное заявление Пентковской, сделанное по-польски, весьма лаконично. Я попросил мне его перевести. Изложив решение о своей отставке, она сказала: «Почетное президентство должно являться честью для того, кто занимает этот пост, и честью для тех, кто его предлагает. Однако я не вижу для себя чести в погоне за наживой, что делает мое пребывание на данном месте бессмысленным».
Заявление Решке гораздо пространнее, тем более, что он вновь подробно останавливается на своей излюбленной теме «век изгнаний» и, начиная с армян, не забывает ни одного случая депортации, насильственного переселения, массового бегства вплоть до курдских беженцев. Из этого охватившего весь мир феномена утраченной родины и родилась, по его словам, их общая с Александрой Пентковской идея, желание дать возможность хотя бы покойникам вернуться на родину. Решке восклицает: «Два с половиной квадратных метра родимой земли были и остаются неотъемлемым правом человека!»; он указывает, что ограничением этого права может служить лишь размер отведенного под могилу участочка кладбищенской земли, и тут же начинает рассуждать об ухудшающемся качестве самой этой земли, постоянно отравляемой сточными водами, ядовитыми промышленными отходами и чрезмерным употреблением химических удобрений; наконец, возвращаясь к своему видению на берегу кашубского озера, Решке предупреждает о той угрозе, которой чревато для окружающей среды осуществление таких проектов, как «Дачи-гольф»; он не стесняется резких выражений вроде «разбой» и «дьявольская затея», рисует жуткую картину захвата земель, говорит: «Это конец, светопреставление», а потом внезапно, безо всякого перехода, следующим образом характеризует деятельность немецко-польского акционерного общества, как бы оглядываясь назад по прошествии десяти лет: «Узнавая, что территории, арендованные под миротворческие кладбища, теперь повсеместно передаются в акционерную собственность, что берега Мазурских озер, отражавших прежде лишь облака да небеса, ныне сплошь застроены и также стали жертвой неуемного стяжательства, я начинаю сомневаться в правильности и праведности нашей миротворческой идеи; пусть мы все хорошо задумали, однако результат ужасен. Сегодня я понимаю, что мы потерпели крах, но тем не менее вижу, что в конечном счете все оборачивается к лучшему. Отрицательные моменты дают положительный результат. Немецкую алчность уравновешивает азиатская неприхотливость. Чрезвычайно жизнеспособен оказался польско-бенгальский симбиоз. Он доказывает торгашам, что землевладение имеет все более относительную ценность. Европе предопределено азиатское будущее: свободная от узкого национализма, перешагнувшая через языковые барьеры Европа станет религиозно многоголосой, многобожной и обретет благотворно замедленный темп жизни под стать увлажнившемуся и потеплевшему климату…»
Как краткое заявление Александры Пентковской, так и все эти провидческие картины Александра Решке сопровождается унканьем жерлянок. Каждое из пророчеств заканчивается вместо восклицательного знака их печальным криком. Лучшей прощальной песни для нашей пары и не придумать.
Это были краснобрюхие жерлянки, которые обитают в низинах. Ах, как пугали нас, детей, безвершинные ивы, надвигающиеся из вечернего тумана призраки под аккомпанемент брачных песен жерлянок-самцов, которые раздували свои голосовые мешки среди хитросплетений осушительных канав. Чем теплее вода, тем короче интервалы между криками. В наиболее теплые майские дни краснобрюхие жерлянки издают до сорока криков в минуту. Когда ункает одновременно много жерлянок, то над водой — а звук над ней разносится особенно далеко — стоит нескончаемый многоголосый крик…
Вероятно, Решке записал ункающий хор только в начале, как бы в качестве увертюры, потом на кассете осталась солировать одна жерлянка, и в промежутки между ее криками он-то и вставляет свои реплики вроде: «интересы немецкой стороны», «разбой» или «права человека», «безродный», «никогда впредь», отчего каждая из этих реплик-восклицаний приобретает особую весомость. Унканье жерлянок оправдывало и некую велеречивость, например, такого выражения, как «польско-бенгальский брачный союз», тем более, что последние два слова все чаще появляются в дневнике Александра Решке по мере приближения дня, отнюдь не фигурального, а самого что ни на есть реального бракосочетания.
Однако прежде, чем наша пара отправится к чиновнику, который регистрирует акты гражданского состояния, необходимо вернуться к тому, как Решке относился к автомобилям. Поскольку по дневнику рассеяны ехидные и уничижительные замечания в адрес владельцев «мерседесов» и «БМВ», а кроме того, у меня есть все основания предполагать, что пристрастие Решке к старомодно-элегантным фасонам одежды сыграло решающую роль при выборе марки автомашины, то я представляю себе профессора во время его поездок между Руром и Гданьском, Гданьском и Бохумом за рулем какой-либо высокопочтенной модели; но незадолго до отставки Эрны Бракуп в дневнике появилась запись: «…мою машину угнали прямо с охраняемой стоянки», после чего я сообразил, что автоугонщики, работающие на торговцев крадеными машинами, которые обслуживают автомобильный рынок по всей Польше, никогда не покусились бы на «шкоду» или, скажем, на поддерживаемый в отличном состоянии старый «пежо 404» выпуска 1960 года, ибо такие модели слишком редки, перекрашивать их рискованно. Значит, это была какая-то дорогая современная западная марка. Может, Решке соблазнил угонщика «порше»? Кто-то подсказал мне, что это могла быть «Альфа-Ромео», но, в конце концов, я остановился на шведских «сааб» или «вольво».
Так или иначе, с середины марта Решке оставался без машины. Как говорилось выше, навещать больную наша пара отправлялась на трамвае. А в более длительные поездки Александра и Александру брал с собою Ежи Врубель. На Матарнийское кладбище, когда хоронили Эрну Бракуп, их также возил «польский фиат». Лишь при поездке в Кашубию, где на магнитофон записывалось унканье жерлянок, в соответствующей дневниковой записи появляется «новая машина».
Марка ее опять-таки не указана, но это была, несомненно, дорогая модель, ибо ее покупка вызвала настоящий скандал.
После того, как Пентковская и Решке сложили с себя обязанности почетных президентов и почувствовали себя (точнее — старались почувствовать себя) свободными, наблюдательный совет провел чрезвычайное заседание. Госпожа Деттлафф настояла на присутствии бывших распорядителей, которым пришлось ответить на ряд вопросов. Речь шла о проверке отдельных финансовых операций и особенно о покупке новой машины.
Вначале разговор протекал в спокойных тонах; Тиммштедт даже похвалил Александра Решке «за смелое и эффективное кредитование фирмы „Четтерджи и К°“», а Марчак всячески старался не допустить скандала; однако потом Фильбранд и Деттлафф затеяли перекрестный допрос. Прямых улик у них не было, тем не менее они упорно высказывали подозрение: дескать, во время войны в Персидском заливе Решке спекулировал на нестабильности доллара и пользовался скидками западногерманских похоронных контор, документально не фиксируя точную величину этих скидок; Решке не желает указывать, на какие средства приобретена новая автомашина, которая теперь, судя по всему, перешла в его личную собственность. Уж не присвоил ли он себе часть благотворительных пожертвований?
Тут Александра не выдержала:
— Почему ты не скажешь, что эту роскошную машину тебе подарил твой бенгалец?
— Это никого не касается.
— Они же обвиняют тебя в воровстве!
— Ну и пусть…
— Так ведь это у тебя украли… Прямо со стоянки…
— Это мое личное дело.
— Тогда я сама скажу. Машина подарена за то, что он помог производству велоколясок.
— Александра, прошу тебя…
— Почему никто не смеется? Ведь, правда, смешно.
Первым хохотнул Тиммштедт, его поддержал Марчак.
Остальные девять членов совета будто только этого и ждали. Наконец, даже Фильбранд и госпожа Деттлафф поняли всю комичность подарка и присоединились к общему веселью. Фильбранд «вначале захихикал, а потом едва ли не захрюкал»; Деттлафф же выдавила из себя подобие улыбки, после чего лицо ее застыло, и все тотчас перестали смеяться.
Теперь вопросы посыпались на Александру. Поскольку, кроме не вполне четко оформленной суммы пожертвований на орган для храма Тела Христова, ничего выискать не удалось, Деттлафф перешла на личности. Она обратилась к биографии Пентковской и привела данные из ее личного дела — откуда у Деттлафф взялось личное дело Пентковской? — затем несколько раз повторила: «Вы, будучи коммунисткой с большим партийным стажем…» Или: «Этого я ожидала от кого угодно, только не от вас, старой коммунистки…» Короче, членство Александры Пентковской в партии рассматривалось само по себе как преступление. Госпожа Деттлафф припомнила Пентковской даже ее хвалу Сталину, произнесенную в 1953 году, после чего нарочито туманно обмолвилась о «близости сталинизма и сионизма, роковой для Польши…» — «Не правда ли, господин Марчак?» Тот кивнул.
Пентковская молчала, но Решке смолчать не мог. Отрекомендовавшись наблюдательному совету как бывший командир гитлерюгендского отряда, он поинтересовался, какой пост занимала госпожа Деттлафф в девичьей организации «гитлерюгенда». «Наше поколение истово подпевало тогдашним песням? Не правда ли, уважаемая госпожа Деттлафф?» Та густо покраснела до самых корешков своих седых волос. Когда же Марчак, нарушив тишину, сказал: «У каждого из нас своя предыстория» и тут же потупил глаза, то все молча с ним согласились.
Решке пишет: «Его поддержал даже Герхард Фильбранд, который воскликнул: „Прекратим дебаты!“ Молодым же членам совета подобные истории из прошлого были неинтересны, поэтому Тиммштедт позволил себе иронию: „В девятнадцать лет я тоже был молодым социалистом“, что также вызвало смех, впрочем, довольно натянутый. Что же до подарка Четтерджи, то счастья он нам не принес…»
Разоблачений не получилось, чрезвычайное заседание не вызвало каких-либо неблагоприятных последствий для нашей пары, а новая машина Александра Решке — теперь я уверен, что это «вольво», — охранялась на платной стоянке между театром и цейхгаузом до самого конца мая, когда подошел день свободы.
Тем не менее к службе регистрации актов гражданского состояния Пентковская и Решке отправились не на шведском образчике современного конвейерного производства, а на бенгальской велоколяске, изготовленной в Польше. Как ни удивительно, но таковым было пожелание Александры. Пентковская, которая прежде недолюбливала «мистера Четтерджи», называла бенгальца «самозванным англичанином» и, будучи католичкой-безбожницей, даже обвиняла его в «колдовстве» и «сатанизме», она, реставраторша, захотела поехать в ратушу Правого города на новомодной велоколяске. «Поеду, как королева. Если уж не в конном экипаже, то хотя бы так…»
Пожалуй, это был просто каприз, поскольку Четтерджи с многочисленными племянниками оставался ей чужим. Одна из ее расхожих фраз, которые Решке усердно записывал и собирал, гласила: «Не успели русские уйти, полезли турки». Сколько ни пытался объяснить Решке истинное происхождение фабриканта велоколясок — он даже совал ей под нос географический атлас, — она ничего не хотела слышать о турках, а турками для нее считались все чужаки, которые были ей противны даже больше русских.
Сама Пентковская объясняла это историческими причинами. Будучи полькой, она все сводила к катаклизмам польской истории. Зачастую она начинала с далекого прошлого, аж с битвы при Легнице, где хотя и пал герцог, представитель славной династии Пястов, зато и монголы были обращены в бегство. После того, как героизм поляков спас Европу первый раз, следующим спасителем стал польский король Ян Собеский, разгромивший турок под Веной. И вновь Европа смогла вздохнуть спокойно. «С той самой битвы, — твердила Александра, — все турки помешаны на том, чтобы отомстить нам. И твой мистер Четтерджи тоже». В последнее время она даже подозревала наличие заговора: «Я знаю, немецкие господа нарочно напустили сюда своих турок, чтобы превратить нас, поляков, в китайских кули».
Часто после подобных сентенций она начинала смеяться, но этот смех означал: надеюсь, мол, что на самом деле до этого не дойдет. Видимо, Александре не просто было решиться поехать на рикше, хотя стайки новеньких, поблескивающих велоколясок, ожививших мелодичными трехзвучными звоночками Старый и Правый город, постепенно начинали ей нравиться. «Воздух стал гораздо чище!» — говорила она.
Решке пишет: «Наконец, этот день настал. Жаль, что Четтерджи нет в городе, а то он непременно отвез бы нас к ратуше самолично. Зато как обрадовал Александру его свадебный подарок — изящная модель велоколяски, сделанная из золотой проволоки. Когда она развернула лежащий на сидении сверточек и обнаружила золотую велоколяску, то, не удержавшись, захлопала в ладошки, будто ребенок при виде игрушки. „Прелесть!“ — воскликнула она. Вероятно, со временем она и Четтерджи сошлись бы поближе. Однако в то время, когда пришла пора нам с Александрой обменяться обручальными кольцами, Четтерджи пришлось срочно уехать в Париж, а потом в Мадрид, где внедрение велоколясок могло устранить транспортный хаос. Нас отвез к ратуше один из его племянников. Сегодня, вспоминая по прошествии многих лет тот майский день…»
Разумеется, поездка молодоженов на велоколяске была сфотографирована, у меня есть несколько цветных снимков. Судя по сделанным Александром Решке подписям, это была новейшая экспортная модель, выпущенная на бывшей верфи. На обороте одного из снимков бисерным почерком указано: «Будущее принадлежит именно этой модели, которая уже хорошо обкатана не только в европейских городах, но и в Рио».
Велоколяска с женихом и невестой была украшена цветами. Нет, не астрами, а тюльпанами. «Розы, обычно цветущие на Троицу, запоздали этой весной, как и все остальное». Во второй велоколяске разместились свидетели — Ежи Врубель и Хелена, приятельница Александры, тоже позолотчица, которая, однако, специализировалась на шрифтах. По фотографии не поймешь, солнечно было или пасмурно. Но, видимо, было прохладно, так как поверх костюма Александра накинула большую шерстяную шаль. В остальном наша пара была одета вполне по-летнему: на нем — светлый, песочного цвета полотняный костюм и соломенное канотье с узкими полями; она же сшила к широкополой шляпе облегающий фигуру костюм, цвет которого Решке описывает как «теплый, похожий на „неаполитанский желтый“, почти золотой», цвет ее шляпы он называет «фиалковым».
От дома на Хундегассе, где на террасе друзьям и соседям подавали коктейль, обе велоколяски покатили к ипподрому, мимо Национального банка, дровяного и угольного рынков, потом дальше к Большой мельнице, чтобы затем повернуть к хорошо знакомым достопримечательностям Старого города — башне «Что в кастрюле?», крытому рынку и Доминиканской церкви. Оттуда, поскольку движению транспорта мешал ежедневный уличный базар, пришлось повернуть на Волльвебергассе, проехать мимо цейхгауза и сделать поворот налево, на Ланггассе, где слева, неподалеку от кинотеатра «Ленинград», до сих пор сохранившего это название, уже несколько дней работало большое, длиной в два обычных фасада, казино. Если его крыша, которая удачно имитировала архитектуру Ренессанса, выглядела весьма обветшалой, то внизу все сверкало и сияло на современный западный манер. «Try your luck!» — приглашала надпись у входа.
На Ланггассе было, как всегда, полно туристов. Они, пишет Решке, встретили аплодисментами украшенную цветами велоколяску с женихом и невестой, когда коляска медленно подкатила к ратуше. Один из бесчисленных голубей капнул Александру на шляпу. «Счастливая примета! — воскликнула невеста. — Счастливая примета!»
Бракосочетания проводились в ратуше чрезвычайно редко, однако Александра сумела придать обручению нашей пары в глазах городских властей характер исключительного события; Александра Пентковская столько лет проработала в этом позднеготическом здании и имела перед ним столько заслуг, что, проходя мимо консолей, винтовой лестницы, статуй с барочно пышной драпировкой, витиеватых зеркальных рам, с полным правом могла воскликнуть: «Моя позолота!»
О самом бракосочетании Решке сообщает лишь то, что оно состоялось под бой курантов, ровно в одиннадцать часов, в Красном зале, перед занимающей едва ли не всю стену картиной «Динарий кесаря», где Иисус со своими библейскими спутниками изображен на Лянгер-маркт, а позади Христа видна ратуша, в которой бракосочеталась наша пара, — вполне удачный фон для обручения историка искусств и позолотчицы-реставратора. Не только жениху с невестой, но и свидетелям чудилось во время регистрационной церемонии, будто они перенеслись в прошлое и очутились в старой сокровищнице.
На улице выглянуло солнышко, поэтому тут же защелкали фотоаппараты, которые запечатлели молодоженов перед фонтаном Нептуна и Домом дворянских собраний, иногда со свидетелями, иногда без. Александр в полотняном бежевом костюме, уже изрядно помятом; Александра — в «неаполитанском желтом», он — в соломенном канотье с узкими полями; она — в роскошной широкополой шляпе; оба они походили на путешественников, которые уже давно уехали из дома и находятся где-то далеко-далеко от него.
Потом они прошли через Лянгер-маркт на Анкершмидгассе. Всюду висели таблички с многоязычными надписями. В ресторане Решке заранее заказал столик на четверых. Родственников не приглашали; ни дочери, ни сын не были даже уведомлены о свадьбе; после неудачной рождественской поездки дневник не упоминает их ни единым словом.
В дневнике Решке снова все описывает, как бы оглядываясь назад из будущего: «Подавали судака под укропным соусом и свиное жаркое. У Александры было заразительно хорошее настроение. Из почти девического озорства она старалась посводничать, сосватать Врубеля и Хелену, причем эта попытка, как теперь известно, увенчалась успехом, а тогдашнего смеха Александры мне не забыть до сих пор. Если меня не подводит память, она сказала: „И почему я, дурочка, раньше не ездила на рикше?!“»
Не удивительно, что Ежи Врубель и приятельница Александры легко нашли общий язык. За столом посмеивались над президентом и его «двором» в варшавском замке Бельведер. Зашла речь и о предстоящем визите Папы, от которого Врубель ожидал гораздо большего влияния на положение дел в Польше, чем Пентковская, не слишком уповавшая на наместника Божьего. Потом они вспомнили Четтерджи, посудачили о том, не связан ли внезапный отъезд бенгальца с недавним убийством видного индийского политика, после чего собеседников заняла свежая жуткая новость: извержение вулкана Пинатубо. Ни слова о миротворческом кладбище почти за все время застолья, пока не подали кофе…
Тут Врубель неожиданно заявил, что кто-то непременно должен составить своего рода летопись миротворческого кладбища, неважно, на каком языке, и предварить ее историей Сводного кладбища — Катарининского, Мариинского, Иосифовского, Биргиттинского и т. д., не забыв и о том, как впоследствии их безжалостно ликвидировали.
В своем черном — как полагает Решке, взятом напрокат — костюме Врубель сделался торжественным и строгим, сказав: подумать только, сколько всего удалось сделать за год, поэтому при любой критике затея с немецко-польским миротворческим кладбищем заслуживает в целом положительной оценки; он, Врубель, продолжает, дескать, утверждать это, хотя и был вынужден уйти в отставку. Летопись и должна расставить все на свои места, а заинтересованных читателей, польских или немецких, найдется предостаточно. Материала тоже хватит. Необходимо лишь отыскать правдивое перо.
Метил ли служащий кадастрового ведомства в летописцы сам? Или же намекал на профессора Решке, а себя предлагал лишь ассистентом, сведущим в земельных книгах?
Александра проговорила: «Мы слишком пристрастны, слишком связаны с тем, что получилось или не получилось».
Решке сказал: «О подобных вещах следует писать лишь по прошествии определенного срока, итоговую отметку выставит время».
Александра: «Но летопись нужна сейчас. Потом будет поздно. Ты должен написать, Александр, как все было на самом деле».
Такого же мнения была и Хелена. Однако мой бывший одноклассник ни за что не хотел становиться летописцем. Пентковская призналась, что умеет сочинять лишь любовные письма. Врубель же чересчур неусидчив, он и сам с этим согласился. Не после этого ли разговора Решке начал подыскивать кого-либо, кто охоч до писания? Или же он сразу выудил меня из своих школьных воспоминаний, едва Врубель заговорил о летописи?
Будто догадавшись, на какую наживку я попадусь, Решке уверяет меня в письме, приложенном к посылке: «Это под силу только тебе. Ведь тебе всегда нравилось быть достовернее самих фактов…»
Поднявшись с места, Ежи Врубель произнес молодым заздравную речь, о которой в дневнике практически нет никаких подробностей, если не считать фразы: «Наш друг почти ничего не сказал о свадьбе, зато очень трогательно говорил о расставании с „Олеком и Олей“, которых, дескать, ему будет очень недоставать…»
Я бы тоже на этом месте охотно распрощался и поставил в моей истории точку. Ведь, по-моему, все уже сказано, разве нет? Миротворческие кладбища растут и полнятся, будто происходит нечто само собой разумеющееся. Покойники-немцы возвращаются на родину. Будущее принадлежит велоколяскам. Польска не сгинела, то есть Польша не погибла. Александр и Александра стали счастливыми супругами. Разве плох такой конец? Мне нравится.
Впрочем, предстоит еще свадебное путешествие. Куда? А ведь Александра говорила: «Наконец-то полякам можно ехать куда угодно. Безо всякой визы. Хочу увидеть Неаполь!»
Первоначально путешествие было запланировано через Словению и Триест, однако последние сообщения оттуда внушали тревогу, поэтому наша пара отправилась по традиционному маршруту через перевал Бреннер и дальше вниз по итальянскому сапогу к Риму. Теперь я точно знаю, в какой машине они ехали на юг — на «вольво 440». Восточную Германию они пересекли без остановок. Разумеется, они побывали в Ассизии и Орвието. «Вольво», как и все шведские модели, считается особенно надежным. Александр с Александрой отправились в свое путешествие вскоре после свадьбы и незадолго до того, как, несмотря на ненастную погоду, в Польшу прилетел Папа, который, едва сойдя на бетон взлетно-посадочной полосы, первым делом поцеловал польскую землю. У меня есть фотографии только из Сиены, Флоренции и Рима, похожие одна на другую; правда, на Пентковской теперь не широкополая шляпа, а белая шапочка, какие носят в кибуцах. Поскольку все материалы мне высланы из Рима, не знаю, добралась ли наша пара до Неаполя. Машину они обычно оставляли в гараже отеля.
На фотографиях, которые по просьбе нашей пары любезно снимали другие туристы, оба выглядят счастливыми. В том числе на фотографии перед Пантеоном, куда Решке непременно хотел зайти. Посреди ротонды, пишет Решке, при взгляде вверх, на световое отверстие купола они оба воспарили духом. Причиной этого послужила не усыпальница Рафаэля, а адрианская архитектура.
«Посетителей было, как обычно, немало, однако — никакой толчеи. Величие этого воплощенного в камне архитектурного замысла делает нас, простых смертных, совсем маленькими, но стоит взглянуть вверх, на сужающийся кассетный свод, как испытываешь удивительный душевный подъем, недаром пожилой господин, похоже, англичанин, вдруг запел посреди этого огромного зала; его красивый, едва заметно подрагивающий голос поначалу, словно нерешительно, попробовал свою силу, а потом безудержно взмыл под самый купол. Англичанин спел что-то из Перселла и снискал овации. Затем запела молодая, похожая на крестьянку итальянка, свежо и бравурно — конечно, из Верди. Ее ария также заслужила аплодисменты. Я довольно долго не решался… Александра уже тянула меня за рукав, хотела уходить, но тут я запрокинул голову и заункал жерлянкой — короткий крик, долгий, долгий, снова короткий, долгий, долгий. Опять и опять. Купол Пантеона был как бы создан для унканья, возможно, потому, что диаметр и высота имеют одинаковый размер. Мое выступление, как сказала потом Александра, заставило всех умолкнуть, даже японцы перестали щелкать своими фотоаппаратами. Но ведь кричал не я; это кричала жерлянка из самой глубины моего нутра, хотя казалось, будто ункаю я — голова моя была запрокинута, рот открыт, шляпа съехала на затылок, — но крик обособился от меня, взмыл под самый купол и полетел еще выше, дальше… Александра все восприняла по-своему: „Люди будто остолбенели. Поэтому совсем не похлопали, даже немножко“.»
Потом они сидели на улице, в открытом кафе, но почтовых открыток, как это обычно делают туристы, никому не писали. Последние строки дневника вновь совершают скачки во времени: «Многие музеи, к сожалению, были закрыты. Александра осматривает за день не больше трех церквей, в каждой она ставит тоненькие поминальные свечи; так или иначе, у нас остается достаточно времени, чтобы погулять, выпить чашечку ее любимого кофе „эспрессо“. До чего же красивы этрусские саркофаги! Мы прямо-таки обмирали перед резными изображениями почивших супружеских пар на крышке каменного гроба. В некоторых парах мы как бы узнавали себя. Вот если бы и нам довелось почить именно так, вместе. Но идти в катакомбы Александра ни за что не хочет. „Не могу даже слышать „о мертвецах и скелетах“! — восклицает она. — Будем жить, жить для себя!“ Так мы и живем все эти годы. Интересно, как сильно переменился Рим со времени нашей первой поездки. Впрочем, уже тогда мы брали для долгих маршрутов велоколяску, например, через Тибр к Ватикану. Тогда, семь лет тому назад, Александра, только что бросившая курить, пошутила: „Забавно: Папа в Польше, а я — здесь, перед собором св. Петра“. На римских улицах машин до сих пор все-таки больше, чем велоколясок, но можно смело утверждать: город очистился от выхлопных газов, а вместо автомобильных клаксонов все чаще слышны мелодичные троезвучия велосипедных звоночков. Мой друг Четтерджи одержал победу, а вместе с ним и мы…»
В письме, написанном на фирменной бумаге римского отеля и приложенном к посылке, мой бывший одноклассник уже не играет со временем, если не считать проставленной даты. Он лишь подчеркивает, насколько важен присланный материал, и предлагает переработать его в некое подобие летописи: «Надеюсь, ты не слишком увлечешься событиями романтического свойства и не станешь сочинять роман; я знаю, ты предпочитаешь рассказывать то, что происходило на самом деле». Затем он взывает к нашему общему прошлому: «Ты наверняка помнишь, как в военные годы нас посылали всем классом на кашубские поля. Даже под затяжным дождем нас отпускали с поля не раньше, чем каждый наберет по три полных литровых бутыли картофельных жуков…»
Да, Алекс, я все помню. Ты был у нас главным. Наши дела шли неплохо. Твоя система считалась образцовой. А для нас она была еще и прибыльной. Ты выручал меня, лентяя, который вечно витал своими мыслями где-то в облаках; ты помогал мне набрать вторую бутыль и дарил третью. Ох, уж эти мне гнусные твари в черно-желтую полоску! Верно, я твой должник. Только поэтому я и дописываю эту историю до конца. Да, да. Я старался избегать отсебятины, не сбиваться на роман. Но неужели же, черт возьми, вам непременно надо было ездить в это треклятое свадебное путешествие?!
Письмо кончается словами: «Завтра мы едем дальше. Хоть я и предупреждал ее, но Александра слишком давно лелеяла мечту повидать Неаполь. Боюсь, она будет разочарована. По возвращении я сразу же свяжусь с тобой…»
Не связался. История, если конец чему-либо все-таки существует, закончилась. Это случилось на пути в Неаполь или обратно. Нет, не в албанских горах. Подходящих мест достаточно и между Римом и Неаполем.
Авария произошла через три дня после отъезда, поэтому можно предположить, что Александра увидела Неаполь, была шокирована и поспешила вернуться обратно. На извилистом участке шоссе машина не вписалась в поворот. Падения с тридцатиметровой высоты не выдержит даже «вольво». Машина несколько раз перевернулась. Под обрывом на седловине расположилась деревушка; перед нею, прямо в поле, есть обсаженное кипарисами кладбище с каменной оградой.
Полиция охотно помогла мне, когда я принялся расспрашивать и разыскивать. Приходской священник и староста подтвердили: машина целиком сгорела, тела обуглились. Но полицейский протокол указывает точно — «вольво». Сгорело все, в том числе документы. Остались целыми, вылетев из машины, которая переворачивалась снова и снова, лишь один шлепанец и вязаная авоська.
Не стану приводить название деревушки, где они похоронены у кладбищенской ограды. Сам я уверен, насколько вообще могу быть в чем-либо уверен: здесь безымянно покоятся Александр и Александра. Лишь два деревянных крестика стоят на парной могиле. Мне не хочется, чтобы их перезахоранивали. Они были против перезахоронений. С деревенского кладбища видно далеко-далеко. По-моему, можно увидеть даже море. Им там хорошо. Оставим их в покое.
РАССКАЗЫ
Erzählungen
© С. Фридлянд, перевод на русский язык, 1997
Истории, историйки
Все мы лишь бегло знаем друг друга. Не все со всеми здороваются. Мы начинаемся, мы кончаемся и страдаем от съехавшей набок середины. Иногда мы вымениваем названия и города на кулинарные рецепты и дорожные происшествия. Наша программа, к сожалению, давно утеряна. Программное обеспечение мы получаем бесплатно.
Поскольку мы не верим в конъюнктуру, у нас находят сбыт даже залежалые товары, например: мучительные сны после свинины на обед, слишком тесные ботинки, карнавальные обычаи. Часто мы вперемешку вспоминаем про Клейста в Вюрцбурге, про речку Заале под Халле, про продовольственные карточки и пасхальный марш пятьдесят девятого года, про вечер с цветными диапозитивами у доктора Зиммеля, изредка — про войну и тому подобное, но зато слишком часто — про наше происхождение и тому подобное. Многие из нас выдуманы. Еще больше было раздарено. Нас можно читать вслух. Мы истории, мы историйки.
Сюзанна
Я сижу не за кустами, я сижу за газетой Эль Соль, но не читаю, хотя из американских газет можно узнать, что студенты больше не бастуют, что директор подал в отставку и что воцарилось спокойствие, спо-кой-стви-е. Я не обязан читать, могу мысленно перенестись над краем газеты в безветренный, отделенный живыми изгородями и кирпичными оградками сад при отеле, не нужно ничего искать у себя за спиной, потому что тут она и сидит, как и я — в плетеном кресле, только она — на самом краешке, словно ей противно откинуться на спинку, а я ощущаю телом грубое плетение и ноги у меня вытянуты. Она сидит почти прижавшись грудью к коленям, а по бокам у нее болтаются руки, и руки эти слишком длинные, как и ее вырастающие из газона ноги в белых чулках по моде этого сезона, ноги бледные, как мучные личинки, до самых подколенных ямок и тоже до ужаса длинные. Между прочим, ее изжелта-белые волосы тоже длинные. Они висят прямо и прячут ее профиль, оставляя открытыми лишь по-детски закругленную переносицу и модные пухлые губы. Она недвижно сидит под тропическими, незнакомыми мне деревьями, которые сбрасывают на газон лиловые лепестки цветов. Полутень. Вдали за кустами — кельнер, А в лоджии под самой крышей шумит в пестрых клетках множество попугаев. Может быть, именно попугаи внезапно замолкают, потому что она, не меняя позы, начинает рыться в своей плетеной сумке, отыскивает там спички и поджигает все, одну за другой. Не спеша, но и без перерыва. И каждой дает догореть до конца, причем держит ее в правой руке, смачивает слюной два пальца на левой, чтобы схватить ими уже обуглившуюся, но еще горячую головку. А теперь она ставит спичку вертикально и дает ей догореть до конца, пока та не скрючится. Теперь горит следующая. Теперь слюна увлажняет два левых пальца. Теперь спичка корчится, теперь… Шестьдесят девять раз. Я считал. И всякий раз с другим результатом. Теперь она снова сидит, недвижная и утомленная, и руки у нее свисают до земли, А теперь приходит старший кельнер и приносит какой-то коричневатый напиток, колу, должно быть, и она выуживает из бокала кусочки льда двумя пальцами левой руки. Теперь она сбрасывает с лакированной столешницы на клумбу эти кусочки льда. Теперь отпивает из бокала. Теперь она встает, сперва оторвав бедра от сиденья, и уходит и не оглядывается — в свободном льняном платье, наискось через сад при отеле, а со всех сторон, из кустов и через оградки выскакивают старички. Вокруг опустевшего плетеного кресла я схватываюсь с этими старичками из-за кривых, обгорелых спичек. При этом мы ругаемся и стараемся как можем. Мне достается шесть совсем целых и немножко обломков. Я могу унести их в свой номер и истолочь в порошок на мраморной крышке комода.
Но это действует лишь до захода солнца.
Атолл Бикини
12 июня 1946 года крестьянин Маттиас Тёрне покинул свой двор — широко раскинувшиеся угодья, хоть и расположенные на отшибе, но причисляемые тем не менее к деревеньке Летч, куску земли между Брейелем и голландской границей в районе Венло.
Тёрне сажал много спаржи. Еще нынче утром его люди резали и сортировали спаржу.
От сарая, где хранилась у него вся утварь, он прошел шагов примерно двести через тщательно прореженное свекольное поле, остановился внезапно среди поля, достал компас из левого кармана своей куртки, достал часы из правого, развернулся с помощью компаса в юго-восточном направлении, несколько раз откорректировал свою позу, перевел взгляд на часы, сперва следил за движением минутной стрелки, потом — секундной, оторвал взгляд от часов и направил его поверх плоской, размеченной живыми изгородями, тополями, хуторами, деревнями, сгоревшими танками и телеграфными столбами равнины к горизонту и за горизонт — в одноцветное небо. Но когда в юго-восточном направлении так ничего и не возникло из предсказанного по радио и имеющего форму гриба, крестьянин Маттиас Тёрне опустил в карманы и компас, и часы, развернулся, снова зашагал наискось через свекольное поле, на ходу дважды нагнулся за сорняками и больше не оглянулся ни разу, даже перед воротами своего двора.
Славист
Ганс-Петер, единственный, долговязый, неприкаянный, без малого пятнадцатилетний сын хозяина, улизнул с приема, который отец его просто обязан был дать как глава делегации, покинув свой дом, эту одинокую белесую коробку возле еще не снесенной руины Лертерского вокзала и, пронеся мимо томящихся без дела шоферов откупоренную бутылку лимонада, из которой уже торчала соломинка, через Мольткебрюке под ночную сень Тиргартена. Ганс-Петер, которого изгнали из дома приглашенные гости, эти наверняка стоящие и посреди фразы меняющие собеседника взрослые люди, шагал нога за ногу со своей бутылкой по тогда едва отросшему до высоты груди, а по краям все еще лишенному деревьев парку, и желание расплакаться скоро его оставило. Поодаль от здания делегации, но все же достаточно близко, чтобы освещенная коробка оставалась в пределах видимости, Ганс-Петер присел на одну из недавно расставленных в парке скамей и принялся бережно тянуть лимонад через соломинку. Ганс-Петер совсем не испугался или испугался, но недостаточно, когда из кустов словно вынырнул человек в шинели и подсел к нему на скамейку со словами: «Приятный вечер, правда?» Когда человек в шинели, назвавшийся Хайнцем, спросил у Ганса-Петера, как его зовут, сразу начал называть его по имени и попросил у Ганса-Петера глоточек «от того сока», Ганс-Петер протянул ему наполовину выпитую бутылку вместе с соломинкой, но получив бутылку обратно, перевернул соломинку другим концом кверху, надеясь, что человек в шинели, что Хайнц, в темноте этого не заметит. Еще прежде, чем Ганс-Петер встал, прежде чем он сказал: «А теперь мне пора», прежде чем он поставил под скамью пустую бутылку из-под лимонада, а соломинку, уже использованную с обеих сторон, по просьбе Хайнца ему подарил, короче, прежде чем он, чуть повзрослев, вернулся в белесую коробку своего отца, на прием, который устраивал глава делегации, Хайнц-в-шинели спросил у Ганса-Петера: «А кем ты вообще хочешь потом стать?» И Ганс-Петер, еще прежде чем подарить соломинку, отвечал: «Я хочу изучать славистику».
Когда отец снова захотел жениться
Когда отец снова захотел жениться, мы сразу сказали: нет. Не из-за мамы, а так. В конце концов Гитта целых два года готовила для него, ну и конечно для меня, своего брата Петера. Для девочки, которой тогда всего-то и было четырнадцать лет, — заслуга немалая. При этом мы сразу, едва истек год траура, предоставили отцу полную свободу действий и не только на стороне, но и дома. Мы разрешили ему приводить домой кого он пожелает. Но вот что поначалу никак не укладывалось у меня в голове: Гитта надумала подавать ему и его барышням наутро завтрак в постель, хотя и делала это ни свет ни заря, часов примерно в семь, потому что спешила в школу. А когда я сказал Гитте: «Ну, это ты хватила через край», она ответила: «Пусть увидят, кто тут ведет хозяйство». Но вообще-то я все время старался по возможности держаться в стороне, тем более, что все дамы, вместе взятые, фройляйн Пельцер, фройляйн Вишневски и даже фрау фон Вольцоген мне решительно не нравились. У отца был ужасный вкус. А Гитта, которая видела больше, криво улыбалась, возвращаясь на кухню после того, как подаст завтрак. Когда отец первый раз привел в дом Ингу, я про себя подумал: «Ну наконец-то что-то новенькое». Во-первых, она была моложе. Если быть совсем точным, на три года и два месяца моложе меня. Во-вторых, она не только меня, но даже Гитту не стала называть на «ты», а в-третьих, она сразу мне понравилась, и не только внешне. Вообще-то говоря, первое время было самое хорошее. Иногда она помогала мне по латыни, но ни разу — эдак свысока, а на равных. И до утра она ни разу не оставалась. И Гитте не приходилось подавать им завтрак в постель. Отец до того втрескался, что скорей всего даже не обращал внимания, если я всю ночь где-то пропадал. Но Гитта придерживалась другого мнения. Она сразу учуяла, чем это пахнет, и сказала: «Перестань шляться, не то когда у тебя будут неприятности, отец воспользуется случаем и поставит нас перед фактом». Тогда я принюхался — и верно: Инга начала воцаряться на кухне, во-первых, потому что у Гитты якобы совсем не оставалось времени из-за школьных дел, а во-вторых, потому, что Инга и в самом деле стряпала так, что дай Бог, ну и, наконец, в-третьих потому, что у нее был такой план. Правда, на ночь она до сих пор ни разу не осталась, но это как раз и показалось нам подозрительным. Она явно желала произвести впечатление именно на нас. В чем и созналась, когда я без обиняков прижал ее в Бокенхайме. Сперва она пыталась изображать из себя взрослую: «Лучше будем считать, что я этого не слышала» Потом, после неизбежных поцелуев, она выдвинула как предлог свою хозяйку. «А что если мне откажут от комнаты?» Я стоял на своем: «Ну, тогда переедешь к нам». Но никто ей от комнаты не отказал. Я ублажал ее в Бокенхайме, раза два-три в неделю со вполне правдоподобным объяснением на вопросы хозяйки — из-за дополнительных занятий, — а отец даже ни о чем и не догадывался. Когда примерно с месяц назад он не без детского смущения пролепетал что-то насчет «жениться на Инге», мы ему ответили: «Нет, Гитта теперь готовит лучше». Со следующего семестра Инга будет учиться в Гисене, и я пообещал ей бывать у нее в выходные дни и тому подобное.
Мой Макс
Или музей — или библиотека. А потом все равно забиться в холодный номер гостиницы, но не затем, чтобы открыть письмо — письмо он отодвинет в сторону длинными пальцами, — а чтобы, не снимая пальто — в дневник: «Спросить про дорогу у человека в лесу. А у человека окровавленные руки, поскольку он только что совершил убийство.»… И порадоваться неопровержимости этой фразы, в которой многое угадывается. Перечитывает самого себя. Листает назад. «Одеться скорбью как плащом.»… По горло сыт самим собой, откладывает в сторону мокрое пальто. Но не для того, чтобы письмо на столе, а для того, чтобы на краю постели, Гегеля с полки, ибо понятие вины, пишет он, совершенно как у меня… Потом без специального ножа для писем просто надрывает конверт. И глаза — уже разворачивая: Макс, мой сыночек умер. Голосок из Гамбурга проник в комнату. И неплохо бы вина, и неплохо бы вина… Взгляд вычерпан. Мой Макс. Ни пятнышка крови, ни сна, который можно пересказать, потому что на бумаге так прямо и сказано, что никогда больше, никогда больше он не позвонит своим голоском, чтобы дали хлеба, молока, орехов и: «Я тоже хочу вина…» И даже в смерти не оставит его прелестным, но напустит червей, хотел бы и сам сделаться червем, быть червем и принять гадостное участие: Мой Макс, мой Макс…
Между страницами письма она вложила для него желтый, словно живой, локон. Он покачивает локон на грубой ладони и заглатывает его, давится, хотел бы стать червем — надеется, что вобрал в себя, Мой Макс, что сможет удержать в себе, но тут локон исторгает из него рвоту — на стол, на письмо, на Гегеля, но только не на его книгу. Ибо уже после того, как все еще желтые волоски в рвотной массе долгое время вызывают у него ужас, он записывает: «Лягушка не может покраснеть при всем желании…»
Перзенник и Плётц
Сегодня они постепенно вытесняют с рынка гютермановский шелк для шитья, но началось все это с бечевки, какой раньше очень часто, а сегодня все реже пользуются мальчики, когда запускают змеев. Перзенник, одиночка с самого детства, единственный ребенок, и за партой тоже, и на школьном дворе тоже, Перзенник, всегда искавший сближения и создававший вокруг себя дистанцию, Перзенник, которого во все времена ставили на одиночный пост, хоть на трудовом фронте, хоть в армии, хоть как заведующего складом, хоть — позднее, на миусском фронте — как артиллерийского корректировщика, Перзенник, который даже во время шестимесячного пребывания в американском плену не сподобился попасть в массовый лагерь под Регенсбургом, а напротив, был исторгнут из этой скученной общности и получил на аэродроме под Фюрстенфельдбруком изолированный, но весьма желанный из-за улучшенного рациона пост: Перзеннику поручили при помощи палки с гвоздем на конце убирать бумажки с газона — Арно Перзенник, которого ничей мизинчик не сумел завлечь сперва в помолвку, а потом в женитьбу, которому избранная профессия — он служил киномехаником в пригородном кинотеатре — навязывала в спутники одиночество, ибо был он отделен не только от публики, но и от билетерш, он, по сути дела общительный, разговорчивый и отзывчивый человек, хотел желал требовал жаждал искал криком кричал в поисках друга и в результате приобрел бечевку.
Но нет, не для этого он купил целых двенадцать метров. В парке Теодора Хойса он натянул ее от дерева, это был клен, через тропинку, по которой редко кто ходил, другой конец держал сам, в кустах, на уровне головы, и минут через двенадцать после завершения всех приготовлений — а за это время под его бечевкой пробежало лишь двое играющих ребятишек — сбил «борсалино» с головы служащего купеческой конторы Германа Плётца. Перзенник отпустил свой конец бечевки, поднял шляпу с земли, почистил ее предусмотрительно захваченной из дому щеткой и с разными словами вернул хозяину. Они подружились. И дружба эта имела успех. Ибо Перзенник и Плётц вытеснили с рынка потермановский шелк для шитья. Они открывают один филиал за другим и не устают делать инвестиции.
Один из наших сограждан — карнавальный принц
В некоем нижнерейнском городке, отнюдь не в Гревенбройхе и не в Кайзерверте, а в моем из разных соображений не названном здесь родном городе избранного там карнавального принца, вполне состоятельного торговца радиотоварами, примерно в конце пятидесятых годов постигла такая неудача, от которой до сих пор Господь миловал большинство из нас. Газеты — и не только местные — на несколько недель получили благодарный материал, усердно, как это бывает, загаживая собственное гнездо, и лишь юмор, чудесным образом снова и снова отрастающий юмор наших рейнских сограждан способствовал беспрепятственному протеканию поры карнавала, которая, как ни крути, тянется от одиннадцатого ноября до великопостной среды.
Пока выбирали принца и — в свою очередь — избранную им принцессу фройляйн Хортен — младшую дочь строительного подрядчика, все выглядело довольно весело, тем более, что и соискатель господин Бойтц, и гордый родитель Хортен не поскупились, да и местная пивоварня намеревалась щедро поддержать выборы. Господин Бойтц входил в объединение «Братья Хоппедиц» — маленького, возникшего лишь после войны, но чрезвычайно активного общества, в чьей поддержке наш торговец радиотоварами мог не сомневаться. Но решающую роль сыграли в этом деле сине-белые. Однако хотя господин Бойтц был избран именно благодаря поддержке этого весьма значимого традиционного союза, приходится к великому сожалению предположить, что именно в рядах упомянутого союза следует в дальнейшем искать клеветников и злопыхателей.
Согласно неписаному, но свято соблюдаемому с начала девятнадцатого века и гротескным образом принесенному французской оккупацией закону, у нас в городе именно правящий бургомистр наделен правом публично вручать вновь избранному принцу или, как его в шутку величают, «его дурачеству» знаки достоинства, как-то: дурацкую колотушку и колпак с бубенчиками. Когда господин Бойтц, ведя под руку фройляйн Хортен и сопровождаемый гвардией принца — примерно дюжиной развеселых девушек и своим еще не ушедшим от дел предшественником Раффратом, владельцем лавки деликатесов, поднимался по изогнутой парадной лестнице нашей красивой и не лишенной художественного значения ратуши, повсюду еще царила вдохновенная радость, которая скоро, очень даже скоро обернулась потрясением.
Нашему тогдашнему бургомистру, господину доктору Верту, человеку, впрочем, не состоящему ни в какой партии, никогда не простят, что он наотрез отказался принять господина Бойтца и его свиту и подтвердить вступление в должность вновь избранного принца и его принцессы. Другие упрекали Верта — и не без оснований, — что он сделал эту историю достоянием гласности, ибо доктор Верт мог без особого труда уговорить принца втихую отказаться от титула. И если доктор Верт, как признано всеми, заслуженный деятель коммунального фронта, не был переизбран в начале шестидесятых годов на пост бургомистра и тем сделал возможным захват ратуши социал-демократами под водительством господина Бергштреттера, этой печальной перемене в нашей социальной ситуации в немалой степени поспособствовала так называемая «История с принцем». И однако же, по моему компетентному мнению, доктор Верт просто не мог поступить иначе. Неоднократно, даже и совсем недавно он в узком кругу сожалел о безвыходности своего тогдашнего положения и не уставал доказывать с мельчайшими подробностями, почему он тогда вынужден был поступить так, а не иначе.
Видит Бог, мне не доставляет никакой радости сообщать на этом месте, что господин Бойтц из политических соображений решительно не мог быть карнавальным принцем. Какое вообще отношение — так спрашивали мы себя тогда — имеет карнавал к политике? Правда, как среднему, так и старшему поколению в нашем городке было известно, что в злополучные времена всеобщего смятения умов господин Бойтц, поддавшись на уговоры, вступил в местную организацию штурмовиков, но ведь когда господин Бойтц предложил свою кандидатуру на роль карнавального принца, это обстоятельство никого не смутило, тем более, что вскоре после конца войны денацификационная комиссия союзников его признала «замешанным лишь отчасти». И этого никак не хватило бы, чтобы помешать избранию на роль карнавального принца, тем более, что его предшественник, господин Раффрат, бывший заместитель ортсгруппенфюрера и как-никак член еще с тридцать первого года, не мог припомнить, чтобы при его восхождении на престол возникли хоть малейшие затруднения. А вот на карьере Германа Бойтца отрицательно сказалось то обстоятельство, что в бытность свою штурмфюрером в тридцать шестом году он недостойным образом обошелся с казенными деньгами, благодаря которым несколько избранных и преданных молодых людей, в том числе и Клаус, младший брат Бойтца, получили возможность съездить на олимпиаду и сверх того провести в Берлине еще две недели.
Вот что имя господина Бойтца поминалось также в связи с убийством одного коммуниста, рабочего текстильщика — преступление, сколько я помню, было совершено на рейнских лугах повыше Бенрата, — я считаю гнусной клеветой, каковая была отвергнута всеми членами карнавального комитета, если не считать господина Раффрата, который был председателем у сине-белых. А вот доктор Верт поступил очень достойно, отмежевавшись от выше перечисленных обстоятельств. Для него, как представителя коммунальной политики, важным было лишь одно: некоторые неувязки в партийной кассе.
Следует воздать хвалу господину Бойтцу: он не тратя лишних слов и без проволочек уступил свой высокий пост. И уже не далее чем через неделю мой школьный товарищ и друг как в плохие, так и в хорошие времена, иными словами Венделин Кёбе, владелец мебельного салона, под тем же именем в результате новых выборов был провозглашен карнавальным принцем. Галантный Кёбе, конечно же, взял в принцессы невезучую фройляйн Хортен, хотя сине-белые настоятельнейшим образом советовали ему избрать младшую дочь Раффрата.
В завершение мне остается сказать только одно: под дурацким правлением Венделина Кёбе остаток карнавала прошел без сучка-задоринки к вящему удовольствию всех участников.
Софи
Никогда и ни за что я больше не возьму этого ребенка с собой на похороны. Она там смеется, и ее все забавляет. Уже перед часовней, где собираются близкие усопшего, она просто каменеет, борясь с комизмом ситуации. Я и сам вижу, как на нее действуют венки и люди, несущие гроб. Но только разверстая могила и троекратное бросание земли на крышку гроба вызывают в ней такой приступ смеха, что он уже переливается через край, нет, не переливается, а врывается во всеобщие слова соболезнования.
Вот сегодня, когда хоронили молодую еще жену друга нашей семьи, и друг не стыдился громогласных изъявлений горя, смех остановил его слезы. Даже когда я набил смеющийся рот девочки сырой землей, чтобы она замолчала, друг все равно больше не мог плакать и не перестал сердиться.
Сообщает полиция
Я могу здесь лишь повторить то, что уже показала для протокола: я не была его любовницей. Разве что доверенным лицом, если такие вообще бывают. Наша так называемая доверительность, о которой меня спрашивают здесь снова и снова, ограничивалась лишь профессиональными вопросами. Другими словами: я большему выучилась у профессора, чем, например, фройляйн Мантей, ну та, которая получила отпуск у кассельского музея подобно тому, как я получила его от музея Вальрафа-Рихарца, потому что обе мы должны были завершить свое обучение, пройдя полугодовой курс по реставрации в Амстердаме.
Профессор де Гроот был специалист международного уровня, и все его ученики, даже фройляйн Мантей, которая показала, что чувствовала себя в известном пренебрежении, должны быть ему благодарны. Всего два раза мне довелось помогать профессору де Грооту — снимать подгрунтовку у него в личной студии, остальное время мы все, как уже подтвердил здесь доктор Йонк, работали сообща в большом реставрационном зале. Впрочем, нельзя отрицать, что когда аппарат профессора де Гроота передавал ему сообщение о пожаре в близлежащем центре города, он из всех своих учеников брал только меня. Эти прогулки не всегда доставляли мне удовольствие, потому что отрывали меня от работы, которой я занимаюсь с большим интересом. Соученики могут подтвердить, какую досаду вызывало у меня подобное предпочтение, хотя, конечно, сердиться из-за этого на профессора было невозможно.
Как всем известно, наш учитель, сидя над своей работой, постоянно слушал полицейские сообщения. Об этой его странности мне рассказывали уже в Кёльне. В Кельне говорили так: деловой, но с причудами. Дорожно-транспортные происшествия, драки по субботам и даже ограбления ювелирных лавок никогда не привлекали его внимания, хотя и вызывали у него саркастические, всех нас смешившие комментарии, но когда среди неизбежной мешанины слов, к которой мы уже привыкли — доктор Йонк отменно умел ее пародировать, — сообщали о пожаре на чердаке какого-нибудь дома, даже сложнейшая работа не могла удержать профессора де Гроота. Я до сих пор вижу, как он запускает руку в карман своей куртки и словно мальчишка позвякивает там ключами от машины: «Едем, фройляйн Шиммельпфенг?»
За полгода без малого я видела четыре больших пожара — два на Хееренграхт, один — в борделе возле старой церкви и один — на Ватерлооплейн, кроме того, дюжины две средних и совсем пустячных, потому что в Амстердаме часто что-нибудь горит. Профессор де Гроот наблюдал за этими пожарами спокойно и выдержанно, порой не без разочарования, но неизменно — с сугубо научным интересом, каким я знала его по работе в реставрационном зале. Меня — в этом я хочу признаться и, если желательно, показать для протокола — эти пожары, часто против моей воли, повергали в беспокойство и даже в возбуждение, так что у меня порой возникало ни на чем не основанное подозрение, что профессор де Гроот затевает эту игру со мной не без известной цели. Должна решительнейшим образом подчеркнуть: об этом и речи быть не может. Это я и только я одна сплоховала. Незрелая, неспособная к сопротивлению, я решительно забыла про научную дисциплину. А ведь сам профессор со своим почти веселым самообладанием мог служить мне достойным примером. Пока шло тушение пожара, он по большей части молчал. А если и говорил, то о своем любимом художнике Тернере, особенно о пожарах, написанных тем примерно в 1835 году, о пожаре в парламенте или о пожаре Рима, иными словами, о картине, на которую Тернера вдохновил увиденный им собственными глазами пожар парламента. По этой и только по этой причине я, естественно, сказала профессору «да», когда в мае прошлого года профессор де Гроот любезно пригласил меня совершить с ним трехдневную экскурсию в Лондон. С раннего утра до позднего вечера мы ходили там по галерее Тейта. В знаменитом Тернеровском альбоме эскизов мы многократно обнаружили упоминавшийся выше пожар парламента, спонтанно и на веки вечные запечатленный Тернером. Если теперь я скажу, что за это недолгое и счастливое для нас обоих время профессор де Гроот стал мне по-человечески ближе, остается только надеяться, что мои слова не дадут новую пищу для тех подозрений, питать которые по-прежнему склонен высокий суд.
Раньше я не знала, что профессор де Гроот слушал полицейские сообщения даже дома. Он и вообще редко, а в Лондоне никогда не говорил о своем доме. Два раза — в июне и в начале июля прошлого года, всякий раз — в воскресенье — меня по настоянию его жены приглашали к ужину. И хотя фрау Гроот произвела на меня впечатление женщины забитой и растерянной — у нее был усталый и изможденный вид, — мне никогда не пришла бы в голову мысль, что именно полицейские сообщения, эта уже привычная для нас причуда профессора, сокрушили ее здоровье; мне думается, что профессор де Гроот даже ночью, когда спал, она же мучилась бессонницей, заставлял свой приемничек работать на полную громкость. Говорилось еще — о чем я узнала лишь теперь, — что сообщения о пожарах, причем только они — тотчас будили профессора и что далее он принуждал свою жену, порой совершенно против ее воли, одеваться и сопровождать его к месту пожара. Как ни осуждаю я подобное бессердечие, мне непременно хочется подчеркнуть, что лишь профессиональные, иными словами: научные интересы — главным образом уже упоминавшееся изучение творчества Тернера — навязали профессору такую необычную модель поведения.
Сегодня, когда мне известно, что мой учитель профессор Хенк де Гроот заживо сгорел в собственном доме, когда я полагаю, что он успел еще услышать по радио сообщение о пожаре собственного дома, что он, вероятно, еще пытался спасти себя и свои рукописи из спальни, расположенной высоко в тесном фронтоне дома, который, как и большинство домов Старого города, горел снизу вверх, когда я не могу снять с фрау де Гроот подозрение в умышленном поджоге с целью убийства, что инкриминируется ей высоким судом — я ведь помню, как за ужином она много раз и без всякой видимой связи говорила: «Дай срок, ты еще здорово обожжешься…» — теперь и впредь я буду горько упрекать себя, что даже не пыталась благотворно воздействовать на своего учителя, тем более что могла не сомневаться в его полном доверии, хотя и никогда не была, как здесь пытаются доказать, его любовницей, и в Лондоне во время нашей трехдневной поездки на Тернера — тоже нет.
Вдобавок мое алиби недвусмысленно свидетельствует о том, что в ночь пожара я была со своей коллегой фройляйн Мантей в кино, на ночном сеансе.
Медленный вальс
Если я, исходя из собственного понимания и из тех наблюдений, которые при всем желании не мог не сделать, решаюсь поведать читателям «Моргенпост» меньше о так называемом «Деле танцшколы» и больше о той роли, которую вынужден был сыграть во всей этой истории, прошу поверить, что мне совершенно чужда какая бы то ни было погоня за сенсацией и что напротив, я твердо намерен — как на суде — исходить из фактов и только из них. Для ясности скажу о себе следующее: я холостяк, разменял середину четвертого десятка, служу в торговой фирме, люблю путешествия и общение с людьми. За эту свою — как нельзя не признать — естественную потребность встречаться с людьми и разговаривать с ними, мне и пришлось дорого заплатить.
В начале прошлого года, когда я спускался с Халензеебрюке, мне впервые бросились в глаза освещенные окна школы танцев Лагодны. Я был не единственным, кто остановился перед этими окнами, наблюдая за монотонными движениями танцоров. Молодые парочки, даже домохозяйки, нагруженные тяжелыми сумками, тоже решили потратить время на наблюдение. Порой зрители со смехом либо хихиканьем комментировали церемонию, производящую нелепое впечатление, поскольку музыки мы не слышали. Отнюдь не балетные светила в черном трико, а так называемые исполнители бальных танцев в школе Лагодны знакомились здесь с более или менее сложными па в танго, медленными — в Венском вальсе, с фокстротом и современными танцами, такими как румба, рок-н-ролл и — по желанию некоторых более молодых пар — с различными видами и разновидностями танца твист и даже весьма дурацкой летки-енки.
Должен признаться, что меня, зрителя с улицы, эти размеренные движения, я бы даже сказал, единодушие и самозабвенность танцоров все больше и больше наполняли желанием оказаться среди них. В этом, наверное, и заключался рекламный, назойливо рекламный смысл широких, ничем не занавешенных окон школы танцев Лагодны. (Сегодня я задаю себе вопрос: а дозволен ли вообще подобный эксгибиционизм как рекламный метод, тогда же я ни о чем подобном не думал.)
Три-четыре раза просто посмотрев с улицы, я представился, попросил бланк заявления, убедился в полнейшей деловой солидности школы — у них даже была предусмотрена страховка от несчастных случаев во время занятий — и записался на курс для продвинутых, потому что основы классического бального танца еще были свежи у меня в памяти.
Фрау Лагодны помогала всем новичкам, а стало быть и мне, преодолеть смущение первых дней: меня непринужденно представили разрозненному полукругу остальных учеников без обязательного рукопожатия, в партнерши мне после нескольких шутливых слов настоятельно порекомендовали фройляйн Цвойдрак, вдобавок и небольшой домашний бар, где подавали освежающие, но безалкогольные напитки, помогал завязать первые контакты.
Кроме фройляйн Цвойдрак, мне довелось также разговориться с фройляйн Рудорф и ее партнером господином Вёрляйном. Там, у бара, во время коротких промежутков между танцами, причем только у бара, потому что мы нигде больше не встречались, обычно велись по большей части непринужденные, как я теперь припоминаю, разговоры. Обсуждались планы отдыха. Фройляйн Рудорф умела чрезвычайно убедительно рассказать о своей поездке в Ирландию. Как невинно, как освежающе необычно звучал рассказ о лыжных радостях с препятствиями во время зимнего отдыха в Ханенклее, которым сумела нас попотчевать фройляйн Цвойдрак. Можно припомнить все анекдоты и очаровательные глупости, но те указания, о которых еще пойдет речь, мне ни разу не были даны у стойки бара. Вот и фрау Лагодны, которая от случая к случаю, проходя мимо, обменивалась с нами репликами, держалась — и это я хочу особенно подчеркнуть — на дружеской дистанции.
Сколько я ни подвергал проверке все, даже самые банальные ситуации, равно как и собственную память, выходило, что указания были мне даны один-единственный раз, вечером, между 12 и 13-м марта, а именно в ходе длительного, неоднократно прерываемого разучивания отдельных па медленного вальса, именуемого также английским. Упражнение предусматривало, что мы по знаку фрау Лагодны меняем партнера или, соответственно, партнершу. В ходе этого, отнюдь не легкого упражнения — а медленный вальс по трудности почти можно сравнить с классическим танго — я получал все указания непосредственно от фройляйн Рудорф. Это дает мне основания предполагать, что источником указаний был, по всей вероятности, господин Вёрляйн, который раньше уже проделывал те же упражнения с фройляйн Рудорф. А вот со стороны фрау Лагодны я могу припомнить лишь высказывания, которые могли быть поняты в связи с пробным танцем — это была «рамона» — иными словами, замечания и исправления. Уже первая смена партнеров — до этого я танцевал и не произносил ни слова с фройляйн Цвойдрак — свела меня с фройляйн Рудорф. После нескольких па она, не нарушая при этом предписываемую медленным вальсом подчеркнутую дистанцию между партнерами, сказала: «Сегодня в двадцать три двенадцать». Когда я — что нетрудно себе представить — растерянно переспросил, ответа не последовало. Произошедшая тотчас после этого смена партнеров — фройляйн Зайферт — лишила меня какой бы то ни было возможности настаивать на ответе. Из-за последовавшего затем повтора всего упражнения фройляйн Рудорф, танцевавшая ранее с господином Вёрляйном, лишь после шестикратной смены партнеров улучила возможность дать мне второе указание: «Сегодня в двадцать три двенадцать, угол Литценбургер и Бляйбтрой-штрассе, из машины не вылезать». О том, что я езжу на «принце», она, вероятно, узнала из наших, подчеркиваю еще раз, вполне невинных разговоров у стойки бара. Третье указание повторяло первое и второе и еще содержало дополнение к уже сказанному: «Ровно в двадцать три семнадцать трижды включить и выключить габаритные огни в темпе медленного вальса». Дальнейших указаний я не получил. От встречных вопросов я тоже отказался. Может быть, приказной тон фройляйн Рудорф изменил ее обычно звучащий вопросительно девичий голосок, что и заставило меня умолкнуть.
Вот и после двадцати двух, когда занятия кончились и воля моя снова окрепла, мне не удалось получить от фройляйн Рудорф никаких объяснений. Обычная суматоха на выходе и вдобавок разговор, в который, как можно предположить, меня с явным умыслом втянула сперва фройляйн Цвойдрак, а потом еще и господин Вёрляйн, лишили меня возможности потребовать объяснений.
Время от двадцати двух до без малого двадцати трех я провел возле Халензеебрюке за двумя кружками пива. Там я оказался наедине со своей ситуацией. Мне следовало бы принять решение, вместо того чтобы предаваться мечтам подобно пылкому юноше, мне следовало бы попросить у кельнера бумагу и карандаш, и деталь за деталью укрепить свои подозрения. Я должен был действовать сообразно со своим возрастом и привлечь к делу полицию. Но вместо этого решения, которое я слишком поспешно счел преждевременным и потому не попытался осуществить, у меня хватило дурости, чтобы услышать в указаниях фройляйн Рудорф, звучащих даже здесь, в пивной, призыв к маленькому, галантному приключению. Полный ожиданий, я расплатился. Ибо одно лишь мое любопытство и мое легкомыслие побудили меня двенадцатого марта в двадцать три двенадцать припарковать своего «принца» на углу Литценбургер и Бляйбтрой-штрассе. С веселой сосредоточенностью как следопыт, то есть с точностью до минуты, я подал условленный сигнал в предписанном мне темпе. Чтобы прождать потом двадцать или даже больше минут — но чего?
В самом непродолжительном времени я получил все основания сожалеть о том, что таким образом меня запутали в самое гнусное убийство. Из-за моей наивности мной злоупотребили, как колесиком и, по правде говоря, немаловажным колесиком в некоем сложном механизме, устройство которого я до сих пор не сумел понять. Даже когда я узнал из этой и нескольких других газет, что целая сеть агентов готовила этот террористический акт со взрывом, когда среди описания жестоких подробностей прочитал время взрыва «двадцать три семнадцать», и еще такую подробность, что речь шла о трех, последовавших через равные промежутки времени, взрывах, я все еще не уловил связи с выполненными мною указаниями. Но вот после того, как изыскания «Моргенпост» вскрыли политические мотивы покушения, после того, как далее сообщалось об анонимных телефонных звонках, когда после монотонным голосом произнесенной заставки «Привет от Рамоны» звучало несколько тактов носящего то же имя английского вальса, когда моя память, внезапно озарившись, привела мне на ум разговоры за стойкой бара в школе танцев Лагодны, в ходе которых Вёрляйн, Цвойдрак, но также и фройляйн Рудорф обменивались презрительными замечаниями о шпрингеровской прессе и о жертве запланированного ими покушения, когда я вынужден был признать, что группа радикальных, может быть, даже коммунистических агентов превратила меня в безвольный инструмент своего покушения на демократию и свободную печать, я, готовый дать любые показания, пошел в полицию.
Заяц и ёж
Ренч больше не желал бегать наперегонки. Пороху у него еще хватало, но вот цели он перед собой не видел. Безрадостно свел он воедино мечты спринтера, но всякий раз, несмотря на удачный старт, приходил вторым. Ренч наседает. Ренч теребит свой галстук. Ренч разучивает остроты на каждый случай. Ренч сам начинает смеяться, еще не договорив до конца. Ренч желает себе добра и потому надумал совершить путешествие. Он счел недостойным положить конец дома, во вторник, например, в единственный свободный вечер, в те часы, когда детская передача собирает всю семью перед голубым экраном. Ну и о деле тоже следует подумать. Короче, он заказал билет, взял вещей больше чем надо, задержался у газетного киоска и даже испугался, когда под высокими сводами зала на полную громкость прозвучало его имя. Ему понравилось, как это звучит: «Последний раз просим господина такого-то срочно…» И он внял просьбе, и не курил, и хихикая пристегнул привязные ремни и был уже здесь, еще прежде чем самолет оторвался от земли, а в самолете — чемодан с превышением веса.
Отель во Франкфурте, удачно выбран — между двумя ярмарками, получил комнату с ванной. Написал на формуляре, что ему пришло в голову: Эвальд Нёльдихен, ибо все личное, равно как и зарегистрировавшийся перед вылетом человек по имени Ренч, было уже по дороге в отель кусочек за кусочком сброшено в Майн. Лишь после ужина — Нёльдихен поужинал хорошо и медленно говяжьей грудинкой с хреном и даже про свои таблетки не забыл — лишь после ужина комната ему понравилась. Раз в жизни прийти первым: а я здесь. А я уже здесь. Быстро выполненные, давно обдуманные действия. Ибо многое срывается на подготовительном этапе. Итак, никаких прощальных писем, ибо все, решительно все было уже сказано и всякий раз с отставанием на один корпус. Не люблю повторяться. Наступает такой момент, когда…
Но после того, как вода заполнила ванну, зазывно напомнил о себе пистолет и попросил об отсрочке. Нёльдихен начал высмеивать Ренча и все ему припомнил: попытка с парусником на кильской регате, когда соседний парусник перевернулся и ему пришлось разыгрывать спасателя, попытка с током, сорвавшаяся из-за короткого замыкания, которое устроили дети, когда играли с железной дорогой, взлом клетки с хищниками, но сибирских тигров как раз перед этим покормили. Ренч сдался и спрятал стрелковое оружие. А Нёльдихен, заносчивый победитель, не стал оглядываться. И однако неблагозвучный свист при натачивании ножа был всего лишь привычкой человека, который двадцать семь лет подряд брился столь старомодным образом и некогда звался Ренчем.
Но почему он, раздевшись, надумал почистить зубы? Почему снял телефонную трубку уже после второго звонка? Почему, услышав фамильярное: «Нёльдихен, старина, а я уже здесь!», не положил трубку самым решительным образом? Почему он сказал: «Добрый вечер!» вместо: «Вы не туда попали»? Почему он принял приглашение, адресованное Нёльдихену, и уговорился ненадолго встретиться с приятелем Нёльдихена, который уже был здесь и намеревался рассказать ему несколько новых анекдотов, в баре неподалеку от Главного вокзала? «До скорого, старина!»
Признаюсь, что раз уж ванна все равно была наполнена, я и посидел в теплой воде. Правда и другое: я тщательно оделся, не пожалел труда на галстук, припомнил два, как вполне мог надеяться, новых анекдота, но вот бриться после ванны не стал. С шершавыми щеками — раз в жизни не быть зайцем — отыскал бар на Кайзерштрассе и нашел там — он был уже здесь — одного старого знакомого. Мы обменивались воспоминаниями, смеялись, где положено, и пропьянствовали до самого утра. Франкфурт ведь славится своей ночной жизнью.
Господин Леттуних
Вы ошибаетесь: оригиналы не вымирают. Так рассказывал мне мой консультант по налогам, который не является обязанным хранить коммерческую тайну советником по экономическим вопросам и занимается своим делом как весьма доходным хобби, об одном из своих коллег, способном развивать присущую ему оригинальность между сомнительными счетами понесенных расходов у много разъезжающих архитекторов и весьма спорным налогом с оборота у практикующих врачей. Этот господин — зовут его Леттуних — приобрел на свои сбережения счетчик Гейгера, сделанный в Японии, и осуществляет все свои покупки с помощью этого прибора. В магазинах колониальных товаров, но и в магазинах самообслуживания, на еженедельном базаре и в продуктовом отделе больших торговых домов, словом, всюду, где торгуют маслом, фруктами, овощами, мясным и колбасным товаром, ну и, естественно, рыбой, господин Леттуних проверяет чувствительность своего портативного прибора, который не больше по своим размерам, чем транзистор, и наделен той же функциональной красотой.
Вы можете сказать: осторожность вполне понятная и уместная. Вы можете похвалить господина Леттуниха и открыто назвать его поведение достойным подражания. Вы можете — поскольку я намерен показать оригинальность, которая уже граничит с чудачеством, — повторить свой прежний тезис: Оригиналы вымирают. Я даже готов согласиться, что странности господина Леттуниха по отношению к продуктам питания и особенно к рыбам до известной меры оправданы, но вы осудите господина на середине пятого десятка, с благородной сединой, если он прибегает к своему счетчику, когда хочет взять такси, то есть явно торопится, когда ему выдают деньги, монеты или банкноты, и даже когда он пожелает отдохнуть на скамье в парке. И это, по-вашему, все еще не оригинал? Индивидуалист, живущий по советам разума, исключительно по советам разума? Рискуя навлечь на себя упреки в нескромности, скажу, а вы слушайте хорошенько: господин Леттуних — холостяк и холостяком умрет. Ибо как потерпела неудачу его последняя попытка вступить в брак, так и его последующие усилия в этом направлении разобьются о тот счетчик Гейгера, с помощью которого он проверил на радиацию свою тогдашнюю нареченную, ее квартиру, кухню, ванную, и — чего греха таить — диван-кровать, когда упомянутая молодая дама из Гамбурга, надо сказать, в последний раз и с самыми достойными намерениями пригласила его на чашку чая… Вы только взгляните: там! Ну вот там, между Лейнвебером и Билькой движется наш оригинал и прогуливает, как собаку, свой счетчик Гейгера.
ПОЭЗИЯ
Lyrik
© Издательство «Художественная литература», перевод на русский язык, 1987
© Издательство «Радуга», перевод на русский язык, 1988
ПОЭТ ГЮНТЕР ГРАСС Андрей Вознесенский[48]
Рисунок Гюнтера Грасса
Гюнтер Грасс с нажимом проводит по моему носу. Чувствую, как нос вспухает и краснеет. Мне щекотно. Когда он заползает в ноздрю, хочется чихнуть. Вот он карябается по правой брови своим чистым, коротко срезанным ногтем. Продавленная им линия на щеке остается навечно.
Уже второй час Гюнтер Грасс рисует с меня портрет. Полуметровый рисунок приколот к доске. Сижу не шелохнувшись. Западноевропейская мысль середины века с напором упирается в мое лицо.
Мы знакомы с ним несколько лет. Странно, что этот добродушно-усердный рисовальщик тот самый Грасс, что бросил вызов филистерской морали, до тошноты вывернул наизнанку нутро современности, он, наверно, крупнейшая фигура европейской прозы, он политик, потряситель устоев, противник гонки вооружений, но, главное, он художник, черт побери!
Лицо творящего всегда красиво. Чтобы чем-то заняться, мысленно делаю с него набросок. Портрет Грасса надо, конечно, решать в графике. Мысленно заливаю волосы черным. Когда-то иссиня-черная, крепкая, как конская, волосня его короткой стрижки начала седеть, крепкий горбатый нос поддерживают вислые усы, косые, как грачиное крыло. Все лицо и руки надо протонировать смуглой сепией, сморщив ее кистью у прищура глаз и на лбу, оставив белыми лишь белки глаз, и светлые блики на стеклышках очков с тонкой серебряной оправой, и, может быть, холодный блик на тяжелом серебряном перстне безымянного пальца. Обручальное кольцо он носит на мизинце.
Грасс — грач. Он и ходит-то важно, вразвалочку, склонив голову набок, как эта важная птица, когда она, едва поспевая за трактором, кося глазом, цепляет из свежей черноземной борозды блеснувшего жука или дождевого червя.
Он уверен в себе, несуетлив, полон тяжелого мужского обаяния, обстоятелен. Даже галантные забавы он вставляет в расписание наравне с работой и приемом пищи.
Вокруг него лежит инструментарий графика — граверные иглы, медные доски, грифели, скальпель, лупа. Он профессиональный художник и скульптор. Восемь лет назад он подарил мне свою грибную серию, резанную на меди, где идут войны грибов, справляются свадьбы грибов, где скрупулезно прорисованы эти колдовские пузыри земли, грибы-мужчины, грибы-женщины. Теперь он взялся за людские особи.
Он занимает меня разговором, рассказывает о сыновьях своих, как уже перестал их понимать, как они подались в натуральное хозяйство, сами своими руками построив ферму, как стали «зелеными», потеряв интерес к продажным политикам.
Сам Грасс беспощадно ясно видит катастрофичность мира. «Будущего может не быть. Художник раньше работал во имя будущего». Он страстный противник войны.
Это все происходит в мексиканском городке Морелии, где шумит табором фестиваль поэтов, где Гюнтер Грасс — поэт, где грунт — красный, а на зеленых мясистых листьях кактуса местными подростками нацарапаны известные формулы типа наших «Оля+Толя», написанных на заборах. Кактусы стремительно растут, надписи разрастаются до гигантских.
Гляжу за окно, где художником выбрана точка для моего зрачка. Зрачок упирается в беленькие трусики, развешанные на балконе. Это Аллен Гинзберг, непримиримый бунтарь и пророк мирового хаоса, еженощно устраивает постирушку и аккуратно развешивает на веревочке свое щемящее душу бельишко.
Каков он, поэт Грасс? Прозаические книги его фаршированы стихами. Вернее, стихи, как графические заставки, расположены на страницах среди прозы. Стих его сжат, плотен, графичен. В нем нет ничего от лукавого, от фальшивой сентиментальности или мистики. Это очень мужские стихи. Они — зрительны, их видишь.
Грасс — глаз. Его стихи — саркастическая геральдика, графические эмблемы времени. Он рисует не только лебедя времени, но и его крысу.
В нем сильна активная, решительная, антивоенная, антифилистерская плакатность. Сколько пространства между строками, какой пустынный ужас скрыт под иронией, простор опустевшей безлюдной земли.
До сих пор кружат в небе ангелы и самолеты, которым некуда приземлиться.Он блестящий политический полемист. Из-за антифашистской «Детской песенки», дразнящей, как дудочка шута, подмигивает умная издевка. Он переворачивает мифы, библейские символы, притчи, наполняя их злобой дня. Сатурн, чистящий зубы пеплом поэта, пророки, питающиеся акридами, нынешняя цена первородства, — это все театральные маски сегодняшних проблем, их рисует Грасс, художник сцены. Это не классический театр Расина, а злободневные подмостки.
Наш читатель, уже знакомый с прозой Грасса по публикациям «Иностранной литературы», теперь сможет познакомиться с его стихами. По сути дела, это первая обширная его поэтическая подборка в нашей печати. Переводчик Б. Хлебников перевел их экономно и точно. Это достоверные репродукции его графики.
За каждой лаконичной, детально прорисованной эмблемой стоит свой мир, мир исторических событий и судеб, поэт с ним полемизирует, часто это стихи о «второй природе», о человеческой культуре, которая не менее реальна, чем дерево или птичка.
Попробуем попристальнее разглядеть одно из его стихотворений.
Вернемся в Морелию.
Сидя на сцене за его набыченной квадратной спиной и торчащим из-за щеки усом, я слушал, как Грасс неторопливо и буднично читал свою «Аннабел Ли».
Аннабел Ли? Не ослышались ли мы? Это было нашим паролем.
Вы помните, конечно, читатель, это классическое стихотворение «безумного Эдгара».
Оно было первым из англоязычных стихов, заученных мной наизусть. Думаю, что каждый из прикасавшихся к английскому пробовал его переводить. Но таинство его музыки неуловимо.
Это было у моря. Берег вымело набело. Эти воды и годы прошли. Но жила-была девушка, не пойму, кем она была? Ее звали Аннабел Ли, —гласит приблизительный перевод. Вроде ничего особенного, но магическая власть есть в этом раскачивающемся ритме английского. Он завораживает. Это самое магнетичное из стихотворений. Оно волновало не одно поколение российских поэтов. Его переводил Бальмонт. «Это было у моря, где волна бирюзова», — вторил его мелодии влюбчивый Северянин. Может быть, это была ностальгическая музыка гибнущих цивилизаций, умирающей культуры гибнущего века?
Даже у Блока в гениальном его «В ресторане» чудится этот отзвук:
Никогда не забуду (он был или не был…) (…Аннабел Ли… Аннабел Ли…) Золотого, как небо, али …ты мне взоры бросала И, бросая, кричала: «Лови!..»«Аннабел Ли, Аннабел Ли», — как бы прорывается сквозь надрывную ресторанную музыку начала века.
Впрочем, может, это чья-то обмолвка за соседним столиком навязчиво и неосознанно залетела в блоковскую мелодию. Может быть, это один из тех, «с глазами кроликов», пробормотал. Это имя было у всех на устах. Для русской души и уха оно таило в себе неизъяснимую привлекательность.
«Аннабел Ли, Аннабел Ли», — через тридцать лет бубнили мои товарищи по классу, завороженные непонятностью дальних созвучий, а может быть, неосознанно влюбленные в губы произносящей их нашей англичанки. «Аннабел Ли», — шептал и Юра Кочеврин, сильный и красивый, чьи ноги под корень были обрезаны войной, и классный вратарь, примерявший под партой новенькие перчатки, как и в вашем, наверное, классе, читатель, вратаришка с остроумной кличкой Дырка, и сын генерала, и сын уборщицы, будущий дипломат и будущий физик, и отсутствующе улыбался второгодник, увлеченный чем-то своим на задней парте. «Аннабел Ли, Аннабел Ли…»
Как умел, тогда я попробовал перевести это на наш язык, Аннабел Ли хотелось сделать нашей. Это было первым моим переводом:
Ты жила среди неба, посреди безалаберной гонобобельно-синей земли. Вы встречались в Алабино с подмосковной сомнамбулой? Но я звал тебя Аннабел Ли. Ты не ангел была. У тебя были алиби. Сто свидетелей в этом прошли. Называли тебя отключенною падалью. Но я звал тебя Аннабел Ли. За твои альбиносово-белые бровки, за небесные взоры твои, и за то, что от неба была полукровкой, я назвал тебя Аннабел Ли. Жизнь достала ножом до сердечного клапана. Девальвированы соловьи. Но навеки в Алабино на дубу нацарапана твоя кличка — Аннабел Ли.Увы, Эдгар По во всем этом не был виноват, ему не снился наш гонобобель, эти синие водянистые северные ягоды, старшие сестры черники, с туманной поволокой, как на морской плашке Билибина. Но именно в них голубело имя.
Годы, годы прошли.
И надо же, с тем же именем на губах бродил по городу, тогда носившему название Данциг, полуголодный парень, потом ставший крупнейшим писателем, этот немецкий подросток, подумать только, и он тоже из клуба Аннабел Ли!
Я перевел эти стихи.
Посмотрим, чем стала она, фрау Аннабел Грасс.
Дряблая вишня, падалица, стала под пером нашего поэта метафорой загадочной Аннабел Ли, одной из самых таинственных и влекущих теней прошлой культуры.
Эти стихи могли бы быть написаны сегодняшним Лопахиным. Это его счеты с вишневым садом. Так Достоевский породил капитана Лебядкина, а тот в свою очередь зазвучал в голосе раннего Заболоцкого, который в молодости полемически заявлял, что Лебядкин его любимый поэт.
Аннабел Ли! Гюнтер Грасс как черт ладана боится этого навязчивого имени, отмахивается от него, его тошнит от сентиментальности завравшихся отцов, от этой тухлой, залапанной, проституированной Аннабел Ли — прошлой культуры, прогнившей истории, он ненавидит ее. И не может отречься и вынужден повторять: «Аннабел Ли! Аннабел Ли!» Я хочу спросить его, что значит для него Аннабел Ли — захватанная красота? Мировая культура? Агония кончающегося века? Субстанция с пошлым названием «душа»?
Но гудит автобус. Нас опять куда-то везут.
Грасс ворчит и ставит точку. Убирает меня в планшет, больно спрессовывая между двумя металлическими пластинами.
Андрей ВознесенскийИз сборника «ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЗДУШНЫХ КУР»
Перевод В. Куприянова
КО ВСЕМ САДОВНИКАМ
Почему вы хотите мне запретить есть мясо? Теперь вы приходите с цветами, готовите мне астры, как будто привкус осени не навяз на зубах. Оставьте в саду фиалки. Разве не горек миндаль, газометр, на вашем языке пирог, вы его нарезаете мне, пока я не потребую молока. Вы говорите: овощи — и продаете мне килограммами розы. Здоровье, вы говорите, имея в виду тюльпаны. И я должен эту отраву, связанную в букеты, сдабривать солью? Я должен погибнуть от ландышей? И лилии на моей могиле — кто спасет меня от вегетарианцев? Дайте мне поесть мяса. Оставьте наедине с костью, пусть она, стыд потеряв, обнажится. Лишь когда отодвину тарелку и громко восславлю волов, лишь тогда распахните сады, чтобы мог я купить цветы — мне приятно видеть, как они вянут.ДОЛЯ ПРОРОКОВ
Когда саранча напала на город, мы остались без молока, задохлась газета, отворили темницы и волю дали пророкам. Они высыпали на улицы, 3800 пророков. Им дали вслух поговорить и досыта наесться этой серой скачущей массой, ставшей для нас напастью. Как и следовало ожидать — появилось опять молоко, вздохнула газета, пророков вернули в темницы.КРЕДО
Моя комната тише воды, сама кротость, и сигарета так мистична, что никто не посмеет здесь повысить квартплату или спросить меня о жене. Вчера после смерти мухи я понял без календаря, что учитель танцев, октябрь, склонился, мне предлагая запретные снимки. Я гостей принимаю за дверью, письма мне наклеивают на окно, дождь читает их вместе со мной. Моя комната тише воды, не склочны обои, поцелуи проглочены часами, здесь не обо что споткнуться, все здесь податливо, все сама кротость, и сигарета придерживается вертикальной веры, вертикален лот паука, промеряющий любую бездну, — никогда мы не сядем на мель.Из сборника «ПОВОРОТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА
Перевод В. Куприянова
Кто смеется, что за смех? Здесь высмеивают всех. Грех не заподозрить тех, чей не без причины смех. Кто здесь плачет, что за плач? Быть не может неудач. Здесь не плачь и мысли спрячь, что не без причины плач. Кто молчит, кто говорит? Кто молчит, тот будет бит. Тот, кто говорит, тот скрыл, почему он говорил. Кто играет? В чем игра? К стенке стать ему пора, от игры не жди добра, причиняет боль игра. Кто здесь гибнет, кто погиб? Ненадежен этот тип. Тот, кто не сменил личины, гибнет вовсе без причины.ПЯТНИЦА
Перевод Б. Хлебникова
Нес домой свежую селедку, завернутую в газету. День выдался ясный, морозный. Дворники рассыпали песок. Газета размокла только в подъезде. Пришлось соскребать ее с селедок, прежде чем начать разделку. Чешуйки отскакивали и блестели на солнце, светившем в кухню. У семи селедок вынул икру, у четырех молоку; газета оказалась вчерашней. Плохи дела были в мире: банки не давали кредитов. А я валял селедки в муке. Положив их на сковородку, угрюмый и мрачный, я хотел сказать над ними пару слов. Но кому охота вещать о конце света селедке?В ЯЙЦЕ
Перевод Б. Хлебникова
Мы живем в яйце. Изнанку скорлупы мы исцарапали неприличными рисунками и именами наших врагов. Нас высиживают. Кто нас высиживает, тот высидит и наши карандаши. Однажды, вылупившись, мы нарисуем тотчас портрет нашей наседки. Мы полагаем, что нас высидят. Мы представляем себе солидное пернатое и пишем школьные сочинения о цвете и расе нашей наседки. Когда мы вылупимся? Наши пророки в яйце спорят за небольшую мзду о сроках высиживания. Они предполагают день Икс. От скуки и действительной нужды мы выдумали инкубатор. Мы очень печемся о нашем потомстве в яйце. Мы с удовольствием бы рекомендовали наш патент тем, кто бдит над нами. У нас есть крыша над головой. Сенильные цыплята, зародыши со знанием языков весь день болтают и обсуждают собственные грезы. Вдруг нас не высидят? И не видать дыры нам в этой скорлупе? Вдруг исцарапанная изнанка — весь наш кругозор, и так останется навечно? Надо надеяться, нас все же высидят. Но если говорить лишь о высиживании, есть опасение, что кто-то, вне нашей скорлупы, вдруг проголодается, выбьет нас на сковородку и посолит. Как быть тогда, собратья по яйцу?ПУГАЛА
Перевод Б. Хлебникова
Не знаю, можно ль стать землевладельцем, достаточно ли четырех столбов, мотка колючки, саженцев десятка, что воткнуты в песок, да слова «сад»? Не знаю, что подумали скворцы, взлетев, как горстка зернышек, над полднем и сделав вид, что испугались пугал, и ружей за гардинами, и кошку, рассаду превратившую в засаду. Не знаю, что разведали про нас пиджачные и брючные карманы, не знаю, что за мысль нашла приют под шляпой, чтобы высидеть потомство, которое ничем не отпугнешь, хоть пугала надежно стерегут. Похоже, пугала — живые существа, способные ночами размножаться посредством перекрестного обмена поношенными шляпами; в саду теперь их стало трое, и они приветливо мне машут издалёка, приятельски подмигивают солнцу и треплются без устали с салатом. Не знаю, что замыслил мой забор, вон выставить ли, запереть ли здесь, не знаю, тля несет какую весть, чего бурьян и лебеда хотят. Не знаю, для чего в свои жестянки бьют рукавов дырявые останки, к обедне ли, к вечерне ли звонят, или в моем саду гремит набат и пугала восстанием грозят.НОРМАНДИЯ
Перевод В. Куприянова
Бункеры на побережье не отделаются от своего бетона. Порой приходит полуживой генерал и поглаживает амбразуру. Или набиваются туристы на пять мучительных минут — ветер, песок, бумага, моча: вечно длится вторжение.МОРСКАЯ БИТВА
Перевод В. Куприянова
Американский авианосец и готический собор напротив друг друга затонули посреди Тихого океана. До самого погружения играл на органе юный викарий. Повисли в воздухе ангелы и самолеты — негде им приземлиться.ПУНКТУАЛЬНОСТЬ
Перевод Б. Хлебникова
Этажом ниже каждые полчаса женщина бьет ребенка. Поэтому я продал часы, целиком полагаясь на карающую руку внизу и счет сигарет из пачки рядом; со временем — полный порядок.АСКЕЗА
Перевод В. Куприянова
Кошка говорит. Что кошка говорит? Ты должен серым цветом растушевать невест и снег, ты должен краски серые любить и жить всегда под хмурым небом. Кошка говорит. Что кошка говорит? Читай свою вечернюю газету и наряжайся в мешковину, как картошка, будь вечно верен этому наряду и нового себе не заводи. Кошка говорит. Что кошка говорит? Ты должен вычеркнуть моря, и вишни, маки, даже кровь из носа, и должен те знамена зачеркнуть и пеплом посыпать герани. Ты должен, дальше кошка говорит, жить только почками, печенкой, селезенкой, прокисшими пустыми легкими, мочой из почек, обезвоженной, печенкой высохшей и старой селезенкой из серого горшка: так должен жить. И на стене, где раньше неустанно сквозь зелень снова пробивалась зелень, ты должен серым цветом аскезу написать, пиши: аскеза. Так кошка говорит: Пиши аскезу.ИСПРАВЛЕННЫЙ ГЕРБ РАСИНА
Перевод Б. Хлебникова
Геральдический лебедь и геральдическая крыса образуют — лебедь вверху, крыса внизу — герб господина Расина. Расин часто думает о символике герба и улыбается, будто ему есть что сказать, когда приятели спрашивают о лебеде, чтобы разузнать о крысе. Однажды Расин загляделся на озеро в предвкушении строф, расчетливых и хладнокровных, которые он собирался создать из водной глади и лунного света. Лебеди спали на мелководье, и Расину стала понятною та часть герба, что была белой и служила символом прекрасного. В это время крыса, которая была водяной, по своему обыкновению, принялась под водою кусать спящего лебедя. Лебедь закричал, вспенил воду, лунный свет померк, и Расин решил вернуться домой, чтобы исправить герб. Он вытравил геральдическую крысу. Однако на гербе ее теперь недостает. Белый, немой, обескрысенный лебедь проспал свой выход. Расин бросил театр.ДИАНА, ИЛИ ПРЕДМЕТЫ
Перевод В. Куприянова
Когда Диана правою рукой к колчану тянется чрез правое плечо, то левая нога идет вперед. Когда она в меня попала, ее предмет попал мне в душу, поскольку для нее душа предметна. А вообще покоятся предметы, об них я часто колени разбиваю по утрам. Но она с лицензией своей среди собак и только на бегу себя сфотографировать дает. Когда она, мишени выбирая, попадает, то это все природные предметы, хотя порою просто чучела. Я вечно уклоняюсь, чтобы не имеющая тени идея не ранила мое роняющее тень тело. Но ты, Диана, для меня с луком твоим вполне предметна и отвечать должна за действия свои.ЗАСТЫВШЕЕ
Перевод В. Куприянова
Когда похолодало, остался смех за окнами — и лишь в письме или в пакете два раза в день являлся в дом, когда похолодало, вся съежилась вода. Кто что-нибудь хотел утопить, поэт, например, молоток, убийца — три средних баула, луна — фунт белого сыра, кто что-нибудь хотел утопить, стоял над замкнутым прудом. Лот больше не даст ответа, не канет камень на дно, бутылки впаяны в лед, зеленеют, бессмысленно перекатывается ведро, лот больше не даст ответа, все забыли, как глубоко. Кто стекло разобьет, тот не узнает сидящую деву, кто позади зеркала ставит яйцо и перед зеркалом наседку, кто стекло разобьет, никогда не узнает, что скрыто за стужей.МАЛЕНЬКИЙ ПРИЗЫВ К ШИРОКОМУ РАЗЕВАНИЮ РТА
Перевод В. Куприянова
Кто хочет всю эту гниль, что таится за пастой зубной, выжать, выдохнуть, — тот должен разинуть рот. Нам время настало разинуть рот, — дрянные золотые зубы, вырванные нами у трупов, сдать властям. И чтобы пухлых папаш — хотя мы сами уже папаши и пухнем, — выплюнуть, удалить, надо разинуть рот; ибо и наши дети со временем разинут рот: и старую гниль, дрянные золотые зубы, пухлых папаш выплюнут и удалят.АННАБЕЛ ЛИ
Перевод А. Вознесенского
Я подбираю палую вишню, падшую Аннабел Ли. Как ты лежала в листьях прогнивших, в мухах-синюхах, скотиной занюхана, лишняя Аннабел Ли! Лирика сдохла в пыли. Не понимаю, как мы могли пять поколений искать на коленях, не понимая, что околели вишни и Аннабел Ли?! Утром найду, вскрыв петуший желудок, личико Аннабел Ли. Как ты лежала чутко и жутко вместе с личинками, насекомыми, с просом, заглотанным медальоном, непереваренная мадонна, падшая Аннабел Ли! Шутка ли это? В глазах моих жухлых от анальгина нули. Мне надоели круглые сутки — жизни прошли! — в книгах искать, в каннибальских желудках личико Аннабел Ли.САТУРН
Перевод Б. Хлебникова
Живя в этом доме — между подвальными крысами, которым ведомы стоки, и чердачными голубями, которым ничего не ведомо, — я догадываюсь о многом. Вернувшись ночью домой, я открыл ключом входную дверь и, пока искал ключ, понял, что даже к самому себе не попасть без ключа. Я был голоден и съел цыпленка, разрывая его руками, а пока ел, понял, что ем холодное тельце мертвого цыпленка. Потом я нагнулся, снял ботинки и, пока снимал их, понял, что надо наклониться, чтобы снять обувь. Я лежал в темноте, курил сигарету и был твердо уверен, что стряхиваю пепел в подставленную кем-то ладонь. Ночью приходит Сатурн и подставляет ладони. Моим пеплом он чистит зубы. Когда-нибудь все мы исчезнем в глотке Сатурна.Из сборника «ВЫСПРОШЕННОЕ»
ВНЕЗАПНЫЙ СТРАХ
Перевод В. Куприянова
Когда летом восточный ветер взметает сентябрьскую пыль и в запоздалых газетах комментарии мистикой пахнут, когда державы хотят переместиться и для контроля новые приборы официально разрешено производить, когда отпускники палатки разбивают на футбольном поле и наций отсутствующий взгляд серьезные отражает перемены, когда колонны цифр ко сну склоняют и в сновидения укрытый враг крадется по-пластунски, дышит, когда в речах одно и то же слово всегда приберегается к концу и спичка делается поводом к испугу, когда плывешь по морю на спине и над собою видишь только небо, в тревоге ищешь снова, где же берег, — тогда внезапный страх разлит вокруг.ТУР ДЕ ФРАНС
Перевод Б. Хлебникова
Когда лидирующую группу обогнала лимонница, многие гонщики решили, что продолжать борьбу бесполезно.ВОСКРЕСНОЕ УТРО
Перевод Б. Хлебникова
Сколько внимания, заботы, нежности к царапине на капоте и потускневшему бамперу.Из романа «ПАЛТУС»
Перевод Б. Хлебникова
ПРЕДЧУВСТВИЕ
— Берегитесь! — говорю. — Берегитесь! Перемена погоды опасна для остатков здравого смысла. Недаром нас беспокоит какое-то смутное чувство. Привычные понятия вывернулись наизнанку. Пробил час перелома. Появились пророки. Говорят, в небе были знаки — не то руны, не то кириллица! Фломастер (возможно, их много) возвещает со стен лозунги новой веры. Кто-то (возможно, их много) осуществляет свой план, казавшийся прежде бредовым. Одни его слишком боятся, а страх — благодатная почва. Другие, хоть поумнее, тоже ведут себя тихо. Эдакая эпидемия податливости. Люди сбиваются в группки, ища друг у друга поддержки. Да, происходит сдвиг под воздействием некой силы, для которой пока нет названья, ибо прежние не годятся. И все уверяют, будто предчувствовали этот «подъем»: несомненно, это подъем! И только ребенок (возможно, их много) хнычет: не хочу, не надо. Но его увещевают: ничего не поделаешь. Будь благоразумен.ЧЕГО НАМ НЕ ХВАТАЕТ
Прогресс? Это старая песня. Давайте двинемся вспять, прямо сейчас. И пусть каждый возьмет что-нибудь в дорогу. Итак, мы регрессируем, поглядываем по сторонам. Кое-кто уже приотстал. Валленштайн собирает войска. Восторженных поклонников средневековой моды (о, брабантские сукна!) прихватила чума. Одна из групп откололась с готами при великом переселении народов. Тот, кто будет запоздалым марксистом, — стал ранним христианином или греком до и после дорийской чистки. И вот — никаких исторических дат! Никаких династий. Голый каменный век. Правда, у меня с собой пишущая машинка, я в нее заправляю лопух. Технология изготовления рубил, мифы огнепоклонников, способы решения конфликтов в орде (первой коммуне), неписаные законы матриархата — все это надо срочно записать, хотя время еще не считают. Я печатаю: каменный век прекрасен! Как уютно сидеть у костра. Женщина, добыв на небе огонь, правит вполне терпимо. Расхожая утопия — вот, пожалуй, единственное, чего нам не хватает. Сегодня (правда, такого понятия еще нет) один мужчина сделал топор из бронзы. Теперь (такого понятия тоже нет) орда обсуждает вопрос, является ли бронза «прогрессом». Некий фотолюбитель, также прибывший из настоящего, документально запечатлел широкоугольным объективом начало истории — черно-белым и в цвете.НАКОНЕЦ
Мужчины, привыкшие непременно все и всегда продумывать до конца; мужчины, которым не важны отдельные, пусть вполне достижимые цели, ибо поверх братских могил они видят на горизонте конечную цель — очищенье страны от сора; мужчины, считающие, что в итоге датированные поражения сложатся в окончательную победу, опаленную черным дымом планеты; мужчины, которые на очередном совещании, убедившись, что технические моменты ясны, по-мужски деловито примут окончательное решение; мужчины, одержимые своей великой идеей, которых не остановит ничто, тем более теплые шлепанцы; мужчины, у коих за словом послушно следует дело… — неужели же наконец им и впрямь наступит конец?ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
Или застывший восторг, собираемый для созерцанья. Хрусталь и стекло попроще любят, чтоб свет падал сбоку. Пара штук ежедневно вдребезги. Сколько ж должно быть счастья. Привозные уцелевшие вздохи. Безымянные пережитки. Воздух плюс прибавочная стоимость. Стеклодувы живут недолго.ЧЕРЕСЧУР
Рождественской ночью, когда гомон почти умолк, я открыл роман Оруэлла «1984», который читал впервые в 1949 году совсем иными глазами. Рядом со щипцами для орехов и табаком лежит статистический сборник об обеспечении населения Земли продовольствием до 2000-го года. Когда я курю или ем орехи в промежутках между чтением справочника и романа, то мне в голову лезут проблемы, которые хоть и ничтожны в сравненьи с Большим братом или глобальной нехваткой белковых продуктов, но ужасно меня донимают. Читаю о пытках в недалеком будущем, о нынешней детской смертности в Южной Азии и чувствую: нервы мои растрепались, как кончики лент, которыми обвязаны лучшие средства от семейных ссор — подарки для Ильзебиль. Вон сколько в пепельнице скорлупы! Нет, это уже чересчур. Чем-то надо пожертвовать: Индией, олигархическим коллективизмом или Рождеством в семейном кругу.БЕССМЕРТИЕ
Я-то думал, что, умерев, уже ничего не увижу, и распахнул окна на все стороны света. А увидел равнину, опрятные домики и напротив — открытые окна, и в них пожилых соседей, увидел «переменную облачность», скворцов на груше, школьный автобус с детворой, новое зданье сберкассы, кирху с часами, на них — половина второго. На жалобу мне объяснили: обычное послежитие. Скоро пройдет. Соседи меня приветствуют. Значит, они и впрямь видят меня из окон. Ильзебиль с тяжелой сумкой возвращается из магазина. Завтра воскресенье.К РАЗГОВОРАМ О ПОГОДЕ
С некоторых пор никто никого не обгоняет. Зачем спешить! Заторы теперь только сзади, но где это «сзади»? Как бы невзначай, но довольно настойчиво слышатся разговоры: да, где-то многие голодают, но наше ли это дело лезть туда со своим участьем? Недаром же объясняют в учебной телепрограмме, что природа сама сумеет решить все проблемы. Поэтому давайте поменьше эмоций! Что у нас — мало своих забот? Например, рост разводов. Или неудовлетворительное положение государственных служащих. А вечером мы возмущаемся тем, что и прогноз погоды опять ошибся.СУПРУГИ
Он ее называет хозяйкой. Хозяйка против. Сперва спрошусь у хозяйки. Страх давит горло, как галстук. Страшно идти домой. Страшно в этом себе признаться. Страшно быть хозяином другого. Супружеские права. Машинальные ласки. Злопамятность. Главное — кто кого переспорит. Дети за дверью думают: У нас все будет иначе. Он говорит: без нее я бы столько не нажил. Она: он так старается для семьи. Любовь стала проклятьем, проклятье — под сенью закона, а законы у нас все гуманней. Между мебелью, оплаченной в рассрочку, угнездилась ненависть. Уже совсем чужих их сближает друг с другом только кино.СТРАХИ
Аукаемся в лесу. Нас находят грибы и сказки. Гриб пугает юную поросль. Сам еще под шляпкой, а вокруг него полно страху. Все уже собрано подчистую. Опять меня опередили. Или это мои следы? Грибы бывают вкусные, несъедобные и ядовитые. Порой грибники умирают рано, но остаются их «записки». Рыжик, сморчок, лисичка… Мы с Софией ходили по грибы еще до того, как император затеял войну с Россией. Я терял очки и шарил руками. Она брала гриб за грибом.РАЗГОВОРЫ
Первый месяц прошел в сомнениях, и лишь яйцевод уже точно знал, как обстоят дела. На втором месяце начались взаимные обвинения и упреки. На третьем — проявились физические перемены, но тем не менее ссоры продолжались. На четвертый месяц пришелся Новый год, впрочем, все осталось по-старому. Уставшие от препирательств, но неколебимые, мы не заметили ни пятого, ни шестого. На седьмом — просторные хламиды стали как бы новым упреком за упущенный третий месяц. И лишь когда прыжок через яму закончился падением (— Не прыгай, тебе говорят! — Нет, прыгну!), начались опасенья и разговоры шепотом. Восьмой месяц был тягостен тем, что за себя мстили слова, сказанные на втором и на третьем. Когда ж на девятом месяце родился вполне нормальный ребенок, слов уже не осталось. Поздравляли нас по телефону.Из романа «КРЫСИХА»
Перевод Б. Хлебникова
«По вине людей…»
По вине людей гибнет лес и сказки разбежались, куда глаза глядят: некого уколоть теперь веретенцу; нету деревца для Безручки, чтоб обнять отрубленными руками; незагаданным пропадает третье сказочное желанье. Дроздобород лишился своих владений. Детям совсем негде заблудиться. А семерка — лишь цифра, и только. Лес погиб по вине людей, а сказки ушли в город и кончились плохо.«На исходе переговоров…»
На исходе переговоров политикам не оставалось уже ничего иного, как лишь улыбаться друг другу. Безо всяких причин для веселья на губах появились улыбки. Но обычно суровые лица оживились не столько смущенной усмешкой, сколько гримасой финала. Впрочем, в ней поспешили узреть ободряющий признак, и репортеры запечатлели единодушье улыбок. Фотографии последней встречи в верхах заражали своим оптимизмом. Значит, кризис не так уж серьезен, говорили люди. А поскольку переговоры шли практически до конца, до конца сохранялся и юмор.«Вот оно — ничто!»
Вот оно — ничто! От слов остались Одни послесловья. Так и не удалось завершить давний спор о воспитании молодежи. За заключительным коммюнике тут же последовало опровержение. Напоследок отдельные особи рода человеческого пытались начать все сначала. Так сказать, на исходе сезона благодаря уценке надежды стали доступней. Под занавес заговорили, что добро и зло лишь химеры. Увы, Господь опять от диспута уклонился. Уцелело решение отсрочить переговоры. Мы думали: вот так хохмы! А было уже не до смеха. Зато проблема голода разрешилась сама собою, причем в глобальном масштабе. Под конец многим хотелось еще раз послушать Моцарта.«Что-то с нами творится не то…»
Что-то с нами творится не то. Может, выбран неверный путь? Или где-то вкралась ошибка, но где и какая? А ведь все идет как по маслу, хотя дорожные знаки ясно говорят, что мы движемся не туда. Когда лихорадочный поиск не вскрыл причину ошибки, неожиданно встал вопрос: а не в нас ли самих причина? Например, в тебе или в нем. Нет, мы никого не хотели обидеть. Все начали уступать друг другу. А жизнь идет как по маслу, хотя не туда, куда надо, но, по общему мнению, таков единственный выход. При встречах же только и слышно: Привет! Это я виноват. — Как, ты тоже? Редкое единодушие. Потом перестали искать, где ошибка и в чем она состоит. Отпала проблема вины и виновных. Ибо ясно — все виноваты. Как никогда спокойно идем не туда, надеясь, что ошиблись дорожные знаки и все опять обойдется.«Ультемош!»
Ультемош! Не оплачено столько счетов. А сколько не сыграно свадеб, не состоялось разводов с разделом имущества. Пропали все отпуска. Не успели подать десерт после съеденного жаркого (это был воскресный обед). Оборвались на полуслове уверенья, мольбы, проклятья. Анекдоты остались без соли. О чем бишь речь, а?.. Столько плотских утех пресеклось перед самым «еще! еще!..» Прилегший вздремнуть на часок уснул, так сказать, навеки. Не сбудутся никогда отложенные на потом встречи старых друзей и повышенья окладов. Не бывать именинам, первым зубкам, погоде на завтра. Тщетно писем ждать и наследства, и уже не страшно, что покажут анализы. Ах, мои посулы жене пойти с ней по магазинам!.. А мы затевали ремонт. Собирались, совсем как прежде, вместе сходить в театр, потом посидеть в ресторане. Пожалуй, мы бы смогли кое-что попытать сначала… Обещали детям лошадку, а друг другу — чуточку больше вниманья. Не стоило копить на второе авто, на словарь братьев Гримм и дачную мебель. Мечтали отдохнуть наконец, а то все суета, суета. И еще нам хотелось… Правда, не стало ни голода, ни малых войн. С капитализмом исчез социализм, со злом — добро, с любовью — ненависть. Не додуманы новые мысли. Сорвана школьная реформа. Без ответа остался вопрос, есть ли Бог и т. д. И у тех, кто жил в мире с собою, тоже были мечты и надежды, но увы. Цена на злато упала, чтоб никогда уже не… Потому что. В воскресенье. Ультемош!«Итак, финал нам известен…»
Итак, финал нам известен. Кто не видел расхожей картинки: мы кукожимся в последнем экстазе. Что ж, нас, умеющих предсказать суховей или стужу, это не удивляет. Только кому нужно предвидение, когда нечего больше предвидеть. Смешно слышать о группах в Новой Зеландии, Канаде, Швейцарии, где надеются на выживание. Не щадя в тренировках ни себя, ни других, выживалы и выживалки пекутся о продолжении рода людского. По взаимной договоренности начало концу положит Европа. Тут ведь многое начиналось, а уж потом перекидывалось на всю планету. Словом, мы опять впереди прогресса. Но, устав от этой исторической ответственности, на сей раз поставим на всемирной истории точку.«А потом, что было потом?»
А потом, что было потом? Денежная реформа. А дальше? Дальше зажили побогаче, правда, лезли в долги. А потом, когда все купили? Тогда уж пошли и дети. Ну, а дети, что делали дети? Расспросами донимали, что, мол, было прежде да после. И вы им все рассказали? Да. Вот, помнится, в 39-м очень жаркое выдалось лето… Что еще? Дальше — скверные времена. А потом, что было потом? Денежная реформа.«Все страшнее жить нашим детям…»
Все страшнее жить нашим детям. Они маскируют ужас ядовитой расцветкой причесок, меловым и зеленым гримом. Отбившиеся от рук, они кричат — мы не слышим. Что им до библейских заветов? Никому не охота ждать у одра отцовского благословенья или брать на себя родительские долги. Да и наше наследство мельчает и умиляет лишь нас самих. Они считают — так жить не стоит. Для них наш путь слишком долог, им недосуг. То, что мы вынесли на своих плечах, кажется им, видите ли, невыносимым. Им даже лень заявить свое гневное «нет» нашему усердному «да». Просто фьють! — и ищи-свищи. Ах, дружище! За что нам эти поздние сомненья? Когда мы так устремленно двинулись к ложной цели? Чем оправдать бессмысленность прожитой жизни? Как страшно за сыновей и за себя, раз даже мать, которая все понимает, и та понять ничего не может.«Нет, этого мы не хотели!»
Нет, этого мы не хотели! — говорят потрясенные люди друг другу. Примечательно и небывалое количество телезрителей. Мы просто потрясены! — уверяют многоголосые хоры. Согласно подсчетам, демократическое большинство действительно взволновано и потрясено. Но послышались и разговоры, что, мол, нужно больше твердости, несмотря ни на какие жертвы. Отстаивающее это мнение большинство не сдаст позиций без боя. Что, однако, не означает, как сказал телекомментатор, будто вечерние новости не вызывают у нас душевных волнений.«Аминь! Все предрешено…»
Аминь! Все предрешено. Недаром в кино и в романах катастрофа уже свершилась и стала легендой, вроде той сказки о Гаммельне, где все также было предрешено. Там ребят с их крысами замуровали в пещере Лысой горы. Время тянулось долго, ребята шептали друг другу: Нас обязательно найдут. Родители между тем делали вид, будто ищут детей, которых сами же замуровали. Окрест разносились вопли: Мы их найдем! Найдем обязательно! Лишь один мальчуган тихонько сказал своей крысе: Никто нас тут не найдет, потому что никто и не ищет. Все заранее предрешено.«Самым главным отличьем…»
Самым главным отличьем человека от зверя любят считать любовь. Нет, не любовь ко ближним — она у животных сильнее. Речь идет о парах вроде Тристана с Изольдой, равных которым нету даже у лебедей. Хотя о китах и китихах не все еще нам известно, представить себе меж них историю Фауста с Гретхен кажется просто диким — Песнь песней Соломона мощней, чем олений зарев. Далеко обезьянам по страсти до двоих погибших веронцев. Даже соловьям не дано так влюбляться внесезонно, самозабвенно, до смерти, тем более загробно. Говорят, влюбленным хочется слопать друг друга. Это правда, я тоже съел бы тебя с потрохами. Только прежде — под нежные звуки лютни — давай-ка лучше зажарим сочный бифштекс на двоих.«Я поверил, что есть надежда…»
Я поверил, что есть надежда (пусть лишь кроха в пустой тарелке), и что-то, даже не идея, а какое-то доброе поветрие стало распространяться, не признавая границ, целительной заразой. Есть надежда дождаться новой земляники и новых яблок, лысин у сыновей, сединок у дочерей, а от внуков — открыток с приветом. Есть надежда дождаться авансов и процентов со вклада. Неужто людям вновь открыт бессрочный кредит? Поверив, что есть надежда, я начал искать аргументы для подкрепления веры. Я называл надежду благой, острожной, нежданной. Я взывал к ее милосердию. А она была ненадежной и какой-то тщедушной. Я поверил, что есть надежда — противники снимут пальцы с кнопок, распахнутся двери настежь, и мы перестанем бояться друг друга. Кое в чем надежда сбылась, и хлеб никто не жует в одиночку… Но крысы над нами смеются, ибо мы упустили свой шанс, последнюю нашу надежду.СТРАНА-НОЯБРЬ[49] 13 сонетов
Перевод В. Санчука
Посвящается Петеру Рюмкорфу
1 НАШЕ
Страна, в чьих песнях красота, точно в проспекте рекламном — к северным полям с холмов зовет, — заселена до самых крыш уже. А тот — укромный сгинул закуток теперь, где дети от строгих взрослых прежде прятались; здесь нет, нет больше тайны. Мы раскрыты. На весь свет распахнуты; своим несчастней сосед сочтет удачу нашу, глядя нам вослед. Здесь, где мы в мире есть, тяжелой боли груз с плеч свалим, раздобрев. Страдания надрыв нам лечит рыночной свободы твердый курс, даже с расплаты нашей цену сбив. И горький труд клянет Ноябрь-страна. Но есть еще и Страшный Суд. И страшная цена.2 СТРАНА-НОЯБРЬ
Я снова здесь, где все путем, и все — как надо, в ботинках — задом наперед, сам выстроив преграды, готов бежать отсюда, где считаюсь дерьмом, да в общем, — этим и являюсь. Все по-другому здесь. Да вот же, как на грех, пусть мода и заменит джинсы — кожей, все возвращается, и вновь похоже на фото то, где вечен Третий рейх. Уймитесь, мертвецы ноябрьские! Забот у нас, живых, — своих невпроворот! Но эти — нет, — не те! А те опять проснулись. Словно преступники, личинами махнулись. Я здесь, где не прощен и не учтен еще моей вины, долгов извечный счет.3 ПОЗДНИЕ ПОДСОЛНУХИ
В центр, в черное ноябрь бьет на свету еще цветы, чей цвет смешно-убог. Встают и никнут под дождем подобья, и рифмы: «Бог» и сразу же — «надгробья». Цветы мне истину оставят, — ту, что, вырезанные из небосвода, — где серый колер в вырезе разлит, — они несли нам весть, и текст гласит: как муж с женой, живущие к разводу, так люди и Земля брак кончат ссорой. Был жалким урожай, добыча — скорой. Чужим владев, придем без ничего. Кто и цветы со зла казнил, того — никем не зримая загонит свора.4 ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ[50]
Я мчался в Польшу, взяв ноябрь с собой. Что если б польский мне до боли и до колик был внятен, как приказ, уланов славший в бой? (И я курил в затяг, всерьез, будто католик). Но, немцу, мне немецкий слог милей, хоть льстила эта мысль, — сладка, будто елей, а все бы — сквозь таможню да цензуру — на рынок свой тащил я собственную шкуру. Где по-соседски вместе вымокнув, до гроба так в песне слиты мы, так сплавлены страданьем, так влюблены тайком, при том — глухи на оба, мы рядом, делая одним преданьем — как в шрамах бьется боль надежды той, убитой. Кругом — гробы! Гробы в День памяти раскрыты.5 ПРОГНОЗ УРАГАНА
Вновь ураган. Прав метеопрогноз. Жертв минимум, ущерб же материальный, увы, значителен. Этот обвальный шквал ширится, растет, будто психоз. Вот рухнет марка! — обратится в горсть медяшек жалких и бумажек мятых! Тогда — прощай, ты, общество богатых! Если, наглее, чем незванный гость, укоренятся непогоды и приливы здесь, словно СПИД, не знающий прививок, — кровь разлагая, растворясь у нас в крови, чтобы мы их, а не себя во всем кляли! Нет, это чересчур: вновь ураган! К нам в дом врывается через любой кордон!6 ADVENT[51]
Что будет дорожать: бензин, вся жизнь, кредит! Шиповник в сквере ледяном один горит, — на сером фоне — брызги красных клякс: припомнишь летний секс, дни милых ссор и ласк. Лишь час жила она восторгом и любовью — ноябрьская страна. Все ложь, все стыд. И вот, — не пенис, — бритое встает многоголовье терзать, насиловать, — и крепнет, и растет. А тот хитрит, тот разбирается в проценте участия чужого в нашей ренте, — им бы работать счетною машиной, — но ухмыляются в молчанье за гардиной. Снаружи Меяьн — наш городишко славный встречает праздник — как всегда нежданный.7 ВНЕПЛАНОВОЕ
Газетку старую несет ноябрь по саду, бьет ее грубостью дождя и правдой града. Всю борзопись о поисках эстетик с газетой вместе ветер рвет. На этих юнцов — правописак — взгляни ты только: вновь с вожделением ждут «часа ноль», поскольку ни самиздат и ни госбезопасность в их жизнь уже не вносят смысл и ясность. Понуро тащатся к чужому вернисажу, и все надеются на новую премьеру, и за грошовым пойлом балаболят в раже, и вот та болтовня уже ползет по скверу, рычит на площадях знакомый нам жаргон. Тогда (внепланово) родится фельетон.8 НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ
Страх неотвязен. И ноябрь — вечен. Зачахли дни под мертвою листвой. Мир в оторопи. Неподвижный вечер собой заполнил времени бистро. Домовладельцы — эти сплошь в испуге, вчерашний зная брак и недоделки; за ренту молодежь трясется. Слуги народа в страхе множат посиделки парламентских застолий. Ждет наград шпана в цветастых галстуках. И рад нахваливать всеобщих благ базар — кто дух эпохи верно распознал, где — с большинством в две трети — в страхе рабском дурак рыдает под дождем ноябрьским.9 РАСТУТ УКРЕПЛЕНИЯ
Страна — кормушка для вороньих стай. И ночь оглашена кошачьим ором. Собачьи свадьбы под любым забором. А мы опять — за всех плати давай! Богатый наш кусочек многим лаком! И входит в дом спланированный страх: ноябрьская страна, стань неприступным замком, и пусть трепещут — негр, еврей, феллах! Границей Польша стать должна с Востока, — так нам велит история. Постройка стен и фортов — любезная затея! Лишь Гельдерлин среди валов и рвов перепоясан, словно портупеей, простой котомкой с томиком стихов.10 ЛИСТЬЯ ОПАЛИ
Пустой орех, ореха дерево пустое. Полны корзины: мне чернильной чернотой невинность скорченную пачкать. Из настоя отвара горького здесь вечный причет мой. Вот-вот заварится по-новой эта каша. Зальет асфальт бодягой социума. Или неужто вечен островок — автостоянка наша, — останется? когда — вновь в ногу, как учили, протопают безликие, опять пустым законом пренебрегая, — экая помеха! И руки вскинутся в приветствии знакомом. И рев, влюбленный в собственное эхо, заглушит — трах-тах-тах — смешной далекий звук. О! Слышишь, вновь упал орешек: стук!11 ПОСЛЕ ПРИСТУПА
Страна — вся в насморке. Грипп входит в ноябре во двор, приют себе находит в детворе. И нам возвратной эпидемией грозят микробы, мнившиеся мертвыми. Наш взгляд тогда туманится, глаза слезятся, крови боясь, бросаемся искать платки, салфетки; старинный крик и плач, увы, нам вечно внове, и вот, хрипя, считаем капли из пипетки. Проходит приступ. Кашель делается тише. На этот раз, похоже — с потом вышел злосчастный вирус, канул в мир легенд. И в теледиспутах нашел свой happy end. Там за студийными, сортирными закрытыми дверьми дебаты: как людьё порой становится зверьми?12 НА ВИДУ
Спустись, туман! Нас спрячь, укрой навечно! Тут нас застукали (хоть преступленья нет). Наш пересоленный, прокисший винегрет гостям предложен был, и так чистосердечно, как лишь бывал министр Блюм в речах когда-то. Но жили мы в кредит. Оплачен счет не нами. И кто-то (Сам ли — Тот?) уже узрел в тумане грядущих выборов расклад и результаты. Все разнаряжено, усреднено, вновь, — разом всю классовую рознь забыв, — мы вместе. Ни запашка, — (о нет!) — совсем не пахнет газом. И третья лишь строфа звучит (чуть слышно) в песне. Нам в стане победителей покойно и отрадно жилось. Но бьет единство нас нещадно.13 КТО ГРЯДЕТ?
На светлой сини — ноября графит. Подсолнух черный, как модель, один стоит. Уже потухли и шиповника кусты. Пустой орех — внутри пустой же высоты. Безлиствен лес посереди земли. Слышна — пока учебных стрельб — пальба вдали. Туман от глаз упрятал рознь и срам. Ах, так бы выключить грядущий ор и гам! Сюда идущий, множится, идя? Запрогнозированный ураган себя растратил каплями дождя. В порядке скарб. Не подтекает кран. Уже известно, чем одаривать кого. И над Страной-Ноябрь нависло Рождество.ПУБЛИЦИСТИКА
Essay
© И. Млечина, перевод на русский язык, 1997
РЕЧЬ ОБ УТРАТАХ (Об упадке политической культуры в объединенной Германии)
ЙЕЛИЗ АРСЛА
АЙШЕ ЙИЛЬМАЗ
БАХИДЕ АРСЛА
Памяти трех убитых в Мёльне турчанок посвящается
В конце нынешнего лета, как и все последние годы, мы попытались несколько отдалиться от своего «трудного отечества» на небольшом датском острове, хотя и знали, как быстро — стоит только руку протянуть — преодолевается столь ничтожное расстояние, тем более в кризисном месяце августе. За год до этого наши каникулы прошли под знаком провалившегося путча в Советском Союзе, шедшем к своему развалу; этот путч вызвал у нас своеобразную радиоманию; двумя годами раньше с нашим островным существованием покончил кризис в Заливе, ставший главным событием для средств массовой информации: мы были не в состоянии отключиться; нынешним же летом нас настигла Германия.
При этом остров Мен богат собственными, доморощенными сенсациями. На широком лугу, тянущемся вплоть до самых дюн Балтийского моря, с утра до вечера царит оживленное движение в воздухе. Тысячи серых гусей делают здесь промежуточную остановку, упражняясь попутно во взлетах и посадках. Или вдруг серые цапли нарушат ленивый покой гусиных стай. Возникает продолжительный гулкий шум, который в конце концов затихает сам по себе. И небо над лугом, над дюнами, над морем всегда исчерчено пролетающими птичьими эскадрильями: письмена, способные — если их расшифруешь, — рождать легенды. Тут не обнаружишь никакого вздора на актуальные темы, зато в любой момент может приземлиться Нильс Хольгерсон, чтобы снова, под присмотром серых гусей, подняться навстречу новым приключениям.
Весь август небо оставалось почти пустынным, если не считать чаек. Сухое лето обезводило луг и, тем самым, вынесло запрет на взлеты и посадки на территории всего просторного аэродрома. Однако кризисы, судя по сообщениям радио, не заставили себя ждать. Словно с нарочитым параллелизмом разворачивались одновременно два события; спортивные победы и поражения в Барселоне, например, на отборочных соревнованиях в беге на сто метров у мужчин или в прыжках в высоту у женщин, как бы служили комментарием к ежедневным цифрам погибших в Сараево. Олимпийские игры проходили в Боснии; олимпийский стадион находился в пределах досягаемости сербских гранатометов. Новости набегали одна на другую, перекрещивались, сливались. Одновременные события выдавали себя за равнозначные. Здесь считали медали, там — потери. И на фоне олимпийских восторгов ужас отступал куда-то на задний план как незначительное, второстепенное действие. Молодой, охочий до путешествий литератор мог бы — как я себе воображаю, — оказаться одновременно и здесь и там и с помощью слов, совмещающих время, создать эпический обзор: снайперы и фехтующие дамы, скандалы вокруг допинга и прорывы блокады, сокращенные национальные гимны и семнадцатое безрезультатное перемирие, фейерверки здесь и там…
Но в мою тетрадь попали лишь записи о Германии. Ох уж эта проклятая оседлость с ее свинцовыми подметками! Мы на своем острове серых гусей, который на сей раз не мог предложить нам ничего, чтобы отвлечься, все же пытались уйти от помех кризисного месяца; в конце концов, кругом было полно ежевики и ежедневно на обед — свежая рыба. Но даже между уставившихся в разные стороны мертвых глаз на отрезанных головах камбалы — завернутых во вчерашнюю газету, — на нас смотрели напечатанные мелким и выделенные крупным шрифтом слова: Югославия, эта сплошная гигантская мина, и Олимпийское золото, присужденное четверке без загребного. Потом мы ели под датским небом безголовую камбалу, поджаренную на сковородке; это было в начале августа.
Что делает чувствительных людей столь равнодушными? Легко ранимые, мы становимся такими безучастными. Слишком много всего, говорит даже священник с церковной кафедры, происходит одновременно. Теперь выясняется, что сверхизобилие информации повинно в том, что общество — будучи сверхинформированным — живет так, словно вообще не получает никакой информации. Или люди садятся — каждый — на своего излюбленного конька: для одного это озоновые дыры, для другого — страхование, обеспечивающее уход за больными в старости. Кто слишком долго стенает по поводу ужасного положения боснийских беженцев, забывает помянуть в своих стенаниях Сомали и ежедневную голодную смерть множества людей. Может, мир трещит по швам, а может, как нередко в последнее время, всего лишь биржа сошла с ума?
Когда торжественно завершились Олимпийские игры, на какое-то время Сараево бесспорно выдвинулось на передний план, и было крайне неприятно, что разнообразнейшие второстепенные театры военных действий отвлекают мир от несостоятельности европейской политики. Но даже этот позор, из-за которого Европа предстала всего лишь химерой, вскоре оказался не чем иным, как привычным общим местом. Однако потом пришли известия из Германии и подтвердили, что август — месяц кризисов.
Собственно, ничего нового, все старье, только в более грубом варианте. Свыше пятисот правых экстремистов снова напали на общежитие беженцев в Ростоке, в районе Лихтенхаген. Из окон соседних домов граждане наблюдали за происходящим и аплодировали, когда наступающие громилы стали швырять камни и бутылки с зажигательной смесью. Потом граждане могли увидеть на экранах своих телевизоров, как они наблюдают за происходящим и бьют в ладоши; некоторые узнали себя.
Собственно, все это уже было знакомо: в Хойерсверде и других местах уже происходила демонстрация силы по западногерманскому образцу. За минувшие месяцы было хорошо усвоено, как превращать ненависть к иностранцам в насилие. И на сей раз полиция с полным сочувствием отнеслась к столь компактному народному волеизъявлению и предпочла держаться в стороне. Несколько позднее полицейские с тем большим усердием принялись вылавливать левых демонстрантов, организовавших митинг протеста. Нельзя допустить эскалации событий, было заявлено публично. Из нашего приемника неумолчно доносились голоса политиков, пытавшихся превзойти друг друга в предмете, именующемся озабоченностью.
Но потом вмешалась заграница, потому что на экранах телевизоров и на фотографиях в прессе появлялось все больше сожженных эмигрантских общежитий. Запечатленный дикий рев, растиражированный по всему свету. Вновь был открыт «отвратительный немец». И уже ничто не могло отвлечь от этого открытия, ни Олимпиада, ни Кабул, ни Сараево. Всюду жирным шрифтом было напечатано: РОСТОК. А я, отдыхая на датском острове, делал записи об этой поездке; привычное для меня убежище — рукопись с ее эпически разветвленными подземными ходами для бегства — было засыпано. Произошло нечто, имеющее исключительное значение.
С тех пор Германия переменилась. Хойерсверду еще удалось кое-как, плутовскими методами, загасить в общественном сознании. Но со времен событий в Ростоке все заверения эпохи блаженства, вызванного объединением, оказались абсолютно дискредитированными. Тот ликующий, раздутый на страницах культурных разделов прессы невероятный триумф, возвещавший окончание послевоенного периода и новый «час нуль», то праздничное настроение, поднявшее на пьедестал объединенную Германию, заслужившую — благодаря освобождению от груза прошлого, отброшенного наконец за давностью лет, — новой главы истории, которую надлежало создать и подготовить к печати — притом десяток усердных написателей истории уже стоял в полной боевой готовности с отточенными перьями наперевес, — эта еще три года назад вызывавшая отвращение публицистическая проституция присмирела и сбавила тон, потому что прошлое вновь похлопало нас по плечу, вновь выявив среди нас преступников, попутчиков и молчаливое большинство.
Это не значит, что страх заставил нас умолкнуть. Громко прозвучали протесты, появились подписи под заявлениями и обращениями. Огромное количество людей, собиравшихся на митинги, еще недавно должно было подтвердить нашу способность к сопротивлению; но та политика, которая ведется на протяжении последних трех лет и которая ответственна за ставшее явным новое падение в немецкое варварство, осталась непоколебимо верна себе; снова право индивидуума на убежище — главное украшение нашей конституции! — становится объектом спекуляций, дабы ублажить народный дух, которому надлежит быть хронически здоровым; снова процесс объединения без единства выливается в повторяющееся, на сей раз деклассированное разделение, и снова ни правительство, ни оппозиция не желают или не способны покончить с бесстыдной распродажей имущества несостоятельного должника, банкрота ГДР и вместо этого осуществить действенную компенсацию ущерба.
Это было бы справедливо с самого начала и по сию пору, ибо подвергавшиеся эксплуатации, замурованные стеной, вечно находившиеся под слежкой и под навязчивой опекой государства, граждане ГДР, оказавшиеся в убытке, вынуждены были платить более сорока лет, платить и приплачивать вместо ФРГ. Им не было предоставлено счастье выбора в пользу западной свободы. И что особенно несправедливо: не мы за них, нет, они за нас вынесли основную тяжесть проигранной всеми немцами войны. Понимание этого должно было стать решающим сразу же после падения стены. Именно это — а не новая назойливая опека — было нашим долгом перед ними.
Именно поэтому — а также потому, что столь несправедливое распределение бремени неоднократно заставляло меня публично выступать с начала 60-х годов, — 18 декабря 1989 года на съезде СДПГ в Берлине я высказался «за полную компенсацию издержек, которую следовало начать немедленно и без всяких предварительных условий», а в качестве средств финансирования предложил резкое сокращение военных расходов и повышающийся в зависимости от социального уровня специальный налог; но тогда мои товарищи по партии полагали, что могут с верой в чудеса и ничего не предпринимая следовать прекраснодушному лозунгу Вилли Брандта: «Теперь да срастется то, что должно быть единым целым», хотя уже через несколько недель после падения стены стало ясно, что само по себе ничего не срастется, зато начнет бурно разрастаться нечто ужасное. После сорока лет разделения лишь исполненное вины прошлое еще объединяет нас, немцев; даже язык отказывает нам во взаимопонимании.
Когда я закончил произносить свою речь о «Компенсации немецкого бремени», ее быстро захлопали короткими аплодисментами, но хотя бы включили в протокол. С тех пор говорить в пустоту стало для меня привычным делом. Спустя всего несколько недель, 2 февраля 1990 года в Туцинге, на конгрессе «Новые ответы на немецкий вопрос», я, тщательно все обосновав, выдвинул требование: «Кто сегодня думает о Германии и ищет ответа на немецкий вопрос, должен включить в свои размышления Освенцим».
Эти слова, как и дальнейшие мои рассуждения, предостерегавшие от чрезмерно поспешного объединения по принципу «раз-два и присоединили», а также предложение создать для начала конфедерацию, незамедлительно вызвали возмущение. Моя «Краткая речь бродяги без отечества» затронула болевой нерв. Я, «самозванный очернитель нации», я, «закоренелый враг германского единства», превратил, как было заявлено, «Освенцим в инструмент, используемый в собственных целях», и этим возвращением к прошлому попытался ограничить право немцев на самоопределение.
Моих опьяненных объединением тогдашних критиков я хотел бы сегодня спросить, открылись ли у них наконец глаза и стал ли для них прозрением поджог так называемого «еврейского барака» в Заксенхаузене?
Моим тогдашним критикам, зациклившимся на идиотской фразе одного начальника вокзала: «Поезд ушел, и никто не может его остановить», хочется сегодня напомнить, в какое страшное новое варварство завела нас, немцев, их железнодорожная логика.
Перед скрытым и откровенным антисемитизмом и погромами, чьи жертвы преимущественно цыгане, уже незачем и предостерегать. Освенцим и Освенцим-Биркенау, где были убиты около полумиллиона рома и синти[52], уже вновь отбрасывают зловещие тени. Сегодня в Германии цыгане снова рассматриваются как асоциальные элементы и перманентно подвергаются насилию. Но не видно никаких решающих политических сил, которые хотели бы и были бы способны приостановить эти непрекращающиеся преступления.
Напротив: демократический консенсус общества нарушают в своих выступлениях не только и не в первую очередь телегеничные бритоголовые, а прежде всего политики, одаренные силой красноречия и убеждения, господа Штойбер и Рюэ, которые уже на протяжении ряда лет вовсю используют проблему иммиграции и труднейшее положение беженцев и ищущих убежища как постоянную тему в предвыборной борьбе. Отказавшись от цивилизованного поведения, они поощряют сборища правых экстремистов на насильственные действия и покушения на убийство. Заключенное министром внутренних дел Зайтерсом с румынским правительством соглашение о выдворении цыган, которое, если смотреть на вещи прямо, предусматривает депортацию ищущих убежища рома и постоянные нападки на статью Основного закона о праве на убежище — все это более или менее завуалированные предварительные формулировки объединяющего Германию лозунга: «Иностранцы, вон!»
Господин Рюэ, ставший тем временем министром обороны и потому представляющий государство на самом высоком уровне, отмахнулся от моего описания его деятельности на посту генерального секретаря ХДС как «бритоголового в галстуке и с пробором», как от наскучившего ему повторения одного и того же. Но ему еще не раз придется встретиться с подобным описанием его портрета, потому что террор должен быть не только понят в его воздействии на общество, но и назван по имени в лагере его зачинщиков. Ибо как это правительство сумеет закончить двойную игру, которую оно затеяло с расчетом и инсценировало из чистого страха перед народным духом и его непременным здоровьем?
Федеративная Республика Германии и ее конституция отданы во власть некоей компании по сносу, которая одновременно рассматривает себя как домоуправление и как попечительский комитет. Если некий политик из партии ХСС, выдающий себя за министра финансов, рискует бросить взгляд в будущее из-под гигантских бровей и при этом обнаруживает, что, по его мнению, будущие выборы выиграют лишь те, кто находится справа от центра, если СвДП одалживает в Австрии некоего праздничного оратора с явным коричневым оттенком, ратующего за «здоровый народный дух», если статс-секретарь, являющийся главным лоббистом военной промышленности, намеревается в качестве патрона отметить круглую дату со дня рождения ракеты У-2 и для этого поехать в Пенемюнде — и только протесты из-за границы сорвали ему сие путешествие, — если все это, и особенно очевидное перемещение политического центра в федеративных масштабах вправо, этот явный правый сдвиг, все еще пренебрежительно считается болтовней завсегдатаев пивных и не воспринимается как экзистенциальная угроза, то мы, немцы, снова должны оценить себя как источник опасности — притом прежде, чем наши соседи начнут считать, что опасность исходит от нас.
Вот почему я называю по имени нескольких добропорядочных с виду бюргеров, этаких «бидерманов», являющихся на самом деле поджигателями[53]. Поэтому я вижу корни якобы существующего в стране бедственного положения исключительно в самом правительстве. Поэтому мои «Речи о Германии» должны быть свободны от утопающих в деталях рассуждений и экскурсов в отечественную сентиментальность; зато я хочу поставить вопросительный знак, который напоминал бы мощный бур, какие используются для глубинного бурения.
Неужели склонность немцев к рецидивам так и не поросла живительной травой? Неужели повторение преступлений написано нам рунами на роду? Неужели у нас, немцев, — словно с какой-то ужасной неотвратимостью — все, даже дивный подарок возможного объединения, должно превращаться в чудовищного ублюдка? Неужели нам, придумавшим такие напряженные словосочетания, как «учиться скорбеть» и «преодоление прошлого», теперь, в иной экстремальной ситуации, грозит похожее на дубинку словцо «эстетика убеждений», с помощью которого наши едва сменившие политическую веру управляющие культурой уничтожают все, что не подпадает под эстетику мило инсценированной посредственности? Неужели для нас, все еще не оправившихся от последних экскурсий в абсолют, до сих пор остается невозможным цивилизованное, а значит, гуманное обращение с соотечественниками и иностранцами? Чего нам, немцам, не хватает при всем нашем богатстве?
Эти вопросы я записывал в конце августа в Дании, стране, которая хотя и не отличается подчеркнутой любезностью по отношению к чужеземцам, но где в обществе не только не проявляется, но и едва ли мыслима ненависть в форме созревшей готовности к убийству — как в Хойерсверде, Ростоке, сотне других городов; притом немыслима даже в ситуации, когда число иностранцев достигает критической цифры.
Когда весной 1945 года советские армии продвинулись вперед и многие тысячи немцев бежали на кораблях по Балтийскому морю в оккупированную вермахтом Данию, то даже после быстро наступившей капитуляции великогерманского рейха вполне объяснимый гнев или даже ненависть к оккупантам не привели датчан к насилию по отношению к немецким беженцам. Напротив: сами терпя нужду, они как могли снабжали своих врагов. Возвращение последних в Германию происходило отнюдь не в форме жестокой депортации. Я мог бы рассказать о беженцах из Западной и Восточной Пруссии, которым пришлось осознать свой статус и положение беженцев не во время их пребывания в Дании; они столкнулись с неутихающей ненавистью и враждебностью к «чужакам», лишь когда их насильственно разместили в северных и западных немецких общинах. Вот тогда-то со всех сторон зазвучало: «Убирайтесь туда, откуда пришли!»
Для датчан их высокий уровень цивилизованного поведения естествен. Они об этом не говорят, разве что иронически и в придаточных предложениях. Мы же не можем преодолеть разрыв цивилизованного континуума внутри германского общества — датированный как историческая цезура 1933 годом — до сих пор, при всем старании, при всех заверениях.
Даже в начале 70-х годов, когда существовала надежда, что нам еще удастся если не залечить этот разрыв, то хотя бы перескочить через него, когда благодаря реформистскому сдвигу могла быть преодолена наша общественная отсталость, полные ненависти лозунги левых экстремистов поразительно походили на исполненные той же ненависти тирады шпрингеровской прессы; политические убийства, начавшиеся покушением на Руди Дучке, стали распространяться; противники были объявлены врагами, и опустившийся на колени в Варшаве канцлер[54] был подвергнут остракизму вплоть до бундестага. После полной оскорблений речи Конрада Аденауэра осенью 1961 года, которая должна была задеть и глубоко уязвить эмигранта, Вилли Брандт оставался в Германии чужим, чужим вплоть до самой смерти; и никакой торжественный государственный акт не может ввести нас по этому поводу в заблуждение.
Когда молодой человек из Любека в 1933 году попросил политического убежища в Норвегии, позднее в Швеции, убежище было ему предоставлено. Принятое вчера на партийном съезде СДПГ компромиссное решение не снимает моей тревоги. Отныне каждый депутат бундестага от социал-демократов, который захочет путем добавочных параграфов ограничить отличающее нашу конституцию право на убежище, должен знать, что тем самым он, задним числом, вновь больно ударяет по всем эмигрантам, мертвым и еще живым, которым пришлось покинуть Германию и которые нашли прибежище в Скандинавии и Мексике, в Голландии, Англии, США. Поэтому ограничение права на убежище, если его примут в бундестаге большинством в две трети голосов, будет иметь своим следствием разрыв с традицией немецкой социал-демократии.
Ну, одним разрывом больше, скажет кто-нибудь, велика важность. Мы, немцы, пережили столько судьбоносных разрывов. Мы привыкли жить в состоянии разрывов и расколов. Быть разрубленными на куски — самое позднее со времен Тридцатилетней войны — являлось для нас нормальным состоянием. И Остэльбия, во всяком случае, если глядеть со стороны Рейна, всегда существовала. Эта раздробленность, внутренний разлад, это, так сказать, гамлетовское начало всегда было нам присуще, почему мы столь неустанно и стремились к единству, хотя большей частью бесполезно или за слишком высокую цену.
И потому быть немцем означает жить в состоянии разлада, в любой ситуации бытия и сознания. С другой стороны, быть немцем означает и страдать из-за отсутствующего единства, вот почему мы постоянно заняты самими собой; к потехе наших соседей, чьи дурные привычки носят иной, менее опасный характер.
Я не сторонник упрощений, как они ни удобны, ибо западные немцы едва ли страдали от раздела страны, скорее способствовали ему своим невежеством. К концу существования двух государств они даже стали сомневаться в смысле того национального праздника, риторика которого превратила лишенный руководства мятеж рабочих в народное восстание[55]. Скорее западных немцев пугала внезапная угроза присоединения, ибо они догадывались, вопреки всем лживым заверениям канцлера, что это будет дорого стоить. Нет, мы не были одержимы единством; скорее нами владела подозрительность, рожденная историческим опытом, который подтверждал, что единство всегда приносило нам, немцам, только несчастье.
Остается еще одна из моих датских записей, которую я, имея в виду данную речь, сделал вскоре после все уравнивающего двойного события: Олимпиада плюс Сараево — и краткость которой: «Мы, немцы, не знаем меры!» — требует поясняющего или опровергающего эту лапидарную формулу продолжения.
Действительно ли мы, чье стремление к бережливости и экономической безопасности вызывает восхищение за границей, так уж лишены чувства меры? Тут напрашивается возражение. Разве не нашлись французские и американские политологи и историки — например, Альфред Гроссер и Фриц Штерн, — которые, в ответ на наш запрос, выдали нам аттестат зрелости с вполне удовлетворительными оценками?
И разве мы, если говорить о западной части страны, за сорок лет непрерывного обучения демократии не нашли образцового социального консенсуса, который, казалось, подтверждал идеологические претензии «социального рыночного хозяйства»?
И разве вплоть до возвращения нашего национального суверенитета мы не держались скорее осторожно и на заднем плане в наших отношениях с заграницей? Экономический гигант в роли политического карлика; вот почему сразу вслед за лозунгами типа: «Мы снова кое-что значим!» и подобными кичливо-высокомерными заявлениями звучали успокаивающие призывы и напоминания о необходимости сохранять скромность.
Разве мы не старались немедленно и первыми верноподданнически выполнять любое указание НАТО, будучи передним краем обороны?
Разве мы не несли терпеливо, вплоть до известного спора историков — а это было перед самым объединением, — груз прошлого, комплекс немецкой вины и позор не бледнеющего клейма, правда, надеясь, что все это когда-то наконец сгинет?
И разве мы не более благосклонно относились к словам «Любовь к порядку, социальный мир, готовность к компромиссам и уравновешенность», нежели к резким, словно бьющим по голове требованиям «Или — или!» и «Сколько бы это ни стоило!»?
Несомненно, верно и то, что граждане Федеративной Республики Германии, благодаря собственной инициативе и, конечно, в предполье своих партий и союзов, внешне стали более цивилизованными; даже резкий, больше похожий на окрик тон канцелярий и государственных ведомств, который по обе стороны барьера предусматривал наличие верноподданных, вынужден был уступить место успокаивающему призыву «Будьте милы друг к другу!». Люди стали обходиться друг с другом цивилизованно. В обиход вошло понятие «культура спора». Прошлое оставалось темой, обязательной для школьного обучения. Правда, еще существовало энное количество старых нацистов, вечно вчерашних, но когда в конце 60-х годов НДП, праворадикальной партии, собравшей под свои знамена преимущественно граждан старшего поколения, удалось пройти в некоторые земельные парламенты, ей противостояла демократическая левая, которая в открытом и ненасильственном споре лишила ее всякой значимости: призрак словно улетучился, правый лагерь почти сошел на нет.
Таковы были дела. ГДР, как государство, призванное оправдать свое название и в силу собственных утверждений считавшее себя антифашистским, почувствовало, что его лишили триумфа. Можно было надеяться, что мы пережили последний откат назад. Новым поколениям открывался демократический заповедник, богато оборудованный площадками для затейливых игр и приключений, плавательными бассейнами с подогретой водой, дискотеками и социологическими экспертизами, дававший достаточно комфорта и свободы действий и потому суливший развитие, мирно и толерантно ориентированное на молодежное потребление. Безобидно менялись моды, и только духу времени приносились жертвы.
Но еще до падения стены и последовавшего вскоре по принципу «раз-два, взяли!» молниеносного объединения возникшее было чувство, что Германия, по крайней мере западная, большая часть, внутренне очистилась, оказалось обманчивым. И лишь присоединение несостоятельного должника ГДР вместе с мертвым и живым инвентарем к системам торговых домов и энергетическим объединениям, к банкам и страховым концернам ФРГ, случайно выпавшая возможность схватить, захапать и торжественно назвать все «единым отечеством», покончили с самообманом, с общегерманской ложью и снова дали импульс — едва мы стали суверенными — немецкой склонности к отсутствию меры.
И сразу же с таким трудом завоеванный социальный консенсус оказался ломким, непрочным. Послушно натренированная скромность была объявлена мелкотравчатой и провинциальной; с тех пор у нас снова орут во все горло. Состоящие на службе у государства газеты призвали сбросить наконец груз немецкого прошлого — до сих пор остававшийся болевым пунктом нашего самосознания, — и смотреть отныне только вперед, исключительно вперед.
И поскольку перед лицом распадавшегося Советского Союза западный лагерь, а тем самым капитализм, выступал как одержавший победу над коммунизмом, мы всей Германией и как по команде встали на сторону победителей, полные решимости добиться наконец абсолютной ясности: отныне и никогда больше никакого третьего пути или тем более демократического социализма. Отказ от утопии прописывался, как средство от глистов. Даже там, где не было и подобия рынка, с догматической тупостью предписывалось завести свободное рыночное хозяйство. А демократическая левая, которая наиболее отчетливо, хотя и без слепой ненависти, аргументированно выступала против коммунизма, она, эта раздробленная и перессорившаяся левая, остававшаяся, тем не менее, в смысле действенного конституционного патриотизма, самой надежной защитой от предрасположенности общества ФРГ к правому радикализму, она также, во имя ясности, должна была сойти на нет.
Сторонников чистоты и порядка в Германии хватало всегда, но редко какой процесс чистки производился с таким знанием дела: ведь им занялись и продолжают заниматься преимущественно бывшие коммунисты и раскаявшиеся маоисты. Теперь они поглощены тем, что, в соответствии с образом действий и методами якобинцев, снова вводят в модный оборот достаточно прочные фонарные столбы, а также средневековый реликт — столб позорный. И поскольку никто так хорошо не владеет дисциплиной общественного самобичевания, как они, немецкому доносительству обеспечена стабильная конъюнктура. Бог или кто там еще, защити нас от усердия новичков, обращенных в другую веру.
С тех пор как эти чистки оживили культурные разделы прессы и обеспечили кульминационные моменты публичных дискуссий за «круглым столом», демократическая левая существует лишь в виде заклинаемого призрака или на худой конец в образе нескольких одиночек, деградировавших до уровня допотопных ископаемых. Один из этих уцелевших экземпляров как раз и говорит сегодня с вами. Я пригляделся к ситуации и понял: левая сломлена. Третий путь наглухо забит гвоздями. Последних патриотов конституции очень скоро можно будет лицезреть только в зоопарке. Но остается вопрос: какая политическая сила в настоящее время способна закрыть этот преднамеренно созданный пробел и противостоять правовому террору?
Буржуазный центр — едва ли. Подтвержденный усиленно внушаемым страхом и больше ада на земле опасаясь зловещих предсказаний Штойбера о «грозящем немецкому народу смешении рас», он наблюдает за правым террором хотя и с некоторой стеснительностью — «Что скажут за границей? Мы лишимся инвесторов!» — но и в то же время и с принципиальным сочувствием. Заклинания Штрайбля по поводу «мультикриминального общества» и указание Вайгеля, что «следующие выборы можно будет выиграть только находясь правее центра», прозвучали не впустую.
Когда 3 октября, в день объединения, праворадикальные орды заполонили улицы Дрездена, крича: «Подохни, еврей!», местная и призванная на помощь из Западной Германии полиция организовала для них охрану и сопровождение; одновременно появившееся на улицах Шверина небольшое количество людей, выражающих протест против канцлера «германского единства», который праздновал в Шверинском городском театре свое историческое величие, были тщательно выловлены. Здесь, в Мюнхене, где не так давно несколько десятков свистков, в которые свистели левые, мобилизовали всю полицейскую мощь города, незачем напоминать о событиях веймарских времен, чтобы увидеть правую опасность, грозящую увеличившейся Федеративной республике.
Мы снова стали людьми, не знающими меры. Моя запись, сделанная в Дании в конце августа, тогда еще звучавшая как вопрос, как предположение, сегодня подтверждается новыми примерами необузданности, не подлежащей никакому парламентскому контролю. Назову, к примеру, услужливого поставщика «Шпигеля», ведомство Гаука[56], которое, по собственной склонности, открывает ящик Пандоры и тем самым — разумеется, того не желая, — продолжает работу Комитета государственной безопасности ГДР: теперь-то наконец начинает проявлять себя его яд длительного действия. Когда-то общепризнанное и цивилизованное правило: «В сомнительном случае — решать в пользу обвиняемого», перевернуто вверх ногами: уже подозрение делает человека виновным.
Другим выражением необузданности и отсутствия меры я назвал бы этот централистский кошмар попечительских комитетов, которые просеивают через свое сито с непомерными ячейками человеческие судьбы. Ничто не вынуждало нас создавать этих монстров, ныне уже действующих совершенно самостоятельно. А что заставило нас так безжалостно обойтись с пострадавшими, бесконечно подвергавшимися унижению людьми? Или мы, западные немцы, решили дополнительно самоутвердиться за их счет, за счет «осси»? Уж не должны ли они искупить то, что в свое время позволили себе мы, оставив при высоких постах Глобке и Кизингера, а к ним впридачу — тысячи юристов-нацистов? Или они, наши столь часто жалобно поминаемые «бедные братья и сестры», должны исправить то, что не удалось нам, под солнцем экономического чуда?
Я уже говорил в начале: этим летом, которое было суровым и упорно засушливым, на нашем каникулярном островке серые гуси полностью прекратили свои полеты. Ничто не отвлекало нас. Я не мог не излить на бумаге тот остаток горечи, который накопился, превратившись в осадок, за два года, прошедшие после объединения. Поэтому мои датские записки требуют, чтобы я говорил о себе, о Германии и о себе. Как я не хотел отпускать от себя эту страну. И как я все же утратил ее. Чего мне не хватает и с отсутствием чего мне трудно смириться. И чего мне нисколько не жаль.
Поэтому я озаглавил свою речь: «Речь об утратах».
Список велик, и его придется сократить до некоторых примеров. Все началось с утраты родины[57]. Но эту утрату, какой бы болезненной она ни оставалась, следует рассматривать как правомерную. Немецкая вина, то есть преступная война, геноцид по отношению к евреям и цыганам, миллионы убитых военнопленных и людей, насильственно угнанных на принудительные работы, преступная эвтаназия, к тому же страдания, которые мы, оккупанты, причинили нашим соседям, особенно польскому народу, — все это привело к утрате родины.
По сравнению с миллионами беженцев, которым, как правило, было очень трудно обосноваться на Западе, мне повезло. С помощью языка я хоть и не мог возместить эту утрату, но, соединяя слова как обломки, я мог создать нечто, в чем прочитывалась история утраты.
Большинство моих книг вызывают из небытия погибший город Данциг, его холмистые и равнинные окрестности, матово отсвечивающее Балтийское море; с течением времени и Гданьск превратился в тему, о которой надо было писать. Утрата сделала меня красноречивым.
Лишь то, что утрачено полностью, страстно требует, чтобы его снова и снова называли по имени; возникает мания — выкликать исчезнувший предмет до тех пор, пока он не отзовется. Утрата как предпосылка литературы. Я почти склоняюсь к тому, чтобы пустить в оборот этот тезис, в котором заключен мой опыт.
К тому же потеря родины сделала меня свободным для связей другого рода. Присущая всему, что как-то относится к родным местам, непреложность оседлости теперь для меня недействительна. Почти легкомысленное удовольствие от перемены мест рождает любопытство к чужому. У лишенного родины горизонты шире, чем у жителей передающихся по наследству больших и малых участков земли. Поскольку никакая идеология не увеличивала цену моей утраты — ведь не было утеряно ничего исконно немецкого, не было обретено ничего исконно польского, — мне не нужны были национальные костыли, чтобы чувствовать себя немцем.
Другие ценности стали важны для меня. С их утратой примириться труднее, ибо они оставляют ничем не заполняемую пустоту.
Хотя я и привык, что каждое написанное и сказанное мною слово немедленно вызывает полемику, но за последние три года, то есть с того момента, как я критически высказался по поводу с самого начала неудачного процесса немецкого объединения и стал снова и снова выступать с предостережениями по поводу этого бездумного метода «раз-два-взяли», мне пришлось в конце концов убедиться, что я говорил и писал в пустоту. Мой патриотизм, для которого важно не государство, а его конституция, оказался нежелательным.
И не только со мной дело обстояло именно так. Я предполагаю, что сходный опыт утраты затронул и Юргена Хабермаса и Вальтера Йенса, Кристофа Хайна и Фридриха Шорлеммера, как и всех тех, кто вместе с Вольфгангом Ульманом и «Попечительским советом за демократически конституированный союз немецких земель» безуспешно пытался выполнить требование тем временем вычеркнутого заключительного параграфа Основного закона, § 146; согласно которому в случае объединения немецкому народу должна быть предложена для голосования новая конституция.
Этот шанс ныне проигран, упущен. Главные журналисты, которые тогда выступали за поспешное присоединение ГДР, а требование новой конституции оценили как ничего не стоящее, они, несущие свою долю ответственности за национальное несчастье бездарно осуществленного объединения, и по сей день не готовы признать свои обманчивые железнодорожные сигналы и отказ от своевременного обсуждения вопроса о новой конституции как ошибку, ведущую к тяжелым последствиям. Ибо, как и прежде, не происходит ничего или почти ничего: лишь где-то в партийных недрах, спрятавшись от общественности, втайне заседает какая-то конституционная комиссия. Зато хватает усердия, чтобы и без того обтрепанную, дырявую конституцию еще более сузить в ее главной, сущностной части.
Признаюсь: произносить речи, не слыша эха, — для меня новый и не слишком-то стимулирующий момент. Было ли когда-нибудь по-другому? Конечно! На протяжении тех немногих лет, когда Федеральным канцлером был Вилли Брандт, пытавшийся осуществить главный лозунг своего первого правительственного заявления: «Больше демократии — оправданный риск!» Еще будучи правящим бургомистром Берлина[58], с помощью своей жены Рут, он приглашал для бесед, смысл которых заключался в критике и которые нередко взрывали ставшее тесным берлинское самосознание. Напряженное, ибо, как правило, требующее размышлений и внутренних усилий, общение с интеллигенцией было для Вилли Брандта естественным. Вместе с ним и Карл Шиллер, и Адольф Арндт ценили эти беседы, отнюдь не ограниченные простым перечислением трудных проблем. Смелое, но за минувшие годы превратившееся в пустую формулу понятие «политическая культура» какое-то время было живым и полным реального смысла, это значит: мы слушали друг друга; добродетель, которой можно было учиться у Вилли Брандта.
Когда в декабре 1970 года Зигфрид Ленц и я сопровождали канцлера в Варшаву, мы воспринимали себя отнюдь не как декорацию; нет, именно потому, что Ленц и я приняли утрату родины, мы признали и западную границу Польши. Гордость за Германию? Да, оглядываясь назад, я горжусь, что был тогда в Варшаве.
Кстати, не только Брандт и его узкий круг оживили эту форму политической культуры; тот самый Густав Хайнеман, который, будучи только что избранным президентом Федеративной республики, на вопрос пытавшегося застать его врасплох журналиста: «Любите ли Вы государство?» ответил с примерным лаконизмом: «Я люблю не государство, а свою жену!», тоже с абсолютной естественностью общался с интеллигенцией, иногда даже во время игры в скат.
Когда я пытаюсь оживить в памяти это короткое и все же оставившее столь большой отпечаток время, я говорю об утрате. Неповторимым осталось то, что было рассчитано на продолжение. Смерть Вилли Брандта сделала эту утрату еще более ощутимой.
А вот и другие примеры пережитых потерь: что стало с многообразием общественного мнения? Как шелестел немецкий газетно-журнальный лес, когда «Шпигель» еще был тем, чем обещал быть: например, отчетливой альтернативой шпрингеровской прессе. Хотя и выражавшая в экономическом разделе взгляды, сходные с «Франкфуртер альгемайне цайтунг», «Ди цайт» отличалась от ее консервативной статичности своим радикальным либерализмом. Сегодня редакторы отделов культуры названных изданий вполне взаимозаменяемы; они лишь кокетливо делают вид, что спорят друг с другом, да и то в придаточных предложениях. Зато самоуверенная расправа с демократической левой стала хорошим тоном. Даже во «Франкфуртер рундшау» эта тональность порой вполне ощутима. Германия, единый отдел культуры! — хочется воскликнуть, заменяя другой, известный лозунг[59], особенно теперь, когда столь часто призываемое отечество вновь утратило единство.
Конечно, есть и исключения. Так, из остатков когда-то неразличимой по духу прессы ГДР вылупилось несколько весьма любопытных журналов: однако кто же на Западе станет читать восточную «Вохенпост»? Но когда и без того находящееся под угрозой из-за образования газетно-издательских концернов общественное мнение к тому же начинает политически приспосабливаться и терять былой дух противоречия, становится ощутимой утрата, которую, если это продлится долго, не выдержит никакая демократия.
Говорить обо всем этом в Мюнхене и не упомянуть «Зюддойче цайтунг» было бы невежливо. Признаю: пока она еще держится, пока. Но кто на Востоке республики читает это надрегиональное издание, разве что кому-то — будь что будет — Бавария ближе, чем Бранденбург?
Пожалуй, последний пример особенно отчетливо показывает, насколько чужды немцы друг другу. Они лишь с большой неохотой принимают к сведению существование других соотечественников. В этой окаменелой чуждости восточных и западных немцев мекленбуржцы и саксонцы с одной стороны, и жители прирейнских земель и швабы — с другой чувствуют себя отдаленными друг от друга более, чем когда-либо. Даже северные и южные немцы, словно подтверждая разделяющую роль Майна, абсолютно чужды друг другу.
Эти разграничения — результат нашей истории, упорно поддерживавшей сепаратизм и лишь изредка и чаще всего против воли подталкивавшей к единству. Но, может быть, столь многоликое отчуждение является ценой за культурное многообразие всей страны, которая во время государственных и спортивных событий желает именоваться Германией.
Этому по праву соответствует наше федералистское устройство. Оно гарантирует не только отчуждающие, но и оживляющие различия, и с усердием владельцев маленьких садовых участков, ставящих заборы, оберегает наше культурное богатство, которому — от самодеятельного театра до охраны старинных развалин — всегда обеспечены денежные дотации.
Так распорядилась наша конституция. Но федерализм, эта умная застрахованность от самих себя, в процессе недавнего объединения потерпел ущерб. И не то чтобы где-то был отменен суверенитет какой-либо из земель, нет; дело в старонемецком сепаратизме, во врожденном эгоизме земель, в боязливой косности, этой оцепенелости в собственном спертом воздухе, в своекорыстии, заставляющем упрямо торговаться за дотации и компенсационные выплаты; иначе говоря, во всем том, что лишило немецкий федерализм его политической конструктивной силы, и так отсутствовавшей у Федерального правительства и у оппозиции в процессе объединения. Но если федерализм как корректив по отношению к государству окажется несостоятельным, то к списку уже перечисленных потерь придется добавить еще один минус.
Я не постыжусь назвать решение бундестага о переводе столичного инвентаря из Бонна в Берлин, а потом завуалированную отмену этого решения в соответствии с обычной боннской практикой самым настоящим балаганом, где госпоже президенту бундестага отведена роль дрессировщицы. Дорогое сооружение для будущих дебатов и речей с балкона уже освящено. Все идет, согласно привычкам, до отвратительности нормально. Но к востоку от Эльбы дитя, упавшее в колодец, кричит что есть мочи.
Само же упало, а теперь кричит. Чего реветь-то? Кто это там все чего-то хочет, притом все больше и больше? Никто уже и не слушает!
И только министру по социальным делам земли Бранденбург Регине Хильдебрандт хватило голоса, чтобы хоть на время заставить остальных услышать плачущее дитя. Она называет продолжающуюся несправедливость своими словами. Эта женщина, когда она выступает, взрывает голубой экран. Она показывает лживость выставляемой напоказ гармонии. Ее эмоциональное воздействие освежает, ее речь не страдает гладкостью. Кто, как не Регина Хильдебрандт, призвана стать преемницей нынешнего Федерального президента!
Но сможем ли мы выдержать эту женщину? Вынесет ли наша эстетика лакировки ее особый шарм? Хватит ли нам мужества вытерпеть Регину Хильдебрандт, ее напористость и страстность, подталкивающую вновь расколотую страну к объединению?
Или мы, немцы, стали уже столь чужими друг другу, что не можем воздержаться хоть на время от своих корыстных нужд и проблем собственности? И не является ли — таков мой настойчивый вопрос — эта въевшаяся в плоть и кровь чуждость немцев по отношению друг к другу возможной причиной покрывшей позором всю страну сегодняшней ненависти к чужим, которых мы называем иностранцами?
Радиопередача из Ростока: Немецкое радио. Датский остров, где мы проводим каникулы, дал выход моей ярости; позднее я попытался с помощью иглы перенести ее на медные пластинки: гравюра как аварийное средство.
Но когда ярость ослабла, остались печаль и гнев. И в соответствии с этими чувствами на бумагу стали ложиться записи в виде вопросительных предложений: Что вы сделали с моей страной? Как стала возможной эта называемая единством ложь? Сколько надо было выпить пива идущему на выборы бюргеру, чтобы такую трудную, требующую политической зрелости задачу поручить специалисту по подчистке балансов и человеку, укрывающемуся от налогов? Как могло дойти до того, что всем этим Банге-, Хайс-, и Мёллеманам с их безалаберностью была предоставлена полная свобода действий? Чья хитрая режиссура превратила находящуюся в полном раздрае страну в тему ежевечернего лепета этих бесчисленных ток-шоу? Какая тупость заставила нас, словно мелких лавочников, заняться подсчетами, во что обойдется прирост населения на шестнадцать миллионов немцев, и присовокупить к бесправию реального социализма бесправие капитализма? Чего не хватает нам, немцам, чтобы — уж не говоря об иностранцах, — гуманно решать наши собственные дела? Чего не хватает нам, немцам?
Может быть, нам не хватает тех, кого мы так боимся, потому что они чужие и выглядят иначе, чем мы? Нам не хватает тех, кого мы — из страха — встречаем с ненавистью, переходящей затем в насилие, ставшее почти ежедневным.
И возможно, нам особенно не хватает тех, которые на отрицательной шкале ценностей занимают место в самом низу: рома и синти, обычно называемых цыганами.
Их не защищает никто. Ни один депутат не выступает в их поддержку, не говорит об их бедах — ни в Европарламенте, ни в бундестаге. Нет такого государства, на которое они могли бы опереться и которое изъявило бы готовность поддержать и объявить своим государственным делом их оправданные после Освенцима — хотя и такие жалкие — требования, которые именуются возмещением ущерба.
Рома и синти — это последнее. «Выдворить!» — заявляет господин Зайтерс и добивается, что Румыния послушно выполняет его требования. «Выкурить!» — вопят бритоголовые и тем самым дают господину Зайтерсу реальные аргументы для его метода выдворения. Но и в Румынии и в других местах цыгане — тоже последнее.
Почему, собственно?
Потому что они другие, хуже того: они более другие, чем остальные другие. Потому что они воруют, кочуют, неустанно перемещаются с места на место, потому что у них дурной глаз и к тому же они отличаются странной красотой, которая заставляет всех нас выглядеть уродами. Потому что уже своим существованием они ставят под сомнение всю нашу систему ценностей. Потому что они, на худой конец, пригодны для опер и оперетт, но на самом деле — они асоциальны, они вырожденцы, они малоценны, хотя это звучит ужасно и напоминает о чем-то очень страшном.
«Сжечь!» — вопят бритоголовые.
Когда семь лет назад хоронили Генриха Бёлля, перед гробом и теми, кто нес гроб, — это были, помимо сыновей Бёлля, Лев Копелев, Гюнтер Вальраф и я, — шел цыганский оркестр, возглавлявший похоронную процессию на пути к кладбищу. Так хотел Бёлль. Только эта, беспредельно печальная, потом вдруг отчаянно веселая музыка должна была быть его последней.
Лишь теперь я по-настоящему понимаю, что имел в виду Бёлль, хотя он никогда не говорил об этом.
Пусть они придут и останутся, если захотят: нам их не хватает.
Пусть полмиллиона или больше рома и синти живут среди нас, немцев: они нам крайне необходимы.
Посмотрите на маленькую Португалию, где, несмотря на множество беженцев из бывших колоний, тысячи цыган чувствуют себя естественнейшим образом причастными к этой стране.
Смягчитесь же, наконец, суровые немцы, и дайте бритоголовым ответ, отмеченный не страхом, а мужеством: человечный ответ.
Прекратите, наконец, выдворять цыган, как это вошло у вас в привычку.
Они могли бы помочь нам, слегка нарушая наш подзастывший порядок. Кое-что из их образа жизни мы легко могли бы позаимствовать. После стольких утрат они были бы обретением для нас. Они могли бы научить нас, как ничтожны границы; ибо рома и синти не знают границ. Цыгане чувствуют себя дома по всей Европе: они те, за кого себя выдают: врожденные европейцы.
ФОТОМАТЕРИАЛЫ
В Художественной академии. Дюссельдорф, 1948–49 гг. (Г. Грасс — справа)
Из итальянского альбома, лето — ранняя осень 1951 г.
Из альбома рисунков, сделанных во время путешествия по Франции, лето — ранняя осень 1952 г.
Г. Грасс. Берлин, 1956 г.
Карта Данцига
За пишущей машинкой. Берлин, 1960–61 г.
Рисунок к «Собачьим годам» («Птичьи пугала»). Берлин, 1961 г.
Рисунок к обложкам романа «Собака», поименованного затем «Собачьи годы».
Берлин, 1963 г.
В дороге. Предвыборная кампания, 1965 г. (Выборы в Бундестаг)
Предвыборная кампания, 1965 г. (Г. Грасс агитирует за СПД — ES-PE-DE)
Предвыборные плакаты СПД (рисунки Г. Грасса)
Ганс Магнус Энценсбергер, Ингеборг Бахман, Гюнтер Грасс. Цюрих, примерно 1966 г.
Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, Вилли Брандт на организационном съезде Союза немецких писателей. Штутгарт, 1965 г.
С улиткой, 1972 г.
Автопортрет с улиткой, 1972 г.
Возвращение куклы
Акула над сушей, 1973 г.
Рукопись стихотворения «Предчувствие» (из романа «Палтус», 1974 г.)
Г. Грасс с рукописью романа «Палтус», 1974 г.
«Человек в палтусе», 1978 г.
Портрет Макса Фриша, 1975 г.
Гюнтер Грасс с Максом Фришем в художественной мастерской. Берлин, 1975 г.
На стене — два портрета жены Уты
«Злые повара». Берлин, 1974 г.
В художественной мастерской. Берлин, 1977 г.
«Смешанное общество», 1983 г.
Автопортрет с угрем («Угорь, который я подарил Ильзебиль»), 1976 г.
Г. Грасс с Давидом Баннентом во время съёмок фильма «Жестяной барабан». Берлин, 1978 г.
Г. Грасс с обложкой «Жестяного барабана». Берлин, 1979 г.
Терракота «Лебединые головы». Вевельсфлет, 1982 г.
Рельеф на терракоте — стихотворение «Одиннадцатого ноября». Вевельсфлет, 1981 г.
Литография «Машинка Бёлля». Вевельсфлет, 1983 г.
Бронзовая статуэтка. Вевельсфлет, 1984 г.
Автопортрет с крысой. Вевельсфлет, 1984 г.
«Memento mori» («Помни о смерти»). 1985 г.
Рукописная страница из романа «Крысиха» (первая редакция). Вевельсфлет, 1984 г.
В дороге. Бонн, Главный вокзал, 1988 г.
С детьми и внуками. Белендорф, 1987 г.
Набросок к «Гриммовским лесам». Вевельсфлет, 1983 г.
Г. Грасс в танце с женой Утой, 1986 г.
В рабочем кабинете
Рука (к роману «Ein Weite Felds» — «Широкое поле»)
На датском острове Мён, 1990 г.
КОММЕНТАРИИ
ВСТРЕЧА В ТЕЛЬГТЕ
Как уже отмечалось во вступительной статье, повесть была написана специально к 70-летию Ганса Вернера Рихтера (1908–1993), основателя литературной «Группы 47», явившейся колыбелью для многих, впоследствии прославившихся, писателей ФРГ, в том числе и для Гюнтера Грасса, — то есть в 1978 году.
На русском языке повесть впервые опубликована в журнале «Иностранная литература» (1983, № 5) и в сборнике Гюнтера Грасса, в серии «Мастера современной прозы», издававшейся «Радугой» (М., 1985).
О мотиве, побудившем Грасса написать повесть, он сам говорит в первом же абзаце, не называя, правда, имени своего друга.
На параболический характер книги указывает и время действия: поэты барокко встречаются в 47-м году XVI века, «Группа 47» основалась, как то явствует из названия, в 1947 году.
В книге действует, или упоминается, множество имен подлинных, а не вымышленных, поэтов, прозаиков периода барокко, исторических лиц. Для более удобного пользования справочным аппаратом, здесь, после скупых примечаний к историческим реалиям, в алфавитном порядке приведен их список с необходимыми данными.
1. каждодневные ужасы фуражировки — во время Тридцатилетней войны (1618–1648) войско самоснабжалось путем грабежей.
2. «Пегницкая пастораль» — обозначение созданного в 1644 году в Нюрнберге одного из барочных языковых обществ блюстителей чистоты немецкого языка и поэзии. Оно называлось «Достопочтенным пастушечьим и цветочным орденом на Пегнице», «Орденом пастухов», «Цветочным орденом», просуществовало до XVIII века, насчитывая к концу 117 членов; среди них были и женщины — что допускалось Орденом в отличие от всех остальных языковых обществ.
3. «Плодоносное общество» — созданное в 1617 году в Веймаре языковое общество содействия чистоте и правильности немецкого языка. Позднее оно называлось также «Пальмовым орденом» — по пальме в его гербе. Это было самое большое языковое общество XVII века, оно насчитывало 890 членов.
4. Анабаптисты — общее название реформаторских движений первой половины XVI века: они отказывались от крещения детей, считая необходимым осуществлять этот ритуал в зрелом возрасте (Wiedertaufer — «перекрещенцы»), стремились приблизить осуществление царства Божьего в духе Нагорной проповеди. Одно из наиболее радикальных направлений, существовавших в Мюнстере, под руководством Книппердоллинга было жестоко подавлено в 1535 году, — в башнях Мюнстерского собора до сих пор сохранились пыточные клетки.
5. «Товарищество немецких патриотов» — основанное в 1642 году барочное языковое общество, поделенное на четыре гильдии — розы, лилии, гвоздики, руты. Известны имена 207 членов.
6. «Откровенное общество ели» — созданное в 1633 году в Страсбурге языковое общество; не пользовавшееся влиянием на литературный процесс, оно вскоре распалось. Известны имена лишь четырех членов.
7. «Тыквенное общество» — так называл себя Кёнигсбергский кружок поэтов, образовавшийся в 20-х годах XVII века. Название происходит от тыкв, на которых композитор-песенник Генрих Альберт вырезал свои изречения.
8. «Орден эльбских лебедей» — созданное в 1656 году языковое общество, распавшееся сразу же после смерти его основателя Иоганна Риста. Известны имена 58 членов.
9. «Театр иезуитов» — контрреформаторские поэтические объединения, существовавшие со средины XVI до XVIII вв. Здесь ставились сочиненные учителями иезуитских школ религиозные пьесы на латинском языке, снабженные немецкими программками.
10. …воспоминания о Лейдене — в XVIII веке Лейден был центром мистики.
11. …последователи сапожника из Гёрлица… — имеется в виду поэт Якоб Бёме.
12. Розенкройцеры — названные по имени Кристиана Розенкройца (предположит. 1378–1484) тайные союзы XV–XVIII вв. с гуманистически-этическими, культурно- и социально-реформистскими, деистскими, оккультными тенденциями.
13. …античные пасторали — в периоды Ренессанса и Барокко традиция пасторальных романов и лирики была тесно связана с европейской пасторальной поэзией.
14. …кардинал со своей стороны — имеется в виду кардинал Ришелье.
15. …французское недомогание — сифилис.
16. …мотета — семистрочная французская поэтическая форма, в барочное время развившаяся в многоголосую песенную форму.
17. …вышвырнул фридландца… — имеется в виду герцог Валленштейн.
18. …шведский «напиток» — по Гриммельсгаузену, практиковавшаяся шведами пытка, при которой жертве насильно вливается в глотку навозная жижа, пока не наступит смерть.
19. …протянется к миру рука, сжимающая перо — этот образ использован для шмуцтитула первого издания «Встречи в Тельгте», — использован он и нами в настоящем издании на суперобложке.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Альберт Генрих (1604–1651) — органист, песенник; племянник композитора Генриха Шюца. В его саду, в «Тыквенной хижине» собирались кёнигсбергские поэты, члены «Тыквенного общества».
Ангелу с Силезиуз (Силезский ангел; см. Шефлер).
Анна Австрийская (1601–1666) — супруга Людовика XIII, регентша Людовика XIV.
Бальде Якоб (1603–1668) — иезуит, один из самых значительных немецких новолатинских поэтов XVII в.
Банер Иоганн (1596–1641) — шведский военачальник во время Тридцатилетней войны, одержал победу в битве под Брайтенфельдом (1631).
Бернеггер Маттиас (1582–1644) — влиятельный ученый, профессор в Страсбурге. Отстаивал идею религиозной толерантности и прекращения распрей между конфессиями.
Бетлен Габор (1580–1629) — князь Зибенбюргский.
Биркен Зигмунд фон (1626–1681) — барочный поэт, член «Пастушечьего и Цветочного ордена», ставший его главой после смерти Гардсдёрфера.
Блюм Георг (ум. 1648) — служащий военной регистратуры канцелярии Кёнигсбергского курфюрста; принадлежал к кругу друзей Симона Даха.
Бёме Якоб (1575–1624) — поэт, влиятельный силезский мистик. Стремился заново разработать праязык, lingua adamica, природный, естественный язык, утерянный вследствие грехопадения Адама.
Бухнер Август (1591–1661) — барочный поэт и ученый, член «Плодоносного обществе».
Валленштейн Альбрехт Венцель Эузебиус (1583–1634) — герцог, часто именуемый Фридландцем, кайзеровский военачальник во время Тридцатилетней войны, убит кайзеровскими офицерами.
Векерлин Георг Рудольф (1584–1653) — барочный поэт; после женитьбы на англичанке был помощником госсекретаря в Лондоне.
Верт Иоганн, рейхсграф фон (примерно 1600–1652) — генерал, участник Тридцатилетней войны.
Врангель Карл Густав, граф фон Сальмис (1613–1676) — шведский рейхсмаршал и адмирал, с 1646 года Главнокомандующий в Германии.
Габриели Джованни (примерно 1554/57—1612) — итальянский композитор и преподаватель, органист в Венеции.
Галлас Маттиас, рейхсграф (1584–1647) — кайзеровский генерал, после падения Валленштейна принял главнокомандование кайзеровскими войсками, в 1634 году победил шведов под Нёрдлингеном.
Гарсдёрфер Георг Филипп (1607–1658) — барочный поэт.
Гельнгаузен — см. Гриммельсгаузен.
Гергардт Пауль (1607–1676) — барочный поэт и священнослужитель.
Гофмансвальдау Кристиан Гофман фон (1617–1679) — барочный поэт.
Грефлингер Георг (примерно 1620–1677) — барочный поэт, вел бродячую солдатскую жизнь. Член «Ордена эльбских лебедей».
Гриммельсгаузен Иоганн Якоб Кристофель фон (ок. 1621–1676) — писатель, автор знаменитого автобиографического романа «Симплициссимус» (1669) в шести книгах.
Гроциус Гуго (1583–1645) — нидерландский ученый, поэт и государственный деятель, друг Мартина Опица.
Грифиус Андреас (1616–1664) — барочный поэт.
Гварини Джиованни Баттиста (1538–1612) — итальянский поэт, образец пасторальной лирики.
Дах Симон (1605–1659) — один из самых значительных поэтов Кёнигсбергского поэтического кружка. Именно ему Гюнтер Грасс придал многие черты своего друга Ганса Вернера Рихтера.
Киджи Фабио — итальянский нунций, посланник Папы на Вестфальском конгрессе мира (1648); с 1655 года — Папа Александр VII.
Контарини Гаспаре (1483–1542) — венецианский аристократ, кардинал, стремившийся к церковному единству Германии.
Кромвель Оливер (1599–1658) — английский государственный деятель и военачальник.
Крюгер Иоганн (1598–1662) — немецкий композитор и органист, переложил на музыку церковные стихи Пауля Гергарда.
Клай Иоганн (1616–1656) — ученик Бухнера, один из основателей «Цветочного ордена».
Лауремберг Иоганн (1590–1658) — барочный поэт и ученый; главное произведение — «Шутливые стихи», 1652 («Scherzgedichte»).
Либушка — у Гриммельсгаузена подружка Симплициссиумуса; в одной из книг цикла — «Простаку наперекор, сиречь диковинное жизнеописание прожженной обманщицы и побродяжки Кураж» — описана в форме исповеди ее история, показывающая ее в крайне негативном свете.
Лингельсгейм Георг Михаэль фон — ученый, профессор в Гейдельберге.
Лобвассер Амброзиус (1515–1585) — переводчик гугенотской Псалтыри (1565).
Логау Фридрих, барон фон (1604–1655) — барочный поэт, мастер эпиграммы. Лессинг (1729–1781) считал его одним из самых выдающихся умов своего времени.
Марино Джиамбаттиста (1569–1625) — итальянский поэт.
Максимилиан I (1573–1651) — герцог Баварии с 1597 года, основал в 1609 году католическую лигу, в Тридцатилетнюю войну удостоен сана курфюрста.
Мазарини Жюль (1602–1661) — французский кардинал и политик итальянского происхождения, преемник кардинала Ришелье.
Мильтон Джон (1608–1674) — английский поэт и политик, государственный секретарь при Кромвеле (1599–1658), преемник, а затем начальник Векерлина.
Монтеверди Клаудио (1567–1643) — итальянский композитор, капельмейстер в Венеции.
Мошерош Иоганн Михаэль (1601–1669) — барочный поэт; вел беспорядочный образ жизни и осуществил лишь малую часть своих литературных планов.
Ноймарк Георг (1621–1681) — барочный поэт, член «Плодоносного общества».
Оксеншерна Аксель Густафсон, граф (1583–1654) — шведский политик и военачальник.
Опиц, фон Боберфельд Мартин (1597–1639) — поэт и теоретик литературы; заложил основы немецкого классицизма; ратовал за чистоту литературной речи и обогащение поэзии новыми поэтическими формами (сонет, элегия и др.).
Ришелье Арман Жан дю Плесси (1585–1642) — кардинал, глава королевского совета. Вовлек Францию в Тридцатилетнюю войну.
Ринуччини Оттавио (1562–1621) — итальянский поэт. Опиц перевел его «Дафну» (первая немецкая опера).
Рист Иоганн (1607–1667) — барочный поэт, теолог, юрист, математик; член «Плодоносного общества». В 1646 году коронован в поэты, а с 1654 года, возведенный в звание кайзеровского пфальцграфа, получил право сам короновать в поэты.
Робертин Роберт (1600–1648) — духовный центр Кёнигсбергского поэтического кружка, друг Опица, учитель Даха.
Ромплер фон Лёвенхалът Иезаиас — побудил Цезена создать «Товарищество немецких патриотов»; наряду со Шнойбером считается основателем «Откровенного общества ели».
Тилли Иоганн Тсерклаес, граф фон (1559–1632) — крупный военачальник периода Тридцатилетней войны, главнокомандующий католической лиги, потерпел поражение от Густава II Адольфа при Брайтенфельде и был смертельно ранен.
Торстенсон Леннарт, граф фон Ортала (1603–1651) — шведский военачальник, главнокомандующий шведских войск в Германии.
Фельсеккер — нюрнбергский издатель произведений Гриммельсгаузена.
Флеминг Пауль (1609–1640) — немецкий поэт, излюбленная форма — ода. В 1633—34 гг. побывал в России, написал стихи о ней.
Франкенберг Авраам фон (1593–1652) — поэт из окружения Бёма, его первый биограф.
Фридрих Вильгельм Бранденбург (1620–1688) — великий курфюрст, основатель бранденбургско-прусского государства.
Фризен — кёльнский печатник и издатель.
Цезен Филипп фон (1619–1689) — барочный поэт, основатель «Товарищества немецких патриотов».
Цинкгреф Юлиус Вильгельм (1591–1635) — поэт из окружения Опица, издатель его первого собрания стихотворений.
Чепко Даниель фон Райгерсфельд (1605–1660) — барочный поэт, медик, юрист. Излюбленная поэтическая форма — эпиграмма. Наряду с поэзией занимался созданием истории родного края — Силезии.
Чернинг Андерс (1611–1659) — барочный поэт, профессор в Ростокском университете, родственник Опица.
Шауенбург Ганс Райнхард, барон фон — кайзеровский полковник, в 1639–1649 гг. был военным начальником Гриммельсгаузена.
Шефлер Иоганн (1624–1677) — барочный поэт, доктор медицинских наук, медик двора герцога Сильвиуса Нимрода Вюртембергского. Перейдя в католическую веру, стал затем гофмаршалом архиепископа Бреслау; остаток дней своих провел в аскетическом воздержании на службе контрреформации.
Шнойбер Иоганн Маттиас — страсбургский барочный поэт, считается вместе с Ромплером основателем «Откровенного общества ели».
Шоттель Юстус Георг (1612–1676) — член «Плодоносного общества». Его главное произведение «Подробная работа об основном немецком языке» (1663) — основополагающая немецкая грамматика XVII века.
Шпее фон Лангенфельд, Фридрих (1591–1635) — иезуитский поэт и ученый, оказал большое влияние на католическую церковную песнь.
Шюц, Генрих (1585–1672) — один из самых значительных композиторов своего времени.
Эльзевиры — известная нидерландская семья печатников и издателей. Специализировалась на издании античных классиков (Эльцевириана).
ГОЛОВОРОЖДЕННЫЕ
«Головорожденные» написаны после состоявшейся в октябре-декабре 1979 года и организованной под патронажем Института Гёте поездки по Китаю.
Подобно «Встрече в Тельгте», «Головорожденные» неразрывно связаны с романом «Палтус», о чем, в частности, свидетельствует его деление на девять глав.
Еще более усилившееся после этой поездки ощущение убожества немецкого жизненного уклада и размышления о предстоящих в 1980 году выборах, равно как и впечатления, полученные во время экранизации «Жестяного барабана» в 1978 году, нашли свое отражение на страницах «Головорожденных». Грасс намеревался вместе со Шлендорфом снять фильм о разительном контрасте между благосостоянием Запада и бедственным положением стран «третьего мира».
В результате увидело свет сочинение, которое представляет собой вовсе не сценарий, а ряд не слишком связанных между собой размышлений на определенные темы. Они должны были стать основой фильма. Благодаря первоначальному замыслу текст обрел столь специфическую форму и присущий киносценариям стиль.
Одновременно «Головорожденные, или Немцы вымирают» являются произведением, построенным преимущественно на ассоциациях; это своего рода протокольная запись предчувствий и опасений автора на рубеже 1979–1980 годов. Сочетание размышлений о прошлом и будущем с беспощадным анализом состояния современного немецкого общества позволяет отнести «Головорожденных» также к жанру эссе.
На русском языке публикуется впервые.
1. «Лебенсборн» — созданное Генрихом Гиммлером в 1935 г. учреждение, которое в соответствии с демографической политикой национал-социалистов определяло рожденных вне брака «ценных в расовом отношении» детей в свои приюты, а затем его сотрудники отбирали наиболее подходящих и отдавали их на воспитание в семьи эсэсовцев.
2. …тот самый… визит правительственной делегации КНР… — премьер Государственного Совета и председатель КПК Хуа Гофэн находился в ФРГ с официальным визитом с 21 по 28 октября 1979 г.
3. «банда четырех» — принятое в среде коммунистической номенклатуры Китая пренебрежительное наименование группы из четырех высокопоставленных руководителей КПК, среди которых оказалась также вдова Мао Цзедуна. Будучи ярыми поборниками радикального варианта партийной идеологии, они активно противодействовали прагматикам из руководства КПК, после смерти Мао (1976) определявшим курс партии.
4. «Культурная революция» — развернувшаяся в 1966–1967 гг. в Китае широкомасштабная политическая кампания, представлявшая собой борьбу стремившихся укрепить позиции Мао Цзедуна хунвэйбинов («красных охранников») против его придерживавшихся ревизионистских взглядов противников в партийно-государственном руководстве страны. Ее итогом стало затянувшееся на многие годы шельмование представителей интеллигенции, которых сняли со всех мало-мальски значительных должностей и выслали на перевоспитание в провинцию, где они были вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом.
5. А этот идиот Папа по-прежнему запрещает противозачаточные средства. — Грасс имеет в виду публично высказанное Папой Иоанном-Павлом II в 1979 г. принципиальное согласие с основными положениями энциклики «Humanal vital», изданной Папой Павлом IV в 1968 году.
6. «С одной стороны, „зеленые“ совершенно правы, с другой — именно они приведут Штрауса к власти». — На состоявшихся 7 октября 1979 г. выборах в городское собрание Бремена «зеленым» впервые удалось преодолеть 5 %-ный барьер. Однако на выборах в бундестаг 5 октября 1980 г., о возможных результатах которых здесь размышляет Грасс, им удалось набрать лишь полтора процента голосов.
7. …метания Баро между Востоком и Западом… — занимавший в 1967–1977 гг. высокий пост в системе управления экономикой ГДР Рудольф Баро в 1977 г. опубликовал в Кельне научное исследование «Альтернатива», в котором подверг эту систему резкой критике. Он был брошен в тюрьму, а затем, благодаря предпринятым многими западными интеллектуалами (в том числе Грассом) усилиям, в 1979 г. получил разрешение выехать в ФРГ. В 1980–1985 гг. Баро примыкал к «зеленым».
8. Битва при Арденнах — так здесь именуется предпринятая 16 декабря 1944 г. командованием вермахта безуспешная попытка оттеснить войска союзных держав от западных границ рейха. Наступление в Арденнах положило начало заключительному этапу второй мировой войны.
9. «Утренние празднества» — устраиваемые национал-социалистами с целью воодушевить молодежь торжественные мероприятия с выносом знамен, выкрикиванием лозунгов, чтением стихов и пением песен.
10. Атомная электростанция в Брокдорфе — стала как бы символом движения за ограничение использования ядерной энергии. Ее история неразрывно связана с продолжавшимся свыше десяти лет конфликтом. Еще на стадии разработки ее проекта свыше 20 000 человек выразили свой протест. После того, как в 1976 г. было дано разрешение на строительство первой очереди, прошли первые многочисленные демонстрации. В этих акциях протеста приняли участие примерно 5000 человек; около тысячи из них захватили строительную площадку, но были изгнаны оттуда полицией. Когда же демонстрации начали принимать угрожающий размах, Высший административный суд земли Шлезвиг-Гольштайн вынес приговор о приостановлении строительства. Лишь в мае 1980 г. земельное правительство приняло решение возобновить его. В феврале 1982 г. была устроена одна из наиболее мощных демонстраций, в которой приняло участие свыше 80 000 человек. 30 сентября 1086 г. земельное правительство дало разрешение на пуск реактора в эксплуатацию. Грасс имел возможность детально ознакомиться с ситуацией прямо на месте, так как он владеет домом, расположенным в шести километрах от места событий.
11. «Четыре модернизации» — согласно конституции КНР, страна находится в стадии социалистической демократии. Этот основной закон предусматривает дальнейшее развитие социализма и модернизацию промышленности, сельского хозяйства, оборонного и научно-технического потенциалов с целью достичь к 2000 году уровня жизни жителей западных великих держав.
12. «Большой скачок» — предпринятая в 1958–1960 гг. попытка решить возникшие после фактического провала первого пятилетнего плана (1953–1957) в экономике КНР проблемы и добиться скорейшего экономического роста. Из-за проводимых в рамках этой кампании радикальных и зачастую необдуманных мер «Большой скачок» не только не достиг цели, но и привел к небывалому развалу экономики.
13. «Пусть расцветают сто цветов» — резкие нападки, с которыми Хрущев Н. С. на состоявшемся в феврале 1956 г. XX съезде КПСС обрушился на совершенные Сталиным преступления, вынудили руководство КПК пересмотреть свое отношение к интеллигенции и подвергнуть критике догматиков в собственных рядах. Выдвинутый Мао Цзедуном в мае 1956 г. лозунг «Пусть расцветают сто цветов, пусть соревнуются сто школ» побудил интеллектуалов выступить с рядом критических замечаний. Однако уже в июне того же года критика политического устройства страны была жестоко пресечена.
14. …ужас более отдаленных годов: Хомейни. — Лидер иранских шиитов Хомейни вернулся из эмиграции на родину в феврале 1979 г. Будучи одним из основных вождей начавшейся с изгнания шаха исламской революции, он активно проводил в жизнь идею создания исламской республики.
15. …покушение на Дучке — Руди Дучке (07.03.1940— 24.12.1979) изучал в 1961–1968 гг. общественные науки в Свободном университете (Западный Берлин). Как член Союза немецких студентов, он сделался организатором демонстраций протеста против интервенции США во Вьетнам и, опираясь на выдвинутый в свое время Мао лозунг, призывал проделать «долгий марш» по институтам власти с целью изменения всей общественно-политической системы. В 1968 г. развязанная в прессе кампания травли дала свои плоды, и на Дучке было совершено покушение. Его последствия привели в декабре 1979 г. к несчастному случаю, в результате которого Дучке скончался.
16. Командир взвода знаменосцев «гитлерюгенда» — командир отряда, состоявшего из четырех взводов; каждый из них, в свою очередь, состоял из четырех десяток; таким образом, общая численность отряда составляла 160 человек.
17. …ханжа-проповедник в Вашингтоне — имеется в виду 29-й президент США Джеймс (Джимми) Картер, занимавший этот пост в 1977–1981 гг.; больной, недалекий человек в Москве — Леонид Ильич Брежнев (19.XII. 1906—10.ХI.1982), с 1966 г. и вплоть до своей смерти исполнявший обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС.
18. «Большой брат» — всемогущий диктатор из романа Джорджа Оруэлла (1903–1950) «1984» (1949).
19. …теперь же для этого вполне подходит Тегеран… непрестанно говорит о затянувшемся удержании заложников… — во время проходившей в Тегеране 4 ноября 1979 г. демонстрации протеста группа исповедовавших ислам студентов ворвалась в здание посольства США и захватила около 100 заложников, из которых примерно половина была в последующие недели освобождена, а остальных исламисты-фанатики продолжали удерживать с целью вынудить правительство США выдать бежавшего в эту страну шаха. В ночь на 25 апреля 1980 г. потерпела провал попытка освобождения заложников, предпринятая отрядом войск специального назначения США. После этого заложников отправили в несколько иранских городов. Лишь благодаря заключенному 19 января 1981 г. при посредничестве Алжира соглашению кризис был разрешен: правительство США согласилось разморозить иранские авуары, а другая сторона, в свою очередь, предоставила оставшимся 52 заложникам возможность 20 апреля 1981 г. вылететь на родину.
20. Праздник Луны — праздник урожая в Китае; отмечается в 15-й день 8-го месяца.
21. …когда Папа Павел посетил населенные католиками Филиппины и исповедовавшего католическую веру диктатора Маркоса — визит Папы в страны Дальнего Востока продолжался с 26 ноября по 5 декабря 1970 г.
22. Когда он экранизировал «Жестяной барабан» — съемки, в которых активное участие принимал также Гюнтер Грасс, производились в 1978 году; в 1979 г. на фестивале в Каннах фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви».
23. Биафра — название самостоятельного государства, созданного населявшей восточные провинции Нигерии народностью або. В ходе кровопролитной гражданской войны, продолжавшейся вплоть до января 1970 г., нигерийские федеральные войска нанесли сокрушительное поражение вооруженным силам Биафры, население которой тяжко страдало от голода и прочих лишений. После окончания военных действий восточные провинции вновь вошли в состав Нигерии.
24. «Римский клуб» — созданное в 1968 г. в Риме объединение руководителей мощных финансовых и промышленных концернов и ученых из более чем тридцати стран с целью поощрить исследования экономической и экологической ситуации в мире.
25. «доктрина Хальштайна» — провозглашенный в правительственном заявлении от 29 сентября 1955 г. и названный так в честь В. Хальштайна главный принцип политики ФРГ в сфере внутригерманских отношений; после 1969 г. она от него отказалась. Доктрина отводила ФРГ право единолично представлять всю Германию на международной арене, что неизбежно влекло за собой разрыв дипломатических отношений со всеми государствами, признававшими ГДР.
И. РозановКРИК ЖЕРЛЯНКИ
Повесть впервые опубликована в 1992 году в издательстве Steidl, Гёттинген (куда Г. Грасс перешел из Luchterhand — Verlag) отдельной книгой и как 10-й том десятитомного собрания сочинений.
В том же году повесть издана на русском языке под названием «Ука». В предисловии, опубликованном в 1-м томе нашего собрания сочинений, отмечалось, что название повести — Unkenrufe — имеет смысловое значение: буквальное — кваканье жаб, жерлянок, и переносное — карканье, предрекание беды. Мы приводим это произведение в том же переводе, но под более адекватным оригиналу названием.
РАССКАЗЫ
Впервые опубликованы в 1968 году в форме литературной мистификации под псевдонимом Артур Кнофф в серии, издававшейся руководимым Вальтером Хёллерером «Литературным коллоквиумом. Берлин» (ЛКБ). Мнимому автору была даже придана краткая биография: «Рассказы Артура Кноффа, род. в 1937 г. в Хиршберге, Силезия, являются его первыми публикациями… Нас (эти рассказы) можно читать вслух. Мы — истории, историйки… Рассказы Кноффа — это истории из повседневной жизни. Они поселены там, где мы живем под своим именем и адресом. Правда, Кнофф ответов не дает». Общественность и критика долгое время не замечали мистификации, пока в 1980 году Клаус Рёлер не раскрыл ее в статье к 20-летаю ЛКБ, опубликованной в книге «Истории из истории ФРГ».
ПОЭЗИЯ
Известно, что, приступая к своим прозаическим произведениям, Гюнтер Грасс зачастую ищет другие формы самовыражения — в графике и стихах, в дальнейшем включая в книги многое из созданного. Так, в преддверии к «Данцигской трилогии» им были написаны и изданы отдельными томиками «Преимущества воздушных кур», 1956 («Die Vorzüge der Windhühner»); «Поворотный треугольник», 1960 («Gleisdreieck»); после «Данцигской трилогии» вышел томик «Выспрошенное», 1967 («Ausgefragt»).
Публикуемые нами стихотворения взяты из этих трех сборников, а также из романов «Палтус» и «Крысиха», — все они были опубликованы на русском языке в сборниках «Вести дождя. Стихи поэтов ФРГ и Западного Берлина», составление В. Вебера. М., «Художественная литература», 1987; «Из современной поэзии ФРГ». Выпуск второй, составление В. Вебера. М., «Радуга», 1988.
Вступительная статья к разделу «Поэзия» Андрея Вознесенского была опубликована, вместе с подборкой стихотворений Гюнтера Грасса в переводе Б. Хлебникова — эта публикация и была практически первым серьезным знакомством русского читателя с поэтическим творчеством Грасса, — в журнале «Иностранная литература», 1983, № 10.
Книжка «Страна-Ноябрь. 13 сонетов» публикуется на русском языке впервые. Оформленная, как всегда, графикой Г. Грасса — к каждому сонету по сепии-рисунку, — книга вышла в марте 1993 года в издательстве Штайдль, под названием «Novemberland, 13 Sonette».
Созданы эти сонеты одновременно (и навеяны теми же мыслями) с публикуемой в этом же томе
«Речью об утратах (Об упадке политической культуры в объединенной Германии)»
(«Rede vom Verlust. Über den Niedergang der politischen Kultur im geeinten Deutschland»), Штайдль, 1992. Речь была прочитана Г. Грассом 18 ноября 1992 года в Мюнхене в рамках проводившейся издательской группой Бертельсман серии чтений «Речи о Германии».
Примечания
1
За и против (лат.).
(обратно)2
В переводе с немецкого «дах» значит «крыша».
(обратно)3
Стопы (лат.).
(обратно)4
Saggittario — итальянский перевод имени Шюца; Schutz по-немецки «стрелок» или «Стрелец».
(обратно)5
«Священные песни» (лат.).
(обратно)6
«О всеблагой, о сладчайший, о милостивый Иисусе» (лат.).
(обратно)7
Жалобы (лат.).
(обратно)8
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)9
Перевод О. Соколова.
(обратно)10
Перевод О. Соколова.
(обратно)11
Перевод О. Соколова.
(обратно)12
Без сопровождения (итал.).
(обратно)13
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)14
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)15
Перевод О. Соколова.
(обратно)16
Перевод О. Соколова.
(обратно)17
Перевод О. Соколова.
(обратно)18
«Священные симфонии» (лат.).
(обратно)19
Перевод Л. Гинзбурга.
(обратно)20
Перевод О. Соколова.
(обратно)21
Стажер на государственной службе (нем.).
(обратно)22
В Германии так называется должность преподавателя полной средней школы и гимназии.
(обратно)23
«Поможем вместе» (нем).
(обратно)24
Сокращение от Северный Рейн — Вестфалия.
(обратно)25
Прозвище сотрудников министерства государственной безопасности ГДР.
(обратно)26
Индонезийский национальный оркестр, в который входят в основном ударные инструменты.
(обратно)27
Эрнст Кассирер (1874–1945) — нем. философ, один из представителей марбургской школы. Эмигрировал из Германии в 1934 г. Разрабатывал философию символа. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)28
Эрвин Пановски (1892–1968) — нем. историк-искусствовед. Был профессором в Гамбурге. В 1933 г. эмигрировал в США.
(обратно)29
Аби Варбург (1866–1929) — нем. искусствовед и культуролог. На основе его библиотеки в Лондоне создан Варбургский институт искусствоведения.
(обратно)30
Айнтопф (нем.) — густой суп, заменяющий одновременно и первое, и второе блюда.
(обратно)31
«еще немецкого пива» (англ.).
(обратно)32
«Хитроумная!» (англ.).
(обратно)33
Штеффенс Хенрик (1773–1845) — немецкий философ и натуралист.
(обратно)34
Траугутт Ромуальд (1826–1864) — один из руководителей Польского восстания 1863–1864 гг. Казнен по приговору царских властей.
(обратно)35
Ходовецкий Даниэль (1726–1801) — художник и график. С 1797 г. директор Берлинской академии. Создал более двух тысяч гравюр к произведениям Лессинга, Гёте, Шиллера, Клопштока и др.
(обратно)36
Гевелиус Иоханнес (1611–1687) — один из самых известных астрономов своего времени.
(обратно)37
«Четтерджи: обзорные экскурсии» (англ.).
(обратно)38
«В старушке-Германии» (англ.).
(обратно)39
Нотке Бернт (1440–1509) — художник, автор многих церковных росписей, в т. ч. знаменитого фриза «Пляска смерти».
(обратно)40
9 октября 1989 года в Лейпциге состоялась семидесятитысячная демонстрация протеста, крупнейшая после июньского восстания 1953 года.
(обратно)41
Бойс Йозеф (1921–1986) — немецкий художник и скульптор.
(обратно)42
От слова «Unke» — жерлянка (нем.).
(обратно)43
Бюргер Готтфрид (1747–1794), Фосс Иоганн Генрих (1751–1826), Брентано Клеменс (1751–1826) — немецкие поэты-романтики.
(обратно)44
Арним Ахим (1781–1831) — немецкий поэт-романтик.
(обратно)45
Здесь: ночь на Ивана Купалу — 24 июня.
(обратно)46
В Штутхофе (польск. — Штухово) был устроен концлагерь, в котором за период с 1939 по 1945 гг. погибли 85 000 заключенных.
(обратно)47
Цитата из «Фауста», восходящая к словам Евангелия от Иоанна (12.24).
(обратно)48
© Журнал «Иностранная литература», 1983
(обратно)49
© В. Санчук, перевод на русский язык, 1997
(обратно)50
День поминовения усопших (у католиков второй день праздника Всех святых, 2 ноября).
(обратно)51
У католиков: предрождественское время (начинается с четвертого воскресенья до Рождества)
(обратно)52
Цыгане. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)53
Игра слов, связанная с названием знаменитой пьесы Макса Фриша «Бидерман и поджигатели». Слово «Бидерман», используемое у Фриша как фамилия с определенным смыслом, означает «обыватель», «простой человек», не лишенный порой лицемерия.
(обратно)54
Имеется в виду Вилли Брандт, ставший на колени перед памятником на месте Варшавского гетто.
(обратно)55
Речь идет о событиях в Восточном Берлине 17 июня 1953 года.
(обратно)56
Официальная должность Иоахима Гаука (бывшего пастора в Ростоке, ГДР) именуется «Федеральный уполномоченный по вопросам документов Министерства безопасности бывшей ГДР».
(обратно)57
Имеется в виду Данциг, где родился Гюнтер Грасс.
(обратно)58
Имеется в виду Западный Берлин, тогда еще отделенный стеной от столицы ГДР.
(обратно)59
Имеется в виду лозунг немецкого объединения: «Германия, единое отечество!»
(обратно)


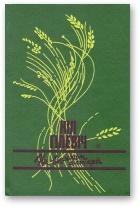


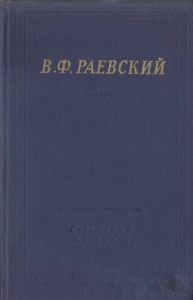
Комментарии к книге «Встреча в Тельгте. Головорожденные, или Немцы вымирают. Крик жерлянки. Рассказы. Поэзия. Публицистика», Гюнтер Грасс
Всего 0 комментариев