Лирика, голос (fb2) - Лирика, голос 201K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Мария Михайловна Степанова
Мария Степанова
Лирика, голос
«Вот она весна, и все шелушится…»
Вот она весна, и все шелушится,
Умывается, умиляется, копошится.
Колоба-коробочки, щеки картошки,
Белень-зелень, мусор и крошки.
Наступает апрель и колется мелкими
Полуголыми стрелками,
Все мелками расчерчено – райда-райда,
Все зеленым наперчено, рада? Рада.
Птички
снесли яички.
Мухи
нагрели брюхи.
Пробегают сутулые молодухи,
крещены и в воде, и в Духе.
Будем яица красить,
полы-углы пидорасить.
Будем, как те полевки —
изюмчатые поклевки, сладчайшие башни пасхи,
булочки, сыр, обновки.
Это все будет у нас перекроено,
вынуто, выделено, устроено.
Там, где надо, утроено, чтобы хор.
Там, где надо, немой и прямой пробор.
Будем жить-поживать, как Маша с медведем.
Здесь поставим кровать.
Никуда не уедем.
Это мне говорила
Маша, егда курила.
А сигарету бросит —
Пойдет и меня не спросит.
«Балкон, какое-то апрель…»
Балкон, какое-то апрель,
Тепло течет, как карамель,
А птичий причт и женский причет
В ушные скважины мурлычет.
То листья брызжут в провода
Фонтанчиками питьевыми.
То люди ходят хоть куда
Обходчиками путевыми.
А я как малая собачка,
Забывши, что жена и мать,
Пытаюсь голосом пролаять,
Пытаюсь ножку поднимать.
а) «Небо вражье, небо дружье…»
Небо вражье, небо дружье,
Твой подол в глубоких ранах
Пахнет до головокружья
Мертвым, мерзлым табаком
И черемухой в нечесаных баранах,
Чисто вылизанных теплым языком.
Через комья выбегает сорное:
Боязливое, нахрапистое, вздорное,
Мутноглазое, нетвердое, голодное.
Солнце светит тайное, холодное —
Вот тебе снова – дцать.
Можешь ходя-бряцать,
Спя-прорицать,
Сок истицать.
На спине, очищенной от тины,
Наросли прозрачные пластины.
б) «Боже, Боже, что нам делать?..»
Боже, Боже, что нам делать?
Нам уже не шесть, а девять,
Жизни жидкое рядно
Прервалось – и видно дно.
Дно донское, день-деньское,
Ключ прохладен, ключ горяч.
Моет ноги городское,
Приседая враскорячь,
По нагретому, по желтому песочку
Ходит-водит новоявленную дочку,
Привстает к ним рыба на хвосте,
Будто серый пламень на кусте.
Дочку кормят грудью,
Говорят ей: Груня!
Груня понимает,
Руки поднимает,
Из-под небного свода воскового
К нам выкатывает царственное слово.
«Сонные здания…»
Сонные зда —
ния.
Перекрикивая поезда,
Мелкая скачет птица,
Наводняется борозда,
Вдоль которой хочу пуститься.
Да, я знаю свой год издания
И видала свои страницы.
Человек, стою как теплица,
Запотели стеклица смотровые,
Растения в ней живые.
Печки, почки, рифмоузлы
В молоке, как в постели —
Еле видимы в теле,
Простотелы и то ли немы,
То ли злы.
А там, где недавно бежало, сегодня лежало
И мокрыми линзами свет, как могло, отражало,
Не спит половик-полосат.
И в люльке младенец носат.
«Было, не осталося ничего подобного…»
Было, не осталося ничего подобного:
Сдобного-сьедобного, скромного-стыдобного.
Чувства раздвигаются, голова поет,
Грязно-белый самолет делает полет.
Ничего под праздники не осталось голого:
Ты держись за поручни, я держусь за голову,
У нее не ладятся дела с воротником,
И мигает левый глаз поворот-ни-ком.
(Горит золотая спица,
В ночи никому не спится.
– ЮКОС,ЮКОС,
Я Джордж Лукас.
Как вам теперь – покойно?
Что ваши жены-детки?
Все ли звездные войны
Видно в вечерней сетке?
Спилберг Стиви,
Что там у нас в активе?
Софья Коппола,
Где панорама купола?
Ларс фон Триер,
Хватит ли сил на триллер?)
Летчица? наводчица; начинаю заново,
Забываю отчество, говорю: Чертаново,
Говорит Чертаново, Банный, как прием?
Маша и Степанова говорят: поём.
А я ни та, ни ся, – какие? я сижу в своем уму,
И называть себя Марией горько сердцу моему,
Я покупаю сигареты и сосу из них ментол,
Я себя, как взрывпакеты, на работе прячу в стол,
А как стану раздеваться у Садового кольца —
С нервным тиком, в свете тихом обручального кольца —
Слезы умножаются, тьма стоит промеж,
Мама отражается,
Говорит: поешь.
«И-го-голос пророс…»
И-го-голос пророс
Покатать глагольное.
Меж коммерческих роз —
Вёдро колокольное.
Кончилась засуха,
Наступила Пасха,
Позвонками пробегают
Ласка и опаска.
Мало сна,
Но весна красна,
Что ни зуб у черемухи – белый клык,
И открыты воздушные ложесна,
Мутно-нежные, как балык.
В тридцать лет
Мало мне было лет.
В тридцать три
Было дите внутри.
В тридцать пять
Время пошло опять.
В тридцать шесть
Время себя доесть,
Вычерпать свою голову
Ложкой столовска олова,
Чтобы в нее налили нового пива
И доливали снова после отстоя,
Чтобы она, словно та олива,
Не зимовала сизою и пустою,
Чтобы в зрачке, как солнечный свет в ботинке,
Самостояли хоть софринские картинки,
Много-цветные,
Не то, что иные.
«Банный день стеклу и шинам…»
Банный день стеклу и шинам.
Юбки флагами с балконов.
Летний воздух с тихим шипом
Выпускают из баллонов,
Он линяет, все меняет,
Он проемы заполняет,
Человекоочертанья в нем, как шарики, висят —
Зоны мертвого живого
Года с семьдесят второго,
Года с пятьдесят восьмого
Ни фига не отражают, а висят-не-голосят
Наподобие холодных магазинных поросят.
Эфтим супом я, бывало,
Наедалась до отвала,
В нем и плавала, и плакала-солила, и спала.
Плошка – новою была.
А когда в такой пробел заедешь локтем,
Попритронется к тебе прохладным когтем
Эта общая священная могила,
Лета всехнего бесхозное ложе,
Вороватая поддатая малина,
Социальная бесплатная одежа.
Топлая младость,
Пузырями радость,
С прадедами-дедами равная скамья —
Лета, любовь моя.
«Голова – ноги – голова – руки – голова…»
Голова – ноги – голова – руки – голова
Что-то, кувыркаясь, выгова,
Требует старинные права,
Они – многи.
– Как слечу, птицей полечу
Над просторами, свиставшими в груди,
Покупать в любом ларьке по калачу,
Только, тело, ты ладони отведи.
Соскочу, волей покачу,
Косогорами оттаптывая бок,
Огненной пустыни по плечу,
Ледяной долины на лобок.
Я ли, скажи, не колобок?
Бог по сусекам заметал,
Ставил дойти на холодок,
Клал отогреться на металл.
Я – от прабабушки исшел,
Я – от прадедушки исшел,
Я из родительского теста
Взял, что годится, и пошел.
Все расточил,
Лег-опочил,
А просыпаюсь —
Весь осыпаюсь.
Мне пора, я домой
Со страны далече,
Если, тело, ты слегка поослабишь плечи.
Тело же в ответ: милый сын,
Как тогда, всегда: ай лав ю.
Вот тебе нетленной красы
Перстень дедовский —
На руку мою.
«Каждая тварь в нашей округе…»
Каждая тварь в нашей округе
– Цветочна, древесна, кустова —
Стоит на ноге, в ледяной подпруге,
И выхода ждет простова.
Сирень набирается пороху
И крупного синего праха,
И низко проносится – пó руку —
Дыхание смертного страха.
Ива стоит растопыра,
Разбитая, как корыто:
Раззява и простодыра,
Но крестиками покрыта.
Вся дворовáя ботаника
Числится переселенцем,
Просит нелишнего пряника,
Спит под одним полотенцем.
Воздуха мало-мало,
Синь горяча, как сыпь.
…И как упоительно пахнет бензином, мама!
И как удвоительно пахнет бензином, сын.
«В небе праздничном, безразничном, фольговом…»
В небе праздничном, безразничном, фольговом,
В небе жгучем, незапамятном, фольгучем
Видно лестницу, приставленную к тучам,
Сверху донизу исхоженную словом.
И одное семенит,
А другое голосит,
А мое на перекладине качается-висит,
Еле держится,
Скоро сверзится.
Побегут к нему товарищи с расспросами,
Безъязыкими, равно – разноголосыми,
С клекотом, с кряктом:
Как оно? как там?
А в ответ, как колокол, мычат без языка:
– С пятой перекладины такая ммузыка!
«Поезд едет долгой белой горкой…»
Поезд едет долгой белой горкой,
Вдоль нее березки и парковки,
В более не бывший город Горький
Мимо в землю убежавшей Салтыковки,
Мимо улицы Железно-внедорожной,
На нее вовек уже не выдешь,
Взгляд не кинешь на ее порожний,
В трех прудах колом стоящий Китеж,
Cкорый продолжается с повинной,
Тянется-не-рвется пуповиной.
«Ива нежная, шерстистая…»
Ива нежная, шерстистая,
Нас не меньше шестиста
У фисташкового прудика,
У чугунного моста.
Как дома многоквартирные,
Мы поставлены рядком —
Выстрелы грохочут тирные,
Ходят запахи сортирные,
Гром щекочет языком.
Я хотела бы – пожала бы
Руку парку и воде
И дослушала бы жалобы,
Продолжаемые где?
Где твоя-моя прабабушка
Проявляются в любом,
Как мелькающая бабочка,
Платье белом-голубом.
«Что помяни…»
Что помяни,
Того несть.
Снедь – есть, нефть есть,
Кровельная жесть есть,
Одичалая с подпалинами облачная шерсть.
Мне сосед сказал по пьянке,
Что в Москве видали танки:
Они старые, усталые, таких уже не носят —
То одышка, то испарина, то ржавчина, то проседь,
Ходят скромные —
Время темное.
Под Москвой,
Под землей Москвы,
Тоже домы, водоемы, остановочки и рвы.
Там целуются под елками
Подземельцы с подземёлками,
Львы подземные
Спят стозевные.
Над метро
Есть еще метрей —
Много выше и устроено значительно хитрей —
С поездами многоконными, со стеклянными вагонами.
Там душа играет лещиком
И до раннего утра
По составам крутят Лещенко,
Льва меняя на Петра.
Ветры тихие
Липнут к кофточкам,
Но туда не всех пускают, а по карточкам.
Над Москвой,
По-над крышечкой,
Ездит всадник золотой с медной шишечкой,
Тычет копием вслед холопиям,
Конь пугается, фырчит, отодвигается.
Выше плечика,
Дальше плащика —
Небо русское:
Многим узкое.
«Хру-сталь. Стек-ло. Фар-фор. Фа-янс…»
Хру-сталь. Стек-ло. Фар-фор. Фа-янс.
Не задевать. Не кантовать.
Семейное имение пошло в последний пляс:
Трельяж. Диван. Кровать.
Где было место свято, там стало место лысо.
Извозчики и грузчики прогулки заждалися.
На руках, в черновиках,
По коробкам, в ящиках,
В береженых черепках
И уральских ящерках,
В глаженых, залежанных,
С желтым-кружевом
Наволочках сложенных.
То-то заживем! —
Не мое приданое,
Родовое, давное.
Сковорода, сковорода, за скороваркой самовар
Теряют плоть, теряют жар, переезжают навсегда,
Меняют вес – со мной и без.
Тут был сирень. Тут был мигрень.
Селедчатые тополя
Висели косо, набекрень,
И пухом им была земля,
Шурум-бурум, бала-бала,
Вступай, не-я, где я была.
А я – иди, где буду я,
Как занавеска драная,
Светить сплошными дырами
Между двумя квартирами,
Не ветхим рубищем —
Нарядом будничным:
Между живущим будущим
И прошлым любящим.
Песня
В месте злачне-покойне
На пустой колокольне
Под девятое мая
Хорошо-высоко.
Видно дачные сотки,
Сталинские высотки,
Видно всякие виды,
А себя не видать.
Скажет баба солдату:
Кем мы были когда-то,
Под девятое мая
Я сама не пойму.
Дырки, словно на терке,
На твоей гимнастерке,
У моей телогрейки
Руки обожжены.
Как летят самолеты,
Как идут пароходы,
Мы встречаем у трапа
Каждый новый этап,
И у каждого трапа
Нас встречает Утрата
И утроба Утраты —
Как родительский шкап.
…Он ей не отвечает,
Он в ответ промолчает,
Рукавами качает
Он, ключами звеня,
И ложится без боли
На убитое поле
Тень победы, отставшей
От Георгия дня.
«Вот в тетради, лета ради…»
Вот в тетради, лета ради,
Словно в зоопарке,
Все пингвины, тигры и медведи
В праздничной запарке.
Пересчитываются,
Перечитываются,
Рыкают да ищутся в собственной шерсти,
Ищут себе равного время провести,
Время верное, очень длинное,
Лебединое, журавлиное —
Много дольше напечатанной книжицы,
Где они стоят, а оно движется.
Они в ряд стоят, как бы кубики.
А кругом такой внеуют,
Словно мы в полутемном клубике,
Где читают и есть подают.
«Женское. Бабское…»
Женское.
Бабское.
Из-под-сарафанное.
Рабское. Баское. Деревянное.
Ситчик-голубчик, розовый рубчик,
Дурной – да родной, как зубная паста.
Довольно одной.
Баста.
Я общим бессознательным прикроюсь, как сознательным,
Я общим одеялом укроюсь, как своим,
Укроюсь, как своим —
И буду ма-лы-им?
И малыим, и белыим, и страшным, и дебелыим,
Малявинскою бабой с чугунною губой,
Золовкою коварной, цистерною товарной,
Заслуженной коровой, ведомой на убой.
И каждой,
И любой.
Мой компас земной,
Упорное «больно»:
Довольно одной.
Вольно.
«Я салюта не видела…»
Я салюта не видела.
Я салюта не видела!
Я салата не резала
И балкона не вымела;
Слыша громы недальные
Как бы официальные —
Те, что ходят не шпалами,
А колонными залами,
Не вставала из кресла я,
И увидела полыми
Эти стены воскреслые
В сине-розовом полыме,
И ура многодонные
Тщетно шли Воробьевыми,
И черты наладонные
Мне казались паевыми.
Жизнь в рту была паклею,
Сном, куском с недовескою,
Той уменьшенной пайкою
Иждивенскою-детскою,
Раз досюда не дожили
Те, что все-таки дожили
И узнали, что выжили
Все – и те, что не выжили.
Раз не знаю я, сдюжу ли,
И не знаю, увижу ли.
«– Ходили за линию, взяли языка…»
– Ходили за линию, взяли языка,
А он уже без языка.
Все, что он может издать, язык,
Крик бараний да зверский зык,
Птичье кря да русское бля.
И ни до-ре-ми, ни ля.
Никаких последних вестей,
Ни очертаний чужих частей,
Ни секретных кодов,
Ни потайных ходов.
Отпусти его, что ли,
Пусть побежит на воле.
«Ночь обливная…»
Ночь обливная —
Свежая отбивная,
Перевернешь – и зашипит ужом.
Жизнь, какую не знаю,
За каждым запертым гаражом.
Холодно, да и ладно,
Давай считаться: первый-второй —
Я не буду железной дорогой,
Ты виноградником и горой.
Виноградники обмелели,
Палки в небо торчат.
Те леса, что не околели,
Скрывают своих волчат.
Я хотела бы, как хотела:
Раз и два на твоем веку
Применить свое человекотело
К южнонемецкому городку,
Который сверх-человечен —
Гора голова, и река рука,
И так тобою засвечен,
Что хватит на все века.
«Кому дачу дали…»
Кому дачу дали,
А кому медали,
А мои кому-то дачу продали – и дале.
С молотка пошла моя обломовка,
В пять окон дощатая дешевка,
Где и яблоня была антоновка,
И другая яблоня грушевка.
Юности в невинной и косматой
Я гуляла здешнею царицей —
В облаках младенческого мата,
Вне дозора внутренних полиций.
Так ли пьяный рынка на задворках
Все кудахчет, чая мордобоя,
А судья как барыня в оборках —
И белье под платьем голубое.
Кому дали дачу,
А кому на сдачу
Столько выделили рая,
Что сижу и плачу.
«В каждом парчике, на всяком бульварчике…»
В каждом парчике, на всяком бульварчике
Девки-ласочки катают колясочки,
Ходят пары, выбирают подарочки,
Покупают каолиновые масочки.
А в составе каолина —
Глина, глина, глина, глина,
Клетки тела, вечный хлеб,
Очень общий отчий склеп.
У пруда над лаптопами скайперы
С третьим миром ведут разговорчики.
На Мясницкой по крышам снайперы,
Пляшут пальчики на затворчике.
К ин-агу (агу! агу!) – к ин-аугурации
Шелестят дежурные рации,
Горожане в обнимку с плакатами
Сожимаются стальными пикетами.
Ребенок плачет, агу, агу,
Светила светят, нутро мурлычет,
Москва стоит, ярославна кычет,
Иду, куплю творогу.
Сегодня больно богатый выбор,
Как будто город доел и вымер.
«Топ-топ, шоп-шоп…»
Топ-топ, шоп-шоп,
Старый девичий озноб.
Дайте мне немного денег,
Чтобы стало хорошо б!
За хрустящие пакетики,
За цветные этикетики,
За акриловые гладкие алым лаком ноготки —
И за гладкий бок,
И за гладкий лоб,
За воронку тупой тоски.
Плохо живется женскому живому,
Женскому живому трудно выживать.
Лучше живется дому нежилому,
Бо нежилое труднее прожевать.
Никакая старость, никакая страсть
Ничего не могут более украсть.
Никакая нежить, алчущая жить,
Ничего не в силах более вложить
В то, что стало достоянием тления,
То, что стало состоянием таяния,
В уплывающие очертания,
Тело тления – дело пения.
«Суббота и воскресенье горят, как звезды…»
Суббота и воскресенье горят, как звезды.
Шипит и пенится бузина.
У железнодорожного переезда
Общественная стена.
За нею плит сырые во мгле холсты
И лунная вишенка
И мелко-мелко ставимые кресты
Теснее, чем вышивка.
Сюда собакам желтым легко трусить,
Старухам чесать песок,
Огромным женщинам биться и голосить
И в камень втирать висок.
Но это дни, одинаковые, как пни,
Как пара моих колен:
Одно глазеет на солнце, второе лежит в тени,
И то, и другое – тлен.
Но это ночи, когда посреди оград
Рятует народ крапив
И ласковый май заходит в свой вертоград,
Слезой его окропив.
А между ночью и днем, рукой и рукой
Тысячесвечный, нечеловечный, вечный
Покой.
«Паникадило растет, как древо…»
Паникадило
Растет, как древо – корнями в купол.
По-над руками,
По-над платками, воротниками.
По-над плечами,
И храм стоит, как пирог огромный,
Вовнутрь свечами.
Народ теснится,
И за спиною
– До Херувимской, за Херувимской —
Людская масса
Воды и духа, души и мяса
Стоит стеною, морской волною,
А я в толпе со стыда сгораю,
Зане лицо у меня свиное,
И это знаю.
Но сердце тоже подходит к Чаше
И возвращается – вряд ли краше,
Но именины
Неотменимы.
Жизнь жительствует,
Портной шительствует.
«Зелень-зелень, моя птица…»
Зелень-зелень, моя птица,
Хорошо ль тебе шумится,
Тополь, движимая медь,
Высоко ль тебе лететь?
Чадо вывозим, скарб собираем, лето на даче проведем…
Мы объявлений не читаем, мы ничего не ждем.
«Сдам славянам».
«Только приличным».
«Не больше трех человек».
Нужен ужин, вечер нужен, нужен ночлег.
«Толпе не беспокоиться».
Как оно устроится?
На кров и кровать
Нельзя уповать.
Вот мы, толпа во три человека,
Ложнославянск и малоприлич,
В долине меда и млека,
Где красный растет кирпич.
Растет и зреет в землице жирной,
Цветет шлагбаум, поет дежурный
И под лужеными небесами
Заборы светятся чудесами —
А там, над травой летая,
Где яблонная пыльца,
Собачка, как запятая,
Прокидывается с крыльца!
«А выходишь во двор, как в стакане с простой водой…»
А выходишь во двор, как в стакане с простой водой,
Помолчать к ларьку с пацанами,
Попрочистить горло вином и чужой бедой
Под родительскими стенами.
Да и в офисе, в опенспейсе,
Хошь ты пей ее, хоть залейся.
Как посыплют клерки к выходам ровно в семь,
Галстук скошен на тридцать градусов.
Как стоят курить, и тополь кивает всем,
От директора до автобусов.
Как стекло, столы и столы и опять стекло,
Как свело от скулы до скулы и опять свело,
А кофейна машина доится
И гудит-гудит, беспокоится.
Что-то стала я благонамеренная
Каша манная, ложкой отмеренная,
А на дне, как во львином рву,
Я себя на платочки рву.
Белые платочки, помойные цветочки
У киоска «Куры гриль», где дошла до точки.
«Памятник-помятник, сколько тебе ден?..»
Памятник-помятник, сколько тебе ден?
Только что построен, только возведен.
Под ногою нежное, под другою нужное,
Сто четыре станции в глубину земли —
Брестская-Литовская, Трудовая-Южная,
А одну-последнюю только возвели.
Там в футбол играют, скрипочки пилят,
Радоваться, радоваться
Всякому велят.
Золотые идолы
Разные на вид —
Один евровиден,
Другой зверовит.
Стены зеленыя, в них тархун-вода,
Очень популярная в старые года —
Караси гуляют, блещут газыри,
Разовые дамочки пускают пузыри.
Лаковая плазма
Светит до оргазма —
Ночи напролет
Вести выдает.
Новости культурные, кулинарные, физкультурные,
Красные, голубые.
Выбирай любые.
«Пишет, как дышит…»
Пишет, как дышит.
Ходит, словно ест.
Началась охота к перемене мест.
Из любой коленки, словно из березы,
Из беленой стенки, за которой речь,
Прыснут при нажатии маленькие слезы,
Знающие прыгать более, чем течь.
Ртутные, минутные, с быстрым серебром,
Зреющие жемчугом под левыим ребром.
Кожаные сумки пучат животы,
Разминают внутренности, разевают рты.
Я ли им собственник, я ли им не родственник —
Кожаный, некаменный, дышащий мешок,
Где едва ли голоса больше, чем кишок.
Люди ушли в халаты.
Ложки вошли в салаты.
Звери, водя руками,
Дремлют половиками.
Я на пустом балконе
Вою, как молодуха,
Как во пустом флаконе
С тенью былого духа.
«А еще гремучи-бегучи…»
А еще гремучи-бегучи
Воды городского дождя
Огибают мусорны кучи,
Навсегда в асфальт уходя.
И над ними вечер-суббота
Шире, чем в иные года.
Погоди, моя ты свобода,
Безразмер-на-я слобода.
«У меня в голове…»
У меня в голове
На продавленной траве
Город Эм, город лже,—
Как машина в гараже.
Таганка,
На хвост консервная банка,
Голуби, голубятники, козла забивают козлятники,
От праздничного пузыря
Идут по домам слесаря.
Метро Колхозная
Давно бесхозное,
Яицо надбитое, лицо без речей,
Расширяет площади, просит кирпичей.
Площадь Трубная, злая, бухая, трупная.
Маяковка ясная, как подковка.
Вот и Пятницкая, голая, как привратницкая,
Поварская, теплая, как людская.
А при тебе, Покровка,
Мне и дохнуть неловко.
Слишком приютен садик Милютин
(С бывшим фонтаном – бил мимо рта нам),
Страшен и розов скверик Морозов
С бывшим каштаном широкоштанным.
Открывай ворота, расстилай кровать,
Вынимаю музыку – будем танцевать!
Мой, мой огород —
Все растет наоборот!
Точка, точка, тире,
Вузовский, Хохловской —
В развеселом дворе
С вывеской столовской.
На первое суп, суп, во второе круп, круп,
И язык дрожит, как стрелка, поперек соленых губ.
А в Банном переулке
Давно не видно бань.
А в Банном переулке
До света баю-бай.
И, простодушный как ангелок,
Несмысленный шар воздушный
Лезет под потолок.
«Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит…»
Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит,
Нарастит когтей – и карабкаться в вертикаль.
Он ворона вороной, но в ухе его звенит,
Как будильник, обезумевший нахтигаль.
А еще самолет-самоед набирает лет.
Очевидны ему облаков твоих вороха,
Под крылом его – виноградом отвесный лед
И приморская степь не менее лопуха.
Выбираешь точку – ставь перпендикуляр,
Под высокие вольты, словно монтер, залазь —
Хорошо ли гудит чугун и сидит школяр,
Пробивается завязь, наживку берет язь?
Далеко в поднебесье ноге говорит нога:
Послужили с тобой – и отправлены на юга.
А еще повыше рука говорит руке:
Подержи мои пальцы в своем ледяном мешке.
А над ними, ухо и ухо соединя,
Заслоняет лицо улыбка седьмого дня.
9 июня 2008
Такою ли меня ожидала мать,
И прадеды, и прабабки, и вся родня?
Едва голова научится понимать,
Она обернется к ним помимо меня.
Ты утло, утро рожденья, безлюдный стол,
Скатерка, сыр, и видит уснувший сын:
Родные мои стоят надо мной как стон,
Не мною, а их обедом он будет сыт.
Я влага, какую род и нальет, и пьет,
Двусложный его безмасленный бутерброд,
И если ты уйдешь, отирая рот,
Ты будешь прав, – у меня не осталось прав.
Но праздник – вот, без имени, как шпион,
Он щелк да щелк, не хочет уйти к себе,
Пока растет на воздушных дрожжах пион
И я за дверью пою в водяном столбе.
А я при своих пою в огне водяном,
Что поле зрения стало Бородином,
Зеленым флагом внутреннего сгорания.
Июнь, июнь; бывало и ранее.
«Вот возьму да и не буду…»
Вот возьму да и не буду
Я сейчас писать стихи.
Вот возьму да и не стану
Ни за что стихи писать.
Я не Дмитрий Алексаныч,
Дмитрий Алексаныч умер,
Я не Александр Сергеич,
Александр Сергеич жив.
При лице литературы
Вроде я колоратуры,
Вроде я фиоритуры —
Волос-голос-завиток,
Электрический фонарик,
Быстрый и неровный ток.
Дух сирени как подсвешник,
Над которым я сгораю —
Дух табашный, шелк рубашный,
Тело, видевшее вид —
Так бельишко, что стираю,
Прохудиться норовит.
(Птица кличет: тыц! тыц!
А еще: не спи, не спи!
В ближнем небе много птиц
На невидимой цепи.)
Я семейная программа,
Ускоряющая ход,
Круговая панорама,
Одержимый пароход.
Никогда и не бывала,
А теперь ударил час,
Молодою и глупóю
Я такою, как сейчас.
Оглавление
«Вот она весна, и все шелушится…» «Балкон, какое-то апрель…» а) «Небо вражье, небо дружье…» б) «Боже, Боже, что нам делать?..» «Сонные здания…» «Было, не осталося ничего подобного…» «И-го-голос пророс…» «Банный день стеклу и шинам…» «Голова – ноги – голова – руки – голова…» «Каждая тварь в нашей округе…» «В небе праздничном, безразничном, фольговом…» «Поезд едет долгой белой горкой…» «Ива нежная, шерстистая…» «Что помяни…» «Хру-сталь. Стек-ло. Фар-фор. Фа-янс…» Песня «Вот в тетради, лета ради…» «Женское. Бабское…» «Я салюта не видела…» «– Ходили за линию, взяли языка…» «Ночь обливная…» «Кому дачу дали…» «В каждом парчике, на всяком бульварчике…» «Топ-топ, шоп-шоп…» «Суббота и воскресенье горят, как звезды…» «Паникадило растет, как древо…» «Зелень-зелень, моя птица…» «А выходишь во двор, как в стакане с простой водой…» «Памятник-помятник, сколько тебе ден?..» «Пишет, как дышит…» «А еще гремучи-бегучи…» «У меня в голове…» «Тополиный пух наберет крыло и давай в зенит…» 9 июня 2008 «Вот возьму да и не буду…»
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


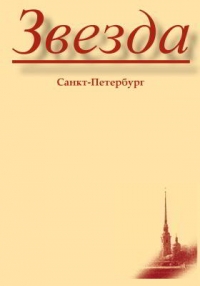


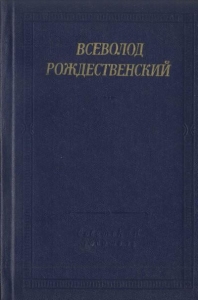
Комментарии к книге «Лирика, голос», Мария Михайловна Степанова
Всего 0 комментариев