Маргарита Агашина Бабья доля (сборник)
© Агашина М. К., наследница, 2014
© Каплер А. Я., наследница, 2014
© Агашина Е. В., составление, 2014
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Маргарита Агашина – о себе
Я родилась 29 февраля 1924 года в Ярославле. У нас, на левом берегу Волги, не было высоких городских зданий. Деревянные домики с палисадниками, со скамеечками у ворот, дворы, заросшие густой муравой, – раздолье ребятишкам. Отец мой тогда ещё учился в медицинском институте в Ленинграде. Мама работала, каждое утро уезжала за Волгу на маленьком пароходике «Пчёлка».
Помню первую песню, которую услышала: я лет до трёх без песен не засыпала, и вот бабушка, не имевшая никакого музыкального слуха, укачивала меня одной-единственной песней:
Все платочки приносила, одна шаль осталася. Всех хороших прилюбила, одна шваль осталася.Такой же бесслухой была и мама, но она же научила нас с сестрой взрослой песне:
Спускается солнце за степи, вдали золотится ковыль…Вспоминаю первые стихи, над которыми горько плакала, – «Орина, мать солдатская». Я ещё не умела читать и только слушала. И вот мама доходила до строк:
Мало слов, а горя реченька, горя реченька бездонная…И тут я каждый раз заливалась слезами. Некрасова дома читали много. Все любили его и даже тихо гордились тем, что мы, как и он, ярославские: мы же происходили оттуда, из некрасовских мест, отцовская деревня Бор – рядом с Грешневом. О Некрасове и его стихах у нас всегда говорили с восторгом, нежностью. Я благодарна за это своей семье и судьбе. Потому что уверена: если бы в детстве я вот так же сильно полюбила другого поэта, я писала бы потом совсем другие стихи. А может быть, и совсем не писала…
Оба моих полуграмотных деда стихов не писали, но были, по-моему, поэтами. Дед по матери – Иван Большаков, по деревенскому прозвищу Ванька Мороз, был весёлым, лихим парнем. Отслужив службу в царской армии, он вернулся в родные места только затем, чтобы жениться, и сразу уехал в Москву. Бабушка, кстати, говаривала, вспоминая: «Я и замуж-то вышла не за Ваньку Мороза, а за Москву». Дед служил дворником, рассыльным, кондуктором на железной дороге. Однажды, получив новую форму, на изнанке фуражки он написал: «Не тронь, дурашка, – не твоя фуражка!» Дед по отцу – Степан Агашин – в сосновый порог своего дома вбил подкову – верил, наверное, что принесёт она счастье его детям. Детей было восемь, и на всех одни валенки.
Я думаю: вот от той озорной фуражки и от печальной этой подковы и пошла моя судьба.
Дед Иван в своё время всеми правдами и неправдами сумел добиться, чтобы его дочь – моя мама – бесплатно окончила гимназию и стала учительницей. Отец же, врач, получил высшее образование один из всех своих сестёр и братьев и, конечно, при Советской власти. Он прошёл в своей жизни четыре войны: рядовым солдатом – Гражданскую, был ранен в 19-м году в местечке Гнилой Мост под Витебском, потом, уже военным хирургом, Финскую и Отечественную – от июля 41-го и до окончания войны с Японией.
Привольное было у меня детство, хоть и в городе я родилась. Каждое лето ездили мы в Бор. И как же всё это помнится! Воблой и рогожей пахли пристани, на Бабайках покупали нам землянику – от неё белое молоко в тарелке становилось то голубым, то розовым. Пароходик шлёпал колёсами; у берегов, по колено в воде, стояли коровы – белые морды, чёрные очки. А там – Красный Профинтерн, четыре версты до Бора. Отцовский дом, огород, чёрная баня, за огородом луг – ромашка, иван-да-марья, колокольчики, а по лугу – речка Ешка, полтора метра шириной…
Потом мы перебрались на Среднюю Волгу, в теперешнюю Пензенскую область. И опять рядом красота: поляны незабудок, дубовые леса и осинники, полные грибов, заросли папоротника, а в них, под каждым кружевным листом, земляника, – не ягодка-две, а сразу пригоршню наберёшь.
Затем жили мы далеко в Сибири, в тайге, в центре Эвенкийского национального округа, на фактории Стрелка Чуни. Отец зиму и лето кочевал по тайге с охотниками и оленеводами. Мама учила эвенкийских ребят в первой, только что открытой, школе. Над входом в школу – там, где теперь обычное «Добро пожаловать!», – висел плакат: «Рыба, пушнина, финансы, ликбез – вот четыре боевых задачи второго квартала». Запомнились наши дороги – зимой, на оленях через всю тайгу, от Стрелки до Туры. Ехали недели. Везли мешки мороженых пельменей. Ночевали в палатке.
В те детские годы много я видела красоты – и среднерусской, и северной, таёжной. И люди рядом были прекрасные – простые, добрые, верные. Твёрдо знаю: там, на Севере, я впервые была счастлива оттого, что все были вместе. Всё это и сейчас помню.
Но как-то так шла судьба и складывался характер, что не вся эта разная, счастливая, щедрая красота и даже не экзотика толкнули к первым стихам.
Первые, серьёзные по чувству, стихи написала я, когда отец вернулся с Финской войны. Стихи были об этом. Их напечатали в областной пионерской газете и даже грамоту какую-то мне за них прислали. Это произошло уже в маленьком городе Тейкове Ивановской области, где я кончала среднюю школу и где нашу семью застала Великая Отечественная война…
Сначала мы проводили на фронт отца и учителей. Потом ребят-старшеклассников. Я окончила курсы сандружинниц и работала в госпитале. Училась в девятом классе в третью, вечернюю, смену. В Тейкове и окрестных лесах и сёлах стояли тогда, как и везде, воинские части. В каждом тейковском доме жили лётчики и десантники. И, конечно, у каждой тейковской девчонки был свой десантник. Они приходили к нам на школьные вечера, а мы – к ним в землянки, в пригородный лес, с самодеятельными концертами. И я читала свои стихи:
Когда штурвал сожмёт рука пилота, окутав поле дымкой голубой, вас унесут стальные самолёты в далёкий путь, в суровый трудный бой…О поэтических достоинствах стихов лучше промолчать. Но мне в последующей жизни довелось выступать, пожалуй, больше чем надо. И ни одна аудитория не принимала меня так горячо.
К этому времени я уже знала, что есть в Москве Литературный институт, и, конечно, мечтала в нём учиться. Но шла война, и вызов в Москву давали только технические вузы. Мне было всё равно – какой технический, и я выбрала просто институт с красивым названием: Институт цветных металлов и золота. Два года училась на горном факультете, сдавала, с грехом пополам, всякие технические сложности, вроде сопромата и теоретической механики, но весной 45-го, не окончив второго курса, ушла в Литературный институт имени Горького.
Нас на курсе числилось двенадцать человек, и только один был прозаиком – остальные писали стихи! Сначала я попала в семинар Веры Звягинцевой. Был такой «девичий» семинар, который как-то тихо, сам по себе, распался. Меня вызвали на творческую кафедру и предложили – на выбор – два семинара: Михаила Светлова и Владимира Луговского. Светлова я, конечно, знала – «Гренаду», «Рабфаковку», «Двадцать лет спустя»… Мне стало страшно. Боже мой, я – к Светлову?.. И я не сказала, а выдохнула:
– Уж лучше к Луговскому!
Словно это было меньше, проще, чем Светлов. Но я тогда просто не знала ни стихов, ни даже имени Луговского.
Владимир Александрович Луговской – это было то, что нужно моему характеру, моей вечной застенчивости. На его шумных семинарах, где доброжелательные, но безжалостные собратья по перу громили друг друга, не выбирая выражений, особенно доставалось авторам «тихих» стихов. А тише меня была только Танечка Сырыщева. Владимир Александрович сам читал наши тихие стихи, громко читал. И подчёркивал голосом то, что этого заслуживало.
Много раз потом, после института, я встречала его в Центральном доме литераторов, в издательствах. Каждый раз замирала, как на семинарах. И так ни разу и не сказала, как я ему тогда была благодарна.
Да и только ли ему?.. В те счастливые времена нам преподавали Павел Антокольский, Константин Паустовский, Михаил Светлов, Александр Яшин, Константин Федин, Лев Кассиль. Нас учили лучшие профессора Московского университета. Конечно, это было счастье! И единственное, о чём я всю жизнь жалею, это то, что большую половину этого счастья я пропустила мимо ушей: я никогда не была прилежной ученицей.
Но – общежитие! Этот послевоенный холодный, голодный полуподвал знаменитого дома Герцена, где круглые сутки, в будни и в праздники – на подоконниках, в углах, на лестнице, за столами – громко и вдохновенно, не сомневаясь в своём божьем даре, молодые восторженные личности читали, подвывая, свои стихи, – это был еще один институт! Добровольные слушатели тут же громили только что рождённый шедевр, и ты отходил, убитый, думая о том, что у тебя не так и что же тебе делать дальше. Да, это была великая школа. И пройти её было не так легко…
Первое доброе слово от институтских ребят – такое долгожданное и строгое – я услышала осенью 1947 года на нашем традиционном вечере одного стихотворения. Я читала тогда «Хлеб 47-го». Конечно же, памятна и дорога по-светловски неповторимая похвала, несколькими годами позже данная Михаилом Аркадьевичем двум моим стихотворениям:
– Всегда пишите «Варю» и «Юрку»! И я буду вас нежно любить и подавать вам пальто…
В 1950 году я окончила институт. Моя дипломная работа – поэма «Моё слово» – получила отличную оценку. Она была напечатана в журнале «Октябрь» в 1951 году. Тогда же её перевели в Болгарии, а потом в Корее. За эту поэму в 1952 году меня приняли в Союз писателей. И до сих пор я получаю добрые письма читателей об этой своей первой, по сути, работе и удаче.
Первая книга – сборник стихов «Мое слово» – вышла в 1953 году в издательстве «Молодая гвардия». Потом – «Бабье лето» (1956), «Сорок трав» (1959), «Стихи о моем солдате» (1963), «Девичник» (1972), «Песня» (1974), «Платок» (1975), «В каждой песне – береза…» (1984) и другие в разные годы, в издательствах Москвы и Волгограда.
С 1951 года я живу в Волгограде. Его судьба, его люди, его матери и вдовы, его стройки, дороги, его необъятные, нелёгкие поля – все это учило и учит меня жить, быть там, где все, горевать и радоваться вместе со всеми, не жалеть себя, оставаться самой собой. Благодарю судьбу за все годы, прожитые в этом городе, дорогом и любимом. За все выпавшие мне встречи. За все добрые слова, сказанные мне моими земляками.
…Если бы я жила в другом городе, я писала бы совсем другие стихи. А может быть, и совсем не писала.
1985Что было, то было… Песни
«Что было, то было…»
Что было, то было: закат заалел… Сама полюбила — никто не велел. Подруг не ругаю, родных не корю. В тепле замерзаю и в стужу горю. Что было, то было… Скрывать не могла. Я гордость забыла — к нему подошла. А он мне ответил: – Не плачь, не велю. Не ты виновата, другую люблю… Что было, то было! И – нет ничего. Люблю, как любила, его одного. Я плакать – не плачу: мне он не велит. А горе – не море. Пройдет. Отболит. 1965Растёт в Волгограде берёзка
Ты тоже родился в России — краю полевом и лесном. У нас в каждой песне – берёзка, берёза под каждым окном. На каждой весенней поляне их белый живой хоровод. Но есть в Волгограде берёзка — увидишь, и сердце замрёт. Её привезли издалёка в края, где шумят ковыли. Как трудно она привыкала к огню волгоградской земли, как долго она тосковала о светлых лесах на Руси, — лежат под берёзкой ребята — об этом у них расспроси. Трава под берёзкой не смята — никто из земли не вставал. но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал. И плакал – светло, как невеста, и помнил – навеки, как мать! Ты тоже родился солдатом — тебе ли того не понять. Ты тоже родился в России — берёзовом, милом краю. Теперь, где ни встретишь берёзу, ты вспомнишь берёзку мою, её молчаливые ветки, её терпеливую грусть. Растёт в Волгограде берёзка. Попробуй, её позабудь! 1966Солдату Сталинграда
Фатеху Ниязи
Четверть века назад отгремели бои. Отболели, отмаялись раны твои. Но далёкому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат! Хоть сто раз умирал. Хоть друзей хоронил и хоть насмерть стоял. Почему же ты замер — на сердце ладонь, и в глазах, как в ручьях, отразился огонь? Говорят, что не плачет солдат: он – солдат. И что старые раны к ненастью болят. Но вчера было солнце! И солнце с утра… Что ж ты плачешь, солдат, у святого костра? Оттого, что на солнце сверкает река. Оттого, что над Волгой летят облака. Просто больно смотреть — золотятся поля! Просто горько белеют чубы ковыля. Посмотри же, солдат, это юность твоя — у солдатской могилы стоят сыновья! Так о чём же ты думаешь, старый солдат? Или сердце горит? Или раны болят? 1967«А где мне взять такую песню…»
Г. Ф. Пономаренко
А где мне взять такую песню — и о любви, и о судьбе, и чтоб никто не догадался, что эта песня – о тебе? Чтоб песня по свету летела, кого-то за сердце брала, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела. Чтобы у клуба заводского и у далёкого села, от этой песни замирая, девчонка милого ждала. И чтобы он её дождался, прижался к трепетным плечам… Да чтоб никто не догадался, о чём я плачу по ночам. 1967Подари мне платок
Ивану Данилову
Подари мне платок — голубой лоскуток. И чтоб был по краям золотой завиток. Не в сундук положу — на груди завяжу и, что ты подарил, никому не скажу! …Пусть и лёд на реке, пусть и ты вдалеке. И платок не груди — не кольцо на руке. Я одна – не одна. Мне тоска – не тоска, мне и день не велик, мне и ночь не горька. Если ж в тёмную ночь, иль средь белого дня ни за что ни про что ты разлюбишь меня, — ни о чём не спрошу, ничего не скажу, на дарёном платке узелок завяжу. 1970Лирика Даже узкая дорога может на две разойтись
Письмо
Первый снег летит, едва заметен, в золотой, отжившей век, листве. Вдруг откуда-то рванулся ветер и, кружась, понёсся по Москве. И вступают с ветром в поединок, гордые холодной красотой, два дождя: серебряный – снежинок и кленовых листьев – золотой. …Где-то в дальних дрезденских аллеях, о которых в письмах пишешь ты, в октябре деревья зеленеют и цветут июльские цветы. Пусть цветут! Тебе они чужие, и с тоскою думать ты привык о кленовом золоте России, о холодной осени Москвы… 1945«Там чужой, незнакомый лес…»
Там чужой, незнакомый лес, незнакомых рек берега. Ты живёшь на чужой земле и идёшь по чужим лугам. Ты мне пишешь о той стране и тоской не коришь судьбу. Только просишь: «Хоть что-нибудь напиши о России мне». 1946«У лесных застенчивых фиалок…»
У лесных застенчивых фиалок вдруг смелеет запах по ночам… Подошёл – и лёгкий полушалок разметал по дрогнувшим плечам. Пусть на нём, и ласковом, и ярком, — голубые чистые края. Но твоим приветам и подаркам не умею радоваться я. Не тебя, хорошего, мне жалко, и не мне мила твоя гармонь. И пушистым краем полушалка не согреть холодную ладонь. 1946«Задохнувшийся пылью цветок…»
Задохнувшийся пылью цветок почему-то забыт на окне. Никогда не узнает никто, что сегодня почудилось мне. Никому не скажу про беду или, может быть, радость мою. Я любимое платье найду и любимую песню спою. Заплету по-другому косу, распущу на виске завиток… И куда-нибудь прочь отнесу задохнувшийся пылью цветок. 1946«Говорят, что время правит веком…»
Говорят, что время правит веком, и что есть счастливая звезда… Я ждала такого человека, чтобы с ним остаться навсегда. Пусть приходит, не сказав ни слова. Пусть не взглянет – обернусь сама. Только где увидеть мне такого, чтобы я влюбилась без ума? Говорят, что есть большие двери, прячущие что-то от меня. Я хочу во многое поверить, даже если не смогу понять. Я, наверно, страшно верить буду, верить сердцем, вопреки уму! Только где найти такое чудо, чтобы я поверила ему? 1946В дороге
Ветер снегом вагон забрасывал, разозлясь за стеклом окна… Вот она, сторона Некрасова, ярославская сторона! Как в стихах его – не кончается бесконечных покосов ширь; над болотом шумят-качаются ропотливые камыши; возле леса, от снега белого, спит деревня, белым-бела; от колодца обледенелого тропка тихая пролегла; поросли лопухом-репейником задымлённые стены риг. И мне кажется коробейником подошедший к окну старик. Он, во мне угадав нездешнюю, зорким глазом прильнёт к стеклу, скажет, окая: «Скоро Грешнево…», не спеша запахнёт тулуп, станет медленно подпоясывать… Ветер плачется, ночь темна. За окном сторона Некрасова, ярославская сторона. 1946«Я опять убегу!..»
Я опять убегу! И на том берегу, до которого им не доплыть, буду снова одна до утра, дотемна по некошеным травам бродить. Возле старой ольхи, где молчат лопухи, плечи скроются в мокрой траве. И твои, и мои, и чужие стихи перепутаются в голове. Я пою про цветы, потому что и ты на каком-нибудь дальнем лугу ходишь, песней звеня. И напрасно меня ждут на том, на другом, берегу! 1947«Одна в поле греча…»
Одна в поле греча, а от пчел нет житья! Одна в году встреча, да и та не моя. И песни, и речи — не отстанут друзья. Одна в году встреча, да и та не моя. 1947«Я об этом не жалею…»
Я об этом не жалею и потом жалеть не буду, что пришла я первой к пруду, что поверила тебе я. Тонко-тонко, гибко-гибко никнут вётлы над прудами… Даже первая ошибка забывается с годами. Я об этом не жалела, что вчера тебя встречая, ничего не замечая, я в глаза твои смотрела долго-долго, много-много. А теперь ресницы – вниз… Даже узкая дорога может на две разойтись. 1947«Ты уходишь в синий вечер…»
Ты уходишь в синий вечер… Ветер с поля пахнет гарью, носит семя спелой гречи, гнёт к ногам иван-да-марью. Ветер может всё на свете! А сегодня мне понятно: ты уйдёшь! И даже ветер не вернёт тебя обратно. 1947«Я раздвину занавеси окон…»
Я раздвину занавеси окон, я все двери настежь распахну, чтобы ты издалека-далёка увидал сейчас меня одну. Пусть влетит холодный ветер в двери, волосы и платье теребя… Я хочу, чтоб ты навек поверил в то, что мне не выжить без тебя. 1947«На высоком берегу…»
На высоком берегу я стою. Эту песню берегу — не пою. Кто-то бегает в пыли босиком. Улетают журавли косяком. Отцветает бересклет у плетней. Разгорается рассвет все сильней. Тихий вечер, коноплю теребя, помнит-знает, как люблю я тебя. 1947«Ты меня неразгадкой не мучай…»
Ты меня неразгадкой не мучай: ты сказал, что однажды в году и берёза бывает плакучей, не стыдясь, у людей на виду. Я встречала плакучие ивы, горем гнутые поросли лоз, помню жгучие слёзы крапивы, но не знала плакучих берез. А сегодня примчались к берёзе невесенние тёмные грозы, и катились в зелёную озимь золотые холодные слёзы. 1947«Снова до рассвета…»
Снова до рассвета песня по равнине: «Как бы мне, рябине… Как бы мне, рябине…» Снег ко мне на плечи ветром нанесло. Никого навстречу нету, как назло. Медленней и строже зимняя заря. Промелькнёт прохожий возле фонаря. И опять ни звука на моей дороге. Будет та же скука, той же быть тревоге. Той же быть кручине, те же сны приснятся… «Как бы мне, рябине, к дубу перебраться?» 1947Август
Поздний август пришел без оглядки, задохнулся, устал, заспешил. Он осинам бордовые латки на зелёные платья нашил. Под еловые сизые лапы побросал с перехлёстом дождей сыроежек лиловые шляпы и косматые губы груздей. Взбудоражил тихоню Ветлугу, приподнял и размыл берега; разметал по колхозному лугу молодые крутые стога. В палисаднике вянет крушина, жернова захлебнулись зерном. На дороге буксует машина, до отказа гружённая льном. 1947Хлеб 47-го
Может быть, забудется и это: как, проклятым полымем паля, жгло хлеба засушливое лето, и от боли трескалась земля. Как в домах – больным, по уговору — береглась последняя трава, и сухую липовую кору, скрежеща, мололи жернова. Но запомню: проливные грозы, золочёный колос у плеча, длинные, скрипучие обозы в бубенцах и лентах кумача; и вчера, увидя море хлеба, на колени став у поля ржи, на голос, поднявши руки в небо, плакала старуха у межи. 1947Стихи о детстве
1
Мне ни правдами, ни сказками не забыть такой поры… Там звенящими салазками кто-то падает с горы. Там блестят и пахнут шишками начала январей. Там боялась я с мальчишками ловить нетопырей. Там ветра поют тростинками у маленькой реки, и под тонкими осинками сидят боровики. Там сугробы пахнут вёснами (звончей, ручей, журчи!), а под мартовскими соснами токуют косачи; а метелями крылатыми, когда вокруг темно, ходит серый волк с волчатами под мамино окно; и, рванув цепями тряскими, воют псы у конуры… Мне ни правдами, ни сказками не забыть такой поры!2
…А вечер пришёл, и посёлок улёгся, и тучи закрыли луну и звезду. И я воровала лиловые флоксы в заросшем малиной соседском саду. В гривастой траве – ни дорожки, ни следа, в обнимку с крапивой стоят лопухи. Я ночью однажды из окон соседа услышала: кто-то читает стихи. И я пробиралась вдоль мокрого сада, и боль, и дыханье в груди затая, и слышала в окнах: «Гренада, Гренада!» И снова: «Гренада, Гренада моя!» Я, тесно прижавшись к некрашеной стенке, забыла на клумбе чужие цветы, забыла, что жжет от крапивы коленки, забыла, что очень боюсь темноты! …Расходятся тучи; протяжно и звонко, горласто и долго орут петухи. А в мокрой крапиве босая девчонка дрожит от росы и бормочет стихи.3
И прибегал зелёный май!.. И мы бросали дневники! И в роще около реки Тебе кричала я: – Поймай! Мальчишка мой, мальчишка мой! Поймай мне майского жука!.. Мы возвращались с полутьмой из зарослей березняка. И ты, сбивая с трав росу, качал берёзку в две руки, и мне в косынку и косу вцеплялись майские жуки. Потом забылся школьный класс и пыльный город у реки, и не боятся больше нас смешные майские жуки. Но, как и ты года назад, забросив скуку дневников, мой маленький вихрастый брат, конечно, ловит тех жуков. И я пишу письмо домой, и я прошу издалека: – Мальчишка мой!.. Братишка мой, поймай мне майского жука.4
Тихо шепчутся страницы, в лампе горбится фитиль… В дальний путь за Синей Птицей вышел маленький Тиль-Тиль. Окна настежь, двери настежь, словно вдаль из-за угла за большим крылатым счастьем ночь мальчишку позвала. Словно был за темной дверью путь к заветному гнезду, словно птица в синих перьях ждёт его в своем саду. Тихо шепчутся страницы синей стаей легких птиц… На подушке сон гнездится, не поднять уже ресниц. И пускай ему приснится, что лежит у ног его дальний путь за синей птицей, птицей детства моего.5
На окне в геранях тонко-тонко солнце перепутало лучи. За окном больничная трёхтонка и на ней – знакомые врачи. Были все какие-то другие; стыл обед в кастрюлях на шестке. Синий том «Военной хирургии» спрятался в отцовском рюкзаке. Мама становилась всё бледнее. Грузовик сигналил со двора. Из-за окон крикнули: – Пора!.. Стало всё яснее и страшнее. Громкие тяжелые рыданья, всё слилось, ни взгляда, ни лица; кто-то крикнул: – Дочка, до свиданья! — голосом любимого отца. Отмелькала лугом Волчья Яма. Грузовик скрывается за рвом… Никогда не плакавшая мама слёзы вытирала рукавом. Встала у открытого окна, плача и других не утешая, и сказала медленно: – Война… Хорошо, что ты уже большая… 1948О первой любви
Инне Гофф
1
Тесный мир для девочки просторен. Все шаги и быстры, и легки. Девочке хотелось, чтоб Печорин вдруг в неё влюбился от тоски. Девочка не ведывала горя, Глядя в мир из детского окна. А большие воды на Печоре не дают заглядывать до дна, скрадывают отзвуки и краски, сглаживают камни и пески… Девочка придумывала сказки и мечту – влюбиться от тоски. Девочка, открой окно пошире, не кричи, не плачь и не зови! Ты поймешь в невыдуманном мире силу не придуманной любви.2
Две зимы черёмухами вьюги, две весны черёмухи пургой… Говорят, что мы с тобой подруги, что одна – ни шагу без другой. Мы с тобой играли в разных кукол, и у детства памятных дверей нас с тобой по-разному баюкал тихой песней голос матерей. И твои каштановые парки, может, и не знали ничего — дальнего поселка у Игарки, Пихт и кедров детства моего. Были руки неловки и робки. Я плела задумчивый венок. Вдруг за дальним озером у сопки выстрелил соседский паренёк. Он не думал, осторожно целясь прямо в грудь большому крохалю, как тогда на всю тайгу хотелось громко крикнуть: «Я тебя люблю!» Вывернулось сердце наизнанку, ночью дым от выстрела – во сне… Но забыт тот паренёк с берданкой в бисерном, цветастом зипуне. …А потом – берёзовые тени на верандах подмосковных дач, и летит на школьной перемене невесомый волейбольный мяч. И – мальчишка в клетчатой рубашке… А потом из рук моих к нему лепестки оборванной ромашки ветер уносил по одному… В платье, разрисованном горошком, как в мечте ждала я, как во сне… но не по цветным лесным дорожкам в первый раз любовь пришла ко мне. По Лесной, Полянке или Пресне — я не знала улиц городских… Шумный город замер и затих над моей, не городскою, песней. Песня слов и выдумок сильней! Если трудно – песню позови! Песня стала спутницей моей первой, не придуманной, любви.3
Не дадут литые тротуары вырасти былинке-лебеде… Тонут потухающие фары в москворецкой медленной воде. А шаги – отчётливей и реже, а слова – нежнее и смелей: ты остановился на Манеже, у кремлёвских, тонких тополей. И, решив, что нам с тобой не нужно глубины волнений и тревог, предложил торжественную дружбу до конца отдельных двух дорог. …Я смотрела в самые глаза, веря с полуслова, с полувзгляда, и решала: если ты сказал, значит, это только так и надо. Значит, только так тому и быть! И пройду, не оглянувшись, мимо. И нетрудно даже разлюбить, если так потребовал любимый! Я решила разлюбить… И вдруг вздрогнула от боли и испуга: ты сказал неправду – ты не друг, ты гораздо больше просто друга!4
И ты ещё, ещё, ещё придёшь! Опять такой же шумный и упрямый. И снова дробь выстукивает дождь по переплётам пропылённой рамы. И снова гром грохочет горячо, и тучи наливаются свинцом. Ты подойдёшь и тронешь за плечо, и повернёшь меня к себе лицом. Стихнет ливень, обрываясь с крыш, выскользнут страницы из руки, ты, не узнавая, замолчишь, уберёшь ладонь с моей щеки; ты увидишь новые глаза, радостью залитые до края. И тогда, о чём-то вспоминая, ты услышишь, как сильна гроза! Сразу станет комната узка, и в углах, и на окне темно. И рванётся тонкая рука распахнуть тяжёлое окно, чтоб навстречу хлынула весна, ни тоски, ни счастья не тая! …А девчонка с книгой у окна — это, может, даже и не я!5
Это, не досматривая сны, забывая отдых и уют, девушки и юноши страны сессию весеннюю сдают. Это, наклонившись над столом, не уснув до утренней звезды, пятикурсник вписывал в диплом горы малахитовой руды. Это вышли эвенки в тайгу добывать для Родины меха; это на высоком берегу вспарывают землю лемеха; и моя веселая родня васильковой волжской стороны рассыпает зёрна ячменя в борозды безудержной весны; это стынут завязи айвы в золотых садах Алма-Аты; это на окраинах Москвы строятся дороги и мосты; голубыми звёздочками льна костромские искрятся края… И идёт над Родиной весна, ни любви, ни счастья не тая! 1948Меня посылает райком
Я всё это помню как будто спросонок: таёжный поселок, больница в снегу. А в чуме охотника болен ребёнок. И, значит, отец уезжает в тайгу. Отчаянный ветер бросал на колени, четвёртые сутки ревела пурга, У нарт беспокойно застыли олени, закинув за спины крутые рога. Отца проводник дожидался у входа. Негромко, встревоженно ахнула мать: – Куда тебя носит в такую погоду? Смотри: ни дороги, ни зги не видать! Олени над снегом как будто взлетели и дёрнули нарты упругим рывком, и ветер уже далеко из метели доносит: – Меня посылает райком! …Над Родиной встало военное небо. Тринадцатый месяц народ на постах. Не досыта сна и не досыта хлеба. Идут эшелоны в багровых крестах. И я становилась взрослей и суровей, на донорский пункт приходя и делясь с товарищем раненым струями крови тринадцатый месяц – тринадцатый раз. Усталая мама не скажет ни слова, сухие глаза вытирает платком и знает, что надо, и знает, что снова скажу ей: – Меня посылает райком. Я детям своим передам как наследство счастливое, мирное небо мое. Пусть будет у сына хорошее детство! Но если когда-нибудь крикнут: «В ружьё!» — я выведу к поезду сына-солдата. И если заплачу – при всех, не тайком, — он сдержит меня и спокойно и свято ответит: – Меня посылает райком. 1948* * *
Снова снег за моим окном. Помоги же мне, первый снег, научиться забыть о нём и не видеть его во сне! Но и мне, и другим, смеясь, Снег ласкает воротники. И растает он через час От тепла чьей-нибудь руки. Ну, не тай! Ну, побудь со мной. Спой мне вьюгами – о весне! Очень холодно мне одной. Помоги же мне, первый снег. 1948* * *
Зима спокойна, а потом завьюжит к февралю. …А ты опять забыл о том, что я тебя люблю. А где-нибудь за синью рек, в далёкой стороне хороший, сильный человек мечтает обо мне. Но я, по жребию судьбы, опять ночей не сплю из-за того, кто позабыл, что я его люблю. 1948* * *
Выйду к речке, тонкой веткой хрустну, оборву тенёт тугую нить. Осенью всегда бывает грустно, даже если не о чем грустить. Подойду к красавице рябине, руку ей на шею положу, по какой, единственной, причине я грущу сегодня, расскажу… Мой упрямый, я тебя прошу: ты прости мне эти разговоры. Я всегда молчу про наши ссоры — сору из избы не выношу. А сейчас никто ведь не узнает. Зиму всю рябина смотрит сны, и она, красавица лесная, мой рассказ забудет до весны. Только пусть его подхватит ветер, или даже сразу все ветра: много ведь людей на белом свете ссорятся, как мы с тобой вчера. Пусть же ветры возле них повьются, им расскажут наш вчерашний спор. А они – над нами посмеются и всю жизнь не ссорятся с тех пор! 1948* * *
Захлопнуть окно — и не ждать, и не звать, и всё – всё равно, и на всё наплевать! Но только упрямо стучится в виски: за тонкие рамы не спрячешь тоски, за чистые стёкла не спрячешь беды. Ударились в окна соцветья воды. Я с детства умела уйти босиком отчаянно смело под ливень и гром, чтоб в небе темно, и земли не видать, и всё – всё равно, и на всё наплевать! И всё – всё равно, если знаешь одно: что только навстречу идти решено и ливням, и граду! И, словно в награду, засветится счастье подковами радуг. И встанешь опять на большие пути — не ждать и не звать, а идти и идти! Назло километрам шагнуть за порог к разливам и ветрам широких дорог! 1948Бабье лето
В сентябре на тропки густо листья пёстрые легли. Сентябри в народе грустно бабьим летом нарекли. Только что это такое — лишь машины замолчат, до рассвета над рекою не смолкает смех девчат! Видно, весело живут: платья гладят, кудри вьют, по уплясанной поляне туфли-лодочки плывут. А уж песню запоют — ива склонится к ручью, дрогнет старая берёза, вспомнит молодость свою. Выйдет на небо луна, но не знает и она, то ли это бабье лето, то ли девичья весна! 1948«У скрипучего причала…»
У скрипучего причала к речке клонится ветла… Словно век не уезжала я из этого села! Только вот дождусь парома, а потом – перевезут, и останется до дома только несколько минут. Я пойду, шаги считая, а навстречу мне – кусты и поляна, золотая от куриной слепоты. Косит сено «Новый Север» — чуть не к небу ставят стог. Кормовой лиловый клевер брызнул мёдом из-под ног. А за клевером – канава, и над нею, в полутьме, тётка Марья из райздрава вяжет веники к зиме. Улыбнулась, как бывало, вся седая, как была… Словно век не уезжала я из этого села! 1949Моё слово Поэма
В апреле 1950 года над советским городом Либавой пролетел американский самолёт.
Из газет Темнеет снег на колеях дороги, плывут по рекам тающие льды, и мокрые калоши на пороге оставили апрельские следы. На Волге, на Оби ли, на Днепре ли летящих птиц растянутая нить… Всегда сильнее чувствуешь в апреле, как всё на свете жадно хочет жить! Как всходит в землю брошенное семя, и оживают талые поля, и мокрая, любимая земля всегда ещё любимей в это время! Но в это время… Под крылом ложится норвежский снег, балтийский синий лёд, чужие горы, земли и границы… Чего он хочет, этот самолёт? А лётчик вниз на землю смотрит зорко, он видит: реки – будто бы ручьи, в которых сын, мальчишка из Нью-Йорка, пускал вчера кораблики свои. Не видит лётчик, как из-под ручонки, прищурясь на весенний яркий свет, с земли на самолёт глядит мальчонка с таким же пароходом из газет. Он рад весне! Он весело хохочет! А мне на сердце давит страшный гнёт: чего он хочет, этот самолёт? Чего американский лётчик хочет? Быть может, он слова услышит эти. Быть может, он, не подымая глаз и вспомнив сына своего, ответит: – Солдат не мог не выполнить приказ. И отвернётся в сторону куда-то, и голову наклонит, может быть… Но если трудно говорить с солдатом, с женой солдата буду говорить. Ты, мать американского ребёнка, смотри: и у меня растёт сынок. Он, как и твой, смеётся звонко-звонко, как маленький серебряный звонок. Как твой, мой мальчик тоже любит книжки, как твой, не плачет, падая с крыльца. Но – слышишь, мать нью-йоркского мальчишки? — у моего мальчишки нет отца. Твой муж летит над городом Либава, внизу – чужая мирная страна. …Я говорить с тобой имею право затем, что я – такая – не одна. Затем, что встали воины Вьетнама, Корея бьётся, чтоб детей спасти. Затем, что в мире вместо слова «мама» всё чаще слышно: «Мама, защити!» Затем, что бомбовоз тяжёлокрылый рокочет над детьми моей страны… А под крылом его лежат могилы солдат недавно стихнувшей войны. Лежат могилы, холмики, пригорки… В одном (я так и не нашла его), в одном – ты слышишь, женщина Нью-Йорка? — лежит отец сынишки моего. …Моторы небо голубое точат, и всё не прекращается полёт. Я очень помню всё, чего он хочет, твоей страны военный самолёт. Я помню: самолёты ясным летом к советскому летели рубежу. Мне очень трудно говорить об этом, но я тебе об этом расскажу.1
И не видел никто, и не знает никто, и в какой это день, и в котором году — бросить книги и в сад убежать без пальто. – Хорошо? – Хорошо! – Не уйдёшь? – Не уйду! В эту первую ночь и не думала я, сколько будет ночей и воды утечёт. А напротив в окне наклонились друзья, до утра, до рассвета готовя зачёт. Этой ночью такая была тишина, что, казалось, ко мне наклонилась едва и стоит за спиной вся большая страна, чтоб услышать, какие ты скажешь слова. …Я не помню, что я говорила тогда, и как первый трамвай прозвенел в тишине, и как в небе последняя гасла звезда, и как свет погасили ребята в окне. Я немало увижу, узнаю, пройду, но – о чём мне ни думать и где мне ни быть, — эту ночь и рассвет в институтском саду мне, как клятву на верность, всю жизнь не забыть! И какого, и где ни найдёшь ты коня, и в какой ты ни прыгнешь вагон на ходу, ты уснёшь, ты проснёшься – увидишь меня. – Это ты? – Это я. – Не уйдёшь? – Не уйду.2
Стопкой сложены книги, цветы на столе — я хозяйством своим занялась. Мне казалось: вся радость, что есть на земле, с этих пор поселилась у нас. Мне казалось: тебе только я и нужна, без меня ты не выживешь дня. И вставало огромное слово «жена» и краснеть заставляло меня. Мама! Ты меня учила многому: выдержанной медленной мечте, ласковому, бережному, строгому, полевой горячей широте. Ты учила первые, кривые выводить каракули-слова и иглой неопытной впервые вить узор стебельчатого шва. Мокрый невод высушить у речки, печь картошку в россыпях золы и белить бока широкой печки, дожелта выскабливать полы. И не унывать, когда устанешь, и встречать без слёз, без суеты эшелоны с красными крестами, и стирать кровавые бинты. Мама, мама! Радость и кручина! Детские далёкие мечты! Почему, зачем чужой мужчина стал дороже и родней, чем ты? Мама, что же ты не научила в свой нелёгкий материнский век, что придёт совсем чужой мужчина, дорогой, любимый человек?! Я к нему в любой ненастный вечер выбегу, и рада, и горда, как к тебе, единственной, навстречу я не выбегала никогда. Выбегу – то тихой, молчаливой, то весёлой песнею звеня. И такой богатой и счастливой даже ты не видела меня!3
Подошло студенческое лето, полное зачётной суетни. Мы тогда вставали до рассвета, с книгами просиживали дни. Мама в письмах нас к себе звала: «Мы одни-то стосковались за год. Приезжайте! Будет много ягод: от цветов вся вырубка бела. А ромашек сколько! К свадьбе, кстати! Я уж вас дождаться не могу. Рыжики солёные для зятя в погребе соседском берегу. Всё считаю по календарю, скоро ли там кончатся зачёты. Приезжайте, браги наварю; скоро будут мёда полны соты…» И смеялся кто-то из подруг: – Только эту сессию нам сдать бы — целым общежитием на свадьбу к вам тогда закатимся! И вдруг…4
Не рвали цветов по оврагу, не брали на пасеке мёд, ржаную тяжёлую брагу не ставили стынуть на лёд. Ни дома в узорной ограде, захлёстнутой зеленью лоз, ни свадебных песен, ни свадеб и не было, и не ждалось. Машины с грохочущим рёвом, с фашистским крестом на крыле, и первые бомбы над Львовом, и первая кровь на земле.5
Шли грузовики и эшелоны на передовые рубежи. В это утро ты свернул в рулоны неоконченные чертежи. Начал готовальню убирать и, как бы запоминая что-то, медленно закрыл свою тетрадь с надписью «Дипломная работа». Взял какой-то свёрток, подошёл, отдал мне его, заулыбался. Ярко-красный пионерский галстук из бумаги выскользнул на стол. Я, не понимая ничего, – Для чего это? – тебя спросила. – Нет, не для чего, а для кого! И добавил радостно: – Для сына… И сразу – вечер, тёмная Москва, платформы Белорусского вокзала. Как я искала нужные слова, которые я так и не сказала! Как я хотела, чтобы ты узнал, что самое желанное на свете — опять скорей придти на тот вокзал, чтобы тебя, вернувшегося, встретить! Состав ушёл. Вокруг меня стояли подруги, институтские друзья… А мне казалось, что на всём вокзале, на всей земле одна осталась я.6
Война. Москва. Бомбёжки и тревоги. Мужья на фронте. Враг ещё силён. И жёны замирают на пороге, когда во двор приходит почтальон. В домах уже не подымают штор. Аэростаты тянутся под небом. Стоит часами очередь за хлебом, а в институте – курсы медсестёр. Потом в аудиториях – халаты, в чертёжном зале – коек белизна. И привозили раненых в палаты оттуда, где война. Снимая с искалеченного тела засохшие и чёрные бинты, я каждого бойца спросить хотела: а, может, он оттуда, где и ты? Устанешь так, что ходишь еле-еле. А я всегда бегом неслась домой. Но писем нет… И тянутся недели военною московской полутьмой. Пришла зима. Подкрадывались вьюги. Москву колючим снегом замело. А писем нет… На сердце тяжело. И, помню, я тогда пошла к подруге. Неслышно коридором общежитья я к комнате знакомой подошла и слышу: – Только ей не говорите!.. Рванула дверь – и сразу поняла.7
Снег летит и летит. Окаянный! Когда он уймётся? Пусть летит… Пусть метёт, заметёт до краёв, до конца дальний маленький дом, ледяное ведро на колодце и тропу от колодца к певучим ступеням крыльца. Чтобы мама опять поняла, объяснила тревогу, не вздыхала ночами, не мучила бы головы и ворчала бы тихо на почту, на снег, на дорогу, что нет дочкиных писем из дальней военной Москвы. Снег летит и летит! Вот – и в жизни случаются вьюги! Чтоб не видели слёз, ото всех отвернулась к окну. И напрасно подходят и голову гладят подруги, утешать не решаясь, опасаясь оставить одну. Очень трудно одной! Я девчонкой умела ночью в лес убежать, переплыть через Волгу весной, делать всё, что считается страшно, опасно и смело. Только я не умела оставаться одной. Но кому рассказать? К чьей руке прикоснуться рукою? Перед кем же мне встать, не скрывая заплаканных глаз? Где мне силы найти для того, чтоб увидеть такое, от чего и одной мне не быть одинокой сейчас? Это ты, моя Родина, Вера, и Правда, и Сила! Я тебе расскажу, ничего от тебя не тая. Посмотри на меня: я пришла к тебе, я попросила. Посмотри на меня: это девочка, дочка твоя. Разве я не такая, какой ты меня воспитала? Разве ты не учила быть честной и сильной всегда? Посмотри на меня, помоги мне: я очень устала. Помоги: у меня непривычная, злая беда. Мне сейчас не помочь ни советом, ни дружбой, ни лаской, и никто из людей мне сейчас не заменит его! Всё, что было у нас, мне не кажется сном или сказкой. Всё, что было у нас, — мне всю жизнь не забыть ничего! Всё, что было у нас, — оборвалось осколком металла. Как хотел он вернуться! Но вот он упал и не встал. Значит, некого мне в День Победы встречать у вокзала. …Но придёт человек, о котором убитый мечтал. Он придёт. Ведь его не удержат ни войны, ни грозы. Он поддержит меня, он без слов мне прикажет: – Иди! Пусть же слёзы мои, несдержимые, горькие слёзы пронесутся над ним, словно щедрые жизнью дожди! Пусть от них забелеет цветами оконная рама, разольются ручьи лепестков и былинок в саду. Он к окну подбежит, бросит мячик и крикнет мне: – Мама! И куда я тогда от него, золотого, уйду? И кому я отдам? И на что я его променяю, если он – это я, если он – это больше, чем я, если он – это то, для чего не сдаваться должна я, чего ждёшь от меня ты, родная Отчизна моя?! Я такая, какой ты меня воспитала, и какой ты хотела увидеть меня. Я стою. Я живу. Я не плачу и я не устала! Я готова для самого — самого трудного дня. Я готова всё вынести, я уже вынесла много. Я впервые в беде и её победила, беду. И лежит предо мною одна – и прямая – дорога. И по этой дороге я сына вперёд поведу. Сын мой! День мой! Большой, дорогой, неустанный! Вечера допоздна, ночь бессонниц, тревог и труда. Здравствуй, первая трудность, которой гордиться я стану! Настежь двери: пусть видно, как в комнату входят года!8
Вот и всё. Идёт пятидесятый. Летний луч запутался в окне. Бегают весёлые ребята по большой и ласковой стране. Есть в стране для них дома и книжки, есть земля, чтоб хлеб для них растить, фабрики, чтоб сделать им пальтишки, армия, чтоб их оборонить. Их везде улыбками встречают, маленьких весёлых сорванцов. Кажется, они не замечают, что они не видели отцов. В самом деле, что им нужно, детям? Сыт, обут – и, вроде, все дела! …Но сынишка с первых дней заметил, что война над Родиной прошла. До сих пор я часто вспоминаю: ласковые волны ветерка, праздничное утро Первомая, движутся по улицам войска. Конники стоят на перекрёстке, маленьким не видно за людьми. Чей-то мальчик в новенькой матроске звонко крикнул: – Папа, подними! И уже вверху, над всеми нами, рассмеялся громко, горячо и вцепился смелыми руками в крепкое отцовское плечо. Мой взглянул на мальчика и замер, словно к месту своему прирос. И смотрел он детскими глазами, полными таких недетских слёз, что хотелось броситься и – мимо, растолкав весёлые ряды, спрятать сына от непоправимой, в первый раз им понятой, беды. Но стоявший возле мостовой — загорелый, сильный, высоченный — взял сынишку на руки военный! И подбросил вверх над головой. Вверх, туда, где тёплый майский ветер встретил сына трепетом знамён. И нигде, на целом белом свете, не было счастливее, чем он, этот сын моей большой земли, этот мальчик с круглыми щеками, на которых, словно ручейками, высохшие слёзы пролегли… Вот и всё. Прохладно. Вечереет. Сумерки качнулись у окна. …Вот в такие сумерки в Корее ожила проклятая война. Но опять – от края и до края — Встал народ за Родину стеной, Не в стихах, а в битвах повторяя быль, сейчас рассказанную мной. Он, как мы, снесёт бои и беды и поднимет на руки сирот. И корейский мальчик в День Победы к гимнастёрке воина прильнёт.9
Я сына уложу сегодня рано, не зажигая в комнате огня. И далеко, за краем океана, ты будешь слушать в этот час меня. Поправит распустившиеся прядки твоя простая тёплая рука. Ты, может быть, наклонишься к кроватке, посмотришь на уснувшего сынка. Закрутишь нервно пуговку на блузке, начнёшь платок к ресницам прижимать. И ничего, что я пишу по-русски: ты всё равно должна меня понять. Твой муж летит над городом Либава, под ним – чужая мирная страна. На это слово я имею право затем, что я – такая – не одна. Пускай оно несётся, слово это, за сотни гор, за тысячи морей. Его во всех частях и странах света услышат миллионы матерей. Пойми его, моё простое слово: мы не боимся, мы закалены. Мы защищать своих детей готовы. Но ты пойми: мы не хотим войны! Мы не хотим, чтобы на поле боя опять шагали тысячи бойцов, чтоб стало чёрным небо голубое, а дети оставались без отцов. Ты тоже мать. Так встань же вместе с нами, прижми ребенка своего к груди. Ты не одна! Нас много – погляди: в Москве, в Корее, в Лондоне, Вьетнаме. Ты не одна – нас много в этой схватке за то, чтоб мир – народам всей земли, чтоб сын твой тихо спал в своей кроватке и делал из бумаги корабли. Чтоб солнце, подымаясь на рассвете, росою засверкало по траве. Чтобы смеялись, пели, жили дети В Америке, в Корее и в Москве. 1950Метелица
Над станцией откосами развеялась пурга, сугробом – над колёсами упрямые снега. А ветру непутёвому легко завеять путь курьерскому, почтовому, ещё кому-нибудь. Над городом дорогами метелица кружит, завоет над порогами, на окна набежит. Девчонкам за окошками и горе – не беда — заснеженными стёжками не ходят поезда, но ветрами крылатыми любовь не замести! И девушки с лопатами выходят на пути, те девушки, которые от милых писем ждут… Курьерские и скорые идут, идут, идут! И сердцу крепко верится: не сможет занести упрямая метелица счастливые пути! Мети, мети, метелица! Летите, поезда! Развеется, расстелется и горе, и беда! 1950Девушкам Береславки
Возле полок пыльной автолавки в эти дни толпа наверняка: в эти дни девчата Береславки раскупают яркие шелка, примеряют туфельки резные, выбирают цвет, каблук, фасон… И на Волго-Доне все портные позабыли, что такое сон. Стачивают, меряют и снова ножницами звякают они, потому что до двадцать седьмого остаются считанные дни. Над широким морем долгожданным вьются чайки, песни, паруса… Спрятаны спецовки в чемоданы и со шлюзов убраны леса. И уже не качеством бетона, не отделкой арок и мостов — все живут здесь зеленью газонов, запахом деревьев и цветов. Будет праздник – музыка, знамёна, будет сердце радостно стучать. И пойдут хозяйки Волго-Дона корабли заморские встречать. Тронет ветер девичьи наряды, гордо выйдут девушки на склон, скажут: «Чем богаты, тем и рады, принимай, Отчизна, Волго-Дон!» Потому сегодня на прилавке шёлка уменьшается гора, потому портные Береславки не уснут сегодня до утра. И портной, склоняясь у машины, всё гадал: а что же под рукой — праздничные волны крепдешина, или шёлк воды волго-донской? 1952Письмо Гале Поповой
Галя, как теперь к тебе пробраться — все дороги снегом замело, и твоё зелёное прорабство от метели мартовской бело. Мы с тобой сдружились прошлым летом: мало мест в гостинице степной, и пришлось нам спать с тобой «валетом» под одной казённой простынёй. Нам с тобой ночами снились шлюзы, будущая светлая вода. Только что окончившие вузы, обе мы приехали сюда. Ты тогда вела свои посадки, я писала очерк про завод — спецкорреспондент из «Сталинградки» и районный техник-лесовод. Было трудно, было хорошо нам, мы в работе не жалели сил. Наш канал не только Волгу с Доном — Он и нас с тобою породнил! Хорошо, что мы с тобой подруги, что работа общая у нас… Галя, в эти мартовские вьюги вспоминаю о тебе не раз! Вижу – чёрные твои ресницы на морозе склеились слезой, на тебе большие рукавицы, валенки, подшитые кирзой. Ветер, снег. Но ты и нынче выйдешь лес сажать у пристаничных свай… Если наших девушек увидишь, от меня привет передавай! 1952«Областной редакции “Победу”…»
Областной редакции «Победу» издали узнаю, подбегу — говорят, что ты вернёшься в среду. Жаль, что я уеду к четвергу. Так они и вертятся, недели, — некогда озябнуть и устать. На каком-нибудь водоразделе мы с тобой увидимся опять. А в пути то холодно, то сыро, то туман, то звёзды, то луна… Наша двухбалконная квартира нам с тобой, пожалуй, не нужна. Мы в неделю раз туда приедем, будем вместе день и ночь одну. Нашим тихим правильным соседям в эту ночь испортим тишину: наши гости песню грянут звонко, кто-то что-то в рюмки разольёт. Ко всему привыкшая Алёнка под шумок, одетая, уснет. Я перенесу её в кроватку, песню колыбельную спою про неё, Алёнку-сталинградку, дочку говорливую мою. Песню колыбельную простую я спою о том, как через год ей, Алёнке, рыбку золотую папа с Волго-Дона привезёт. Утром, дочка, «лапкой» помаши нам, посмотри в окошко и не плачь… До Чапурников идёт машина, и уходит поезд на Калач. Значит, снова встречи и вопросы, люди, цифры, верная тетрадь, шлюзы, экскаваторы, откосы… Некогда озябнуть и устать! 1952На аллее Героев
От морозов и вьюг леденела земля, ветер к самой земле пригибал тополя. Буксовали трамваи в тяжёлом снегу, люди шли, проклиная февраль и пургу. В этот зимний февральский заснеженный день на аллее Героев сажали сирень. На застывшие корни послушно легли комья плотного снега и мёрзлой земли. Но не верилось мне, — да и только ли мне? — чтобы эта сирень ожила по весне. А сегодня – весна! Оживают сады, проплывают по Волге последние льды; на базаре старик продаёт семена, и мальчишки играют в футбол дотемна. У сирени, посаженной в феврале, отогрелась душа на апрельском тепле. Сколько за день людей по аллее пройдут! …Может, кто-то из них остановится тут и подумает то же, что думаю я: вот на этой земле умирали друзья, молодые, простые, как я и как ты… Они так же любили жизнь и цветы. 1952«Зима на Волгу льдами двинулась…»
Зима на Волгу льдами двинулась, пошла от Красной Слободы. А возле города раскинулась свинцовой полосой воды. Кипят-летят барашки белые — не унимаются ветра. И день, и ночь, обледенелые снуют по Волге катера. Зима всё ближе, всё заметнее. Играют школьники в снежки. А здесь, над Волгой, словно летние, басят буксирные гудки. 1953Декабрь в Сталинграде
Стеклянные бусы на ветках сосновых, хлопушки, шары, пестрота конфетти. Мальчонка в оранжевых валенках новых не может никак от окна отойти. И мама, пожалуй, забыла о сыне: почти что не дышит и смотрит она, как в ватных сугробах на светлой витрине стоит сталинградская ёлка – сосна. 1953Новогоднее
Встать у ёлки, подумать о многом, на сто лет загадать наперёд… Этой ночью по нашим дорогам старый год торопливо пройдёт. Он пройдёт по аллее Героев, выйдет к Волге, посмотрит во тьму. Золотые огни Гидростроя подмигнут на прощанье ему. И пойдёт он по чистым порошам, по сверкающим глыбинам льда… Я о чем-нибудь очень хорошем в эту ночь вспоминаю всегда. И становятся рядом со мною люди, книги, дороги, дела — всё мое, всё такое родное, без чего мне и жизнь не мила. Мне сегодня припомнились снова дым из труб, и сугробы стеной, и берёза у дома родного в костромской деревушке лесной. За столом необъятным сосновым там сейчас соберётся родня и хорошим, и ласковым словом обязательно вспомнит меня… Всколыхнутся ночные метели, полетят, загудят на бегу. Голубые кремлёвские ели утонули в пушистом снегу. Повернётся метелица круто, где-нибудь в Подмосковье замрёт. Всех ребят моего института новогодняя ночь соберёт! Дом московский становится тесен, как всегда, в нём не хватит столов, в нём тепло от студенческих песен, от торжественных, праздничных слов. И от них вся Москва засверкала в новогодней ночной синеве. Сколько пенистых звонких бокалов в эту ночь поднимают в Москве! Путь мой, может быть, долог и труден — жить мне радостней день ото дня, потому что хорошие люди помнят, любят и верят в меня. С Новым годом! По верным дорогам наше новое счастье идёт. Встать у ёлки. Подумать о многом. На сто лет загадать наперёд. 1953Сорок трав
Отпылал вчерашний зной. Тучи чёрные – стеной. И с рассвета по деревне ходит дождик проливной. Мокнет сено на возу, ветер гнёт к земле лозу, две девчонки загоняют голенастую козу. Вымыт начисто плетень, за окном, как ночью, темь. Спокон веку не бывает без грозы Иванов день. Даже бабка перестала «Огонек» впотьмах читать. Посмотрела, полистала, положила и сказала: – Нынче в ночь мы шли, бывало, сорок трав в лугах искать. Как, бывало, я нарву — под подушку ту траву. Как, бывало, загадаю, так и будет наяву!.. Если б верить я могла, я б сто сорок трав нашла. Я б не только луг колхозный — я б всю землю обошла. Но не верю ничему. Только сердцу своему. Что творится в этом сердце! А тебе и ни к чему. У тебя тяжёлый нрав — не помогут сорок трав: всё по-твоему выходит, ты всегда бываешь прав. …Вот и дождь перестаёт, и на улице народ, и почтовая машина через грязь к селу идёт. Замолкают тормоза. Вдалеке шумит гроза. На колодце сушит крылья золотая стрекоза. 1953На берегу
Я люблю ходить к реке! Пароходы вдалеке, и песчаная коса, и большие паруса… Я могу смотреть на Волгу два часа и три часа! Я гляжу из-под руки: проплывают речники, все в фуражках, все в тельняшках — всё равно как моряки. Проплывают – говорят: – Ты расти скорее, брат! Ты кончай десятый класс, вспоминай тогда про нас. Мы таких, как ты, берём — тоже будешь волгарём. …Я теперь на берегу целый день сидеть могу. Я теперь могу всё лето говорить про паруса. …Хорошо, что я не где-то, а на Волге родился! 1953Дочке
Тебе пока еще немного надо, ты вся, как полдень мартовский, ясна. По солнечным дорогам Сталинграда идёт твоя четвёртая весна. Она идёт, на Волге лёд ломая, скользит лучистым зайцем по стене… Ты ничего ещё не понимаешь и просто улыбаешься весне. Разбрызгиваешь ботиками грязь ты, сырым песком измажешь пальтецо. Ещё не знаешь ты, какое счастье, когда весенний ветер бьёт в лицо! И как плывет весенний тёплый вечер, как непокорна вешняя вода, какой огромной радости навстречу уносятся степные поезда! Весна идёт по всем дорогам мира, она зовёт и отправляет в путь, врывается в подъезды и квартиры и тем, кто молод, не даёт уснуть. И сколько их, бессонных и счастливых, сегодня сердцем чувствуют весну, и смотрят вдаль, и пишут торопливо: «Прошу послать меня на целину!» …Ещё не понимаешь ничего ты. Ты вырастешь. Поймёшь, как я хочу, чтоб и тебе такие же заботы пришлись и по душе, и по плечу. И тех ребят счастливая тревога твоей тревогой сделаться должна, чтоб ты вот так же собралась в дорогу, когда зовут Отчизна и весна. Все двери дома распахнутся настежь. Я, провожая, выйду на крыльцо… И ты поймёшь, какое это счастье — весенний ветер, рвущийся в лицо! 1953Алёнушка
За окошком лес, мохнатый, древний, луговой речушки поворот… В дальней-дальней костромской деревне девочка Алёнушка живет. Ходит по деревне – голос звонкий, и глаза синей, чем небеса, и, как и положено Алёнке, тонкая, но всё-таки коса. Зиму всю с салазками на горках, а весной гуляет у реки, топит с дедом баню на задворках, с бабушкой сажает кабачки. А когда лесной душистый ветер донесёт гудок грузовика, девочка, забыв про всё на свете, побежит встречать издалека. Не догнать ни бабушке, ни деду, — издали за внучкой поглядят. Подбежит, посмотрит, скажет: – Нету… И тихонько повернёт назад. Гасят электричество соседи, девушки запели за селом… – Бабушка, а завтра-то приедет? — спросит вдруг Алёнка перед сном. Бабушка положит внучку к стенке, ляжет с краю. – Завтра-то? Должна! …Мама у Алёнушки студентка, учится на доктора она. 1954Веснушки
Закипели капели над краем окна, потемнели дорожки в лесу: на деревьях весна и на крышах весна. А у Кати – весна на носу! Мне веснушки у Катюшки невозможно сосчитать! Раз веснушка, два веснушка, три веснушка, четыре… пять! Перед зеркалом Катя сидит полчаса, трёт и моет веснушчатый нос и завидует носу лохматого пса, на весну обижаясь до слез. А отец у Катюши полярником был. Он к далёкой зимовке своей на большом ледоколе два месяца плыл, он по льдинам за белым медведем ходил и не раз нападал на моржей. Звал он Катю в далёкие эти места, где метёт месяцами пурга, где полгода над домом стоит темнота, и весною не тают снега. И однажды сказала Катюша моя, что веснушки исчезнуть должны, и поехала с мамой в такие края, где совсем не бывает весны! Письма с Севера ходят по много недель, я читаю лохматому псу: там полярная ночь, там и в мае метель, а у Кати – весна на носу! Мне веснушки у Катюшки невозможно сосчитать! Раз веснушка, два веснушка, три веснушка, четыре… пять! 1954Подскажи словечко
Работницам Сталинградского тракторного завода Тамаре Бородиной и Алле Смирновой
Много песен есть хороших о моей родной стране — о дождях и о порошах, о зиме и о весне. То душевнее, то строже, льются разные, звеня… А какая мне дороже, вы спросите у меня! «Ах, Волга-речка, не боли, сердечко, не боли, сердечко, подскажи словечко!» Мне словечко подсказали, намекнули, помогли и от камерной печали этой песней увели. Увели к песчаным косам, к людям силы и добра, к тем гудкам звонкоголосым, запевающим с утра. Исчезает тишь да гладь… Ах, Волга-речка, как спасибо не сказать за твоё словечко! И, быть может, песня эта потому и хороша, что особо в ней воспета наша волжская душа… Вот и март приходит снова, и на Тракторном – весна! И опять поёт Смирнова, вторит ей Бородина… Встречу вешнюю зарю. Ах, Волга-речка, я тебя благодарю за твоё словечко. 1954Дети Сталинграда
Это здесь была война когда-то. Бой гремел у каждого двора. …Улицами города-солдата с шумом пробегает детвора. Новые дома, а с ними рядом — кирпичи обугленной стены. Родились ребята в сорок пятом и уже не видели войны. Им о ней рассказывают деды и отцы – строители Рынка́, и большой экран кино «Победа» старым кинофильмом «Сын полка». Гаснет свет, и жадными глазами ребятишки в прошлое глядят. А оно проходит в темном зале шагом наступающих солдат, грохотом далёкого снаряда, немудрёной песенкой бойца, силой правды, славой Сталинграда, орденом и ранами отца. …Все мальчишки нашего квартала в этот вечер спорят о кино. Им, как говорится, дела мало, что давно на улице темно. Их сзывают матери с балконов вековечным криком: «Спать пора!..» Где-то у истоков Волго-Дона притаилось солнце до утра. Белые акации из сада подошли к открытому окну… Крепко спится детям Сталинграда, лишь в «Победе» видевшим войну. 1955Перекрёсток
На самом шумном перекрёстке, у входа в город Сталинград, стоят каштаны и берёзки и ели стройные стоят. Как ни ищи – ты их не встретишь в лесах заволжской стороны, и, говорят, деревья эти издалека принесены. А было так: война когда-то была на волжском берегу. На перекрёстке три солдата сидели рядом на снегу. Стоял январь. И ветер хлёсткий позёмку в кольца завивал. Горел костер на перекрёстке — солдатам руки согревал. Что будет бой – солдаты знали. И перед боем с полчаса они, наверно, вспоминали свои далекие леса. Потом был бой… И три солдата навек остались на снегу. Но перекрёсток Сталинграда они не отдали врагу. И вот теперь на перекрёстке, на месте гибели солдат, стоят каштаны и берёзки, и ели стройные стоят. Шумят нездешними листами, дождём умытые с утра, и обжигают нашу память огнём солдатского костра. 1955Варя
Шуршали сухо листья на бульваре, хрустел ледок октябрьских стылых луж. К моей соседке, молчаливой Варе, осенним утром возвратился муж. Не так, как возвращались в сорок пятом мужья-солдаты с той, большой войны. Он постучался тихо, виновато, оставив дом своей второй жены. А Варя руки фартуком обтёрла, входную дверь спокойно отперла. Увидела. Ладонью сжала горло и в комнату не сразу провела. Потом она поплакала немножко, сказала: – Что ж, что было, то прошло… И вот сейчас у них звенит гармошка и звякает гранёное стекло. И Варя, вся одетая в обновки, покинувшие днище сундука, гремит листами газовой духовки и торопливо жарит судака. …А я считала, что у Вари – сила, за то, что, боль и горечь затая, она однажды в жизни не простила того, что столько раз прощала я! И мне казалось: всё не так, как надо, и гости торжествуют ни к чему, и Варя не забыла и не рада, и этот пир горой не потому, что вот вернулся он, отец ребятам и ей самой родной и дорогой. А потому, что он давно когда-то ушёл от Вари к женщине другой. Я всё ждала, что Варя гордо встанет, по-царски сложит руки на груди, сверкнёт глазами, прямо в душу глянет и, как чужому, скажет: – Уходи! Но Варя всё сидела с мужем рядом, на всех смотрела просто и светло, таким спокойным, всё простившим взглядом, как будто впрямь: что было – то прошло. И танцевала, стулья раздвигая, как будто и не плакала она, как в этот вечер плачет та, другая, вторая надоевшая жена. Как будто за окном не воет ветер, ломая молодые деревца… А у неё, у той, остались дети, как Варины когда-то, без отца. А он – отец – сидит спиной к комоду, с гостями шутит, чокается, ест. И Варя, может, год или полгода ему на этот раз не надоест. Она по старой, памятной привычке, худой носок натянет на грибок, а под подушку мужа сунет спички и папирос дешёвых коробок. Припомнит всё, что было дорогого в те давние счастливые года. И всем вокруг покажется, что снова в семье у Вари – счастье, как тогда. И муж решит: «Забыла про обиду! Привычка! Что ж, она у всех в крови…» А Варя просто не покажет виду, что в этом доме больше нет любви. Не знаю, может быть, она вернётся, любовь, которой Варя так ждала. Не потому ли радостно поётся у праздничного шумного стола? И кто-то, криком песню заглушая, какой-то тост провозглашает вновь… И Варя долго пляшет, провожая свою большую первую любовь. 1955Юрка
А. Н. Котляровой
Дверь подъезда распахнулась строго, Не спеша захлопнулась опять… И стоит у школьного порога Юркина заплаканная мать. До дому дойдёт, платок развяжет, оглядится медленно вокруг. И куда пойдёт? Кому расскажет? Юрка отбивается от рук. …Телогрейка, стеганые бурки, хлеб не вволю, сахар не всегда — это всё, что было детством Юрки в трудные военные года. Мать приходит за полночь с завода. Спрятан ключ в углу дровяника. Юрка лез на камень возле входа, чтобы дотянуться до замка. И один в нетопленой квартире долго молча делал самопал, на ночь ел картошину в мундире, не дождавшись мамы, засыпал… Человека в кожаной тужурке привела к ним мама как-то раз и спросила, глядя мимо Юрки: – Хочешь, дядя будет жить у нас? По щеке тихонько потрепала, провела ладонью по плечу… Юрка хлопнул пробкой самопала и сказал, заплакав: – Не хочу. В тот же вечер, возвратясь из загса, отчим снял калоши не спеша, посмотрел на Юрку, бросил: – Плакса! — больно щелкнув по лбу малыша. То ли сын запомнил эту фразу, то ли просто так, наперекор, только слез у мальчика ни разу даже мать не видела с тех пор. Но с тех пор всё чаще и суровей, только отчим спустится с крыльца, Юрка, сдвинув тоненькие брови, спрашивал у мамы про отца. Был убит в боях под Сталинградом Юркин папа, гвардии солдат. Юрка слушал маму, стоя рядом, и просил: – Поедем в Сталинград!.. Так и жили. Мать ушла с работы. Юрка вдруг заметил у неё новые сверкающие боты, розовое тонкое бельё. Вот она у зеркала большого примеряет байковый халат. Юрка глянул. Не сказал ни слова. Перестал проситься в Сталинград. Только стал и скрытней, и неслышней. Отчим злился и кричал на мать. Так оно и вышло: третий – лишний. Кто был лишним? Трудно разобрать! …Годы шли. От корки и до корки Юрка книги толстые читал, приносил и тройки, и пятерки, и о дальних плаваньях мечтал. Годы шли… И в курточке ребячьей стало тесно Юркиным плечам. Вырос и заметил: мама плачет, уходя на кухню по ночам. Мама плачет! Ей жилось несладко! Может, мама помощи ждала!.. Первая решительная складка Юркин лоб в ту ночь пересекла. Он всю ночь не спал, вертясь на койке. Утром в классе не пошёл к доске. И, чтоб не узнала мать о двойке, вырвал две страницы в дневнике. …Дверь подъезда распахнулась строго, не спеша захлопнулась опять… И стоит у школьного порога Юркина заплаканная мать. До дому дойдёт, платок развяжет, оглядится медленно вокруг. И куда пойдёт? Кому расскажет? Юрка отбивается от рук… 1955Баба Тоня
А. М. Синельниковой
И зимой, и осенью, и летом, и сегодня так же, как вчера, к бабе Тоне ходят за советом женщины огромного двора. Я у ней бываю зачастую. Сяду тихо, прислонюсь к стене. И она хорошую, простую жизнь свою рассказывает мне. …Далека деревня Песковатка, вся как есть засыпана песком. Дом родной – забота да нехватка, замуж выходила босиком. Всю-то жизнь трудилась, хлопотала, каждый день – с рассвета дотемна. И на всех любви её хватало, обо всём заботилась она. Баба Тоня… Это не она ли по ночам, когда ребята спят, раскроив куски диагонали, шила гимнастёрки для солдат? Не её ли тёплые ладони возрождали город Сталинград? «Антонин Михална!», «Баба Тоня…» — это не о ней ли говорят? На экранах, в книгах и на сцене — знаменитых женщин имена. Только кто заметит и оценит то, что в жизни сделала она? Шьёт внучатам кофточки из байки, моет пол да стряпает обед… Тихая судьба домохозяйки, ничего особенного нет. 1955«А боль пришла негаданно, нежданно…»
А боль пришла негаданно, нежданно, словно ударил трус из-за угла: на самом дне большого чемодана я спрятанную карточку нашла. Засунул под газету осторожно, под смятый ворох грязного белья, — ты постарался сделать всё, что можно, лишь только с ней не встретилась бы я! В глаза ей, что ли, посмотреть подольше?.. Да что она? Да разве дело в ней?.. Я порвала сейчас гораздо больше, чем карточку любовницы твоей. Что ж! Вынесу еще одну потерю, обиду, горечь – как ни назови. Но никогда, ни разу не поверю твоим словам и книгам о любви! 1956«Справилась и с этой трудной ношей…»
Справилась и с этой трудной ношей воля непонятная моя. Вот опять о том, что ты — хороший, дочери рассказываю я. Дочка рада! Дочка смотрит в оба. Ловит слово каждое моё. Видно, ей давно хотелось, чтобы был отец хороший у неё. Только вдруг, как могут только дети, говорит без страха и стыда: – Если папа лучше всех на свете, почему ты грустная всегда?.. То ли больно, то ли горько стало. Что я дальше ей сказать должна? Я сказала: – Просто я устала, потому что я всегда одна. Дочка брови сдвинула упрямо, на косичках дрогнули банты. Подошла ко мне. Прижалась. – Мама! Лучше всех на свете только ты. 1956Сын
Сияет ли солнце у входа, стучится ли дождик в окно, — когда человеку три года, то это ему всё равно. По странной какой-то причине, которой ему не понять, за лето его приучили к короткому: – Не с кем гулять! И вот он, в чулках наизнанку, качает себе без конца пластмассовую обезьянку — давнишний подарок отца. А всё получилось нежданно — он тихо сидел, рисовал, а папа собрал чемоданы и долго его целовал. А мама уткнулась в подушки. С ним тоже бывало не раз: когда разбивались игрушки, он плакал, как мама сейчас… Зимою снежок осыпался, весной шелестели дожди. А он засыпал, просыпался, прижав обезьянку к груди. Вот так он однажды проснулся, прижался затылком к стене, разжал кулачки, потянулся и – папу увидел в окне! Обрадовался, засмеялся, к окну побежал и упал… А папа всё шел, улыбался, мороженое покупал! Сейчас он поднимется к двери и ключиком щёлкнет в замке. А папа прошёл через скверик и – сразу пропал вдалеке. Сын даже не понял сначала, как стало ему тяжело, как что-то внутри застучало, и что-то из глаз потекло. Но, хлюпая носом по-детски, он вдруг поступил по-мужски: задернул в окне занавески, упруго привстав на носки, поправил чулки наизнанку и, вытерев слёзы с лица, швырнул за диван обезьянку — давнишний подарок отца. 1957Журавли
А. и Н. Мизиным
Зима, как говорится, злится! Но где-то там, ещё вдали, летят серебряные птицы, седые птицы – журавли. Они летят дорогой длинной, путём, не знающим конца. Упрямым клином журавлиным они врезаются в сердца. И кличем, полным вешней новью, и каждой жилочкой в крыле, и той безудержной любовью, которой тесно на земле! Они прошли такие дали, они летели столько дней! Они, наверно, так устали, что и не думают о ней. Они встречали снег и слякоть, туманов липнущую сеть. Они поют – чтоб не заплакать. Они летят – чтоб долететь. И вдруг один вздохнул устало и начал падать тяжело. Но где-то рядом трепетало родное серое крыло. И он схватил последним взглядом цепочку вытянутых тел (а то крыло всё билось рядом!) и – не упал. И – долетел. …Они летят по всей России, седые птицы – журавли. Их треугольники косые весь белый свет пересекли. И перед первым снегопадом в тугую синь взовьются вновь. Они всю жизнь летают рядом, а это — больше, чем любовь. 1957Арбуз
Михаилу Луконину
Морозным ветреным снежком с утра хрустит базар. Старик накрыл большим мешком тугой зелёный шар. Обтёр заиндевелый ус озябшею рукой и закричал: – А ну, арбуз, арбуз, смотри какой! К нему – народ со всех сторон. Старик твердил: – Бери! Но кто-то громко крикнул: – Он, поди, пустой внутри! И в тот же миг на этот крик, как коршун, кинулся старик. Сказал негромко: – Врёшь! Сказал и вынул нож. Как он успел? И как он смог? В какой зелёный круглый бок ударил сгоряча? Но – хлынул на снег алый сок! И всем почудилось: у ног не снег, а золотой песок — далёкая бахча. Арбуз лежал передо мной, и сочен, и багров, как щедрый августовский зной Быковых хуторов. Арбуз лежал, живым огнём — огнем земли горя. И тихо таяли на нём снежинки декабря. 1957Карнавал
Четвёртый класс голосовал: на ёлке будет карнавал! А чтобы не было у нас ни скучных, ни угрюмых, голосовал и пятый класс, что все придут в костюмах. Но тут Наташа поднялась: – Ведь мы уже не третий класс, пора сказать мальчишкам: они на празднике у нас застенчивые слишком. Давайте так голосовать: чтоб всем мальчишкам танцевать на нашем карнавале! Все «за» голосовали. Летели дни, летели дни. Декабрь – на что уж долог, но он прошёл, и вот – огни зажглись на ветках елок. И все пришли на карнавал, и всяк друг друга узнавал: – Посмотрите, это кто в старом Мишкином пальто и в медвежьей маске закружился в пляске? Он не Букин Мишка — он косолапый мишка! – Что случилось, что случилось? Что с Маринкой получилось? Была, была Маринкой и сделалась снежинкой! А 5-й «А» был так хитер — он все решал без споров. В нём каждый мальчик — мушкетёр. Смотрите, входят в коридор пятнадцать мушкетёров! Они идут, чеканят шаг. И зал наполнен звоном шпаг и песней о сраженьях. У них и шпоры, и усы! Девчонки от такой красы застыли без движенья. А Пете не нужны усы. А Пете что — надел трусы, взял штангу из картона и ленту чемпиона: он самый толстый ученик из всех четвертых классов. Вошёл – и все узнали вмиг, что это – Юрий Власов. Приятно видеть силача! Но тут, сапожками стуча, вошла другая маска: из-под фуражки на виски выглядывают колоски, в руках баранок связка. И всё. И больше ничего! Но на рубашке у него, на самом видном месте, большая цифра – «двести». И все кричат: – Соображай, он – сталинградский урожай! Вот молодец, Сережка! Дай бубличка немножко! Сережа пел и танцевал и всем баранки раздавал, и все смеялись, ели, присев у самой ели. И пели песни – все подряд! Такой весёлый маскарад придумали ребята. А коль у вас и в этот раз скучал на ёлке целый класс, — так виноват любой из вас, а я не виновата! Какие у тебя мечты? И кем придёшь на праздник ты: ромашкой в белых лепестках, Снегурочкой, метелью? Но только знай: в твоих руках живёт твое веселье. 1957Из «корейского» цикла[1]
Я люблю тебя, Корея!
Лето начинается в Корее. Солнце поднимается всё выше. И уже уходит торопливо нежная восточная весна. Тёплыми июньскими ночами майский жук ещё стучится в окна, и, из сил последних выбиваясь, белые акации цветут. Белые медовые деревья — словно снега первого охапки, словно пену горного потока ветры разбросали по ветвям. Вечерами прячутся за лесом белые тяжёлые туманы. Тихо выплывает из-за сопки медленное зеркало луны. Белые одежды кореянок — от луны они ещё белее! Тихо замирает в отдаленье ласковая песня «Ариран». Смуглые корейские поэты мне опять рассказывают нынче древние легенды о драконах, сказки о красавицах лесных. Я давно уже не сплю ночами. Но не сладким запахом акаций и не влажной свежестью рассветов сердце переполнено моё. Я живу – смотрю, запоминаю не глазами, не умом, а сердцем. Будущая книга о Корее — я живу и думаю о ней. Думаю о ней, как о ребёнке: пусть он не успел ещё родиться, но уже колотится под сердцем, с каждым днем дороже становясь. И как имя будущему сыну, книге я придумываю имя. Имя – «Я люблю тебя, Корея». Так я эту книгу назову. 1957«Среди пыльных стеблей гаоляна…»
Среди пыльных стеблей гаоляна притаились, почти невидны, глинобитные стены землянок, сохранившихся после войны. Ребятишки играют у входа, над травой голосами звеня… Сталинград сорок третьего года из землянок взглянул на меня. А вдоль новых проспектов Пхеньяна электричество вечер зажёг. И трепещет над башенным краном от дождей полинялый флажок. От тумана вечернего сыро, отразились в асфальте огни. Сталинградскую улицу Мира мне напомнили нынче они. 1957Памятник советским морякам
Сырой туман ползёт неторопливо, вливаясь в пароходные дымки. На берегу Корейского залива на вечный якорь стали моряки. По-прежнему навеки море близко. Волна, как слёзы, вечно солона. На светло-сером камне обелиска строка к строке — героев имена: Мария Ляма… Сидоров… Осташко… И если только издали взглянуть, то кажется – матросская тельняшка натянута на каменную грудь. И дата боя – памятная дата. Запомню всё. Не плачу. И стою, и понимаю, почему так свято в Корее любят Родину мою. 1957«От перегона к перегону…»
От перегона к перегону — войны тяжёлые следы: подходят к самому вагону воронки, полные воды. А на краю большой воронки, как в чистом поле над рекой, сидит весёлая девчонка и машет поезду рукой. Оставив туфли на дорожке, горячим днём разморена, свои доверчивые ножки в воронку свесила она. И столько радости во взоре, в глазах её отражено! Ей невдомёк, какое горе в воронке той погребено! Она глядит счастливым взглядом. Она проста и весела. И рис – растёт, и мама – рядом, земля – мягка, вода – тепла! И, ветры в стороны бросая, летят по рельсам поезда, чтоб эта девочка босая была счастливая всегда, чтобы она в траве росистой рвала цветы родной весны и мыла ножки в речке чистой, навеки смывшей гарь войны. 1957В самолёте
Как аисты в рисовом поле, в траве самолёты стоят. Мне руки сжимают до боли, прощальное что-то кричат. Расходятся клочья тумана, шасси приминает траву. Летит самолёт из Пхеньяна, летит самолёт на Москву. Из облака вынырнул лучик, сверкнул самоцветом в окне. А маленький смуглый попутчик уже улыбается мне. В пути я его обучаю: ладошками «ладушки» бью, и просто тихонько качаю, и «баюшки-баю» пою. Лежит он – такой смуглокожий, рождённый в далёком краю, и всё-таки очень похожий на светлую дочку мою! Чем ближе к Москве, тем быстрее плывёт самолёт в облаках. Горячий комочек Кореи уснул у меня на руках. 1957«Вы мне говорили в Корее…»
Вы мне говорили в Корее, к моим привыкая словам, что русское слово «тропинка» особенно нравится вам. Бывают большие дороги, большие слова и дела. Одна дорогая тропинка у каждого в жизни была… Далёко-далёко в Корее остались не только друзья — одну дорогую тропинку в Корее оставила я. И что бы потом ни случилось, и сколько бы лет ни прошло, — на этой хорошей тропинке по-прежнему будет светло. 1957Гроза
Гроза пришла светло и смело! Но я в грозу ушла одна. И лишь секунду пожалела, что я горда, что я сильна. Нет, он тогда не ошибался: мы не увидимся вовек. Но у меня в глазах остался зелёный цвет далёких рек. Зачем она – ему ли, мне ли — такая поздняя гроза? Зачем ещё позеленели мои зелёные глаза?.. 1962Листовки Гидростроя
1. Земля
Лежит земля сырая в самосвале. Земля в прожилках скрученных корней. За эту землю жизни отдавали, и вот теперь работаем на ней. Ползут, летят, грохочут самосвалы. Сдается Волга, пенясь и бурля… Нам в эти дни еще дороже стала святая сталинградская земля.2. Котлован
Восемь лет в котловане и ночи, и дни не смолкали моторы, не гасли огни. Котлован! Ты в полдня его не обойдёшь. Если кто-нибудь нужен — и в день не найдёшь! Завтра здесь, в котловане, Заплещет вода. Оглянись и запомни его навсегда. Вот он – наш котлован! Это – руки в пыли, это грохот машин и дыханье земли. И пускай говорят: – Не бывает чудес! Но мы видим сегодня отсюда: поднимается ГЭС, Сталинградская ГЭС — трудовое, рабочее чудо.3. Волга
Из-за нее идет сраженье. Из-за нее ночей не спят. Но гордо, нежно, с уваженьем о ней на стройке говорят: – Пускай и пенится, и рвется, сопротивляется пока. Она недаром не сдается: она ведь русская река!4. Пирамиды
Непримечательные с виду, тяжеловесны и тверды, стоят над Волгой пирамиды, сомкнув бетонные ряды. И столько в них суровой силы, что людям кажется порой: оставив братские могилы, они пришли на Гидрострой. Как будто тот, кто спит под ними, кто пал за Родину свою, сейчас не мог не быть с живыми в одном ряду, в одном строю. Он вместе с нами! Он не выдаст! Он сдержит волжскую струю! Стоят над Волгой пирамиды, как будто воины в строю.5. Листовка
А ветры нынешние круты, над Волгой мечутся они… Постой, товарищ, на минуту, листовку эту разверни. От ветра заслони рукою, темно – придвинь поближе свет. Ты знаешь, будет и такое: пройдет и год, и десять лет. Ни котлована, ни прорана, и только – ток, горячий ток! А ты достанешь из кармана вот этот меленький листок. – А это что? – вдруг спросит кто-то. А ты ответишь: – Это я. Мои друзья. Моя работа. И просто – молодость моя!.. Пускай и дождь, и ветры круты — мы не забудем эти дни! Постой, товарищ, на минуту, листовку эту сохрани. 1958Награда
Еще нам было радоваться рано: конца и края не было делам. И Волга бесновалась у прорана и рельсы разрывала пополам. Ревя, крутила черные воронки и на дыбы вздымала катера… А мы стоим не где-нибудь в сторонке, а тоже там, где страдная пора, где вьется снег, где трудятся до пота, где нервы проводов напряжены, где ценится и царствует работа, и где стихи, пожалуй, не нужны. Я это все припоминаю снова и позабыть вовеки не смогу. Седой старик, монтажник с наплавного, развел костер на левом берегу. И крикнул нам немного грубовато, глаза рукой от дыма заслоня: – А ну-ка вы, поэты Сталинграда, погрейтесь-ка у нашего огня!.. Опять гудят машины на откосах, и рядом Волга рвется на простор. Трещат куски опалубковых досок, пылает гидростроевский костер. Его теплом по праву отогреты, как равные, сыны одной семьи, — бетонщики, прорабы и поэты, хорошие товарищи мои. И было все – уверенность и сила, и счастлив труд, и молодость остра! И если я кого-нибудь любила — так только их у этого костра. Я это все припоминаю снова и позабыть вовеки не смогу… Спасибо вам, монтажник с наплавного, за тот костер на левом берегу! Как самая высокая награда теперь хранится в сердце у меня: – А ну-ка вы, поэты Сталинграда, погрейтесь-ка у нашего огня!.. 1958Твоя волна
Памяти Наташи Лаврентьевой
Проходит все. Пройдет и горе. Отплачет мать. Уйдут друзья. Но есть под Сталинградом море — живая молодость твоя. Оно отныне – и навеки! Оно несет за валом вал! Оно поет о человеке, который море создавал. О том, который жил в палатке, терпел и стужу, и жару, ходил в бураны по канатке, как по персидскому ковру; он останавливает реки и просто водит самосвал… Писала ты о человеке, который море создавал. Я это море тоже знаю. И в этом море есть одна — зеленоглазая, степная, твоя – Наташина волна. Над ней, крича, летают чайки, в нее с прибрежной высоты весной глядят неумирайки — степные чистые цветы. 1958Зависть
Оно горит упрямым светом — твое окно в моей судьбе. И я могу признаться в этом: да, я завидую тебе. Тому, что ты вот так загружен, что день не кончен трудовой, что ты и ночью людям нужен, как нужен врач и часовой. И все сильнее эта зависть, и глубоки ее следы. Она – как маленькая завязь, и, значит, в будущем – плоды. 1958«Вот и поезд. Вспыхнул ярким светом…»
Вот и поезд. Вспыхнул ярким светом, обогнул знакомый поворот. Заслоню спасительным букетом горько улыбающийся рот. Ты ведь тоже спрячешься в букете. Ведь, глаза цветами заслоня, легче сделать вид, что не заметил ничего, что мучает меня. Это счастье – встретить на вокзале. Только счастья нет у нас опять: раз тебя другие провожали, что за счастье мне тебя встречать? 1958«Всегда – встречая, провожая…»
Всегда – встречая, провожая — и ты был прав, и я права. А возле нас жила чужая, на все способная молва. Бывало так: беда случалась. Работа вдруг не получалась. Молва всегда бывала там — самозабвенно возмущалась и шла за нами по пятам. Бывало горько. Я молчала. Молва вздыхала и ворчала вокруг молчанья моего: «Она глупа – она прощает…» «Она умна – не замечает…» Я все на свете замечала и не прощала ничего. А мы все вместе! Век ли, миг ли, или пятнадцать лет подряд! – Что ж, им легко – они привыкли! — о нас с тобою говорят. А мы молчим и знаем оба — какого стоило труда, чтобы вот так: любовь до гроба, а не привычка навсегда. 1958Мое вино
Виктору Урину
Не вспомню бед, обид и вин. Упрек не повторю. Сухих и, значит, легких вин тебе не подарю. Пусть ночь пройдет. И сто пройдет. И где ты – все равно. Тебя все ждет, тебя все ждет она – мое вино. Она – не для того, кто слаб, она – крепка, чиста. Горька, как слезы русских баб, как их любовь, проста. Проста, горька и тяжела, и от нее – больней! Но – уж какая б ни была, а ты вернешься к ней. Тебя прошу не о любви, а только об одном: ее ты водкой не зови, зови моим вином. А мне – не нужно ничего. И даже все равно — чиста ли совесть у того, кто пьет мое вино. 1959Травиночка
Не какая роза алая и не возле синих вод — так себе, травинка малая, в большом лугу живет. Всех нарядов у травиночки — сама как бирюза да сверкучая росиночка — горючая слеза. А соседи у травиночки — полынь да молочай. Все бывало у травиночки: и радость, и печаль. Шелестели травы разные вокруг своей сестры: – Есть на свете звезды ясные, зарницы да костры!.. Но упрямая травиночка думала свое: пусть никто, а только солнышко посмотрит на нее. Проходило мимо солнышко — на север и на юг. Но не плакала травиночка, а пела на весь луг! …Я была бы той травиночкой на шелковом лугу. Только я сегодня вечером не плакать не могу. Далеки дороги Родины! Широк зеленый луг! И уходит мое солнышко на север и на юг. 1960«Но мне бывает в тягость дружба…»
Но мне бывает в тягость дружба, когда порой услышу я, что я жила не так, как нужно, — мне говорят мои друзья. Что мало песен написала, что не боролась, а ждала, что не жила, а угасала, что не горела, а жила. Что я сама себя сгубила, сама себя не сберегла… А я жила – тебя любила! А я – счастливая жила! Я не хочу начать сначала, ни изменить, ни повторить! И разве это так уж мало: все время ждать, всю жизнь любить? 1960Моя живая книжка
Она всех книг моих сильней и людям, стало быть, нужней моих стихов, моих поэм, ещё не читана никем. Пусть знаю только я одна, как трудно пишется она, и сколько вложено в неё. Но в ней – бессмертие моё. У этой книжки сто дорог, и километры светлых строк, и человечные слова, и бесконечные права! Я эту книжку не пишу — я на руках ее ношу, над ней пою, над ней молчу, её молчать и петь учу. Но не молчит она – поёт! И мне работать не даёт. Она болит – опять терпи. Она зовёт – опять не спи! Опять не спать до петухов! Опять – увы! – не до стихов: всю ночь кричит сынишка — моя живая книжка. 1961Колыбельная
Баю-баюшки-баю… Песню старую пою. Песню долгую пою — баю-баюшки-баю… Баю-баюшки-баю… Час пою, два пою. Дочку милую мою баю-баюшки-баю… Баю-баюшки-баю… День пою, ночь пою! Дочку милую мою баю-баюшки-баю… Час пою, два пою. День пою, ночь пою! Дочка – баюшки-баю… А мама выспится в раю. 1962«Середина двадцатого века…»
Середина двадцатого века… Над землею – весенний наряд… Я люблю тебя, как человека, праздник мой — город мой, Волгоград! Я люблю твоих улиц кипенье людское. По которой из них ни пройди, на любую взгляни — и увидишь такое, от чего замирает в груди! Как ты вырос, дома и сады поднимая, как ты строил этаж к этажу, как светлели твои Первомаи, хочешь, нынче тебе расскажу? А они у тебя и такие бывали — в затемнённые трудные дни: ни садов, ни домов, и над тенью развалин только майских салютов огни. Пролетают года, и рубцуются раны. Новый май, новый свет над тобой: всё подъёмные краны, подъёмные краны в первомайской ночи голубой. Там, где краны сверкали огнями высоко, где строители шли на леса, — мирный свет волгоградских распахнутых окон далеко над землей разлился. Город наш, ты – живое дитя человека. Ты – наш сын, наш товарищ, наш брат. Здравствуй, май середины двадцатого века! С Первомаем тебя, Волгоград! 1962В обеденный перерыв
Я здесь бывала. Всё мне здесь знакомо. И всё же через грохот заводской меня ведёт товарищ из завкома и откровенно сетует с тоской: – Вот, вроде бы, и вы не виноваты, и мы, опять же, тоже ни при чем. Людей, конечно, будет маловато: стихи! Не понимают нипочём!.. Завод гудел. Дышал единым духом. Вздымались трубы в огненной пыли. А он всё шёл и всё бубнил над ухом, что «люди до стихов не доросли», что «молодёжь и в клубе-то нечасто», что «ей бы лишь плевать бы в потолок»… Мы наконец приходим на участок и смотрим: полон красный уголок! Сидят ребята – парни и девчонки — от сцены до последнего ряда! Попутчик мой в восторге снял кепчонку и, подмигнув, сказал: – Вот это да! …Ах, это состоянье боевое, когда стихи свои – на суд людской! Зал был со мной. Но в зале было двое, колдующих над шахматной доской. Я понимала: время перерыва, у них обед и им не до меня. И вот один из них неторопливо берёт за гриву белого коня. Что ж, обижаться тут не полагалось, но и сдаваться мне не по нутру. Как я старалась, как я добивалась, чтобы ребята бросили игру! Уже в блокноте зримо и весомо, моим успехом удовлетворён, поставил птичку деятель завкома, такую же бескрылую, как он. Уже девчонка на скамейке левой платок искала, мелочью звеня. А те, как пешкой, крутят королевой и всё равно не смотрят на меня. По клеткам кони скачут угловато и царственно шагают короли. И я одна на свете виновата, что двое до стихов не доросли! Меня упрямой называли с детства, но не упрямство вспыхнуло в крови, напомнив мне испытанное средство… И я читаю только о любви. Не знаю, может, правда столько было в стихах любви, и счастья, и тоски, а может, просто – я тебя любила… Но парни оторвались от доски! …Я уходила от ребят в восторге, читателя почувствовав плечом. Неужто скажут завтра в книготорге: – Стихи! Не покупают нипочем! 1962«У смерти тоже есть свои порядки…»
Юрию Окуневу
У смерти тоже есть свои порядки. Ну что ж, умру когда-нибудь и я. Меня положат в зале «Волгоградки» — тогда уж воля будет не моя. И кто-нибудь, всегда на всё готовый, создаст двухцветный траурный уют и с чувством скажет горестное слово по принципу – «лежачего не бьют». И все узнают, как жила я мало, как я ещё бы – жить да жить могла, какие я «шедевры» написала, какая я «хорошая» была!.. Ах, щедрый автор смертных приговоров, он так доволен – речи вопреки, — что я ушла в дорогу, о которой не пишут путевые дневники. Что от плохих стихов не затоскую, что на собраньях слова не прошу и никого-то я не критикую, убийственных рецензий не пишу! Не верьте тем, кто скажет надо мною высокие надгробные слова! Какой была – а я была иною, — сама скажу, покуда я жива. А я – как все: и плакала, и пела, стыдилась плакать и любила петь. А я гораздо больше не успела, чем было мне доверено успеть. Я жизнь люблю. Я, и прощаясь с нею, ищу дорог и радуюсь весне! А жить стараюсь проще и честнее, чем после смерти скажут обо мне. 1962Стихи о моём солдате
Когда, чеканный шаг ровняя, идут солдаты на парад — я замираю, вспоминая, что был на свете мой солдат. …Война. И враг под Сталинградом. И нету писем от отца. А я – стою себе с солдатом у заснежённого крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего. И только молча грею руки в трёхпалых варежках его. Потом – прощаюсь целый вечер и возвращаюсь к дому вновь. И первый снег летит навстречу, совсем как первая любовь. Какой он был? Он был весёлый. В последний год перед войной он только-только кончил школу и только встретился со мной. Он был весёлый, тёмно-русый, над чубом – красная звезда. Он в бой пошёл под Старой Руссой и не вернется никогда. Но всё равно – по переулкам и возле дома моего идут солдаты шагом гулким, и все – похожи на него. Идут, поют, ровняют плечи. Ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу — и чья-то первая любовь. 1963Февраль
Над площадями Волгограда опять метелицы кружат. Двадцатилетние солдаты двадцатый год в земле лежат. А на земле, воспетой в песнях, над волжской медленной водой поднялся город – их ровесник — великий, светлый, молодой. Он потому велик и светел, что в час бессмертья своего они – в огне, сквозь дым и пепел — таким увидели его. 1963На Мамаевом кургане
Уже он в травах, по-степному колких, уже над ними трудятся шмели, уже его остывшие осколки по всей земле туристы развезли. И всё идет по всем законам мира. Но каждый год, едва сойдут снега, из-под его земли выходит мина — последний, дальний замысел врага. Она лежит на высохшей тропинке, молчит, и ждёт, и думает своё. И тонкие отважные травинки на белый свет глядят из-под неё. По ней снуют кузнечики и мушки, на ней лежат сережки тополей, и ржавчины железные веснушки её пытались сделать веселей. Она жадна, тупа и узколоба. И ей не стать добрее и земней. Её нечеловеческая злоба так много лет накапливалась в ней. Добро и зло кипят, не остывая. Со смертью жизнь сражается века. И к мине прикасается живая, от ненависти нежная рука. Потом ударит гром над степью чистой — и отзовётся эхо с высоты. И на кургане шумные туристы, взглянув на небо, вытащат зонты. Они пойдут по этой же тропинке и даже не заметят возле ног усталые дрожащие травинки и след тяжелых кованых сапог. Пускай себе идут спокойно мимо! Пускай сияет солнце в синеве! Ведь жизнь – есть жизнь. И все солдаты мира и молоды, и бродят по траве. 1963Побратимы
В марте 1960 года Н. С. Хрущев подарил мэру города Дижона канонику Ф. Киру картину художника Ф. Суханова «Эстакада Сталинградской ГЭС»
Я о Франции думала — с детства, наверно: там, в какой городок ни придёшь, все мужчины добры, как герои Жюль Верна, все мальчишки смелы, как Гаврош! …Над Дижоном весеннее солнце и весенних небес чистота, и, от солнца сощурившись, смотрят дижонцы на кусок костромского холста. А на нём – не тревога, не горе, не развалины прошлой войны — волгоградское небо, волгоградское море, волгоградские души видны. Я сегодня особенно рада: не бомбежку, не смерть, не бои — посмотрели дижонцы в глаза Волгограда и увидели думы свои. А на свете весна. Распускаются липы. А на свете, куда ни пойдёшь, все мальчишки отважны, как Саша Филиппов — мой земляк, волгоградский Гаврош. 1963«С давних пор, застенчивых и милых…»
Валентине Терешковой
С давних пор, застенчивых и милых, у кого в России ни спроси, именами пташек сизокрылых величали женщин на Руси. За терпенье, верность и осанку и за то, что до ночи в труде, звали их «лебёдушки», «касатки», звали их «голубками» везде. Я сегодня думаю о многом. …В сапогах солдатских, все в пыли, по земным недевичьим дорогам наши «чайки» к космосу пришли. Был их путь не лёгок и не краток: в Польше, на Дунае, у Карпат на подбитых крыльях плащ-палаток русские касаточки лежат. Но вдали от грозного металла, нам на счастье и назло врагу, маленькая Чайка вырастала на высоком волжском берегу. Выросла! За Родину готова в бой, и в труд, и в дальние края… Здравствуй, Чайка – Валя Терешкова! Здравствуй, гордость женская моя! 1963«Когда бы всё, что нам хотелось…»
Надежде Павловской
Когда бы всё, что нам хотелось, вершилось в жизни без труда, с лица земли исчезла б смелость, которой брали города. И если б горькие ошибки не жгли нам руки и умы, считали б чистые улыбки всего лишь вежливостью мы. А я за то, чтоб в жизни встретить и неудачу, и грозу, улыбку вовремя заметить, припрятать вовремя слезу. Чтобы на каждом повороте тревожный красный свет не гас. Чтобы и в жизни, и в работе судьба не баловала нас. 1963Жена поэта
Стихи! Взволнованные лица. Стихи! Тревога. Правда. Страсть. И невозможно потесниться, и негде яблоку упасть. И сединою убелённых собрал солидный первый ряд. И лица девочек влюблённых — горячих, чистых и зелёных — огнем поэзии горят. Девчонки смотрят вдохновенно и замирают откровенно, когда гремит над залом стих! Потом поэт, сойдя со сцены, уводит в ночь одну из них. Они проходят, ночи эти. За них кому-то быть в ответе. Но как ты их ни назови — от них рождаются на свете стихи и песни о любви! А на рассвете, в час рассвета, бледным-бледна, белым-бела, ко мне пришла жена поэта, жена товарища пришла. Бездонной горечью сандала дохнул китайский веерок — она вошла и зарыдала, легко споткнувшись о порог. И, может быть, немного значит простая женская беда, и слёзы женские – вода. Но человек хороший плачет. И этот плач не нынче начат — неслышный, тянется года. И как назвать мне годы эти, и возвращенья на рассвете, и ночи горькие твои? Но как ты их ни назови — от них рождаются на свете стихи и песни о любви! Ах, горький мёд – любовь поэта! Роса – краса в лучах рассвета! Костёр, пылающий для всех! И это всё — твоё мученье, твоё железное терпенье, твоё великое сраженье, твоя победа, твой успех. Я говорила, говорила, я всё сначала повторила, волнуясь, голосом звеня. Я тоже знаю слов немало! Она меня не понимала. Она не слушала меня. Она сидела, всё бледнея, откинув волосы со лба, в сто раз печальней, и сильнее, и неотступней, чем судьба. И улыбалась – не глазами, а побежденными слезами, и, изогнув упрямо бровь, легко косынку завязала и чистым голосом сказала: – Ну, что поделаешь, – любовь… Она её зовёт любовью, несёт в душе, не на горбу, свою – ни девичью, ни вдовью — неисправимую судьбу! …Она ушла перед рассветом встречать, и ждать, и всё – любить. Ах, если б я была поэтом! Уж я бы знала, как мне быть. 1963Витька-Фидель
Потом, если будут, вопросы! …Идёт по планете апрель. Живёт в Волгограде мальчишка курносый по имени Витька-Фидель. Когда он родился, в апреле, над Волгой цвели деревца, и с дальней дороги, как птицы, летели к нему телеграммы отца. Навстречу последним таёжным метелям неслась за строкою строка: «Да здравствует Куба! И – только Фиделем назвать разрешаю сынка!» Знал Витькин отец и военные трубы, романтик и выдумщик был, и гордую землю пылающей Кубы, как нашу свободу, любил. Но Витькина мама, как все однолюбы, верна и упряма была, устало разжала счастливые губы, вздохнула, сказала: – Да здравствует Куба! И – Витькой сынка назвала! Чтоб всё, что в дорогах отцу примечталось, на свете не знало конца, чтоб билось, тревожилось и не сдавалось хорошее имя отца. Великие годы. Суровые годы. Рассвет за рассветом встает. Как маленький остров Любви и Свободы по городу мальчик идет. Он к Волге выходит, снимает сандалии. Волну прижимает к груди. И море, и бури, и дальние дали, и всё у него – впереди. …Июньское солнце. Июльские росы. А всё не проходит апрель… Живет в Волгограде мальчишка курносый по имени Витька-Фидель. 1963Гордость
Я по утрам, как все, встаю. Но как же мне вставать не хочется! Не от забот я устаю — я устаю от одиночества. Я полюбила вечера за то, что к вечеру, доверчиво, спадает с плеч моих жара — мои дела сдаются к вечеру. Я дни тяжёлые люблю за то, что ждать на помощь некого, и о себе подумать некогда. От трудных дней я крепче сплю. Но снова утро настаёт! И мне опять – вставать не хочется и врать, что всё – наоборот: что я устала – от забот, что мне плевать на одиночество. 1963«Мне приходилось слышать часто…»
Мне приходилось слышать часто непостижимые слова, что баба любит быть несчастной, что баба – муками жива. И не скупилась на ухабы дорога долгая моя, чтобы не раз обычной бабой — простой, обманутой и слабой — себя почувствовала я. Но всё упрямей с каждой мукой, не отрекаясь от тоски, овладевала я наукой любить свободу по-мужски! И вот не бабьей, новой властью, на волю вырвалась в пути! И уж ни счастья, ни несчастья ты мне не можешь принести. 1963Стихи о недовольстве
Тёмный пасмурный день, ясный день голубой — каждый день человек недоволен собой. Сеет хлеб. Изменяет течение рек. И опять – недоволен собой человек. У него за плечами огни, города. Всё равно нет покоя человеку труда! Он работал. Устал. Он отходит ко сну и решает: – С утра по-другому начну. Я у жизни ещё в неоплатном долгу, я ещё не такое на свете могу! …Жизнь меня наградила счастливой судьбой: я живу, каждый день недовольна собой. Если счастлива я, если чем-то горда, — тем, что нет мне покоя нигде, никогда, что я тоже в долгу у снегов, у дождей, у хороших, собой недовольных людей. 1964«Не потому, что я за всё в ответе…»
Фёдору Сухову
Не потому, что я за всё в ответе, не оттого, что я во всём права, но всё, что ни случается на свете, на свой аршин я меряю сперва. И я – не испугаюсь и не спрячусь. И я – не из героев, а не трус. И я – с неправды досыта наплачусь, но всё равно до правды доберусь. И я, как ты, крута и своевольна: умру – не отступлюсь от своего. Но кто бы ведал, как бывает больно, когда ты прав, а рядом – никого! Когда тебе больней и тяжелее, и подступает «быть или не быть», я каждый раз тоскую и жалею, что не тебя мне выпало любить. Что, о тебе печалясь и страдая, и наряжая в белое сады, не женщина, а песня молодая опять тебя уводит от беды. Ах, как тебе светло бывает с нею! И как она печальна и нежна! Но знаешь ты: она другим нужнее. И выпускаешь песню из окна. И нам ли плакать, что идёт по свету единственная милая твоя! Пусть кто-то злой сказал, что у поэтов из глаз не слёзы — строчки в два ручья. Уж коли так, то пусть – горьки и долги, берут исток у этих грустных глаз не два ручья – две будущие Волги, вдоль щёк твоих бегущие сейчас. Я выдумала, знаю, Волги эти. И ты – не плакал. Знаю. Не права. Не обижайся. Просто всё на свете на свой аршин я меряю сперва. 1965«Зачем кольцуют белых чаек?..»
Зачем кольцуют белых чаек? Зачем их мучают, когда не приручая – изучая, им дарят кольца навсегда? А чайки бьются, в небо рвутся и всё по-своему кружат. Они и плачут, и смеются, но только Волгой дорожат! …Когда бывало, чтоб смеялась, чтоб я не плакала в лицо? Не распаялось, не сломалось давно дарёное кольцо. Оно, как прежде, золотится, оно молчит – и говорит! Но и кольцованная птица, куда ей вздумалось, летит. 1965«Я всё ещё не веря, не мигая…»
Я всё ещё не веря, не мигая, на тот перрон негаданный смотрю. Ещё есть время. Крикни: – Дорогая… Не говори: – За всё благодарю! Неужто это называют силой, чтоб, как на свечку, дунуть на зарю, сломать крыло родному слову «милый», живой любви сказать: – Благодарю! Прости. Не упрекаю. Не корю. …Я всё ещё на тот перрон смотрю. Я всё ещё тебе не верю, милый. 1965«Нет, я не виновата. Не слаба…»
Нет, я не виновата. Не слаба. И не сужу, как в молодости, строго. Но это – не любовь. И не судьба. А просто – снова трудная дорога. Ну, что, давай присядем перед ней и скажем то, о чём пока молчали: что оба мы красивей и сильней, чем друг о друге думали вначале. Вот почему ещё больнее боль, и нету сил идти и верить строго, что это – не судьба. И не любовь. А просто – снова трудная дорога. 1965Ручей
Заблудишься, к ручью лесному выйдешь, присядешь на лесине иль на пне, и сразу тропку из лесу увидишь, и всю себя увидишь в глубине. Исхлёстанные папоротником ноги. И руки от усталости дрожат. А годы, и обиды, и тревоги на самом дне, как камушки, лежат. И кто в ту глубину не заглядится — себя не передумает над ней? Да только поздно – солнышко садится, да и ручьи к закату холодней. …Спасибо, жизнь: учила – научила! Такой ручей ты мне приберегла, что я прошла и ног не замочила, а всё, что надо, сразу поняла… Самой-то мне бы век не догадаться, не подойди я к этому ручью, что нету сил ни биться, ни сдаваться, что время соглашаться на ничью. Как тихо!.. Ни тревог. Ни затемнений. Не плачут, не тоскуют и не ждут…. Но раны от проигранных сражений больней болят и медленнее жгут. 1965«От берёзового колышка…»
От берёзового колышка, от далёкого плетня отвязалась речка воложка, докатилась до меня. Вот и гуси сизокрылые, вот и старая ветла… Что ж так поздно, речка милая? Где ж ты раньше-то была? Вот и горькая припевочка вниз по реченьке плывет: «Не тому досталась девочка, потому и слёзы льёт!» Замерла ветла корявая: всё, как надо, поняла. Что ж ты поздно, песня правая? Где ж ты раньше-то была? 1965«Тише, годы! Всё-то в сердце свято…»
Тише, годы! Всё-то в сердце свято. Тяжело и радостно двоим. Вы похожи на того солдата, мною нареченного моим. Всё смешалось. Ландыш шевельнулся на краю завьюженной земли. Я не знаю: это он вернулся, или это вы ко мне пришли. Вам на плечи руки поднимаю — сами руки падают назад: это я впервые понимаю, до чего не дожил тот солдат. Потому, беспомощно и строго, у кого хотите на виду, я приду! И снова у порога, как девчонка, губы отведу. Потому стоим мы угловато, даже руки не соединим. Перед кем я больше виновата — перед вами или перед ним? 1965Снежные стихи
Всё падает, падает с неба, пуржит и пуржит на ходу. Давно уже не было снега такого, как в этом году. Дороги, кусты и заборы заносит за десять минут. Его проклинают шофёры, его трактористы клянут. На хлопья, летящие с неба, глядят, как на злого врага. Но знают: к высокому хлебу высокие эти снега! …Всё падает, падает с неба, дороги в узлы завязал. Давно уже не было снега такого, чтоб за сердце взял! Чтоб так серебрился лучисто, чтоб так замирало в груди — тревожно, и больно, и чисто, как будто вся жизнь впереди. 1965«Накануне Нового года…»
Накануне Нового года люди верят в старые сказки, покупают зелёные ёлки, удивляются снегопадам, наливают полные рюмки, чтобы счастье было полней. У меня одной в новогодье всё не так, как у всех на свете. У меня — сосна вместо ёлки, у меня — туман вместо снега, у меня — вместо полной рюмки неполученное письмо. 1965«Люди ли так захотели…»
Люди ли так захотели, вздумалось ли февралю — только заносят метели всё, что я в жизни люблю. Только шагни за ворота — вот они, белые, тут! Плакать и то неохота, так они чисто метут. Что ж ты не взглянешь открыто? Что уж, таи, не таи, — белыми нитками шиты тайны мои и твои. 1965Песня
Только-только утихнут морозы — зеленеют за Волгой леса, и в тюльпанах, как девичьи слезы, засверкает степная роса. Мне недолго за Волгу собраться, чтобы вешних тюльпанов нарвать и по-нашему, по-волгоградски, их лазоревым цветом назвать. Люди спросят – я им не отвечу, почему я над степью брожу. Если ты попадешься навстречу, и тебе ничего не скажу. Самому бы пора догадаться, для кого собираю цветы. Как люблю я тебя, волгоградца… Неужели не чувствуешь ты?.. 1965«Я знаю мнения иные…»
Майе Румянцевой
Я знаю мнения иные литературных королей, что мы, поэты областные, — актёры для вторых ролей. Что дело самое простое — быть первым там, где я живу. Что, коль поэт чего-то стоит, он всё равно сбежит в Москву. Москву ни вздохом не унижу. Мы все ей с юности верны. Москва, она в разлуке ближе. Да и видней – со стороны. …Спасибо, город мой, на этом, что ты не слушаешь молвы и веришь мне, как тем поэтам героя-города Москвы. Во всех ролях меня пытаешь и от меня всё больше ждёшь, чего я стою – не считаешь и никому не отдаёшь. Ты мне – награда и заданье, мой партбилет, мой зов: «В ружье!» Моё последнее свиданье. Мой хлеб. И Болдино моё. 1965«Не сердце болит с непогоды…»
Не сердце болит с непогоды. Не старость – не радость. Вранье! То давит страшнее, чем годы, Ненужная верность ее. 1965«Ах, бабье лето – слёзы на полсвета!..»
Ах, бабье лето – слёзы на полсвета! И горько хорошеют зеленя… Я не хочу, чтоб всё прошло, как лето. Но кто об этом спрашивал меня? И первый снег хозяйничает снова. И снегу не противится трава. А вот из песни выкинули слово, а песня эта, всё-таки, жива. Так что гадать – что не было, что было, надеяться – мол, было, так пройдёт, когда о том, что я тебя любила, на всю Россию Зыкина поёт! 1965Мальчишкам Волгограда
В Волгограде, у Вечного огня, стоят в почётном карауле мальчишки.
Горит на земле Волгограда Вечный огонь солдатский — вечная слава тех, кем фашизм, покоривший Европу, был остановлен здесь. В суровые годы битвы здесь насмерть стояли люди — товарищи и ровесники твоего отца. Они здесь стояли насмерть! И были средь них солдаты — мальчишки в серых шинелях со звёздами на ушанках, простые наши мальчишки — немного старше, чем ты. К нам приезжают люди — жители всей планеты — мужеству их поклониться, у их могил помолчать. И пусть люди мира видят: мы помним и любим погибших! И пусть люди мира знают: Вечный огонь Волгограда не может померкнуть, пока живёт на земле волгоградской хотя бы один мальчишка! Запомни эти мгновенья! И если ты встретишь в жизни трудную минуту, увидишь друга в беде, или врага на пути, — вспомни, что ты не просто мальчик, ты – волгоградский мальчишка, сын солдата, сын Сталинграда, капля его Бессмертия, искра его Огня. 1966Вечер
Наступает прохлада, тени стали длинней, и огни Волгограда из-за Волги видней. Травы клонятся в росах, замирают гудки, а на косах и плёсах — рыбаки, рыбаки. Берег в пёстром наряде рыбацких рубах: ведь у нас, в Волгограде, каждый третий – рыбак. Это – лунные ночи, это – море ухи! И уж хочешь не хочешь, а напишешь стихи… Две звезды над дорогой, две степные зари. Подойди и потрогай и друзьям подари. Чтоб за долы и море и в чужие края волгоградские зори увозили друзья. Ночь всё тише и тише, даже ветер молчит. Неужели не слышишь, — сердце Волги стучит! Ничего мне не надо — лишь бы песню о ней! А огни Волгограда всё видней, всё родней. 1966Рыбаки
Под окном – сугробище горою. Вьюга завывает у окна. Даже и не верится порою, что вернётся, всё-таки, весна! Кажется – и зимушка бескрайна, и навеки ветер ледяной. Я тогда прислушиваюсь тайно к тихим разговорам за стеной. Там, бока по очереди грея, замирая, шёпотом почти, дед и внук сидят у батареи и мечтают спиннинг завести. 1966«Звезда бледней перед рассветом…»
Звезда бледней перед рассветом, тусклее лампочка в окне. Опять не сходится с ответом задача, заданная мне. В задаче той, простой и давней, всё так же вертится Земля, и той же тропкой, дальней-дальней, идут мои учителя. Идут всё так же – отречённо. И всю-то жизнь путём одним ведут мальчишек и девчонок, не подчиняющихся им. Идут в погоду-непогоду, по марту и по декабрю. И я сквозь прожитые годы на них всё пристальней смотрю. И знаю многое теперь я, и понимаю, что к чему. Но где они берут терпенье, — и до сих пор я не пойму. Я снова думаю об этом, и до рассвета – свет в окне. Но всё не сходится с ответом задача, заданная мне. А возле школ толпятся дети, роняют листья тополя. И те же — лучшие на свете — идут мои учителя. 1967«Волгоградской правде»
Ты за позднее слово меня не вини: было слово готово в юбилейные дни. Да ведь знаешь – работа: где к трибуне суют, а где крикнуть охота, там сказать не дают. Не с обиды я, право, не с худого житья, «Волгоградская правда», дорогая моя! Коль ошиблась я в чем-то, зла в душе не таи. Мы с тобою сочтемся — мы же люди свои… Вижу, в прошлое глядя, — пыль, ветрище, жара. У меня в Сталинграде — ни кола, ни двора; никому не нужна я, перед всеми в долгу, и никто-то не знает, что я в жизни могу. Но тревожно и сладко в той далекой весне раньше всех, «Волгоградка», ты поверила мне. Стала первой трибуной, подсказала пути, сталинградские струны натянула в груди. Если чем я богата, что-то сделала я, — в том и ты виновата, дорогая моя! Я не ради парада, я скажу по любви: будет трудно и надо — ты меня позови. Прикажи, если нужно, дай работы – любой! Я и в службу, и в дружбу, я и дальше – с тобой. Пусть дороги не гладки, пусть жестка колея! Мы ж с тобой волгоградки, дорогая моя. 1967Горькие стихи
Когда непросто женщине живется — одна живет, одна растит ребят — и не перебивается, а бьется, — «Мужской характер», – люди говорят. Но почему та женщина не рада? Не деньги ведь, не дача, не тряпье — два гордых слова, чем бы не награда за тихое достоинство ее? И почему все горестней с годами два этих слова в сутолоке дня, как две моих единственных медали, побрякивают около меня?.. Ах, мне ли докопаться до причины! С какой беды, в какой неверный час они забыли, что они – мужчины, и принимают милости от нас? Я не о вас, Работа и Забота! Вы – по плечу, хоть с вами тяжело. Но есть еще помужественней что-то, что не на плечи – на сердце легло. Когда непросто женщине живется, когда она одна растит ребят и не перебивается, а бьется, ей – «Будь мужчиной!» – люди говорят. А как надоедает «быть мужчиной»! Не охнуть, не поплакать, не приврать, не обращать вниманья на морщины и платья подешевле выбирать. С прокуренных собраний возвращаться — все, до рубашки, вешать на балкон не для того, чтоб женщиной остаться, а чтобы ночь не пахла табаком. Нет, мне ли докопаться до причины! С какой беды, в какой неверный час они забыли, что они – мужчины, и принимают милости от нас? Ну, что ж! Мы научились, укрощая крылатую заносчивость бровей, глядеть на них спокойно, все прощая, как матери глядят на сыновей. Но все труднее верится в ночи нам, когда они, поддавшись на уют, вдруг вспоминают, что они – мужчины, и на колени все-таки встают. 1967Желанье
Уж я бы тебя попросила — ни гордость, ни совесть не в счёт! Какая-то чистая сила не спит и просить не даёт. И вот я в трех соснах – плутаю. И, где не молчится, – молчу. Не жду. Не зову. Не мечтаю, но как перед смертью – хочу: пускай, на беду работягам — ребятам дорожных бригад — задует буран по оврагам, по балкам, как здесь говорят. Измает сугробами ноги, пристудит рубаху к спине. И вот – ты собьёшься с дороги, и вот – постучишься ко мне! А я бы не крикнула «Милый!» и не замерла на груди. А я бы тебя накормила. А там – хоть трава не расти. 1967«Я этих слухов за моей спиной…»
Я этих слухов за моей спиной не то чтобы ждала, но дожидалась: ничтожество, проученное мной, оно не зря ничтожеством осталось. Ну вот и ходят слухи стороной. Но не от них и горечь, и усталость. Но ты зачем, мой старый, умный друг, заметив, что я все-таки страдаю, заторопился, запрощался вдруг! Зачем ты мне сказал: – Предупреждаю!.. И я не сплю какую ночь подряд, какой рассвет не ведаю рассвета. Не потому, что люди говорят. А потому, что друг поверил в это. 1969«Приходит пора…»
Приходит пора — опасаясь молвы, один из двоих переходит «на вы». В глаза не гляди! За семь верст обойди! Но только «на вы» не переходи… 1969Засуха
Все неотступнее снится звон прошлогодних полей: волнами билась пшеница возле степных кораблей. Морем поля называли! Праздником шла молотьба! …Что ж вы, дожди, опоздали — не пожалели хлеба? Потом пропитаны спины, солью рубахи прожгло. Трудно рокочут машины — видно, и им тяжело. Медное марево зноя, рыжие зубья стерни — бывшее море степное вброд переходят они. 1970«Отшумел веселый летний ливень…»
Отшумел веселый летний ливень, никому не причиняя зла. Человек становится счастливей, если видит: вишня зацвела! Вдруг ему становится дороже все родное, близкое навек. Человек без этого не может. Так уж он устроен, человек. Вьются пчелы над петуньей синей. Голубь набирает высоту. Человек становится красивей, если рядом видит красоту. 1970«Ладно. Выживу. Не первая!..»
Ладно. Выживу. Не первая! …А когда невмоготу, все свои надежды верные в сотый раз пересочту. Все-то боли годы вылечат, горе – в песню унесут. Сил не хватит — гордость выручит, люди добрые спасут. 1970«Запаздывали первые морозы…»
Запаздывали первые морозы, и от тепла, наивны и просты, декабрьские сирени и берёзы стояли, вешним соком налиты. Теперь им долго плакать на дороге, болеть, дрожать, отогреваться вновь, как девочке, поверившей тревоге, — большой и так похожей на любовь. 1971«Гудками теплоходов…»
Гудками теплоходов тревожа синеву, стоит над Волгой город, в котором я живу. Я знаю, есть на Волге другие города, но над моим сияет солдатская звезда. Над ним зимой и летом, и в ночь, и среди дня горит, не гаснет пламя солдатского огня. Я вырасту, уеду в далекие края. Но то, что я отсюда, навек запомню я. 1972Ах вы, ребята, ребята…
Вспыхнула алая зорька. Травы склонились у ног. Ах, как тревожно и горько пахнет степной полынок! Тихое время заката в Волгу спустило крыло… Ах вы, ребята, ребята! Сколько вас здесь полегло! Как вы все молоды были, как вам пришлось воевать… Вот, мы о вас не забыли — как нам о вас забывать! Вот мы берем, как когда-то, горсть сталинградской земли. Мы победили, ребята! Мы до Берлина дошли! …Снова вечерняя зорька красит огнем тополя. Снова тревожно и горько пахнет родная земля. Снова сурово и свято юные бьются сердца… Ах вы, ребята, ребята! Нету у жизни конца. 1972Кукушка
Когда страна отвоевала, когда солдат сказал: «Дошли…» — в лесу кукушка куковала и одуванчики цвели. Совсем как там, в далекой дали, за русским городом одним, где всю войну солдата ждали, считали дни до встречи с ним. Кукуй, кукушка, как когда-то. Кукуй, попробуй угадать, и сколько лет служить солдату, и сколько лет солдатке ждать. Прошли года. И так же свято, как много лет тому назад, теперь сыны того солдата на страже Родины стоят. И в час, когда приходит вечер, и замирает шум ветвей, солдат считает дни до встречи с далекой Родиной своей. Кукуй, кукушка, как когда-то. Кукуй, попробуй угадать, и сколько лет служить солдату, и сколько лет солдатке ждать. 1972Девичник
Работницам Волгоградского треста Металлургстрой
Не с печали — от силы и славы, не в худой стародавней избе — во Дворце собираются бабы и меня приглашают к себе. Кто бы знал, как я рада бываю! Приглашением тем дорожу, все, что есть помодней, надеваю, раз в году маникюр навожу. В том Дворце меня счастьем балуют: издалека завидев, встают, как родню, у порога целуют, кумачовый платок выдают. И уже я собой не владею! И уже от порога – пою. Раз в году до конца молодею, сокровенному волю даю. Разлетелись на юбках складки — ни одна не стоит у стены. Не христовы невесты – солдатки. Вдовы тех, не пришедших с войны. Какова она, вдовья забота, есть ли этой заботе конец, — на пиру говорить неохота: не за тем собрались во Дворец! И по кругу – цветастому лугу — ни тоскующих взглядов, ни слез. И танцует с подругой подруга, как в походе с матросом матрос. А за окнами, в зареве света, выше славы, дороже наград, — их Дитя, их Война и Победа — их руками построенный Град! …В эту ночь в переулочках милых, на проспектах, в садах у реки, словно звезды, на братских могилах загораются наши платки. Как мы там, над могилами, плачем! Кто нас знает, о чем и с чего. Плачем – это мы сердца не прячем, не жалеем, не копим его. Пусть оно обливается кровью, пусть болит, пусть над миром горит. То любовь повстречалась с любовью. То с Звездою Звезда говорит. 1972«Шестнадцать строк об октябре…»
Шестнадцать строк об октябре — о том, что иней на заре прошел по листьям сединой, о том, что лето за спиной. Шестнадцать строчек о тоске — о том, что брошен на песке обломок легкого весла, о том, что молодость прошла. И вдруг, наперекор судьбе, шестнадцать строчек о тебе, о том, что с давних пор не зря ты любишь ветры октября! Шестнадцать строчек… Я живу. Дубовый лист упал в траву. Песок остыл. Ручей продрог. А я живу!.. Шестнадцать строк. 1972Осенью
На огромной клумбе у вокзала, ветром наклоненная к земле, поздняя ромашка замерзала, трепеща на высохшем стебле. Выгибала тоненькое тело и сопротивлялась, как могла. Словно до последнего хотела быть хоть каплей летнего тепла! …Поезда вдали гудели встречным. Люди шли, от ветра наклоняясь. И ромашка чем-то бесконечным показалась каждому из нас. Чистой веткой молодой березки. Тополиным пухом по весне. Первым снегом. Брызгами известки на еще не крашеной стене… Не одно, наверно, сердце сжалось: что поделать – каждому свое! Только в сердце врезалась не жалость — маленькое мужество ее. На бессмертье я не притязаю. Но уж коль уйти – не тосковать. Так уйти, чтоб, даже замерзая, хоть кому-то душу согревать. 1972Мать
Кого заботы молодили! Кого от боли упасли! Вон сколько ноги исходили, и сколько руки донесли. Вон сколько плакала, и пела, и провожала, и ждала! И ведь не старая была. Да, видно, сердце не стерпело. И мать сдалась. И мать слегла. В глазах – не горькое «прости», не жаль, не боль – одна тревога: – Еще пожить бы. Хоть немного. Ребят до дела довести. 1973Старая песня
Сядем, что ли. Выпьем, что ли. Друг на друга поглядим. Что такое бабья доля — и о том поговорим. Бабья доля – в чистом поле бирюзовая трава, незабудки на подоле и на кофте кружева. Бабья доля – прощай, воля! Обручальное кольцо. А еще бывает доля — уголочком письмецо. Вот тогда на нем сойдется черным клином белый свет: и жива, и сердце бьется, а и доли больше нет. Бабья доля – бабья доля. Нас она не обошла. В сорок третьем бабья доля смертью храбрых полегла. Полегла, да снова встала — все по-бабьи поняла: мир из пепла поднимала! Ребятишек подняла. Огляди края родные, стань на волжском берегу. Этой доли по России — как ромашек на лугу. И как выйдешь в чисто поле, все припомни, оглянись — этой доле, нашей доле, бабьей доле поклонись. 1973«Поэты пишут: “Посвящается…”…»
Поэты пишут: «Посвящается…» Все чаще пишут. Почему? Как будто кто-то с кем прощается и все, в чем перед кем-то кается, сказать торопится ему. Как будто кто-то не надеется на все, чем властвовал вчера. Не благоденствует: «Успеется!» А точно чувствует: «Пора». Что впереди – звезда неясная, иль тот последний, смертный бой? Но все святое, все прекрасное успеть отдать, не взять с собой. Вот мы и пишем: «Посвящается…» 1973«Тревогой, болью и любовью…»
Тревогой, болью и любовью, и светлой радостью горя, сияла роща Притамбовья посередине сентября. Она сияла, трепетала над коченеющим жнивьем… Так вот чего мне не хватало в великом городе моем! Лесного чистого рассвета, тропы в некошеном лугу. И вдруг подумалось: уеду. Уеду! Хватит. Не могу. Но только снова, только снова замру у Вечного огня, когда глазами часового Россия глянет на меня. Когда, родимые до боли, как первый снег, как вдовий плат, как две березки в чистом поле, два этих мальчика стоят. И боль немеркнущего света все озаряет синеву… Кому отдам? Куда уеду? Кого от сердца оторву? 1973«Подожди, Пономаренко…»
Подожди, Пономаренко, подожди – не уезжай! Посмотри, звенит над Волгой волгоградский урожай. За Мамаевым курганом колыхнулись ковыли. Не от горя, а от песни слезы к горлу подошли. Хочешь знать, Пономаренко, что сказал о нас народ? – Без тебя он обойдется. А без Волги – пропадет! Люди скажут – как завяжут! Я и в радость, и в беду без кого угодно – выживу! Без Волги – пропаду. Заиграй, Пономаренко, на ее крутой волне. Заиграй такую песню, чтоб мурашки по спине. Чтоб неслась от Волгограда, облетела полземли! Чтоб не с горя, а от песни слезы к горлу подошли. 1974В лагере
Степь вольными травами дышит. Рассвет подступает к окну. Проснись раньше всех! И услышишь: поют соловьи на Дону. Услышишь, как шепчется ветер, о чем-то своем говоря. Проснись раньше всех! И заметишь: встает из-за Дона заря. И первую чайку над Доном, и первые росы в степи, и донник на склоне зеленом заметь, не забудь, не проспи. Потом заторопятся двери, над лагерем горн запоет. Но ты теперь знаешь и веришь: тот счастлив, кто рано встает, кто вольными травами дышит, подслушивает тишину и кто самый первый услышит: поют соловьи на Дону. 1974Парнишка, сочиняющий стихи
Бывают в жизни глупые обиды: не спишь из-за какой-то чепухи. Ко мне пришел довольно скромный с виду парнишка, сочиняющий стихи. Он мне сказал, должно быть, для порядка, что глубока поэзия моя. И тут же резво вытащил тетрадку — свои стихи о сути бытия. Его рука рубила воздух резко, дрожал басок, срываясь на верхах. Но, кроме расторопности и треска, я ничего не видела в стихах. В ответ парнишка, позабыв при этом, как «глубока» поэзия моя, сказал, что много развелось поэтов, и настоящих, и таких, как я. Он мне сказал, — хоть верьте, хоть не верьте, — что весь мой труд — артель «Напрасный труд», а строчки не дотянут до бессмертья, на полпути к бессмертию умрут. …Мы все бываем в юности жестоки, изруганные кем-то в первый раз. Но пусть неумирающие строки большое Время выберет без нас. А для меня гораздо больше значит, когда, над строчкой голову склоня, хоть кто-то вздрогнет, кто-нибудь заплачет и кто-то скажет: – Это про меня. 1974Дорожная
Тем, кто встречает в дороге новогоднюю ночь
Вьется, вьется поземка, завевает простор. И тревожно, негромко подпевает мотор. И опять от порога, от родного двора убегает дорога — кладовая добра. Это дело такое — ночь в пути коротать. Это дело мужское — о дорогах мечтать. Чтоб жена у порога ночь ждала – не спала, убегает дорога — кладовая тепла. Ваши добрые руки в эту ночь на руле. Ваши полные рюмки в эту ночь на столе. Но опять от порога, зови ни зови, убегает дорога — кладовая любви. 1974Ровесницам
То ли буря, то ли вьюга снегу в косы намела… – Ну, подруга! – Что, подруга? Вся ли молодость ушла? Вся ли в поле рожь поспела? Ежевика отцвела? Все ли песни перепела? Все ли слезы пролила? …То ли просто помолчала, то ль чего подождала. Кабы мне начать сначала, я бы так же начала. Так же до свету вставала, те же делала дела, то же пела, что певала, тех же деток родила. Наша песня – наши дети. Им – и петь, и видеть вновь: сколько песен есть на свете, и все песни – про любовь! От нее себя не спрячешь, не уйдешь в густую рожь. …А всех слез не переплачешь. И всех песен не споешь. 1975Рябина
Антонине Баевой
Рябина! Чья же ты судьбина? В кого красна и высока? Увидишь, выдохнешь: – Рябина… Не сразу вспомнишь, как горька. Уже и речка леденеет. И снег не в шутку собрался. Одна рябина, знай, краснеет, знай, красит темные леса. И все кого-то согревает, кому-то издали горит. А то, что горько ей бывает, про то она не говорит. 1978Второе февраля
В свой срок – не поздно и не рано — придет зима, замрет земля. И ты к Мамаеву кургану придешь второго февраля. И там, у той заиндевелой, у той священной высоты, ты на крыло метели белой положишь красные цветы. И словно в первый раз заметишь, каким он был, их ратный путь! Февраль, февраль, солдатский месяц — пурга в лицо, снега по грудь. Сто зим пройдет. И сто метелиц. А мы пред ними всё в долгу. Февраль, февраль. Солдатский месяц. Горят гвоздики на снегу. 1978«На кургане, гремевшем боями…»
На кургане, гремевшем боями, не отдавшем своей высоты, блиндажи поросли ковылями, разрослись по траншеям цветы. Бродит женщина берегом Волги. И на том, дорогом, берегу не цветы собирает – осколки, замирая на каждом шагу. Остановится, голову склонит и над каждым осколком вздохнет, и подержит его на ладони, и песок не спеша отряхнет. Вспоминает ли юность былую, вновь ли видит ушедшего в бой… Поднимает осколок. Целует. И навеки уносит с собой. 1980«Всего-то горя – бабья доля!..»
Всего-то горя – бабья доля! …А из вагонного окна: сосна в снегу, былинка в поле, берёза белая – одна. Одна тропинка – повернулась, ушла за дальнее село… С чего вдруг так легко вздохнулось? Ведь так дышалось тяжело! Уж не с того ли, не с того ли, что вот из этого окна — трудна, горька, а вся видна, как на ладони, бабья доля… Сосна в снегу, былинка в поле. Не я одна! Не я одна. 1980«Вот и август уже за плечами…»
Н. В. Котелевской
Вот и август уже за плечами. Стынет Волга. Свежеют ветра. Это тихой и светлой печали, это наших раздумий пора. Август. Озими чистые всходы и садов наливные цвета… Вдруг впервые почувствуешь годы и решаешь, что жизнь прожита. Август. С нами прощаются птицы. Но ведь кто-то придумал не зря, что за августом в окна стучится золотая пора сентября. С ярким празднеством бабьего лета, с неотступною верой в груди в то, что лучшая песня не спета и что жизнь всё равно впереди 1980«Сколько раз вдали от Волги, вдали…»
Девушкам ансамбля «Калинка» – работницам волгоградского завода «Баррикады»
Сколько раз вдали от Волги, вдали от единственной, родимой земли замирала я и плакала я, чуть послышится: «Калинка моя…» Вспоминается калина-красна, дорогая голова Шукшина, голубой разлив российских полей, улетающий косяк журавлей. …Песня милая, спасибо тебе, — ты как звездочка в пути и в судьбе. И одна я, а с тобой мы – вдвоём. Нам и плачется, а мы – все поём… Как горит осенний красный закат! Как поёт душа девчат с «Баррикад»: «Калинка, калинка моя…» Песня русская. Кровинка моя. 1981«На предрассветный подоконник…»
На предрассветный подоконник легла тяжёлая роса. Степной кудряш — медовый донник на подоконник забрался. Ах, степь ты, степь! Переобуюсь, пойду бродить по ковылю. И поклонюсь. И полюбуюсь. А полюбить – не полюблю. Куда там! С прадедовой кровью и с материнским молоком одной-единственной любовью в душе тот луг — за «Красной Новью», тот – за Ветлугой, за леском. С ромашкой, кашкой, васильком. 1982Командировка
Как тихий вздох стальных дорог — качнувшийся вагон. Отхлынул медленно перрон. Вокзал уже плывёт. И – с глаз долой, из сердца вон! — остались дома сто тревог, сто бед и сто забот. И вот ты снова, не впервой, не спишь в такую рань. И знаешь, что перед Москвой последняя – Рязань. Зима и ночь – на полземли. Ещё полутемно. Но вот в заснеженной дали засветится окно. И, неизменная в веках всех встреч и всех дорог, хозяйка с вёдрами в руках шагнёт через порог. На миг застынет у дверей. И словно ей в ответ — навстречу ей, на радость ей поднимется рассвет. Рассвет в есенинских местах — румяный от зари. Красней рябины, на кустах пылают снегири. Рассвет! И утро впереди, и встречи, и Москва! …«Хочу домой!» – горят в груди великие слова. 1984Вдовья песня
Годы, как ласточки, мчатся… Что впереди – не боюсь. С кем только, милый, прощаться в час, когда я соберусь? Выйду ли к Волге с рассветом, ночь ли в окне простою, — милый мой, только об этом думаю думу свою. Милый мой, выросли дети, поумирала родня… Был ты, мой милый, на свете только один для меня. Всё, что нам выпало в жизни, — счастье твоё и моё — не пожалел для Отчизны. Всё ты отдал за неё. Годы – пускай себе мчатся! Старость не радость, а груз. …С кем мне, мой милый, прощаться в час, когда я соберусь? 1988Сноски
1
В 1957 году по приглашению Союза писателей КНДР М. Агашина побывала в Северной Корее.
(обратно)





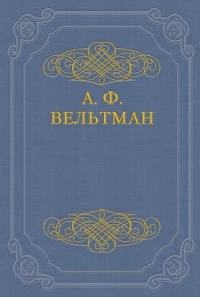
Комментарии к книге «Бабья доля», Маргарита Константиновна Агашина
Всего 0 комментариев