Учебное пособие издается по решению редакционно – издательского совета Санкт-Петербургского культурологического общества
Рецензенты :
Е.П. Борзова, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы
Н.Н. Суворов, доктор философских наук, профессор
ВведениеГригорий Нисский жил в переходное время, когда происходило размежевание Античности и Средневековья, новая эпоха выявляла свой облик, и в определении ее черт святитель Григорий занимает далеко не последнее место.
К сравнению позднеантичной и ранневизантийской культуры ранее обращался Гегель (ил. 1). Он увидел глубочайший разлом, столкновение и противоборство двух эпох. Их отличие Гегель сформулировал предельно лаконично: «Идея и дух – вот в чем, следовательно, состоит различие» [1] . В эту драматическую эпоху происходит самое главное, по Гегелю, событие в истории европейской мысли, в истории ее самосознания: человек осознает себя носителем духа, духовной субстанцией. «Человек, – пишет Гегель, – становится «предметом божественного интереса», «абсолютной бесконечной данностью» [2] .
Рис. 1. Макс Шелер
Остро переживая кризис европейской культуры, Макс Шелер констатировал: «единой идеи человека у нас нет», указывая на разобщенность теологической, философской и естественнонаучной антропологии.
Рис. 2. Василий ЗеноковскийСловно вступая в диалог с ним, в 1931 году В.В. Зеньковский утверждал, что учение об образе Божьем, онтологически включенном в природу человека, имеет значение конститутивной идеи в философской антропологии, однако, в системе современного научно-философского мышления эта идея находится не просто в ситуации забвения, но исключительного пренебрежения. Учение о человеке как образе Божием святителя Григория Нисского (ок. 335 – ок. 394) заслуживает пристального внимания, поскольку в значительной мере отвечает на эти запросы, обладая универсальностью.
Рис. 3. Святитель Григорий НисскийГригорий Нисский может считаться родоначальником антропологии, хотя, конечно, предмет антропологии и его разработка пришлись на античную эпоху. Его учение о человеке разносторонне, оно рассматривает устроение человека на уровне первоэлементов; на уровне механики; с медицинской и психологической точек зрения; в аспекте теории познания. Антропология Григория Нисского трактует ипостась человека как образ Божий: с точки зрения общих вопросов бытия, в его отношении к божественному бытию и бытию тварного мира, перехода от «ветхого человека» к «новому». В мировоззрении Средневековья антропология занимала исключительное положение: христианская вера в Боговоплощение делала антропоцентричной теологию и теоцентричной антропологию. Учение о человеке обладало иерархической стройностью, соединив естественные науки, натурфилософию, философию, веру.
Первым импульсом к работе над этим сочинений, пожалуй, явилась мысль о сопоставлении трактата Григория Нисского «Об устроении человека» с образами ранневизантийского искусства, тем паче, что центральным персонажем средневекового искусства является человек. Естественный начальный ход мысли вскоре нашел себе подтверждение: труды Григория Нисского цитируют и комментируют родоначальники богословия иконы, а сюжеты из его гомилий самым непосредственным образом отражены произведениями искусства. Архимандрит Киприан (Керн) называет символическим реализмом учение Григория Нисского о человеке как образе Божием, символический реализм лежит в основе канонического искусства
Рис. 4. Василий ВеликийВизантии. Сопоставление учения о человеке как образе Божием с формированием иконографического канона имеет богословскую подоплеку: и икона, и святоотеческая антропология поставлены в один ряд неслучайно, так как они являются свидетельством истинного Боговоплощения.
Рис. 5. Григорий БогословРис. 6. Великие каппадокийцы
Антропология и богословие образа соединяются во временной перспективе в эпоху утверждения догмата иконопочитания Седьмым Вселенским собором (787 г.). С именем Григория Нисского связаны труды по догматике, мистическому богословию, эсхатологии и ангелологии, экзегетические произведения, – все эти грани дарования Нисского святителя обрели точку схода в его учении о человеке. В наследии Григория трактат «Об устроении человека» (379 г.) занимает центральное место. В нем подведен итог предшествующим святоотеческим трудам и заложены основы учения о человеке эпохи раннего Средневековья.
Рис. 7. Троица – Тринитарный догмат христианГригорий Нисский, подобно и другим христианским мыслителям, именовал философию «служанкой богословия», но оставался эллином, ей верным: знатоком Эмпедокла, Платона, Аристотеля, Посидония, Ямвлиха, Климента Александрийского, Плотина, Оригена.
Учение свт. Григория, как правило, рассматривается в контексте наследия «великих каппадокийцев», под этим именем в историю византийской культуры вошли Григорий Нисский, Василий Великий (329 – 379), Григорий Богослов (Назианзин) (329 – 389/390) . Каппадокийцами они именуются потому, что родом происходят из Кессарии, что в Каппадокии , области Малой Азии; «великими» или «троицей, славящей Троицу» они названы как богословы, утвердившие Тринитарный и Христологический догматы христианского вероисповедания. В. В. Болотов, а за ним и архимандрит Киприан (Керн) говорят о том, что Василий Великий стал жертвой Христологических споров, пожаром охвативших Восток, – пожалуй, это определение можно отнести ко всем трем участникам каппадокийского кружка.
Рис.8. Одна из древнейших икон Христа из христологического ряда икон, объединяющего в Единосущном два единосущияС именем Василия Великого связано чинопоследование Божественной Литургии; С деятельностью Григория Богослова связан начальный этап формирования обряда византийской церкви [3] .
Рис. 9. Божественная ЛитургияКаппадокийцы являются основоположниками малоазийского монашества; устав, созданный Василием Великим, лег впоследствии в основу Студийского устава. С «отеческими книгами» связано начало христианской аскетики. Именно «отеческие книги», как о том свидетельствует Паннонское житие равноапостольных Кирилла и Мефодия, были переведены первыми, наряду со Священным Писанием, на славянский язык как тексты первостепенной важности.
Каппадокийцы внесли свой вклад в составление Правил святых отцов, имеющих значение юридической нормы, закона, для жизни церкви, включенных впоследствии в Номоканон. Влияние каппадокийцев на формирование культуры Средневековья весьма обширно, поскольку с их именами связаны начала христианской педагогики и медицины, теории музыки и изобразительного искусства, риторики и литературы. Авторы исследований по истории и теории столь, казалось бы, далеко отстоящих друг от друга областей деятельности человека обращаются к «великим каппадокийцам» – основоположникам и теоретикам этих наук и искусств в культуре Средневековья.
Рис.10. Преподобная МакринаИз каппадокийского кружка Григорий Нисский выделяется как тонкий мистик и ярко одаренный философ. Сопряжение кажущихся противоположностей явилось не только индивидуальной чертой Григория и отличительным свойством символического реализма его учения о человеке, но и стало принципом парадокса как фундаментального мировоззренческого принципа Средневековья, стремящегося «познать знание незнаемое».
В 1081 году был установлен праздник Трех Святителей: Василий Великий и Григорий Богослов вошли в чин «вселенских великих учителей и святителей».
Рис.11. Григорий ЧудотворецВасилий Великий и Григорий Нисский – родные братья, с Григорием Богословом они связаны узами дружбы и подвижничества. Василий и Григорий происходили из семьи ритора, что выделяло их из каппадокийского окружения: нрав жителей этой области был завистливым и грубым; начальное образование Григорий и Василий получили у отца. Их семья была прославлена мучениками еще в пору гонений императора Диоклетиана. Нравственным авторитетом в семье пользовалась бабушка Василия и Григория, Макрина-старшая. Она заслуживает особого внимания как ученица и последовательница Григория Чудотворца, просветителя Малой Азии. Григорий Чудотворец был учеником и преемником Оригена, таким образом, причастность святителей к александрийской школе, образно выражаясь, была унаследована генетически. Ориген возглавлял огласительное училище в Александрии, где наряду с богословием преподавались античная философия, диалектика, риторика, математика, астрономия, геометрия. По этому образцу было создано училище в Кессарии Палестинской, где у Оригена учился Григорий Чудотворец. В «Благодарственной речи Оригену» он пишет: «Посредством естественных наук он объяснял и исследовал каждый предмет в отдельности… до тех пор, пока … не вложил в наши души вместо неразумного разумное удивление священным устройством вселенной и безукоризненным устройством природы. Этому высокому и богодухновенному знанию учит возлюбленная для всех физиология. Что же сказать о священных науках – всеми любимой и бесспорной геометрии и высоко парящей астрономии? …Он требовал, чтобы мы занимались философией, собирая по мере сил все имеющиеся произведения древних философов и поэтов, не исключая и не отвергая ничего… для нас не было ничего запретного, ибо мы могли изучать всякое слово, и варварское, и эллинское, и относящееся к таинствам (христианской веры) и (из области) политики, и о божественном, и о человеческом – с полным дерзновением могли изучать и исследовать все» [4] . Пафос этой речи отражает перемену в отношении христиан к наследию античной культуры: в первые века существования христианства наряду с отрицанием политеизма происходило и отрицание языческой культуры в целом. Со времен Климента Александрийского и Оригена усиливается тенденция, получившая название «апологии культуры», которую Василия Великого и Григория Богослова произошла в Афинах, куда оба юноши были отправлены для получения высшего образования. Григорий Богослов бы л сыном епископа города Назианза. Он учился в Кассарии Каппадокийской, Кессарии Палестинской и в Александрии, после чего устремился в Афины. Там Василий и Григорий обучаются одновременно с венценосным неоплатоником Флавием Клавдием Юлианом II, получившим у христиан прозвище Отступника, последовательно будут развивать «великие каппадокийцы». В жизнеописаниях Василия редко говорится о том, что из Кессарии он направился в Константинополь (Византий), в надгробном слове Василию Григорий Богослов пишет: «…алчбою познаний ведется Василий в Византию (город, первенствующий на Востоке); потому что она славилась совершеннейшими софистами и философами, от которых, при естественной остроте и даровитости, в короткое время собрал он все отличнейшее; а из Византии – в Афины» [5] . На Григория и Василия возлагались надежды как на будущих профессоров Академии. Пафос учености звучит в словах Григория Богослова: «Я думаю, что всякий имеющий ум, признает ученость первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу (ученость), которая, ставя ни во что изысканность и пышность в слове, имеет (своим предметом) одно спасение, но и ученость внешнюю, которой многие христиане, по невежеству, гнушаются как ненадежной, опасной и удаляющей от Бога» [6] . «Афины золотые, краса и гордость Эллады», – восклицает Григорий Богослов, памятуя о том, что именно в Афинах он приобщился к философии, логике, риторике, истории, астрономии, медицине, теории музыки. Особенное внимание уделялось риторике и софистике, которые штудировались на примере памятников аттической прозы и поэзии, произведений Гомера, Эврипида, Софокла. В Афинах в то время процветала риторика, но немалое внимание уделялось сочинениям Платона, Аристотеля, Зенона, Клеанфа, Хрисиппа, Демокрита, Эпикура. Ю.А. Шичалин высказывает предположение, что во второй половине IV века через Приска в Афины попадают тексты Ямвлиха, ученика Порфирия и знатока Плотина, а также платонической и пифагорейской традиции предшествующего периода [7] . Влияние платонизма каппадокийцы усваивают в силу причастности к александрийской и афинской традициям с общей для средних платоников и неоплатоников тягой к сближению учений Платона и Аристотеля, стоиков, пифагорейцев. Увлеченность Василия классической культурой оказалась настолько яркой, что он, по словам Григория Нисского, по возвращении из Афин «слишком много думал о своей учености и никого не находил равным себе» [8] . Нечто подобное случилось и с самим Григорием. В его жизнеописаниях как «прельщение юности» упоминается любовь к риторике, которую он преподавал в языческом училище, желая ради нее отказаться от служения чтеца. Григорий Нисский, по-видимому, не получил систематического образования, своим учителем он называет Василия. Крещение Василий принимает в возрасте около 30 лет. Приблизительно в 357 г. он посетил подвижников Египта, Сирии, Месопотамии, после чего сам стал основоположником малоазийского монашества, поселившись на реке Ирис [9] . Там совместно с Григорием Богословом он написал «Филокалию» на основе изучения Оригена. В 360 г. Василий присутствовал на Константинопольском соборе. Вскоре епископ Евсевий, будучи избран на кессарийскую кафедру, приблизил к себе Василия, посвятив в сан пресвитера. Блестяще образованный и опытный в делах подвижничества Василий стал его незаменимым помощником. В этот период начинается борьба Василия Великого с арианством как ересью, составляющей наиболее значительную угрозу христианству. Она осложнялась тем обстоятельством, что ариан поддерживал император Валент II (364-378). Следует отметить, Василию весьма пригодились его познания в философии, поскольку Арий перевел полемику из сферы богословия в область философии [10] . Пристального внимания заслуживает и тот факт, что выработка догматов христианского вероисповедания, имевшая форму борьбы с еретическими движениями, была ни чем иным как концептуализацией богословской мысли [11] .
Рис. 12. ОригенРис. 13. Флавий Клавдий Юлиан Отступник
Рис.14. Гомер
Рис. 15. Эврипид
Рис. 16. Софокл.
Рис. 17. Платон
Рис. 18. Аристотель
Рис. 19. Зенон
Рис 20. Клеанф
Рис. 21. Хрисипп
Рис. 22. Демокрит
Рис. 23. Эпикур
Рис. 24. Луций Тарквиний Приск римский император
Рис. 25. Ямвлих
Рис. 26. Валент II. Римский император
В 370 г. после кончины Евсевия Василий был избран на кессарийскую кафедру, исключительное мужество в сочетании с дипломатичностью и тактом позволили Василию смягчить жестокость гонений Валента, сдерживать церковь от внутреннего разлада. Для консолидации сил в борьбе с еретиками Василий вступает в общение с Афанасием Александрийским и папой римским Дамасием. По этой же причине он способствует посвящению своего брата Григория в епископы города Ниссы в 371 г. и избранию Григория Богослова на вновь учрежденную епископскую кафедру в Сасимы в 372 г., что крайне осложнило отношения друзей, поскольку Григорий был склонен к созерцательной жизни, а не административной деятельности. На свою кафедру Григорий так и не вступил и после смерти родителей в 375 г. отправился в Селевкию в Исаврии, где вел созерцательную жизнь. В 376 г. Григорий Нисский был низложен арианами, он вернулся к своей пастве после смерти императора Валента в 378 г. В следующем году умер Василий, оба Григория видят свой долг в продолжении его начинаний. Григорий Богослов откликнулся на приглашение православной общины Константинополя [12] . Вступивший на престол Феодосий I Великий в 380 г. отнял у ариан столичные храмы и практически возвел Григория Богослова на Константипольскую кафедру. В 381 г. Григорий Богослов председательствует на Константинопольском соборе, там же присутствует и Григорий Нисский. Участники собора не приняли формулировки каппадокийцев о Божестве Святого Духа; собор не смог занять догматической позиции, которая вскоре сделалась господствующей в церкви. В своей формулировке догмата каппадокийцы опирались на понятийный аппарат Плотина, что вызвало неприятие восточных членов собора.
Рис. 27. СелевкияГригорий Богослов удалился в Назианз. Он умер в 389 или в 390 г. Такова внешняя канва деятельности «великих каппадокийцев». Из краткого жизнеописания можно заключить, что «великие каппадокийцы» причастны к традиции неоплатонизма по линии афинской и александрийской школ, учение Плотина было известно им, скорее всего, через Афины. В определенном смысле формирование философско-догматической системы каппадокийцев явилось скорее итогом, нежели началом христианской философии. Особой заслугой каппадокийцев, согласно Г.В. Флоровскому, был философский синтез, осуществление которого способствовало преодолению мировоззренческого кризиса античности. Христианская философия, выделившаяся из вероучения, стала основанием для зарождающейся культуры Средневековья.
Согласно свидетельству самого Григория Нисского, его трактат «Об устроении человека» стал продолжением и завершением «Шестоднева» Василия Великого, поэтому оба текста можно рассматривать как некое единство, в котором обозначилась картина мира Средневековья. По образному выражению В. Вейдле, в святоотеческой письменности обретает контуры «величественная картина христианского космоса». Именно она впоследствии обусловила происхождение символических форм богослужебного искусства.
Проблема влияния антропологии Григория Нисского на формирование иконографического канона ранее не являлась самостоятельным предметом исследования, чем и обусловлена актуальность заявленной темы. Работа посвящена рассмотрению учения о человеке Григория Нисского в аспекте его влияния на формирование византийской культуры и рецепции его символического реализма в образах византийской культуры и канонического искусства.
Существует исследовательская традиция в изучении философской мысли патристики и трудов одного из важнейших ее представителей – Григория Нисского. Антропологическим воззрениям Григория Нисского и его трактату «Об устроении человека» посвящены работы архимандрита Киприана (Керна) [13] , В.М. Лурье [14] , А. Мартынова [15] , В.И. Несмелова [16] , Д.И. Тихомирова [17] . Работа А. Мартынова задала угол зрения на философское наследие Григория Нисского: автор определил значение Григория Нисского как выдающегося философа ранневизантийской эпохи, вменив ему в заслугу разработку философско-догматической системы, ассимиляцию и преодоление неоплатонизма. Мартынов указал на причастность Григория Нисского к традиции александрийской философской школы. Автором проанализированы воззрения Григория Нисского как философская система, центром которой явилось учение о человеке как образе Бога.
В 1995 году В.М. Лурье опубликован новый перевод трактата «Об устроении человека», снабженный комментарием и примечаниями. Автор подчеркнул исключительное значение трактата в наследии Григория Нисского, обусловленное еще и тем, что многие из ранее приписываемых ему антропологических сочинений оказались псевдоэпиграфами. Для перспективы этой работы очень важно указание Лурье на обращение Григория Нисского к Аристотелю в трактовке формы и сущности, в космологических построениях, а также внимание автора к научным интересам Григория. В частности, Лурье обращает внимание читателя на апелляции Василия Великого и Григория Нисского к трудам Гиппократа и Галена, говорит о том, что практика анатомирования была обычной для византийской медицины, что святители могут быть названы основоположниками медицины Средневековья. В нашем случае эти сведения корректируют угол зрения на совсем, казалось бы, отдаленный предмет – отношение к пластической анатомии в византийском искусстве. Существует клише: изображения человека необъяснимо и предвзято считаются «плоскостными», «условными», но при ближайшем рассмотрении таковыми не являются, отличаясь точным знанием пластической анатомии и механики человеческого тела. Упразднение этого стереотипа перерастает в вопрос о соотношении античного канона и канона, складывающегося в византийском искусстве, обнаруживается узел преемственности и отторжения двух великих традиций на рубеже поздней Античности и раннего Средневековья.
Проблема специфики космологических воззрений каппадокийцев стала предметом исследования О.М. Каллахана [18] в статье «Греческая философия и каппадокийская космология». В этой же работе выявлен круг апелляций каппадокийцев к трудам античных философов. Первое утверждение не только вносит серьезные дополнения в предшествующие реконструкции космологии Нисского святителя, но и побуждает более внимательно и ответственно отнестись как к трактовке космологической символики восточнохристианского храма и его росписей, так и к коду пространственно-временных построений в европейской культуре вплоть до настоящего времени.
Характер влияния космологических представлений каппадокийцев на развитие символических форм культовой архитектуры выявил А.И. Комеч в статье «Символика архитектурных форм в раннем христианстве» [19] .
Трактат «Об устроении человека» не может рассматриваться независимо от всего наследия Григория Нисского, которое весьма обширно и его трактовка составила целую исследовательскую традицию в отечественной и зарубежной науке. Значение и место философско-догматической системы Григория Нисского в духовной культуре Византии определены в трудах по истории Церкви и святоотеческому богословию Е.В. Афонасина [20] , В.В. Болотова [21] , А.И. Георгиевского [22] , А.П. Голубцова [23] , С.Л. Епифановича [24] , С.М. Зарина [25] , игумена Иллариона (Алфеева) [26] , П.С. Казанского [27] , А.В. Карташева [28] , В.М. Лурье [29] , Р.Ф. Тафта [30] и др.
Анализу философски-догматической системы Григория Нисского посвящены труды архимандрита Порфирия (Попова) [31] , итрополита Макария (Оксиюка) [32] , в них рассматривается догматическое богословие Григория Нисского, его эсхатологические воззрения, аскетика, ангелология. Мистико-догматический аспект богословия Григория Нисского стал предметом исследования В.Н. Лосского [33] , И. Мейендорфа [34] и др.
Имя Григория Нисского упоминается в публикациях по истории византийской эстетики и богословию иконопочитания В.В. Бычкова [35] , А.П. Каждана [36] , В.Н. Лазарева [37] , Дж. Мэтьюза [38] , Л.А. Успенского [39] , П. Флоренского [40] . Этих авторов объединяет угол зрения на предмет исследования, все они единодушны в мнении того порядка, что именно учение каппадокийцев следует рассматривать как отправную точку в истории формирования канонического искусства Византии.
Проблема развития иконографического канона как самостоятельная теоретическая проблема заявлена К.Г. Вагнером [41] , А.Ф. Лосевым [42] , Э. Панофским [43] и др. Авторы отдельных исследований вплотную приблизились к постановке вопроса о влияния философии каппадокийцев на образный строй христианского искусства, это Д.В. Айналов [44] , В.М. Живов [45] , П. Малков [46] , Ю.Г. Малков [47] , К. Манго [48] , Т. Мэтьюз [49] . Зачастую ими намечены общие контуры концепции с кратким упоминанием о Григории Нисском, но тем драгоценнее эти акценты.
Д.В. Айналов отметил влияние риторики Григория Нисского на образный строй живописи. Ю.Г. Малков в своей статье «Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии» заявил важную проблему влияния апофатического богословия на символизм искусства, его статья имеет важное значение, как теоретического, так и методологического толка.
Однофамилец предшествующего автора, П. Малков, занят разработкой сходной проблематики. Он упоминает Григория Нисского в аспекте влияния его текстов на формирование символа пещеры в средневековом искусстве, справедливо указывая на платонические истоки этого символизма.
Статья В.М. Живова посвящена Максиму Исповеднику, но имеет принципиальное значение для этой работы, поскольку ее автор выявил влияние антропологии каппадокийцев на формирование литургического символизма и раскрыл само понятие литургического символа. Он же показал, что внутреннее противоречие неоплатонизма (разрыв между чувственным и ноэтическим) преодолено в теории перихорезиса, как ее излагает Григорий Нисский, а не – ранее – Ориген. В этом аспекте Григорий Нисский явился предшественником Максима Исповедника и его преемников, последующих авторов литургических толкований.
Отдельно следует отметить труды В.Н. Залесской [50] , раскрывающие порядок взаимодействия святоотеческой экзегезы и образного строя искусства «византийского антика». Залесской обнаружен наиболее последовательный и глубокий подход к проблеме «христианской античности», бытующей в искусствоведении еще с прошлого столетия. Автор делает особый акцент на влиянии традиции александрийской экзегезы на искусство «византийского антика»; систематизирует его разновидности.
К исследованию александрийской экзегезы, к которой причастны великие каппадокийцы, прибегли также Р.В. Светлов [51] , Т. Миллер [52] . Р.В. Светлов обращается е ее религиозным, философским и гностическим истокам. Т.Миллер выявляет историческое бытование традиции в аспекте ее влияния на символизм Средневековья. Традиция александрийской экзегезы может и должна рассматриваться в аспекте ее взаимодействия с философией и эстетикой неоплатонизма, чему посвящена монография Р.В. Светлова. В 2000 году была опубликована монография Ю.А. Шичалина по истории античного платонизма [53] в институциональном аспекте. Это исследование стало необходимым связующим звеном, конкретизирующим порядок включенности платонической и неоплатонической традиции в античную культуру как целое: имеется ввиду практическое взаимодействие платонизма с институтами государственности, религии, науки, образования и др. Итоги исследования Шичалина важны и для рассмотрения святоотеческого неоплатонизма, каковым, – в определенном смысле, – является учение «великих каппадокийцев», поскольку учение Плотина ими был и ассимилировано, и преодолено.
Теоретическая проблема влияния неоплатонизма на становление христианского символизма не утратила полемического значения до настоящего времени. Часть исследователей (С.С. Аверинцев [54] , А. Грабар [55] , А.Ф. Лосев, Ц.Г. Нессельштраус [56] , Э. Панофский [57] ) склонна видеть в неоплатонической эстетике основу символизма Средневековья, но часть ученых (В. Вейдле [58] , В.М. Живов [59] , С.Г. Савина [60] и др.) указывает на принципиальное противостояние язычества и христианства на уровне философии и эстетики.
Исследование генезиса символического реализма является одной из актуальных проблем современной науки, несмотря на значительное количество фундаментальных работ по истории раннехристианского и византийского искусства и культуры. К их числу относятся труды Н.П. Кондакова [61] , В.Н. Бенешевича [62] , Ф.И. Буслаева [63] , А.П. Голубцова [64] , И.И. Горностаева [65] , А.И. Некрасова [66] , Н.В. Покровского [67] , И.В. Попова [68] , Е.К. Редина [69] , Н.И. Троицкого [70] , А.С. Уварова [71] , а также А.В. Банк [72] , Дж. Беквиса [73] , О.М. Дальтона [74] , О. Демуса [75] , Э. Китцингера [76] , В.Н. Лазарева [77] , В.Д. Лихачевой [78] , Д.Т. Райса [79] и др. Современный уровень науки отражен публикациями Т. Вельманс [80] , Л.М. Евсеевой [81] , О.С. Поповой [82] , Ю.А. Пятницкого [83] , О.Е. Этингоф [84] и др. Анализ формирования символического реализма в философии, антропологии и художественной культуре требует расширения историко-культурного контекста, чем объясняется апелляция автора к трудам по истории Византии и византийской культуры. К их числу относятся монографии А.А. Васильева [85] , Ю.А. Кулаковского [86] , «История Византии» под редакцией С.Д. Сказкина [87] , исследовательский труд «Культура Византии», предпринятый авторским коллективом под редакцией З.В. Удальцовой, Г.Г. Литаврина [88] , материалы конференций византинистов [89] , работы А. Гийу, А.П. Рудакова [90] , А.П. Каждана [91] , Л.А. Фрейберг [92] и др.
Академик А.А. Корольков [93] ввел в обиход современной философии «духовную антропологию» как самостоятельную дисциплину: она максимально приближена к исходному пункту антропологии – учению о человеке Григория Нисского.
Обращение к научным публикациям по означенной теме позволяет сделать вывод о возможности и необходимости исследования влияния антропологии Григория Нисского, которая сама названа «символическим реализмом» или «таинственной антропогонией», – на формирование византийской культуры в целом и символического реализма в искусстве Византии и византийской ойкумены, в частности.
Импульсом к определению структуры работы и ее последовательности стало терминологическое совпадение, имеющее далеко не случайный характер: «символическим реализмом» в богословии одновременно названы и способ отображения сущего в каноническом искусстве Византии, и учение о человеке Нисского святителя. Выявление взаимосвязи между генезисом символического реализма антропологии Григория Нисского и символического реализма канона стало целью работы и определило ее последовательность и структуру. Поскольку символический реализм не был явлением локальным, а отразил сердцевину, ядро, формирующее культуру ранневизантийского периода, замер берется с расширением историко-культурного контекста.Глава I. На рубеже Античности и Средневековья 1.1. Временные и пространственные координатыОснову европейской культурной традиции составляют античная культура и культура христианства, в этой связи Византия привлекает к себе особенное внимание, поскольку Константинополь (ил. 40,41) стал центром, передающим Средневековью наследие Эллады. После разделения Великой Римской империи на «греческий Восток» и «латинский Запад» культура Константинополя вплоть до VI в. испытывала определяющее влияние очагов эллинистической культуры на Востоке, возникнувших еще в первую волну эллинизации во время походов Александра Македонского. Одним из таких центров была Александрия Египетская.
Рис. 28. Константин Великий
Традиционно период перехода от поздней Античности к раннему Средневековью трактуется как эпоха мировоззренческого кризиса, характеризуемая разнородностью идейных течений и эклектизмом философии. Ранневизантийский период – это эпоха от времени правления Константина Великого (324–337) до Ираклия (610–641).
Рис. 29. Император ДиолектианРанневизантийская культура переживает свое становление, будучи питаема многими истоками. Отчасти это объяснимо пестротою этнического состава Восточной Римской империи, для которого важны были не только языковые, но и диалектные различия, отчасти же – религиозным синкретизмом Рима и спецификой его философских синтезов. Переход от Античности к Средневековью имеет свои временные и пространственные координаты Начальной вехой этого перехода является территориальное деление империи на две части во время правления Диоклетиана (284–305), что было вынужденной мерой в условиях военного времени. Единство империи было восстановлено Константином I Великим (306–337), но он перенес столицу империи на Восток. В 324 г. на месте Византия, бывшей Мегарской колонии и главного города римской провинции Европа, император основал новую столицу Римской империи – Константинополь, через шесть лет город был освящен одновременно христианскими епископами и языческими жрецами. Так было положено начало разделению империи на «греческий Восток» и «латинский Запад». Этот процесс был завершен в 395 г. после смерти последнего императора единой Римской империи Цезаря Флавия Феодосия Августа (379–395) , разделившего империю между сыновьями Аркадием и Гонорием. Начало перехода христианства из вероисповедания гонимой общины во «вселенскую религию вселенской империи» было положено принятием Миланского эдикта в 313 г., легализовавшего христианство. При императоре Феодосии христианство было утверждено в качестве государственной религии Римской империи.
Рис. 30. Константинополь во времена расцвета ВизантииРис. 31. Император Флавий Феодосий Август
Как отмечает Ю.А. Кулаковский, «в древнем мире понятие религии было нераздельно связано с идеей государства. Всякий политический союз имел своих богов, которые оберегали его существование и пользовались поклонением его членов» [94] : в этом ключе процесс становления ранневизантийской государственности тоже тяготел к обращению к «своим богам». Историческое существование христианской империи на Востоке было обусловлено возникновением союза государства и церкви, получившим отражение в политической теории симфонии. Говоря о начальном периоде существования Восточной Римской империи, В.В. Болотов отмечает, что союз императорской власти и церкви возникает не столько по инициативе церкви, сколько императоров, так как во времена гонений церковь сложилась как гибкий, жизнестойкий организм, не нуждающийся в поддержке государства [95] . Ранневизантийский период – эпоха несравненного расцвета святоотеческого богословия, к числу важнейших ее представителей относятся «великие каппадокийцы»: Василий Великий, Григорий Нисский, Григорий Богослов. Ранневизантийский период ознаменовался рядом событий, важных для истории церкви. На эту пору приходится определение догматов христианского вероисповедания, утвержденных Вселенскими соборами, оформление чинопоследования богослужения суточного и годового круга, становление обряда Византийской церкви. Именно в этот период зарождается монашество на Востоке, возникают первые обители подвижников, складываются монастырские уставы. На эту же пору приходится формирование святоотеческой философско-догматической системы, предваряющее созидание прекрасного здания византийской культуры.
1.2. «Апология культуры»Возвышение Константинополя как столицы Восточной Римской империи положило начало возникновению и развитию ранневизантийской культуры, предыстория которой связана с «апологией культуры» в святоотеческом богословии. Под этим термином понимается стадиальный переход в отношении церкви к языческому наследию. В первые века христианства культурное наследие античности, если сказать обобщенно, отторгалось вместе с отрицанием многобожия, впоследствии курс изменился, языческая мудрость минувших веков рассматривается как «частные отблески разорванной истины», как предвидения и интуиции истин христианства, которые следовало воссоединить в целостную и гармоничную картину. Именно поэтому заимствуются целые блоки дохристианского опыта и знаний. Они словно нанизываются на ось, приводятся в новое согласие, отражающее христианское миропонимание, – речь идет о построении некой универсальной культуры.
Традиция «апологии культуры» получает свое развитие у «великих каппадокийцев». Общее отношение каппадокийцев к культуре, учености, философии выражено Василием Великим в «Слове к юношам о пользе книг языческих», Григорием Нисским в трактате «О жизни Моисея Законодателя», Григорием Богословом в гомилиях, в том числе, адресованных императору Юлиану. В этих текстах каппадокийцы продолжают традицию «апологии культуры», восходящую к Клименту Александрийскому, Оригену, Григорию Чудотворцу. Философия и «внешние науки» рассматриваются ими как начальная ступень богопознания, их назначение является служебным по отношению к истинам веры.
О своем отношении к наследию языческой философии и учености Григорий Нисский в трактате «О жизни Моисея Законодателя» высказывается со свойственной ему тягой к соединению того, что «кажется противоположным»: «Языческая образованность действительно бесплодна – она постоянно испытывает родовые муки, но никогда не рождает новую жизнь… Не все ли ее зародыши, напрасные и не сформировавшиеся, погибают еще до рождения, так и не выйдя к свету Богопознания?». [96] Далее он пишет: «Тем, кто приходит к свободной и добродетельной жизни, таким образом, приписывается запастись богатствами языческой образованности, которой украшаются чуждые вере люди. Нравственную и естественную философию, геометрию и астрономию, науку логики и все, чем занимаются люди вне Церкви, наставник в добродетели повелевает перенять будто бы в долг у тех, кто обогатился этим в Египте. Они пригодятся позже, когда понадобится украсить храм Божиего таинства словесным убранством» [97] .
Ему вторит Григорий Богослов: «Я думаю, что всякий имеющий ум, признает ученость (παιδευσιv) первым для нас благом. И не только эту благороднейшую и нашу (ученость), которая, ставя ни во что изысканность и пышность в слове, имеет (своим предметом) одно спасение и красоту умосозерцаемую, но и ученость внешнюю, которой многие христиане по невежеству (κακως ειδoτες), гнушаются как ненадежной, опасной и удаляющей от Бога… (В науках) мы восприняли исследовательскую и умозрительную (сторону), но отвергли все, что ведет к демонам, заблуждению и в бездну погибели… Поэтому не нужно унижать ученость, как некоторые делают, но нужно признать глупыми и необразованными тех, кто, придерживаясь такого (мнения), желал бы, чтобы все были подобны им, чтобы в общей массе была незаметна их собственная (глупость) и чтобы избежать обличения в невежестве» [98] . Патетичны гомилии Григория Богослова, обличающего императора Юлиана Отступника за то, что последний, отстраняя христиан от образования, стремится превратить их в маргинальную секту.
В «Слове к юношам о пользе книг языческих» Василий Великий говорит о Гомере как о наставнике всяческой добродетели, языческая ученость должна быть начальной ступенью в познании и воспитании, приуготавливающей к дальнейшему восхождению в постижении божественной истины.
Проблема отношения каппадокийцев к философии, учености и культуре рассматривалась и философами, и богословами, и историками педагогики как науки. Игумен Илларион (Алфеев) показал, что в воззрениях «великих каппадокийцев» на философию прослеживается три основных мотива: учение Христа противопоставляется философии как человеческой мудрости, языческие философы критикуются за их религиозные воззрения и несогласие друг с другом в мировоззренческих вопросах. В то же время древнегреческая философия рассматривается как «приуготовительное учение», прокладывающее путь к Христу, и в этом плане она становится «прочным оплотом» и «союзником» в деле утверждения веры, причем, «философия» понимается в расширительном смысле как «то лучшее, что каждая из этих школ говорит о справедливости и благочестивом знании». Формируется «концепция «христианской философии-любомудрия» как любви к Божественной Мудрости – Христу»: здесь под «философией» понимается высшее призвание Промысла Божьего в соединении с благодатной помощью свыше, жизнь философа (φιλοσοφειν) – это путь избранника, она сродни монашеству. Такая философия является не только учением, доктриной, но и созерцанием; общественная жизнь служит для представителя «любомудрия» проверкой добродетели [99] .
В.М. Лурье обращает внимание читателя на Первое послание апостола Павла к римлянам как новозаветный источник учения о трех ступенях богопознания, обозначенных Григорием Нисским в трактате «Об устроении человека»: «Достойно уразумел Божие творение только один – сам воистину созданный по Богу и в образ Сотворшего преобразивший душу Василий, общий наш отец и учитель, который своим созерцанием сделал удобопонятным для многих высокое устройство вселенной и устроенный истинной премудростью Божией мир сделал ведомым для тех, кто его <св. Василия> знанием приводится к созерцанию» [100] . По поводу приведенного выше высказывания Лурье замечает: «В этой фразе отражена известная «теория познания»: рациональное познание мира (συνεσις – «знание»), которым обладает и которое передает св. Василий, – только подготовка для созерцания (феории), которое единственно и приводит к ведению (гносис). Новозаветная основа этого учения, очевидно, в Рим.1,20.» [101] .
1.3. Теория познанияГносеологию каппадокийцев В.Н. Лосский рассматривает в призме ее места и значения в традиции александрийской философии. Он сравнивает учение «великих каппадокийцев» с «интеллектуальной мистикой» и «сверхинтеллектуальной мистикой» неоплатоников и Оригена: «Здесь речь не идет об интеллектуальном созерцании, устремленном к охвату некой первичной простоты, единства простой субстанции. Объект созерцания… – «три Света, образующие Один Свет», «соединенное сияние» Пресвятой Троицы – даже от серафимов сокрытая троичная тайна. «Существует только одно имя, выражающее Божественную природу: изумление, которое охватывает нас, когда мы мыслим о Боге» [102] , – цитирует он Григория Нисского. В.Н. Лосский присоединяется к точке зрения, высказанной Ж. Даниелу: блаженное зрелище (τo μακαpιoν θεαμα) в «Федре» раскрывается перед душами, шествующими по небесному своду [103] . Ж. Даниэлу отмечает: «введение θεωρία внутрь себя, «интериоризация» созерцания, раскрывающегося, как учит свт. Григорий Нисский, в очищенном сердце, в зеркале души, знаменует собой полный переворот платоновской перспективы» [104] . Этот переворот связан с учением об образе Божием в человеке и внутреннем богопознании, здесь каппадокийцами привнесена в гносеологию тема противопоставления «внутреннего» и «внешнего» человека апостола Павла.
Не менее важным представляется развитие темы созерцания у каппадокийцев. Григорий Богослов установил классическую для всей последующей христианской мысли формулу о пределах богопознания: Бог познаваем по действиям и непознаваем по Сущности, этим пределом является мрак, отделяющий нас от света Пресвятой Троицы. Для Григория Нисского «мрак, в который проник Моисей на Синайской вершине, наоборот, есть модус общения с Богом, превышающий созерцание света, в котором Бог явился Моисею в Купине Неопалимой в начале его пути… Если Бог сначала является как свет, а затем как мрак, то для Григория Нисского это означает, что видения Божественной сущности нет, и соединение представляется ему путем, превосходящим видение и θεωρία, путем, проходящим за гранью разума, там, где уничтожается знание и пребывает одна любовь или, вернее, где гнозис становится агапой. Все больше и больше желая Бога, душа непрестанно возрастает, себя превосходя, сама из себя выходя. И по мере того как она все больше соединяется с Богом, ее любовь становится все пламеннее и ненасытнее» [105] .
Рис. 32. Моисей спускается с горы Синай
Рис. 33. Гора Синай сегодняЗдесь следует остановиться: категориально крепкое построение христианской философии вырастает из опыта боговедения, превосходящего познание и созерцание. В трудах святителя Григория совмещается кажущееся невозможным: философия и мистический опыт; следует подчеркнуть: если Григорий Богослов навсегда определил формулу христианской гносеологии как познание Бога по действиям и непознаваемость по Сущности, то именно Григорий Нисский совершил «переворот платоновской перспективы» в определении «божественного мрака» как модуса богообщения. Апофатический принцип гносеологии в трактовке Григория Нисского имеет свою предысторию в традиции языческой и христианской философии.
1.4. «Топос» полемики язычества и христианстваПереход от Античности к Средневековью отражен устойчивыми метафорами и зачастую мыслится как система оппозиций. Зарождению христианской философии, противостоящей философии языческой, посвящено исследование А.Х. Армстронга. Ее начало он относит к концу II в., выделяя из греческих апологетов Аристада, Юстина Мученика , Татиана, Афинагора и Теофила Антиохийского, а из латинских – Минуция Феликса и Тертуллиана [106] . В труде А.А. Спасского «Эллинизм и христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в раннейший период христианской истории (150-254)» [107] показано, что полемика между эллинизмом и христианством «от внешних и поверхностных наблюдений, как это мы видим отчасти у Минуция Феликса и в особенности у Лукиана Самосатского, переходит в самую глубину мистических и религиозных вопросов, когда оба миросозерцания, эллинистическое и христианское, выступают во всей своей цельности и ведут полемику на почве центральных и глубоких вопросов бытия и жизни, причем, нападающей стороной является Цельс, а защищающейся Ориген. Интерес к полемике усиливался еще и тем обстоятельством, что здесь беспощадно вступили в борьбу две равноправные силы, одинаково усвоившие всю культуру своего времени, изучившие философию и все мистические предания защищаемых ими религий». [108] Ориген пишет свои восемь книг «Апологии против Цельса» спустя около шестидесяти лет после написания «Истинного слова» Цельса, вступая, таким образом, не столько в философские тяжбы именно с Цельсом, сколько в противостояние языческому эллинизму как таковому.
В перспективе дальнейших рассуждений следует заметить, что не столько документальные первоисточники, сколько предание, указывают на тот факт, что Ориген прошел ту же школу, что и Плотин, обучаясь в Александрии у Аммония Саккоса (преподавал в Александрии между 192-224 гг.): в этой схеме обозначены две сомасштабные фигуры святоотеческого и языческого платонизма Плотин и Ориген. Такую же «оппозиционную пару» составят каппадокийцы и венценосный неоплатоник император Юлиан, с которым Григорий Богослов и Василий Великий вместе учились в Афинах, получая воистину царское образование.
Автор монографии «Александрийская школа в истории философско-богословской мысли», В.Я. Саврей пишет: «С III в. н.э. Александрийский неоплатонизм идет по пути, намеченному Цельсом; причем, этот путь апологии язычества все дальше отдаляется от пути строгой философской рефлексии. Порфирий не скрывает своей враждебности к христианам. При Ямвлихе и Юлиане Отступнике «восстановление политеизма делается главной задачею неоплатонической школы», которая снова перемещается в Афины» [109] .
Сделаем акцент на следующих моментах: поскольку полемика христианской и языческой философии ко времени каппадокийцев уже перешла «в самую глубину мистических и религиозных вопросов», в центре внимания должна оказаться Александрия. Она стала гнездом формирования неоплатонизма с особенным статусом мифа у Плотина, и она же явилась «топосом» иудейской литургики, по Лурье, – одной из составляющих языка византийской философии. Там, вероятно, соприкоснулись литургика и миф. Александрия притягательна в смысле рассмотрения генезиса символического реализма Григория Нисского как одного из представителей александрийской мыслительной традиции, опосредованно пережившего и прививку философии Афин. О жанровом своеобразии трактата Григория Нисского, обусловленном этим генезисом, речь пойдет ниже.
1.5. Онтология ПлотинаПоскольку разделение Античности и Средневековья проходит межевой чертой внутри философии неоплатонизма, к нему, точнее его основоположнику, Плотину, и следует адресоваться. Под именем неоплатонизма в историю философии вошло учение, родоначальником которого является Плотин (204/205–270) . Родом он из Египта, принадлежал к миру эллинистической культуры. Биография Плотина известна, главным образом, благодаря жизнеописанию, составленному Порфирием, предваряющему «Эннеады». Плотин прибыл в Александрию в возрасте около 27 лет для занятий философией, одиннадцать лет провел, обучаясь у Аммония Саккоса. В 243 г. он, желая познакомиться с восточными учениями, присоединился к походу императора Гордиана III против Персии. Император был убит своими же солдатами, Плотин спасся бегством в Антиохию, после чего прибыл в Рим в 244 г. Там вокруг Плотина образуется круг друзей и учеников. Около 263 г. он начинает записывать некоторые из своих бесед. Последний период жизни Плотина связан с Кампанией, где тяжело больной Плотин находит прибежище в имении, оставшемся после смерти его друга Зефа. Умер Плотин в 270 г.; известны его последние слова: «Я стремлюсь возвести божественное во мне к божественному во всем». Поиски полной истины выводят Плотина за пределы платонической традиции к осуществлению философского синтеза. Как отмечает Анри: «Плотин был бы удивлен, если бы его полагали основателем новой, неоплатонической школы. Он рассматривал себя как платоника чистого и простого, без приставок и уточнений – другими словами, как интерпретатора и последователя Платона. Платон, с его точки зрения, обладал истиной, полной истиной» [110] . Отношение Плотина к платонизму Ю.А. Шичалин характеризует так: «Разумеется, для Плотина странно выглядело бы утверждение, будто истина, – то, что есть на самом деле и что превосходит любое частичное бытие, – достояние той или другой школы. Просто Плотин вместе с Платоном и другими божественными мужами сам видел и знает то, о чем можно предположить по его сочинениям. И когда он счел, что его долг – донести весть об этом, он обращается к сочинениям и текстам Платона и близкой ему традиции как к тому, что более всего – применительно к нашей человеческой слабости – способно возвести нас к божественному во всем» [111] . Сразу же обратим внимание на особенно приподнятый тон академического по сути исследования: речь идет об особенном опыте, – жизни, созерцания, ведения, – можно только строить догадки.
Рис. 34. Плотин
Нечто подобное отмечает и Джон М. Рист, солидаризируясь с Хардером: «Помимо естественной склонности к собственным темам, Плотин был способен излагать философию, исходя из двух источников: из традиционных работ великих мыслителей прошлого и из собственного чувства родства с духом Сущего». [112] Однако в высказывании Риста акценты расставлены несколько иначе: он подчеркивает многочисленные апелляции Плотина к предшественникам, главным образом, досократикам, пифагорейцам, платоникам, перипатетикам, и стоикам (не исключающие полемики), но также подчеркивает свободу Плотина как мыслителя, а не комментатора этих текстов. Таким образом, Рист и констатирует наличие философского синтеза, осуществленного Плотином, и останавливается вниманием на оригинальности его учения . В нашем случае причастность Плотина к александрийской школе представляет интерес с точки зрения генезиса философского синтеза, его осуществление приходится на пору действия Плотина-схоларха и автора «Эннеад». Разделы «Эннеад» тематизированы Порфирием: первая Эннеада посвящена принципиальной этике, вторая и третья – философии природы и материальной вселенной, четвертая – Душе, пятая – Божественному Уму, а шестая – Единому как первому принципу [113] . В шестой Эннеаде Плотин пишет: «Целокупное бытие заключает в себе все существующее и, значит, есть множество; следовательно, оно вовсе не есть единство, и если единство ему принадлежит, то только благодаря его участию в едином. Далее, если сущее обладает жизнью и умом, ибо нельзя же мыслить его мертвым, опять выходит, что оно множественно. Наконец, сущее множественно, насколько оно – ум, и тем более множественно, если (он) содержит в себе всю полноту идей, ибо идея не есть чистое единство, а, скорее, число, и (такова) не только каждая отдельная, но и совокупная идея: она также единство, как мир. Кроме того, единое – первое, тогда как сущее, ум, идеи – не первое» [114] . Этот фрагмент текста вводит нас в круг основных положений философии неоплатонизма. Плотин формулирует свое учение о едином как первоначале всего сущего, пребывающем за пределами сущности. Единое является источником излияния (эманации) Нуса, предоставляя ему свободу. Нус одновременно един и вездесущ, заключая в себе истинный мир – мир идей. Подобным образом происходит излияние Мировой души из Нуса, она разделяется на отдельные души. Материя возникает как низшая ступень эманации. Чувственный мир – это иллюзорное отражение мира идей. Последняя и высшая цель души, выделяющейся из единого – воссоединение с ним благодаря экстазу, по отношению к которому познание – только подготовительная ступень. Вся сфера бытия: ум, душа, космос – оказываются осуществлением единого: ум и душа – в вечности; космос – во времени. Единому противопоставляется материя, иерархически замыкающая низшую границу бытия. Материя у Плотина бестелесный неаффицируемый субъект, относительно неопределенное подлежащее; она провоцирует высшее к ниспадению в низшее. «Она – зеркало, отражаясь в котором высшее порождает низшее в качестве своего подобия. Итак, сфера сущего охвачена, по Плотину, мощью сверхсущего единого и ограничена немощью несущей материи», – комментирует Ю.А. Шичалин, [115] реконструируя систему онтологических построений Плотина. Развивая трактовку теории эманации Дж. М. Риста, И.В. Берестов делает акцент на том, что эманация Ума (Нуса) происходит не «по необходимости», а «по собственной воле» единого (Первоначала): «Благим является действие, предоставляющее свободу иному по отношению к действующему; 2. Действие Первоначала является наиболее свободным и благим из всех возможных действий; 3. Степень существования нечто пропорциональна благости его действия» [116] . Таким образом, Берестов вводит читателя Плотина в рассмотрении философом тем онтологической свободы и благости свободы единого. А.Ф. Лосев иначе расставляет акценты, комментируя VI Эннеаду. В благости он видит мистический смысл учения Плотина [117] ; в учении Плотина о числе он различает суть диалектики Плотина: «1) Число есть потенция умно-сущего, или … принцип категориального осмысления сущего, ибо оно созидает пять категорий сущего – тождество, различие, покой, движение и сущее.2) Число есть энергия умно-сущего, или конструкция предмета , получающаяся в результате соотнесенности смысла предмета с принципом умной раздельности и материи…3) Число есть эйдос умно-сущего, или индивидуальная конструкция предмета, т.е. получается уже символ … в предметно-ипостасийно-реальном (значении этого слова)» [118] . Комментарий Лосева замечателен не только смыслом интерпретации диалектики Плотина, но и тем, что Лосев, начиная с пифагорейского понимания числа, наращивает инструментарий, имманентный философскому синтезу Плотина, поэтапно включает элементы учений Платона, Аристотеля, стоиков для адекватного воссоздания смысла VI Эннеады. В перспективе дальнейших рассуждений следует отметить, что триада «потенция-энергия-эйдос» будет фигурировать в построениях Григория Нисского, равно как и пять упомянутых категорий Платона в рецепции Плотина. Высказывание одного из самых значительных исследователей творчества Плотина, А.Х. Армстронга, характеризует не только стиль «Эннеад» и интеллектуальную культуру Плотина, но и степень пристрастной симпатии, которую последний вызывает у ученых, занимающихся его наследием: «… довольно легко обнаружить в «Эннеадах» несоответствие, и, как мы увидим, каждый разумный интерпретатор Плотина рано или поздно сталкивается с довольно большим количеством антиномий или противоречий в его мысли. Но непоследовательность Плотина – это непоследовательность величайшего ума, и она весьма отличается от бессвязности средних платоников или Филона, людей посредственных, которые никогда не могли должным образом управиться со своим материалом» [119] .
1.6. Стиль ПлотинаА.Ф. Лосев, говоря о методах внутреннего оформления речи у Плотина, высказывается с большей определенностью: «Обращает на себя внимание тот особый стиль у Плотина, который трудно обозначить каким-нибудь греческим термином и которым он пользуется в своих внутренних высказываниях. Это те многочисленные места из его трактатов, где он рассказывает о своих мистических восхождениях.... эти места отличаются очень сдержанной формой, очень скромным, почти эпическим повествованием, но под ними чувствуется огромная внутренняя мощь, которая всякому иному дала бы повод для самого несдержанного, самого возбужденного и цветистого стиля. Здесь Плотин употребляет много разного рода образов и мифов, но он пользуется ими весьма сдержанно и благородно, ввиду чего этот его стиль можно назвать свободноархаистическим ». [120] Свободно архаистический стиль Плотина происходит от его общего отношения к мифу. Мифы для него – отнюдь не сфера фантазии или поэтического вымысла, но «самое подлинное бытие… коренные принципы бытия и жизни» [121] . Плотин пришел к диалектике объекта и диалектике субъекта в их нерушимом единстве, – к диалектике мифа. Следовательно, архаизация текстов связана с их философски-онтологической или символической функцией. Тяготение неоплатоников к пра-философии и к формам мифологического мышления может рассматриваться как интенция сближения философии единого с религией, формирования интеллектуальной мистики.
Предваряя дальнейшие рассуждения о философии Григория Нисского, отметим, что соединение «кажущегося противоположным» для него, в отличие от Плотина, лишь отчасти – сакральная формула, отражающая глубокие интуиции как философский миф; в большей степени – у Григория Нисского этот принцип рационально осознан. С долей импрессионизма отметим движение неоплатонизма к теургии и противоположно направленное движение святоотеческого неоплатонизма к построению рациональной конструкции, ложа, вмещающего божественное Откровение.
Рист, отмечая существенные стороны учения Плотина, говорит, что философия «царя метафизиков» вышла за пределы конечного мира греков, и что Плотин обозначил «фундаментальные вопросы о человеке, его природе и его месте в мире». [122] Диалектика субъекта и объекта проявляется в онтологизации антропологии у Плотина. В работе В.В. Семенова показано, что неоплатонизм не только обращается к основополагающим вопросам бытия, но и затрагивает сферу архетипики сознания : трансцендентного Единого, Ума, души и ничто [123] , чем определяются пути дальнейшего развития философии, в том числе, и философии каппадокийцев.
Из этого фрагмента текста наперед следует выделить ряд аспектов, необходимых с точки зрения того, как философия Плотина предварила становление символического реализма антропологии Григория Нисского: это – онтологизация антропологии у Плотина; тематизация «Эннеад» как предвестие тематизации трактата «Об устроении человека» и появление у Плотина триады «потенция – энергия – эйдос», важной для последующих построений Григория Нисского. Обращает на себя внимание трактовка Плотином эйдоса как символа, предвосхищающая аналогичные рассуждения Нисского святителя.
1.7. Философский синтезПри описании процесса перерождения одного типа культуры в другой в поле зрения исследователя оказывается некая диффузная зона, где «старое» и «новое» стремятся к поляризации, но имеют много общего. Зачастую речь идет об эклектичности философии и мировоззрения в эпоху перехода от Античности к Средневековью. Эта проблема затронута в трудах А.Х. Армстронга [124] , В.В. Бычкова [125] , Дж. Диллона [126] , В.Я. Саврея [127] , Р.В. Светлова [128] и А.Л. Хосроева [129] и др. Бычков трактует разнородность идейных течений как эклектизм мировоззрения, являющийся признаком кризиса эллинистической культуры Рима, указывает на разнообразие философских школ, распространение гностических учений, популярность мистериальных культов Востока в среде и элиты, и плебса. Дж. Диллон корректирует эту панорамную характеристику, делая акцент на том, что эклектизм мышления чужд профессиональным философам, сохраняющим верность традициям школы, но, в то же время, Диллон отмечает тенденцию к сближению отдельных школ. Эта тенденция оказывается в центре внимания А.Л. Хосроева, который отмечает ее реализацию на примере философии Александрии. Он показывает, что тяготение к синтезу, наметившееся еще у стоика Посидония (ок. 135 – ок. 50 гг. до н.э.) и платоника Антиоха из Эскалона (ок. 130 – 68 гг.) как платонизирующий стоицизм и стоический платонизм, будет характерно как для римской философии времен Империи в целом, так и для александрийской философии, в частности. Именно эту тенденцию к синтезу Хосроев, вступая в некоторое противоречие с собой, и называет «эклектизмом». Однако ему принадлежит указание (со ссылкой на Диогена Лаэрция), что термин «эклектическое учение» относится к его основателю, александрийскому философу Потамону (рубеж I в. до н.э. – I в. н.э.). Хосроев (при названном незначительном терминологическом сбое) показывает, что александрийский платонизм тяготеет к синтезу, он подготовлен Антиохом из Эскалона (сблизившим учения Платона, Аристотеля и стоика Зенона), Эвдором Александрийским, учеником Антиоха, дополнившим его учение элементами пифагорейства, Потамоном (учение которого, по-видимому, близко учению Антиоха), Арием Дидимом. Наибольший интерес представляют оттеночные характеристики александрийской философии, данные Хосроевым. Он делает акцент на том, что тяготение к синтезу в александрийской философской традиции имеет специфическую окрашенность. Философия испытывает влияние научной и экзегетической традиций, оформившихся в Александрии ранее возникновения философской школы . «Основанный Птоломеем I Сотером по совету Деметрия Фалерского, друга и ученика Феофраста, только Музей мог объединить вокруг себя интеллектуальный коллектив математиков, естествоиспытателей, врачей… Во времена Птоломеев философия не играла в круге александрийских наук практически никакой роли» [130] . Он указывает и на то, что культурная атмосфера Александрии стала проводником взаимного влияния иудейской и греческой культур. Так, Аристобул (I I в. до н.э.), предшественник Филона Александрийского по части аллегорических толкований, учил: «все, чего смогла достичь греческая философия, уже сказано в пятикнижии Моисея и оттуда заимствовано греками – мысль, которую будет постоянно проводить Филон» [131] . (Эта тема значительна, и она заслуживает отдельного детального рассмотрения вне рамок этого текста, поскольку следует предполагать влияние на Плотина и неоплатоников иудейского компонента культуры, как, впрочем, и египетского). Хосроев продолжает: «Этот топос надолго пережил еврейскую культуру и помимо того, что был принят христианскими авторами, оказал воздействие и на неопифагорейца Нумения (II в. н.э.); ср. его утверждение: «Кто же такой Платон, как не Моисей, говорящий на аттическом наречии» [132] . (В Нумении из Апомеи Лосев видит предшественника неоплатонизма). Суммируя сказанное, отметим: неоплатонизм отразил тенденцию к синтезу, впервые наметившуюся еще у философов Академии в качестве реакции на скептицизм. Неоплатонический синтез преимущественно ассимилирует элементы учения Аристотеля, стоиков, пифагорейцев. В александрийской традиции философский синтез как синтез «первого порядка» становится синтезом «второго порядка» , вовлекая в свое ядро науку, натурфилософию, экзегезу, а через посредство экзегетической традиции, тяготеет и к формам религиозного сознания. На сближение философии неоплатонизма с наукой и экзегетической традицией указывает и Саврей [133] ; он же говорит о философии как религии «наиболее образованных людей»; по этому поводу более точно и определенно высказывается, как упоминалось выше, В.Н. Лосский, говоря о традиции интеллектуальной мистики [134] .
Рис. 35. Посидоний
Рис. 36. Птолемей I Сотер
Рис. 38. Феофраст
Рис. 37. Деметрий ФалерскийУместно обратиться к принципиальному разграничению «синтеза» и «эклектизма», сделанному А.Ф. Лосевым. Он, указывая на предшественников Плотина (Гая, Альбина, Апулея, Аттика, Аммония Саккаса), утверждает: «Поздних платоников многие и теперь тоже считают какими-то беспринципными эклектиками. На самом деле привлечение разного рода платоновских, аристотелевских, посидониевских, а также и вообще стоических принципов имело свою собственную принципиальную направленность. Это было исканием существенного единства платонизма, аристотелизма и стоицизма; и это было достигнуто Плотином в самой роскошной, в самой красивой и убедительной форме» [135] .
1.8. Онтология каппадокийцевРанее речь шла об онтологии «Эннеад», не открывающей, но замыкающей эпоху Античности, в трудах каппадокийцев закладываются начала христианской онтологии. Ее разработка ведется каппадокийцами в догматическом богословии, прежде всего, в категориальном определении Тринитарного догмата, в эсхатологии, в антропологии. Рассмотрение этих аспектов наследия «великих каппадокийцев» представлено мощной исследовательской традицией историков Церкви, что позволяет прибегнуть к самому краткому реферативному изложению с расстановкой лишь некоторых акцентов, обусловленных надобностями данной работы.
Наиболее последовательно и глубоко онтология каппадокийцев разработана в сфере Троического богословия. Здесь философия имеет богослужебное назначение, но не утрачивает творческого характера. Исследователи богословия святых отцов неоднократно подчеркивали не только смысловые аспекты онтологических определений, но и происходящую в философии каппадокийцев транформацию категориального аппарата античной философии. Одним из первых к этой проблеме обратился В.В. Болотов: «То, что и ныне часто упускается из виду, – это до изящества тонкое уяснение тремя Великими Каппадокийцами источника различения Лиц Св. Троицы при утверждении Единосущия – омоусии. А именно, что источник не в усиа (на что сбивалась доникейская мысль и от чего рождались две крайности – маркеллианства и арианства), а во взаимоотношениях Лиц Св. Троицы. Св. Василий рассуждал: «Отец есть имя Божие не по сущности и не по действию, но по отношению, какое имеет Отец к Сыну или Сын к Отцу». Отец «больше» Сына по причинности и равен по природе. Это тоже своего рода субординатизм, но не по божеству и не по сущности (как у Оригена и даже у Афанасия), а по ипостасным отношениям. Вот это преодоление субординатизма…и составляет гениальное достижение каппадокийского богословия» [136] . Принципиальное значение имеют наблюдения В.М. Лурье и архимандрита Киприана (Керна): речь идет о категориях «сущности» (oυσια) и «ипостаси» (υπoστασις) в Тринитарном догмате. Если архимандрит Киприан как представитель предшествующего поколения исследователей патристики, обращаясь к Тринитарному догмату, указывает на зависимость категориального аппарата каппадокийцев от Плотина и Аристотеля, то Лурье уточняет суть произошедшей трансформации категориального аппарата. Так архимандрит Киприан пишет о каппадокийцах: «Им удалось больше, чем древней философии, выяснить, что есть бытие в Ипостаси. Если Плотин впервые различил «сущность» как «бытие вообще» от «ипостаси», как «определенного бытия» то отцам каппадокийцам открылось нечто более глубокое и существенное по смыслу. Они, в лице св. Василия, исходя их Аристотелевской Substantia abstracta et concreta прозрели в сущности и Ипостаси различие общего от частного («сущность и Ипостась имеют то отличие, которое имеется между общим и частным, – между живым существом вообще и данным человеком»)» [137] . Лурье показывает, что при обращении к «Категориям» Аристотеля понятие «сущность» в богословии остается аристотелевским и уточняет: «Василий Великий закрепляет в христианском богословии термин «сущность» исключительно за теми сущностями, которые Аристотель назвал вторыми, то есть, для родовых понятий» [138] , универсалий. Что же касается «ипостаси»: «Понятие «первой сущности» Василий Великий и Григорий Богослов заменяют понятием «ипостась», но делают это так, что значение христианского термина далеко простирается за рамки аристотелевского определения. Когда Василий Великий определяет Аристотеля (а точнее одна из двух ее разновидностей: первая сущность) заменяется новой категорией – ипостась. Можно сказать иначе: вместо аристотелевской «первой сущности» будет введена новая категория, одиннадцатая» [139] . Описание внутритроичных отношений и описание воплощения Логоса потребовало от каппадокийцев трактовки ипостаси как вместилища сущности, а не только как некоей части общего целого. Изменение категориального аппарата было вызвано необходимостью сделать его пригодным для «фундаментальной перестройки онтологии» в ситуации смены исторических эпох Античности и Средневековья.
Своего рода полемика с Плотином разворачивается и на страницах трактата «Об устроении человека».
На примере сравнительного анализа трактата Григория Нисского «Об устроении человека» и VI Эннеады Плотина можно увидеть, как прямое заимствование Григорием Нисским категориального аппарата Плотина (в описании космогонии, он использует пять идеальных категорий Платона в рецепции Плотина: «сущность», «движение», «покой», «тождество», «различие» (Плотин,VI Эннеада)), так и поляризацию их учений (в XXIV главе трактата «Возражение утверждающим, что вещество совечно Богу»).
В XXIV главе Григорий Нисский формулирует свою теорию «творения из ничего» и теорию энергийной природы вещества. Конечной его целью является упразднение понятия о совечности материи как принципа зла – Богу.
Учение об энергийной природе вещества может и должно рассматриваться во взаимосвязи с учением об апокатастасисе. Это учение – наиболее сложная и проблемная часть наследия Нисского святителя, из-за его неоплатонической составляющей Григорий Нисский не был включен в чин Вселенских учителей и святителей. В трудах по богословию патристики ему уделено значительное исследовательское внимание, на этом фоне позволим себе сосредоточиться лишь на некоторых частностях взаимосвязи учения об апокатастасисе с неоплатонизмом, сравнив «Эннеады» и трактат «Об устроении человека».
Учение об апокатастасисе получило отражение в VII, XVIII – XXVIII, особенно в XXI и XXV главах трактата «Об устроении человека». Обращаясь к «Эннеадам», следует сделать акцент на истолковании А.Ф. Лосевым диалектики Плотина как диалектики числа.
В восстановлении человека происходит возвращение от множественности к единичности (даже не к состоянию Адама (т.к. Григорий Нисский подчеркивает: в Библии говорится вначале не об Адаме , состоящем из персти и духа, т.е. двоице, но о человеке «Сотворим человека по образу и подобию Нашему»)).
С образом «возвращения к единичности» связана и введенная в богословие патристики Григорием Нисским теория «разделений», главным в чреде которых становится разделение на мужской и женский пол и соответствующее тому, аскетическое по своему характеру, учение о преодолении этих двойственностей. Это учение получило развитие у Максима Исповедника [140] .
В учении об апокатастасисе Григория Нисского эйдос определяет индивидуальные, персоналистические черты человека; эйдос (облик) с изменением возраста неизменен, чем соответствует неизменности первообраза. Эйдос омрачается «звероподобием страстей», а восстанавливается по мере освобождения от них. Учение об энергийной природе вещества позволяет видеть в учении об апокатастасисе, условно выражаясь, «закон сохранения энергии»: воссоединяются не только первоэлементы, входившие в состав человека, но и качественные характеристики, персональный состав которых определен эйдосом.
Эйдос (облик) переменяется, согласно Григорию Нисскому, при произвольном выборе зла,
Введенная в учение о человеке теория трихотомии позволяет Григорию Нисскому дать новую трактовку апокатастасиса по сравнению с Платоном и Плотином в вопросе свободы воли человека по отношению к выбору добра и зла.
Тема платонических истоков апокатастасиса раскрыта в диссертации Лиходедова, а Лурье в отзыве на нее показал, что и у Платона, и у Плотина тема свободы выбора человека осталась неразрешенной [141] ; не понятно, по какой причине переводчик и комментатор трактата «Об устроении человека» не детализирует разрешения темы свободы воли Григорием Нисским.
Для начала, райское древо познания добра и зла, согласно Григорию Нисскому, – древо уведения добра и зла. Зло в трактовке Григория Нисского относительно: как неполнота уведения человеком Божественного Домостроительства; как ошибочное предпочтение «мнимости того, что радует чувство». Мнимость этого предпочтения, не соответствующего достоинству человека [142] , рассеивается памятью о скорбях . Учительный и благой смысл скорбей, их отличие от зла, – аскетическая тема, введенная Григорием Нисским в теорию апокатастасиса. Онтология в апокатастасисе Григория Нисского приобретает аскетический и сотириологический смысл.
Вопрос об апокатастасисе у Плотина и у Григория Нисского оборачивается вопросом антропологии о свободе воли человека и – последовательно – вопросом онтологии о разном онтологическим статусе разных уровней, градаций, бытия. [143]
Этот полемический диалог Григория Нисского и Плотина показывает динамику размежевания онтологии Античности и Средневековья.
1.9. Пути влияния языческого и святоотеческого неоплатонизма на культуру переходой эпохиОнтологические представления каппадокийцев способны репрезентировать мировоззрение своей эпохи в той мере, в которой практически связаны с реалиями своего времени. В этой связи уместно обратиться к теме, заданной исследованием Шичалина, – институциональной оформленности платонизма, неоплатонизма [144] . Этот ракурс выявляет масштаб влияния философской школы на культуру, показывая учение не в его локальном, профессиональном значении, а в практической взаимосвязи с мировоззрением своей эпохи. Шичалин показал, что для сохранения и развития традиции философской мысли важен институт школы. В этом плане Плотин и его последователи верны платонической традиции, школьная доктрина неоплатонизма была разработана учеником Плотина, Ямвлихом Халкидским. Неоплатонизм в эту пору и позже представлен философами римской (III в. Плотин, Порфирий), сирийской (IV в. Ямвлих Сопатр Апамейский, Дексипп), пергамской (IV в. Эдесий, имератор Юлиан (361-363)), александрийской (IV-VII в. Ипатия, Исидор, Стефан Византийский) школ. Функция школы в платонизме шире, чем исключительно поддержание традиции философствования: синтез, осуществленный средними платониками, позволяет платонизму суммировать достижения античной культуры и представлять ее; но, главное, институт школы берет на себя нагрузку, могущую быть распределенной между религиозными, научными, образовательными, государственными социальными институтами. Этим объясняется значимость философского синтеза неоплатонизма как мировоззренческого основания культуры поздней Античности.
В прикладном аспекте влияние неоплатонизма на культуру поздней Античности обнаруживается в изменении опыта мировосприятия, который получил отражение в символизме культуры и в ее сакрализации. С наибольшей очевидностью эти сдвиги проявились в государственной идеологии и в символах государственной власти, что вполне правомерно в логике традиции, у начал которой – Платон, сформулировавший философию государства. Фактически каналами влияния неоплатонизма на представителей власти была – в случае Плотина – его близость к сенату (часть его римских учеников происходила из сенаторского сословия) и некоторая симпатия к Плотину со стороны императора Галлиена [145] .
В Риме титул «император» был званием, которым солдаты награждали полководца за выдающиеся заслуги, официальным титулом первых властителей Рима был «принцепс сената» – первый в сенате, хотя и Гай Юлий Цезарь, и Гай Юлий Октавиан Август имели звание императоров. «Принцепс не был царем. Римлянам первых веков нашей эры была чужда идея рабского повиновения властелину (на практике, конечно, случалось иначе – при таких владыках, как Калигула, Нерон или Коммод). Иметь царя (rex по-латыни и βασιλεύς по-гречески) они считали уделом варваров. Со временем идеалы Республики ушли в небытие. Аврелиан (270–275) окончательно включил в свою официальную титулатуру слово dominus – господин. Настала эпоха домината, сменившая принципат. Но только в Византии идея императорской власти обрела самую зрелую форму. Как Бог суть высшее всего мира, так император возглавляет царствие земное. Власть императора, стоявшего на вершине земной империи, организованной по подобию иерархии «небесной», священна и богохранима… (титул василевса ромеев официально принял в 629 г. Ираклий I, хотя народ стал называть так своих владык много ранее)», [146] – констатирует С.Б. Дашков в монографии «Императоры Византии». В этой связи допустимо отметить ряд совпадений: новая формула в титулатуре Аврелиана появляется в год смерти Плотина, т.е. тогда, когда идея иерархии уже получила дискурсивную выраженность в философии неоплатонизма; титулование Ираклия приходится на время деятельности Максима Исповедника, составившего комментарии на труды Дионисия Ареопагита об иерархии. О влиянии Ареопагита на формирование этой идеи применительно к имперской идеологии писал С.С. Аверинцев [147] . «Новые цивилизации возникают лишь там, где соответствующие идеи созрели в умах», – замечает историк византийской философии В.М. Лурье [148] . При описании процесса перерождения одного типа культуры в другой в поле зрения исследователя оказывается некая диффузная зона, где «старое» и «новое» стремятся к поляризации, но имеют много общего.
С наибольшей полнотой неоплатонизм как философия культуры проявляется во время правления императора Флавия Клавдия Юлиана, последователя Ямвлиха, пытавшегося создать иерархию языческого жречества, разработать теологию, символику и догматику новой религии на основе неоплатонизма. Именно он, вошедший в церковную историю как Юлиан Отступник, стал основным оппонентом в философской полемике и политическом противоборстве с каппадокийцами.
Каппадокийцы наследуют традицию неоплатонизма в плане причастности к школе в аспекте ее институциональной оформленности и в силу своей причастности к афинской и, главным образом, александрийской школам, а также и потому, что школьная традиция складывается и в христианстве вместе с возникновением огласительного училища в Александрии. Масштаб влияния «великих каппадокийцев» на культуру Средневековья усиливается по сравнению даже с местом и значением платонизма и неоплатонизма в культуре Античности, что объясняется слиянием философии и религии в единую философско-догматическую систему, а также миссионерской нацеленностью деятельности отцов церкви в эпоху перехода христианства из религии гонимой общины в религию Вселенской империи. В этом ключе особенное значение имели активность административной деятельности Василия Великого, участие каппадокийцев в формировании богослужебного чина и обряда ранневизантийской Церкви, влияние «великих каппадокийцев» на формирование проповеди как риторического жанра, а также формирование под их влиянием наглядной проповеди языком богослужебного искусства. Не последнее место в этом деле занимает восприятие Евангелия как педагогической, «школьной», системы, где Бог именуется Учителем, апостолы – учениками.
1.10. «Дезинтеграция стиля» и «άρχή» в культуре позднего эллинизмаВлияние философии на мировоззрение эпохи не может рассматриваться как однонаправленный процесс, существовало некое встречное движение, создававшее поле развития философской мысли, атмосферу ее формирования. Культура переходной эпохи в ее наиболее наглядных формах, – изобразительном искусстве и литературе, – позволяет в общих чертах наметить границы этого явления.
Вернемся к немаловажной частности – определению Лосевым внутреннего стиля оформления речи Плотина как свободноархаистического . Поскольку ранее речь шла об особенном статусе мифа в философии Плотина и о том, что противостояние язычества и христианства переходит «в глубину мистических и религиозных вопросов», уместно обратить внимание на пограничную зону их взаимодействия. Влияние неоплатонизма на культуру осуществляется, можно сказать, двумя встречными потоками, «снизу» и «сверху». Причина тому кроется в особом статусе, который приобретают миф и понятие άρχή в неоплатонизме и у непосредственных предшественников Плотина.
Рис. 39. Арка Константина
Рис. 40. Для определения греческого идеала создан термин «калокагатия»
Неоплатонизм провоцирует «дезинтеграцию стиля» в сфере художественной культуры, существом которой стала «архаизация» стиля в литературе и искусстве. В отечественной и зарубежной науке переход от позднеэллинистической культуры к культуре ранней Византии описывается объемно, но не вполне согласованно в литературе по философии, эстетике, истории литературы и искусства. Момент кризиса был выделен для детального рассмотрения и анализа Е.Китцингером [149] , посвятившего «дезинтеграции стиля» монографическое исследование. Автор отталкивается от анализа группы памятников, в которых с неожиданной силой обозначились «низовые» фольклорные традиции и стремление к архаизации художественной формы. Характерным примером тому служит изображение тетрархов, парный портрет соправителей Диоклетиана и Максценция, позже – портрет Константина и арка Константина. Парадоксом этих памятников является то, что они происходят из императорских мастерских, а отнюдь не из провинциального ремесленного центра и, соответственно, «огрубление», архаизация, стиля является не столько показателем упадка ремесленной традиции, сколько неким декларативным заявлением. В портретных изображениях Китцингер различает не только и не столько «снижение» стиля, сколько переакцентуацию смысла: внимание художников сосредоточено не на передаче индивидуальной портретной характеристики героев, но на воплощении идеи сакральных оснований власти. В парном портрете Диоклетиана и Максценция, – в этом, несомненно, официозном памятнике не сохранилось и намека на классическую калокагатию и ее проявления в искусстве Рима. В стилистике памятника очевидно обращение к античной скульптуре эпохи архаики. Та же тенденция проявилась в рельефах консульских диптихов, где форма подчеркнуто архаична. Китценгер выделяеть проблему «патрона» как доминирующий стилеобразующий фактор в искусстве и указывает на тот момент, что «варварские» традиции поколебали классическую систему не столько стихийным прорывом снизу, сколько в результате направленной политики. Этот переворот Китцингер связывает с деятельностью Диоклетиана (284 – 305). Китцингер усматривает взаимосвязь процесса «дизентеграции стиля» [150] в сфере художественной культуры с оппозиционной по отношению к аристократии ориентацией императора на армию и плебс, что было сопряжено с милитаристской политикой правителя. Диоклетиан вскрыл огромный резервуар художественных традиций, пребывавших до этого времени под спудом официозного искусства, разнородные этнические традиции получают легализацию и активно влияют на процесс развития стиля империи. Концепция Китцингера важна, поскольку она выделяет поворотный момент в развитии позднего античного искусства на рубеже Средневековья, но допускает уточнения. Следует подчеркнуть, что архаизация формы характерна именно для памятников официозного искусства, т.е. имеет идеологический характер. Функция императорских портретов, консульских диптихов и т.п. не столько эстетическая, сколько представительская, – портрет мог замещать собою персону отсутствующего на той или иной церемонии императора или консула, соответственно, и идеи, выраженные в произведениях этого круга, мало зависят от творческой установки мастера, но отражают цели и идеи заказчика. Осмелимся предположить, что именно неоплатоническая трактовка άρχή определила усиление архаизации в стилеобразовании имперских памятников, в этом случае уместно прибегнуть к авторитету В.Н. Залесской, прямо указавшей на влияние александрийской экзегезы на произведения этого круга, а также на взаимосвязь одной из групп так называемого «византийского антика» с имперской идеологией [151] . Особый статус мифа в учении Плотина, отразившийся даже на характерном для него стиле речи, становится основанием для сближения на основе неоплатонизма столь, казалось бы, разнородных стилеобразующих факторов как влияние Востока (разнородное само по себе [152] ) в стилистике литературы и искусства, влияние фольклора и уже упомянутая ориентация на старину . В аспекте проблематики этой работы важен тот факт, что «поставщиком» эзотерических учений Востока была Александрия, на него обращает внимание Р.В. Светлов в монографии «Гнозис и экзегетика». [153]
Рис. 41. Греческие памятники эпохи архаикиРис. 42. Раненый греческий воин
Если формирование классического римского портрета основывалось на традиции античной калокагатии, вступившей во взаимодействие с натурализмом сакрального портрета этнической традиции римлян, то в означенный период происходит распад калокагатии. Тождество духовного и физического совершенства отступает на второй план. Происходит спиритуализация образа. Она достигается посредством усиления активности формальных элементов изобразительного языка: самодовлеющее значение приобретает фактурная обработка камня, в резьбе преобладает линеарное начало. Нарушение соразмерности анатомических пропорций приводит к усилению экспрессии образа. Идея «развоплощения» духа приводит к изменению структуры образа. Формальные элементы языка приобретают самостоятельный статус под воздействием художественных традиций Сирии и Ирана, предвосхищая рождение символизма. Чуткость к подобным веяниям Востока обнаруживают средние платоники и неопифагорейцы. В частности, – что немаловажно, – к ним прибегают прямые предшественники Плотина, оказавшие значительное влияние на него, – Нумений из Апамеи и Аммоний Саккас. Доподлинных сведений о них сохранилось, увы, немного, но, по-видимому, Нумений был как-то связан и с Александрией, и с Римом, [154] Аммоний же – представитель Александрийской школы. «Известно…, что Нумений в своем учении уделял большое внимание учениям брахманов, иудеев, магов и египтян…». [155] Согласно Порфирию, Плотин «везде следовал за Аммонием и под его руководством достиг в философии такого прогресса, что захотел познакомиться с тем, что практикуют персы и в чем достигли совершенства индусы», [156] само обучение у Аммония имело характер таинственного посвящения. Для нас эти сведения примечательны, так как они свидетельствуют о прозрачности границ между Римом и Александрией, а также между эзотерическими учениями Востока и философской традицией неоплатонизма [157] . В отношении влияния на художественный стиль «неоплатоническая эстетика» и «художественные традиции Востока» могут быть сближены, как явления одного порядка. Рассуждая о символизме раннего Средневековья, С.С. Аверинцев прямо указывает на то, что правомерность обращения неоплатоников к Востоку, собственно, задана Платоном: «Сакрализация греческой философии идет с оглядкой на идеализированный и обобщенный образ восточного мудреца – образ, в котором сливаются до неразличимости персидский «маг», индийский гимнософист и египетский «священнокнижник». Недаром раннехристианские мыслители, особенно живо чувствовавшие знамения времени, так часто вспоминают презрительные слова, вложенные Платоном в уста египетского жреца, будто бы беседовавшего с Солоном в Саисе: «О, Солон, Солон! Вы, греки, вечно останетесь детьми, и не бывать эллину старцем: ведь нет у вас учения, которое поседело бы от времени!». Все это характерно для эпохи. Но не следует забывать одного: ориентализация античной культуры в последние века существования последней отнюдь не была случайным и внешним – относительно сущности античной культуры – «вторжением», «засильем» или «наплывом» некоего чуждого «восточного элемента». Напротив, эта ориентализация явилась логическим завершением путей самой античной культуры, следствием ее собственных внутренних противоречий и слабостей, но также реализацией фундаментального задания, заложенного в ее основах. Если бы тяготение к Востоку как к своей дополняющей противоположности не входило в сущность античной культуры, от античной культуры пришлось бы отлучить, например, Платона» [158] .
Спиритуализм искусства Востока находит себе параллель в возрождении наследия греческой архаики в сфере художественной культуры. Одной из наиболее общих тенденций развития литературы является обращение к архаичным формам античного наследия.
Проявления этой тенденции многообразны. Это реставрация дорического диалекта, архаической лексики и метрики в творчестве Синесия из Кирены [159] . В экспрессивном стиле Нонна Панополитанского происходит возрождение мифологических речевых структур:...…дайте мне нартекс, мималлоны, и наплечной пестроспинной небридой, вместо обычного хитона оденьте мою грудь, полной Маронова благоухания божественного; пусть глубинная Эйдофея и Гомер грубую тюленью шкуру оставят Менелаю! [160]
Обилие синонимов, метафор, антономазий, схожа с речевыми структурами неоплатонической и святоотеческой апофатезы [161] . Аллегории, метафоры, параболы и парафразы ранневизантийской литературы зачастую служат для передачи трансцендентного смысла.
В литературе архаизация языка родственна обращению к фольклорным истокам. Вторжение элементов просторечия в литературные жанры прослеживается на примере как христианской, так и еретической письменности. Так, например, Арий, будучи блестящим оратором, «снижает» до шокирующих форм свой стиль, ориентируясь на запросы толпы. Новым жанром ранневизантийской литературы являются монашеские хроники, составившие основу «патериков». С.С. Аверинцев и Л.А. Фрейберг указывают на то, что в их языке сказалось плодотворное влияние фольклора: «Говорили об авве Аммоне, что некие пришли к нему судиться. Старец, слыша это, притворился глупым. И вот одна женщина сказала другой, стоявшей близ нее: этот старец юродствует. Старец услышал ее, и, подозвавши, говорит ей: сколько я употребил трудов в пустынях, чтобы приобрести это юродство, и ужели для тебя я должен потерять оное?» [162] Интонации образы обыденного просторечия характерны для патериков. Не следует, однако, определять существо жанра «монашеских хроник» исключительно по этому признаку. Сразу же отметим: это – изощренное просторечие, зачастую оно является нарочитой «архаизацией». Среди «простецов» этого жанра Афанасий Александрийский, Софроний Иерусалимский, Иоанн Мосх. Так, например, с именем Афанасия Александрийского связано определение догматов христианского вероисповедания. В искушенном просторечии текстов патериков запечатлен мистический опыт основателей пустынножительства. Оно, подобно просторечию притч Ветхого и Нового Завета, а также «Агады» (экзегетический жанр иудейских еженедельных поучений, разъяснения морали Пятикнижия в форме притч, рассказов, басен, парабол, легенд и др.), служит передаче мистического смысла. Апофтегмы, входящие в состав патериков, рождаются из поучения в Писании, одного из постоянных монашеских деланий, из «заключения ума в слова» Писания, воспринимаемого как благовествование в пустыне и живое руководство в деле подвижничества. «Парадигмой» монашеского служения становится не идеальный тип эллинского мудреца и героя, т.е. не «божественный человек», а библейский «человек Божий» (Д. Бартон-Кристи, А.И. Сидоров, В.М. Лурье). Характеризуя языковую среду египетского монашества, в которой появляются народно-монашеские хроники, В.М. Лурье говорит, что это среда эллинистического иудео-христианства: «Если она не испытала эллинизации «второй волны», захватившей в III в. только интеллектуалов, то зато сама ее «иудейская» (точнее, ветхозаветная – принадлежащая египетским общинам Ветхозаветной Церкви) основа была эллинистична. В Египте всегда и везде, а не только в школе Оригена, христианство проповедовалось на языке греческом и, точнее, на языке греческой культуры» [163] . На этом примере мы видим, что и по иудейской, и по эллинской линиям снижение стиля, «архаизация» становятся неким сакральным знаком. Развитие жанра «монашеских хроник» также отражает тенденцию к усилению именно сакрального смысла.
Патерики включают в себя не только поучения (апофтегмы), но и житийные повествования, восходящие к античным жанрам биоса и энкомия. [164] Биосы входят в состав патериков, а также существуют как самостоятельный жанр. В соответствии с характером жанрообразования средневековой эпохи, на основе биосов формируются «жанровые конгломераты» [165] – синаксарии («собрания») и минологии («календари») – чтения, соответствующие годовому богослужебному кругу. Вновь следует подчеркнуть сакрализацию текстов, – с одной стороны, а с другой, – и слияние антропологических и космологических представлений в жанре, отражающем священный порядок мирозданья, картину мира в целом [166] : происходит «уплотнение» жанровой структуры, поскольку соединяется начало личностно-эмоциональное и представления о космосе, годовом богослужебном круге.
Ранее говорилось о тяготении к фольклорной или архаической традиции писателей различных убеждений: и ересиарха Ария, и святителя Афанасия, и язычника Синесия. Подобные же изменения происходят в литургической гимнографии, имеющей и античную, и иудейскую, и сирийскую предысторию. В ранневизантийскую эпоху самым значительным представителем этого жанра является Ефрем Сирин, его произведения написаны легко запоминающимся пятисложником, что соответствуют надобностям проповеди. О произведениях такого рода Григорий Нисский пишет: «Путники в повозке и на корабле, ремесленники, занятые сидячей работой, короче говоря, мужчины и женщины, здоровые и недужные, прямо-таки почитают за наказание, если что-нибудь помешает твердить эти возвышенные уроки» [167] . Сирийская поэзия, – констатирует Аверинцев, – явилась последним «по времени, а не по значимости» источником ранневизантийской гимнографии, ее формирование предварено взаимным влиянием греческой и семитской культур еще начиная с «первой волны» эллинизации, а именно: библейской поэзией в передаче Септуагинты; позднейшими иудейскими гимнами синагогального богослужения (включая жанр пийут, в котором несомненно различимо греческое влияние), особым строем устной проповеди с ее смысловыми и звуковыми параллелизмами. [168] Завершение формирования канонической структуры в житийном каноне приходится на VI век, то есть, совпадает по времени с формированием канона в традиции изобразительного искусства.
Из сказанного следует: «архаизация» в ранневизантийской культуре – это объемный процесс, связанный с мировоззрением эпохи, а не с внешними техническими приемами художеств. Несомненным является то, что архаизация, ориентализм, взаимодействие эллинской и иудейской культур, сакрализация форм художественного мышления не являются случайными и обособленными явлениями позднеэллинистической и ранневизантийской культуры. Они имеют, очевидно, общую идейную основу. Из этого арсенала заимствуются идеи и формы, отражающие священные начала бытия. Эти стилистические импульсы взаимодействуют с философией неоплатонизма.
У Плотина происходит разделение образов на эстетические образы и знаки, внеэстетические по своему характеру. Эти знаки указывают на реальность божественного бытия. Согласно весьма распространенному мнению, соотношение образа и первообраза, столь значимое для всей культуры Средневековья, привнесено в ее арсенал Плотином [169] . Основу принципов символизации, оформившихся в эстетике неоплатонизма (материальный знак, указывающий на духовное содержание), составляет не только оппозиция материи/духа, свойственная учению Плотина, но и прием типологии, усвоенный им из иудейской экзегезы. Неоплатонизм повлиял на развитие символических форм в искусстве, а также и на особый сакральный статус деэстетизации художественной формы, которая, как видим, связана с упомянутой ее архаизацией.
У Нумения из Апамеи – одного из предшественников строго систематического платонизма, близкого к пифагорейцам, смысл понятия άρχή выявляется следующим контекстом: «все души охватываются общей, уже Мировой душой… как бы они ни были различны между собою… и какие бы различные тела они собою ни определяли… Этот круговорот начинается с Млечного Пути нисхождением души по небесным сферам на землю… причем с постепенным воплощением в материю душа все больше приобщается к злу… Только освободившись от уз тела, душа соединяется со своими «началами» – archai и начинает свой путь восхождения к небу». [170]
1.11. Распад античного канона в призме дуалистических учений и теории дихотомииДуховность в духе позднеантичного дуализма связана с развоплощением. Следовательно, в художественной культуре с архаизацией формы связана идея приоритета духа, что имеет следствием вытеснение мимесиса [171] . Дуалистические учения, корреспондирующие с учением Плотина, отразившего в своем учении наиболее точно и полно «онтологические и антропологические сдвиги» в атмосфере культуры позднеэллинистического периода, явились причиной распада античного канона
Дуализм плоти и духа, чувственного и ноэтического, составляет основное противоречие неоплатонизма, причем, заметим, не только языческого, но и до-каппадокийского христианского, где складывается теория дихотомии. Антропологическая теория дихотомии включена Григорием Нисским в его учение о человеке, но была преобразована в теорию устроения человека по образу Бога-Троицы, получившую название теории трихотомии. Впрочем, у Нисского святителя и сама теория дихотомии приобретает иное значение и смысл по сравнению с ее трактовкой его предшественниками. Главенствующим понятием, определяющим устроение человека, согласно Григорию Нисскому, становится «образ Божий».
Учение о человеке Григория Нисского оформляется в непосредственной зависимости от хода догматической мысли «великих каппадокийцев» в области категориального определения Тринитарного и Христологического догматов, и в этом плане оно представляет соборный опыт каппадокийского единомыслия. Характеризуя место и значение учения о человеке как образе Божием в истории святоотеческой антропологии, архимандрит Киприан (Керн), говорит о том, что Нисский святитель подвел итог сказанному до него о человеке, и «вместе с этим, святой Григорий выдвигает и свое мнение по этому вопросу, и в этом развивает идеи того символического реализма , который в позднейшей христианской письменности получит особенно широкое распространение». [172]
Дуализм чувственного – ноэтического в неоплатонизме обусловил переход от эстетических образов к знакам, указывающим на духовное содержание. В. Вейдле подчеркнуто называет их не символами, но сигнитивными знаками, они указывают не на обозначаемое в целом, но на одно его свойство и не предполагают соответствия обозначающего и обозначаемого (примером может служить, несоответствие Иисуса Христа и павлина или феникса, как Он обозначался в раннехристианской традиции).
Такие знаки бытовали и в языческом искусстве, и в раннехристианском, Вейдле провел разграничение между ними, подчеркивая разницу обозначаемого, первообраза. В раннехристианском искусстве знаки указывали на таинство крещения и евхаристии. Знаковый характер изображений связан с особым статусом деэстетизации художественной формы, которая в этом ключе становится сигналом, указывающим на сакральное содержание .
Поскольку термин «архетип» появляется уже у Филона Александрийского, допустима мысль о его влиянии на Плотина. Филон как «эллинизирующий иудей» становится проводников обоюдного влияния греческой и иудейской традиций [173] . В этом ключе в перспективе дальнейшего рассмотрения темы, представляется уместным выделить и рассмотреть влияние именно иудейского компонента экзегезы на язык и жанровое своеобразие трактата Григория Нисского «Об устроении человека» как произведения символического реализма. Этот подход позволит в общих контурах сравнить «свободноархаизирующий» стиль Плотина и стиль Григория Нисского, что представляется уместным в соответствии с тем, что христианство – религия Слова, а также и с тем, что усвоенная каппадокийцами идея Аристотеля тождества формы и сущности в исторической перпективе окажется весьма плодотворной для формирования символического реализма и литургического символа.
1.12. Стиль Григория Нисского«Шестоднев» Василия Великого и трактат Григория Нисского «Об устроении человека» являются двумя частями единого экзегетического произведения, толкования на Книгу Бытия . Это толкование возникает на фоне тенденции, обозначившейся в начальный период становления христианской экзегезы, где образ Христа «обрастал» рассуждениями антропологического порядка. Там же, где им пользовались для раскрытия эзотерических тайн, он становился частью особой картины мира…». [174] Двойной контекст трактовки образа Иисуса Христа в раннехристианской литературе отмечает Т.Миллер, связывая его с двумя типами иудейской экзегезы: из нее заимствуются так называемые Testimonia «Свидетельства», выдержки из Библии, касающиеся Мессии, и приемы их комментирования, а также апокалипсисы, «с их эзотерическим учением о небесных тайнах и судьбах мира».
Следует подчеркнуть: «Шестоднев» повествует о «небесных тайнах», «Об устроении человека» – антропологический трактат, оба же текста, согласно авторским пояснениям Василия Великого и Григория Нисского, являются толкованиями на тайнозрение Моисея или эзотерическими произведениями. Григорий Нисский прямо называет свой текст «таинственной антропогонией».
Два самостоятельных типа толкований вступают во взаимодействие, происходит их слияние. И «Шестодев», и трактат Григория Нисского, действительно, связаны с традицией апокалиптической литературы. Так, Василий Великий, говорит: «Если имеет начало временное, то не сомневайся и о конце» [175] . В трактате Григория Нисского одной из основных тем является тема апокатастасиса, судьбы человека по воскресении.
Между тем, в иудейской и раннехристианской традиции, «Шестодневы», наряду с апокалипсисами, являлись самостоятельным жанром эзотерической литературы. Среди комментаторов «Шестоднева» – Филон Александрийский, раннехристианские экзегеты Папий и Пантен, а также упоминаемые Евсевием Родон, Апион, Кандид .
В то же время Григорий Нисский, словно планомерно продвигаясь вспять истории, опирается на исходные для александрийцев жанры эллинской и иудейской экзегезы. А. Десницкий пишет: «Вообще, надо отметить, что граница между иудейской и христианской экзегезой в первые века н.э. была гораздо более прозрачной, чем сегодня – об этом можно судить хотя бы по влиянию на Григория идей Филона Александрийского» [176] .
Если еженедельное чтение Священного Писания и истолкование его народу входило в обязанности раввинов, то и святители свои экзегетические произведения создают как гомилии: «Беседы на «Шестоднев» – собрание великопостных проповедей, «Об устроении человека» – пасхальное послание, – таким образом, они имеют богослужебное назначение. Сходство с иудейской религиозной практикой не является случайным, поскольку она повлияла и на формирование христианского богослужения в его важнейшей части – анафоре [177] . Следует отметить близость – в общих контурах – тематизации трактата Григория Нисского последовательности богослужения: хвала Богу за сотворения мира и человека; «естественное рассмотрение» и рассуждение о спасении от бессловесных страстей; рассуждение о еде и питье в Раю как причастии слову; размышление о смерти и апокатастасисе; медицинская глава посвящена переходу от ветхого человека к новому и завершается прославлением Бога.
В качестве собрания проповедей тексты Василия Великого и Григория Нисского побуждают к покаянию, предшествующему пасхальной радости. Этот переход от метанойи как «перемены ума» к преображению придает тексту динамику духовного восхождения, сообщая сказанному сотириологическое значение и мистический смысл, изменяя циклическую замкнутость греческого видения, где начало и конец соединяются. Называя трактат «таинственной антропогонией», Григорий Нисский указывает на дистанцию, разделяющую его мистическое толкование от символико-аллегорических произведений предшественников, да и от собственной аллегорической экзегезы.
Таким образом, Григорий Нисский совершает переход от традиции символико-аллегорической экзегезы александрийской школы к мистической традиции литургических толкований, преемником которой становится впоследствии Максим Исповедник как автор «Мистагогии», – центральная фигура последующей истории византийского богословия.
В сочинении, объявшем картину мира от его сотворения до последних времен, Григорием Нисским применена типология (от греч. «τϋηος» – «отпечаток») – прием интерпретации, характерный для иудейской экзегезы, применявшийся в апокалиптике и в эсхатологическом комментировании пророков. Этот прием употреблялся раввинами для переноса смысла Священного Писания на события настоящего времени как истолкования божественной воли богоизбранному народу, заключается он в парном сопоставлении обетования – исполнения; прошлого-будущего. Этот прием с IV в. станет основным для христианской культуры [178] . Иудейская экзегеза повлияла на формирование экзегезы каппадокийцев, подобно тому, как синагогальное богослужение повлияло на ранние формы богослужения и литургической поэзии. [179] А. Десницкий в публикации, посвященной экзегезе Григория Нисского, пишет: «Там, где экзегет видит в деталях библейских повествований указание на духовные и нравственные понятия, мы говорим об аллегории. Там, где он находит прообразы новозаветной реальности, исторической и духовной одновременно, мы говорим о типологии» [180] .
Ранние формы литургической поэзии возникают на фоне взаимного влияния семитской и греческой литературных традиций и предварены осуществленным в Александрии переводом Септуагинты. В этой аналогии между александрийской экзегетической традицией и гимнографией важно выделить следующую частность: традиции ветхо– и новозаветной поэзии связуются проповедями раввинов и поэтическим жанром пийут; объединяющим их признаком и корневым свойством является параллелизм образов, как в иудейской, так и в христианской типологии. Типология является не только приемом толкования священного текста, но проявлением параллелизма как способа мышления и отражения картины мира библейскими авторами.
Под «параллелизмом» понимается выражение одной мысли разными способами или построение мыслей парами [181] , при этом «связи между строками могут быть самыми разнообразными, от полной синонимии до полного контраста, но в любом случае никакое высказывание не остается изолированным, все включены в длинные цепочки развернутого текста» [182] . – пишет А.С. Десницкий в монографии «Поэтика библейского параллелизма».
Английский епископ Роберт Лаут, который в XVIII в. ввел понятие параллелизма в обиход, так раскрывает его: «Параллелизмом называю я соответствие между одним стихом, или строкой, и другим. Когда в строке высказано суждение, а к нему добавляется или под ним в другой строке располагается еще одно, подобное или противоположное ему по смыслу либо близкое по форме грамматической конструкции, то эти строки я называю параллельными, а слова и обороты, сообразующиеся друг с другом в данных строках, называю параллельными членами» [183] . «Параллельные строки могут быть сведены к трем типам: параллели синонимические, параллели антитетические и параллели синтетические… Надлежит заметить, что данные типы параллелей постоянно между собою смешиваются и что смешение это придает сочинению разнообразие и красоту» [184] . От определения Р. Лаута отталкиваются в своих исследованиях, посвященных параллелизму, С.А. Десницкий, Р.О. Якобсон [185] .
Прием типологии является частным случаем параллелизма, и в трактате Григория Нисского он не сводится к упрощенной схеме парных сопоставлений по тождеству или различию. О том, что сам Григорий Нисский придавал ему исключительное значение, свидетельствует его высказывание в начале трактата: «…все содержание нашего слова будет, пожалуй, показывать связность и упорядоченность того, что кажется противоположным, но /на самом деле/ направлено к одной и той же цели, потому, что божественная сила так находит надежду безнадежному и исход невозможному» [186] .
Обращает на себя внимание не только смысл, но и конструкция и этой, и предшествующей фразы: «Ведь нужно, я думаю, из всего, относящегося к человеку, ничего не оставить неисследованным: ни того, что, как веруем, произошло прежде, ни того, что, как надеемся, обнаружится в будущем, и ни того, что созерцается ныне». [187] Григорий Нисский прибегает не к парному сопоставлению прошлого/настоящего или пророчества/исполнения, но к трехчастной композиции: «произошло прежде» – «созерцается ныне» – «обнаружится в будущем». Причем, настоящее время оформлено как время созерцания, т.е. оно изъято из исторического «времени человеков» и соотнесено с превечным бытием Бога.
Трактовка категории времени в философско-догматической системе каппадокийцев отличается от античной. Каппадокийцы ввели в космологию понятие тварности времени, поводом к чему послужила полемика с Арием, который спровоцировал переход с поля богословских понятий на почву философии. В субординатизме Ария Иисус Христос был назван первым по времени в чреде творения, чем отрицалось Его Божество. Именно полемика с еретиками по вопросу Боговоплощения привела каппадокийцев к привнесению изменений в философское определение времени, что отражено и «Шестодневом», и трактатом Григория Нисского. Свидетельство о тварности времени явилось свидетельством о божестве Христа.
Космология Василия Великого и Григория Нисского несколько различаются в трактовке категории времени, в целом оба текста дают суммарную картину: Бытие Бога является превечным, оно вне времени. Тварным является эон ангелов и историческое время, которое делится на периоды от сотворения мира до Рождества Христова, от Рождества – до Второго пришествия. В богообщении человек как образ Божий вступает во вневременное бытие. Поэтому в цитируемом фрагменте «созерцание» не только укоренено в историческом настоящем времени, но и является вневременным богообщением. Прошлое и будущее в «Шестодневе» и в трактате «Об устроении человека» даны с точки зрения ограниченности, конечности времени, имеющего «начало» и «конец». Это время – тварно: речь идет о сотворении мира Богом и о воскресении.
В парное сопоставление типологии Григорий Нисский ввел ось симметрии, соединившую Бога и человека: «созерцается ныне». Возникла симметричная композиция. В истории изобразительного искусства она получила название «геральдической композиции». Этот композиционный прием известен со времен первобытного искусства, к нему охотно обращаются мастера греческой архаики, он становится основным в искусстве «византийского антика» и из него переносится в композиционные построения канонического искусства христианства как один из основных типов композиционного построения.
Теоретическое осмысление геральдическое построение как композиционный прием получил и в литературоведении. О нем пишет С.С. Аверинцев в «Поэтике ранневизантийской литературы», обращаясь к Акафисту Романа Сладкопевца:
«Радуйся, ангелов многославное изумление!
Радуйся, демонов многослезное уязвление!
Две строчки зеркально отражают друг друга. Автор как бы видит свою святыню в центре, а добро и зло по обе стороны «одесную» и «ошуюю»… Центр для того и дан в качестве ориентира, чтобы правое самоопределилось в качестве правого и левое – в качестве левого, чтобы добро отделилось от зла и свет от мрака. Бытие рассечено надвое, и это – «суд»» [188] . В этом композиционном построении Аверинцев видит аксиологический принцип организации художественного текста, что приводит на ум иные аналогии. Прием соответствует закону триангуляции, наиболее явно главенствующему в готическом искусстве с его стрельчатыми арками, вимпергами, шпилями. Там он символизирует Бога-Троицу. Пожалуй, эта композиция явилась и схемой иерархии, отрефлектированной в философии неоплатонизма и усвоенной патристикой.
Заметим, Акафист рассматривается ученым как важнейший памятник истории литературы, точнее, поэзии. Аверинцев связывает с ним появление рифмы в литературе Византии. Памятник точно датирован – 7 августа 626 г., в нашем случае немаловажно подчеркнуть: логика организации этого поэтического текста предварена Григорием Нисским на два с половиной столетия.
В Акафисте, пожалуй, важна не только его геральдическая статика, но и динамика развития гимна с постепенным и поэтапным раскрытием имен Богородицы. Динамика эта усиливается, благодаря глагольным формам хайретизмов: «Радуйся!».
Пытаясь выяснить, как видоизменяется прием типологии в трактате «Об устроении человека», рассмотрим риторический прием, в высшей степени характерный для манеры изложения Григория Нисского. «Божественная же красота не в каком-либо образе и складе внешности блистает привлекательным образом, но в неизреченном блаженстве созерцается по добродетели. Поэтому, как живописцы облики людей при помощи разноцветных красок переносят на доски, – наподобие этого… и наш Зиждитель как будто красками, наложением добродетелей расцветил свой образ… Многовидны же и разнообразны эти как бы цвета образа, которыми живописуется истинный облик: это не румяна и белила, и не какая-нибудь смесь их друг с другом, и не черная линия, которой изображаются брови и глаза, и не какое-нибудь смешение красок, которыми оттеняются углубленные черты, и вообще ничто из сделанного руками живописцев; вместо же этого – чистота, бесстрастие, блаженство…» [189]
Первоначально облик человека подчеркнуто-овеществлен, ритор [190] не просто обозначает цвет румянца, бровей, глаз, но вместо понятия «цвет» использует лишенное абстрактности понятие «краска». Краска названа грубо, без оттенков: «румяна», «белила», «черная краска» [191] . Краска переносится на доски. Но и это действие конкретно: переносит ее живописец. Возникает эффект «портрета в портрете»: автор не просто помещает словесный портрет в свой текст, но доводит каждое слово до состояния превращения его в вещь. При переходе на духовный уровень гностического «развеществления» не происходит, не возникает противопоставления плоти и духа. В этом – парадокс стиля Григория Нисского. Не сразу удается заметить, что «краска» и то, что «сделано руками живописцев» входило в состав апофатических определений: «не-белила», «не-краска», «не-смесь их друг с другом», и только после этой промежуточной ступени отрицательных определений, свт. Гриорий прибегает к катафатическим, прямым, определениям: «чистота, бесстрастие, блаженство». Этот риторический прием создает образ, в котором дух не противопоставляется веществу, но смешивается с ним. Следовательно, идея перихорезиса чувственного-ноэтического, связанная с христологическим смыслом толкования, реализуется на стилистическом уровне текста.
В типологии Григория Нисского символическому уровню текста соответствует и предшествует буквальный. «Натурфилософская» и «естественнонаучная» часть гомилии Василия Великого и Григория Нисского «утяжеляет» буквальный уровень текстов, отражая идею реальности творения, реальность Небесного Царства.
Словесный образ, созданный Григорием Нисским, является одним из частных примеров его символического реализма, проявляющегося как общий принцип на уровне образного строя и стилистики текста. Особенность такого рода построений близка к апофтегмам. Обращает на себя внимание восходящая динамика образа. Чтобы не теряться в догадках, обратимся к пояснению, данному самим автором текста. В XII главе свт. Григорий раскрывает тайну иерархической связи и движения внутренней жизни человека. Этот фрагмент текста важен с точки зрения каппадокийской антропологии и гносеологии. Он же служит основанием эстетики святых отцов:
«Ведь поскольку из всего самым прекрасным и превосходным благом является Само Божественное, к которому устремляется все, что стремится к прекрасному, то поэтому говорим и что ум, как созданный по образу Прекраснейшего, пока причаствуется подобию первообраза, насколько вмещает, пребывает и сам в Прекрасном, а если как-то окажется вне подобия, обнажается от красоты, в которой был. А так как, по сказанному, ум украшается подобием красоты первообраза, формируясь чертами того, что явлено ему, как будто /отражение в/ зеркале, то, согласно той же самой аналогии, /с зеркалом/, мы приходим к выводу, что и управляемая умом природа связана с умом и сама украшается красотой прилегающего к ней, делаясь как бы зеркалом зеркала. Природа же /человека/ владычестует и удерживает то вещественное ипостаси, в котором /вещественном/ она предстает взору. Итак, пока одно обладает другим, причастность к истинной красоте проходит через весь ряд пропорциональным образом, украшая всякий раз через находящееся выше то, что непосредственно к нему примыкает. Но если произойдет расторжение этого благого сродства, иными словами, будет, наоборот, превосходящее следовать низшему, тогда само вещество, уже отступившее от природы, обнаружит свое безобразие (потому что вещество само по себе бесформенно и неустроенно, и бесформенностью его испортится и красота природы, которая украшается умом). Итак происходит передача уродства вещества через природу самому уму, так что в чертах создания уже нельзя будет увидеть образа Божия. Ибо тогда подобный зеркалу ум создает образы (идеи) оборотной стороны благого, а обнаружения сияния добра отметает, отражая в себе бесформенность вещества. И таким образом происходит возникновение зла, которое осуществляется через незаметное лишение прекрасного. Прекрасно же все, что имеет свойственное Первому Благу; то, что происходит вне этой связи и уподобления, всегда непричастно красоте. Итак, если, как мы уже видим, истинное благо одно, а ум, как созданный по образу Прекрасного, и сам должен быть прекрасным, а природа, содержимая умом, есть как бы образ образа, то доказывается этим, что вещественное в нас настраивается и подчиняется, когда им управляет природа, а вновь расстраивается, когда отделяется от Подчиняющего и Составляющего, и бывает расторгнуто сродство с прекрасным. А подобное бывает только тогда, когда природа обращается вспять, склоняясь к желаниям не к прекрасному, но к тому, что нуждается в украшающем. Ведь неизбежно все, что уподобляется нищете материи из-за безобразия ее и некрасивости, и само по собственной своей форме преобразится также… Из этого последовательно вытекала предложенная в слове теория, из которой мы узнаем, что в человеческом составе ум управляется Богом, а умом управляется вещественная наша жизнь …» [192] .
Сказанное Григорием Нисским раскрывает соответствие трехчастного символа троическому устроению человека и троической связи: вещественной природы человека, которую он назвал «образ образа» – ума, причастного Первому Благу («образ Прекраснейшего»), – Прекрасного Бога. Закон, управляющий «вещественной нашей жизнью», – тонок и гармоничен, автор употребляет слова, соответствующие внутреннему музыкальному слуху: «настраивается», «расстраивается»; довод этого повествования – «стремление к прекрасному».
В этой главе свт. Григорий приводит медицинское доказательство того, что ум не пребывает в каком-либо ограниченном месте (мозге, сердце или почках), но растворен во всем телесном составе человека. От этой посылки Григорий Нисский переходит к теме несозерцаемости ума: ум, являя собою богоподобие человека, несозерцаем так же, как несозерцаем Бог-Троица. Отсюда святитель Нисский приходит к обозначению тайны ипостаси человека, превосходящей знание и созерцание. То есть, Григорий Нисский прибегает к апофатическому определению ипостаси человека как образа Божия, он утверждает конечную непознаваемость человека как образа Божия.
И содержание главы, и ее композиция, и образный строй вовлечены в движение от научного освидетельствования природы к тому, что превыше созерцания. Осязаемая реальность одного свидетельствует о несомненной реальности другого.
Можно обратить внимание на последовательность: «первообраз» – «образ» – «образ образа» в словах Григория Нисского. Она предвосхищает логико-диалектические построения иерархии образов преп. Иоанна Дамаскина в «Трех защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения», – тексте, который послужит основанием богословия образа.
Образ как литургический символ действенен, служит обожению человека. В этом можно неоднократно убедиться при внимательном прочтении трактата «Об устроении человека», – и в этом случае он становится руководством по аскетике. Лурье, комментируя трактат, обнаруживает апелляции святого Григория к Гиппократу и Галену, который в пневматологической теории является преемником александрийских врачей Герофила и Эрасиспрота. Особенного внимания этот комментарий заслуживает в отношении мистико-аскетического аспекта содержания трактата: «Здесь св. Григорием воспринято общее утверждение античной физиологии, разделявшееся и Галеном; согласно этому утверждению, сердце – источник жизни, в который поступает извне и от которого передается по всему организму воздух. Важность этого положения для истории антропологических воззрений, связанных с православной аскетикой, трудно переоценить: из него следует, что по крайней мере для многих наставников молитвы требование соединить призывающий Имя Иисусово ум с дыханием… и требование соединения ума с сердцем звучали как равнозначные» [193] .
Из сказанного можно заключить, что символический реализм получил свое оформление в трактате «Об устроении человека» основным смыслом которого по существу является определение взаимосвязи Первообраза и образа Божия и преображение человека.
Типология в рецепции Григория Нисского приобретает особенное значение в аспекте трактовки святителем понятия «τϋηος» (отпечаток) в круге научных его воззрений: «И зрение, присущее дну глазного седалища, посредством образов, попадающих в зрачки, оставляет внутри отпечаток» [194] .
Об отпечатке идет речь и в том случае, когда Григорий Нисский суммирует свои наблюдения над телесным составом человека: «эйдос», облик, определяющий индивидуальность человека, его персоналистические черты, независимые от возраста, – «становится для души как бы оттиском печати». [195] Эйдос может быть скрыт безобразием страстей, но « в здравии вновь являет свои собственные признаки». [196]
Философия «отпечатка» усматривается Григорием Нисским в анатомическом устроении тела: «Поскольку твердое и неподатливое не принимает в себя чувственной энергии, как это можно видеть в наших костях или в растениях, в которых мы знаем некий вид жизни, коим они растут и питаются, однако неподатливость которых не принимает чувства, – то по этой причине нужно было ввести как бы воскообразное устройство, на котором могли бы отпечатываться оттиски попадающего извне. Таким образом, чтобы это устройство от избытка влажности не текло – ведь на влажном не удержится отпечаток, ни сопротивлялось печати от чрезмерной твердости – ведь на непродавливаемое нельзя нанести оттиск…». [197]
В период иконоборчества Иоанн Дамаскин краткое и исчерпывающее определение понятию «икона» (образ) даст при помощи двух других – «портрет» и «отпечаток», – столь емкой формуле предшествовала объемная разработка богословия образа Григорием Нисским в трактате «Об устроении человека».
В символическом реализме Григория Нисского главенствующей категорией является «образ», к ней, как к центру, стягиваются все смысловые линии повествования: учение о фундаментальных принципах бытия, учение о человеке, космология, теория познания, натурфилософия и наука, аскетика, сотириология. «Образ», соединяя множество смысловых уровней, сохраняет свойство целостности, единичности, простоты, подобной простоте несозерцаемого ума человека как свойства его богоподобия, – благодаря чему образ (икона) становится удобным посредником между Богом и человеком как образом Божиим.
В обозначении временных и пространственных координат, разделяющих Античность и Средневековье, Константинополь является не только столицей христианской империи, но и центром, передавшим культуре Европы наследие Эллады. «Предысторией» Константинополя может быть названа Александрия, определяющим образом влиявшая на него вплоть до VI века. Она притягательна как родина философского синтеза неоплатонизма и философско-догматической системы патристики: в их полемическом диалоге определялось межевание Античности и Средневековья. Интуиции Плотина и боговедение каппадокийцев относятся к области духа, где ничинается жизнь и формируется облик культуры Средневековья.
Глава II. Символический реализм Григория Нисского и символизм христианского искусстваСвятые отцы, представляющие традицию богословия иконопочитания, неоднократно прибегают к авторитету «великих каппадокийцев». Это позволяет рассмотреть проблему влияния каппадокийцев на богословие образа. Поскольку к периоду иконоборчества каноническое искусство уже оформилось в общих контурах, и труды иконопочитателей констатируют его наличие и истинность его образов, – уместно рассмотреть каппадокийское богословие с точки зрения его влияния на зарождение и формирование канонического искусства на начальном этапе его существования.
Труды Григория Нисского: «Слово 19, сказанное в Константинополе о Божестве Сына о Святом Духе и об Аврааме» и трактат «Об устроении человека» цитирует и комментирует Иоанн Дамаскин в «Трех защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения», на авторитет «великих каппадокийцев» опираются отцы VII Вселенского Собора, утвердившего догмат иконопочитания. Историков святоотеческой эстетики привлекает экфрасис Григория Нисского с описанием изображения сцены «Жертвоприношение Авраама». Рождественская гомилия святителя Григория послужила сюжетной основой изображения на блюде, происходящем из Александрии. Круг этих памятников является неоспоримым свидетельством влияния Григория Нисского на богословие образа и на художественный процесс своего времени, – что и явится предметом дальнейшего рассмотрения. В этой связи обратимся к содержанию трактата «Об устроении человека».
2.1. Основные идеи трактата «Об устроении человека»К истории понятия «антропология» обращались в своих разысканиях архиепископ Тихвинский Константин (Горянов) [198] и академик А.А. Корольков [199] . Корольков указывает на появление объекта и предмета антропологии в античной философии, но термин «антропология» там отсутствует, только однажды у Аристотеля в «Никомаховой этике» употребляется близкий к нему, который переводится как «говорящий о человеке». Термин «антропология» был введен в обиход в 1501 г. Магнусом Хундтом, назвавшим свой анатомический труд «Антропология о достоинстве, природе и свойствах человека и об элементах, частях и членах тела человека».
Архиепископ Константин отмечал, что антропология Григория Нисского находится в пограничной области, частично относясь к сфере богооткровенных истин, частично приходя в соприкосновение с философией, естествознанием, медициной. Григорий Нисский использует термин «антропогония», указывающий на сотворение человека Богом.
Обращение к содержательной части трактата предполагает апелляцию к исследователям богословия Григория Нисского, их наблюдениям и выводам, что объясняет и реферативный порядок изложения в этом параграфе. Первое, на что следует обратить внимание, это целостный образ бытия и сущего в его трактате Григшория Нисского или, попросту, – картина мира человека раннего Средневековья. В ней взаимосвязаны Бог, человек и тварный мир. Вл. Лосский особо подчеркивает иерархический, а не временной порядоксотворения мира, обозначенный каппадокийцами. Он же говорит о его духовном аспекте : тварный мир, лишенный свободной воли, причастен благодати спасения, преображается, только при посредничестве человека. Учение о человеке граничит с онтологией, которая преобразуется в онтологию спасения , и, в свою очередь, подчиняет себе космологию и теорию познания.
Новациями Григория в сфере онтологии являются:
– теория сотворения мира, мыслимого не как миф, но как историческая реальность (в формировании этой идеи трудно отделить его авторство от участия каппадокийского кружка);
– «моральная причина творения» [200] ;
– теория творения «из ничего»;
– теория общих (божественных) и частных (природных) законов бытия;
– теория не временного, а иерархического порядка сотворения мира; теория энергийной природы вещества [201] .
В сфере космологии , как упоминалось выше, принципиальной новацией является теория тварности времени; в ее деталях каппадокийцы несколько расходятся между собой, но не следует забывать о включении в состав трактата «Об устроении человека» текста «Шестоднева» Василия Великого, репрезентирующего более развернутую, чем у Григория, теорию. Принципиальным положением учения каппадокийцев является даже не структурирование времени, но указание на взаимную зависимость категориального определения тварности времени и христологического богословия. Этот принцип оформился в ходе полемики с арианами, о чем также упоминалось выше [202] .
В сфере гносеологии новаций каппадокийской мысли стало утверждение принципиальной познаваемости Бога по действиям и принципиальной непознаваемости Бога по Сущности. [203] Эти, общие для восточного и западного Средневековья, тезисы сформулированы Григорием Богословом. Григорий Нисский принимает их, но одновременно дополняет: – принцип конечной непознаваемости он распространяет на самопознание человека и на познание вещей и явлений тварного мира;
– для обозначения непознаваемости Сущности Бога он вводит апофатическую категорию «божественный мрак»;
– согласно Григорию Нисскому, «божественный мрак» является охранительным пределом для познания и созерцания Сущности, но он же – особый модус сущностного богообщения: человек сообщается с Сущностью Бога, будучи соединен с Ним любовью;
– Григорий Нисский формулирует еще одно положение теории познания: человек, будучи «образом Божиим», обретает Бога не в космосе или «интеллигибельном космосе», но в глубине своей природы, что по Лосскому/Дэниэлу явилось полным переворотом платоновской перспективы.
Григорий Нисский подводит итог предшествующему этапу святоотеческой мысли о человеке, и на этом основании возникают приращения его антропологии . Основными идеями Нисского святителя являются:
– учение о человеке как «образе Божием»;
– разработка теории трихотомии (трехсоставности естества, включающего тело, душу, дух);
– теория одновременного происхождения души и тела (в противовес теориям метемпсихоза; предсуществования души; предсуществования тела).
«Каппадокийцы дали богословское определение лица. Они нашли, благодаря этому, метафизическое обоснование для Ипостаси человека, ноумен человеческой личности, т.е. осмыслили богословски-персоналистическую ценность человека» [204] , – отмечает архимандрит Киприан (Керн). Он же подчеркивает, что понятийное определение ипостаси человека у Григория Нисского вторично по отношению к определению Ипостасей Бога-Троицы в Тринитарном догмате, формулировка которого явилось богословским подвигом отцов-каппадокийцев.
В своем трактате Григорий Нисский обращается к Плотину, а именно к его VI Эннеаде, которая по оценке А.Ф. Лосева, составляет сердцевинное ядро всей античной философии [205] .
В I главе трактата в описании космогонии, Григорий Нисский использует категории «сущность», «движение», «покой», «тождество», «различие». Категориальное сходство оттеняет несовпадение текстов по смыслу. Так в Эннеаде VI, 4 Плотин пишет: «Мир истинно-сущего – всеобъемлющий мир, мир же видимый – лишь его подобие» [206] . Для Григория Нисского Бог является творцом первого начала и всего сущего: «И, думаю, указывая именно на это как на [самое] первое начало, предустроенное, по премудрости Сотворившего, всему устроению сущего, великий Моисей говорит, что в начале были сотворены Богом небо и земля, Ведь все явления и твари, по воле Божией приведенные в бытие, суть порождения движения и покоя» [207] .
О «движении» и «покое» Плотин пишет: «Понятно, что тот истинный всеобъемлющий мир не находится в чем-либо другом, потому что ему не предшествует в бытии ничто другое. Напротив, мир, который по бытию следует после него, конечно же, должен уже в нем находиться и на нем утверждаться, а без него не может существовать, ни быть в движении или покое» [208] .
«Движение» и «покой» у Григория Нисского трактуются как «действования» (энергии), правящие всем: «Связью же и утверждением произведенного было придано природе существ божественное искусство и сила, двоякими действованиями (энергиями) правящее всем: возникновение не сущему и пребывание сущему они устроили покоем и движением». [209]
По-видимому, движение и покой – это противоположные «действования» или энергии; в своем единстве соответствуют частному (природному) закону творения, но в тварном мире они проявляются как первое начало, «предустроенное всему устроению сущего».
Тварный мир выстраивается по некоей шкале, соединяющей полюса: «А так как небо и земля противоположны друг другу по причине противонаправленности действования (энергии) этих расстающихся сущностей, то тварь, находящаяся между противоположностями, отчасти приобщается соседнего с ней, посредствуя собою между крайностями, так чтобы явным стало через это среднее соприкосновение противоположностей». [210] Уже в I главе трактата Григорий Нисский говорит о тварном мире
– как о сущем;
– тварный мир представлен не как материальный, но как энергийный;
– для определения градаций бытия введены две шкалы: «Бог – тварный мир» и «небо – земля» (тварь располагается по этой оси).
Вернемся к началу трактата. Градации бытия, по Григорию Нисскому, не совпадают с учением об эманации Плотина. Во II главе Григорий Нисский отступает от иерархии Плотина. Между Богом и тварным миром он помещает человека, который тварен, но сотворен по образу и подобию Божию. Человек трактуется им как микрокосм, но своим богоподобием из тварного мира он выделен.
Устроение человека отражает онтологическую иерархию : природа человека определяется «растительными», «животными» силами, богоподобием, – то есть, Григорий Нисский формулирует теорию трихотомии. Эта иерархия не статична, но динамична: гармоничное бытие человека возможно при соблюдении последовательности подчинения богоподобию «животных» и «растительных» сил. Если же его произволение склоняется к главенству «вещества», человек утрачивает богоподобие, то есть, соответствие своей сущности: речь идет не о веществе как носителе зла, но об уровнях бытия, причем, – градации «внешнего» бытия зеркально отражены внутри ипостаси человека.
Теория трихотомии преломляет учение о бытие и сущем; и мирозданье, и божественное бытие отражены самим устроением человека, потому он открыт для уведения божественного и тварного миров, – здесь очевидно, что теория трихотомии явилось связкой онтологии и теории познания. И учение о человеке, и теория познания приобретают у Григория Нисского онтологический статус.
Диалектика Плотина как диалектики числа , приобретающего значение интенции-энергии-эйдоса , будет развита Григорием Нисским. В XXIX главе Григорий Нисский, критикуя теории предсуществования душ и предсуществования тел, выдвигает теорию одновременного возникновения души и тела. В ней он говорит об интенции роста того и другого, реализующуюся в энергиях (действованиях): «Ведь, по апостольскому наставлению, природа наша умопостигается двоякой: человека видимого и сокровенного (I Пет. 3,4). Тогда, если и одно предсуществовало, а другое появилось после, то обличится известное несовершенство Силы Создавшего, недостаточной для мгновенного создания всего, но разделяющей дело и занимающейся отдельно каждой из половин . Но как о пшеничном зерне или о другом каком семени говорим, что в возможности ( потенции ) оно заключает в себе (эйдос) колоса – зелень, стебель, межоузлия, плод, остны, – и ни о чем из этого мы не говорим, будто по закону ( в логосе ) природы оно предсуществует или предвозникает природе семени, но говорим, что в известном природном порядке проявляется вложенная в зерно сила, а не примешивается другая природа, так и о человеческом семени предполагаем… Так и душа в нем есть. Хотя и не проявляющаяся, проявится же она через свойственную ей природную энергию , продвигаясь вместе с телесным ростом…… Но как по телесной его части мы не называем его ни плотью, ни костями, ни волосами , ни всем тем, что можно видеть у человека, но в возможности оно есть каждое из перечисленного, еще не явившееся зримо, – так и о душевной части мы говорим, что еще не имеет она в себе словесного (разумевательного), вожделевательного и раздражительного всего, что можно иметь у души, но в соответствии с устроением и усовершенствованием тела, вместе с подлежащим возрастают и энергии души ». [211]
В этом фрагменте обращает на себя внимание диалектика числа: «единица» природы человека делится на «двоицу» внутреннего и внешнего человека; внешний человек развивается в триаду «плоти», «костей», «волос»; в то время как внутренний делится на триаду «словесного», «разумевательного», «раздражительного».
Цитируемый текст наглядно демонстрирует и диалектику перехода теории дихотомии в теорию трихотомии, и отражение в образе священного значения чисел триадологии и христологии.
Речь идет о Силах Создавшего и об энергиях души, – в чем различимо предвестие богословской мысли о нетварных божественных энергиях и учения о синергии.
Дилектика числа важна с точки зрения появления эйдоса [212] : возникающая мгновенно от Силы Создавшего потенция заключает в себе эйдос, предваряющий действования (энергии).
Из этого соотношения возникают следствия, важные в перспективе дальнейших рассуждений, касающихся иконографического канона:
– эйдос энергиен;
– смысл числа и пропорции в иконографическом каноне соотносятся с числом и пропорцией онтогенеза и антропогенеза;
– число соотнесено с силами-потенцией-эйдосом-энергиями;
– понятие «пропорция» соотнесена с уровнями иерархии или градациями бытия;
– движение и покой – это «действования» (энергии);
– качественное изменение сил в действования – размыкают круг, где «начало» совпадает с «концом» [213] .
В до-каппадокийской антропологии формируется теория дихотомии, двусоставности человеческого естества, природа которого определяется, так же, как и у языческих неоплатоников, парой оппозиционных понятий: «дух» и «плоть». Теория дихотомии имеет два варианта: в ней говорится о «предсуществовании душ» (неоплатоники, Ориген), либо о «предсуществовании тел» (Климент Александрийский); понятие «перихорезис» (смешение, срастворение чувственного-ноэтического) отнесено Оригеном к личности Христа, но отнюдь не переносится на человека, сотворенного по Его образу и подобию. Учение о перихорезисе переносится Григорием Нисским в антропологию, на ее основе возникает учение об одновременном возникновении души и тела (главы XXVIII, XXIX), а также учение о том, что ум как богоподобие человека несозерцаем, а также и о том, он не сосредоточен в одном каком-либо органе.
Дихотомия Григория Нисского соотнесена с космологией. Он, подобно античным авторам, называет человека «микрокосмом», но говорит о том, что лишь богоподобием определяется истинное достоинство человека. Богоподобие человека раскрывается через ряд понятий: ум или разумевательное начало, словесная природа человека, царственность, свобода воли, бесстрастие и совокупность добродетелей, «диадима праведности», непреложность эйдоса и, главное, – любовь. «А без любви переменяются все черты образа», – пишет Нисский святитель.
Для логики этой работы важно преложение теории дихотомии в учение об энергии благодати. С ним связана апология «честной материи» у Григория Нисского в противовес убывающему субординатизму Плотина, разрывающему материю и дух. У свт. Нисского «апология… материи основывается на Воплощении Бога Слова, энипостазировавшего человеческую природу» [214] . Эта апология материи ляжет в основу богословия иконы «Трех защитительных слов против порицающих святые иконы или изображения» Иоанна Дамаскина.
Теория трихотомии в извесном смысле «разворачивает» теорию дихотомии, дифференцируя понатие «плоть» или «вещественный состав человека» посредством понятий «растительные» и «животные силы».
Учение об энергиях благодати в ней также содержится. Согласно этой теории, человек «изначально… был бы совершенным, если бы природа не повредилась злом. Из-за того и причастность страстному и животному рождением не дает божественному сразу просиять в создании, но последовательно известным путем от вещественных и более животных особенностей ведет человека к совершенству. Такое учение преподает и великий Апостол, в послании к коринфянам говоря: «Егда бых младенец, яко младенец глаголах, яко младенец смышлях: егда же бых муж, отверг младенческая <1.Кор. 13, 11>. Не другая душа входит в мужа, отличная от той, что в отроке, так что отвергается младенческое разумение и появляется мужеское, но душа, несовершенная у одного, у другого обнаруживает совершенство… Ведь некоторая душевная энергия, бывающая в растениях, не достигает до чувственных движений. Так и некоторая душевная сила, проявляющаяся в возрастании у бессловесных, – и она не добирается до конца, не вмещая в себе дара слова и разумения. Поэтому мы говорим, что истинная и совершенная душа – человеческая, опознаваемая по всем энергиям… Поэтому и Павел, желающим слушать советуя достигать совершенства, предлагает способ, как улучшить искомое, говоря, что должно совлечься ветхого человека и облещися в новаго, обновляемого по образу Создавшего <Кол. 3.9-10>. Но да возвратимся мы все к той же боговидной благодати, в которой изначально сотворил Бог человека, говоря: Сотворим человека по образу Нашему и по подобию», – так излагает «таинственную антропогонию» Моисея Григорий Нисский [215] .
Здесь святителем Григорием предвосхищено богословие иконопочитания и традиция литургических толкований. Преображение человека или «возвращение к боговидной благодати» совершается при направлении «совершенных энергий души человека» к обновлению по образу Создавшего, для этого, согласно Григорию Нисскому, нет надобности в развоплощении, но в преодолении причастности к страстному, возникшей вследствие первородного греха. В рассуждениях Григория Нисского нет противопоставления материи и духа, но речь идет о возрастающем сиянии образа Божия в человеке: «Природа <общая>, приняв человеческую природу, как кормилица, вскармливает ее своими силами, а природа эта питается в обеих своих частях соответственно каждой и очевидным образом растет. Ведь благодаря этому мастерскому и искусному акту создания в человеческой природе сразу же обнаруживается сопряженная с ней сила души, первоначально кажущаяся слабой, но впоследствии присиявающая вместе с совершенствованием своего орудия. …веществу придается вид. Но и изначально он был бы совершенным, если бы природа не повредилось злом» [216] . Флоровский и Лурье обращают внимание читателей святоотеческих трудов на сближение понятий «форма» и «сущность», важное для богословия иконопочитания. В символическом реализме нет неоплатонического разделения, оппозиции, противоречия материального знака-духовному обозначаемому, поскольку литургический образ, восходящий к первообразу не дематериализуется. Категория «образ», общая впоследствии для литургических толкований и богословия иконопочитания, – это, прежде всего, запечатленный в природе человека образ Божий. Восхождение образа к Первообразу – преображение, причащение «благовидной благодати Сотворшего», совлечение греха «ветхого человека».
Перихоресис чувственного и ноэтического в антропологии Нисского святителя обусловлен его теорией одновременного возникновения души и тела, противопоставленной платонической теории метемпсихоза. Срастворение человеческой и Божественной природ в Ипостаси Иисуса Христа обретает подобие в природе человека одновременным возникновением души и тела, потенции которых раскрываются в согласном росте. В трактате Григорий он пишет: «…как у совершеннолетнего человека душевная энергия проявляется в более важном, так и в начале нашего составления содействие (синергия) души соответственно и соразмерно настоящей потребности обнаруживает себя в том, что из влагаемого вещества устраивает сама себе естественное для нее жилище. Ибо мы признаем невозможным, чтобы душа приспосабливала к себе чужие обиталища, так же как отпечаток в воске нельзя приспособить к другой нарезке» [217] . В этом фрагменте текста Григорий Нисский прибегает к любимому иконопочитателями истолкованию образа как оттиска на веществе, в воске. Такое определение образа присутствует в трудах Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, отцов VII Вселенского Собора.
Таким образом, преодолевается не только основная оппозиция неоплатонизма – разрыв чувственного и ноэтического, но и основное разделение классической философии на материализм и идеализм, что и позволяет констатировать осуществление каппадокийцами «философского синтеза».
Теория дихотомии Григория Нисского требует более детального рассмотрения в аспекте византийской теории образа. Для того чтобы с большей отчетливостью проследить линию каппадокийского богословия, прибегнем к сопоставлению их учения с теорией литургического образа Максима Исповедника, развившего заявленную Григорием Нисским тему. Эту преемственность выявляет в своем исследовании В.М. Живов, но он сравнивает теорию образа у Плотина и Максима Исповедника, ограничиваясь лишь упоминанием каппадокийцев. Потому теорию преодоления двойственностей в трактате «Об устроении человека» следует рассмотреть более подробно.
«Мистагогия» Максима Исповедника является литургическим толкованием. Основываясь на текстах Максима Исповедника, Живов так определяет литургичность образа: это «возвращение образа к первообразу —… движение предмета к его логосу, т. е. к эсхатологическому осуществлению божественного замысла» [218] . Позволим себе пространную цитату, в дальнейшем необходимую в связи с рассмотрением трактата Григория Нисского: «Различие образа и первообраза: для понимания характера этого движения основополагающую значимость имеет противопоставление природного логоса… и способа существования… Поскольку способ существования согласуется с логосом, постольку происходит движение предмета к логосу; если же этого согласования нет, нет и движения. Сама речь о согласовании наводит на мысль о воле, но, поскольку вещественное бытие разумной волей не обладает, естественно встает вопрос о том, как оно может двигаться или не двигаться к своим логосам. Этой волей обладает человек, именно человек выступает медиатором спасения вселенной… именно через него все тварное бытие приходит к своим логосам, к своим первообразам. Эта космическая миссия обусловлена замыслом человека как микрокосма, тем, что человек, как показано в «Мистагогии».... образ мира (о связи этого умозрения с каппадокийцами см.: Епифанович,1915,с.54 – 55) [219] .
Согласуя способ своего существования со своим логосом, человек должен был преодолеть ряд основных двойственностей, разделяющих мир и тем самым отделяющих его от Бога. Бесстрастием он должен был преодолеть противоположность мужского и женского, святостью – разделение рая и вселенной… Затем он должен был жизнью, по добродетели уподобляющейся ангельской, сделать единым чувственным миром небо и землю..; после этого ведением, равным ангельскому, соединить ноэтическое и чувственное (… ср. у Григория Нисского, PG, 45, 25В – 28И) и, наконец, любовью …сочетать тварную природу с нетварным… Преодоление этих двойственностей не было осуществлено человеком из-за грехопадения, сделавшего его способ существования противным его природе… Христос, воплотившись и тем самым восстановив природу человека, осуществил в Себе преодоление перечисленных выше противоположностей… Сделав это, Христос, однако, не освободил человека от его миссии, но вновь сообщил ему возможность ее осуществления… Поскольку Церковь и человек (это соотнесенные предметы и образы друг друга) эту миссию осуществляют, вместе с ними к спасению движется весь космос, все предметы… приближаются к предлежащим им логосам…» [220] . Рассмотрим, как названная проблематика предвосхищена Григорием Нисским.
Обратимся к соединению антропологии и космологии в трактате с точки зрения литургичности образа, далее, – к трактовке темы преодоления двойственностей. Эти проблемы взаимосвязаны, поскольку соединение учения о человеке и космологии, составляющая специфическую особенность учения Нисского святителя, обусловлена дихотомичностью его антропологических воззрений. Дихотомия в антропологии Григория Нисского обусловлена включением в телесный состав человека первоэлементов тварного мира, с одной стороны, а с другой, – запечатлением образа и подобия Божия в человеке. Антропология Григория Нисского является таинственной антропогонией, основывается на тайнозрении Моисея и на личном мистическом опыте, поэтому в ней раскрывается духовный смысл двусоставности человеческой природы.
В первых главах трактата «Об устроении человека» святитель Григорий прибегает к античной, точнее, стоической и аристотелиевской, теории первоэлементов, и превосходит ее. Он пишет: «А так как небо и земля противоположны друг другу по причине противонаправленности действования (энергий) этих расстоящихся сущностей, то тварь, находящаяся между противоположностями, отчасти приобщается соседнего с ней, посредствуя собою между крайностями, так чтобы явным стало через это соседнее соприкосновение противоположностей. Ибо воздух несколько подражает приснодвижности и невесомости огненной сущности – и по легкости естества, и по тому, что имеет необходимое для движения. Но он, однако, и не таков чтобы быть лишенным всякого сродства с твердым. Потому он и не пребывает всегда, и не является постоянно текущим и рассеивающимся. Но благодаря своему сродству с другим воздух стал как бы границей действований (энергий) противоположностей, сразу и соединяя, и разделяя в себе расстоящееся по природе. Аналогичным образом и влажная сущность двойственными своими качествами согласовывается с каждой из противоположностей. Ведь будучи тяжелой и стремящейся вниз, она имеет значительное сродство с земным» [221] . Рассуждая об организме человека, Григорий Нисский основывается на той же теории первоэлементов. Вот лишь некоторые из частных примеров: «Ведь как от сырой земли, когда осветит ее солнце теплеющими лучами, туманные испарения восходят из глубины, так нечто подобное происходит и с нашей землей, когда внутри от естественной теплоты вскипает пища» [222] . Или: «Воздух же в сердце вводится соседним органом, который называется легким и служит преемником воздуха, втягивающим посредством входов внешний воздух через прилегающий к нему дыхательный канал, ведущий ко рту. Сердце, заключенное внутрь легкого… следуя действию постоянно движущегося огня, само непрерывно движется и, подобно кузнечным мехам, втягивает в себя воздух из расположенного рядом легкого, наполняя им полости посредством расширения (диастолы), и раздувая свое огненное (вещество), вдувает его (огненное вещество) в соединенные с сердцем артерии» [223] .
Говоря о смерти, Григорий Нисский, прибегает к тем же категориям: «Но, может быть, глядя на элементы вселенной, подумаешь, что после того, как тот, что в нас, воздух сольется со сродным ему элементом и так же смешаются с однородными им теплое, влажное и землистое, трудно будет возвратиться от общего к свойственному индивидуальности» [224] . Этот фрагмент рассуждений Григория Нисского посвящен не только смерти, но и воскресению, и в этом аспекте особенное значение приобретают его слова, посвященные человеку как микрокосму. «Но возвратимся опять к божественному гласу: «Сотворим человека по образу и подобию Нашему». Как малое и недостойное грезилось благородство человека некоторым из внешних, которые сравнением со здешним миром пытались возвеличить человеческое. И говорили, что человек есть маленький мир… составленный из тех же стихий, что и все. Но громким этим именем воздавая хвалу человеческой природе, они сами не заметили, что почтили человека отличиями (идиомами) комара и мыши. Ведь и комар с мышью суть слияние тех же четырех, потому что обязательно у каждого из существ, наряду с одушевленными, усматриваются они в большей или меньшей пропорции, ведь без них в природе ничего не может составиться причастного чувству. Что ж великого – почитать человека отличительным знаком и подобием мира? И это когда небо преходит, земля изменяется, а все содержимое их преходит вместе с ними, когда преходит содержащее? Но в чем же, по церковному слову, величие человека? Не в подобии тварному миру, но в том, чтобы быть по образу природы Сотворшего» [225] .
Григорий Нисский не только указывает на двойную природу человека, но и развивает мысль о прядке взаимосвязи в человеческом естестве тварной его природы и богоподобия.
Уже в начальных главах святитель Григорий повествует о том, что человек особым образом выделен из чреды творения: сотворение человека завершает сотворение мира, и его созданию предшествует божественный совет. Отношение человека к сотворенному космосу – отношение царственности. «Да и к тому же, стать образом природы Владычествующего всем – это не что иное, как то, что в момент сотворения природа (образа) была сделана царственной» [226] . Здесь в каппаждокийском богословии объемно разворачивается мысль о «человеке как медиаторе спасения вселенной», связанная Живовым с рассуждениями о литургичности образа Максима Исповедника.
Восхождение материи к божественному замыслу о ней (логосу) возможно постольку, поскольку она принадлежит человеку (как царю) и входит первоэлементами в его телесный состав. «Человек для вселенной есть ее упование благодати и соединения с Богом; но в нем также – опасность поражения и утраты. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» – пишет святой апостол Павел. И действительно, «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8. 13 – 21). Тварь, по вине человека, покорившаяся беспорядку и смерти, от него же, ставшего по благодати сыном Божиим, ждет своего избавления», – пишет В.Н. Лосский в «Очерке мистического богословия восточной церкви» [227] . Именно в этой связи он подчеркивает, что порядок миротворения, согласно «Шестодневу», не хронологический, а иерархический. Тема иерархии отмечена нами отчасти в связи с последующими рассуждениями, отчасти же потому, что у Григория Нисского она лежит в основе теории трихотомии. В природе человека запечатлен образ Бога-Троицы, поэтому, прибегая к мистическому истолкованию тайнозрения Моисея, святитель Григорий развивает святоотеческую дихотомию в теорию трихотомии, ставшую отличительной чертой его антропологического учения. Святой Григорий пишет о том, что в состав человека последовательно вовлекаются растительные и животные (наделенные психикой, но лишенные духа) силы природного мира. «Ведь мы едва не остались в неведении относительно порядка творения, – того, почему предшествует появление из земли растений, потом появляются бессловесные животные и затем, после их устроения – человек… Ибо Слово учит нас этим, что в трех различиях усматривается жизненная и душевная сила. Одна сила – только растительная и питательная, подводящая то, что нужно для роста питаемого; она называется природной и усматривается в растениях. Ведь и в растительном можно заметить некоторую жизненную силу, но не причастную чувству. Но, кроме того, есть и другой вид жизни, который включает и первый, но прибавляет к нему управляемость через чувство..; он есть в природе бессловесных. Они не только питаются и растут, но имеют и чувственное действие (энергию) и восприятие. А последняя (совершенная) жизнь в теле находится в природе словесной, то есть человеческой: она и питаемая, и чувственная, и причастная слову, и управляемая умом» [228] . Итак, согласно Григорию Нисскому, человек может быть назван микрокосмом не только потому, что его телесный состав включает те же первоэлементы (стихии), что и весь тварный мир, но и потому что его устроение соответствует иерархии миротворения, Шестоднева. Антропология в святоотеческой традиции, таким образом, не просто связана с космологией, но является ее завершением, венцом, вбирает ее в себя как иерархически – низшую ступень. Следовательно, оказывается возможным восхождение к Богу и преображение твари в человеке, вместе с человеком. Так отражен в трактате «Об устроении человека» космологический аспект литургического образа.
Как уже отмечалось, Максимом Исповедником обозначен и иной аспект литургичности образа, а именно, – преодоление двойственностей человеком. Обратимся к более детальному его рассмотрению на материале трактата Григория Нисского. Смысл двойственного (дихотомичного) устроения человека Григорий Нисский истолковывает так: «И поэтому двойную опору Творец полагает в его устроении, примешав к земному божественное, чтобы сродством к тому и другому и свойственно для каждого из них он испробовал бы Бога через божественнейшую природу, а земные блага испытывал бы однородным с ним чувством» [229] . И далее: «Но кто-нибудь, возможно, стыдится того, что по подобию бессловесных, наша жизнь поддерживается едой, и из-за этого человек ему кажется недостойным быть созданным по образу Божию. Но пусть он надеется, что когда-нибудь в чаемой жизни природе будет даровано освобождение от этой повинности. Несть бо, как говорит Апостол, Царство Божие брашно и питие ( Рим. 14,17), не о хлебе единем жив будет человек, – предрек Господь, – но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих ( Мф.4,4 ). Да и коль скоро воскресение указывает нам равноангельную жизнь, а у ангелов нет еды, то для удостоверения (будущего) отрешения человека от такой повинности достаточно того, что он жить будет по подобию ангелов» [230] .
Преодоление двойственности, разделяющей небо и землю, видится Нисскому святителю во вкушении пищи, насыщающей душу: «Ядите мой хлеб, повелевает алчущим Премудрость (Притч.9,9), и Господь ублажает алчущих такой еды (Мф.5,6). Аще кто жаждет, – говорит, – да приидет ко Мне и да пиет (Ин.7,37). И великий Исайя Пийте радость повелевает тем, кто способен понять высоту его мысли (Ис. 25,1)» [231] . Значительно развитие этой мысли: Григорий Нисский говорит о древе, растущем в Раю, вобравшем всякое благо и именуемом – Всякое (Всецелое), «причастием которому человеку даруется логос (слово)… Ведь всякая идея благого имеет соприродным себе родовой и превосходящий логос, и всякое отдельное (благо) есть целое» [232] .
Итак, Григорий Нисский прослеживает восхождение твари к ее логосам через посредство человека и указывает на восхождение к Воплотившемуся Слову Отчему – Логосу.
Символ в этом повествовании имеет динамический характер: осуществляется движение от рассказа о «растительной и питательной силе, называемой природною», то есть, от начальной ступени иерархического устроения человека и мира, – и завершается повествованием о вкушении от Древа жизни. Образ растения сопоставлен с первообразом Древа жизни. Осуществляется трансформация символа, качественное его изменение, вызванное литургическим характером образности. Этот уровень символизации несколько скрыт, отступает на второй план повествования, так как на первом плане находится рассказ о восхождении человека к Богу, к познанию логосов твари. Так снимается оппозиция «чувственное – ноэтическое».
Тема преодоления двойственностей связана с рассуждением об идиомах человеческой природы – разделением на мужской и женский пол. Живов и Лурье указывают на каппадокийские истоки этой идеи в учении Максима Исповедника. Согласно святителю Григорию, это разделение не имеет отношения к первообразу, к его самотождественной и непреложной природе, но связано с тварной природой человека. Творец, предвидя грехопадение человека, «устраивает в природе такой способ размножения, какой соответствует поползнувшимся в грех, вместо ангельского благорождения насадив в человечестве скотский и бессловесный способ взаимного преемства» [233] . В.М. Лурье по этому поводу замечает: «Изложенный… взгляд на разделение полов как на устроенное Создателем в предвидении грехопадения принадлежит к числу важнейших положений святоотеческой антропологии. Важность этого утверждения делается особенно заметной в контексте догматики, как оно излагается у св. Максима Исповедника. Различие мужского и женского внутри человеческой природы св. Максим называет первым в ряду тех различий, которые человеку надлежит преодолеть на пути обожения… Христос, родившись от Девы, восстановил истинный способ размножения человеческого рода… В этом учении св. Максим опирался непосредственно на учение свт. Григория Нисского» [234] .
Вот что пишет Григорий Нисский о преодолении двойственности полов. Он связывает разделение человеческой природы на мужской и женский пол с временным началом бытия мира: «А когда кончится рождение людей, тогда же получит конец и время, и так произойдет разложение всего на элементы (стихии), и при преложении целого соизменится и человеческое из тленного и землистого в бесстрастное и вечное» [235] . Это высказывание предварено в трактате Григория Нисского апостольскими словами: «Ибо во Христе Иисусе несть мужский пол ни женский» (Гал. 3,28), здесь очевиден онтологический статус темы в ее перекличке с теорией апокатастасиса.
Итак, антропологической системой святого Григория Нисского, и в частности, его трактатом «Об устроении человека» человека предвосхищены богословские проблемы, связанные с литургичностью образа как основным критерием канонического образа. В трактате получают освещение вопросы, во-первых, соединения антропологии и космологии, а, во-вторых, тема преодоления двойственностей, присущих природе человека. Этот круг богословских вопросов связан с принципами дихотомии и трихотомии антропологии Григория Нисского, разработанными им в соответствии с Христологическим и Тринитарным догматом, таким образом, он приобретает догматический смысл. Тема преодоления двойственностей в богословии Григория Нисского связана с восхождением человека как образа Божия к Первообразу, Богу. Это восхождение образа к Первообразу раскрывается Нисским святителем, во-первых, в сотириологическом ключе: как преодоление греха; спасение осуществляется при произволении самого человека, – здесь вводится аскетическая тематика; во-вторых, тема восхождения образа к Первообразу приобретает экклезиалогическую трактовку как движение от ипостаси человека (частного, персоналистического) к родовому (усиа). Восхождение от образа к Первообразу не ограничивается восхождением к родовому логосу, но развивается в тему обожения человека, причастного Искупительной Жертве Спасителя: преодоление первой в чреде двойственностей – разделения на мужской и женский пол – имеет залог в Воплощении Иисуса Христа. На основе рассмотренного материала становятся очевидными особенности ткани повествования, в котором осуществляется перерастание онтологии в сотириологию; космология сопаряжена с антропологией; повествование имеет догматическую основу и тайнозрительный смысл. Перекрестком или точкой схода, в которой осуществляется это перерастание, является категория «образ», ключевая в учении о человеке Нисского святителя. Литургический образ, раскрывающий тайну перерождения «ветхого человека» в «нового человека», обладает смысловой разноуровневостью, плотностью, символа и одновременно наделен энергиями, действованиями, Бога и человека.
Смысловая емкость литургического символа обусловлена тем, что его вызревание подготовлено неоплатоническим и каппадокийским «философским синтезом», александрийской экзегетической традицией, мистико-аскетическим опытом, отчетливостью категориального определения догматов.
Символический реализм Григория Нисского предваряет богословие иконопочитания и традицию литургических толкований, став поворотной точкой в традиции александрийской экзегезы. Вселенная Средневековья, дискурсивно оформленная в философско-догматической системе каппадокийцев, овеществляется в прекрасных образах канонического искусства.
2.2. Антропология Григория Нисского и богословие образаВ богослужебном искусстве символический реализм является способом передачи божественного Откровения в исторической реальности, – такое определение ему дает Л.Ф. Успенский в систематическом изложении богословия образа Православной Церкви [236] . Архимандрит Киприан (Керн) говорит о зарождении символического реализма именно в богословии Григория Нисского: «Учение святого Григория Нисского об образе Божием в человеке представляет особенный интерес для историка христианской мысли по двум причинам. Прежде всего, автор пытается сделать некий обзор предшествующих мнений по этому вопросу, как бы подводя известные итоги сказанному до него. Вместе с этим, святой Григорий выдвигает и свое мнение по этому вопросу, и в этом развивает идеи того символического реализма, который в позднейшей христианской письменности получит особенно широкое распространение». [237]
До этого момента в работе понятие «символ» по большей части использовалось в общеупотребительном значении, однако уместно обратиться к его смыслу в культуре поздней Античности и раннего Средневековья.
Определению понятия «символ» в античной культуре посвящена статья А.А. Тахо-Годи. «Термин «символ» в древнегреческой литературе» [238] : «Греч. symballo – глагол. Указывающий на совпадение, соединение, слияние, встречу двух начал в чем-то одном, и symbоllon – как результат этой встречи и этого соединения, как указание на них, как знак этого единства» [239] . У Григория Нисского просматривается сохранение этого изначального смысла, когда он говорит о взаимодействии в ипостаси человека богоподобия и вещественного состава человека.
Рассматривая историческое бытование термина, Тахо-Годи выявляет еще два смысла: «размер», «мера» и «метка» на лице. Такой «символ» оставлял господин на лице раба. «Метка» подобна «оттиску» и «эйдосу» в символическом реализме Нисского святителя, определяющему персоналистические черты человека, а «размер» и «мера» имеет самое непосредственное отношение к рассуждениям святителя о иерерхическом передаче благодати «пропорциональным образом».
Исследуя историческую судьбу термина, Тахо-Годи констатирует: «досократики выдвигают на первый план таинственный смысл символа (пифагорейцы), его обобщенность, данную в свернутом виде при обозначении предмета (Демокрит), понимание его как некоего единораздельного единства (Эмпедокл). Все эти три момента, высказанные интуитивно и как бы случайно, укрепятся и станут неотъемлемыми при выработке понятия символа в эпоху поздней античности [240] . Пифагорейские истоки значения символа, открытого для посвященных, также не забыты свт. Григорием, ни в его «числовой» гармонии онтологических построений [241] , ни в развернутом рассуждении о том, что «в человеке мусикийствует Слово», ни в эзотерическом значении символа «таинственной антропогонии».
Григорий Нисский усваивает эти смыслы символа в их развитом виде, какой они получают у Аристотеля: «Все противоположное стремится друг к другу как половинки (symbоlа). Теплое и холодное, сухое и влажное, дружба и неприязнь как бы дополняют друг друга ибо противоположное «полезно» противоположному…». [242] У Григория многочисленны пассажи, иллюстрирующие такое положение, более того, соединение «кажущегося невозможным» возведено им в принцип: «А уж если говорить точно, то сама природа каждой из противоположностей не является вовсе несмешанной с другой природой посредством своих свойств (идиом)…». [243]
Подобно тому, как у Аристотеля символ приобретает расширительное значение, выходя за границы натурфилософского и художественно-философского контекста, в область «естественного, этического и социального характера», у Григория Нисского многоплановый по содержанию текст символичен во всех тематических уровнях. По-видимому, усиление аристотелиевской линии в понимании символа у Григория Нисского в определенном смысле является знаком противостояния Плотину как противопоставление «реальности» – «мифу»; в этом контексте понятно и высказывание Каллахана о том, что новацией каппадокийской космологии является то, что сотворение мира трактуется ими не как миф , но как реальность . Тахо-Годи отмечает «…то удивительное явление, что, ни разу не упомянув символ, основоположник неоплатонизма Плотин использует мифы именно в их символическом обличье…для Плотина слово символ еще слишком поверхностно-элементарно по сравнению с мифом. Поэтому в огромном наследии Плотина символ ….не закреплен терминологически» [244] .
Безыскусственность символа, его вполне естественный повсеместный характер, и одновременно – благолепие, значительность, – поняты стоиками, в символе они видят целостность, утерянную раздельностью жизни, поэтому именно философы познают жизнь в символах, судя о внутренней сущности предметов. [245] Отзвуки этого учения различимы в рассуждениях Василия Великого и Григория Нисского о «семенных логосах твари» и в неоплатоническом восприятии жизни как средоточия символов.
Рис. 43. Ареопагит
Энциклопедия символов греческой культуры была составлена учеником Плотина Порфирием в его комментарии к «Пещере нимф», учение о символах развито Ямвлихом и прочно в неоплатоническую традицию, где получило завершение и систематизацию у Прокла. К Порфирию обращается Григорий Нисский в Рождественской гомилии, в христианской традиции идеи Ямлиха и Прокла [246] также проявятся и получат свое преломление, это произойдет в трудах Дионисия Ареопагита.
О месте и значении Ареопагита в формировании христианского символизма С.Л. Епифанович пишет: «… Ареопагит затронул и сумел ввести в систему своей мистики самую жизненную сторону интересов в Византии – церковный культ, бывший в то время сферой оживленного творчества и всеобщего внимания и все более склонявший к себе сердца и умы всех, заслоняя даже и богословско-философские интересы. Ареопагит – родоначальник богослужебной символики . Здесь корень его популярности на Востоке» [247] .
Каппадокийская линия в богословии Ареопагита прослеживается в порядке взаимосвязи катафатического и апофатического богословия в боговедении, восходящем к «мраку божественного молчания» . В этой связи уместно прямое указание на Григория Нисского, указавшего на божественный мрак как особый модус богообщения. Отдельно диалектические построения гносеологии рассматривались выше как принцип символического реализма Григория Нисского и как проявления этого принципа в конкретных смыслах текста и его стилистических приемах.
Принцип иерархизма , детально и тонко разработанный в мистическом богословии Ареопагитик, закладывается в рассуждениях каппадокийцев об иерархическом, а не временном порядке сотворения мира и миробытия.
По Ареопагиту, «Все причастно Бога бытием, жизнью, движением», [248] – в этой формуле узнаваем категориальный аппарат Григория Нисского. Отзвуки каппадокийского учения о «семенных логосах твари», имеющие стоические истоки, проявляются в учении Ареопагита о разных видах причастия твари Божеству и проявлении в мире Его хотений и энергий . Учение об энергиях предварено учением Григория Нисского об энергийной природе вещества; об одновременном возникновении души и тела (там речь шла о потенциях-энергиях-эйдосе); об апокатастасисе (в трактовке зла как недостатка ведения). Как «родоначальник богослужебной символики» Ареопагит – наследник Василия Валикого, с чьи именем связано чинопоследование литургии, Григория Богослова, определившего ранний этап становления обряда Византийской Церкви, Григория Нисского – как тайнозрителя и философа. Все перечисленное выше имеет целью переместить внимание в истории формирования богослужебного символизма от итога – к причине; от Ареопагита – к каппадокийцам. Указание на преемственность Дионисия Ареопагита по отношению к каппадокийцам обусловлено тем, что этот вопрос небесспорен, так, в частности, в работе, посвященной истории литургического символизма В.М. Живов противопоставляет Ареопагита каппадокийцам в силу его тяготения к неоплатоникам.
Рис. 44. Максим ИсповедникБесспорно влияние Дионисия Ареопагита на богословие Максима Исповедника, который «дал первый опыт системы византийского богословия, в тех рамках, как оно существовало впоследствии и как оно выразилось в «Изложении православной веры» св. Иоанна Дамаскина». [249] В качестве предшественников Максима Исповедника Епифанович называет Григория Нисского, Григория Богослова, Афанасия Александрийского и Ареопагита.
Определение символического реализма дает протопресвитер Александр Шмеман, так же, как и Живов, подчеркивая преемственность Максима Исповедника по отношению к Григорию Нисскому: «Не вдаваясь в подробности богословия св. Максима, можно с уверенностью сказать, что для него символ (так же, как и другие более или менее эквивалентные термины typos и eikon ) неотделим и из практических соображений подчинен центральной идее таинства, mysterion , которое, по крайней мере, применительно к литургии, обращено к таинству Христа и Его спасительного служения. Это таинство Воплощения и искупления человека и мира во Христе. Следовательно, mysterion означает и саму суть веры, познания божественной тайны, явленной во Христе, и спасительную силу, сообщаемую через Церковь и в Церкви. В таком богословии символ есть способ присутствия и действия mysterion\'а , и главным образом, хотя и не исключительно, его присутствия и действия в литургии – особом местопребывании символа. Таким образом, символ – и это очень важно – есть сама реальность, которую он символизирует» [250] . Фигура преподобного Максима Исповедника важна с точки зрения родословной христианского символизма. Выстраивается линия преемственности, ведущая от «великих каппадокийцев» к Дионисию Ареопагиту, далее – к Максиму Исповеднику и Иоанну Дамаскину. Автор «Мистагогии» стал преемником каппадокийцев по части таинственной экзегезы, в своем тайноводстве он явился родоначальником литургического символизма. Как прямой предтеча Иоанна Дамаскина, Максим Исповедник входит в историю богословия образа . Именно труды Иоанна Дамаскина предварили утверждение догмата иконопочитания [251] Седьмым Вселенским Собором; канон [252] получил свое определение в Деяниях Пято-Шестого (Трулльского) Собора в 681 году в 73, 82, 100 правилах Собора.
Историческая линия формирующего влияния святоотеческого богословия на богослужебное искусство позволяет наметить ряд основных вех:
IV век – становление символического реализма в каппадокийском богословии; переход от аллегорической экзегезы к тайнозрительным толкованиям; формирование чинопоследования богослужения и ранний этап формирования обряда Византийской Церкви; формирование картины мира раннего Средневековья в трудах каппадокийцев;
VI век – формирование богослужебного символизма в трудах Дионисия Ареопагита;
VII век – утверждение канона иконопочитания [253] Пято-Шестым (Трулльским) Собором; создание Максимом Исповедником «Мистагогии» как опыта литургического толкования; богословское определение им литургического символа, имеющего в своей основе идею Искупительной Жертвы Христа и обожения человека;
VIII век – формирование богословия образа в трудах Иоанна Дамаскина и других иконопочитателей в условиях борьбы с иконоборческой ересью; утверждение догмата иконопочитания Седьмым Вселенским Собором;
IX век завершает этот масштабный период учреждением Праздника Торжества Православия (843 г.), который подвел итог развитию богословия образа иконоборческой эпохи.
Наше внимание будет сосредоточено на двух аспектах: влиянии каппадокийского богословия на богословие образа и на формировании системы канона в христианском искусстве.
На богословие образа прямое влияние оказали две работы Григория Нисского: «Слово 19, сказанное в Константинополе о Божестве Сына о Святом Духе и об Аврааме» и трактат «Об устроении человека». Обе работы цитирует и комментирует преп. Иоанн Дамаскин в «Трех защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения». В корпус Деяний VII Вселенского Собора вошлы выдержки из «Слова», которые комментируются отцами Собора. «Слово» привлекало историков искусства, таких как Д.В. Айналов, К. Манго, Ю.Г.Малков, в нем они видят один из ранневизантийских экфрасисов, изображение сцены жертвоприношения Авраама Григорием Нисским представляется Айналову и Малкову натуралистичным. Описание, изъятое из контекста гомилии, трактуется совершенно иначе, чем представителями святоотеческой традиции, и разница эта принципиальна.
Тема о человеке глубока в антропологии каппадокийцев: она соприкасается с апофатическим богословием, проблема апофатического образа в иконописном каноне скорее обозначена, нежели разработана. Ей посвящена публикация Ю.Г. Малкова «Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии» [254] . Эта работа замечательна концепцией, введенной в научный обиход, однако не свободна от ошибок. Одна из них напрямую касается нашей темы. Автор считает, что описание иконы «Жертвоприношение Авраама» выдержано Гриторием Нисским в катафатическом духе [255] . Но это суждение верно лишь отчасти.
Рис. 45. Икона «Мучения Федора Тирона»Ю.Г. Малков несколько раз упоминает святого Григория Нисского: «Так катафатическое начало в искусстве утверждало и продолжало традицию античного понимания образа как «живописного подобия», «живого изображения», отличающегося «ясностью рассказа», и апеллирующего к чувственному восприятию действительности, как образа, «утешающего взор» и «восполняющего слово». Все эти определения постоянно повторяются Василием Великим и Григорием Нисским – теологами, в чьих высказываниях об искусстве и его целях наиболее четко проступает наследие античной калокагатии, хотя и переосмысленное с христианских позиций…». [256] Или: «Достаточно напомнить уже приводившиеся выше чисто катафатические критерии прекрасного, встречающиеся у Василия Великого и Григория Нисского; сюда же можно присоединить известные описания последним живописи в храме в Евхаитах, изображающей мучения Федора Тирона, и иконы с изображением «Жертвоприношения Авраама» – описания, выдержанные целиком в катафатическом духе» [257] .
Что до «Жертвоприношения Авраама», то это классический пример совершенно неверной интерпретации образа, созданного словесно святым Григорием. В «Слове, сказанном в Константинополе о Божестве Сына и Св. Духа и об Аврааме», Григорий Нисский проявляет себя как блестящий ритор. Все его повествование разворачивается по закону притчи, возводящей ум от чувственных образов к неизреченному духовному смыслу. Он берет ветхозаветный прообраз – историю праведного Авраама, с тем, чтобы постепенным восхождением приблизиться вместе со слушателем этого «Слова…» к откровению о Святом Духе. Его экфрасис не является статическим, его образ – пример литургического символа, наделенного динамикой восхождения от образа – к Первообразу. Восхождение от ветхозаветного «предображения» к новозаветному Откровению вынесено даже в название гомилии. Завершая слово, Григорий Нисский говорит: «Так душевные очи, как бы гноем каким, покрыты были идольскою прелестью, и не могли самолично видеть благочестивой истины о Сущем… Кто оплачет, сколь должно, слепоту этих жалких, которые, как в наше время свет истины целую вселенную осиявает благочестиво верою, одни не примечают этого сияния». [258]
В «Слове, сказанном в Константинополе о Божестве Сына и Св. Духа и об Аврааме», Григорий Нисский, отталкиваясь от катофатической образности, переходит к апофатезе, повествуя о Святом Духе. Текст является образчиком символического релизма Нисского святителя с диалектически развивающимся образом или литургическим символом. Именно на этот текст опираются отцы в VII Вселенского Собора.
«Феодор, святейший епископ катанский, сказал: «Если святый Григорий, неустанно помышлявший о божественном, плакал, видя живописное изображение Авраама; то насколько более может принести пользы и [вызвать] потоков слез у зрителей живописное изображение домостроительство воплощения Господа нашего Христа, нас ради вочеловечившегося?» Святейший патриарх (Тарасий) сказал: «если бы мы увидели икону, представляющую Господа распятым, то разве мы не заплакали бы? Святый собор сказал: «это величественное зрелище; потому что в нем познается высота уничижения нас ради вочеловечившагося Бога». [259] В «Слове 19» святой отец восходит от миметического образа к его мистическому смыслу, в этом и проявляет себя свойство символа в системе «символического реализма». Иерахическая взаимосвязь реальности и мистики составляет существо «символического реализма» в богословии и в искусстве. На вкус современного читателя, эти явления разделены изрядной дистанцией, полярны. Об отношении противоположностей Григорий Нисский говорит так: «Тогда все содержание нашего слова будет, пожалуй, показывать связность и упорядоченность того, что кажется противоположным, но на самом деле направлено к одной и той же цели, потому что божественная сила так находит надежду безнадежному и исход невозможному». [260]
В трактате святого Григория Нисского «Об устроении человека» намечен ряд тем или, точнее, образов, получающих дальнейшее развитие в богословии иконопочитания у преподобного Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Отцов Пято-Шестого (Трулльского) и Седьмого Вселенских Соборов. В трактате они связаны с категориальным определением Нисским святителем природы человека и, как таковые, получат свое запечатление в образно-стилистической системе христианского искусства. Одной из таких тем, точнее, образов, является образ царственности.
Григорий Нисский говорит о царственности человека как о неотъемлемом свойстве его природы. Царственностью человек уподобляется Царю Царствующих, Господу Господствующих: царственность является одним из проявлений богоподобия человека. Царственностью «образ Божий» обладает по отношению к тварному миру. Таким образом, царственностью как неотъемлемым свойством природы человека определяется его место в иерархии мирозданья, как по отношению к Богу, так и по отношению к тварному миру.
Тема царственности раскрывается святым Григорием в тексте трактата преимущественно в начальных главах, со второй по пятую: «Устраивается солнце – и никакого не предшествует совета. Также и небо, которому нет ничего равного из творения, а такое чудо созидается одним речением, и Слово не поясняет, ни из чего, ни как и ничего другого подобного. Так же и все остальное: эфир, воздух в середине, море, земля, животные, растения, – все словом приводится в бытие. Но только к устроению человека Творец всего приступает осмотрительно, чтобы и вещество приготовить для его состава, и форму его уподобить красотой известному первообразу, и предложить цель, ради которой будет создан, и создать природу, соответственную ему и подходящую по своим энергиям, как требуется для предлежащей цели. …Мастер сотворил нашу природу как бы сосудом для царственной деятельности (энергии), устроив, чтобы и по душевным преимуществам, и даже по телесному виду она была такая, как требуется для царствования. Ибо душа обнаруживает собой царственность, совсем далекую от тупой приниженности, потому что, не имея владыки над собой, и, будучи самовластной, оно самодержавно располагает своими хотениями. А у кого это может быть, кроме царя? Да и к тому же, стать образом природы Владычествующего всем – это не что иное, как то, что в момент сотворения природа /образа/ была сделана царственной» [261] .
В цитируемом фрагменте текста мы встречаемся не только с категорией «царственности», но также и с важнейшей для традиции иконопочитания категорией «формы». Комментируя трактат, В.М. Лурье показывает, что святой Григорий перелагает новозаветное учение о человеке как о сосуде благодати на язык философии, он прибегает к Аристотелю, заимствуя у него отождествление «формы» и «сущности». Аристотель говорит о материальных, формальных, «содеятельных» и эйдетических причинах возникновения вещи. Аристотелианство Григория Нисского будет воспринято иконопочитателями, и именно оно предварит определение догмата Иконопочитания по существу, то есть, содержательно.
Обратимся к другому аспекту цитируемого фрагмента. Григорий Нисский указывает на царственность как на богоподобие человека и главенствующее свойство его природы. Но, прежде всего, царственность в этом тексте обозначена и как свойство природы божественной. Здесь хотелось бы указать на то, что эта же тема присутствует и в Деяниях VII Вселенского Собора, и, что примечательно, в тексте Деяний она взаимосвязана с темой низвержения арианства, то есть, имеет христологический смысл, чем обнаруживается преемственность VII Вселенского Собора, утвердившего догмат Иконопочитания, по отношению к Пято-Шестому (Трулльскому) Собору, утвердившему канон Иконопочитания. Эта последовательная взаимосвязь святоотеческих текстов выявляет преемственность иконопочитателей по отношению к «великим каппадокийцам», чей богословский подвиг составляло определение Христологического догмата и полемика с ересями Ария и Евномия. Этот момент важен, поскольку в истории Церкви победа над иконоборческой ересью отождествляется с Торжеством Православия, борьба за почитание иконы тождественна борьбе за истинное исповедание Боговоплощения. Икона являет образ вочеловечившегося Господа. Догмат Иконопочитания имеет своим основанием Христологический догмат: вот причина апелляции иконопочитателей к каппадокийцам, давшим определение Христологического догмата, а также отстаивавшим чистоту вероисповедания в борьбе с еретиками (в том числе, с арианами). Приведем текст из четвертого деяния VII Вселенского Собора, содержащего чтение свидетельств Священного Писания и Отцов церкви о священных иконах и рассуждения Отцов Собора по этому поводу. Чтение по поводу 82 правила Трулльского Собора: «Святого Афанасия из четвертого /третьего/ слова на ариан, которое начинается словами: «Ариане, которые, однажды решившись быть отступниками…», и в котором несколько далее говорится: «сие же ближе иной может усмотреть в подобии царского изображения; потому что в изображении есть вид и образ царя, а в царе есть вид представленного в изображении; представленное в изображении подобие царя не отлично от него; так что кто смотрит на изображение, тот видит в нем царя, и наоборот кто смотрит на царя, тот узнает, что он представлен в изображении. А по сему безразличию подобия, желающему после изображения видеть царя, изображение может сказать: «я и царь – одно и тоже; я в нем, и он во мне. Что видишь во мне, то усмотришь и в нем; и что ты видел в нем, то усмотришь во мне». Посему, кто поклоняется изображению, тот покланяется в нем царю, потому что изображение есть образ и вид» [262] .
Примечательно, что рассуждения о портрете царя иллюстрируют 82 правило Пято-Шестого (Трулльского) Собора, давшее каноническое определение литургического символа и утвердившее переход от иносказательного изображения жертвенного агнца к прямому портретному изображению Спасителя. В этом контексте царственность соотнесена с божественной природой Христа как именно ее, божественной, а не человеческой Его природы, «вид» и «образ».Вторым аспектом цитируемого фрагмента является следующее: в нем в одну линию выстраиваются рассуждения о соотношении образа и первообраза, об относительном характере поклонения изображению. Эта тема войдет в формулировку догмата Иконопочитания.
В цитируемом тексте акцент на относительном характере поклонения образу усиливается, так как после высказывания Афанасия Александрийского цитируется Слово Василия Великого против савеллиан и против Ария: «Иудейство враждует с фарисейством, и то, и другое враждует с христианством». И несколько далее: «но учение истины избегало противоречий с той и с другой стороны. Ибо где одно начало и одно, что из начала, – один первообраз и один образ: там понятие единства не нарушается. Посему Сын, будучи от Отца рожден, и естественно отпечатлевая в Себе Отца, как образ, безразличен с Отцом; а как рождение сохраняет в Себе единосушие с Ним. Кто на торжище смотрит на царский образ и говорит, что изображаемое на картине есть царь, тот не двух царей признает, то есть образ и того, чей образ; и если указав на написанное на картине скажет: «это царь» не лишит первообраз царского именования, вернее же сказать признанием образа подтверждает честь воздаваемую царю» [263] . В этом фрагменте без опосредования сопоставляется рассуждение о единосущии Сына Отцу с мыслью о соотношении первообраза и образа, начертанного искусным живописцем. Эта идея иерархии образов оформляется у Василия Великого и у Григория Нисского, развитие же получает у Иоанна Дамаскина в «Третьем защитительном слове против порицающих святые иконы или изображения». К этим построениям Иоанна Дамаскина мы обратимся несколько позже, сейчас же приведем еще одно высказывание Василия Великого. В текст Деяний Собора оно включено после слов Афанасия Александрийского и перед уже приведенным фрагментом из «Слова против савеллиан и Ария». Вот оно: «Хотя изображение императора и называется императором, однако же не два императора, потому что ни власть не рассекается, ни слава не делится; ибо как управляющее нами начальство и владычество одно, так и наше славословие одно, а не много их. Потому и честь изображения переходит к первообразу» [264] . Последние слова в этом высказывании столь значительны, что они почти без изменения вошли в Определение Собора: «Честь, воздаваемая иконе, относится к ея первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней» [265] . У Григория Нисского мы также встречаем образ художника, создающего портрет царя в главе VI трактата «Об устроении человека»: «Ибо, как принято у людей, чтобы те, кто пишет образы державных, воспроизводили бы черты облика и обозначали бы царское достоинство облечечением в порфиру, так, что и образ обычно называется «царь»». [266]
Образ «царственности» как богоподобия человека в святоотеческом богословии соприкасается с образом «Кесаря на меди»: возникает, казалось бы, новое ответвление темы, новый образ – рельефное изображение на монете, печати, оставляющей след, оттиск.
Иконный образ в богословии иконопочитания часто сопоставляется с изображением на камне, печати, монете оставляющим один и тот же оттиск или след на различном веществе: глины или воска. Славянский калькированный перевод слова «икона» – «образ» сохраняет этимологическую близость к слову «резать» [267] .
Сравнение образа с печатью, монетой, отчеканенным изображением, – древнее и устойчивое. Оно встречается у Феодора Студита, Иоанна Дамаскина, Василия Великого, патриарха Никифора, однако, истоки его – еще дохристианские. Так, Аристофан, рассуждая о калокагатии истинных граждан полиса, говорит: «…Прежние граждане – это старинная, прекрасно отчеканенная монета, те настоящие и полноценные деньги, которые имели хождение и для греков, и для варваров… Теперешние же граждане – дурные, подлые – фальшивая монета.» [268] . Вероятно, поэтому Ориген, давая определение образа, опирается на традицию: «что люди обыкновенно называют…». Он различает два вида образов: «Иногда образом называется то, что обыкновенно изображается или высекается на каком-либо материале, т.е. на дереве или на камне. Иногда же образом называется рожденный по отношению к родившему, а именно: когда черты родившего совершенно похожи на черты рожденного» [269] [270] .
Безусловно: в новозаветной традиции притчи о потерянной драхме (Лук. 15, 8 – 10), о динарии Кесаря (Лук.20,22-25), о талантах (Лук.19.11-26) – являются источником дальнейшего бытования этой образности [271] . О ее присутсвии у Григория Нисского архимандрит Киприан пишет: «Святой Григорий любит евангельский символ «черты Кесаря на меди»; это – образ Божий в человеке (De opific. homin. cap. 16D). Женщина, метущая комнату и ищущая потерянную драхму, учит о том же; ищется затерянный, но не уничтоженный образ Царя на монете. Монета покрыта грязью, и надо ее очистить («De virginit»). Это все потом будет воспринято литургическим богословием: канон Андрея Критского упоминает о евангельской драхме; заупокойные тропари вещают: «Образ есмь неизреченныя Твоея славы, аще и язвы нощу прегрешений» [272] . В этом высказывании обозначено взаимодействие «образа царственности» и «изображения на монете» как образа Божия.
Вернемся к богословам иконопочитания. Феодор Студит в «Послании Платону о почитании икон» пишет: «Затем пусть будет перстень, на котором начертано изображение царя, и пусть он будет оттиснут на воске, на смоле, на глине. Печать, конечно, будет одна и та же на всех веществах; вещества же друг от друга различны; (печать) и не могла остаться неизменной на различных (веществах), как не имеющая ничего общего с материалами; но, отделенная от них мыслию, она остается на перстне. Таким же образом и подобие Христа, на каком бы веществе не начертывалось, не имеет ничего общего с веществом, на котором оно представляется, оставаясь в Лице Христа, которому оно принадлежит» [273] . Вот параллель, которую мы находим у Григория Нисского в «Слове против Ария и Савелия»: «…Он вездесущ, и нет места, где Бога нет, хотя в каком-либо месте и находился князь злобы. Ибо лучи солнца не оскверняются, падая на грязь и нечистоты, но даже уничтожают их, иссушая их своим жаром: так и Бог наш именуется огнем поядающим (Евр 12,20)» [274] .
Одним из смысловых уровней этой образности является соотношение материи, на которой запечатлен образ Божий, и Первообраза в аспекте их принципиального различия. Обратим также внимание и на то, что Григорий Нисский прибегает здесь к образу Божию, именуя или, вернее, сопоставляя его со светом. Это словоупотребление обычно для него, используется и в трактате «Об устроении человека», о чем будет сказано несколько позже.
Обратимся к Иоанну Дамаскину. В «Третьем защитительном слове…» он пишет: «…в Евангелиях Сам Господь спросивших Его с искусительными намерениями о том достойно ли есть дати кинсонъ кесареви, сказал: покажите мне динарий; и принесоша ему пенязь. И сказал Он: чiй имать образ? Они сказали: Кесарев. И сказал Он: Воздадите, яже кесарева, кесареви, и яже Божiя, Богови. Так как пенязь имеет изображение Кесаря, то он – Кесарев, и /поэтому/ воздадите Кесареви; также и изображение Христа воздадите Христу, потому что оно – Христово…. Так же и через посредство иконной живописи мы созерцаем изображение телесного Его вида и чудес, и страданий Его, и освещаемся…, и почитаем, и поклоняемся телесному Его образу. А созерцая телесный Его вид, мы представляем, насколько возможно, также и славу Его Божества. Ибо, – так как мы состоим из двух частей, составлены из души и тела, и душа наша не обнажена, но покрывается /телом/ как бы завесою, – то нам невозможно, помимо телесного, придти к духовному» [275] .
В цитируемом фрагменте акцент, по сравнению с приведенными текстами Феодора Студита и Григория Нисского, смещен, поскольку здесь говорится о невозможности восхождения к духовному, минуя телесное. Уже здесь различимо влияние антропологических представлений Григория Нисского: явственно дихотомичное представление об устроении человека и идея перихорезиса духовного и телесного.
В трактате «Об устроении человека», в XXVII – XXX его главах, Григорий Нисский также пишет о соотношении духовного и телесного, прибегая к образу печати, оттиска на веществе. Эта тема трактуется им онтологически, как восстановление в греховном человеке первоначального божественного замысла о нем, «боговидного» в природе человека, посредством разумного устремления человека к Первообразу, уподобления Богу.
Природе человека свойственны как течение и превращение, так и нечто устойчивое. При переменах тела (возрастании и умалении) «стоит… никаким способом не прелагаемый сам по себе облик, не утрачивающий раз и навсегда нанесенных на него природою клейм , но при всех переменах тела выражающийся в своих собственных признаках… Исключить из этого правила можно только изменение от страстей, которое изменяет облик (эйдос) Тогда как будто чуждою маской болезненное безобразие скрывает облик (эйдос), /а/ после ее снятия логосом (разумом)… скрытый страстию облик (эйдос) в здравии вновь являет свои собственные признаки.
Поэтому боговидному в душе присуще не то, что есть в нашем сложении текущего в изменении и преходящего, а то, что в нем есть постоянного и самотождественного. А поскольку эйдетические различия преображают качественные отличия растворения (растворение же не что иное как смешение элементов, а элементами называем то, на чем основано устроение вселенной и из чего состоит и человеческое тело), то эйдос обязательно становится для души как бы оттиском печати, так что запечатленное печатью уже не может оставаться неузнанным по отпечатку, но во время перестановки элементов оно вновь соберется само в себя, чтобы придти в согласие с отпечатком эйдоса; будет же приходить в согласие непременно то, на чем был изначально отпечатан эйдос». [276]
Изложенное выше имеет своей целью показать то, что на авторитет святых отцов или «эпохи Христологического богословия» опираются святые иконопочитатели VII Вселенского Собора, а так же и то, что образ царственности [277] не является частной иллюстрацией в богословских построениях Отцев-каппадокийцев и иконопочитателей [278] , с ним соотнесены основные идеи догматического богословия.
К трактату «Об устроении человека» и к «Слову о Святом Духе и Аврааме, сказанному в Константинополе», неоднократно обращается преподобный Иоанн Дамаскин [279] , чьи труды предваряют богословие образа святых отцов VII Вселенского Собора, утвердившего догмат Иконопочитания. И Иоанн Дамаскин, и отцы VII Вселенского Собора [280] цитируют и комментируют произведения Григория Нисского. Так Иоанн Дамаскин обращается к двум текстам Григория Нисского, а именно, к трактату «Об устроении человека» и к Слову 19, сказанному в Константинополе. Не меньший интерес представляет тот факт, что понятие «икона», «образ» Иоанн Дамаскин раскрывает посредством понятий «портрет» и «оттиск» («отпечаток») – τύπος, этим понятием пользуется в своей антропологической терминологии Григорий Нисский, заимствуя его из традиции иудейской экзегезы.
Развитие богословия образа определяло пути христианского искусства, изначально бывшего Преданием Церкви. Общий обзор идей каппадокийского богословия позволяет наметить контуры влияния их идей на этот процесс. Богословское определение Христологического и Тринитарного догматов и ипостаси человека определило ряд принципиальных оснований формирования иконографического канона . К ним относятся:
– переход от знаков к личным образам или формирование иконичности средневекового искусства; его принципиальным свойством является взаимосвязь слова и образа, обозначенная в трактате «Об устроении человека» как запечатление Логоса в ипостаси человека и обозначение Григорием Нисским словесной природы человека как богоподобия;
– формирование именно в IV веке в период деятельности каппадокийцев личной иконографии Иисуса Христа;
– комплекс иконографических типов Спасителя заимствуется целостным объемом из сложившейся ранее в быту Римской империи иконографии императора; логикой этой трансплантации является изображение Царя Царствующих по подобию и превосходству по отношению к основным типам изображения царя, в чем можно усмотреть парное сопоставление, характерное для типологии. Но, главным образом, смысл этого переноса основывается на богословской разработке категории царственности у Григория Нисского, Василия Великого, Григория Богослова. Этой закономерности посвящено отельное исследование А.Грабара «Император в византийском искусстве» [281] , в котором, однако, рассмотрена историческая часть, а богословская – отсутствует; – поклонение иконе имеет уже изначально, до четкого определения VII Собора, относительный характер (честь, воздаваемая иконе, относится не к веществу иконы, но к ипостаси изображенного на ней) в соответствии с тем, как в быту Римской империи портрет императора был «заместителем» его персоны на официальных церемониях; эта тема также разработана Григорием Нисским в трактате «Об устроении человека»;
– в то же время начинает формироваться личная иконография святых и с IV века в ней появляется изображение нимба как «диадимы праведности», в чем проявилось преодоление Григорием Нисским дуалистических учений в антропологии поздней Античности и дихотомии до-каппадокийской антропологии; это преодоление повлияло и на классицизирующие тенденции в стиле ранневизантийского искусства, которые со всей полнотой проявились в «классицизме Феодосия», а в последующие века – «спорадических вспышках античности» в византийском искусстве, о которых говорит В.Н. Лазарев. Это обращение к античной калокагатии не имело «языческой» смысловой нагрузки, именно поэтому впоследствии искусство палеологовского ренессанса будет отмечено одновременно и влиянием исихастского богословия, и тяготением к античной классике;
– образ «оттиска», «печати на веществе», возникающий в трактате «Об устроении человека», в конечном счете, отождествляется с «печатями Духа Святого», поэтому приобретает большее значение, чем можно было бы предполагать. В стилистике богослужебного искусства композиция строится по подобию геральдической, она симметрична, статична, обладает четким замкнутым силуэтом (что символизирует идею простоты, целостности, единства, «непреложности и неподвижности» Бога, конечной несозерцаемости Бога и «образа Божия», человека). В скульптуре происходит «уплотнение объема», тяготение к рельефу с врезанными линиями. В иконе и фреске рисунок намечается врезанной линией – графьей. Примечательно: ранними памятниками иконографии являются евхаристические штампы, печаты, изображение на монетах, рельефные изображения на дереве и слоновой кости, на керамических сосудах. Влияние богословия образа на иконографический канон не может рассматриваться как прямое механическое воздействие, что обусловлено спецификой самого изобразительного искусства.
2.3. Канон иконопочитания и иконографический канонПонятие « канон » в отношении к канону иконопочитания и к иконографическому канону , а также к канону как художественному стилю эпохи имеет разные оттенки смысла.
«Канон» – церковно-юридический термин, обозначающий правило веры, обязательную норму церковной дисциплины, одно из постановлений Вселенских соборов. В церковную терминологию входит в смысле, впервые определенном в послании апостола Павла. 73, 82, 100 правилами Пято-Шестого (Трулльского) Вселенского Собора в 681 году положено начало тому, «что мы называем иконописным каноном , то есть известному критерию литургичности образа , подобно тому, как в области словесной канон определяет литургичность того или иного текста. Иконописный канон есть известный принцип , позволяющий судить, является ли данный образ иконой или нет. Он устанавливает соответствие иконы Священному Писанию и определяет, в чем заключается это соответствие, то есть подлинность передачи божественного Откровения в исторической реальности тем способом , который мы называем символическим реализмом » [282] .
По Лосеву, в эстетике и истории искусств под «каноном» понимается принцип формирования художественного стиля эпохи как системы символических форм [283] , отражающей мировоззрение эпохи. (Определение «канона» имеет обобщающий характер, так как сформулировано при сопоставлении канонических систем в искусстве Древнего Египта, Античности и Средневековья.) Этот принцип сохраняется неприкосновенно на протяжении столетий как юридическая норма, правило, будучи зафиксирован письменно. Лосев возвращается к первоначальному смыслу греческого слова: «канон» – прямая палка, служащая мерой длины. В трактовке Лосева «канон» – это система пропорционирования в изобразительном искусстве, отражающая картину мира своего времени и соотнесенная с онтологическими представлениями эпохи. Лосев указывает на эстетические категории, которые в равной степени описывают и систему пропорций в искусстве, и порядок онтологических представлений, именуя их «структурными терминами». [284]
Эстетика в ее гносеологическом аспекте выявляет порядок соответствия или перехода онтологических представлений рассматриваемой исторической эпохи в принципы образования художественного стиля как системы пропорций.
Сопоставление определений канона , предложенных Лосевым и Успенским, позволяет несколько уточнить и расширить понимание иконописного канона . Иконописный канон – принцип соответствия иконы Священному Писанию, который реализуется в символическом реализме как способе выражения или стиле, понимаемом как система пропорций.
На формирование стиля как способа передачи божественного Откровения в исторической реальности влияет историческое развитие святоотеческой мысли в сфере онтологии.
Разыскания Лосева позволяют локализовать внимание на философии каппадокийцев, поскольку именно там обозначен круг понятий, описывающих величественный космос христианства.
Предваряя недоумение по поводу того, как образ человека в византийском искусстве соотнесен с образом мирозданья, – прибегнем к Василию Великому. Он пишет: «Душа есть подобие неба, т.к. в ней обитает Господь; плоть же составлена из земли, и в ней обитают смертные люди и бессловесные животныя…. Нет нужды искать следов Зиждителя в устройстве вселенной, но в себе самом, как в малом мире ты усмотришь великую Премудрость своего Создателя» [285] .
Обращение к богословию иконы и к эстетике не исключает апелляции к родственным дисциплинам, предметом рассмотрения которых также является проблема иконописного канона .
Византийскому искусству посвящен самостоятельный раздел науки, основоположником которого является выдающийся русский ученый Н.П. Кондаков [286] . В основу трудов Кондакова и его преемников положен иконографический метод [287] изучения памятников средневекового искусства. Необходимо сразу же противопоставить его иконографическому методу, принятому в западноевропейском искусствоведении [288] . В западной науке он является методом классификационным, на основе которого группируются и систематизируются археологические памятники и памятники искусства в соответствии с сюжетами, легшими в их основу, – поэтому он схематичен [289] . Кондаков иначе видит задачи иконографического метода. Он пишет: «Научная постановка исторического хода иконографии… требует в каждом периоде выяснить как уровень развития художественной формы, так и добытое в нем выработкою иконных типов содержание». [290]
Отождествляя форму и содержание, выявляя, как стилистика в малых своих признаках дает симптоматику изменения содержания, Кондаков следует мысли Григория Нисского, воспринявшего аристотелиевскую идею сближения сущности и формы. [291]
В исследовании иконографических типов , составляющих основу иконописного канона, Кондаков выявляет принцип становления образов в соответствии со Священным Писанием и их историческое запечатление в многообразии этнических традиций [292] .
В «Иконографии Богоматери» Кондаков дает следующее определение иконографического типа : «Икона живет в предании и держится его бережением, как в типах, так и в самих композициях и их построении. Иконография Божией Матери есть или, точнее говоря, должна быть историею ея различных исторических, местных и народных типов уже потому, что тип в искусстве есть определенный характер и как тот, так и другой, составляет содержание человеческого портрета, а портрет в древнейшую пору христианского искусства назывался иконою и есть собственно «икона»». [293] Определение основоположником науки о византийском искусстве иконы как портрета указывает на важность обращения к учению о человеке Григория Нисского. Кондаков, в свою очередь, основывался на определении иконы, сформулированном преподобным Иоанном Дамаскиным, чье богословие образа предварило утверждение догмата иконопочитания Седьмым Вселенским собором.
Высказывание Кондакова важно для понимания существа символического реализма в искусстве. Возвращаясь к 82 правилу Пято-Шестого Вселенского Собора, следует сказать, что оно утвердило личный образ Спасителя в качестве литургического образа, противопоставив его символическим изображениям жертвенного агнца как ветхозаветным знамениям и предображениям крестной жертвы: «На некоторых изображениях находится показуемый перстом Предтечи агнец, который принят во образ благодати, чрез закон показуя нам истинного Агнца, Христа Бога нашего. Почитая древние образы и сени, как знамения и предначертания истины, преданные Церкви, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную как исполнение закона. Сего ради, дабы в изображениях очам всех представляемо было совершение, повелеваем отныне на иконах, вместо ветхого агнца, представлять по человеческому виду Агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, дабы чрез уничижение усмотреть высоту Бога слова и приводиться к воспоминанию жития Его во плоти, Его страдания и спасительной смерти». [294]
Литургический образ в иконописном каноне – прежде всего, – портрет. Однако, это запечатление Истины, Бога Слова, во всей непознаваемости Его сущности. Кондаков с великой настойчивостью говорит о «религиозном чувстве», сообщающем жизнь образам и именно этим чувством он объясняет хранение традиции христианского искусства. Этот момент с изумительной тонкостью осознан им и назван как «суть дела» в православной традиции: «Должно воздать благодарение православию, которое, не будучи доктриною, как протестантство, верою и служением клира, как католицизм, а являясь религиею народа и его общим служением, всегда было полно мира и благоволения ко всем сторонам религиозной жизни народов, от самых высоких ее явлений до сокровенных, быть может, простых и низменных, но заветных и исконных сторон веры и так называемого суеверия, памятуя, что и последнее, коренясь в глубинах народного духа, необходимо для питания религиозного чувства». [295]
Это, казалось бы, естественное движение мысли, не столь общедоступно и требует пояснения. Кондаков, определяя предмет и соответствующий ему метод исследования, говорит о «научной постановке исторического хода иконографии», но именно это научное построение зиждется на чутком внимании к тому, что он называет «религиозным чувством». Это вдохновенное и «тонкостное» чувство любви, увы, предано забвению в современных сочинениях по иконографии. Приведем характерный пример: «Икона являет не лицо земного человека, а лик небожителя. Иконография не игнорирует индивидуальные особенности и внешние отличительные признаки святого (пол, возраст, прическа, форма бороды, головной убор и т.д.), но святой предстает преображенным, отрешенным от земных страстей, он уже принадлежит иному миру и оттуда взирает на нас, поэтому в иконе исключено изображение душевных эмоций, аффектов. Лик это самое главное в личности святого. Но к «личному» относятся не только лик, но и руки. Отсюда большое значение в иконе имеет жест: благословляющий или молитвенный, воздетые к небу или прижатые к груди руки, поднесенная к уху рука слушающего Бога и т.д.» [296] Схема, обозначенная в этом фрагменте текста, заимствуется из иконописных подлинников, обозначающих «пол, возраст, прическу, форму бороды». Подлинники возникают поздно, когда возникает опасность угасания живого иконописного канона, бытуют они в ремесленной среде. [297] Их распространение вызвано стремлением сохранить догматические основы традиции после падения Византии в 1453 г. и перед лицом западного влияния. С XV века возникают и ремесленные поселения иконописцев, существенно отличающиеся от монастырских центров. Соответственно, меняется и характер творчества. В XVI веке все возрастает роль образца, «приводя стиль отдельных икон и росписей… к прямому копированию более древних произведений, к определенной сухости и застылости художественного языка». [298]
Получается, что отправной точкой в воссоздании истории иконы современные авторы избирают момент окостенения канона. Подобный неверный ход мысли предупрежден Кондаковым. Он пишет: «Такое ограничение христианской иконографии… грешит и против принципиального понимания существа иконы, приравнивая ее отчасти к «идолу», вовсе устраняя в ней или до крайности ограничивая художественную стихию, следовательно, оправдывая доктрину протестантства, враждебно относящуюся к иконе. Между тем, именно этою стороною доктрины обнаруживается наиболее ея мертвенность, безжизненный схематизм, забывающий из-за буквенного понимания догмы, религиозную жизнь народа. …Реально-историческая основа иконы-портрета или подобия чтимаго святаго допускает все возможные степени жизненного представления, лишь бы в образе выражалось или им вызывалось религиозное чувство. …Икона.... помимо характера и типа, в ней изображенного, приобретает постепенно, вместе с ходом христианского искусства… особую черту, проводимую на ней тем самым отношением к ней молебщика, по которому она становится «моленной» иконой… как бы воспринимает в себя личное чувство молящегося и отвечает в произведениях художественной кисти различным его настроениям, становясь «образом благочестия» и христианской любви» [299] .
Речь о любви как неотъемлемой главенствующей части образа сказана епископом Нисским: «Бог также любовь и источник любви. Ибо как говорит великий Иоанн: Любовь от Бога есть и Бог любовь есть (1. Ин. 4, 7-8); это же сделал и нашим лицом Зиждитель природы… Следовательно, без нее переменяются все черты образа». [300]
Ему вторит Василий Великий: «…вместе с устроением живого существа, я имею в виду человека, вложенное в нас некоторое прирожденное стремление (точнее: семенной логос), в себе самом побуждающее к общению с любовью Божиею…получив заповедь любить Бога, приобрели мы также и силу любить, вложенную в нас при первоначальном нашем устройстве. Доказательство этому лежит не во вне, но каждый может узнать это сам собою и сам в себе. Ибо от природы в нас есть вожделение прекрасного… Что же досточуднее Божией красоты? …люди по природе желают прекрасного; в собственном же смысле прекрасно и достолюбезно благое; а благо – Бог. К благому же все стремится; следовательно, все стремится к Богу». [301]
На наш взгляд, Кондаков уловил и поставил в центр своей науки об образе идею, зародившуюся давно, у «великих каппадокийцев»: «Образ не есть субстанциональное качество, что-то заложенное и уже готовое в душевном складе человека. Это есть как раз задача, необходимость раскрыть в себе свое творческое начало» [302] , – так пересказал Василия Великого архимандрит Киприан (Керн) в «Антропологии св. Григория Паламы». Он же и заключает: «Вот и основание для постройки подлинно христианской эстетики». [303]
Богословие Григория Нисского и, в целом, «великих каппадокийцев» раскрывает особенность символического реализма в христианском искусстве, выявляя не только двойственность природы человека, тварного, но созданного по образу и подобию Божию, но и указывает на беспредельность восхождения образа к Первообразу. «Наша жизнь двояка; одна свойственна плоти, скоропреходящая, а другая сродна душе, не допускает предела», – говорит Василий Великий. [304] Образ в символическом реализме также двояк: он констатирует реальность в портретном изображении человека, но является динамическим символом, влекущим образ к Первообразу, как литургический символ он служит преображению человека.
Проблема литургического символа в символическом реализме, – одна из актуальных тем в публикациях последних лет. Наиболее близкими к нашей теме являются монография С.Г.Савиной [305] , О.Е. Этингоф [306] , сборник статей «Восточнохристианский храм. Литургия и искусство», в котором особо следует выделить публикацию Т. Мэтьюза «Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе». [307] Общая концепция этих трудов выстроена на основе сопоставления образов христианского искусства не столько с отдельными богослужебными текстами, сколько с литургическим контекстом в целом. Упомянутая публикация Мэтьюза хороша выводом. Рассуждая о Евхаристии, автор говорит: «Это мистическое преображение христианина в более высокое и совершенное существо во Христе есть действие, которое связано с образом Христа в куполе. Христос в куполе – это целое, совершенное существо, которым взирающий на Него становится в причастии» [308] .
Общие контуры проблемы влияния каппадокийского богословия на становление иконописного канона могут быть расширены при памятовании о том, что на становление литургического символа воздействует порядок богослужения. Чинопоследование литургии принадлежит перу Василия Великого, начальный этап формирования обряда Византийской Церкви связан с деятельностью Григория Богослова. Каппадокийцы приблизились к апофатическому определению непознаваемости ноумена человека: «Кто я был?.. Кто я теперь? И чем я буду? – вопрошает Григорий Богослов, – Ни я не знаю этого, ни тот, кто обильнее меня мудростью…Я существую. Скажи: что это значит? Иная часть меня самого уже прошла, иное я теперь, а иным я буду, если только буду. Я не что-либо непременное, но ток мутной реки, которая непрестанно притекает и ни на минуту не стоит на месте. Чем из этого назовешь меня? Что наиболее, по-твоему, составляет мое «я»? Объясни мне это, но смотри, чтобы теперь этот самый «я», который стою перед тобою, не ушел от тебя. Никогда не перейдешь в другой раз по тому же течению реки, по которому переходил ты прежде. Никогда не увидишь человека таким же, каким ты его видел прежде. Сперва заключался я в теле отца; потом приняла меня мать, но как нечто общее обоим; потом я стал какая-то сомнительная плоть, что-то непохожее на человека, срамное, не имеющее вида, не обладающее ни словом, ни разумом, и матерняя утроба служила мне гробом. И вот мы от гроба живем для тления» [309] . О предельной непознаваемости человека говорит Нисский святитель: «Узнал я разрешение недоумений, прибегнув к тому же Божию гласу: ведь сотворим, говорит, человека по образу и подобию Нашему (Быт. 1, 26). Ведь образ лишь до тех пор по-настоящему есть образ, пока не лишен ничего из известного в первообразе. Но в том, что отпадает от подобия прототипу, на ту часть он уже не образ. Следовательно, поскольку в том, что созерцается у божественной природы, есть неприступность сущности, совершенно необходимо, чтобы и в образе ее было подражание первообразу. Ведь если бы природа образа постигалась, а первообраза – была бы выше постижения, то такая противоположность созерцаемого в них обличала бы погрешительность образа. Но поскольку природа нашего ума ускользает от познания, и это по образу Создавшего, то значит, она точное подобие превосходящему, своей собственной неведомостью являя отличительную черту неприступной природы». [310]
Поскольку трактат «Об устроении человека» – экзегетическое произведение александрийской традиции, то уместно указать на то, что оно связует дохристианскую эллинскую и иудейскую экзегезу с богословием образа православной Церкви. Как особенность восточнохристианского символизма следует выделить его мистический аспект (в составе символического реализма) в противоположность аллегорическому методу, восходящему к Эвгемеру, получившему распространение на Западе [311] .
2.4. «Пещера нимф». Основные этапы становления символического реализма в искусстве ВизантииСимволизм художественных образов и символический реализм богословия сближаются в традиции александрийской экзегезы, – этот узел и окажется в центре внимания. Это взаимодействие в исторической перспективе определяет принципы формирования образного строя в искусстве Церкви: Константинополя, Византии, и православной ойкумены в целом. Если избрать ретроспективное развитие мысли от следствия к причине, то следует выявить характер взаимодействия христианского символизма и классической калокагатии, дающих в соединении символический реализм канона.
Максимальное приближение к этой проблеме, на наш взгляд, достигнуто В.Н. Залесской в исследовании «Прикладное искусство Византии IV-XII веков» [312] . Момент перехода от раннехристианского символизма к символико-аллегорическим образам ранневизантийского искусства обозначен ею как «византийский антик».
В истории богослужебного искусства выстраивается стадиальная последовательность: « сигнитивные знаки » раннехристианского искусства – символико-аллегорические образы «византийского антика» – « символический реализм » канонического искусства.
Эти этапы развития образно-стилистической системы христианского искусства и привлекают внимание в аспекте их отношения к александрийскому богословию и – уже – к богословию «великих каппадокийцев».
Последовательность рассуждений требует обосновать выбор Александрии не только как центра христианской философии, к традициям которой тяготеет богословие «великих каппадокийцев», но и как художественного центра, повлиявшего на искусство Константинополя. В этом случае уместно прибегнуть к авторитетам. О значении Александрии как художественного центра, определяющим образом воздействующего на константинопольскую школу и формирование христианского искусства в целом, говорил еще Н.П. Кондаков: «…греко-восточное искусство сформировалось задолго до византийского, и центром его была Александрия и искусство христианского Египта или коптское, которого формы были распространяемы художественной промышленностью Сирии. На этом расцвете греко-восточного искусства основалась затем и христианская культура Малой Азии, издавна снабжавшая все побережья Черного моря и страны Кавказа и Южной России своими произведениями» [313] .
Д.Т. Райс, начиная историю византийского искусства со времени Юстиниана, тем не менее, предисторию его видит в искусстве Антиохии и Александрии: «Александрия и Антиохия с недоверием наблюдали за возвышением Царьграда, с тех пор как император Константин сделал его столицей. Оба города действительно играли в то время весьма важную роль и, вероятно, сохранили бы ее и дальше, если бы весь этот обширный регион… после середины VII века не оказался завоеванным арабами». [314] Характеризуя Александрию как художественный центр, он продолжает: «В искусстве самой Александрии еще долгое время после принятия христианства продолжали существовать и античные темы, и в какой-то мере нормы классической красоты… За пределами Александрии классическая красота уступает место откровенной чувственности, заставляющей вспомнить индийское искусство…» [315]
Эллинистическая манера на рубеже VI века вытесняется так называемым коптским стилем. Тем не менее, именно к александрийской традиции исследователь относит древнейшие из сохранившихся до нашего времени иконы – иконы монастыря святой Екатерины на Синае (VI в.), выполненные в эллинистической манере.
Проблема классицизирующих тенденций в искусстве Византии обычно связывается с рядом взаимодействующих факторов. Основание Константинополя определило разделение на «греческий Восток» и «латинский Запад». В византийской культуре в целом усиливается ориентация на греческое наследие. Возвраты к классике были спорадическим явлением в культуре Византии, они питали византийскую культуру, выходя временами на поверхность, от момента ее зарождения до конца существования Восточной Римской империи [316] . В начальный период проводником греческого влияния стали древние имперские обычаи: для римской культуры со времен Августа характерно обращение к наследию Греции в целях политического амбициоза. Подобным образом утверждается и авторитет Нового Рима. Наиболее ярко эта тенденция в ранневизантийский период проявилась во время правления Феодосия (379-395), что позволяет исследователям византийской культуры говорить о «классицизме Феодосия» [317] . Эта тенденция создала благодатную почву для влияния на Константинополь со стороны древних очагов эллинской культуры на Востоке: Афин, Антиохии, Александрии, Пергама, Эфеса, – чему, конечно же, способствовало географическое положение новой столицы. Происходит активизация греческого наследия, воспринятого этими центрами в период существования империи Александра Македонского. Эта переориентация на греческое наследие прослеживается в сфере философии, науки, образования, литературы и искусства. Она сопряжена и с программной ориентацией на старину, характерной для римской культуры: «Особенно важно именно то, что философия поздней античности (III в. н. э.) использует древнейшие символы ранней греческой культуры. Такая реставрация старины – явление чрезвычайно примечательное для эпохи упадка классического греко-римского мира», [318] – констатирует А.А. Тахо-Годи.
Греческий компонент в культуре на территории, пережившей «первую волну эллинизации», был важен как консолидирующее начало в полиэтническом государстве, каковым являлась Восточная Римская империя. Он же создает определенный фильтр для восприятия инородных влияний. «Переработка этих восточных форм происходила при строгом отборе того, что могло быть соединено с античной традицией» [319] , – отмечает О. Демус.
Отношение византийского искусства к греческому наследию – одна из основных тем в исследованиях по истории Византии [320] . Она была заявлена первым поколением византинистов. Г. Стрижиговский пишет: «византийское искусство… не стоит близко к античному, но лишь воспринимает его традиции и ведет их к дальнейшему развитию, так что представляет даже последний расцвет самого античного искусства. Оно соединяет в себе все локальные разновидности и расцветает в тех местах, где существует древнехристианское искусство. Его характер историко-догматический, и день его рождения – основание Константинополя» [321] . Наиболее последовательное развитие этой идеи позволяет выделить Константинополь как центр, сохранивший для Средневековья непрерывную жизнь греческого наследия. Для обозначения этой тенденции в ранневизантийском искусстве Л. Мацулевичем введено понятие «византийский антик», отделяющее византийские памятники от раннехристианских. В.Н. Лазарев отмечает «спорадические вспышки античности», характерные для дальнейшей судьбы византийского искусства.
В.Н. Залесская в своей монографии, посвященной «византийскому антику», выделяет три основных его типа. Первая группа памятников связана с имперской эмблематикой, отражает идею преемственности Константинополя по отношению к Риму.
Второй тип «византийского антика» – сцены, связанные с философским истолкованием античных мифов, их образы в иносказательной форме служат иллюстрацией христианских идей.
Третий тип определяется характером восприятия произведения как своего рода оберега, наделенного функцией защиты от вредоносных сил, к этой группе могут быть отнесены произведения, как с ортодоксальной, так и с еретической направленностью. Коротко говоря, в отличие от Л. Мацулевича, рассматривающего «антик» как стилистическое явление, К. Вейцмана, анализирующего сюжетосложение «византийского антика», В.Н. Залесская так формулирует задачу: «Мы рассматриваем не только особое построение сюжета и особый смысловой подтекст мифологического изображения, но и разнообразные формы его проявления как традиции, как символа и как ереси». [322] Назначение предмета, сюжет и стилистика его декора составляют единство, – этот исследовательский принцип очень точен, поскольку трактовка образа зиждется на сближении сущности и формы. От этого узла тянутся связующие нити к пластически-определенному мышлению греков, с одной стороны, а с другой – к «перихоресису чувственного и ноэтического» [323] в культуре Византии.
В «византийском антике», вне зависимости от различного назначения предметов и их стилистических признаков, есть свойства, их объединяющие. Эти произведения могут быть противопоставлены раннехристианскому искусству по принципу перехода от раннехристианских знаков (таковыми, например, являлись павлин, пеликан, виноградная лоза) к символико-аллегорической образности. В отличие от антропоморфных образов античного искусства, в этой «неоклассике» приобретает значение аллегорический смысл образа, подчеркнута сакрализация формы.
«Византийский антик» – категория, определяющая этап формирования образной системы христианского искусства на стадии перехода от раннехристианского символизма к символическому реализму канона. Эта категория имеет отношение к стилю ранневизантийского искусства в том случае, если речь идет о формировании канона как «художественного стиля эпохи», т.е. в глубоком и обобщенном его понимании. Если же под «стилем» понимать манеру, характерную для отдельной этнической традиции, школы, мастерской, – то здесь «византийский антик» весьма разнороден. В своем опыте систематизации Залесская отнюдь не стремится нивелировать разнообразие стилистических разветвлений внутри функциональных групп «антика»: она выделяет тенденцию нарочитой архаизации образа, присутствие элементов восточного искусства, а также проявления фольклорных традиций особенно в третьем типе произведений.
Раннехристианское искусство так же эклектично, как и все позднее римское искусство, но следует обозначить внутренний порядок этого эклектизма, ибо это различие важно по существу. Эклектизм обнаруживает себя во взаимодействии христианских и языческих мотивов в раннехристианском искусстве. Он сохраняется в образном строе монументального искусства вплоть до IV-V веков. О нем писал еще Д.В. Айналов: «Пантеры и гении – наряду с кариатидой в виде оранты и евангельскими, и библейскими сценами. Амуры и психеи, фарсы – рядом с чисто христианскими формами орнамента – агнцом и мульктрой, птичкой с веткой, фениксов». [324] В стилистике раннехристианского искусства изобразительные приемы античности получают развитие, приобретая новый смысл. Так, например, в росписях катакомб начинают преобладать белые фоны, что, с одной стороны, удобно при недостаточном освещении подземных залов, а с другой, – соответствует метафизическому истолкованию светового начала. Н.П. Кондаков отмечает заимствование с тою же целью христианским искусством и характерного для античной живописи приема штриховки золотом (штраффировки) [325] . Если в античном искусстве этот декоративный прием усиливает поэтическую образность картин природы, то в византийском искусство он впоследствии развивается, складываясь в систему ассиста [326] , его назначение – символизировать нетварный свет.
Рис. 46. Символическое изображение Иисуса Христа
Рис. 47. Христос в образе Орфея, играющего на лире
Следует обратить внимание: в центростремительное движение стиля к формированию нового символизма вовлекаются и формально-стилистические компоненты изобразительного языка, и его образы и сюжеты. Общеизвестно: образы античного искусства приобретают новый, христианский, смысл. Так, например, Психея становится символом души, ищущей спасения, Амур – божественной любви. Как уже предварительно было отмечено, отсутствие четкого и окончательного размежевания языческого и святоотеческого неоплатонизма в докаппадокийской философии делало прозрачными границы символического формообразования. Сравним христианские символы с построениями Плотина: «Мировая душа есть не что иное, как Афродита, роль которой проявляется в мифе об Эросе и Психее». [327] Символы зачастую имеют знаковый характер. Иисус Христос изображается в виде агнца, виноградной лозы, пеликана, рыбы, якоря, феникса. К этой же группе знаков могут быть отнесены изображения корабля, голубя с оливковой ветвью и др. Здесь знак, казалось бы, формируется по законам неоплатонической эстетики, т.к. имеет религиозный смысл, таинственно и иносказательно указывает на одно из свойств Первообраза. В символико-аллегорических образах Орфея, Доброго Пастыря наиболее очевидна перекличка с архаикой, что также близко эстетике Плотина.
Наиболее характерным примером «архаизации» художественной формы в христианском искусстве является иконография «Доброго Пастыря». Для иллюстрации притч Нового Завета непосредственно используются схемы Креофора и Мосхофора, возникнувшие в эпоху архаики.
Плотиновская «деэстетизация» образа проявила себя в том, что на начальном этапе становления личной иконографии Иисуса Христа противоборствуют две тенденции: это формирование «идеального» типа и, напротив, «сниженного» образа, где Господь изображается принявшим «зрак раба».
А.Ф. Лосев в исследовании по эстетике позднего эллинизма впрямую говорит о влиянии неоплатонизма на символизм христианского искусства. [328] Этой же точки зрения придерживаются весьма авторитетные ученые, такие как С.С. Аверинцев [329] , А. Грабар [330] , В.Н. Лазарев [331] , Дж. Мэтьюз [332] , Ц.Г. Нессельштраус [333] , Э. Панофский. Так, например, он в своей монографии «IDEA» пишет: «Эстетическое учение неоплатонизма … усматривало в любом проявлении прекрасного лишь несовершенный символ следующей более высокой его формы, так что видимая красота – это как бы отражение невидимой, которая в свою очередь является лишь отражением абсолютной красоты. Такое эстетическое учение, поразительно согласуясь с символически-духовным характером художественных созданий поздней античности – в отличие от созданий классического периода, – могло быть без изменений воспринято раннехристианской философией». [334] Проблема сакральной формы в изобразительном языке, действительно, обозначена в философии Плотина. Плотин разделяет светское и религиозное искусство: «образы» умного мира не имеют ничего общего с образами и изображениями человеческого искусства. В земном мире этим трансцендентным образам соответствуют священные идеограммы – иероглифы – символы [335] … символ – уже не искусство. Обесцененная чувственная форма превращается здесь в простой знак, помогающий непосредственному созерцанию идей, но уже не имеющий ничего общего с художественным произведением». [336]
В Римской империи неоплатонизм приобретает преобладающее значение. Можно сказать, что концепция определяющего влияния неоплатонизма на средневековый символизм является укоренившейся. Действительно, подобно тому, как неоплатонизм был ассимилирован святоотеческой традицией, так же он повлиял и на эстетику Средневековья. Но, будучи усвоен святоотеческой мыслью, он был ею же и преодолен, – иначе бы грань между язычеством и христианством была бы принята за несущественную. Относительно христианской культуры такая трактовка историко-культурного процесса небесспорна: неоплатонизм ассимилирован святоотеческой философией, но между ними существует и принципиальное противостояние. Парадоксальным образом в трудах по эстетике Средневековья этому размежеванию язычества и христианства зачастую внимание либо не уделяется вовсе, либо авторы вынуждены вступать в полемику с общепринятым мнением.
Различие раннехристианских образов и неоплатонических религиозных символов имеет принципиальное значение, на него указывает В.В.Вейдле. [337] Как уже отмечалось, он называет картины катакомб не эмблемами, не символами и не образами, но изображениями сигнитивного типа, поскольку они «склонны изображать не столько божество, сколько функцию божества». [338] Сходство их с неоплатоническими символами определяется деэстетизацией образа и формированием знака, указывающего на некий духовный смысл, различие же имеет более существенный характер. Идея спасения составляет мистериальный или харизматический смысл раннехристианских образов. Обретение спасения через таинства крещения и евхаристии составляет основу религиозного переживания раннехристианской эпохи. Этим памятники раннехристианского искусства принципиально отличаются от родственных им по внешне стилистическим признакам произведений римского искусства. Вейдле объясняет «неоплатонический», знаковый характер раннехристианского символизма тем, что христианская культура только начинает созидаться, целостная и развернутая картина христианского космоса еще не оформилась, потому тщетно ее искать и в раннехристианском искусстве, – ей предстоит пережить становление в богословии и, соответственно, в искусстве Византии.
Рис. 48. Рыба – древний символ ХристаБольшего внимания заслуживает и каждый из образов, которые В. Вейдле именует знаками «сигнитивного типа», внешне схожими с неоплатоническими символами. Одним из таковых является рыба. Этот Новозаветный образ нередок в раннехристианском искусстве. Общеизвестно, что начертание рыбы соответствует анаграмме имени Христа, точнее, вероисповедальной формуле. Встречаются как самостоятельные начертания этого знака, так и изображение «водных фризов», о которых говорит Д.В. Айналов [339] . Это изображения путти, ловящих рыбу. Водные фризы были хорошо известны и на Востоке, о чем свидетельствует письмо Нила Синайского к Олимпиодору [340] . Климент Александрийский в гимне, обращенном к Христу, пишет: «Ловец смертных, (рыболов) Тобою спасаемых! Ты уловляешь чистых рыб в волнах неприязненных из моря нечестия для жизни блаженной» [341] . Тертуллиан раскрывает смысл анаграммы в следующих словах: «Мы маленькие рыбки, предводимые нашею воде рождаемся и не иначе, как в воде пребывая, будем спасены». [342]
Рис. 49. Моисей, источающий воду из скалы. Никола Пуссен. Из собрания ЭрмитажаЕсли Тертуллиан является современником Плотина, то Климент Александрийский – его предшественником. Толкование одного из основных символов раннехристианской традиции, которое мы встречаем у Климента Александрийского, вновь позволяет усомниться в правомерности прямой проекции философии Плотина на формирование символизма в христианском искусстве. Подробнейшим образом Л.А. Успенский разбирает происхождение и функцию другого «знака» – изображение агнца, указывая на евхарастический смысл этого образа. [343] Источником для формирования «знаков» в том и другом случае служат библейские тексты.
Одновременно с символическими (знаковыми) и символико-аллегорическими изображениями в среде раннехристианского искусства распространены иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам. Исследователи нередко с изрядным простодушием говорят о натурализме этих изображений. Среди этих сцен выделяются сюжеты, восходящие к Ветхому Завету: изображение пророков Илии и Ионы, Даниила во рву львином, трех отроков в пещи огненной, перехода через Чермное море, Моисея, источающего воду из скалы . Это прообразы Новозаветных событий. Они не попадают в классификацию раннехристианских образов как неоплатонических «знаков», но связаны с типологией.
Автор исследования по истории экзегетической традиции, Т. Миллер, пишет: «… Носителем эсхатологических настроений были комментарии (мидраши) к Пятикнижию и книгам пророков. К тексту этих книг применялся особый прием толкования, заключавшийся в том, что ветхозаветная повесть рассматривалась как прообраз того, что сбудется и уже сбывается. В основе этой логической операции лежал тот же принцип сходства, что и в аллегориях греческих философов, но соотносились здесь не разные аспекты бытия, как там, а разные исторические события, не совпадающие во времени. Такой способ интерпретации получил название типологии…, Он применялся и там, где надо было из рассказов о прошлом извлекать сведения о будущем Миссии, и там, где оценку настоящего надо было подкреплять ссылками на прошлое» [344] . Прием типологии относится не к традиции греческой экзегезы, но иудейской. Он переносится в христианскую экзегезу и применяется в сопоставлении Ветхозаветных обетований с их Новозаветным исполнением. Применяя его, Святые Отцы основываются на авторитете Четвероевангелия и Апостольских посланий, но отнюдь не Плотина. Момент актуальности типологии как экзегетического приема в наследии Плотина может служить отдельным предметом рассмотрения. В этом же случае следует согласиться с В.В. Бычковым, указывающим на Климента Александрийского и Оригена как предшественников Григория Нисского по линии экзегетической традиции. Возникает необходимость значительного уточнения понятия «неоплатонизм» в отношении к раннехристианскому и ранневизантийскому искусству и тем более к Средневековью в целом. «Стыковка» иудейской традиции, влияния живописи и раннехристианской в центрах эллинизированного Востока очевидна на материале росписей Дура-Эвропос (Aurelia Antoniniana Europos) , где были обнаружены: несколько храмов, посвященных пальмирским богам, синагога, раннехристианский храм. Археологические исследования были начаты египтологом Брэстедом в 1920г., Кюмоном и Ренаром в 1922 – 1923 гг., далее совместно французскими и израйльскими учеными под руководством Гопкинса, русскими учеными с 1932–35 гг. (М. И. Ростовцевым и другими). Двойной храм (два здания соединены проходом) Артемиды-Нанайи и Атаргатис с росписями, выполненными пальмирскими мастерами, датируется I в., синагога датируется 244–245 гг., она построена на основе более древнего здания; христианский храм относится к началу – 60-м гг. II I в.. Эти памятники изменили представление об источниках развития христианской иконографии. Во всех памятниках исследователи отмечают влияние эллинистической стилистики, сюжетный состав росписей синагоги предвосхищает сюжетосложение христианского искусства, там изображены Моисей перед неопалимой купиной и сцена исхода из Египта. Последняя сцена подразделяется на три отдельно представленных эпизода казней египетских, разделения моря и гибели египетского войска. Под ними изображены: ковчег завета в земле филистимлян и храм Соломона. Фрески сохранились не в полном составе. Аналогичные изображения сохранились в синагоге Бет-Альфа (Эрец-Исраэль). Эти археологические открытия позволяют утверждать, что до III в. и в Эрец-Исраэль, и в диаспоре не было запрета на фигуративные изображения, включая главных персонажей Ветхого Завета. По-видимому, они явились прототипами раннехристианских сюжетных сцен.
В христианском храме в Дура-Эвропос сюжетный состав росписей соответствует правилам типологии, поскольку там, в частности, соотнесены Адам и Ева у древа познания и добрый пастырь. Как отмечают исследователи, эти сцены объединены идеей противопоставления земного и рая небесного.
Типология как экзегетический прием проецируется на образный строй и стиль христианского искусства. Приведем в качестве подтверждения этой идеи иллюстративный ряд, представляющий эволюцию композиционных приемов в рельефах раннехристианских саркофагов. Общей тенденцией является переход от фризовых повествовательных сцен, подобно языческим рельефам, – к возникновению новой композиционной структуры. Ее особенностью является деление изображения на два яруса для попарного сопоставления сцен Ветхого и Нового Заветов. Следует подчеркнуть, что в композиции саркофагов не только складывается принцип соотнесения парных образов, но постепенно композиция начинает отражать иерархическую структуру, что указывает на постепенное усвоение картины мира, обозначенной каппадокийцами, христианским искусством. Это лишь первые предвестия иерархического порядка организации внутреннего пространства храма и его иконографической программы.
Композиционный прием сопоставления обетования и исполнения, прообраза и образа, используется в росписях катакомб. Рассмотрение системы росписей отдельных помещений позволяет высказать предположение о том, что символические образы здесь составляют целостный иконографический комплекс, смысл которого соответствует Литургии апостольского и послеапостольского времени. Отдельному рассмотрению зарождения иконографического ядра храмовых росписей в искусстве катакомб посвящено исследование С.Г. Савиной «Иконография. Богословские очерки иконографического извода» [345] .
Богослужебное искусство формируется и живет по тем же правилам, что и само богослужение. Знаковый характер раннехристианского искусства, – очевидно, выражение той же «disciplinae arcanae» (тайного учения), запрещавшей открывать сокровенное учение непосвященным, не допускавшей и письменных формуляров богослужебного чина таинств [346] .
Принятие Миланского эдикта, повлекшего
легализацию христианства и превращение его в религию вселенской империи, конечно же, изменило условия развития христианского искусства. Храмоздательство и создание росписей на этом этапе связано с покровительством императора [347] . Казалось бы, должен произойти переход от «тайных образов» к прямому свидетельству евангельского откровения. Но феномен «византийского антика» показывает, что упрощенная трактовка перехода от позднеэллинистического и раннехристианского искусства к символическому реализму неуместна. Обртимся к примеру, который характеризует порядок взаимодействия языческого и святоотеческого платонизма.
Обратимся к фрагменту керамического блюда из собрания Государственного Эрмитажа с изображением нереид. Процитируем замечательную атрибуцию В.Н. Залесской, имеющую самое непосредственное отношение к нашей теме: «…сцена, названная Порфирием Тирским «Пещера нимф», оказывается связанной с конкретным евангельским событием. Образ «пещеры нимф» неоднократно встречается в гомилиях, полемических трактатах и посланиях Григория Нисского, обозначая, чаще всего, земной, грешный мир. В специальных же, приуроченных к рождественским праздникам, проповедях под (пещера) подразумевалась Вифлеемская пещера. Рождественская гомилия Григория Нисского содержит фразу, которая некогда была оттиснута на бортике блюда, и частями которой являются четыре греческих слова, читаемых на фрагменте. Она гласит: «Господи, помоги, созерцая грот, увидеть в пещерном мраке звезду Твою». Итак, эта сцена явилась, по существу, символической параллелью Рождества. Вполне возможно предположить, что подобные дешевые, штампованные из глины предметы, производившиеся в значительном количестве, могли подходить для скромных подарков, как римские стрены, с пожеланием увидеть «истинный свет». [348] [349]
Несколько предваряя дальнейшее повествование, зададимся вопросом: «По какой причине гомеровский образ оказывается иллюстрацией тайны Рождества Христова?» Ответ находим у Василия Великого в «Слове юношам о пользе книг языческих» или «Наставлении юношам, как пользоваться языческими сочинениями». Он пишет: «Слышал я от одного человека, который глубоко изучил Гомера, что все Гомерово стихотворение об Одиссее есть не что иное, как сплошная похвала добродетели» [350] .
В этом же наставлении святой Василий говорит о желательности изучения «внешних наук». Обращение к античной культуре – начальная ступень восхождения к добродетели и богопознанию: «Живописцы сначала покрывают холст первым слоем краски, а потом кладут на него уже настоящие краски, подобным образом и мы, чтобы добрая слава наша осталась неизменною, сперва посвятим себя изучению этих внешних писателей, потом уже начнем слушать священные и таинственные глаголы, – сперва привыкнем смотреть, так сказать, лишь на отражения солнца в воде, а потом уже обратим взор к самому источнику света». [351]
С именами Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского связано зарождение риторического жанра публичной проповеди. Формирование этого жанра напрямую связано с надобностями Церкви в условиях принятия христианства в качестве государственной религии. В проповеди обращение отнесено к полуязыческому населению и, как следствие, ритор использует образы, привычные для аудитории. В данном случае, – образ взят из «неграмотного учителя всех» – Гомера. Образ типичен для «византийского антика». Но отнесемся к нему с большей чуткостью. «Одиссея» многократно трактуется философами самых различных направлений: натурфилософами, досократиками, пифагорейцами, софистами, стоиками, киниками, неоплатониками. [352] Григорий Нисский прибегает к экзегезе Порфирия. Анализируя трактат Порфирия, Тахо-Годи пишет: «Порфирий обратился к стихам Гомера именно потому, что он увидел в них знакомую каждому греку картину: пещера нимф с источником вод, роящиеся в ней пчелы и непременная для греческого пейзажа маслина». [353]
Действительно, как и в апофтегме, образ развивается, начиная от обыденного, общедоступного, уровня. Далее Порфирий за каждым символом: пещерой, нереидами, пчелами, оливой, – раскрывает стоящий за ними смысл общегреческого мифологического мышления. Круг его апелляций шире: наряду с гимнами Орфею, Дионису и Аполлону, леонтийскими таинствами, он прибегает к тексту Септуагинты и к зороастрийским верованиям, к жреческой мудрости Египта. Но, главным образом, он вступает в диалог с предшественниками по платонической традиции: Платоном, Нумением, Кронием, последовательно продвигаясь к одной цели, Порфирий приоткрывает тайну пещеры. Пещера является символом космоса чувственного, но не только чувственного: «…а символом интеллигибельного, – пишет Порфирий, – она является, поскольку выражает недоступность бытия чувственным восприятиям, его устойчивость и прочность, и также потому, что отдельные потенции, особенно те, которые связаны с материей, – невидимы» [354] . Под нереидами здесь понимаются потенции душ, нисходящих в мир становления. [355]
Определяя место трактата в неоплатонической традиции, Тахо-Годи указывает, что его философская экзегеза стала «одной из первых неоплатонических конструкций космоса». [356] Григорий Нисский вступает в диалог с Порфирием. Его рассуждению о зодиакальном круге, рассуждению Нумения и Крония о созвездиях, – Григорий противопоставляет одну звезду, – воссиявшую над Вефлеемской пещерой. Неядам как «душам, идущим в мир становления», [357] Григорий Нисский противопоставляет Рождество Христово. Образ строится и на преемственности, и на оппозиции.Здесь с достаточной отчетливостью необходимо обозначить главную мысль. Порфирий создает неоплатоническую картину космоса и соотносит ее антропогенезом. Это сопряжение космологии и антропологии – ключевая тема богословия Григория Нисского. В этом пункте отчетливо прослеживается его противостояние и неоплатоникам, и Оригену. Для неоплатоников – Нумения, его ученика – Плотина и преемника Плотина, Порфирия, характерна идея метемпсихоза, она заимствуется у Гераклита и претерпевает некоторые изменения. Отрывок из Нумения цитировался выше, его же приводит в трактате «О пещере нимф» Порфирий и следует ему, говоря о нисхождении душ в воплощении, а также о душах, сбросивших телесную оболочку после «холода земного становления». [358] В трактате «Об устроении человека» Григорий Нисский весьма нелицеприятно отзывается об эллинских учениях, «наговоривших басен о перевоплощении» [359] . Применительно к рассуждениям об Оригене, несвободном от этого наследия, свт. Григорий вспоминает слова Эмпедокла:
Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то,
Был и кустом, был и птицей и рыбой морской бессловесной… [360]
И снабжает их комментарием: «По вынесенному мною суждению, недалеко отступил от истины тот, кто говорит о себе подобное. Ведь действительно достойны вздорности лягушек или галок, или бессловесности рыб, или бесчувственности дуба такие учения, говорящие, будто одна душа прошла через многие тела…» [361] . Св. Григорий видит в теории нисхождения души диалектику ее истления, перехода «в ничто»: «однажды соскользнув с высшего жительства, она не может остановиться ни в какой степени порока, но из-за этой связи со страстями она будет от словесного переходить к бессловесному, а от бессловесного опускаться до состояния бесчувственности растений, с бесчувственностью граничит бездушное, а за бездушным следует несуществующее. Так что совершенно последовательно для них душа перейдет в ничто. Следовательно, неизбежно для нее станет невозможным вновь возвратиться к лучшему». [362] Здесь неоплатоническая иерархия заходит в тупик, в ее диалектике Григорий Нисский осуждает переход «от глупости к глупости с известной последовательностью». [363] Между тем, в своем толковании на тайнозрение Моисея он провидит иерархическое устроение человека. В дихотомии человек осознается как микрокосм, но он почтен особым образом и выделен из чреды творения своим богоподобием. В трихотомии растительные и животные силы души превосходятся тем же богоподобием, подчиняясь ему, они приводятся в гармонию согласования. Истинную природу человека составляет его богоподобие, царственность. Этим определено включение (в порядке соподчинения) космологии в антропологию в философо-догматической системе Григория Нисского. Рассуждая о душе, Григорий Нисский отрицает как эллинов и Оригена, с их теорией предсуществования душ, так и Климента Александрийского [364] , повествующего о предсуществовании тела. В XXIX главе трактата он прибегает к евангельскому образу пшеничного зерна, которое в потенции своей несет «зелень, стебель, междоузлия, плод, остны». В разворачивании зерна Григорий различает тайну перехода потенции в действенность, деятельность, энергию. «Но как по телесной его части мы не называем его ни плотью, ни костями, ни волосами, ни всем тем, что можно видеть у человека, но в возможности оно есть каждое из перечисленного, еще не явившееся зримо, – так и о душевной части мы говорим, что не имеет она в себе словесного (разумевательного), вожделевательного и раздражительного и всего, что можно видеть у души, но в соответствии с устроением и усовершенствованием тела, вместе с подлежащим возрастают и энергии души». [365] Здесь мы встречаемся не только «оправданием» тела, противопоставленным неоплатонической идее развоплощения, но и с тайнозрением «энергий души». Это тайнозрение становится ясным из контекста всего трактата, в котором говорится о божественном свете, запечатленном в природе человека. Коротко выразил эту мысль Григорий Богослов, сказав, что эллинам была неведома светозарность плоти. Этот, может быть, излишне многословный разбор одного из памятников «византийского антика» поясняет важную тенденцию в формировании художественного стиля.
Если внимательно рассматривать блюдо, то по его внешнему периметру заметно изображение радуги, столь распространенное в искусстве раннего Средневековья. Эта аналогия приходит на ум при его сопоставлении с блюдами, созданными приблизительно в ту же пору: от донца чаши к ее краям расходятся лучи, образующие розетту. Не является ли источником света не звезда, воссиявшая над пещерой, но Воссиявший внутри пещеры Бог? – в логике «интериорной эстетики» и гносеологии Григория Нисского такой ход был бы возможен. К сожалению, фрагментарная сохранность блюда позволяет лишь строить догадки.
В «византийском антике» отчетливо заметен возврат от неоплатонического разрушения калокагатии вновь к калокагатии греческого искусства, именно таким видится нам движение от раннехристианского и неоплатонического «развеществленного» символизма, обусловленного дуалистическими учениями и дихотомией до-каппадокийской антропологии – к аллегориям «антика» и подчеркнутой чувственности образов, созданных за пределами Александрии.
В контексте становления символического реализма в учении Нисского святителя, повествующего и «перихорезисе чувственного-ноэтического» в ипостаси человека ясный смысл приобретает усиление классицизирующего русла в искусстве и вызревание «классицизма Феодосия».
Блюдо с «Пещерой нимф» было приобретено в Александрии [366] , явившейся местом встречи философии неоплатонима и «великих каппадокийцев». На примере его образно-стилистического строя видено вызревание «новой калокагатии» средневекового искусства. Символико-аллегорические образы «византийского антика» явились переходной формой от «развеществленных» символических образов, обусловленных дуалистическими учениями поздней античности и дихотомией до-каппадокийских учений о человеке в святоотеческой письменности. Возвращение к целостному образу человека вызревает во взаимосвязи с учением Григория Нисского, но, в отличие от античной калокагатии, эти прекрасные образы преображены божественной благодатью. Их духовность имеет параклетический характер, в них сияет, по слову Григория Богослова, светазарность плоти, неведомая эллинам: именно поэтому свет Вифлеемской звезды и сияние в недрах пещеры Младенца становится смыслом изображения, иллюстрирующего Рождественскую гомилию Григория Нисского.
Подводя некоторые итоги этой части рассуждений, отметим: в истории богослужебного искусства выстраивается стадиальная последовательность: раннехристианский символизм – символико-аллегорические образы «византийского антика» – «символический реализм» канонического искусства. Эти этапы развития образно-стилистической системы христианского искусства и привлекают к себе внимание в аспекте их отношения к александрийскому богословию и к богословию «великих каппадокийцев».
2.5. Трактат «Об устроении человека» в аспекте его влияния на образно-стилистический строй канонического искусстваУчение о человеке Григория Нисского соединило религиозные, философские, натурфилософские, естественнонаучные, медицинские знания о человеке и его месте в мире, и как таковое, может быть сопоставлено с образом человека, сложившемся в искусстве Византии. В трактате «Об устроении человека» категории, приведенные святым Григорием для определения сущности и ипостаси человека, дают проекцию непосредственно на образно-стилистический строй искусства. Эти категории могут быть и логико-рациональными и апофатическими, они проецируются на художественные образы, в том числе «апофатические» (как, например, изображение «божественного мрака»).
В центре внимания этого параграфа работы окажется трактат «Об устроении человека» в аспекте его влияния на формирование образно-стилистической системы канонического искусства, воплощение в ней картины мира, оформившейся в философско-догматической системе каппадокийцев. Одной из особенностей изобразительного искусства античности, наследником которой стал Константинополь, является способность в пластически осязаемых образах выразить философские понятия. Рассмотрим, как повлиял символический реализм антропологии Григория Нисского на символический реализм в искусстве.
Ученым, занимающимся историей эстетической мысли и историей искусств, хорошо известно, что искусство отражает мировоззрение своей эпохи. Искусствоведение приобретает научный характер, методологически и методически приближается к точным наукам на рубеже XIX-XX вв. «Отец искусствознания ХХ века», Г. Вельфлин в работе «Основные понятия истории искусств» [367] впервые вводит в научный обиход инструментарий, позволяющий объективировать понятие «стиль», ранее этот термин использовался произвольно, отражал субъективные вкусовые пристрастия знатоков искусства. Вельфлин же определяет художественный стиль эпохи как «историю искусств без имен», показывая тем самым, что художник невольно является выразителем мироощущения и мировоззрения своей эпохи. Эту исследовательскую традицию развил М. Дворжак в своем труде «История искусств как история духа» [368] . Фундаментальный подход к разработке проблемы стиля в искусстве обнаружил Э. Панофский в классическом труде «Перспектива как символическая форма» [369] , где показал, что пространственные формы культовой архитектуры способны стать пластическими символами, эквивалентными категориям философии и богословия. В отечественной науке на труд Панофского опирался А.Ф. Лосев, его работа «Канон как художественный стиль эпохи» [370] замечательна тем, что ученый выявил комплекс первоисточников, определяющих параметры канонических систем в искусстве Древнего Египта, Древней Греции и Византии. Исследуя эти тексты, Лосев показал, что отличие одной канонической системы от другой сводится к различию систем пропорций, что позволило ему сузить понятие «канона как художественного стиля эпохи» до эквивалентного понятия «системы пропорций». Далее Лосеву удалось выявить закон переводимости понятий, отражающий мировоззрение той или иной эпохи, в систему пропорций: он выявил группу эстетических категорий, названную им «структурными терминами», среди них: «мера», «симметрия», «центр», «центрированность», «ритм». С одной стороны, эти термины служат определению пропорций в скульптуре, зодчестве, а с другой стороны, эти же термины имеют в различные исторические эпохи несовпадающее смысловое наполнение, их значение реконструируется посредством расширения контекста при опоре на первоисточники религиозного, философского, натурфилософского, научного характера. Так, например, для понимания категории «мера» в античном искусстве важно высказывание Протагора: «Человек есть мера всех вещей, как видимых, так и невидимых». Рассмотрение средневекового канона как художественного стиля эпохи предполагает, прежде всего, его сопоставление с другими каноническими системами в контексте общей истории искусств. Этот подход выявляет наиболее общие законы символического формообразования, но несколько ослабляет внимание к своеобразию художественного языка именно эпохи Средневековья, поэтому далее внимание будет уделено специфике средневекового канона. И в том, и в другом случае в качестве базового первоисточника преимущественно будет использован трактат Григория Нисского «Об устроении человека». Трактат Лосева «Художественные каноны как проблема стиля» в данном случае интересен во взаимосвязи с другим его сочинением «Диалектика числа у Плотина», [371] где автор пишет о критике Плотином категориального аппарата стоиков и Аристотеля и об обращении его к «Софисту» Платона: « Пять категорий «Софиста» – сущее, различие, тождество, покой, движение – и есть умные категории Плотина. Они выведены антиномико-синтетически, т.е. чисто диалектически». [372] Сопоставление «структурных терминов» Григория Нисского с аналогичными понятиями у Плотина показывает, что размежевание античного и средневекового канонов в области изобразительного искусства начинается не на поле художеств, но совсем в иной сфере – в онтологии и в учении о человеке
Вслед за А.Ф. Лосевым прибегнем к рассмотрению средневекового канона как системы пропорций, опираясь на трактат Григория Нисского «Об устроении человека». Согласно трактовке Нисского святителя, пропорция – категория количественная, определяющая «меру ипостаси человека» в отличие от беспредельности Божественного бытия: «Природа же /человека/ владычествует и удерживает то вещественное ипостаси, в котором (вещественном) она предстает взору. Итак, пока одно обладает другим, причастность к истинной красоте проходит через весь ряд пропорциональным образом, украшая всякий раз через находящееся выше то, что непосредственно к нему примыкает» [373] . В этом фрагменте явно обнаруживается взаимосвязь понятий «пропорция» и «красота», «истина». Василий Великий и Григорий Нисский именуют Бога Художником и Зиждителем истинной красоты, посредством пропорций осуществляется передача красоты творению. В цитируемом фрагменте текста понятие «пропорция» действительно является, по Лосеву, «структурным термином», определяющим в теории трихотомии взаимосвязь вещественного, тварного состава и «разумевательного начала» как богоподобия человека: «Но если произойдет расторжение этого благого сродства, иными словами, будет, наоборот, превосходящее следовать низшему, тогда само вещество, уже отступившее от природы, обнаружит свое безобразие (потому что вещество само по себе бесформенно и неустроенно, и бесформенностью его испортится и красота природы, которая украшается умом)» [374] . Уместно сделать ударение на том, что человек определен Григорием Нисским как внутренне подвижное, переменчивое существо; нарушение синергии, божественного порядка связи становится причиной безобразия, утраты божественного образа. Эстетические категории «красоты» и «безобразия» обретают свое смысловое наполнение во взаимосвязи с аскетическим смыслом теории трихотомии, порядок или нарушение «благого сродства» зависят от воли человека, его выбора.
Упорядоченность веществу придает «боговидное» в природе человека – ум, сообщающийся с Богом. При нарушенной в иерархии последовательности «…происходит передача уродства вещества через природу самому уму, так что в чертах создания нельзя будет увидеть образа Божия. Ибо тогда подобный зеркалу ум создает образы (идеи) оборотной стороны благого, а обнаружения сияния добра отметает, отражая в себе бесформенность вещества. И таким образом происходит возникновение зла, которое осуществляется через незаметное лишение прекрасного» [375] . Выше была отмечена взаимосвязь этого фрагмента текста с диалектикой числа Плотина и в этой связи говорилось об онтологическом статусе «численных» построений Григория Нисского. Понятие о пропорции – категория количественная.
Количественное определение природы человека в ее отношении к Богу выражено Григорием Нисским так: «Совершенный вид благости состоит в том, чтобы привести человека из небытия в бытие и сделать его нескудным в благах. А поскольку велик подобный перечень благ, то его нелегко объять числом. Потому Слово гласом своим совокупно обозначило все это, говоря, что человек создан по образу Божию» [376] . Но здесь речь идет не о конкретном человеке, а о человеке вообще, всем человеческом естестве «Но для каждого из существ должны быть какие-то предел и мера, отмеряемые премудростью Создавшего.... один человек объемлется количеством по телу и существует количественная мера его ипостаси, которая ограничена …». [377] Вот дополнительное определение: «Бог по природе прост и невещественен, без качества, без величины и без сложности и чужд внешнего очертания, всякое же вещество заключается в пространственном расстоянии и не может скрыться от чувственного восприятия, будучи познаваемым по цвету, по наружности, по объему, по количеству, по упругости и по всему остальному, известному в нем, что никак нельзя отнести к божественной природе» [378] , – если это высказывание сопоставить с произведениями зрелого канонического искусства, уместно высказать предположение, что золотой или нейтральных фон в живописи, пресловутая «плоскостность» иконы, служат передаче «простоты», «невещественности», отсутствия качества и сложности Бога. Учение о пропорции, оформившееся в пределах философско-догматической системы Григория Нисского в IV в., оказало свое воздействие на художественную практику византийских мастеров. Как утверждает Э. Панофский, в основе пропорционального построения фигуры на плоскости лежит система «трех окружностей» [379] , ее модулем является диаметр нимба. Эта величина пропорционально взаимосвязана с диаметром купола, как показал в своем историко-архитектурном исследовании В.В. Филатов [380] . Диаметр купола, в свою очередь, является модулем для построения архитектурного объема храма в целом, как продемонстрировал на основе геометрического анализа Софии Константинопольской, образцового храма христианского мира, К.Н. Афанасьев [381] .
Взаимосвязь систем пропорционирования при изображении отдельной фигуры на плоскости и при создании архитектурного пространства храма указывает на то, что в символическом реализме канонического искусства нашли свое отражение идеи каппадокийской философии об онтологической значимости ипостаси человека как образа Божия. Неслучайно именно круг – символ предвечного божественного бытия, становится модулем системы пропорций в искусстве Средневековья. Эти идеи отражены практическим руководством для иконописцев – рукописью, обнаруженной на Афоне, – речь идет об «Эрминии» Дионисия Фурнографиота. Построение «храма как космоса» соответствует построению «храма как человека» еще по одной причине: система мер средневековых архитекторов была антропометрической, что в очередной раз заставляет поставить особенно значимый акцент на роли антропологии в формировании искусства Средневековья.
Для реконструкции принципов объемно-пространственных построений в средневековом искусстве круг первоисточников может быть расширен, в поле зрения исследователя попадет не только учение о пропорциях Григория Нисского, включенные в трактат «Об устроении человека», но и тексты, отражающие его космологические воззрения. Они изложены в сочинениях: «О душе и воскресении», в «Слове на Святую Пасху» в «пологетическом рассуждении о Шестодневе», «Против Евномия», вошедший в состав трактата «Об устроении человека» «Шестоднев» Василия Великого.
Тварное бытие святитель определяет как «расстающиеся сущности», небо и землю. Образы земли и неба (Быт. 1:1), выделенные Григорием Нисским как первичные сущности становятся впоследствии важными:
– в символике храма («церковь есть образ неба и земли»);
– в «доличном» иконы «позем» и золотой фон определяют соотношения «богоподобия» и «тварности» человека.
Согласно Григорию Нисскому, «расстающиеся сущности», небо и земля, порождены противоположно направленными «действованиями» (энергиями). Действия этих энергий выражаются в покое и движении. Вслед за Аристотелем (имеется в виду трактат «О небе»), Григорий Нисский выделяет два основных вида движения: по окружности и по прямой, они главенствуют и в объемно-пространственных построениях искусства Средневековья.
В архитектуре крестово-купольного храма эти построения воплощаются во взаимодействии движения по прямой (с запада на восток: от входа к алтарю и снизу вверх: от подкупольного квадрата к куполу) и движения по окружности (апсида, купол). В архитектурном пространстве базиликального храма преобладал мотив шествия, движения по прямой, он связан с ранней формой богослужения – стациональной (шественной) литургией, о которой пишет в своем исследовании Р.Тафт [382] как о ранней форме богослужения. «Размыкание круга» в космологии каппадокийцев по сравнению с циклическими моделями космоса в Античности подчеркивает Лурье, о чем речь шла ранее.
Мотив движения по прямой, но направленного к круговому завершению, истолковывается символически как символ спасения, исхода богоизбранного народа, и как эсхатологическое шествие. В ранневизантийский период эсхатологические чаяния имели особенную окрашенность и не были связаны с более поздней теорией «божественных казней», Второе Пришествие Иисуса Христа воспринималось как радостное чаяние, подобное ожиданию встречи жениха и невесты Песни Песен, в этом смысле уместно обращение к экзегезе Григория Нисского на Песню Песен. Важность мотива шествия сохраняется и в купольных базиликах, об этом свидетельствуют стрелки в разметке мозаического пола, обнаруженные археологами при обследовании Софии Константинопольской. В контексте данной работы следует сделать на этих фактах особый акцент: человек в антропологии каппадокийцев трактуется как приснодвижущееся существо, подобное току реки.
В иконописи прямые линии и окружности составляют основу так называемой графьи, графической основы иконописного изображения. При внимательном рассмотрении любая кривая разделена на составляющие ее отрезки, словно форма имеет огранку. Прямые линии имеют овальное завершение, таким образом, и в рисунке присутствуют два основных вида движения: по окружности и по прямой, что символически отражает идею энергийной природы сущего, сотворенного силами (энергиями, действованиями) Божественного Духа. Нетрудно заметить, что законы формообразования в искусстве Средневековья универсальны, они реализуются на уровне микроструктуры произведения (в рисунке) и его макроструктуры (в зодчестве), наделяя их символическим значением.
Другим основополагающим аспектом восточнохристианского канона как стилистической системы является принцип объемно-пространственных построений в системе обратной перспективы. Идея обратной перспективы отражает основной гносеологический принцип Григория Нисского: путь богопознания является интериорным, где бытие не умаляется, обращаясь в точку схода, но разрастается в превечность Бога.
Точка схода прямой перспективы в иконе переносится в пространство зрителя. Это, во-первых, позволяет ему менять позицию по отношению к композиционному центру произведения (чем выражена идея онтологической свободы человека как его богоподобия), во-вторых, «малая величина» предстоящего иконе в системе обратной перспективы обладает интенцией бесконечности Божественного бытия. Семантика точки схода в обратной перспективе отражает евангельское учение о «малых мира сего», гносеологическая идея интериорного богопознания Григория Нисского предварено иудео-христианскими учениями об искре, разгорающейся в пламя, и учением пифагорейцев о бесконечно-малой величине, малость которой – залог ее превращения во вселенную, Плерому [383] . Система объемно-пространственных построений в христианском искусстве соответствует назначению литургического символа, способствующего раскрытию человеком в себе образа Божия, что является основной идеей каппадокийской антропологии, трактующей человека как образ Божий.
Итак, в антропологии Григория Нисского человек как микрокосм включает в свой состав вселенную. Интериорный порядок богопознания определяет характер средневековой эстетики: храм скромен снаружи, но блещет великолепием изнутри, подобно смиренному праведнику.
Подобно тому, как святые отцы и, в нашем случае, Григорий Нисский, усваивают античное учение о человеке как о микрокосме, средневековый канон переосмыслил правила канона античного, но, тем не менее, вовлек его целиком в недра своей творческой лаборатории. Видение человека средневековым мастером не лишено предельной пластической конкретности и выразительности. Знаменательным является тот факт, что основу византийских познаний о строении человеческого тела составляют данные античной медицины. В.М. Лурье указывает на прямое обращение Григория Нисского к Галену и Гиппократу. Как упоминалось выше, и Василий Великий изучал медицину, вероятно, им была основана первая христианская лечебница, профессиональные знания и навыки Григорий Нисский воспринял от старшего брата, Василия Великого, считается, что он имел медицинскую практику. Однако в данном случае представляется значительной не ширина кругозора святителей, а универсальность средневековой культуры, согласованно соединяющей разнородные сферы знания.
Вот лишь некоторые фрагменты текста «Об устроении человека», описывающие телесный его состав: «Кости, хрящи, жилы, артерии, волокна, связки, мясо, жир, волосы, железы, ногти, глаза, ноздри, уши, все подобное этому и еще тысяча, – все это отделенное друг от друга различными особенностями…» [384] . Или – вот образ, обладающий скульптурной пространственностью: «Подобным же образом можно предположить и о сердце, что оно устроено как будто в безопасном доме, укрепленном благодаря окружающим его твердейшим костям. Ведь сзади у него позвоночник, с обеих сторон прикрываемый лопатками. С обоих боков опоясывающее расположение ребер делает труднодоступным то, что внутри. А спереди грудина и пара ключиц, чтобы сердце сохранялось со всех сторон в безопасности от беспокойства извне» [385] . В этом фрагменте дан «горизонтальный срез», выявляющий целесообразность строения скелета человека. Ему в «анатомическом атласе» Григория Нисского предшествует не менее впечатляющее зрелище: «…сила эта усматривается в головном мозге и его коре, и от нее все движения сустава, все сжатия мышц, все производительные дыхания и то, что передается ими в каждую из частей, являя земляную нашу статую действующей и движущейся, словно (под воздействием) некоего механизма» [386] . Жесткость линейных построений византийского канона, как нам представляется, имеет в своей основе очень точное знание механизмов движения, структуры всего скелета в целом и устройства его суставов, сухожилий и мышц, облекающих кости. Графический язык очерчивает механизм «земляной статуи». Например: «А зрение закрывается ресницами, словно свинцовыми приспособлениями – настолько они тяжелые, – которые опускаются на глаза. Огрубевший же от этих же самых паров слух, как будто дверью закрыв слуховые члены, пребывает в покое от естественных действий» [387] . Или: «… повороты шеи, запрокидывание и склонения головы, работа челюсти, открывание и смыкание век и движение остальных членов, которые осуществляются, как бы благодаря некоему механическому /устройству/» [388] . Вероятно, интерес Григория Нисского к механизмам движения обусловлен тем, что доказательством жизни человека является то, что он «теплый, действующий и движущийся». В языке присутствует не условность, но абстрагирование, основанное на фундаментальном знании общих законов. Думается, именно потому, что внутри византийской культуры, в ее основании, сохранялись и получали развитие базовые научные представления, на их почве были естественными периодические вспышки обращения к античности, так называемые ренессансы. Итак, основным образом в античном каноне и каноне средневековом является изображение человека, объемно-пространственная структура этого образа основывается на знании пластической анатомии. О положительном отношении к анатомии свидетельствует текст в начале XXX главы, повествующий о том, что «может всему научиться в точности тот, кто трудолюбиво черпает историю этого в книгах у премудрых в таких вещах. Из них одни анатомированием изучили, каким образом в нас прикреплен к своему месту каждый член, другие же, кроме того, постигли и объяснили, для чего именно создана каждая часть тела…» [389] . Лурье в комментарии к этому фрагменту говорит, что для Галена анатомирование – один из основных способов исследования, в медицинской практике Византии оно являлось обычным делом. Данные медицинской науки, составляющие основу этих знаний, принадлежат к одной традиции, что со своей стороны определяет преемственность между каноном античным и каноном средневековым.
Вернемся к телесному устроению человека. Иконографический канон сохраняет космологизм, свойственный античной антропологии. В состав человеческой плоти входят первоэлементы (стихии), лежащие в основе мироздания. Рассуждая об анатомическом строении человеческого тела, Григорий Нисский постоянно памятует о соприродности его всему тварному космосу, о гармонии и равновесии стихий, составляющих человеческую плоть: «Поскольку же и у печени есть значительная потребность в содействии теплоты для обращения соков в кровь… то, чтобы удаленность теплотворной сущности не повредила всей икономии, сосудистый проход, (премудрыми в этих вещах именуемый артерией), воспринимающий огненное дыхание, несет его к печени, где он сходится с входным каналом для соков и теплотою разжигает влажность, отдавая влаге нечто родственное огню и окрашивая кровь огненновидным цветом» [390] . Стихии, составляющие и вселенную, и материю человеческого тела, – одни. В организме человека они соотнесеня с тремя управляющими жизненными силами, «из которых одна все согревает горячим, другая согреваемое смачивает влагой, так, чтобы благодаря равному /по силе действию/ каждого из противоположных качеств, живое существо соблюдалось в среднем /положении/, и чтобы ни влага не выжигалась бы преизбытком горячего, ни горячее не погасло бы от преобладания увлажняющего. Третья же сила содержит собою в слаженности и согласии различные суставы, сопрягая их собою при помощи связок…» [391] . Здесь антропометрия Григория Нисского вполне продолжает традиции античной медицины: так у Галена мы встречаем следующее высказывание: «Хрисипп… называет здоровье тела симметрией теплого, холодного, сухого и влажного» [392] … Здесь же присутствует один из «структурных» терминов – симметрия; под симметрией понимается соразмерность первоэлементов в организме человека. Понимание здоровья как соразмерности восходит к учению стоиков [393] . Григорий Нисский видит в устроении телесного состава человека те же элементы и силы, что и проявляются в космогонии. Человек изображен как микрокосм, в этом сохраняется преемственность патристической традиции по отношению к античной философии. «Структурные термины», выявленные в тексте трактата, указывают на это сходство. Различие традиций не менее значительно. Величие человека, по Григорию Нисскому, – не в подобии твари, но в присутствии в нем образа Божия. Согласно учению каппадокийцев, мирозданье преображается в человеке и вместе с человеком [394] . Запечатлению этой идеи служат стилистические элементы восточнохристианского канона. Объемно-пространственные построения искусства, свидетельствующие реальность земного бытия, становятся одновременно вместилищем мистического смысла. Взаимопереводимость богословских и философских категорий – неотъемлемое свойство символического реализма учения Григория Нисского.
Свое отражение в искусстве получило учение Григория Нисского об энергийной основе вещества. Ему соответствует «световая символика» живописи и зодчества. Григорий Нисский развивает теорию дематериализации вещества, утверждая, что оно является ничем иным, как «совокупностью идиом (качеств)», порядок взаимосвязи которых определяется логосом. «Идиомы» – это ни что иное, как «умопредставления» и подлежат «толковательному определению». Логос каждой отдельной идиомы может быть выявлен, что и определяет, по Григорию Нисскому, порядок восприятия вещества как созерцание, феорию.
Качественные характеристики вещества (идиомы) рассматриваются Григорием Нисским как совокупность самостоятельных качеств по отношению к подлежащему (предварительно обратим внимание и на то, что в определении материи как субстрата качеств Григорий придерживается аристотиелевской традиции, что отмечено переводчиком и комментатором трактата В.М. Лурье. Этот факт значителен в перспективе дальнейших рассуждений о соотношении канона византийского и античного канона) "Но каждый вид качества отделяется логосом от подлежащего. Логос есть умное, а не телесное созерцание. Например, когда предмет созерцается – животное или дерево или что-нибудь другое, имеющее вещественный состав, тогда мысленным различением мы уразумеваем многое около подлежащего, и все это многое, созерцаемое вместе, имеет свой логос по отдельности и несмешанно. Ведь иной логос цвета, и иной логос тяжести, и вновь другой логос количества и особенности осязательного качества. Ведь мягкость, длина и все прочее из названного не совпадают по логосу ни один с другим, ни с телом. А тогда коль скоро умное – цвет, умное – упругость, количество и все прочие такие особенности, и притом с отъятием каждой из них от подлежащего исчезнет вместе и весь логос тела, нужно сделать вывод: то, в отсутствии чего мы находим причину исчезновения тела, собранное вместе, образует вещественную природу. Ведь как не существует тела, которому не присущи цвет, внешний вид, упругость, объем (пространство), тяжесть и все остальные особенности, каждая из которых не есть тело, но сама по себе оказывается чем-то отличным от тела, так и наоборот – через собрание вместе названного производится телесная ипостась» [395] . Из вышеизложенного следует вывод, применимый к формообразованию канонического искусства: «структурные категории» имеют умную (логосную) природу, в их состав входят как категории пространственного построения, как то: объем, пространство, симметрия, центр, полюс, так и иные качественные характеристики (цвет, тяжесть, особенности осязательного качества). Эти характеристики являются «логосами» и как таковые представляются идеальными характеристиками и параметрами образа. Именно отсюда в изобразительном языке канона возникают чистые основные цвета, разделенные на несколько отчетливых оттенков и тонов, ясная стереометрия объема, линия, составленная из двух основных видов движения – по прямой и по окружности. Порядок соотношения этих логосов определяет индивидуальные качества предмета и его вещественный, материальный состав.
Из определения вещества, данного Нисским святителем, следует, что и порядок восприятия иконы может быть определен как созерцание. При этом каждому отдельному качеству образа (цвету, объему, упругости и др.) даются «толковательные определения». Отдельные микроэлементы образа приобретают символический смысл, который может быть выявлен уже на уровне технологии живописи, ее техники, а далее – стилистики и образного строя, например, минералы, использующиеся в иконописи в качестве пигментов (лазурит, малахит, аурипигмент и др.), а также золото, глина (охра) интерпретируются на основе библейских и святоотеческих текстов. Золото воспринимается как символ царственности, целомудрия, мученичества, глина – как вещество, из которого создан первый человек. Образец такого восхождения от материального образа к его мистическому смыслу приводит Григорий Нисский, рассуждая о «чистоте», «бесстрастии», «блаженстве» как о «цветах», которыми живописуется образ Божий в человеке.
Рис. 50. Иоанн на острове Патмос
Важнейшим положением космологии Григория Нисского является учение о тварности времени. Оно получила свое отображение в искусстве:
– тварное время подобно тварному веществу, и, как таковое, отображено персонификациями, символами, аллегориями, знаками зодиака;
– образ времени запечатлен в календарях и минологиях, в том числе, в так называемых, таблетках (иконах, одновременно служивших поклонными иконами, образчиками для иконописцев, календарем) [396] .
И Василий Великий, и Григорий Нисский говорят о том, что размышляющий о началах мира («Шестоднев») не должен забывать и о конце. Эта идея иллюстрируется лицевыми Апокалипсисами, житийными иконами с изображением евангелиста Иоанна на острове Патмос, изображением Страшного суда .
Как отмечено выше, у Григория Нисского идея тварности времени насыщена христологическим смыслом, что получает отражение в образах, иллюстрирующих время земной жизни Спасителя («праздничный чин» иконостаса, отражение «времени человека» в иконографии Христа (младенец, Эммануил, муж)). Христологический смысл имеет и солярная символика храмового искусства: следование за Христом как «Солнцем Правды» [397] .
Деление времени на отрезки от сотворения мира до воплощения Спасителя и от Пришествия Господня до Второго пришествия отражено «литургическим временем» храмового искусства, на этом принципе базируется и прием парного сопоставления Ветхо– и Новозаветных образов – основа христианской типологии. В этом заключена причина преобладания типологии над другими разновидностями иудейской и эллинской экзегезы.
Рис. 51. Спас НерукотворныйТрехчастное деление времени, введенное Василием Великим, разграничившим историческое время («время человеко») от эона (времени ангелов) и предвечного бытия Бога также отражено образами христианского искусства. Предвечное бытие связано с догматическими вневременными изображениями Спасителя (Пантократор, Спас Нерукотворный, Спас в Силах, Великий Архиерей и др.) [398] . Трехчастное деление времени проецируется на иконографическую программу храма и высокого иконостаса, соответствует литургическому времени.
Деление времени на периоды от сотворения мира до Рождества, от Рождества до Второго пришествия является одним из частных проявлений закона
триангуляции, являющегося общим сруктурообразующим принципом в христианском искусстве. Этот закон соответствует теории трихотомии в антропологии. Догматической основой этих построений является Тринитарный догмат.
Рис. 52. Спас в СилахЗакон иерархии, дискурсивно определенный в философско-догматической системе Григория Нисского, находит свое отражение в искусстве, а именно:
– в иерархическом построении пространства храма;
– в иерархическом порядке пропорционирования изображения человека и строения храма;
– в аксиологическом принципе пространственных построений в иконе.
Иерархическое деление пространственных зон в интерьере храма намечается уже в катакомбных капеллах и криптах; в ранневизантийских базиликах зонирование достигает восьми ступеней градаций (особо стоят оглашенные, верные, клир; отделяются мужчины от женщин, свое место положено диакониссам, девам, вдовам, женщинам с детьми и т.д.), – что узаконивается и определяется епископскими постановлениями [399] , отражается в литургических толкованиях. Зонирование соответствует чинопоследованию литургии (литургия оглашенных, литургия верных, анафора).
В трактате Григория Нисского «Об устроении человека» намечен ряд тем, получивших дальнейшее развитие в богословии иконопочитания у Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Отцов VII Вселенского Собора. Категории, введенные святым Григорием для определения сущности и ипостаси человека, одновременно дискурсивны и образны, как таковые, они непосредственно проецируются на образный строй искусства.
Григорий Нисский говорит о царственности человека, – образ трех царей использован еще Платоном, т.е. не нов для языка философии, из неоплатоников к этому образу прибегает Амелий, – Григорий Нисский употребляет его для обозначения богоподобия человека: «…Мастер сотворил нашу природу как бы сосудом для царственной деятельности (энергии), устроив, чтобы и по душевным преимуществам, и даже по телесному виду она была такая, как требуется для царствования. Ибо душа обнаруживает собой царственность, совсем далекую от тупой приниженности, потому что, не имея владыки над собой и будучи самовластной, она самодержавно располагает своими хотениями. А у кого это может быть, кроме царя? Да и к тому же, стать образом природы Владычествующего всем – это не что иное, как то, что в момент сотворения природа /образа/ была сделана царственной» [400] .
Выше отмечалась важность образа царственности в философско-догматической системе каппадокийцев; ему свойственна смысловая многоплановость: царственность обозначает онтологическую свободу человека и его место в иерархии бытия, образ используется при разработке Христологической проблематики; в рассуждениях о перихорезисе он востребован для обозначения соотношения формы и сущности, что предварило богословские построения догмата Иконопочитания. Важен риторический аспект образности, поскольку проповедь должна быть доходчивой, в этом смысле Григорием Нисским образ царственности выбран удачно: в быту Римской империи портреты «царя» были привычным атрибутом официальных церемоний, на которых они могли выполнять функцию «заместителя» отсутствующего императора. Разработанный в антропологии Григория Нисского, образ царя и царственности становится важнейшим в христианском искусстве, он определил принципы формирования канонической иконографии, Определение ипостаси человека в антропологии Григория Нисского, и категориальное определение каппадокийцами Христологического догмата явились первопричиной формирования в IV в. иконографии Иисуса Христа и личной иконографии святых.
Основу иконографии Иисуса Христа составил объемный блок устойчивых типов императорских портретов, он был перенесен в христианское искусство и стал основой целого ряда изводов: «Христос на троне», «Увенчание святых Христом», «Поклонение Господу», «Приношение Господу», «Христос, попирающий аспида и василиска» и многие другие. Этот материал исследован и систематизирован А. Грабаром в его труде «Император в византийском искусстве» [401] , однако, А. Грабар не выявил связи бытования «образа императора» в христианском искусстве с развитием богословия.
Изображение Пантократора как Царя Небесного является важнейшим изводом в иконографии Иисуса Христа, как с богословской точки зрения, так и в системе храмового декора. Афанасием Александрийским и Григорием Нисским понятие «Пантократор» (Вседержитель) применяется не только по отношению к Богу-Отцу, но и к Иисусу Христу. Богословская операция «перенесения имен» была применена Афанасием Александрийским и Григорием Нисским для указания на божественную природу Бога-Сына. Изображение Пантократора применяется не столько в портативной иконе, сколько в каноническом декоре конхи апсиды и, по мере становления архитектурного типа крестовокупольного храма, – в иконографии купола, чему посвящено исследование Т. Мэтьюза [402] . Мэтьюз связывает этот сюжет с антропоморфной символикой хрима и смыслом богослужения, объединяющего молящихся мистически в единое тело, главой которого является Христос.
Образ царственности оказал влияние не только на иконографию, но и на стилистику канонического искусства. Обратимся вновь к тексту Григория Нисского, к IV и V главам его трактата: «Ибо как принято у людей, чтобы те, кто пишет образы державных, воспроизводили бы черты облика и обозначали бы царское достоинство облечением в порфиру, так что и образ обычно называется «царь», – так и человеческая природа, поскольку приуготовлялась для начальствование над другими через подобие Царю всего, стала как бы одущевленным образом, приобщенным первообразу и достоинством, и именем» [403] . Григорий Нисский, говоря о царственности природы человека, предварил перенесение имперских атрибутов в иконографию Спасителя и Богоматери: порфирового цвета императорских одежд (гиматия Иисуса Христа и мафория Богородицы), золота в разделке фонов, нимбов, начертания имени на иконе и мотива предстояния. Об отличии мотива предстояния от преклонения колен говорит и Василий Великий, указывая на его не рабское, но царственное значение. Именно поэтому во время Пасхальных богослужений, после причастия и во время исполнения торжественных гимнов, акафистов, верующие в храме стоят, – что является знаком духовного торжества, ликования, царственного достоинства человека.
Григорий Нисский пишет: «Она <природа человека> не облечена в порфиру и не скипетром и диадимою (ведь и в первообразе этого нет), но вместо пурпура покрыта добродетелью, которая царственнее всех одежд, а вместо скипетра опирается на блаженство бессмертия, вместо же царской диадимы украсилась венцом праведности, так что во всем показала свое царское достоинство точным уподоблением красоте первообраза» [404] .
Здесь вещественные атрибуты царственности совлекаются, благодаря отрицательным формулам, а на смену им выдвигаются категории духовного порядка. Они, тем не менее, прикрепляются каждая к сниженному, но наглядному аналогу и, благодаря нему, приобретают подобную же наглядность и убедительность. Сопоставим приведенное высказывание Григория Нисского с теми стилистическими элементами, которые естественны для иконописного искусства. Императорские портреты легко соединяются в нашем представлении с особой церемониальной постановкой фигуры изображенного, с ритуальным или этикетным характером его жестов. Именно такая ритуальность характерна и для языка иконописи, в нем происходит «конкретизация архетипической формы». О ней пишет в своем исследовании «Космогония и ритуал» М. Евзлин [405] . Ритуализации жеста соответствует его повышенная семантическая значимость. В иконе жест обладает повышенной семантической активностью, на «словарь жестов»: вопрошания, ответа, приятия благодати, скорби и др. указала в своем исследовании Клаутова.
Одежды святых являются их устойчивым атрибутом, фиксируемым иконописными подлинниками, соответствуют чину святости, подобно тому, как регламентируется облачение воинов или придворных, они также отражают царственность природы человека. «Венцы праведности» также нам известны: вспомним изображение процессии мучеников и мучениц в равеннских мозаиках, святые несут свои венцы. Безусловно, абсолютным начертанием «венца праведности» является нимб. «Нимб в значении святости окружает голову лиц, изображенных в живописи катакомб, только со второй четверти IV века …нимбом в древнейшую эпоху окружается почти исключительно голова Спасителя» [406] . Впрочем, необходимо уточнение: не только государственная имперская иконография была перенесена в качестве основы в иконографию Спасителя, но и имперский церемониал претерпевал изменения в христианской империи. Влияние было обоюдным. «Напомню, что императорский церемониал оказывал колоссальное влияние на становление Византийской литургии. По существу, она и сложилась в сочетании с дворцовыми процессами, императорскими входами и выходами. И само поклонение императора чтимой иконе-покровительнице (такие иконы назывались proskynesis) было оформлено самым торжественным литургическим образом», – пишет в «Лекциях по исторической Литургике» В. Алымов [407] .
В антропологии Григория Нисского само понятие «образ» является важнейшим, поскольку посредством этого понятия передается сущностное свойство ипостаси человека как образа Божия. Григорий Нисский сближает понятия «образ» и «оттиск на веществе», о чем речь шла в предыдущем параграфе работы. В отношении иконографического канона важно следующее: понятия «оттиск на воске» или «печать», или «клейма» трактуются Григорием Нисским как запечатление образа Божия. Этот «оттиск» наделен божественными свойствами простоты (целостности, неделимости на части) и непреложности. Отсюда вытекает весьма важное следствие для византийской эстетики. Понятия: «оттиск на веществе», «образ», «эйдос» (облик) сами по себе определяют порядок и связь первоэлементов. Понятие «образ» – главенствующее в византийской эстетике, так как отражает онтологическое и сотериологическое содержание. Посему позволим себе высказать соображения, противоположные мнению авторитетных ученых: О. Демуса, Э. Китцингера, Л.М. Евсеевой, которое сводится к тому, что основу творческого метода византийских художников составлял структурный принцип, названный О. Демусом «divisibility» (делимость или сотавленность из частей): «живописная техника эллинизма преобразовалась в систему трех-четырех тонов, в которых основной тон модифицируется в один или два более темных и столько же светлых тонов…, фигуры делятся на отдельные части-компоненты, собирающиеся вместе, как в моделях… Композиции легко могут быть разъяты на части, и каждая из частей может составляться с другой. Это позволяет художникам выразить новое содержание путем небольшого изменения готовых традиционных форм» [408] . При всем правдоподобии стилистического описания, такая концепция представляется совершенно несоприродной исследуемому предмету – византийской канонической живописи. Упорядоченность и смысловая точность отдельных элементов художественной формы не превращает процесс работы иконописца в «сборку модели» из элементов конструктора. Такая «игровая теория» вытесняет и сам религиозный смысл художественного творчества: в каноническом искусстве понятие образа – это тема об образе Божием в человеке и его уподоблении Первообразу, думается, ею определяется и основа художественного метода. Заметим, что рассматриваемое понятие «печать» употреблялось и Афанасием Александрийским: «Дух именуется животворящим… помазанием, и есть печать… Вся тварь делается причастною Слова в Духе. И ради Духа мы именуемся причастниками Божиими…Те, в ком пребывает Дух, обожаются Духом» [409] . Архимандрит Киприан подчеркивает, комментируя это высказывание, что обожение отнюдь не метафорическое выражение, но «преображенное духовное состояние всего психо-физического состава человека» [410] . Этими словами выражается и существо сказанного Григорием Нисским в его трактате. Речь идет о печатях Духа Святого, упоминаемых в Евангелии [411] .
В этом контексте вновь зададимся вопросом: правомерно ли теорию «divisibility» принимать за основу художественного метода визанийцев? Именно целостность образа позволяет ему быть включенным в иерархию образов, неприрывность этой иерархии, соединяющей образ с Первообразом, принципиальна для средневекового искусства. Образ становится в системе иерархии динамическим символом, целью его является возведение образа к Первообразу и в этом уподоблении совершается возврат к первоначальному замыслу о человеке, преображение его и тварного мира, космоса, входящего в состав человека как микрокосма.
Идея богоподобной целостности выражена церковнославянским языком словом «про́стый» (в отличие от «простой»). Не «divisibility» является законом возникновения образов восточнохристианского искусства, но передача «неслиянности и нераздельности» – как в «Троице» Андрея Рублева. В живописи цельность произведения определяется его композицией. Построения средневекового искусства тяготеют к геральдической композиции, так же, как и изображения на печатях и монетах. Контур легко считывается, он узнаваем вне зависимости от размеров произведения: будь то силуэт святого на золотом фоне иконы или же изображение на перстне, или мозаика, или фреска. Изменяется материал, которым пользуется художник, изменяется размер изображения, но не образ, – подобно отражению в перспективе чистых зеркал. Эта метафора вошла в богословие иконы, будучи унаследована из философской лексики неоплатонизма.
«Боговидное» – персоналистический «эйдос» (облик) человека определяется первоначальным божественным замыслом о нем, эйдос не изменяется с переменой возраста, но может искажаться страстями. Он восстанавливается у раскаявшегося человека. Для искаженного облика Григорий Нисский использует понятие «маска». Это словоупотребление весьма симтоматично: архимандрит Киприан уазывает на то, что понятие «личность» было введено каппадокийцами в связи с разработкой категории «ипостась» в тринитарной терминологии. В античной Греции для обозначения личности человека употреблялось слово, служащее для обозначения маски, личины актера, в Риме «персона» имела юридическое значение [412] . Следствие для эстетики, вытекающее из этого противопоставления «облика» и «маски», – таково: в иконе обозначается обоженное бесстрастное состояние человека, его сущностный непреложный эйдос.
Выше был введен еще один образ из трактата «Об устроении человека» – земляная статуя, статуя из брения. Он востребован Григорием Нисским как метафора, иллюстрация, – мы же обратим внимание на него, как на атрибут античной культуры. Античный канон как художественный стиль эпохи репрезентируется, прежде всего, каноном скульптурным, в то время как средневековый – иконописным. В противопоставлении скульптуры и иконы просматривается оппозиция символов античной и средневековой культуры. Противопоставление «земляной статуи» и «отпечатка на веществе» (иконы, образа) в тексте трактата свт. Григория симптоматично: оно является противопоставлением «ветхого» и «нового» человека». Метафора Григория противопоставляет одновременно две теории: неоплатонического метемпсихоза и святоотеческой трихотомии в трактовке вопроса о происхождении души и тела. Именно здесь коренится различие в понимании символа у неоплатоников и каппадокийцев, именно здесь разделяется неплатонический символизм и символический реализм. В статуе преобладающим является материальное начало, душа же приобщается материального, будучи отягчена пороком. В «оттиске на веществе» ни душа не является раньше тела, ни наоборот: «Так как человек, состоящий из души и тела, един, нужно предполагать общее начало его составов, так чтобы он не оказался ни старше, ни младше самого себя, когда телесное первенствовало бы в нем, а остальное последовало бы» [413] .
К образу ваятеля Григорий Нисский обращается неоднократно. Рассмотрим еще один пример: «Подобное можно видеть у камнерезов. Художнику нужно представить в камне вид какого-нибудь животного. Задавшись такой целью, он сперва соскабливает с камня наросшее на нем вещество; затем, отсекши от него лишнее производит, подражая предположенному, его первое подобие, так что уже и неопытный может догадаться по внешнему виду о цели произведения. Продолжая обрабатывать далее, он ближе подходит к желаемому образу. Потом, передав совершенный и точный вид, он доводит произведение до конца… Нечто подобное полагая о душе, мы не погрешим против действительности… Но как и в работе с камнем подобие достигалось постепенно и понемногу, сперва слабое, а после окончания труда – совершенное, так и при врезывании органов образ души проявляется аналогично: несовершенно в незавершенном и в завершенном совершенно…» [414] . Здесь вновь, как и в приведенных выше фрагментах IV и V глав, образ является динамическим символом. Сопоставляются изображение животного, создаваемое искусным резчиком, и образ Божий, запечатленный в человеке. Параллельно сосуществуют несколько смыслов: во-первых, устроение человеческого тела является образом душевного устроения человека, во-вторых, оно, в свою очередь является подобием Бога. Третья ступень уподобления также явственно присутствует в этом тексте. Зримый начертанный образ сопоставляется с человеком как образом Божьим. Совершенство запечатления божественных черт вытесняет в человеке его тварную природу, его звероподобие: «… причастность к страстному и животному рождением не дает божественному образу сразу просиять в создании, но последовательно известным путем от вещественных и более животных особенностей души ведет человека к совершенству» [415] . Стяжание богоподобия Григорий Нисский иллюстрирует образом восхождения человека от подобия животным, бессловесным, к сиянию Божества. И параллельно: преображением грубой и косной материи божественным сиянием. И тот, и другой смысловой ряд хорошо поясняются Григорием Богословом, он говорит о том, что человек «животное разумное», в котором Бог «таинственно и неизъяснимо связал персть с умом и ум с духом» [416] . Григорий Богослов эллинов «упрекает в том, что для них была невероятна светозарность плоти» [417] . Вновь обратимся к отражению этих категорий в стилистике канонического искусства. Образ изначально вырезается из грубой каменной глыбы. Здесь – предельное обозначение материальности, объема, резца, преодолевающего сопротивление породы камня и оставляющего след. Но в конце фрагмента в этом же образе изглаживаются первоначальные черты, так как они поглощены и пронизаны светом. Если мы рассматриваем графическую и пространственную структуру иконописных изображений, – она обладает стереометрией кристалла, пресловутой плоскостности в них нет. Прорись в иконописи или фреске процарапывается графьей [418] , этот рисунок лишен приблизительности, так как он однозначно свидетельствует об истинах веры, всякая размытость, туманность изображения в нем неуместны. Подобным образом ранневизантийская скульптура тяготеет к рельефу, в ней усиливается линеарное графическое начало, «материальность» скульптуры в византийской рецепции трансформируется в «вещественность»: в космологии Нисского святителя вещество энергийно, имеет духовную (световую природу)
Рассмотрение памятников канонического искусства показывает, что иконописью унаследованы принципы античного скульптурного канона, но античный канон претерпевает координальное изменение, так как он приобретает новое свойство – «светозарность плоти». Световое начало как знак божественного присутствия вызывает еще большее уплотнение формы, но в то же время объемлющий ее и излучаемый ею свет меняет порядок восприятия объема и пространства по сравнению с античным. Законы контрапоста, хиазма, энхетелии, паратаксиса, ракурсного построения, пропорционирования – были разработаны античными скульпторами классической эпохи. Они восприняты и византийскими мастерами, перешли в иконописный канон.
Вспомним, что вплоть до VII века Константинополь вскармливается художественными традициями старых центров эллинистической культуры на Востоке. Это антикизирующее влияние обуславливает и вспышки «ренессансов» в византийской культуре. Наследие античного канона в византийской рецепции было перенесено и в страны, принявшие христианство из рук Византии, зачастую не имевшие традиции изображения человека, во всяком случае, сопоставимой с античной. В русле восточнохристианского канона было воспринято и античное наследие, претерпевшее разительные изменения в культуре Византии.
Символика света, ставшая отличительным качеством произведений средневекового искусства, соответствует мистическому содержанию образа и отвечает пониманию иконы как «источника божественного света». В системе художественных приемов передаче света служит техника письма (светоотражающий белый левкас, преимущественное использование минералов с кристаллической структурой для изготовления пигментов) и последовательность наложения красочных слоев «от темного к светлому», что создает ощущение усиливающегося во тьме светового потока. Система «движков», «оживок», «пробелов» в произведениях зрелого канонического искусства символизирует нетварные божественные энергии, о которых пишет Григорий Нисский в трактате «Об устроении человека». Он первым вводит в положение об энергийной, а не материальной, природе вещества, предвосхищая тем богословие исихазма.
Рис. 53. Успение Пресвятой БогородицыСправедливости ради необходимо отметить, что «интуиции прозрачности» появляются у Плотина, световая символика получает разработку у Ямвлиха. В книжной миниатюре античного мира использовалась штраффировка золотом для украшения пейзажа, в средневековом искусстве она получит последовательное развитие в системе ассиста.
Золото и свет в иконе являются метафорами божественной любви. Любовь занимает особое место в гносеологии Григория Нисского, только она превышает познание и созерцание, преступая пределы непознаваемости Божественной Сущности. «Божественный мрак», «неприступный поток Божественного светолития», согласно св. Григорию, – особый модус богообщения, а не неприступная преграда между человеком и Божественной Сущностью.
Апофатическая категория «божественный мрак» введена в обиход богословия Нисским святителем, великолепное развитие апофатическая образность приобретает у Дионисия Ареопагита. В произведениях христианского искусства «Божественный мрак» изображается разнообразно. Например, мрак Вифлеемской пещеры окружает фигуру Младенца, пещера же, являясь символом богопознания, сохраняет платонический смысл образа. «Божественный мрак» заполняет мандорлу в иконографии «Успения Пресвятой Богородицы» и тетраморф «Спаса в Силах». Для изображения «неприступного потока божественного светолития» используется золото. Золото наносится на фоны, нимбы, ассист, – заметим, золото выступает из пигментного ряда, будучи металлом, его «свет» неприступен.
Рис. 54. Факсимильное издание Священной топографии Козьмы ИндикопловаСимволизм пронизывает весь образный строй иконы, но именно художественные средства, передающие божественный свет создают принципиальное отличие иконы от картины. На начальном этапе формирования иконографического канона богословские основания символики света в христианском искусстве были разработаны именно Григорием Нисским. В трактате «Об устроении человека» святитель Григорий предстает как экзегет, совершивший переход от символико-аллегорических толкований к мистическим. По Григорию Нисскому, космос включен в природу человека как микрокосма, поэтому и тварному миру присуща мистическая тайна, предельная непознаваемость. По аналогии с учением Григория в иконе мистическим содержанием наполняется не только «личное», но и «доличное»: пейзажный фон, изображение животных, одежды святых. В качестве частного примера обратимся к «палатному письму» – изображению архитектурных мотивов в иконе. Согласно Л.А. Успенскому, – архитектура палатного письма выражает логику не земного, но небесного мира. Архетипом палатного письма в доличном является образ скинии. Согласно Григорию Нисскому, нерукотворная скиния – предел созерцаний Моисея, нерукотворный храм. В «обратной перспективе» храмового искусства и храм может мыслиться как нерукотворное «святилище Боговедения». В нем Моисей созерцает умные силы, поддерживающие вселенную. Отсюда происходит космологическая символика храма, а в иконографической программе его росписей – изображение небесной иерархии, позже приобретающее стройность под воздействием трудов Дионисия Ареопагита.
Айналов указывает на тот факт, что в ранневизантийской книжной миниатюре образ скинии и служил наглядной моделью мирозданья [419] . Айналов указывает, что ранее на храмовый декор влияли античные иллюстрации к трактатам по космологии, а позже – «Священная Топография» Козьмы Индикоплова, в иллюстрации к которой образ скинии вошел как символ вселенной. В развитой иконографии крестовокупольного храма сцены «Страшного Суда» пишутся по схеме, композиционно разработанной в иллюстрациях к «Священной Топографии» [420] . Как неоднократно отмечалось, особенностью символического реализма является сближение мистики и реальности. Наглядным проявлением этого принципа стало органичное сосуществование «мистического» и «реального» планов выражения в языке средневекового искусства, так, в частности, прообразом мозаик, украшающих пол в ранневизантийских храмах, могли служить античные географические карты. Приведем иной пример: в настолпных изображениях орнаментика «позема» под ногами святых повторяла мозаический рисунок реального пола церкви. Такой прием наводил на мысль о единстве Церкви Земной и Церкви Небесной.
Земное и небесное, вещество и дух соединились в ипостаси Иисуса Христа, воплотившемся Слове Отчем. Григорий Нисский посвящает свои рассуждения словесной природе человека. Он подчеркивает, что словесное начало присутствует во всем составе человека, не будучи связано только с умом или с сердцем: «… Не в одном каком-либо члене содержится ум, а обнаруживается во всех и через все, ни из вне не объемлемы, ни из внутри не удерживаемы» [421] .
Отдельная глава (Глава VIII. «Почему облик человека прямой и о том, что руки – для слова, и тут же некоторая философия о различии душ») в трактате посвящена зависимости облика человека от его подобия Воплотившемуся Слову. Григорий Нисский словесной природой связывает прямохождение человека и особую роль рук, свободных при такой постановке тела. «Ведь если бы человек был лишен рук, то, несомненно, у него, по подобию четвероногих, части лица были бы устроены соответственно с потребностью питаться: лицо было бы вытянутым и утончалось бы к ноздрям, у рта выдавались бы вперед губы, мозолистые, твердые и грубые, как это нужно, чтобы щипать траву, между зубами был бы вложен язык не такой, как теперь, а мясистый, жесткий и бугристый, помогающий зубам пережевывать то, что попало в зубы, или влажный, мягкий по краям, как у собак, и прочих хищников, высовывающийся из пилы зубов сквозь щель меду челюстями… Тогда, несомненно, пришлось бы человеку или блеять, или мяукать, или ржать, или реветь, подобно быкам или ослам, или как-нибудь рычать по-звериному» [422] . Заметим, в пассаже присутствует обращение святителя к физиогномике Аристотеля, сочинения которого Григорий Нисский хорошо знал [423] .
Сравнение черт лица с обликом животного для определения особенностей характера человека было известно и Плутарху, физиогномика в античности почти превратилась в отдельную науку. Образ, созданный Григорием посредством уплотнения «животных черт» вызывает в воспоминании разве что «Искушения Святого Антония». Этот негативный образ – совокупность черт звероподобия человека (по трихотомии) – аллегория страстного устроения поползшегося в грех человека, утратившего подобие Слову. Через обратный, апофатический, образ Григорий Нисский приводит читателя к пониманию значения прямохождения и рук, и уст для произнесения слов: «Но теперь, когда телу дана рука, уста удобно служат слову. Следовательно, руки являются особенностью словесной природы, измысленной Зиждителем для удобства слову» [424] . Предварительное сопоставление этого фрагмента текста с семантической структурой иконографического канона позволяет по-новому оценить такие стилистические черты облика святых, как особая прямизна стана в мотиве предстояния и жестко фиксированная семантика жеста кисти руки. Д.В. Айналов отмечает в мозаиках IV-V веков соответствие жестов правилам, принятым в ораторском искусстве. Например, жестикулирует всегда только правая рука или, например, указательный палец, поднесенный к устам – традиционный жест задумчивости. В этом контексте Айналов упоминает руководство по риторике пера Григория Нисского. Клаутова указывает несколько групп, на которые делятся жесты: адорации, благословения, принятия благодати, вопрошания, скорби, поклонения и т.д. [425] , – о чем уже упоминалось. «Словесное начало» в иконе достаточно развито: надписание имени утверждает истинность образа и является актом его освящения. Разнообразны надписи на иконах: это могут быть и богослужебные, и ктиторские тексты.
Григорий Нисский развивает тему устроения органов человека в соответствии с его словесной природой. «Небо принимает идущее снизу звучание своей полостью, и гонит затем через две одинаковые идущие к ноздрям свирели и, разделяя звук надвое двумя хрящами, что возле сита, словно выступающими скорлупами, делает голос громче» [426] . Здесь он переходит к пифагорейской и неоплатонической теме музыкальной гармонии, уподобляя устройство органов речи устройству музыкального инструмента: «Музыка человеческого органа – это, известным образом, смешанная музыка свирели и лиры, словно поющих вместе друг с другом в одном совместном звучании» [427] .
«Как мы видим у музыкантов, что они в зависимости от видов инструментов исполняют разную музыку: на лирах не свиряют, а на свирелях не бряцают, – таким же образом следовало, чтобы устройство органов было соответствующим слову....Ради этого и приданы телу руки» [428] . Все анатомическое устроение человека создано так, что в человеке, по выражению Григория Нисского, «мусикийствует Слово». Музыкальная гармония в античной и в средневековой философии отражает гармонию мирозданья. В изобразительном искусстве музыкальное начало отражено чистотой графического построения, плавными, певучими линиями, цветовыми аккордами, вниманием мастеров к выразительности ритма.
Подводя некоторые итоги, отметим: восточнохристианское искусство включено в «мистерион», таинство богослужения. Образы символического реализма служат преображению человека. Согласно учению каппадокийцев, мирозданье преображается в человеке и вместе с ним. Григорием Нисским фактически закладываются основы учения об иерархии образов, о литургическом символе как об образе, восходящем к Первообразу.
Рассмотрение трактата Григория Нисского «Об устроении человека» приводит к ряду умозаключений:
– разработка Григорием Нисским категории «образ» предвосхищает логико-диалектические построения Иоанна Дамаскина в «Третьем защитительном слове против порицающих святые иконы или Изображения» и иерархию символов в богословии Ареопагита; в трихотомии Нисского святителя «образ» становится связкой между понятиями «ипостась» Тринитарного богословия, «ипостасью» человека (одновременно как «образа Божия» и как «микрокосма»); смысловая полнота образа как литургического символа объединяет градации смыслов от натурфилософского до мистического в динамическое единство, иерархию, возводящую к Первообразу, Богу; в философско-догматическом трактате «образ» стал средоточием онтологических, сотириологических, космологических, гносеологических смыслов эпохи Средневековья;
– в учении о человеке как образе Божием Григорий Нисский закладывает основы богословия иконопочитания, предвосхищая категориальную взаимосвязь Тринитарного, Христологического догматов и догмата Иконопочитания, – закладывая принципиальные основы богословия образа в канонических определениях Пято-Шестого (Трулльского) Собора, догматических определениях Седьмого Вселенского Собора и Торжества Православия и, соответственно, – богословия отцов эпохи иконоборчества: Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и др. В Александрийской традиции создание трактата явилось вехой перехода от символико-аллегорических – к мистическим толкованиям, стало отправным пунктом традиции литургических толкований, дающих прямую проекцию на образный строй восточнохристианского богослужебного искусства;
– в трактате очевидны как преемственность, так и размежевание онтологии Античности и онтологии Средневековья (на фоне полемики с Плотином); анализ апелляции Григория Нисского к VI Эннеаде позволяет выявить важнейшие структурообразующие законы картины мира человека раннего Средневековья: порядок взаимосвязи энергии – потенции – эйдоса, что позволяет рассматривать образ в его отношении к мистериону, таинству; общие положения онтологии и гносеологии, отраженные трактатом «Об устроении человека», дают проекцию на структурные законы формирования канона как художественного стиля эпохи: систему пропорционирования «трех окружностей», обратную перспективу, движение по окружности, соединенное с движением по прямой (как разомкнутое), – в отличие от двух видов: «движения по прямой» и «движения по окружности» – по Аристотелю);
– образы трактата Григория Нисского сами как таковые оказали мощное влияние на формирование и развитие искусства: переход от сигнитивных знаков и символико-аллегорической образности к символическому реализму канона; формирование композиции в соответствии с понятием «типос» («отпечаток») и правилами типологии; трансплантацию имперской иконографии на основание христологической иконографии; разработку образных аналогов категории «царственности» и др.
Анализ влияния философско-догматической системы Григория Нисского на богословие иконопочитания и традицию литургических толкований, на основные этапы формирования христианского символизма позволяет сделать вывод о том, что Григорием Нисским определены основополагающие принципы формирования системы иконографического канона.
ЗаключениеПереход от поздней Античности к раннему Средневековью основывается на смене философских оснований культуры, а именно на поляризации языческого и святоотеческого неоплатонизма и трансформации последнего в философско-догматическую систему.
В философско-догматической системе каппадокийцев размежевание с неоплатонизмом коренится в важнейших положениях онтологии. Философия «великих каппадокийцев» не только определила картину мира человека Средневековья, но укоренена в культуре, благодаря своей институциональной оформленности, поскольку унаследовала институт школы, выработанный платонизмом, где философия принимает на себя нагрузку, могущую быть распределенной между социальными, религиозными, образовательными институтами и наукой. В философско-догматической системе каппадокийцев и, в частности, Григория Нисского наиболее очевидна полемика с учением Плотина об эманации. Григорий Нисский предваряет формирование богословие Ареопагита в аспекте учения об иерархии. Подобно тому, как учение Плотина проецируется на имперскую идеологию времен Аврелиана с принятой новой формулой титулования «доминус», так и святоотеческое учение об иерархии легло в основу политической идеологии ранневизантийского государства. Идея Григория Нисского о «связности и упорядоченности того, что кажется противоположным» определила особенности византийской культуры, как то: соединение в теории симфонии государства и церкви – социальных институтов с принципиально несхожими генезисом и целями; сосуществование в Византии «двух философий» (античной философии и философско-догматической системы патристики); взаимную дополнительность монашества с его духовным авторитетом и светской власти.
Каппадокийцы развивают линию «апологии культуры», восходящую к Клименту Александрийскому и Оригену. С наибольшей последовательностью они проводят ее в годы правления венценосного неоплатоника Юлиана Отступника, противопоставляя язычеству – христианство, неоплатонизму – философско-догматическую систему, языческой культуре – христианскую культуру. Активность воздействия каппадокийцев на культуру определяется, главным образом, тем, что ими разрабатывалась догматика, богослужение, обряд и гомилетика ранневизантийской церкви. Миссионерский, юридический, педагогический характер деятельности каппадокийцев интенсифицировал это воздействие.
Философский аспект учения «великих каппадокийцев» с максимальной полнотой отражен философско-догматической системой Григория Нисского. Ее средоточием стало учение о человеке, определяемое как символический реализм. Исключительное значение антропологии в культуре Средневековья обусловлено ее сотириологическим смыслом: антропология – учение о вочеловечении Бога и обожении человека.
Григорий Нисский вошел в историю философии в качестве основоположника антропологии как самостоятельной сферы философского знания, соединившей медицинские, научные, натурфилософские, философские и мистико-догматические представления своей эпохи. Григорием Нисским в обиход культуры раннего Средневековья введены определения сущности и ипостаси человека. Богословский аспект учения о человеке Григория Нисского основывается на Тринитарном и Христологическом догматах. Философский же аспект, включающий разработку основных положений ранневизантийской онтологии, антропологии, космологии, гносеологии послужил основанием как христианской культуры в целом, так и картины мира в богослужебном искусстве.
Ключевым понятием антропологии и богословия иконопочитания является категория «образ». Его смысловая насыщенность обусловлена генезисом философского синтеза каппадокийцев. Символический реализм христианской культуры и искусства опирается на традицию философских синтезов, эллинской и иудейской экзегезы, мистико-догматического вероучения христианства. Эти источники богословия образа легли в основу антропологии Григория Нисского как представителя святоотеческого неоплатонизма.
Каппадокийская философия ассимилировала и преодолела неоплатонизм, но она же стала связующим звеном между александрийской экзегетической и философской традицией с одной стороны, и богословием образа и традицией литургических толкований – с другой. Преемниками каппадокийского богословия стали отцы Пято-Шестого (Трулльского) Собора, утвердившего канон иконопочитания, преподобный Иоанн Дамаскин, отцы VII Вселенского Собора, утвердившего догмат Иконопочитания, преподобный Максим Исповедник и его преемники по линии литургических толкований.
Этапы становления философско-догматического учения отразились в развитии христианского символизма в культуре и искусстве, его образно-стилистическом строе. Стадии развития философии соответствуют основным этапам становления восточно-христианского канона: раннехристианского символизма, искусства «византийского антика», символического реализма канона.
На образный строй каждого из этих этапов свое влияние оказывает антропология. Так неоплатоническая теория метемпсихоза и святоотеческая теория дихотомии лежат в основе развеществеления духа в раннехристианском символизме, а на следующих этапах («византийский антик», символический реализм) определяющими становятся теория трихотомии и учение о перихорезисе – основа антропологии Григория Нисского.
Главенствующим свойством учения о человеке Нисского святителя является сопряжение полюсов реалий земного бытия и мистического богословия в единстве образа. Литургический образ наделен «силами» (энергиями, точнее синергией), приближающими человека к тайне Божественной Сущности. Раскрытие образа Божия в человеке, обожение человека, – определяет образно-стилистическую систему канона.
Положения трактата Григория Нисского «Об устроении человека» предварили становление символического реализма в культуре Византии, а в прикладном аспекте определили основные принципы формирования образно-стилистической системы иконографического канона (его сюжетно-иконографического комплекса; обратной перспективы; системы пропорционирования «трех окружностей» и др.).
Следует отметить непосредственное влияние Григория Нисского на художественный процесс, о чем свидетельствует блюдо с рельефным изображением и надписью из Рождественской гомилии Григория Нисского, а также его экфрасисы. Итак, положения трактата Григория Нисского «Об устроении человека» заложили основные принципы формирования и развития восточнохристианского канона, предварили становление символического реализма в ранневизантийском искусстве и культуре, обозначили картину мира человека Средневековья.
Не подлежит сомнению: насколько христианство определило основы европейской культуры, ее духовный строй, настолько символический реализм предварил формирование картины мира и символических форм в искусстве, запечатлевшем совокупность этих представлений.
Список литературы1. Святой Андрей, архиепископ Кессарийский. Толкование на Апокалипсис. – М.: Издательство Иосифо-Волоколамского монастыря, – 1992. – 220 с.
2. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Наука, – 1997. – 343 с.
3. Аверинцев С.С. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья / С. С. Аверинцев // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации: сб. науч. ст. – М.: Наука, – 1985. – С. 5-20.
4. Айналов Д.В. Византийская живопись XIV века. / Д.В. Айналов // Записки классического отделения Русского Археологического общества – 1917. – IX. – отдельный оттиск.
5. Айналов Д.В. Мозаики IV – V веков. Исследования в области иконографии и стиля древнехристианского искусства. – СПб., [б.и.], 1895. – 199 с.
6. Айналов Д.В. Синайские иконы восковой живописи / Д.В. Айналов // Византийский временник – 1902. – XI. – отдельный оттиск – 35 с.: 5 табл.
7. Айналов Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. Исследования в области ранневизантийского искусства. – СПб.: тип. П.Н. Скороходова, – 1900. – 229 с.
8. Александр (Салтыков), протоиерей. Священная живопись Афона. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского института, – 1996. – 44 с.
9. Алексеев С. Что нужно знать о православной иконе. – СПб.: Статис, – 2000. – 80 с.
10. Античные теории языка и стиля. – СПб.: Алетейя, – 1996. – 368 с.
11. Апокалипсис святого Иоанна Богослова. Сборник святоотеческих и богословских истолкований; сост. М. Барсов. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. – 1999. – 280 с.
12. Аренц М. Избранные сочинения по литургике Т.I. Таинства Византийского Евлохия. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы., 2003. – 616 с.
13. Аристотель. Сочинения: в 4 т. – М.: Мысль, – 1981. – 613 с.
14. Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия: введение в античную философию. – СПб.: Издательство Олега Обышко, – 2003. – 256 с.
15. Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге: сб. ст. / ред. И.П.Медведев – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1995. – 463 с.
16. Асмус В.Ф. История античной философии. – М.: Высшая школа, 1965. – 320 с.
17. Афанасьев К.Н. Геометрический анализ Софии в Константинополе /К.Н. Афанасьев – // Византийский временник № 5 – М., 1952. – С. 207-215.
18. Афонасин Е.В. «В начале было …». Античный гностицизм в свидетельствах христианских апологетов: фрагменты и свидетельства. – СПб.: Издательство Олега Обышко, – 2002. – 367 с.
19. Афонские древности. Выставка из фондов Эрмитажа: каталог / Автор-составитель В.Н. Залесская. – СПб., Государственный Эрмитаж, 1992. – 61 с.
20. Байе Ш. Византийское искусство. – СПб.: редакция «Вестника изящных искусств», – 1888. – 320 с.
21. Банк А.В. Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа. – Л.: Аврора, 1960. – 470 с.
22. Банк А.В. Прикладное искусство Византии I X – XII: очерки. – М.: Наука, – 1978. – 310 с.
23. Банк А.В. Искусство Византии / А.В. Банк, А.С. Гущин // История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение; ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Изобразительное искусство, – 1982. – С. 13 – 29.
24. Беляев Л.А. Христианские древности. Введение в сравнительное изучение. – СПб.: Алтейя, – 2000. – 576 с.
25. Бенешевич В.Н. Памятники Синая археологические и палеографические. Вып. 1. –Л., [б.и.], 1925. – 55 с.
26. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб.: AXIOMA, – 1992. – с. 229.
27. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб.: МИФРИЛ, – 1995. – 254 с.
28. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. – Пг., [б.и.], 1918. – 975 с.
29. Болотов В.В. Лекции по общей церковной истории. – Спб., [б.и.], 1893. – 304 с.
30. Борбудакис М. От фаюмского портрета к истокам искусства византийских икон (опыт нового подхода). – Гераклейон: викеловская библиотека города Гераклейона, – 1998. – 36 с.
31. Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви. – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2007. – 480 с.
32. Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство. – СПб.: Лига Плюс, –2001. – 352 с.
33. Буслаев Ф.И. О русской иконе. Общие понятия о русской иконописи. – М.: Благовест, – 1997. – 206 с.
34. Бычков В.В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви. – М.: Ладомир, – 1995. – 593 с.
35. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. – Киев: Путь к истине, – 1991. – 421 с.
36. Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре. – М.: Знание, – 1991. – 64 с.
37. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. – М.: Искусство, – 1984. – 264 с.
38. Бычков В.В. Эстетика поздней античности I I – III века. – М.: Наука, – 1981. – 327 с.
39. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. – М.: Искусство, – 1987. – 288 с.
40. Василий Великий, архиепископ Кессарии Каппадокийской. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кессарии Каппадокийския. ч. 1. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, – 1900. – 347 с.
41. Василий Великий, архиепископ Кессарии Каппадокийской. Наставления юношам, как пользоваться языческими сочинениями. – М., [б.и.], – 1899. – 20 с.
42. Васильев А.А. История Византийской империи. (Время до Крестовых походов). – СПб.: Алтейя, – 1998. – 510 с.
43. Вейдле В.В. Крещальная мистерия и раннехристианское искусство / В.В. Вейдле // Умирание искусства. – СПб: Axioma, – 1996. – С.163-192.
44. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Издательство В. Шевчук, – 2002. – 289 с.
45. Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи в XIX веке, – М.: Искусство, – 1987. – 383 с.
46. Вздорнов Г. И. Феофан Грек: творческое наследие. – М.: Искусство, – 1983. – 340 с.
47. Византиеведение в Эрмитаже. К XVIII Международному конгрессу византинистов Москва, 8-15 августа 1991 года; ред. В.С. Шандровская. – Л.: Государственный Эрмитаж, – 1991. – 146 с.
48. Византийское искусство в музеях Советского Союза: альбом / текст А.В. Банк. – Л.: Аврора, – 1985. – 460 с.
49. Византийский сатирический диалог. – Л.: Наука, – 1986. – 192 с.
50. Византийское искусство и литургия. Новые открытия. Краткие тезисы научной конференции, посвященной А.В. Банк (11-12 апреля 1990 г.) Научн. ред. В.Н. Залесская, В.С. Шандровская. – Л., 1991. 48 с.
51. Византия и Ближний Восток. Памяти А.В. Банк. Сборник научных трудов. Под ред. В.С.Шандровской. – СПб.: Государственный Эрмитаж. – 1994. – 164 с.
52. Византия и византийские традиции. К XIX Международному конгрессу византинистов. Копенгаген, 18 – 24 августа 1996 года. Под ред. В.Н.Залесской. – СПб.: Государственный Эрмитаж. – 1996. – 248 с.
53. Византия и Русь. / ред. Г.К. Вагнер – М.: Наука, – 1989. – 336 с.
54. Византия. Русь. Западная Европа: искусство и культура. Тезисы докладов конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.Н. Лазарева ( 1897 –1976)., Москва, 29 сентября – 2 октября 1997. – СПб.: Дмитрий Буланин. – 1997. – 38 с.
55. Византия. Херсон. Каталог. – М., [б.и.], 1991. – 253 с.
56. Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: Искусство и культура. Сборник статей в честь В.Н. Лазарева. – М.: Наука. – 1973. – 592 с.
57. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь: в 3 т. Т.I. / В.Г. Власов – СПб.: Кольна – 1995. – с. 671.
58. Восточнохристианский храм. Литургия и искусство: сб. ст. / ред. А.М. Лидова – СПб.: Дмитрий Буланин. – 1994. – с. 325.
59. Восточные отцы и учители Церкви IV века: антология. В 3 т. – М.: Издательство МФТИ.
60. Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной Литургии. – Л.: Альфа. – 1991. – 123 с.
61. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., [б.и.], – 1995. – 372 с.
62. Горелова Е.Б. Проблемы иконографии Акафиста Богоматери в искусстве Византии и Древней Руси XIV века. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. / Е.Б. Горелова; МГУ – М., 1990. – 26 с.
63. Горностаев И.И. Древнехристианское искусство. Отд. I. – СПб., – 1864. – 112 с.
64. Горностаев И.И. История изящного искусства: лекции. Отделы: 1 – Древнехристианский, 2 – Византийский / И.И. Горностаев. – СПб., № 17, – 1874. – 99 с.
65. Грабар А. Император в византийском искусстве – М.: Ладомир, – 2000. – 328 с.
66. Григорий Богослов, святитель. Собрание творений: в 2 т. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. – 1994. – 1284 с.
67. Святой Григорий Двоеслов, епископ Римский. Собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. – М.: Благовест. – 1996. – 320 с.
68. Григорий Нисский, святитель. О блаженствах. – М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского. – М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, – 1997. – 128 с.
69. Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. – 175 с.
70. Григорий Нисский, святитель. О молитве. – М.: Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. – 1999. – 112 с.
71. Григорий Нисский, святитель. О надписании псалмов. – М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, – 1998. – 144 с.
72. Григорий Нисский, святитель. Творения святого Григория Нисского: в 8 частях. – М., [б.и.], 1861-1871. – 8 т.
73. Григорий Нисский, святитель. Точное истолкование Экклесиаста Соломонова. – М.: Издательство им. свт. Игнатия Ставропольского, – 1997. – 160 с.
74. Григорий Палама, святитель. Беседы: в 3 т. – М.: Издательский отдел Валаамского монастыря, – 1994.
75. Григорий Палама, святой. Триады в защиту священно-безмолвствующих. – М.: Канон, – 1996. – 383 с.
76. Грякалов А.А. Письмо и событие. Эстетическая топография современности. – СПб.: Наука, 2004. – 484 с.
77. Гуревич А.Я. Избранные труды: в 2 т. Т.2 Средневековый мир / А.Я. Гуревич. – М. – СПб.: Университетская книга, – 1999. – 559 с.
78. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X – XIII вв. – М.: Искусство, – 1975. – 350 с.
79. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии. – М.: Индрик, – 2001. – 160 с.
80. Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. – М.: Библейско-богословский институт св. Апостола Андрея, Центр Библейско-патрологических исследований отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви, 2007. – 554 с.
81. Десницкий А.С. Семитские истоки византийской литургической поэзии. – // А.С. Десницкий. Традиции и наследие Христианского Востока: материалы международной конференции. – М.: Индрик, –1996. – С. 209-220.
82. Деяния VII Вселенского Собора. – Казань. [б.и.], – 1891. (репринт б.м., б.г.) – 336 с.
83. Деяния Вселенских Соборов: в 4 т. – СПб.: Воскресение, Паломник, – 1996. – 4 т.
84. Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. – М.: Индрик, – 2000. – 85. 592 с.
86. Диллон Дж. Средние платоники. – СПб.: Издательство Олега Обышко, Алетейя, – 2002. – 447 с.
87. Диль Ш. Византийские портреты. – М.: Искусство, – 1994. – 448 с.
88. Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии. О божественных именах. – СПб.: Глагол, – 1992. – 371 с.
89. Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. – СПб.: САТИСЪ, – 1996. – 68 с.
90. Дмитриевский И. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. – М.: Альфа, – 1984. – 125 с.
91. Достопямятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, – 1993. – 224 с.
92. Древний патерик. – М.: Планета, – 1991. – 432 с.
93. Древний патерик. – М.: тип. И. Ефимова., – 1899.
94. 432 с.
95. Евсевий Кессарийский. Церковная история. – М.: Паломник, – 1995. – 177 с.
96. Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV века. О методах работы и моделях средневекового художника. – М.: Искусство, – 1998. – 382 с.
97. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. – М.: Мартис, – 2003. –220 с.
98. Ерминия, или Наставления в живописном искусстве, составленное иеромонахом и живописцем Дионисием Фурнографиотом / Дионисий Фурнографиот // Труды Киевской Духовной Академии. – Киев, – 1868. – Т. I. – С. 269 – 315, С. 526 – 570; Т. II. – С. 494 – 563; Т. IV. – С. 355 – 445.
99. Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. / В.М. Живов //Художественный язык средневековья: сб. науч. ст.; отв. ред. В.А. Карпушин. – М.: Наука, – 1982. – С. 108 – 127.
100. Жития византийских святых: пер. С. Поляковой. – СПб.: Корнус, 1995. – 544 с.
101. Залесская В.Н. Прикладное искусство Византии IV – XII веков: опыт атрибуции. – СПб.: Государственный Эрмитаж, – 1997. – 109 с.
102. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. – М.: Паломник, – 1996. – 694 с.
103. Зеньковский В.В. Об образе Божием в человеке. / В.В. Зеньковский // Православная мысль. – Пг., 1931. № 1. – С. 102-128.
104. История египетских монахов. – М.: Издательство Свято-Тихоновского Богословского Института, – 2001. – 128 с.
105. Илларион (Алфеев), игумен. Жизнь и учение св. Григория Богослова. – СПб.: Алтейя, – 2001. – 513 с.
106. Илюшечкин В.Н. Античная физиогномика. / В.Н. Илюшечкин // Человек и общество в античном мире. – М.: Наука, – 1998. – С. 441-465.
107. Ильин В.Н. Запечатанный гроб и Пасха Нетления. Объяснения служб Страстной седмицы и Пасхи. – Клин: Фонд Христианская жизнь, – 2001. – 144 с.
108. Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, – 1993. – 218 с.
109. Иоанн Златоустый, архиепископ Константинопольский. Избранные творения. Беседы на Книгу Бытия. Т. I. – Сергиев Посад: Издательство Троице-Сергиевой Лавры, – 1993. – 903 с.
110. Игумен Иоанн (Экономцев). Исихазм и восточноевропейское Возрождение. // Богословские труды. М., 1989 № 29. с. 59-73.
111. Искусство Византии в собраниях СССР: каталог выставки. / авт.-сост. А.В. Банк, М.А. Бессонова. – В 3 т. – М.: Советский художник, – 1977. – 192с.,180 с., 156 с.
112. Искусство Византии и Древней Руси. – СПб.: Искусство, – 1996. – 37 с.
113. Искусство Византии и Древней Руси. Москва, 24 – 26 сентября 1996 года. К 100-летию А.Н. Грабара. – СПб., 1996. – 59 с.
114. Искусство Руси и стран Византийского мира XII в.: тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь 1995 г. / отв. ред. О.Е. Этингоф. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1995. – 51 с.
115. Искусство Руси, Византии и Балкан XIII в.: тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь 1994. / отв. ред. О.Е. Этингоф. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1994. – 60 с.
116. Искусство Руси, Византии и Балкан ХIII – первой половины XV века: к XIII Международному Конгрессу византинистов (8-15 августа 1991 г. Москва.) / отв. ред. Г.Г. Литаврин. – М.: [б.и.], 1991. – 637 с.
117. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: сб. ст. / ред. П.А. Гринцер. – М.: Наследие, – 1994. – 512 с.
118. Историческое, догматическое и таинственное изъяснение Божественной Литургии. Основано на Священном Писании, Правилах Вселенских и Поместных Соборов, и на Писании св. Отцов Церкви. /сост. И. Дмитриевский. – М.: Издательский отдел Московского Патриархата, – 1993. – 428 с.
119. История Византии /ред. С.Д. Сказкина. Т. 1. – М.: Наука, – 1967. – 523 с.
120. История развития формы креста. Краткий курс православной ставрографии. / сост. К.В.П. – М.: Жизнь вечная, – 1997. – 32 с.
121. Каждан А.П. Византийская культура (X –XII вв.) – СПб.: Алетейя, – 1997. – 284 с.
122. Казанский П.С. История православного монашества на Востоке: в 2 т. – М.: Паломник, – 2000. – 2 т.
123. Карташев А.В. Вселенские Соборы. – М.: Республика, – 1994. – 542 с.
124. Архимандрит Киприан (Керн). Антропология святого Григория Паламы. – М.: Паломник, – 1996. – 450 с.
125. Архимандрит Киприан (Керн). Евхаристия. – М.: Издательство храма Космы и Дамиана на Маросейке, – 1997. – 336 с.
126. Архимандрит Киприан (Керн). Золотой век Свято-Отеческой письменности. – М.: Паломник, – 1995. – 177 с.
127. Архимандрит Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и эортология. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, – 1997. – 152 с.
128. Архимандрит Киприан (Керн). Патрология. – Киев: Общество любителей православной литературы. Издательство имени святителя Льва, папы Римского, – 2003. – 304 с.
129. Клаутова О.Ю. Жест в древнерусской литературе и иконописи XI – XIII веков. К постановке вопроса. // Труды Отдела Древнерусской литературы. т. XLVI – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1993. – С. 256-269.
130. Коллекция РАИК в Эрмитаже: каталог выставки. /ред. В.С. Шандровской – СПб.: Государственный Эрмитаж, – 1994. – 248 с.
131. Ключ к пониманию Священного Писания. – Брюссель.: Жизнь с Богом, – 1982. – 689 с.
132. Комеч А.И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве / А.И. Комеч // Искусство Западной Европы и Византии. – М.: Наука – С. 209-223.
133. Кондаков Н.П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. – Одесса: тип. Ульриха и Шульце, – 1876. – 318 с.
134. Кондаков Н.П. / Никодим Павлович Кондаков 1844-1925: Личность, литературное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. Каталог. – СПб., PALACE EDITION. –2001. – 167 с.
135. Кондаков Н.П. Мозаики мечети Кахрие-Джамиси в Константинополе. – Одесса: тип. Г. Ульриха, – 1881. – 39 с.
136. Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. – СПб.: № 17, 1902. – 320 с.
137. Корольков А.А. Духовная антропология. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, – 2005. –324 с.
138. Крест Господень. /сост. Е. Помельцова. – М.: Паломник, – 1998. – 176 с.
139. Кривушин И.В. Ранневизантийская церковная историография. – СПб.: Алтейя, – 1998. – 256 с.
140. К свету. Символика русского храмоздательства. – М., 1992. – № 17. – 315 с.
141. Кулаковский Ю.А. История Византии. 395-518 годы. – СПб.: Алетейя, – 1996. – 448 с.
142. Культура Византии IV – первой половины VII в. / отв. ред. З.В. Удальцова – М.: Наука, – 1984. – 725 с.
143. Культура Византии XIII – первой половины XV в. / отв. ред. Г.Г. Литаврин. – М.: Наука, – 1991. – 641 с.
144. Культура Византии второй половины VII – XII в. / отв. ред. З.В. Удальцова. – М.: Наука, – 1989. – 680 с.
145. Культура и искусство Византии: краткие тезисы докладов научной конференции Ленинград: 6 – 10 октября 1975 г. – Л.: [б.и.], 1975. – 48 с.
146. Культуральная антропология: сб. ст. / ред. Ю.Н. Емельянов, Н.Г. Скворцова. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета, – 1996. – 187 с.
147. Курбатов Г.Л. Политическая теория в ранней Византии. Идеология императорской власти и политическая оппозиция – / Г.Л. Курбатов // Культура Византии: IV – первая половина VII века; ред. З.В. Удальцова. – М.: Наука, – 1984. – С. 98 –118.
148. Лавсаик или повествование о жизни святых и блаженных отцов. – М.: Издание Донского монастыря, – 1992. – 192 с.
149. Лазарев В.Н. Византийская живопись. – М.: Искусство, – 1971. – 408 с.
150. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы, – М.: Наука, – 1978. – 335 с.
151. Лазарев В.Н. История византийской живописи: в 2 т. Т. 1. – М.: Искусство, – 1947. – 456 с.
152. Лазарев В.Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи X-XII веков. И их истоки. – / В.Н. Лазарев. Византийская живопись – М.: Наука, – 1960. – С. 147 – 169.
153. Лега В.П. Философия Плотина и патристика: взгляд с точки зрения современной апологетики. – М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского института, – 2002. – 124 с.
154. Литургия, архитектура и искусство византийского мира. Труды XVIII Международного конгресса византинистов (Москва, 8 – 15 августа 1991 г.) и другие материалы, посвященные памяти о. Иоанна Мейендорфа; ред. К.К. Акентьев т. I. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1995. – 412 с.
155. Лихачева В.Д. Византийская миниатюра. – М.: Искусство, – 1977. – 236 с.
156. Лихачева В.Д. Византийская миниатюра: памятники византийской миниатюры I X – XV веков в собраниях Советского Союза. – М.: Искусство, – 1977. – 152 с.
157. Лихачева В.Д. Иконографический канон и стиль палеологовской живописи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – / В.Д. Лихачева; АХ, – Л.: 1965. –16 с.
158. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV вв. – Л.: Искусство, – 1981. – 312 с.
159. Лихачева В.Д. Традиции античного искусства в ранневизантийской станковой живописи (иконы «Богоматерь с Младенцем» и «Сергий и Вакх» из собрания Киевского музея) – М.: 1977. – (Отд. отт. из «Византийских очерков». С. 236 – 244).
160. Лосев А.Ф. Вершины человеческой мысли: высокая классика. – Харьков: «Фолио». – М.: Издательство АСТ, – 2000. – 624 с.
161. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. – М.: Искусство, – 1994. – 604 с.
162. Лосев А.Ф. История античной эстетики: поздний эллинизм. – М.: Мысль, – 1981. – 767 с.
163. Лосев А.Ф. История античной эстетики: последние века. – М.: Мысль, – 1992. – 753 с.
164. Лосев А.Ф. История античной эстетики: ранний эллинизм. – М.: Мысль, – 1979. – 656 с.
165. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Софисты, Сократ, Платон. – М.: Искусство, – 1969. – 680 с.
166. Лосев А.Ф. Миф – Число – Сущность. – М.: Мысль, – 1994. – 919 с.
167. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. – М.: Мысль, – 1993. – 960 с.
168. Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля / А.Ф. Лосев // «Вопросы эстетики», вып. 6, – М., 1964. – С. 351 – 374.
169. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий – М.: Искусство, – 1965. – 217 с.
170. Лосев А.Ф. История эстетических категорий / А.Ф. Лосев, В.П. Шестаков. – М.: 1965. – 374 с.
171. Лосский В.Н. Богословие и боговидение – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, – 2000. – 632 с.
172. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. – М.: Центр «СЭИ», – 1991. – 288 с.
173. Лурье В.М. Апокатастасис и свобода воли. //SCRINIUV/Журнал патрологии, критической агиографии и церковной истории. Т. 2. СПб.: Byzantinorossica– С.470-480.
174. Лурье В.М. История византийской философии. – СПб.: AXIOMA, 2006. 551 с.
175. Лурье В.М. Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте. – СПб.: Алетейя, – 2000. –249 с.
176. Макарий (Оксиюк), митрополит. Эсхатология св. Григория Нисского. Историко-догматическое исследование – Киев: Петр Барский в Киеве, – 1914. – 667 с.
177. Максим Исповедник / Творения преподобного Максима Исповедника: в 2 т. – М.: Мартис, – 1994.
178. Малков П. Образ пещеры в античном и христианском символизме. // Альфа и Омега № 21 (13) – М., 1997. – С. 241-258.
179. Малков Ю.Г. Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии Ю.Г. Малков // Советское искусствознание – 77 – М. – 1978, – № 2 – С. 93 – 121.
180. Марков Б.В. Знаки бытия. – СПб.: Наука, 2001. – 566 c.
181. Мартынов А.В. Учение святого Григория Нисского о природе человека (Опыт исследования в области христианской философии IV века). – М.: Тип. В.Г. Волчанинова, – 1886. – 388 с.
182. Мартынов А.В. Эсхатология св. Григория Нисского. / А.В. Мартынов // «Прибавления» – Казань. [б.и.], 1886.
183. Материкон. Собрание наставлений аввы Исайи всечестной инокине Феодоре. – М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. – 1995. – 206 с.
184. Матье М.Э. Греко-римский и византийский Египет: путеводитель по выставке. / М.Э. Матье, К.С. Ляпунова. – Л.: Изд. Государственного Эрмитажа. – 1939. – 58 с.
185. Мацулевич Л.А. Византия и эпоха великого переселения народов. Краткий путеводитель. – Л.: Изд. Государственного Эрмитажа, – 1929. – 59 с.
186. Мейендорф Иоанн. Византийское богословие: исторические направления и вероучение. – М.: Когелет. – 432 с.
187. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История церкви и восточно-христианская мистика. – М.: Институт ДИ-ДИК. Православный Свято-Тихоновский богословский институт, – 2000. – 576 с.
188. Миллер Т. Александрийская экзегеза / Т. Миллер // Патристика: новые переводы, статьи. – Нижний Новгород: Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, – 2003. – С. 204 – 253.
189. Мир русской византинистики: материалы архивов Санкт-Петербурга. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 2004. – 832 с.
190. Мистическое богословие. – Киев: Путь к истине, – 1991. – 391 с.
191. Наследие русских византинистов. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1999. – 432 с.
192. Некрасов А.И. Лекции по византийско-русскому искусству, читаемые в Московском Высшем женском училище в 1912-1922 гг. – М., 1922. – 64 с.
193. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья. – СПб.: Азбука, – 2000. – 384 с.: илл.
194. От берегов Босфора до берегов Ефрата: антология ближневосточной литературы I тысячелетия н. э. – М.: МИРОС, – 1994. – 350 с.
195. Очерки истории Древней Церкви на Востоке. – Казань, [б.и.], 1912. – 48 с.
196. Палестинский патерик. Житие преподобного Саввы Освященного. – Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, – 1996. – 272 с.
197. Панофский Э. IDEA: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. – СПб.: AXIOMA, – 1999. – 228 с.
198. Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории стилей. – / Э. Панофский // Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», – 1999. – 394 с.
199. Панофский Э. Перспектива как символическая форма”, – СПб.: Азбука-классика, – 2004. – 336 с.
200. Петр (Пиголь), игумен. Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники. – М.: К свету, – 1999. –208 с.
201. Писарская Л.В. Памятники византийского искусства V – XV вв. в Государственной Оружейной палате. – Л. – М.: Искусство, – 1964. – 104 с.
202. Пифагорейские золотые стихи с комментарием Гиерокла. – М.: Алетейя, Новый Акрополь, – 2000. –156 с.
203. Плотин. Избранные трактаты. – Минск: Харвест, М.: АСТ – 2000. – 320 с.
204. Покровский Н.В. Лекции по церковной археологии, читанные студентам Санкт-Петербургской Духовной Академии. – СПб: [б.и.], 1884. – 270 с.
205. Покровский Н.В. История христианского искусства в первые восемь столетий. – СПб. [б.и.], – 1883, – 16 с.
206. Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии византийской и русской. – СПб, [б.и.], 1892. – 496 с., 226 рис.
207. Покровский Н.В. Происхождение древнехристианской базилики. Церковно-археологическое исследование. – СПб., [б.и.], – 1880. – 212 с., 9 табл.
208. Покровский Н.В. Памятники искусства и иконографии в древнехристианский период. – Б.м., – 1894. – 326 с. 6 л. илл.
209. Покровский Н.В. Очерки памятников православной иконографии и искусства. – СПб., [б.и.], – 1894. – 327 с.
210. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии. – СПб., [б.и.], – 1900. – 450 с.
211. Покровский Н.В. Очерки памятников христианской иконографии искусства. – Пг., [б.и.], – 1916. – 340 с.
212. Покровский Н.В. Памятники христианской архитектуры, особенно византийские и русские. – СПб., [б.и.], – 1901. – 160 с.
213. Полевой В.М. Искусство Византии. /В.М. Полевой // Всеобщая история искусств в 6 т. Т. I I . – М.: Искусство, – 1960. – С. 25 –236.
214. Поляковская М.А. Византия: быт и нравы./ М.А. Поляковская, А.А. Чекалова. – Свердловск: Издательство Уральского университета. – 1989. – 304 с.
215. Попова Т.В. Античная биография и византийская агиография. / Т.В. Попова // Античность и Византия; отв. ред. Л.А.Фрейберг. – М.: Наука, – 1975. – С. 218 –266.
216. Попов И.В. Элементы греко-эллинской культуры в истории древнего христианства. – М.: [б.и.], – 1909. – 40 с.
217. Архимандрит Порфирий (Попов). Св. Григорий, епископ Нисский. // «Прибавления» ХХ, 1861. – Казань. 1886.
218. Припачкин И.А. Иконография господа Иисуса Христа. – М.: Паломник, – 2001. – 223 с.
219. Прокл. Платоновская теология. – СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института ИТД Летний сад, – 2001, – 623 с.
220. Протасов Н.Д. Греческое монашество в Южной Италии и его церковное искусство. – Сергиев Посад: Тип. Сергиевой Лавры, – 1915. – Отд. отт. из “Богословского вестника” 1915.
221. Платон. Сочинения: в 3 т. – М., 1968 – 1972.
222. Пуцко В.Г. Античные мотивы в гомилиях Григория Назианзина и их отзвуки в византийской иллюстрации. / В.Г. Пуцко // Античность и Византия; отв. ред. Л.А.Фрейберг. – М.: Наука, – 1975. – С. 326 – 339.
223. 210. Пятницкий Ю.А. Иконы с Афона из собрания Эрмитажа / Ю.А.Пятницкий // Сообщения Государственного Эрмитажа, – 1988. Вып. LIII, – С. 42-44.
224. 211. Пятницкий Ю.А. О происхождении некоторых икон из собрания Эрмитажа. / Ю.А. Пятницкий // Восточное Средиземноморье и Кавказ IV-XVI вв. – Л., 1988. – С. 126-140.
225. 212. Пятницкий Ю.А. О судьбе византийской портативной мозаики в России / Ю.А. Пятницкий //Византия и Ближний Восток (памяти А.В. Банк): сборн. Научн. трудов. – СПб.: Государственный Эрмитаж. –1994. –С.108 –116.
226. Архимандрит Рафаил. О языке православной иконы. – СПб.: [б.и.], 1997. – 69 с.
227. Редин Е.К. Античные боги (планеты) в лицевых рукописях: Сочинения Козьмы Индикоплова. – СПб., [б.и.], – 1909 – 15 с.
228. Рудаков А.П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. – СПб.: Алтейя, – 1997. – 304 с.
229. Руководство к изучению христианского, православно-догматического богословия. – М.: Синодальная типография. – 1913. –370 с. Репринт.
230. Савина С.Г. Иконография: богословские очерки иконографического извода. – СПб.: Церковь и культура, – 2001. – 304 с. с илл; цв вкл.
231. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. – М.: КомКнига, 2006 – 1008 с.
232. Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика. – СПб.: Издательство Русского Христианского института, – 1996. – 232 с.
233. Светлов Р.В. Гнозис и экзегетика. – СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, – 1998. – 480.
234. Семенов В.В. Архетипика сознания в неоплатонизме и патристике: Автореферат на соискание ученой степени кандидата философских наук:/ В.В. Семенов; РГПУ. – РГПУ им. А.И. Герцена, СПб., 2006.
235. Сидоров А.И. Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. – М., [б.и.], 1996. – 348 с.
236. Сидоров А.И. Священное писание в египетском монашестве IV в. (На материале греческой версии творений св. Аммона) – «Традиции и наследие Христианского Востока. Материалы международной конференции». – М.: Индрик, – 1996. – С. 343-358.
237. Симаков М. Пифагорейцы. – М.: НОУ луч, – 2004. – 96 с.
238. Преподобный Симеон, архиепископ Фессалоникийский. Сочинения. – СПб.: Галактика, – 1994. – 555 с.
239. Смысл и назначение Православно-Христианского ежедневного Богослужения. – М.: Даниловский благовестник, – 1970. – 68 с.
240. Старостин Б.А. Византийская наука в контексте средневековой культуры / Б.А. Старостин // Античность и Византия; отв. ред. Л.А. Фрейберг. – М.: Наука, – 1975. – С. 386-398.
241. Таруашвили Л.И. Тектоника визуального образа в поэзии античности и христианской эпохи. К вопросу о культурно-
исторических предпосылках ордерного зодчества. – М.: Языки русской культуры, – 1998. – 376 с.
242. Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. – СПб.: Алтейя, – 2000. – 160 с.
243. Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. – 720 с.
244. Тахо-Годи А.А.. О древнегреческом понимании личности на материале термина soma – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 362-381.
245. Тахо-Годи А.А.. Термин «символ» в древнегреческой литературе – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 329-361.
246. Тихомиров Д.И. Святой Григорий Нисский как моралист. – Могилев-на-Днепре, – 1886. – 384 с.
247. Трифунович Л. Югославия: Памятники искусства от древности до наших дней. – Белград: Jугословенска кньига, – 1989. – 400 с.
248. Троицкий Н. И. Влияние космологии на иконографию византийского купола. – Тула: Тип И.Д.Фортунатова, – 1898. – 5 с.
249. Уваров А.С. Христианская символика. Символика древнехристианского периода. – М.: Издательство Свято-Тихоновского Богословского института, – 2001. – 244 с.
250. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. М.: Издательство Западно-Европейского экзархата, – 1989. – 476 с.
251. Феодор Студит. Второе опровержение иконоборцев. / Феодор Студит // Символ; 18, декабрь – 1987. – С. 253 – 268.
252. Феодор Студит. Первое опровержение иконоборцев. / Феодор Студит // Символ; 18, декабрь – 1987. – С. 249-252.
253. Феодор Студит. Послание к Платону о почитании икон. / Феодор Студит // Символ № 18, декабрь – 1987. – С. 249-252.
254. Феодор Студит. Третье опровержение иконоборцев – / Феодор Студит // Символ № 18 , декабрь – 1987. – С. 295 – 331.
255. Феодорит, епископ Кирский. История или Повествование о Святых Подвижниках. – СПб.: Типография экспедиции заготовления государственных бумаг, – 1853. – 235 с.
256. Феодорит, епископ Кирский. Церковная история. – М.: РОСПСПЭН, – 1993. – 240 с.
257. Феофан Затворник святитель Патерик обители св. Саввы Освященного. Репринт с издания 1891 г. – М.: издательство московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. – 1998. – 239 с.
258. Феофилакт Блаженный, епископ Болгарский. Благовестник. Толкование на святое Евангелие от Луки. – Казань: Типолитография Императорского Университета, – 1896. – 424 с.
259. Феофилакт, архиепископ Болгарский. Благовестник. Толкование на святые Евангелия. Толкование на Евангелие от Матфея. – СПб.: Сатисъ, – 1993. – 180 с.
260. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. – М.: Планета, – 1996. – 336 с.
261. Флоровский Г.В. Восточные Отцы Церкви IV века. – М.: ПАИМС, – 1992. – 240 с.
262. Фрейберг Л.А. Античное литературное наследие в византийскую эпоху / Л.А. Фрейберг // Античность и Византия; ред. Л.А. Фрейберг. – М.: Наука, – 1975. – С. 8-52.
263. Фрейберг Л.А. Памятники византийской литературы IV – VI вв. / Л.А. Фрейберг, Т.В. Попова // Памятники византийской литературы IV – IX вв. – М.: Наука, – 1968. – 290 с.
264. Фрейберг Л.А.. Византийская литература эпохи расцвета IX-XV вв. – М.: Наука, – 1978. – 288 с.
265. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам, III – Тарту, 1967. – С. 381-413
266. Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб.: Алтейя, – 1994. – 448 с.
267. Хосроев А.Л. Александрийское христианство. – М.: Наука, главная редакция восточной литературы, – 1991. – 275 с.
268. Хосроев А. Л. Из истории раннего христианства. – М.: Присцельс, – 1997. – 384 с.
269. Христиане на Востоке. Искусство мелькитов и инославных христиан: каталог выставки; авт. – сост. В.Н. Залесская, Ю.А. Пятницкий, И.Н. Уханова. – СПб.: Славия, – 1998. – 232 с.
270. Христофор (Смирнов). Древнехристианская иконография как выражение древне-церковного веросознания. – М.: [б.и.], – 1886. – 284 с.
271. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М.: Высшая школа, 1991. – 318 с.
272. Чичуров И.С. К проблеме авторского самосознания византийских историков IV – IX вв. / И.С. Чичуров // Античность и Византия; отв. ред. Л.А.Фрейберг. – М.: Наука, – 1975. – С. 203 –217.
273. Чубова А.П. Искусство Восточного Средиземноморья I – IV вв. /А.П. Чубова, М.М. Касперавичюс, И.И. Саверкина, Н.А. Сидорова – М.: Искусство – 1985. – 256 с.
274. Шевырев С. Афонские иконы византийского стиля в живописных снимках, привезенных в Санкт-Петербург П.И. Савостьяновым. – СПб.: [б.и.], – 1859. – 21 с.
275. Шендровская В.С. Культура и искусство Византии. – М.: Искусство, – 1963. – 64 с.
276. Шестаков В.П. Гармония как эстетическая категория. Учение о гармонии в эстетической мысли. – М.: Наука, – 1973. – 256 с.
277. Шестов Л.И. Афины и Иерусалим. – СПб.: Азбука, 2000. – 448 с.
278. Шичалин Ю.А. История античного платонизма в институциональном аспекте. – М.: Греко-латинский кабинет, 2000. – 440 с.
279. Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток: Греческое искусство и его наследники в несредиземноморской Азии. – М: Искусство, – 1985. – 206 с.
280. Щученко В.А. Вечное настоящее культуры. – СПб.: Издательство СПбГУ, – 2001. – 232 с.
281. Этингоф О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI – XIII вв. – М.: Прогресс-традиция,– 2000. – 312с.
282. Языкова И.К. Богословие иконы. – М.: Издательство Общедоступного Православного Университета, – 1995. – 194 с.
283. Яковлев А.И. «Ерминия» Дионисия Фурнографиота и техника икон Феофана Грека. / А.И. Яковлев // Древнерусское искусство XIV – XV вв. – М.: Искусство, – 1984 – С. 7 –29.
284. Ямвлих. О египетских мистериях. – М.: Алетейя, – 2004.– 207с.
285. Ямвлих Халкидский. Комментарии на диалоги Платона. – СПб.: Алетейя, – 2000. – 319 с.
286. Буриh В. Византиjские фреске у Jугославиjи. – Веоград, 1974. – 235 с.
287. Beckwith J. Early Cristian and Byzantine art. – New York, 1974. – 235 р.
288. Callahan О. М. Greek Philosophy and Cappadocian Cosmology. – Dumbarton Oaks Papers (Washington) 12 (1958) – p. 29-57.
289. Colosanti A. L`art Byzantin en Italie. – Paris – Milano. w. е.
290. Dalton O.М. Вyzantine Art and Archeology. – New York, – 732 р.
291. Demus О. Вyzantine mosaic decoration. Aspects of monumental art in Вuzantium. – London. – 98 р.
292. Dumвarton Oaks bibliographies based on Byzantiniche zeitschrift series. Literature on Вyzantine art 1892-1967. Vol. 1 р.1. Washington.
293. Vol 1. Р. 2. London, Vol. 2. Р.2. Mansell. – 1973.
294. Grabar A. Byzantine painting. – Geneva, 1953.
295. Grabar A. Greek mosaics of Byzantine period. Album. – Milano. 1964. – 27 p.
296. Hutter I. Cristian and Byzantine art. Foreword by O. Demus/ – London. Wiedenfeld and Nicolson. – 1971. – 191 p.
297. Kitzinger E. Byzantine Art in the making: Main lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd – 7rd Centuru. – Cambridge. 1977. – 175 p.
298. Larousse encyclopedia of Byzantine and Medival art. (Gen. ed. R. Huyghe; Text by E. Evershed) – London, 1974. – 416 р.
299. L`art pictural Buzantin. Albom, introd. par L.M. Ottolengi. – Paris. 1968.
300. Mango C. The art of the Byzantine empire 312-1453, Sources and documents. – New York. 1972. – 272 p.
301. Mathew G. Byzantine aesthetics. – London. 1963. – 189 p.
302. Michelis P.A. An Aesthetic approach to Byzantine Art. – London. 1964. – 284 p.
303. Musee Byzantin. Afines. Album. – Paris. 1970. – 73p.
304. Овчаров Д. Ранновизантийски паметници от България, IV – VII. / Д. Овчаров, М. Ваклинова – София. 1978. – 75 с.
305. Talbot Rise D. Art of Byzantine Era. – London. 1963. – 286 p.
306. Talbot Rise D. Byzantine art. – Harmondsworth. 1968. – 580 p.
307. Tasker E. Encyclopedia of medieval church art. An album. – London. 1993. – 320 p.
308. The glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843-1261. Metropoliten Museum of Art. Cop. 1997. XXVIII. – New York. 1997.
309. Аверинцев С.С. Символизм раннего средневековья (К постановке вопроса) Режим доступа: Алымов В.. Лекции по исторической литургике: Режим доступа: Барсов Н. Гомилетика. Словарь Брокгауза и Ефрона. Режим доступа: Блонский П.П. Философия Плотина. – Режим доступа: Десницкий А. Экзегеза Св. Григория Нисского («О жизни Моисея»): заметки на полях:Бороздин А. Риторика. Словарь Брокгауза и Ефрона. Режим доступа: Стрельченко В.И. Проблема антропологического синтеза и перспективы философии образования. Режим доступа: http://idefshistory.оrg.ru/pdfs/16strelchenco.pdf
Примечания
1
Гегель Г.В.Ф.. Лекции по истории философии. Т.I. – СПб., 1999. С. 146.
2
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Т.I. – СПб., 1999. С. 119.
3
Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. – СПб.: Алетейя, 2000.
4
Григорий Чудотворец. Благодарственная речь Оригену. Цит. по: игумен Илларион (Алфеев) Жизнь и учение Григория Богослова. – СПб.: Алетейя, 2001. С.101.
5
Григорий Богослов, святитель. Слово 43, надгробное Василию, архиепископу Кессарии Каппадокийской / Святитель Григорий Богослов // Собрание творений. Репринтное издание.Т. I. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. С. 611.
6
Григорий Богослов. Слово 43. Цит. по: Илларион (Алфеев), игумен. Жизнь и учение св. Григория Богослова. – СПб.: Алетейя. 2001. С.103.
7
Шичалин Ю.А.. История античного платонизма в институциональном аспекте. – М.: Греко-латинский кабинет, – 2000, сс. 294-295.
8
Григорий Нисский. Жизнь Макрины. Цит.по: Попов И.В. Василий Великий. // Христианство. Энциклопедический словарь. Гл. ред. С.С. Аверинцев. Т.I – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. С.339.
9
Авторитет Василия привлекает подвижников, возникает ряд монастырей по течению Ириса, для которых Василием был написан устав, легший впоследствии в основу Студийского устава.
10
Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века. – М.:ПАИМС, 1992. С.10-14.
11
Лурье В.М. История византийской философии. Формативный период./ В.М. Лурье при участии В.А. Баранова. – СПб.: AXIOMA, 2006, С. 86.
12
К моменту перенесения столицы в Константинополь в 330 г. своей кафедры там не было, к 379 г. она была крайне малочисленной.
13
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология святого Григория Паламы / архимандрит Киприан (Керн); предисл. А.И. Сидорова. – М.: Паломник, 1996. Архимандрит Киприан (Керн). Золотой век Свято-Отеческой письменности / Архимандрит Киприан (Керн) – М.: Паломник,1995.
14
Григорий Нисский. Об устроении человека / Григорий Нисский; перевод и послесловие В.М. Лурье; под ред. А.Л. Верлинского – СПб.: AXIOMA, 1995.
15
Мартынов А. Учение св. Григория Нисского о природе человека: опыт исследования в области христианской философии IV века./ А. Мартынов – М., 1886.
16
Несмелов В.И. Догматическая система св. Григория Нисского. В 2 ч. /В.И. Несмелов. – Казань, 1887-1888.
17
Тихомиров Д.И. Святой Григорий Нисский как моралист / Д.И. Тихомиров. – Могилев-на-Днепре, 1886.
18
Callahan О. М. Greek Philosophy and Cappadocian Cosmology. – Dumbarton Oaks Papers (Washington) 12 (1958) – p. 29-57.
19
Комеч А.И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве / А.И. Комеч // Искусство Западной Европы и Византии. – М.: Наука, 1978 – С.209 – 223.
20
Афонасин Е.В. «В начале было …». Античный гностицизм в свидетельствах христианских апологетов: фрагменты и свидетельства /Е.В. Афонасин. – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2002. Болотов В.В. Лекции по общей церковной истории./ В.В. Болотов. – СПб., [б.и.], 1893.
21
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви./ В.В. Болотов. – Пг., [б.и.], 1918.
22
Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной Литургии./ А.И. Георгиевский. – Л.: Альфа, 1991.
23
Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике./ А.П. Голубцов. – СПб., [б.и.], 1995.
24
Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие./ С.Л. Епифанович; научн. ред. В.П. Лега. – М.: Мартис, 2003.
25
Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению./ С.М. Зарин. – М.: Паломник, 1996.
26
Илларион (Алфеев), игумен. Жизнь и учение св. Григория Богослова./ Игумен Илларион (Алфеев) – СПб.: Алтейя, 2001.
27
Казанский П.С. История православного монашества на Востоке: в 2 т./ П.С. Казанский. – М.: Паломник, 2000. – 2 т.
28
Карташев А.В. Вселенские Соборы./ А.В. Карташев. – М.: Республика, 1994.
29
Лурье В.М. Призвание Авраама: идея монашества и ее воплощение в Египте. – СПб.: Алетейя, 2000.
30
Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд./ Р.Ф. Тафт. – СПб.: Алтейя, 2000.
31
Архимандрит Порфирий (Попов). Св. Григорий, епископ Нисский. // 2Прибавления» ХХ, 1861. – Казань. 1886.
32
Макарий (Оксиюк), митрополит. Эсхатология св. Григория Нисского. Историко-догматическое исследование/ Митрополит Макарий (Оксиюк). – Киев: Петр Барский в Киеве, 1914.
33
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие./ В.Н. Лосский. – М.: Центр СЭИ, 1991.
34
Мейендорф Иоанн, протопресвитер. Византийское богословие: исторические направления и вероучение./ Протопресвитер Иоанн Мейендорф. – М.: Когелет, – 2001. Мейендорф Иоанн, протопресвитер. История церкви и восточно-христианская мистика./ Протопресвитер Иоанн Мейендорф. – М.: Институт ДИ-ДИК. Православный Свято-Тихоновский богословский институт, 2000.
35
Бычков В.В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви./ В.В. Бычков. – М.: Ладомир, 1995. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики./ В.В. Бычков. – Киев: Путь к истине, 1991. Бычков В.В. Смысл искусства в византийской культуре./ В.В. Бычков. – М.: Знание, 1991. Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина./ В.В. Бычков. – М.: Искусство, 1984. Бычков В.В. Эстетика поздней античности II – III века./ В.В. Бычков – М.: Наука, 1981.
36
Каждан А.П. Византийская культура (X –XII вв.) – СПб.: Алетейя, 1997.
37
Лазарев В.Н. История византийской живописи. В 2 т. Т. ./ В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1947.
38
Mathew G. Byzantine aesthetics./ G. Mathew. – London. 1963.
39
Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви./ Л.А. Успенский. – М.: Издательство Западно-Европейского экзархата, 1989.
40
Флоренский П.А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам, III – Тарту, 1967. – С. 381-413.
41
Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве./ К.Г. Вагнер. – М.: Искусство, 1987.
42
Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля / А.Ф. Лосев // «Вопросы эстетики», вып. 6, – М., 1964. – С. 351 – 374.Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий/ А.Ф. Лосев, В.П. Шестаков. – М.: Искусство, 1965.
43
Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории стилей. – / Э.Панофский // Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»./ Э. Панофский. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
44
Айналов Д.В. Мозаики IV – V веков. Исследования в области иконографии и стиля древнехристианского искусства./ Д.В.Айналов. – СПб., [б.и.], 1895.
45
Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. / В.М. Живов //Художественный язык средневековья: сб. науч. ст.; отв. ред. В.А. Карпушин. – М.: Наука, 1982. – С. 108 – 127.
46
Малков П. Образ пещеры в античном и христианском символизме. // Альфа и Омега № 21 (13) – М., 1997. С.241 – 258.
47
Малков Ю.Г. Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии Ю.Г. Малков // Советское искусствознание – 77 – М, 1978, – № 2 – С. 93 – 121.
48
Mango C. The art of the Byzantine empire 312-1453, Sources and documents./ C. Mango, – New York. 1972.
49
Мэтьюз Т. Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе / Т. Мэтьюз // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. – СПб., Дмитрий Буланин, 1994. – С.7-16.
50
Залесская В.Н. Прикладное искусство Византии IV – XII веков: опыт атрибуции. / В.Н. Залесская. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997.
51
Светлов Р.В. Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика./ Р.В. Светлов. – СПб.: Издательство Русского Христианского института, 1996. Светлов Р.В. Гнозис и экзегетика./ Р.В. Светлов. – СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1998.
52
Миллер Т. Александрийская экзегеза / Т. Миллер // Патристика: новые переводы, статьи. – Нижний Новгород: Издательство братства во имя святого князя Александра Невского, 2003.
53
Шичалин Ю.А. История античного платонизма. – М.: Греко-латинский кабинет, – 2000.
54
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы./ С.С. Аверинцев. – М.: Наука, 1997. Аверинцев С.С. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья / С. С. Аверинцев // Восток-Запад. Исследования. Переводы. Публикации: сб. науч. ст. – М.: Наука, 1985.
55
Грабар А. Император в византийском искусстве/ А. Грабар. – М.: Ладомир, 2000.
56
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья./ Ц.Г. Нессельштраус. – СПб.: Азбука, 2000.
57
Панофский Э. IDEA: К истории понятия в историях искусства от античности до классицизма./ Э. Панофский. – СПб: AXIOMA, 1999. – 228 с.
58
Вейдле В.В. Крещальная мистерия и раннехристианское искусство / В.В. Вейдле // Умирание искусства. – СПб: Axioma, 1996. – С.163-192.
59
Живов В.М. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. / В.М. Живов //Художественный язык средневековья: сб. науч. ст.; отв. ред. В.А. Карпушин. – М.: Наука, 1982. – С. 108 – 127.
60
Савина С.Г. Иконография: богословские очерки иконографического извода./ С.Г. Савина. – СПб.: Церковь и культура, 2001.
61
Кондаков Н.П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. – Одесса: тип. Ульриха и Шульце, – 1876. Кондаков Н.П. / Никодим Павлович Кондаков 1844-1925: Личность, литературное наследие, архив. К 150-летию со дня рождения. Каталог./ Н.П. Кондаков. – СПб., PALACE EDITION, 2001. Кондаков Н.П. Мозаики мечети Кахрие-Джамиси в Константинополе./Н.П. Кондаков. – Одесса: тип. Г. Ульриха, – 1881. Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне./Н.П. Кондаков. – СПб.: № 17, 1902.
62
Бенешевич В.Н. Памятники Синая археологические и палеографические. Вып. 1. –Л., [б.и.], 1925.
63
Буслаев Ф.И. Древнерусская литература и православное искусство./ Ф.И. Буслаев. – СПб.: Лига Плюс, 2001. Буслаев Ф.И. О русской иконе. Общие понятия о русской иконописи./Ф.И. Буслаев. – М.: Благовест, 1997.
64
Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике./ А.П. Голубцов – СПб., [б.и.], 1995.
65
Горностаев И.И. Древнехристианское искусство. Отд. 1./ И.И. Горностаев. – СПб., 1864. Горностаев И.И. История изящного искусства: лекции. Отделы: 1 – Древнехристианский, 2 – Византийский / И.И. Горностаев. – СПб., № 17, – 1874.
66
Некрасов А.И. Лекции по византийско-русскому искусству, читаемые в Московском Высшем женском училище в 1912-1922 гг. – М., 1922.
67
Покровский Н.В. Лекции по церковной археологии, читанные студентам Санкт-Петербургской Духовной Академии./ Н.В. Покровский. – СПб: [б.и.], 1884. Покровский Н.В. История христианского искусства в первые восемь столетий. – СПб. [б.и.], – 1883, Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии византийской и русской./ Н.В. Покровский. – СПб, [б.и.], 1892. Покровский Н.В. Происхождение древнехристианской базилики. Церковно-археологическое исследование./Н.В. Покровский. – СПб., [б.и.], 1880. Покровский Н.В. Памятники искусства и иконографии в древнехристианский период./ Н.В. Покровский. – Б.м., – 1894. Покровский Н.В. Очерки памятников православной иконографии и искусства/ Н.В. Покровский.. – СПб., [б.и.], 1894..Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства и иконографии./ Н.В. Покровский. – СПб., [б.и.], 1900. Покровский Н.В. Очерки памятников христианской иконографии искусства. – Пг., [б.и.], – 1916.Покровский Н.В. Памятники христианской архитектуры, особенно византийские и русские. – СПб., [б.и.], 1901.
68
Попов И.В. Элементы греко-эллинской культуры в истории древнего христианства./ И.В. Попов. – М.: [б.и.], 1909.
69
Редин Е.К. Античные боги (планеты) в лицевых рукописях: Сочинения Козьмы Индикоплова./ Е.К. Редин. – СПб., [б.и.], 1909.
70
Троицкий Н. И. Влияние космологии на иконографию византийского купола./ Н.И. Троицкий. – Тула: Тип. И.Д.Фортунатова, 1898.
71
Уваров А.С. Христианская символика. Символика древне-христианского периода./А.С. Уваров. – М.: Издательство Свято-Тихоновского Богословского института, 2001.
72
Банк А.В. Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа./ А.В. Банк. – Л.: Аврора, 1960. Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX – XII: очерки./ А.В. Банк. – М.: Наука, 1978. Банк А.В. Искусство Византии / А.В. Банк, А.С. Гущин // История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение; ред. Ц.Г. Нессельштраус. – М.: Изобразительное искусство, 1982.
73
Beckwith J. Early Cristian and Byzantine art./J. Beckwith. – New York, 1974.
74
Dalton O.М. Вyzantine Art and Archeology. /O.M. Dalton. – New York.
75
Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии./0. Демус. – М.: Индрик, 2001.
76
Kitzinger E. Byzantine Art in the making: Main lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd – 7rd Centuru./ E. Kitzinger. – Cambridge, 1977.
77
Лазарев В.Н. Византийская живопись./В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1971. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы. / В.Н. Лазарев. – М.: Наука, 1978. Лазарев В.Н. История византийской живописи: в 2 т. Т. 1. / В.Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1947. Лазарев В.Н. Приемы линейной стилизации в византийской живописи X-XII веков. И их истоки. – / В.Н. Лазарев. Византийская живопись – М.: Наука, 1960.
78
Лихачева В.Д. Византийская миниатюра. / В.Д. Лихачева. – М.: Искусство, 1977. Лихачева В.Д. Византийская миниатюра: памятники византийской миниатюры IX – XV веков в собраниях Советского Союза./ В.Д. Лихачева. – М.: Искусство, 1977. Лихачева В.Д. Иконографический канон и стиль палеологовской живописи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – / В.Д. Лихачева; АХ, – Л.: 1965. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV – XV вв./ В.Д. Лихачева. – Л.: Искусство, 1981. Лихачева В.Д. Традиции античного искусства в ранневизантийской станковой живописи (иконы «Богоматерь с Младенцем» и «Сергий и Вакх» из собрания Киевского музея). / В.Д. Лихачева. – М.: 1977. – (Отд. отт. из «Византийских очерков» с. 236 – 244).
79
Talbot Rise D. Art of Byzantine Era. –London. 1963. Talbot Rise D. Byzantine art. – Harmondsworth. 1968.
80
Вильманс Т. Изображение времени в византийской живописи. Резюме. // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. К 100-летию Андрея Николаевича Грабара. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1990, Сс.288-289.
81
Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV века. О методах работы и моделях средневекового художника. – М.: Искусство, 1998.
82
Попова О.С. Некоторые проблемы позднего византийского искусства. Образы святых жен, Марины и Анастасии. // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. К 100-летию Андрея Николаевича Грабара. – СПб.: Дмитрий Буланин, 1990, С.384-357.
83
Пятницкий Ю.А. О происхождении некоторых икон из собрания Эрмитажа. / Ю.А. Пятницкий // Восточное Средиземноморье и Кавказ IV-XVI вв. – Л., 1988. – С. 126-140. Пятницкий Ю.А. О судьбе византийской портативной мозаики в России / Ю.А. Пятницкий //Византия и Ближний Восток (памяти А.В. Банк): сборн. научн. трудов. – СПб.: Государственный Эрмитаж, 1994. – С.108 –116. Пятницкий Ю.А. Иконы с Афона из собрания Эрмитажа / Ю.А. Пятницкий // Сообщения Государственного Эрмитажа, – 1988. Вып. LIII, – С. 42-44.
84
Этингоф О.Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI – XIII вв. /О.Е. Этингоф. – М.: Прогресс-традиция, 2000.
85
Васильев А.А. История Византийской империи. (Время до Крестовых походов). – СПб: Алтейя, 1998.
86
Кулаковский Ю.А. История Византии. 395-518 годы./ Ю.А. Кулаковский. – СПб.: Алетейя, 1996.
87
История Византии. /ред. С.Д. Сказкина. Т. I. – М.: Наука, 1967.
88
Культура Византии IV – первой половины VII в. / отв. ред. З.В. Удальцова .– М.: Наука, 1984.
89
Византиеведение в Эрмитаже. К XVIII Международному конгрессу византинистов Москва, 8-15 августа 1991 года; ред. В.С. Шандровская. – Л.: Государственный Эрмитаж, 1991. Византийское искусство и литургия. Новые открытия. Краткие тезисы научной конференции, посвященной А.В. Банк (11-12 апреля 1990 г.) Научн. ред. В.Н. Залесская, В.С. Шандровская. – Л., 1991. Византия и византийские традиции. К XIX Международному конгрессу византинистов. Копенгаген, 18 – 24 августа 1996 года. Под ред. В.Н.Залесской. – СПб.: Государственный Эрмитаж. – Л., 1996.
Византия. Русь. Западная Европа: искусство и культура. Тезисы докладов конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора В.Н. Лазарева (1897 –1976)., Москва, 29 сентября – 2 октября 1997. – СПб.: Дмитрий Буланин. – 1997.
Традиции и наследие Христианского Востока: материалы международной конференции. – М.: Индрик, 1996.
Искусство Византии и Древней Руси. Москва, 24 – 26 сентября 1996 года. К 100-летию А.Н. Грабара. – СПб., 1996.
Искусство Руси и стран Византийского мира XII в.: тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь 1995 г. / отв. ред. О.Е. Этингоф. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1995.
Искусство Руси, Византии и Балкан XIII в.: тезисы докладов конференции. Москва, сентябрь 1994. / отв. ред. О.Е. Этингоф. – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1994.
Искусство Руси, Византии и Балкан ХIII – первой половины XV века: к XIII Международному Конгрессу византинистов (8-15 августа 1991 г. Москва.) / отв. ред. Г.Г. Литаврин. – М.: [б.и.], 1991.
Культура и искусство Византии: краткие тезисы докладов научной конференции Ленинград: 6 – 10 октября 1975 г. – Л.: [б.и.], 1975.
90
Рудаков А.П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. – СПб.: Алтейя, – 1997.
91
Каждан А.П. Византийская культура ( X –XII вв.) / А.П. Каждан. – СПб.: Алетейя, 1997.
92
Фрейберг Л.А. Античное литературное наследие в византийскую эпоху / Л.А. Фрейберг // Античность и Византия; ред. Л.А. Фрейберг. – М.: Наука, 1975. Фрейберг Л.А. Памятники византийской литературы IV – VI вв. / Л.А. Фрейберг, Т.В. Попова // Памятники византийской литературы IV – IX вв. – М.: Наука, 1968. Фрейберг Л.А.. Византийская литература эпохи расцвета IX – XV вв. – М.: Наука, 1978.
93
Корольков А.А. Духовная антропология. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, – 2005.
94
Кулаковский Ю. А. История Византии 395-518 годы. Т. I – СПб.: Алетейя, 1996. С.91.
95
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. – Пг., [б.и.], 1918.
96
Святитель Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя. – М.: Храм свв. Косьмы и Дамиана на Маросейке, – 1999. С. 32.
97
Святитель Григорий Нисский. О жизни Моисея Законодателя. – М.: Храм свв. Косьмы и Дамиана на Маросейке, – 1999. С. 53 – 54.
98
Григорий Богослов. Цит. по: Игумен Илларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова. – СПб.: Алетейя, – 2001. С.103.
99
Игумен Илларион (Алфеев) Жизнь и учение св. Григория Богослова. – СПб.: Алетейя, – 2001. С. 99-130.
100
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 7.
101
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.:AXIOMA., – 1995. С.7, С. 122.
102
Лосский В.Н.Богословие и боговидение. – М. Издательство Свято-Владимирского братства, 2000. С.187, 188.
103
Эта тема присутствует у Ямвлиха, Нумением из Апомеи, Порфирия Тирского. Последний различает космос и «интеллегибельный космос».
104
Лосский В.Н. Богословие и боговидение. – М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 2000. С. 190-191.
105
Лосский В.Н. Богословие и боговидение. – М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 2000. С. 192-193.
106
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение а античную философию./ А.Х. Армстронг – СПб.: Издательство Олега Обышко, – 2003. С.182.
107
Спасский А.А. Эллинизм и христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в раннейший период христианской истории (150-254). Научное издание. / А.А. Спасский – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2006.
108
Спасский А.А. Эллинизм и христианство. История литературно-религиозной полемики между эллинизмом и христианством в раннейший период христианской истории (150-254). Научное издание. / А.А. Спасский – СПб: Издательство Олега Обышко, 2006. С. 140.
109
В.Я. Саврей. Александрийская школа в истории философско богословской мысли. / В.Я. Саврей. – М.:URSS, – 2006. С. 170.
110
Цит. по: Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности. /Дж. М. Рист – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2005. С.101.
111
Шичалин Ю.А. История античного платонизма /Ю.А. Шичалин. – М.: Греко-латинский кабинет. 2000. С.264.
112
Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности./Дж. М. Рист – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2005. С.193.
113
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную философию / А.Х. Армстронг. – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2003. С.105.
114
Плотин Эннеада VI. 9 / Плотин. Избранные трактаты. – М.: АСТ, 2000. С.303.
115
Шичалин Ю.А. Плотин./ Ю.А. Шичалин //Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская Энциклопедия, 1983. С.501-502.
116
Берестов И.В. Необходима ли эманация? / Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности. Приложение И.В. Берестов. Необходима ли эманация? – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2005. С.318.
117
Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина // А.Ф. Лосев. Миф. Число. Сущность. – М.:Мысль, 1994. С.721.
118
Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина // А.Ф. Лосев. Миф. Число. Сущность. – М.:Мысль, 1994. С. 771.
119
Армстронг А.Х. истоки христианского богословия. Ведение в античную философию. / А.Х. Армстронг. – СПб.: Издательсьво Олега Обышко, 2003. С.194.
120
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм./ А.Ф.Лосев М., 1980. С. 549.
121
Лосев А.Ф. История античной эстетики. Поздний эллинизм./ А.Ф.Лосев М., 1980. С. 549.
122
Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности./Дж. М. Рист – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2005. С.272.
123
Семенов В.В. Архетипика сознания в неоплатонизме и патристике. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук / В.В.Семенов. – СПб, 2006.
124
Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение а античную философию./ А.Х. Армстронг – СПб.: Издательство Олега Обышко, – 2003.
125
Бычков В.В. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви./ В.В. Бычков – М:Ладомир., 1995.
126
Диллон Дж. Средние платоники/ Дж. Диллон. – СПб.: Алетейя., 2002.
127
Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. / В.Я. Саврей – М.:URSS, 2005.
128
Светлов Р.В. Гнозис и экзегетика./ Р.В. Светлов – СПб.: РХГИ, 1998.
129
Хосроев А.Л. Александрийское христианство./ А.Л. Хосроев – М.: Наука, главная редакция восточной литературы, – 1991.
130
Хосроев А.Л. . Александрийское христианство./ А.Л. Хосроев. – М.: Наука, главная редакция восточной литературы, – 1991. С.67.
131
Хосроев А.Л. . Александрийское христианство./ А.Л. Хосроев. – М.: Наука, главная редакция восточной литературы, – 1991. С. 68.
132
Хосроев А.Л. . Александрийское христианство./ А.Л. Хосроев. – М.: Наука, главная редакция восточной литературы, – 1991. С.68-69.
133
В.Я. Саврей. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. / В.Я. Саврей. – М.:URSS, – 2006. С. 173.
134
Лосский В.Н. Богословие и боговидение./ В.Н. Лосский. – М.: Издательство Свято-Владимирского братства 2000. С.147-193.
135
Лосев А.Ф. История античной философии./ А.Ф. Лосев. – М.: Че Ро. – 2005. С. 110.
136
Цит. по: Карташев А.В. Вселенские Соборы. – М.,1994. С. 113.
137
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, – 1996, С. 137-138.
138
Лурье В.М. При участии В.А. Баранова. История византийской философии. Формативный период. – СПб.: AXIOMA, – 2006. С. 81.
139
Лурье В.М. При участии В.А. Баранова. История византийской философии. Формативный период. – СПб.: AXIOMA, – 2006. С. 82.
140
См. В.М Живов, С.Л. Епифанович.
141
Лурье В.М. Апокатастасис и свобода воли. //SCRINIUV/Журнал патрологии, критической агиографии и церковной истории. Т. 2. СПб.:Byzantinorossica – С.470-480.
142
В теории трихотомии человек состоит из «растительных сил» – «животных сил» – ума как богоподобия человека. Выражение «силы» соответствует учению Григория Нисского об энергийной природе вещества. В учении Григория Нисского отсутствует понятие «материя», т.к. в античной философии материя была «принципом зла» (см. митрополит Макарий (Оксиюк), ей противопоставляется тварное «честное вещество». Вещественный состав человека сам по себе не является «злым» началом, он без-образен (не он , а ум непосредственно сообщается с Богом и затем последовательно и в определенной пропорции передает богоподобие и вещественному составу, в котором он, ум, пребывает несозерцаемо и повсеместно).
143
Лурье В.М. Апокатастасис и свобода воли. //SCRINIUV/Журнал патрологии, критической агиографии и церковной истории. Т. II. СПб.:Byzantinorossica – С.470-480.
144
В этом аспекте каппадокийцы оказываются преемниками платонической традиции.
145
Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности./Дж. М. Рист – СПб.: Издательство Олега Обышко, 2005. С. 16-19.
146
Дашков С.Б. Императоры Византии. – М.: Издательский дом «Красная площадь»,1996. С. 20-21.
147
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: Наука, 1977.
148
Лурье В.М. История византийской философии. Формативный период./ В.М. Лурье при участии В.А. Баранова. – СПб.: AXIOMA, 2006, С. 13.
149
Е. Kitzinger Byzantine Art in the making: Main lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd – 7rd Centuru. – Cambridge. 1977. 175 p. Larousse encyclopedia of Byzantine and Medival art. (Gen. ed. R. Huyghe; Text by E. Evershed) – London, 1974.
150
Имеется в виду распад римской художественной системы на рубеже перехода от поздней Античности к раннему Средневековью.
151
Залесская В.Н. Прикладное искусство Византии IV – XII веков: опыт атрибуции./В.Н. Залесская – СПб.: Государственный Эрмитаж, – 1997.
152
В.В. Бычков. AESTHETICA PATRUM. Эстетика Отцов Церкви. – М., 1995.
153
Р.В. Светлов. Гнозис и экзегетика. – СПб., 1998.
154
Диллон Дж. Средние платоники. – СПб., 2002. С. 346.
155
Диллон Дж.. Средние платоники. / Дж. Диллон. – СПб., 2002. С. 348.
156
Диллон Дж. Средние платоники / Дж. Диллон.. – СПб., 2002. С. 365.
157
Следует оговориться, Нумения из Апомеи историки философии относят то к платоникам, то к пифагорейцам.
158
Аверинцев С.С. Символизм раннего средневековья (К постановке вопроса) С.С.. Византийская литература IV – VII вв. – «История Византии» т. I. – М., 1967. С. 42.
160
Нонн Панополитанский; цит. по: Захарова А. Глобус звездного неба: поэтическая система Нонна Панополитанского / А. Захарова, Д. Торшилов. – СПб., Алетейя, – 2003. – С.108.
161
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы / С.С. аверинцев – М., 1997. – С.146.
162
Древний патерик. – М.: Типо-Литография И. Ефимова, 1899. – С. 274 (репринт, М., 1997).
163
Лурье В.М. Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте. – СПб., 2000. – С.46.
164
Т.В. Попова. Античная биография и византийская агиография. // Античность и Византия. – М., 1975. С. .218 –265.
165
Выражение Д.С. Лихачева – Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М., 1979.
166
Здесь мы отмечаем взаимодействие антропологии и космологии в сфере литературного процесса, – это важно в аспекте дальнейших рассуждений о параллельных процессах в философии ранних платоников и каппадокийцев, – о чем будет сказано несколько позже.
167
Григорий Нисский. Цит. по: «История Византии» т.I. – М., 1967. С. 45.)
168
А.С.Десницкий А.С. Семитские истоки византийской литургической поэзии. //Традиции и наследие христианского Востока. – М., 1996. С. 209 –220
169
Вопреки распространенному в среде авторитетных ученых мнению, на самого Плотина повлияла экзегетическая традиция и, по-видимому, разработка понятия «архетип» Филоном Александрийским и Климентом Александрийским.
170
Нумений из Апомеи. – Цит. по: Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 550.
171
Архаизация формы в литературе и изобразительном искусстве связана с эволюцией стилистической системы: «более архаический слой культуры проступает в более позднем слое, парадоксально усиливая не архаизм, а, напротив, впечатляющую новизну произведения». Этот общий закон развития художественной формы сформулирован Аби Варбургом, он называет его «патетической формулой».
172
Там же. С . 156.
173
Его влияние распространилось преимущественно на греков.
174
Миллер Т. Византийская экзегеза. – Патристика. Новые переводы. Статьи. – Нижний Новгород, 2001. С. 217.
175
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кессарии Каппадокийской. Ч. 1. – М.,1991. С.9.
176
Десницкий А. Экзегеза Св. Григория Нисского («О жизни Моисея»): заметки на полях: С.6.
177
Аренц М. Избранные сочинения по литургике Т. I.. Таинства Византийского Евлохия. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2003. Архимандрит Киприан (Керн). Евхаристия. М.: Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 1999.
178
Миллер Т. Византийская экзегеза. // Патристика. Новые переводы. Статьи. – Нижний Новгород: Издательство во имя Святого Князя Александра Невского. – 2001. С. 204-250.
179
Десницкий А.С. Семитские истоки литургической поэзии. – "Традиции и наследие христианского Востока. Материалы международной конференции. – М., 1996. С. 209-220. Статья включает библиографию по данному вопросу.
180
Десницкий А. Экзегеза Св. Григория Нисского («О жизни Моисея»): заметки на полях: с.6.
181
Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. С.9.
182
Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. С.9.
183
Цит. по: Якобсон Р.О. Грамматический параллелизм и его русские аспекты//Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – С. 100.
184
Цит. по: Десницкий А.С. Поэтика библейского параллелизма. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. С.40.
185
Якобсон Р.О. Грамматический параллелизм и его русские аспекты//Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс, 1987. – С. 100.
186
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.9.
187
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.9.
188
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М.: CODA. – 1997. C. 248.
189
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.16.
190
С каппадокийцами связано зарождение риторического жанра публичной проповеди. Первоначальное обучение искусству риторики они проходят у своего отца. Биографы Григория Нисского говорят о его «прельщении юности»: он, будучи чтецом в храме, оставляет это поприще и отправляется преподавать искусство риторики в языческом училище. Историки литературы указывают на влияние, которое оказал свт. Григорий Нисский на литературу восточного и западного средневековья своим аллегоризмом (J. Danielou. Le sumbole de la caverne chez de Gregoire de Nysse. – «Jahrb.f. Antike und Christentum», Erg. – Bd. 1, 1964.
С.С. Аверинцев. Византийская литература IV-VII вв. – История Византии. В 3-х тт. Т. I. – М., 1967 Историки святоотеческой письменности связывают с его именем появление апофатических формул, что требует уточнения (Архим. Киприан (Керн) Золотой век Свято-Отеческой письменности. – М., 1995). Апофатические определения впервые используются Григорием Нисским по отношению к Божественной Сущности (Архим Софроний (Сахаров)), но в философии прямым его предшественником в использовании апофатезы был Плотин.
191
Используется три архетипических цвета, характерных для народного искусства, что придает фрагменту оттенок снижения образности, близкий к просторечию апофтегмы.
192
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.36-37.
193
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.151.
194
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA. 1995. С. 33.
195
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.87.
196
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.151.
197
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.;: AXIOMA., 1995. С.100.
198
Архиепископ Константин (Горянов). Познай самого себя. Жизнь и религиозно-философская антропология Виктора Несмелова. // Всерусский собор. 2003. №3. С. 51.
199
Корольков А.А. Духовная антропология. – СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2005ю С. 7-9.
200
На эти теории указывает О.М. Каллахан.
201
Эти теории выявлены В.И. Несмеловым: Несмелов В.И. Догматическая система святого Григория Нисского. – СПб.: Издание центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского, – 2000. С. 326-356.
202
На предысторию вопроса обращает внимание Г.В. Флоровский.
203
Возникновение теории обусловлено полемикой с евномианами (аномеями), опиравшимися на учение софистов.
204
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М.: Паломник, 1996. С 139.
205
Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина. / Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М.: Мысль, – 1994. С.754.
206
Плотин. Избранные трактаты. – Минск: Харвест, М.: АСТ – 2000. С.145.
207
Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. С. 10.
208
Плотин. Избранные трактаты. – Минск: Харвест, М.: АСТ – 2000. С.145.
209
Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. С. 9.
210
Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. С. 10.
211
Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. С. 193-95.
212
Идея как Божественный замысел о вещи или «семенной логос твари» и эйдос как образ, облик, – понятия, сближенные в трактате Григория Нисского.
213
Концепция изменения Григория Нисского как перехода сил в энергии отражает разрыв с античным и оригенистским представлением о развитии по кругу, где совпадают «начало» и «конец».
Отмечено В.М. Лурье: Григорий Нисский. Иже во святых отца нашего святителя Григория, епископа Нисскаго. Об устроении человека. / пер. В.М. Лурье. – СПб.: AXIOMA, – 1995. С. 138.
214
В.М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. – "Художественный язык средневековья" – М., 1982. С. 110.
215
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С. 109 – 110.
216
Там же. С. 108 – 109.
217
Там же. С. 96.
218
В.М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа.// Художественный язык средневековья – М., 1982. С. 108-127.
219
Там же. С. 114.
220
В.М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа. // Художественный язык средневековья. – М., 1982. С.116-118.
221
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.,1995. С. 10-11.
222
Там же. С.40.
223
Там же. С. 103.
224
Там же. С. 86.
225
Там же. С. 50.
226
Там же. С. 15.
227
В.Н. Лосский. Очерк мистического богословия Восточной церкви. Очерк догматического богословия Восточной Церкви. – М., 1991. С. 22-23.
228
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб, 1995. С. 22-23.
229
Там же. С. 14.
230
Там же. С.62.
231
Там же. С. 63.
232
Там же. С. 63-64.
233
Там же. С.50.
234
Там же. С. 130.
235
Там же. С. 70.
236
Успенский Л.Ф. Богословие иконы православной церкви. – М., 1989. С. 66.
237
Там же, с. 156.
238
Тахо-Годи А.А.. Термин «символ» в древнегреческой литературе – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 329-361.
239
Там же. С.329.
240
Там же. С.335.
241
Вопрос о влиянии Ямвлиха и Дамаския может быть только поставлен.
242
Там же. С. 336.
243
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.;: AXIOMA., 1995. С.11.
244
Тахо-Годи А.А.. Термин «символ» в древнегреческой литературе – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 342.
245
Тахо-Годи А.А.. Термин «символ» в древнегреческой литературе – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 362.
246
Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. – М.: Мартис, 2003. С.30.
247
Там же. С. 32. Изложение учениея Ареопагита заимствуется у С.Л.Епифановича.
248
Там же. С. 34.
249
Там же. С.147.
250
Александр Шмеман, протоиерей. Символы и символизм византийской литургии: Литургические символы и их богословское истолкование htpp://wwwtipicon.ru– греческое слово, произошедшее от глагола думать, полагать, верить; обозначает мысль, вполне утвердившуюся в человеческом сознании, твердое убеждение, определившее неизменное решение человеческой воли. Догмат в церковном значении этого слова – категориальное определение богооткровенной истины, содержащей отражение вероучения об отношении Бога к миру и человеку, он имеет общеобязательное значение для всех членов церкви. Из догматического определения VII Вселенского Собора следует, что икона это образ Иисуса Христа, Богоматери, ангелов или святых, нанесенный на стены краской или мозаикой или на придорожные камни, или на сосуды, или на доски красками. Образ определяется святыми отцами, а выполняется должным образом иконописцем. Икона служит свидетельством истинного, а не призрачного Боговоплощения, напоминанием о Боге, святых и событиях Священной истории. Слово Писания и образ взаимно свидетельствуют истинность друг друга. Поклонение иконе имеет относительный характер, так как честь, воздаваемая иконе, относится не к веществу иконы (доске и краскам), не к мастерству иконописца, но отнесена к Первообразу, Богу.
252
«Канон» – церковно-юридический термин, обозначающий правило веры, обязательную норму церковной дисциплины, одно из постановлений Вселенских соборов. В церковную терминологию входит в смысле, впервые определенном в послании апостола Павла.
253
Понятие «икона» греческого происхождения, его значение – «изображение», «отражение», «образ, «видение», «портрет»; – «имею сходство», «похожу», «кажусь правильным». Икона (образ) получает богословское определение у одного из основоположников богословия образа, Иоанна Дамаскина. В «Трех защитительных словах против порицающих святые иконы или изображения» он раскрывает этот термин через понятия «портрет» и «оттиск», «отпечаток», указывая тем самым на соотношение образа и первообраза, на символический смысл портретного изображения. Развернутая иерархия взаимосвязанных образов выстроена Иоанном Дамаскиным в «Третьем защитительном слове…»: «Сам Бог – первый родил единородного Сына и Слово Свое, живое Свое изображение, естественное, во всем сходный образ Своей вечности; и сотворил человека по образу Своему и по подобию», – в этот контекст включено понятие образа как иконы, живописного изображения.
254
Малков Ю.Г. Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии. // Советское искусствознание, 1977 № 2. – М., 1978. С. 93-121.
255
Малков Ю.Г. Некоторые аспекты развития восточнохристианского искусства в контексте средневековой гносеологии. // Советское искусствознание, 1977 № 2. – М., 1978. С. 104.
256
Там же. С. 98-99.
257
Там же. С. 104.
258
Святой Григорий Нисский. Слово 19. О божестве Сына и Духа и похвала праведному Аврааму. – Творения св. Горигория Нисского. Ч. IV. – М., 1862. С. 377 –378.
259
Деяния VII Вселенского Собора. – Казань, 1891. С. 114.
260
Григорий Нисский . Об устроении человека. – СПб., 1995. С. 9.
261
Святой Григорий Нисский, Об устроении человека. С. 15-16.
262
Деяния VII Вселенского Собора. – Казань, 1891. Репринт. Б.м., б.г. С. 142-143.
263
Там же. С. 143.
264
Там же С. 143.
265
Там же. С. 285.
266
Григорий Нисский. Об устроении человека. С. 15.
267
М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. 3. – СПб., 1996. С.106.
268
Цит. по: А.Ф. Лосев. Классическая калокагатия и ее типы // «Вопросы эстетики». Вып. 3. – М., 1960. С. 114.
269
Цит. по: В.В. Бычков. Эстетика Отцов Церкви. – М., 1995. С. 284.
270
Иоанн Дамаскин соединяет два этих определения, выстраивая соединяющую их иерархию образов. В «Третьем защитительном слове…» им дано определение иконы: «Икона ( или изображение) без сомнения, есть подобие и образец, и оттиск чего-либо, показывающий собою то, что изображается. Но, во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно изображаемому лицу или предмету; ибо иное есть изображение и другое – то, что изображается». (Иоанн Дамаскин. Указ. соч.С.100). Вот – коротко – представленная им иерархия: «…Первый естественный и во всем сходный образ невидимого Бога – Сын Отца, являющий в Себе Отца… Подобный же и совершенно равный образ Сына – Святой Дух, в одном только отношении имеет различие ( с Ним): в том, что Он исходит …И это первый образ изображения: естественный. …Второй род изображения… предвечный Его совет. Ибо на совете его то, что им предопределено, и то, что имело в будущем нерушимо случиться, было прежде своего бытия наделяемо признаками и образами. Третий род изображения есть происшедший от Бога через подражание, т.е.... человек.... Четвертый род изображения – тот, когда Писание создает образы и виды, и очертания невидимых и бестелесных предметов, изображенных телесно для слабого понимания как Бога, так и Ангелов:… мы не в состоянии возвыситься до созерцания духовных предметов без (какого-либо) посредства, и для того, чтобы возвыситься , имеем нужду в том, что родственно нам и сродно… Пятым родом изображения называется тот, который предъизображает и предначертывает будущее, как купина....Шестой род изображения: образ, установленный для воспоминания о происшедшем....Это изображение двояко: как через вписываемое в книги слово. так и через чувственное созерцание.» ( Иоанн Дамаскин. Там же, с. 100 – 104).
271
Вот пример использования этого образа в Великом покаянном каноне Андрея Критского: «Азъ есмь, Спасе, юже погубил еси древле царскую драхму: но вжегъ светильникъ Предтечу Твоего, Слове, взыщи и обрящи Твой образъ».
272
Архимандрит Киприан (Керн) Указ. соч. с. 163.
273
Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. Преподобный Феодор Студит. Послание Платону о почитании икон. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1993. С. 20.
274
Творения Григория Нисского. Т. VII. – М., 1865. С. 20.
275
Иоанн Дамаскин. Указ. соч. С. 29.
276
Григорий Нисский. Об устроении человека. С. 87-89.
277
Следует заметить, тема царственности в философии присутствует у Платона и Амелия.
278
Нами далеко не полностью приведены употребления богословами именно этого образа. Так, в частности, к нему прибегают Феодор Студит и Иоанн Златоуст.
279
Преподобный Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы или изображения. – Сергиев Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, – 1993.
280
Деяния VII Вселенского Собора. – Казань. [б.и.], – 1891. (репринт б.м., б.г.)
281
Грабар А. Император в византийском искусстве – М.: Ладомир, – 2000.
282
Л.А. Успенский. Богословие иконы православной церкви. – М., 1989. С. 66.
283
А.Ф. Лосев указывает, что он, в свою очередь, основывается на труде одного из основоположников иконологического направления в искусствознании, Э. Панофского, апеллируя к его работе «Перспектива как «символическая форма»»..
284
Приведем лишь один из примеров, иллюстрирующих, как «структурные термины» соотнесены с миросозерцанием своего времени. «Мера» (meros) – одна из категорий, определяющих систему пропорций в зодчестве и скульптуре. Она перестает быть абстрактной при сопоставлении с контекстом знаменитого высказывания Протогора: «Человек есть мера всех вещей, как видимых, так и невидимых».
285
Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 146.
286
О значении Кондакова как основоположника науки о византийской культуры – В.Н. Лазарев. Никодим Павлович Кондаков. /Византийская живопись. – М., 1971. С.7-19., И.В. Тункина. Н.П. Кондаков: обзор личного фонда. //Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге" под ред. И.П. Медведева. – СПб., 1995. С. 93 – 119.
287
Впервые иконографический метод Кондакова был обозначен и использован как рабочий метод в исследовании: Кондаков Н.П. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. – Одесса: тип. Ульриха и Шульце. – 1876.
288
История европейского искусствознания. Вторая половина XIX – начало ХХ века. Отв. ред. Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова. Тт. ,I I I . – М., 1969.
289
Н.П. Кондаков высказал свое критическое отношение к иконографическим штудиям такого рода, говоря о них как о «исторической статистике, лишенной необходимого анализа для открытия в этих типах взаимной связи и последовательности». Он уклоняется и от крайности формально-стилистического анализа: «История христианского искусства сосредоточивает свои характеристики памятников и периодов на общей оценке художественного прогресса и касается содержания с точки зрения исторических схем: монументальности, декоративности, народности и проч. Совершенно естественно, что в результате такое отвлеченно сухое изложение художественного процесса, чуждое конкретной характеристики, лишает самое изложение всякого интереса, сопряженного с непосредственным исследованием предмета.» – Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Т.I. – М., 1998. С. 6.
290
Н.П. Кондаков Иконография Богоматери. Т. I. – М., 1998. С. 7.
291
Это точное и имеющее большое значение заключение принадлежит В.М. Лурье: «Патристическая категория «формы», как это было у Аристотеля, синонимична «сущности»… Антропологическое понятие образа Божия в человеке позднее послужит обоснованию еще одного догмата – об иконопочитании. – Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С. 123.
292
В «Иконографии Богоматери» он пишет: «…Тип определяется национальным характером или выражением народных черт, как главных или дающих своеобразную типичность человеческому образу. Но к такому типу прирастает со временем определенная историческая мысль, или идея общечеловеческого свойства, и такой «идеальный» образ вновь переходит в сферу народного, исторического искусства. Изучение постепенного роста народных и исторических типов и образов … занимается, таким образом, внутреннею историею одухотворения и облагорожения народного характера до степени общечеловеческого значения, как высших образцов и так называемых идеалов». – Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Т.I. – М., 1998. С. 2.
293
Кондаков Н.П.. Иконография Богоматери. Т.I. – М., 1998. С..4.
294
Цит. по: Л.А. Успенский. Богословие иконы православной церкви. – М., 1989. С. 62.
295
Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. Т. I. – М., 1998. С. 5.
296
Языкова И. /И. Языкова., игумен Лука (Головков). Богословские основы иконы и иконографии. // История иконописи VI – ХХ века. Истоки, традиции, современность. – М., 2002. С. 15.
297
Лицевые подлинники не следует путать с книгами образцов и ремесленными книгами. «Афонская книга образцов» из собрания РНБ недавно атрибутирована Л.М. Евсеевой: Л.М. Евсеева. Афонская книга образцов XV в. – М., 1998. Главы 1 и 2 включают критический обзор отечественной и зарубежной литературы по проблеме, историю вопроса.
Ремесленные книги – особый жанр записи технологических рецептов. Этот жанр изучен мало, примером публикации текстов русской средневековой ремесленной книги и их исследованию является «Свод письменных источников по технике древнерусской живописи, книжного дела и художественного ремесла в списках XV – XIX вв.». Тт. I, II. – СПб., 1995.
298
Л.М. Евсеева. Указ. соч., с.27.
299
Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Т.I. – М., 1998. Сс. 2-3.
300
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С. 17.
301
Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 147.
302
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 147.
303
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 147.
304
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 146.
305
Савина С.Г.. Иконография. Богословские очерки иконографического извода. – СПб., 2001.
306
Этингоф О.Е.. Образ Богоматери. – М., 2000.
307
Т. Мэтьюз. Преображающий символизм византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе. // Восточнохристианский храм. Литургия и искусство. Под ред. А.М. Лидова. – СПб., 1994. С.7 –16.
308
Там же, с. 13.
309
Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. – М., 1996. С. 149.
310
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.31.
311
Разграничение этих методов – предмет теоретического исследования В.Н. Залесской, которой автор приносит отдельную благодарность.
312
Залеская В.Н.. Прикладное искусство Византии IV-XII веков – СПб., 1997.
313
Кондаков Н.П. Археологическое путешествие по Македонии. – СПб., 1913. С. 58
314
Д.Т. Райс. Искусство Византии. – М., 2002.С. 12.
315
Там же, с.14.
316
Лазарев В.Н. История византийской живописи. Т. I. – М.: “Искусство”. – 1947. С. 34.
317
Kitzinger E. Byzantine Art in the making: Main lines of stylistic development in Mediterranean Art 3rd – 7rd Centuru. – Cambridge. 1977.
318
А.А. Тахо-Годи. Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» // АА. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев. Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб., 1999. С . 574.
319
О. Демус. – Цит. по: Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1997. С.262.
320
Наиболее последовательно эта тема в исследованиях по истории ранневизантийского искусства развита Д.В. Айналовым, В.Н.Залесской, В.Н. Лазаревым, В.Д.Лихачевой, Д.Т.Райсом, Г.Стржиговским.
321
Г. Стржиговский. – Цит. по: Айналов Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. – СПб., 1900. С. 2.
322
В.Н. Залесская. Указ. соч. С. 5.
323
Выражение В.М. Живова: В.М. Живов. «Мистагогия» Максима Исповедника и развития византийской теории образа. // Художественный язык средневековья. – М., 1982. С.108 – 127.
324
Д.В. Айналов. Мозаики IV – V вв. Исследования в области христианской иконографии и стиля древнехристианского искусства. – СПб., 1895. С.32
325
Н.П. Кондаков. История византийского искусства по миниатюрам греческих рукописей //Записки Императорского Новороссийского университета. Т. XXI – Одесса, 1876.
326
Термин «ссист» распространен, но применяется не вполне точно, т.к. у иконописцев ассистом называются не золотые штрихи, наносимые твореным или сусальным золотом, а нанесенный штрихами под сусальное золото клеевой состав, к которому оно крепится.
327
Тахо-Годи А.А.. Термин «символ» в древнегреческой литературе – Тахо-Годи А.А. Греческая культура в мифах, символах и терминах. / А.А. Тахо-Годи, А.Ф. Лосев; – СПб.: Алтейя, – 1999. С. 344..
328
А.Ф. Лосев. История античной эстетики: последние века. – М.:Мысль. – 1992. С. 413.
329
С.С. Аверинцев. Символизм раннего средневековья (К постановке вопроса). – Grabar Plotin et les origines de l`esthetique medievale // Cahies archeologiques. 1945. I. P. 15-33.
331
В.Н. Лазарев пишет: «… ни византийское, ни европейское искусство никогда уже более не отказывались от того дуализма в трактовке образа человека, который впервые был выявлен в позднеантичном искусстве». – В.Н. Лазарев. Позднеантичное искусство и истоки христианского спиритуализма. // История византийской живописи. Т. I. – М., 1947. С. 34-37.
332
G. Mathew . Byzantine Aesthetics. London, 1963.
333
Ц.Г. Нессельштраус. Указ. соч. С. 9-26.
334
Э. Панофский. IDEA К истории понятия в теориях искусств от античности до классицизма.. – СПб.1999. С. 24.
335
Обратимся к цитируемым ранее терминологическим разысканиям А.А. Тахо-Годи, где ясно говорится об отсутствии термина «символ» у Плотина.
336
А.Ф. Лосев. История античной эстетики. Поздний эллинизм. – М., 1980. С.530.
337
В.В. Вейдле. Крещальная мистерия и раннехристианское искусство – Вейдле В.В. Умирание искусства. – СПб., 1996. С.163 –192.
338
Там же.
339
Д.В. Айналов. Мозаики IV – V вв. Исследования в области христианской иконографии и стиля древнехристианского искусства. – СПб., 1895. С. 14.
340
Там же.
341
Там же.
342
Цит. по: Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб., 1995.С. 156.
343
Л.А. Успенский. Богословие иконы православной церкви. – М.,1989. С. 62-65.
344
Т. Миллер. Византийская экзегеза.//Патристика. Новые переводы и статьи. – Нижний Новгород, 2001. С. 210-211.
345
С.Г. Савина. Иконография. Богословские очерки иконографического извода, – СПб., 2001. С.19-64.
346
Архимандрит Киприан (Керн). Литургика. Гимнография и эратология. – М., 1997.
347
Константин и Елена посещают места земной жизни Спасителя, там созидаются первые храмы, украсившая их монументальая живопись, – как предполагают исследователи, – послужила своего рода образцом для дальнейшего развития иконографии.
348
В.Н. Залесская. Указ. соч. С. 12.
349
Более подробно о «Пещере нимф» : Тахо-Годи А.А.Художественно-символический смысл трактата Порфирия “О пещере нимф” – Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах и терминах. – СПб., 1999. С. 557-576. О платоническом образе пещеры: Малков П. Образ пещеры в античном и христианском символизме //Альфа и Омега. № 2(13) –М.,1997. С.242-258.
350
Святой Василий Великий, архиепископ Кессарии Каппадокийской. Наставления юношам, как пользоваться языческими сочинениями. – М., 1899. С. 11-12.
351
Там же. С.8.
352
А.А. Тахо-Годи,Художественно-символический смысл трактата Порфирия «О пещере нимф» / А.А. Тахо-Годи, Л.Ф. Лосев.Греческая культура в мифах, символах и терминах. – СПб., 1999. С.558. Там же ссылка на перечень комментаторов Гомера:Sengebusch M/ Homerica dissertatio prior. In Homeri Ilias. Ed W.Dindort. Lipsiae. 1855.
353
А.А. Тахо-Годи, указ. соч. С. 565.
354
Порфирий. О пещере нимф. – А.А. Тахо-Годи, Л.Ф. Лосев.“Греческая культура в мифах, символах и терминах”. – СПб., 1999. С.579.
355
Порфирий, там же. С. 581.
356
А.А. Тахо-Годи. Указ. соч. С. 560.
357
Порфирий. Указ. соч. С. 583.
358
Там же. С.587.
359
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб., 1995. С.90.
360
Там же. С. 66. Текст приведен комментатором трактата Григория Нисского В.М. Лурье.
361
Там же. С. 90.
362
Там же. С. 91-92.
363
Там же. С. 91.
364
Глава XXVIII трактата «Об устроении человека, названная “Против утверждающих, что душа предсуществовала телам или, наоборот, что тела были созданы преждедуш. В ней же опровержение баснотворства о переселении душ (метемпсихозе)» – Там же. С. 89-93.
365
Там же. С. 95.
366
Выражаю глубочайшую признательность за эту справку хранителю византийских икон в Эрмитаже Ю.А. Пятницкому.
367
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств / Г.Вельфлин. Основные понятия истории искусств. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Издательство В. Шевчук., 2002.
368
Дворжак М. История искусств как история духа. / М. Дворжак – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект». 2001.
369
Панофский Э. Перспектива как символическая форма, – СПб.: Азбука-классика, – 2004.
370
Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля / А.Ф. Лосев // ""Вопросы эстетики"", вып. 6, – М., 1964. – С. 351 – 374.
371
Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля / А.Ф. Лосев // Вопросы эстетики, вып. 6, – М., 1964. – С. 351 – 374.
372
Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина. / Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. – М.: Мысль, – 1994, с.763.
373
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 37.
374
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.37.
375
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 37.
376
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С..53.
377
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 53.
378
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.. 74.
379
Панофский Э. История теории человеческих пропорций как отражение истории стилей. – / Э.Панофский // Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», – 1999.
380
Филатов В.В. художественно-технологические особенности росписей Дмитриевского собора во Владимире. // Древнерусское искусство. – М.: Наука, 1972. С. 141-161.
381
Афанасьев К.Н. Геометрический анализ Софии в Константинополе /К.Н. Афанасьев – // Византийский временник № 5 – М., 1952. – С. 207-215.
382
Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. – СПб.: Алтейя, – 2000.
383
Светлов Р.В. Гнозис и экзегетика. – СПб.: Издательство Русского Христианского гуманитарного института, – 1998.
384
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 117.
385
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 108.
386
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 106.
387
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 140.
388
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 100-101.
389
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 97.
390
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 105.
391
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.99.
392
Цит. по: Лосев А.Ф. Художественные каноны как проблема стиля. С. 35.
393
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 353.
394
Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. – М.: Центр СЭИ, – 1991
395
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 100-101.
396
Подробнее: Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV века. О методах работы и моделях средневекового художника. – М.: Искусство, – 1998.
397
Подробнее: Вельманс Т. Изображение времени в византийской живописи. Резюме. // Древнерусское искусство. Византия и Древняя Русь. – СПб: Дмитрий Буланин, – 1999. Сс. 288-289.
398
Там же. С.289.
399
Покровский Н.В. Памятники христианской архитектуры, особенно византийские и русские. – СПб., [б.и.], – 1901
400
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 15-16.
401
А. Грабар. Император в византийском искусстве. – М., 2000.
402
Мэтьюз Т. Преображающий смысл византийской архитектуры и образ Пантократора в куполе. Восточнохристианский храм. / Т. Мэтьюз // Литургия и искусство, ред. А.М. Лидов – СПб.: Дмитрий Буланин, – 1994. – С.7-16.
403
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 15-16
404
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.16.
405
М. Евзлин Космогония и ритуал. – М., 1993. С. 114.
406
Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери. т.I. – М., 1998. С.19.
407
В. Алымов. Лекции по исторической литургике: по: Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV века. – М., 1998. С. 17.
409
Цит. по: Архимандрит Киприан (Керн). Антропология Св. Григория Паламы. С. 143.
410
Архимандрит Киприан (Керн). Антропология св. Григория Паламы. С.143.
411
Автор крайне признателен В.Н. Залесской за указание на круг памятников: это коптские литургические печати с рельефным изображением и текстовым упоминанием печатей Духа Святаго.
412
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.39.
413
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 93.
414
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С .93.
415
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 93.
416
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 93.
417
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 93.
418
По одной из гипотез слово «Образ» этимологически родственно глаголу «браздить», резать.
419
Айналов Д.В. Указ. соч. С.21.
420
Айналов Д.В. Эллинистические основы византийского искусства. Исследования в области ранневизантийского искусства. – СПб.: тип. П.Н. Скороходова, – 1900.
421
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С.47.
422
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 25.
423
Илюшечкин.В.Н. Античная физиогномика В. Н.// Человек и общество в античном мире. – М.: Наука, – 1998. С.441-465.
424
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 25.
425
Клаутова О.Ю. Жест в древнерусской литературе и иконописи XI – XIII вв. К постановке вопроса. – “Труды Отдела древнерусской литературы”. XLVI. – СПб., 1993. С.256 –269.
426
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 27.
427
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 27.
428
Григорий Нисский. Об устроении человека. – СПб.: AXIOMA, 1995. С. 27.
ОглавлениеР.В. ЩипинаГригорий Нисский. Создание канона Учебное пособиеВведениеГлава I. На рубеже Античности и Средневековья1.1. Временные и пространственные координаты1.2. «Апология культуры»1.3. Теория познания1.4. «Топос» полемики язычества и христианства1.5. Онтология Плотина1.6. Стиль Плотина1.7. Философский синтез1.8. Онтология каппадокийцев1.9. Пути влияния языческого и святоотеческого неоплатонизма на культуру переходой эпохи1.10. «Дезинтеграция стиля» и «άρχή» в культуре позднего эллинизма1.11. Распад античного канона в призме дуалистических учений и теории дихотомии1.12. Стиль Григория НисскогоГлава II. Символический реализм Григория Нисского и символизм христианского искусства2.1. Основные идеи трактата «Об устроении человека»2.2. Антропология Григория Нисского и богословие образа2.3. Канон иконопочитания и иконографический канон2.4. «Пещера нимф». Основные этапы становления символического реализма в искусстве Византии2.5. Трактат «Об устроении человека» в аспекте его влияния на образно-стилистический строй канонического искусстваЗаключениеСписок литературы

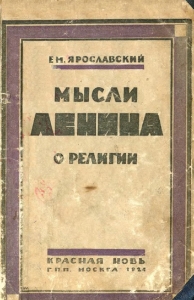


Комментарии к книге «Григорий Нисский. Создание канона», Римма Владимировна Щипина
Всего 0 комментариев