О.А. Коростелев. Вступительная статья
Имя Эммануила Райса наверняка знакомо исследователям, особенно тем, кто занимался Поплавским или послевоенной эмигрантской литературой, но сведения об этой фигуре обычно отрывочны и в цельную картину не складываются.
Воспоминаний о Райсе осталось мало. И.В. Чиннов писал в своих заметках «О “Числах” и числовцах»: «Помнится мне чистый сердцем тоже милый мой друг Эммануил Матусович Райс. Выходец откуда-то из Буковины, он знал пятнадцать языков и был необыкновенно начитан. В молодости случилось ему записаться во французскую компартию, а в мое время ударился он в ультраортодоксальный иудаизм. Помню, как в столовке накрывал он плечи талесом, надевал ермолку и, раскачиваясь, бормотал что-то. Неожиданно стал он членом НТС. И странно было видеть его большой семитский нос среди русейших физиономий энтеэсовцев. Эммануил Матусович был снобом и всегда хотел эпатировать собеседника, вот как Марков, что в таких умных людях удивительно. Он был очень проницательным критиком, и его двадцатистраничная статья обо мне в “Возрождении” меня порадовала меткими и тонкими замечаниями»[1]. Этот мини-портрет, хоть и выглядит дружеским шаржем, тем не менее, очень точен, хотя и не полон.
Эммануил Матусович Райс родился 14 августа 1909 г. в Хотине (тогда это была российская окраина, Бессарабия, через несколько лет ставшая румынской территорией). Там же, в Хотине, только уже румынском, в 1927 г. Райс окончил школу, после чего учился на юридическом факультете в Бухаресте. Вернувшись в Хотин в 1931 г., работал адвокатом, а в 1934 г. перебрался в Париж.
Большую часть жизни Райс неустанно учился. Был студентом юридического факультета Сорбонны, получил степень магистра, затем филологического факультета (faculte des lettres; М.А. 1946). Параллельно в 1936 г. получил диплом журналиста в Высшей школе социальных наук в Париже.
Причем официальными учебными заведениями Райс не ограничивался, гораздо больше занимаясь самообразованием. Такое упорство принесло определенные результаты. Помимо румынского, польского, русского и украинского, которыми владел свободно, Райс говорил и писал на французском, английском, немецком, читал на шведском, испанском, португальском, голландском, чешском, знал также латынь и иврит.
В 1920-е гг. Райс, по его собственным словам, «увлекался евразийством». Позже буддизмом. Во время войны почувствовал себя евреем и последовательно и довольно глубоко освоился как в ортодоксальном иудаизме, так и в хасидской мистике. Состоял членом парижской масонской ложи «Гамаюн», а после войны в качестве иностранного члена присоединялся также кложе «Великая триада» и к ложе «Голос Украины»[2].
Не было, кажется, ни одного модного миросозерцания в эмиграции, которого бы Райс не попробовал: евразийство, масонство, иудаизм, солидаризм — все ему было интересно и ко всем новым организациям он поочередно принадлежал. (Но именно поочередно, т. е. в каждый конкретный момент был абсолютно искренен, — искал не выгоду, а истину.) В этом он очень похож на Сергея Эфрона, принадлежит к тому же типу вечно ищущего, вечно неудовлетворенного еврея, навсегда пронзенного русской литературой, которая не слишком-то отвечает взаимностью. «Юноша бледный со взором горящим». Впрочем, так далеко, как Эфрон, Райс в своих устремлениях не заходил, сомнительные практические действия отталкивали его, и он предпочитал ограничиться доктриной.
Во время Второй мировой войны Райс оказался в Лионе, где пытался заниматься издательским делом, а с 1943 г. принял участие в Сопротивлении в Гренобле и в Сен-Лоран-де-Понт.
Вернувшись после войны в Париж, вновь с прежней страстью бросился в гуманитарную деятельность: преподавал языки, занимался переводами, а с 1947 г. работал в парижских библиотеках, дольше всего в Библиотеке Национальной школы живых восточных языков (Bibliotheque de l’Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes) (в 1955 г. он получил, вдобавок к уже имеющимся дипломам, еще и диплом библиотекаря). Недолгое время работал на радио «Освобождение», откуда был уволен за резкое выступление против англо-французской интервенции в Египет. Участвовал в составлении нескольких антологий[3], печатался в изданиях эмигрантских (как русских, так и украинских), а также французских. Писал о Маяковском, Мандельштаме, Заболоцком, Клюеве, Волошине, Бродском и одновременно о таких авторах, как Юлиан Тувим, Самюэль Беккет, Ален Роб-Грийе, Натали Саррот, Альбер Камю, Рене Шар, Рене Генон.
С 1962 г. Райс преподавал, выступал с лекциями по истории культуры, работал в Национальном центре научных исследований. Последние годы жизни преподавал в Нантеровском отделении Парижского университета, пока не заболел и не был вынужден уйти на пенсию. После длительной болезни скончался в университетском госпитале 28 января 1981 г.
В некрологе К.Д. Померанцев написал: «Это был один из замечательнейших людей, с которыми мне приходилось встречаться»[4].
С В.Ф. Марковым Райс переписывался на протяжении четверти века, причем до последних дней не переставал проявлять горячий интерес к литературе, книжным новинкам, незаслуженно (а порой и заслуженно) забытым или только что появившимся поэтам.
Их переписка, практически целиком литературная, в деталях раскрывающая малоизученный период эмигрантской литературы, — один из любопытнейших документов послевоенной эмиграции, занятное отражение мнений и взглядов тех лет.
Из нее более наглядно, чем из печатных критических отзывов, видно, что именно из советской литературы читали и ценили в эмиграции, И это несмотря на то, что у Райса свой собственный взгляд на все процессы. Порой все же слишком свой, непопаданий многовато, но сама задача поиска была особая — выявить все наиболее интересное и новое, даже у самых что ни на есть твердокаменных советских авторов.
Именно постоянное устремление к самому что ни на есть новейшему в литературе постоянно играло с Райсом дурные шутки. Он предпочел бы, чтобы Нобелевскую премию дали Пильняку или Бердяеву, но не Бунину. Ахмадулину считал скучнее Юнны Мориц. Выражал искреннюю радость, если Марков не включал в очередную антологию стихи Бродского или Адамовича, и тут же сетовал, что за пределами антологии остались стихи Дмитрия Ковалева и Сергея Рафальского. Все это теперь выглядит смешно, но ведь то же самое регулярно повторяется и сейчас, однако поклонников новизны во что бы то ни стало ничуть не расхолаживает. Даже Марков, сам недаром слывущий пижоном и эпатажником, не мог себе позволить быть столь радикальным в своих суждениях и оценках.
Переписка любопытна еще и тем, что на этот раз известного эпатажника Маркова критиковали слева. Его, любившего закатить пощечину общественной России, пропагандировавшего самые по тем временам экспериментальные литературные образцы, теперь упрекали в том, что он чересчур банален во вкусах и идет на уступки вкусам широкой публики. Поначалу Марков непременно отговаривался тем, что это был нажим издательств, что тут скрытая ирония, но в конце концов и он вынужден был назвать Райса «загибальщиком».
Многие письма по объему очень велики и зачастую представляют развернутое выступление на литературные темы, полемику или целый трактат. Сказывается исключительная начитанность автора, распространяющаяся, помимо эмигрантской и советской литературы, также на классику и иностранные литературы на всей доброй дюжине языков, которые он знал.
Некоторые идеи, как видно из писем, были внушены Маркову Райсом (в частности, именно он обратил внимание Маркова на Кузмина, на Бальмонта, и спустя время Марков подготовил издания того и другого, заставившие многих изменить установившиеся мнения об этих поэтах). Он же был одним из тех, кто отговорил Маркова продолжать писать стихи, усиленно предлагая нажимать в первую очередь на критику, и в результате Марков вошел в историю литературы в первую очередь именно как критик.
При этом именно полемика с Райсом оказалась для Маркова наиболее плодотворной. В процессе переписки, и даже не без участия Райса, появилось основополагающее исследование Маркова по футуризму, были заложены основы целого направления в американской славистике. С Кленовским Марков переписку оборвал после того, как обменялись мнениями о стихах друг друга, с Вишняком — после того как обменялись оплеухами по поводу критики, с Райсом же переписка порой затихала на годы, но всегда возобновлялась, хотя отзывы Райса о стихах Маркова были наиболее нелицеприятными из всех.
Любопытен феномен своеобразного эмигрантского самиздата, которому в письмах отведено огромное место. В условиях «железного занавеса» в Париже и Лос-Анджелесе четырьмя копиями «Эрики» были озабочены ничуть не меньше, чем на московских кухнях, и это несмотря на уже появившиеся фотостаты и ксероксы.
Поздно освоенный Райсом русский язык, о котором и сам он, и вслед за ним Марков отзывались скептически, при ближайшем рассмотрении вовсе не так плох, по крайней мере в письмах. Кое-кому из коренных русских литераторов того периода не грех было бы и поучиться.
Письма сохранились в архиве Маркова и ныне находятся в РГАЛИ (Ф. 1348. Собрание писем писателей, ученых, общественных деятелей). Текст печатается по ксерокопиям с оригиналов. Пунктуация, которой Райс в своих письмах слишком часто пренебрегал, приведена к современным нормам, однако сохранены наиболее характерные для его стиля особенности. Имена, произведения и издания, сведения о которых можно почерпнуть в широко доступных энциклопедиях, справочниках и учебниках, не комментируются (иначе пришлось бы в качестве примечаний переписать добрую часть Larusse и Большой российской энциклопедии совокупно с Брокгаузом и Ефроном, настолько много имен приводит Райс всуе). Да и вряд ли эти письма станет читать человек, которому надо объяснять, кто такие Малларме, Эренбург, Флоренский или Унамуно, а также уточнять разницу между журналами «Путь» и «Новый путь».
1
Париж 17-1-55
Многоуважаемый господин Марков.
Ваша книга «Приглушенные голоса»[5] была для меня большой радостью. Наконец-то появился в эмиграции человек, глядящий на поэзию более широко и открыто, чем все, свободный от тиранически господствующего близорукого и провинциального литературно-критического трафарета всех остальных наших критиков.
На самом деле не все Ваши коллеги столь ограничены. Многие из них внутренне негодуют, но ни у кого из них, до Вас, не хватило смелости утверждать ценности, выходящие за рамки трусливого конформизма, остановившегося где-то недалеко до первых проявлений символизма.
Ваши статьи о Хлебникове[6] (в «Гранях» № 22) и о футуристах[7] вообще (в «Новом журнале» № 38), только что мною прочитанные, — еще смелее, еще культурнее и идут еще дальше, чем введение к Вашей первой (первой из мне известных) книг.
Без всякого Вам комплимента — не знаю, найдется ли среди критиков эмиграции равный Вам по любви к литературе и по широте горизонта — а не это ли главные достоинства критики?
В связи с Вашей расширяющейся деятельностью, я разрешил себе побеспокоить Вас письмом, в надежде установить с Вами контакт, вот для какой цели:
Вам, возможно, известен термин «Русский ренессанс», применяемый некоторыми нашими идеологами (Бердяев, Степун, Вышеславцев и т. д.) к эпохе, которую Вы обычно называете «Серебряным веком»[8]. Революция сломила рост этого движения, открывавшего неограниченные возможности. Но и достигнутого достаточно для того, чтобы обеспечить за русской культурой одно из первых мест в мире. Во многих областях до сих пор (35 лет спустя) другие народы не достигли уровня некоторых из наиболее выдающихся представителей этой эпохи, напр<имер> Розанова, Белого, Шестова, Флоренского, Лосева и мн<огих> др<угих>, не говоря о поэтах.
В настоящее время — после многолетних усилий большевизма — порыв этот сломлен почти непоправимо. Так, по крайней мере, кажется, глядя на СССР из эмиграции. Есть ли там молодежь способная и желающая оставаться на культурном уровне 1920 года? Есть ли у нее для этого физическая и практическая возможность?
Увы — не знаю, но сомневаюсь. Вы — пока единственный из новых эмигрантов, мне известных лично или по их произведениям, остающийся на уровне Ренессанса и способный обеспечить преемственность для будущего.
Старики — один за другим уходят — напр<имер>, Вяч. Иванов, или же теряют влияние. Может быть, в момент, когда Россия снова будет свободной и получит возможность вернуться на свой творческий путь, — не окажется у нее больше людей, способных возобновить прерванную связь с бывшим расцветом.
По воле судьбы мне повезло — я и лично знал многих представителей Ренессанса, и имел возможность познакомиться с их творчеством по книгам. Кроме того, мне посчастливилось приобрести общую культуру, вряд ли доступную большинству желающих из современной русской молодежи.
Мое горячее желание, если таковая возможность предвидится, — поставить на службу русской культуре мои силы, в указанном направлении.
Обращаюсь для этого к Вам как к человеку, вполне эти проблемы понимающему и живущему ими (это видно по всему Вами написанному), и не сомневаюсь, что Вы это поймете.
Оставляя временно в стороне вопрос о возможностях воздействия на молодежь в СССР, увы, отрезанную от нас силой вещей (хотя и не могу примириться с тем, чтобы никогда и никак, раз навсегда, мы должны были бы отказаться от мысли им помочь) — нельзя ли как-нибудь показать ценности нашей культуры молодежи, живущей в эмиграции.
В ее среде наверное есть люди, жаждущие подлинной культуры. Их кормят почитанием эмигрантских авторитетов, часто мало чем превосходящих советские.
Я не могу себе представить, чтобы знакомство с живой культурой нашего недавнего прошлого (которое для меня, и наверное, и для Вас — есть настоящее и будущее — или путь к будущему) не зажгло хотя бы некоторых из них.
В этом прошу Вас мне помочь, дорогой господин Марков, если можете. А если нет — извините меня, пожалуйста, за это длинное письмо.
С глубоким уважением и с радостью встретить живого, замечательного, духовно близкого человека остаюсь преданным Вам
Э. Райс
P. S. Простите меня за мое фамильярное обращение к Вам, к сожалению не знаю и не смог узнать Ваше имя-отчество.
Exp: Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIe
2
Париж 17-2-54[9]
Дорогой Владимир Федорович.
Написал Вам было в первый раз — потому что меня инстинктивно потянуло к Вам. И, действительно, вижу — что не ошибся. То, что Вы рассказываете о себе и о русской молодежи — очень интересно. Но главное — направленность Ваших исканий…
Начну с того, чтобы, со своей стороны, рассказать Вам вкратце о себе — то, что может Вам помочь ориентироваться. Не в пример Вам — я человек с окраины — родился в Бессарабии (Хотин) в еврейской семье в 1909 г. В 1918 г. нас оккупировали румыны, что мне дало возможность ознакомиться и с их языком и культурой, довольно значительными. Как и все окружающие — считал себя русским и жил русской культурой. Только в провинции, у нас, ценили главным образом то, что и теперь прославляется в СССР: Пушкин — Гоголь — Лермонтов — конечно! Но затем — Белинский — Писарев — Добролюбов — и имя им легион, даже Надсон, Скабичевский и еще хуже. Понимать Пушкина учились у Белинского.
Только, помню, меня никогда не удовлетворяла эта «критика» — инстинктивно я чувствовал, что это «не то», но не знал, где искать настоящее. О Брюсове, напр<имер>, или о Гиппиус у нас говорили презрительно, как о «декадентах», которых следовало чураться, чтобы избежать развращения.
Поэтому, еще в гимназии, через румын, я приник к французам (Бодлер — Рембо — Маллармэ) и увлекся ими. К русской же культуре относился с легким пренебрежением.
И вот, в Париже, куда я попал в 1934 г., я встретился с эмигрантами, которые мне открыли подлинную, мою Россию — у которой я очень быстро почувствовал себя дома — впервые в своей жизни. Наиболее сильное впечатление произвели на меня Розанов, Белый, Шестов, а среди поэтов Сологуб, Блок, Кузмин, Мандельштам, Цветаева, Хлебников…
Но, как и Вы теперь, был далек от религии, и поэтому многое оставалось мне закрытым.
Когда наступила гитлеровщина, я открыл свое еврейство, сначала из оскорбленной гордости, потом и духовное ядро. Изучил древн<е>евр<ейский> язык и получил доступ к величайшей мистике и метафизике человечества — к Талмуду, Зогару, лурианской каббале, хасидизму и т. д. (Верьте, что это я не из патриотизма — давно люблю и изучаю и индусскую, и китайскую, и мусульманскую, и западную мудрость.) Думал себя посвятить целиком этому, но пришлось бросить из-за того, что, взявшись 35 лет от роду за изучение древн<е>евр<ейского> языка и письменности, я убедился, что навеки осужден в них оставаться подмастерьем или калекой.
Вернувшись после войны в мою русскую стихию в Париж (хотя и сильно обедневшую) — выкристаллизовалось так: оставаться духовно евреем русской культуры. Опыт, приобретенный в еврействе, открыл мне глаза на духовность русского православия — главн<ым> обр<азом> на раскол. Кроме Аввакума, раскольники никогда не переставали творить напряженно и прекрасно в области веры. Они создали богатейшую, прекрасную литературу, увы, очень мало известную, даже самым образованным русским (все-таки покойный Г.П. Федотов ее знал и немало говорил мне о ней). Затем — русская философия, начиная от Сковороды и славянофилов до недавно умерших Франка и Булгакова. Особенно меня поразили погубленные большевиками Флоренский и А.Ф. Лосев — последний выступил в печати уже при большевиках и на свои личные средства, в советских условиях, выпустил 5–6 книг, вероятно наиболее гениальных из всего созданного в области мысли в XX веке во всем мире.
Ну вот — только теперь, когда все богатство Ренессанса мне, наконец, открылось, — оказывается, поздно. Мы с Вами, дорогой Владимир Федорович, остались, б. м., последними чудаками, интересующимися столь «несозвучным эпохе» старьем.
Но сидеть сложа руки, конечно, нечего. Именно встреча с Вами дает мне надежду. Если нас двое — значит, несомненно, где-то, неизвестно где, есть еще люди, стремящиеся к тому же самому, и мне кажется, что Ваши статьи и книга наверняка сделают большое дело, не только «растормошив», но и послужив сигналом ко встрече и объединению одиночек, ищущих того же, что и Вы.
М. б., наступает пора скликать рассеянную рать русской культуры для будущего, которого мы, конечно, знать не можем, но готовить обязаны. Солнце может встать неожиданно и растопить льды. А ведь 10 таких человек, как Вы (не только критиков, но и поэтов, повествователей, мистиков и т. д.), — это уже солнце. И даже если нам не дожить до настоящей весны, то наш труд не пропадет — он ее готовит, как не пропал даром труд парижских поэтов, которые в будущем непременно вольются в русло русской литературы ценной струей, свежей, новой и нужной.
Разве Аполлон Григорьев, Случевский или Леонтьев, тоже погибшие в безвременьи и писаревщине, не помогли возникновению Ренессанса и не обогатили его.
Даже еще больше — разруганный Писаревым и Ко философ Юркевич[10] — был учителем Соловьева, который без него, м. 6., так и остался бы «нигилистом», а без Соловьева не было бы Блока и Белого, т. е…. ничего.
Почему же нам отчаиваться и не верить в свои силы и в свое назначение?
Дать Вам список? Попытаюсь, хотя может случиться, что то, что мне показалось важным и что произвело сильное впечатление на меня, почему-либо (разница от личности к личности) оставит Вас равнодушным. Многое Вы, верно, сами знаете.
1. Иван Коневской — поэт, критик и философ, умерший очень молодым, поэтому неровный и часто незрелый, но в своих наилучших достижениях — гениальный.
2. Мережковский — лучше всего в лит<ературной> критике:
«Толстой и Достоевский» т. I.
«Гоголь и чорт»
м. б., также «Вечные спутники» — сборник кратких статей.
3. Розанов: «Природа и история»
«Люди лунного света»
«Опавшие листья»
«Уединенное»
«Апокалипсис нашего времени»
«Восточные мотивы»
«Русская церковь», а если его полюбите — то и все остальное, за редкими исключениями.
4. Белый: «Возврат»
«На перевале»
«Котик Летаев»
«Арабески»
«Символизм»
«Луг зеленый»
«Петербург» (первое издание в составе альманаха «Сирин») есть у него и гениальные стихи, напр<имер> поэма «Искуситель» в сборнике стихов, изданном Гржебиным в Берлине в начале 20-х годов[11].
5. Шестов — «Власть ключей»
«На весах у Иова»
«Афины и Иерусалим»
6. Флоренский — статьи, вышедшие в «Богословском вестнике» между 1910–1918 гг. В особенности гениальная «Корни идеализма».
7. Франк «Непостижимое»
«Живое знание»
8. Н. Трубецкой — К проблеме русского самопознания
9. Книги А.Н. Бенуа о живописи
10. Булгаков С. — «Философия хозяйства»
— «Свет невечерний» (лучшее краткое изложение метафизики православия из мне известных, имеет и самостоятельную философскую ценность)
11. Волынский А.Л. — «Русские критики» — книга очень важная тем, что он разделывает Белинского — Чернышевского и Ко, — сводя их к их истинным размерам, путем острого и толкового анализа их писаний.
12. Лосев — «Очерки античного символизма и мифологии»
— «Диалектика художественной формы»
— «Философия имени»
13. Замечательным русским языком написаны анонимные «Откровенные рассказы странника духовному отцу своему», даже если их содержание бы и не нашло отзвука в Вашей душе.
14. «Мелкий бес» Сологуба мне кажется наилучшим русским романом после Достоевского.
15. У А.М. Ремизова предпочитаю: «Посолонь», «Николины притчи», «Зга» — это единственная в своем роде в мире фантастика. Но также и романы: «Крестовые сестры», «Стратилатов», «В поле блакитном».
М. б., для Вас окажутся полезными: «А History of Russian literature» Д. C.-Мирского, у которого я очень многому научился. Это — лучшая история русской литературы, какая есть. Просмотрите также историю русской философии В. Зеньковского, в особенности его блестящую книгу «Русские мыслители и Европа».
Вы наверное найдете немало интересного в хороших журналах Ренессанса: «Новый путь», «Весы», а также в сборниках евразийцев, вышедших в эмиграции. Еще журнал «Путь».
По части раскола порекомендую Вам для начала «Опровержение безбожия»[12] Федора Мельникова, нашего современника.
Среди писателей, появившихся в эмиграции, самый значительный, по — моему, это Борис Поплавский — читайте все, что Вы найдете, — в особенности «Флаги» (стихи), дневник и отрывки из неоконченного романа.
Еще хорошие поэты-эмигранты: Борис Божнев, Виктор Мамченко («Звезды в аду»), Пиотровский, Гингер, Дряхлов и, конечно, в первую очередь — Цветаева…
М. б. — слишком длинно, а м. б., в следующий раз продолжу…
На этот раз и так уж Вас очень долго задержал. Но охотно готов попытаться установить с Вами «дискуссию». Если Вы боретесь с самим собой в Ваших статьях — попытайтесь, напр<имер>, выставить, в дальнейшем, Вашего внутреннего противника в письмах — будем надеяться, что война с ним произойдет на надлежащем уровне.
Во всяком случае — идея дискуссии принадлежит Вам — стало быть, Вам и начинать ее, если Вы считаете это нужным. Со своей стороны я только могу Вас уверить, что постараюсь ее вести насколько смогу лучше.
В печати — сомневаюсь, удастся ли Вам добиться дискуссии — и из-за невысокого уровня большинства пишущих, и из-за личных и карьерных соображений, которыми многие из них грешны.
Но если бы оказалось (история знает несколько таких случаев, напр<имер>, изумительная «переписка из двух углов» Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона — которую тоже Вам горячо рекомендую — завязавшаяся между ними в революционном Ленинграде[13]), что наша частная дискуссия представляет общий интерес — можно было бы ее подготовить к печати и этим тоже поспособствовать «растормошению» и собиранию сил.
Переоценку ценностей производите Вы пока блестяще в Вашей книге и ваших статьях. Если мне удастся найти еще экземпляр (она уже, увы, почти распродана) моей антологии русской поэзии по-французски[14] — Вы в ней найдете попытку расчищения поля для переоценки ценностей. Она мне стоила неслыханных ругательных отповедей со стороны российской пишущей братии, на что, конечно, не стоит обращать внимания. Вот Ваше суждение будет мне ценным — и я надеюсь, что Вы не постесняетесь меня разделать там, где я это заслуживаю.
Ту же работу я пытаюсь провести и в труде, над которым сижу сейчас и который тоже, увы, пишется по-французски[15].
До Вас все тут переоценки ценностей боялись — заботясь главным образом о неприкосновенности кумиров. И в этом отношении я как нельзя более рад Вам — ибо для переоценки важно проверять свои собственные суждения, могущие оказаться однобокими.
С нетерпением жду Вашего ответа.
Искренне Вам преданный
Эммануил Матусович Райс
3
<март 1955 г.>[16]
Дорогой Владимир Федорович.
На этот раз, конечно, я охотно осведомлю Вас о том, что Вас интересует и что знаю, но и в свою очередь попрошу Вас осведомить меня о вещах, которые, вижу, Вы знаете лучше моего.
В Вашей последней статье о футуризме в «Н<овом> ж<урнале>» вы говорите о молодом советском поэте Викторе Урине[17]. Стихи его, к сожалению, Парижа не достигли. Поэтому я хотел бы Вас попросить указать, где и в каких сов<етских> журналах последнего времени можно найти его стихи.
Если же они вышли в форме книжки, то не будет ли с моей стороны злоупотреблением Вашей любезностью просьба переписать для меня одно-два стихотворения из наиболее, по-Вашему, замечательных.
За это время мне попалась антология новой советской поэзии, составленная в СССР[18]. Как она ни лицеприятна, как ее составители ни осторожны — она обратила мое внимание на ряд молодых советских поэтов, несомненно очень одаренных. Самые интересные среди них, по-моему (в пределах показанного в этой антологии), следующие: Асадов, Бауков, Ваншенкин, Владимир Замятин, Осип Колычев, Марк Лисянский, Матусовский, Межиров, Осин, Сидоренко, Сергей Смирнов, Марк Соболь, Вадим Стрельченко, Черноморцев и Шубин[19]. Урин тоже представлен в ней одним стихотворением, но неинтересным. Я не упомянул о лицах более известных, как Коваленков, Мартынов, Дудин или Гудзенко, думая, что и Вы их знаете. В книге еще много других поэтов, но судить об их достоинстве трудно, ибо они представлены стихами о Сталине и проч. Я все-таки старался быть очень беспристрастным, и в числе тех, на кого я Вам указал, есть и такие, идеи которых для меня отвратны. Но если ткань стиха живая, то я интересуюсь и ими.
Все это мне кажется важным потому, что мы находимся, м. б., перед возможным расцветом русской поэзии в СССР. Несколько раз ее обезглавили. Каждая чистка, вместе с тем, сужала донельзя и без того тесные рамки творческих возможностей. Но вот, после последней чистки (ждановской), которая мне казалась смертельной — снова живые зеленые побеги, сумевшие пробиться в щели даже ждановского гранита. Как не порадоваться?
И если бы Бог дал, чтобы новая чистка повременила еще лет 10 (потом будет видно) — то русская поэзия, по-видимому, может надеяться на новый, пусть ограниченный расцвет.
Поэтому, если Вы заметили интересных новых поэтов, ускользнувших от моего внимания — искренне Вам буду благодарен, если Вы мне на них укажете.
Хотелось бы вернуться к Вашей статье о футуристах. Если я Вас правильно понял, футуризм для Вас некое «свойство» русской поэзии (а м. б., и не только русской) вообще — некая устремленность к смелой живой и яркой образности при смелости обращения с наличными словарем и синтаксисом.
Если так, то могут слыть футуристами также и многие поэты прошлого: Державин, Ширинский-Шихматов, Семен Бобров, поздний Батюшков, Языков, Бенедиктов, Случевский, «вздорная» поэзия А.К. Толстого и Вл. Соловьева. Все это близко к тому, что я называю традицией барокко в русской литературе (Аввакум, Ванька Каин, Гоголь, Лесков, Белый, Ремизов, Замятин, Леонов…), противостоящей традиции классической (Пушкин, проза Лермонтова, Толстой, Леонтьев, Чехов, Бунин, Паустовский…), которую я ощущаю менее русской, но, м. б., только лично от меня более далекой. Розанов соответствовал бы барокко-футуризму, Бердяев и Шестов — классицизму.
Вообще же эта Ваша новая статья вносит в русскую литературу очень полезную возбуждающую ноту, и, мне кажется, из всего Вами до сих пор написанного (из дошедшего до меня) возникает некая картина Вашей личности и миросозерцания, которое сможет служить исходной точкой для дальнейшего контакта.
По моему ощущению, точки соприкосновения есть, полного же единомыслия — не знаю, стоит ли и желать. Ведь тогда живой обмен мыслей был бы невозможен. Для меня у Вас ценно не единомыслие как таковое, а Ваша личность, в том, что в ней есть специфического, единственного, на меня не похожего. Вообще, мне кажется полезным не единомыслие, а возможность договориться, способность понять друг друга. Ведь в жизни часто бывает, что люди не способны понять друг друга, начиная с самых основных исходных точек. Или же, если они видят, что пути и цели их различны. Напр<имер>, мне было бы совершенно невозможно общаться с человеком, для которого, напр<имер>, поэзия и литература вообще — глупости и «непонятное», а цель — благоустроение квартир по дешевым ценам или ускорение процесса сварки синтетического каучука.
И даже, напр<имер>, с покойником И.А. Буниным, для которого Блок был развратным болтуном, а в церковь надо было ходить из благовоспитанности, — тоже очень трудно было общаться, дальше поздравлений его с именинами и с Новым годом дело не шло.
Теперь возьмем по порядку многочисленные вопросы, поставленные Вашим письмом.
1. Молчал гл<авным> обр<азом> из-за готовящегося конгресса зарубежных писателей[20], который отнимает у меня почти все время, свободное от службы. Еще неизвестно, состоится ли он и какова будет его физиономия. Занимаюсь же им так усердно именно в надежде дать толчок хаотическим силам, одиноко прозябающим всюду понемногу — ив Париже, и вот у Вас, и в других местах. Иногда такой толчок, чисто внешний, может привести к кристаллизации наличного. Мое предложение об объединении единомыслящих Вы, по-видимому, поняли чересчур категорически. В таких вопросах, как литература, за неимением больших материальных средств (издательских), вообще «организовывать» ничего нельзя. Но можно и нужно холить ростки, содействовать созреванию. Отдельных лиц — напр<имер> Вас, себя самого и др., я рассматриваю как ростки возможной русской культуры. В изоляции и в тяжелых материальных и моральных условиях такие ростки легко погибают.
Ведь страшная вещь — непонимание людей. Одни на нас дуют «бореем», потому что им на всякую литературу наплевать и они предпочитают сажать капусту или глазеть на витрины универмагов, другие — потому что литература для них — это пропаганда на услужении у той или иной власти, для третьих она — развлечение и т. д. По Вашему первому письму у меня сложилось было такое впечатление, что Вашу замечательную и ценную работу Вы склонны были недооценивать, пренебрегать ею, что Вы сомневались в ее правоте. Если это было так и если мои письма смогли хоть сколько-нибудь «отогреть» Вас и показать Вам, что хоть одному человеку на свете Ваше творчество нужно (и я наверняка не один — вот на днях, в разговоре с В.В. Вейдле о Вас, он назвал Вас «очень талантливым критиком, которого я всегда читаю с удовольствием») — то значит, что с некоторой точки зрения я правильно поступил.
Больше, чем мы можем, мы, наверное, делать не должны. Но то, что мы можем сделать, — это наш долг. Пока — забота о росте. А по мере роста и созревания наличных возможностей — наверняка выяснятся и новые задачи, и новые пути к их разрешению.
Молчание по поводу Вас я бы счел, со своей стороны, за обжорство — другой говорит, ты глотаешь, облизываешься и поворачиваешься на другой бок храпеть.
Действуя же в пределах наших ограниченных возможностей, возбуждая мысль, деятельность и волю друг друга, мы способствуем росту. Когда же и что вырастет и вырастет ли — не нам знать. Но я верю, что что-то когда-то вырастет — вот и Вы верите, что «труд не пропадет» — а когда подрастет, то мы увидим, что делать дальше. Та же интуиция, которая толкнула меня писать Вам, с риском бесполезно обеспокоить незнакомого человека, подскажет и тогда, что делать, б. м., уже более действенное и фактически дельное. Трудно судить, что вырастет из крохотной зеленой ниточки, еле пробившейся из земли — простая ли травка, или полезная овощь, или целое дерево. Но я уверен, что из таких крохотных ростков, как эта наша переписка, может вырасти и большое дело. Одним из условий — мне кажется — это не заботиться о результатах — предоставить их тому, кто может из былинки вырастить дуб, как может и дать ее растоптать проходящей корове.
Я все-таки ощущаю переписку с Вами как живое, — а об остальном не нам судить. Если же и когда бы дело достигло стадии, о которой пишете Вы — «собирание людей» — то тогда, верно, появились бы и средства для издания и возможности другой работы. Вы вот в Калифорнии, а я в Париже, но надеюсь, что встретимся и… больше сейчас и не имею права, и не хочу сказать об этом. Но встреча личная — насколько это больше, чем переписка!
Если «Переписка из двух углов» Вас не вдохновила (ведь она может заполниться какой угодно экзистенцией, отнюдь не непременно ихней) — то, м. б., Вам больше скажет пример Белого и Блока, переписывавшихся года 2–3 до своей встречи. Насколько бы они нас (даже Вас) ни превосходили дарованием — знали ли они, могли ли они знать, когда Белый впервые похвалил Блока за его ранние стихи, что из этого выйдет первый русский Ренессанс? Просто два студента «встретились» в своих устремлениях. Так и теперь я уверен, что где-то в пространстве, около нас, есть и будут люди, наши устремления разделяющие. Если же травинку тянуть из земли, то она не вырастет скорее, а засохнет.
2. «Список» — вот видите — Вы без меня многое знали. Так что и я у Вас обратный «список» попрошу — в нем наверняка будет многое, чего я не знаю, а во вкусе Вашем я уверен — еще с «Приглушенных голосов». В Париже можно найти в продаже некоторые книги Шестова, Бердяева, Булгакова и Франка. Издания же, вышедшие в России до революции, как и книги из СССР до 1945 г., если и удается достать, то за очень большие деньги, не меньше чем за 10 долл<аров> книга.
Вот некоторые книги, кот<орые> я наверное могу для Вас купить, если желаете: Шестов — Киркегаард, Афины и Иерусалим, м. б., «На весах у Иова» и «Власть ключей». Бердяев: «Самопознание», «О рабстве и свободе человека», «Царство духа и царство Кесаря» и, м. б., «Назначение человека». Булгаков — Автобиографические заметки, а также и хорошее, обстоятельное изложение его мысли Л. Зандером, под заглавием «Бог и мир». Там много цитат из всех его произведений. Франк — Непостижимое — это и есть его лучшая книга.
М. б., Вас заинтересует хорошая «История русской философии» В. Зеньковского и его же «Русские мыслители и Европа», в которой много ценных цитат из Данилевского, Леонтьева и др. Имеется сборник статей, посвященных Франку, в котором его мысль хорошо излагается несколькими талантливыми мыслителями — В. Ильиным, Флоровским и др. Коневского, Флоренского, Лосева и Мельникова-Печерского, увы, достать нет почти никакой надежды. Но если появится случай, я Вас немедленно оповещу, но увы, тут цены будут тяжелые.
Советовал Вам читать Белого «Петербург» в 1-м издании, потому что оно самое полное и самое верное. Берлинское издание очень сильно сокращено по коммерческим соображениям не самим Белым, к тому же, готовясь к возвращению в СССР, он в нем видоизменил, иногда очень чувствительно, многие места в смысле, приятном для большевиков. По этой редакции выходит так, что революция все спасает, и этим настроение безвыходности — основная нота произведения, сложное чувство какой-то трагической запутанности — выветривается, из-за чего создается впечатление каких-то судорожных торопливых отрывков с улыбочкой в сторону террористов.
Советское же издание — еще усиливает этот недостаток, хотя и восстанавливает некоторые отрывки, вычеркнутые в берлинском издании. Скажу больше: только первая редакция сможет Вам дать представление о калибре — необыкновенно великом — этого романа, б. м. величайшего в России в XX веке — и не только в России. Лично мне «Петербург» кажется значительнее романов Пруста и отчасти даже Джойса.
3. Восток и «религия». Если я Вам указывал и на кое-какие восточные книги, это не из-за их восточности, а из-за их обще-человечности. Я и сам от Востока далек — языков его не знаю, а однажды, до войны, мой друг, покойный Ю.А. Ширинский[21](утвержденец), угостил меня «индокитайскими» конфетами. От них шел какой-то странный, острый запах, от которого меня чуть не стошнило. Глядя на это, Ю.А. сказал: «плохой из Вас получится азиат» (в это время я увлекался евразийством).
Но зато, напр<имер>, китайский таоист Чуан Цзе[22], живший за 4 века до Р.Х. (которого я Вам, наверное, указал, а если нет — то горячо рекомендую) — мне ближе, чем лично знакомый француз, бывший товарищ по университету и сосед по площадке, но коммунист, спортсмен и убежденный математик (инженер по профессии). Все-таки Чуан Цзе мне современник и люблю его как брата, ибо и он болеет моими страданиями, а вышеуказанный француз — как если бы он жил до Р.Х. или на острове Фиджи. Я Вам указал только тех, кто мне близки, в надежде, что и Вы могли бы встретить среди них близких Вам.
Сам же я, как еврей, вероятно, одинаково далек и от Запада, и от Востока — или одинаково близок. Ближе других мне — Россия, хотя не знаю, такая ли она теперь, как та, в которой родился и которую до сих пор люблю. Вот Вы — для меня первая серьезная встреча с новой Россией, с сегодняшней, и хочется верить, что она похожа на прежнюю, ибо обе ведь, в сущности, лишь образы России вечной и уж по этому одному не могут чересчур отличаться одна от другой.
А Россию, как и еврейство, ощущаю как нечто вне Запада и вне Востока (Север, что ли?), но как нечто могущее вместить и Запад и Восток. Ведь европейцы, напр<имер> (кроме германцев, которые на одну четверть «евразийцы»), — понимают только самих себя. Американцы будто шире… ой ли?
4. Кузмин. Понимаю, почему он Вам чужд. Но он замечательный мастер, и поучиться у него могли и должны бы и советские поэты, и Вы. Если будет время, попробую переписать для Вас 2–3 стихотворения, увидим, м. 6., и они до Вас дойдут, несмотря на стилизацию, от которой он никогда не свободен, но ведь, напр<имер>, у Мандельштама стилизации сколько угодно.
5. Сковорода… если хотите, попытаюсь достать для Вас брошюрку Бобринского[23] о нем с обилием цитат. Вообще неплохая брошюрка, если только еще не распродана…
6. Поплавский. «Флаги» достать трудно, если будет время, перепишу кое-что оттуда. Хотя он еще «западнее», чем Кузмин, и рискует до Вас не дойти. Редактирую в настоящее время издание его дневников, Б<ог> даст, выйдет — в них масса замечательного. Был сборник до войны[24] — распродан, и достать трудно.
7. Глубоко разделяю Вашу мысль: «Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его…» В том, что каждый из нас «берет» — выбирает, проявляется его личность, а в том, что выберем мы все, — коллективная личность того будущего, которое, может быть, прорастает через нас. Вот Вы хотите (несмотря на футуризм) и Толстого (какой «акмеист»!) — ну что ж, у Вас аппетит широкий. Я же к «акмеистам» прохладен, даже к столь внушительным, как Толстой, Расин, Гомер… У Пушкина люблю его русскость (сказки, Русалку, Татьяну). Это все мне ощущается чем-то не только акмеистическим (хотя, понимаю, отнюдь не футуристическим). У Гете люблю «восточность» — чисто футуристическую, как и «Тассо» idem.
Вообще же, в акмеизме воспринимаю кое-что из парижских поэтов и из молодых советских. Разве если объявить футуризмом живое в акмеистах. Но тогда — что же Вы находите в Толстом? Ни капельки футуристического я у него не могу выцедить — сплошной акмеизм! Благородство, чистота, стильность, архитектурность, но… акмеизм. Даже у Гончарова больше футуризма.
У меня аппетит распространился за пределы России. Разделяю Вашу любовь к Wallace Stevens’y — особенно к позднему, начиная с «Idea of order»[25]. Но что Вы скажете об Emily Dickinson? И еще: Рильке, Тракль, Лерке (немцы), Унамуно, Гонгора, Мачадо, а также лирики испанского барокко: Jaurequi[26], Arguijo[27], Espinosa[28] и имя им легион, голландцы поколения начиная с 1880 г. — соответствующего нашему Ренессансу, но длящемуся до сих пор: Boutens, Kloos, Adr. Roland-Holst, Marsman…[29] Tuwim, Slowacki, Norwid, Lesmian (поляки), Blaga[30], Arghesi[31], Barbu[32] (румыны), Lagerkvist[33], Ekelof[34], Sodergran[35] (шведы)… аппетит, как видите, велик, было бы время. Есть и французы (Rimbaud, Laforgue, Apollinaire, Jouve[36], Artaud[37], Chazal[38]), есть и украинцы — Рыльский, Тычина, Стефанович[39].
8. Если будет свободное время (после конгресса и после готовящейся книги) — попробую переводить на русский язык — тогда и Вам покажу. Пока же мой приятель Н.Д. Татищев послал в «Грани» замечательную, обширную статью о Holderlin’e с многочисленными неплохими переводами[40].
9. Если и когда выйдет № 4 «Чисел», с удовольствием и интересом прочту Вашу поэму и напишу посильный разбор[41]. Моя антология уйдет к Вам одновременно с этим письмом, но не по авиону. Прошу Вас о Вашем мнении мне написать, не боясь меня обидеть. Наоборот, будьте возможно более строги.
Пушкин… идея, конечно, замечательная. Но м. б., лучше было бы взяться за нее Вам, если Вы Пушкина достаточно для этого любите. Для того чтобы такая книга была достойна своей судьбы и России — надо чтобы ее автор любил Пушкина больше всей остальной русской литературы, нужна страсть к Пушкину (у Белого она была). Я тут бессилен, ибо и недостаточно его люблю (предпочитаю ему Тютчева, Гоголя, Розанова, Белого, Блока…), и б. м., сам я недостаточно для этого русский. Тут нужна стооднопроцентность — быть чем-то вроде Клюева! Вот Есенин, если бы жил, мог бы написать о Пушкине так, как Вы бы этого хотели.
Но объективно такая книга необходима. Белинский просто неграмотен и «не из той оперы». Теперь же нужен настоящий акмеист. Пушкин все-таки, кажется мне, — не для футуристов.
Будьте пока здоровы. Всегда буду Вас читать с удовольствием и радостью. Не обижайтесь за молчание, за которое, надеюсь, вознаградит личная встреча. Надеюсь, что это письмо застанет Вас в процессе «подъема» и вдохновения.
Ваш Э. Райс
4
Париж 19-10-55
Дорогой Владимир Федорович.
К сожалению, «Опыты» в Париже не получаются, поэтому не мог увидеть ни Вашей длинной поэмы, ни статьи о поэтах и животных[42], сюжет которой очень заманчив. В частном разговоре Адамович говорил мне, что Ваши «романсы» из «Нов<ого> журн<ала>» понравились ему больше поэмы из «Опытов» — но это все, что я знаю.
Зато Ваш «винегрет» из сборника Яковлева[43] оказался очень живым, а во многом так внутренне-близким, что меня прямо тянет Вас за него поблагодарить.
Как хорошо, что Вы вступились за литературную критику![44] Наконец! 250 лет ждали мы этого! По-моему, русская литература до тех пор не станет на свое настоящее поприще, не будет тем, чем она должна и может быть, пока у нее не будет достойной этого имени литературной критики. Именно в отсутствии подлинной критики и выражается, главным образом, наша литературная некультурность, неблагоприятность почвы, на которую попадает каждый начинающий писатель, невоспитанность и неподготовленность интеллигентного читателя (не говоря уж о массовом).
А ею все всегда пренебрегали. Или же, что хуже, называли критикой замаскированную публицистику. Вяземский в «Московском телеграфе» было начал критику всерьез и даже блестяще — не говоря о его прекрасном языке, уме, умении формулировать — большинство его оценок выдержали «испытание временем» и даже продолжают поражать своей верностью. То же самое можно сказать и о критике Пушкина (советский сборник «Пушкин критик»[45], по-моему, старательно составленный) и Кюхельбекера (в «Урании»). Но с концом пушкинской плеяды и с появлением варвара Белинского этому многообещающему началу наступил конец. Началась малограмотная, не очень добросовестная публицистика, в которой Писарев доскакал до «ненужности» поэзии.
Символисты, при свирепом противодействии «общества», воскресили критику. Но ни у Мережковского, ни у Шестова, ни у Белого она не была достаточно «сама собой» — все на поводу разных идей и по их случаю.
Все-таки — не правда ли? — насколько они неизмеримо выше, нужнее, ценнее слюнтяев из «прогрессивных» журналов?!
Настоящая критика была у Брюсова (увы, не всегда очень проницательного), потом у Ходасевича, у Д.П. Мирского и… у Вас! Вы первый и единственный из живых настоящий критик.
Вовсе не собираюсь объявить Вас гением (хотя Вы бесспорно даровиты) — но Вы представитель именно того, чего нам всегда недоставало и недостает. И даже писатели наши почему-то считают критику «вторичной», больше заработным делом, на втором плане.
У нас критики так мало, что, владей я русским языком сколько-нибудь сносно, я бы непременно тоже ею занялся и, м. б., в отчаянии (в особенности, если бы Вы замолчали или перешли бы на английский, как грозите сделать), несмотря на окостенение моего русского языка, все-таки за нее возьмусь.
Замечательные «essays» на русском языке все-таки имеются, но критики, которая бы не была на поводу у разных идеологий — катастрофически мало, а из-за этого даже наши писатели литературно мало образованы.
Вот краткий перечень, по-моему, особенно интересных русских essays: «Отчеты о русской литературе» Киреевского (оба), статья А. Григорьева о Пушкине, многое у Вяземского, статьи, где Пушкин ругает Булгарина (в особенности), «Гоголь и Черт» и первый том «Толстого и Достоевского», а также, пожалуй, «Пушкин» из «Вечных спутников» Мережковского, «Переписка из двух углов» Вяч. Иванова и М. Гершензона, «Общечеловеческие корни идеализма» Флоренского, «Россия и свобода» и «Три столицы» Федотова, «К проблеме русского самопознания» Н. Трубецкого, «Столп злобы богопротивный» В.Н. Ильина[46], статьи Д.П. Мирского в «Евразии»[47], Розанов, Белый и еще очень многое другое. Но мне бы хотелось для русской литературы побольше такого, как «The Retry and the age» R. Jarrell’a, или «Language and gesture» Blackmure’a, или многого из «А Literary history of America», верно, Вам известной.
Ведь у нас нет ни одной живой истории русской литературы! Не переводить же Мирского с английского[48], хотя, в отчаянии, и об этом порой думаешь.
Вместе с тем сознаю свое невежество в этой области и, в частности, не знаю, где были напечатаны «Буря и натиск» Мандельштама и «О поколении» Якобсона[49]. Буду Вам очень благодарен за указание. Мандельштама, надо надеяться, Вы издадите в готовящемся собрании сочинений в Чеховском изд<ательстве>[50]. А Якобсона буду искать по библиотекам, но в каких журналах?
Ну а русская эпистолография — думали ли Вы о ней? Переписку Пушкина с Вяземским еще знают, а кто помнит о письмах Станкевича?[51] У любого другого народа он был бы одним из первых классиков! Хотя сколько я ни боролся за опубликование в Чеховском изд<ательстве> писем Гиппиус, кот<орые> легко собрать[52], — они остаются неумолимыми и предпочитают им Чирикова и историч<еские> романы Данилевского. Если так — скоро докатимся до Чарской![53]
Еще немало другого я нашел в Вашем «винегрете».
Вообще до сих пор (это могло, м. б., оказаться для Вас почему-либо неудобным) я избегал говорить с Вами о политике. Еще и потому, что о ней говорят много, а о культуре мало, недостаточно. Но Ваша заметка о «предчувствиях»[54] поразила меня своей неожиданной верностью.
Ведь «мы»-то действительно не «глядим на будущность с боязнью», а это не может ничего не означать. От всей души желаю наступления указанного Вами за пунктом 2а) и начинаю на него надеяться (раз мы не ощущаем ужаса в будущем, да и, наконец, все на свете кончается когда-либо!).
Но не разделяю Вашего негодования по пункту 26). Если большевизм эволюционирует в сторону приемлемого, т. е. если он станет проникаться идеями свободы и уважения к человеческой личности и проводить их на практике (даже не сразу и даже с оговорками), то — зачем «стулья ломать» и почему это должно волновать нашу совесть?
Конечно, я понимаю, что по-настоящему Россия будет свободной только в тот день, когда ленинский мавзолей будет сровнен с землей, а его обитатели вывезены в помойке за город, но… «спуск на тормозах», заторможенный Ждановым, м. б., удастся Булганину, и я готов молить Б<ога>, чтобы оно так и было — сколько страданий, сил, ценностей и т. д. все-таки это бы сэкономило для России!
Кроме того, облегчение гнета могло бы помочь подготовке его свержения… Или же Вы неполно объяснились?
Вернемся к Вашей критике моей антологии, за нелицеприятство которой Вас очень благодарю. Grosso modo[55], тут 2 вопроса: 1) тогда я еще сам хуже был знаком с новой русской поэзией, чем теперь, и 2) издатель и я находились под давлением прямой советской угрозы (тогда это было во Франции реальностью и нельзя было предвидеть эволюции) — чем и объясняется отсутствие Г. Иванова, Смоленского, Пиотровского, Божнева и мн<огих> др<угих> талантливых эмигрантов (были «разрешены», и то с трудом, только лица, взявшие советский паспорт, и покойники, — к которым я попытался присоединить Н.А. Оцупа и так провести). Они же навязали нам Светлова, Симонова, Исаковского. От Долматовского удалось отбояриться и т. д. Эренбурга похвалили из тактических соображений…
Но в то время я сам еще не знал В. Инбер, Стрельченко, Коваленкова, Прокофьева и мн<огих> др<угих> приемлемых молодых советск<их> поэтов. О Павле Васильеве впервые узнал из Вашей книжки и сразу сильно полюбил его «Город Серафима Дагаева», кот<орый> теперь знаю наизусть. Это ни на кого не похоже и необычайно сильно. Но не только его большой дар меня трогает, но также и тот «потонувший мир», поэтом которого он является. Или его стихотв<орение> «К сестре». Но мы осуждены на бессильное бешенство, глядя на гибель таких людей, как Васильев, и еще, наверное, их рукописей. Он все-таки успел как-то себя проявить, а сколько погибло и гибнет таких, которые не успели и попасть в печать! Кто его знает, сколько русских Шекспиров и Данте были осуждены долбить мерзлый камень в Нарымском крае!
Кроме того, как и вообще за границей, — недостаток книг! Не было Клюева, просто нельзя было достать, кроме мало значительного «Четвертого Рима»[56]. Заболоцкого впервые вычитал тоже из Вашей книги (а где Вы его достали?[57] Где он есть в САСШ?). Но и Багрицкого как следует нельзя в Париже проштудировать. А замечательных, погибших в начале революции Чурилина[58], Ганина[59], Орешина[60], Петникова[61] и мн<огих> др<угих> — тоже решительно достать невозможно. А ведь это были восходящие звезды русской поэзии, шедшие к занятию первых мест! Даже Кирсанова — все та же «Золушка». Но ни одной из его книг 1925–1940 гг.[62] достать не удалось, хотя я уверен, что среди многого написанного в угоду начальству там есть и подлинные шедевры. Многого я ожидаю (но еще никогда не имел в руках) и от раннего Асеева. А В. Каменский (тоже ранний), а Фиолетов[63], а Липскеров[64], а Доронин![65] Даже поэтов предреволюционных не всех удалось достать. Комаровского, Гуро пришлось цитировать из третьих рук, Л. Семенова[66] и Садовского так и не удалось найти. И до сих пор очень многое из этого остается мне недоступным.
Вот вы говорите о переоценке[67]. По-моему, переоценке надо подвергать не только отдельных знаменитых поэтов, но и все поэтическое наследие.
Надо открывать незамеченных. Вот я ищу стихи В. Дрентельна[68], Бутурлина[69], Д.П. Шестакова[70] (конца XIX в.) — интересных современников Надсона, предтеч символизма, знакомых мне только по отрывкам. В Казани, в Киеве, в Одессе была интереснейшая провинциальная поэзия, часто всероссийского значения (Росимов, Самоненко, Иерусалимский[71]) — но и ее не достать. Обладай мы нужным материалом, я уверен, что удалось бы сделать ошеломительные открытия. Ведь и американцы долго не знали Мельвилля, англичане Донна и Беддеза, немцы Гельдерлина и т. д. Почему же предположить, что только в России бы не нашелся забытый современниками гений?
Поэтому-то я и копаюсь так усердно в мелочах, в надежде, как крыловский петух, найти в навозе «жемчужное зерно». Да иначе и нельзя. Только в массе анонимной серости можно выделить подлинно значительное. Легче и приятнее наслаждаться уже готовыми Заболоцким или Васильевым, но для того чтобы их впервые обнаружить, надо было кому-то, в свое время, прожевать «тысячи тонн словесной руды».
Впрочем это не камень в Ваш огород — Вы знаете, как дороги (и не мне одному) Ваши essays, и, не будь Вас, я бы и до сего дня не знал о существовании П. Васильева и так бы и не увидал ранних стихов Заболоцкого, которых нет нигде во Франции.
А вот еще интересный и не очень молодой ученик Клюева: Сергей Островой, автор книги «Город моей юности»[72].
Хотя в советских условиях я себе не строю никакой иллюзии насчет шансов на развитие у таких поэтов, как Асадов, Матусовский, Межиров, Д. Осин, А. Соколов и, вероятно, Ваш Урин, но все-таки знать нельзя — большой талант может себя, хоть и криво, а проявить, как, напр<имер>, Кирсанов, а юнцы эти определенно не лишены таланта.
Теперь коснемся периода менее для нас мучительного, чем советский. Возьму Ваши замечания по порядку.
Жуковского мало. А не слишком ли много? Расплывчатый поэт в тогдашней моде с бедным, мало выразительным словарем… Впрочем, если Вы у него знаете хорошее — рад буду, если Вы мне его укажете. А до Ваших возможных у него открытий он, по-моему, заслуживает энергичной «переоценки» в пользу Батюшкова, которого, пожалуй, можно было представить полнее. Но он очень связан с языком и слабо доходит до иностранцев. По этой же причине я поскупился на Карамзина, Давыдова и Вяземского. Федора Глинку (какой изумительный поэт!) и Кюхельбекера я сам еще тогда не знал. Семена Боброва и Ширинского-Шихматова до сих пор не могу достать.
Пушкин… побольше. А что, напр<имер>? «Роняет лес», напр<имер>, первая строфа для иностранного читателя представляет самое большее описательный интерес, все — чересчур длинно, и вообще пушкинский гипноз связан с языком. Я было думал отстранить мелкие стихотворения и дать «Анжело» целиком. Стоило бы, и дало бы иностранцам о Пушкине достойное понятие. Но — Вы сами понимаете, что отстранение всей его лирики тоже не могло быть решением. Всякий раз, когда его представляешь иностранцам, приходится плохо, тем более что мы несем также ответственность и за его репутацию «первого» русского поэта. Все опасаешься, как бы они не сказали: «Только и всего?»
Очень интересуюсь — что бы Вы выбрали у Некрасова. Лично у меня очень чешутся руки и его сильно «переоценить». Теперь я бы удержал, пожалуй, «Машу», «Тройку», «Отчизну», «Утро» — несколько мелких не очень амбициозных стихотворений. А ведь его большие поэмы плохи, за исключением немногих отрывков. В «Кому на Руси», пожалуй, удалось бы удержать только солдатскую песенку и конец «Якова верного» — а сколько фальшивого фольклора там нагромождено! Некрасов — интересный случай прикладной журналистской поэзии, но крайне неряшливый, неровный и, несмотря на свою словесную лавину, устаревший. Но о нем следовало бы поподробнее, и, м. б., вот беседа с Вами меня так и толкает на подробный, документальный, формальный разнос. А следовало бы, а то его все, даже Мережковский, перехвалили, — боятся коснуться его левого величества. Меня коробит от его постоянной политической «задней мысли», в искренность которой плохо верится.
Полонский… Эренбург советовал мне его совсем выкинуть — и, пожалуй, не был неправ. Но «Пчела», приведенная, все-таки, пожалуй, не плоха. Неужели Вы у него видите еще что-нибудь интересное? Он сентиментален, словесно тяжеловат (особенно к концу жизни), pompier[73], лица своего не имеет…
Дельвиг — увы, почти непереводим. Но в «Купальницах» — лучший русский гекзаметр, сонеты его тоже — лучшие по-русски, да и многое другое. Но, увы, похвалив, пришлось очень ограничиться в текстах. Хотя продолжаю сожалеть о «Друзьях» и о «Сельской элегии».
Лермонтова я, видно, плохо перевел — разыщите в оригинале приведенные мною стихи — меня бы удивило, если бы они Вам не понравились. Молодой Лермонтов, конечно, крайне неровен, но со времени выхода моей антологии я там нашел еще немало интересных и даже замечательных стихотворений. Их скучно откапывать, но они есть.
Следовало бы каждому образованному русскому уметь разбираться в украинских текстах, подобно тому как образованные англичане читают по-шотландски или образованные французы — по-провансальски. А ведь украинский ближе к русскому, чем, напр<имер>, провансальский к французскому. Кроме Шевченки, Вы бы на нем открыли Тычину и Рыльского укрощенных или Зерова[74] и Филипповича[75], замученных большевиками. Это погром целой замечательной поэтической литературы.
Теперь Баратынский — делайте что хотите — бейте, ставьте в угол, — не доходит он до меня. Объективно ценю его большое (огромное) мастерство, но… задушил ли он свой талант, перетрудившись, или же ничего, кроме труда, у него никогда и не было — не знаю. Но факт налицо — оазисы крайне редки у этого чопорного, сухого и недоброго господина, вероятно очень высокомерного (он, черт, не сохранил ни одного письма Пушкина к нему!). Кроме того, многие из его словесных выкрутасов кажутся очень сомнительными и — факт: хвалить хвалят его все, но… кто у него учился с успехом? Кто его любил (кроме Брюсова)? Кто был под его влиянием? Такие стихотворения, как «На что вы дни» или «Все мысль да мысль» — сложнейшая стихотворная алгебра. Но поэзия…? Маллармэ — вот тоже трудился свирепо. Но где у Баратынского музыка и магия таких строчек, как
Une sonore, vaine et monotone ligne[76]Или
Qui criait monotonement Sans que la barre ne varie Un inutile gisement Nuit, deseopoir et pieverie…[77]Вот, напр<имер>, то, чего у Баратынского нет. Но даже подлинной глубины мысли, как вот, напр<имер>, у Тютчева, или Случевского, или… Белого, у него тоже нет. Просто — пессимизм позамысловатее. Делаю исключение для «Последней смерти» с ее страшным пророчеством, м. б., наших дней. Но я его открыл после 1947 г.
Напротив, Языков — своеобразнейший, ярчайший, подлиннейший из пушкинцев. Возьмите хотя бы приведенные мною стихотворения. Но у него много других, не хуже. Хотя бы «Иоганнисберг» или стихотв<орение>, посвященное К. Павловой. «К Рейну» я не поместил из-за его размеров — но какая красота! Где Вы такое видели у Баратынского? А его ругань по адресу западников, в частности Чаадаева!
«Но ты молчишь, плешивый идол Тупых мужей и слабых жен!»[78]а его описания заграничного путешествия, когда он ездил лечиться, а стихи Татьяне Дмитриевне (кажется, я одно привожу). Да, беру на себя нахальство открыто предпочитать Языкова, даже Бенедиктова Баратынскому, хотя Г.В. Адамович и окрестил это безграмотностью. Было бы интересно посмотреть, как бы Вы взялись за защиту Баратынского!..
Случевского я, пожалуй, перехвалил. Но с тех пор я нашел у него еще стихотворения, пожалуй, даже замечательнее приведенных. Тут было трудно работать, ибо в Париже его достать нельзя, а действуя из третьих рук, трудно хорошо выбрать.
Брюсова, как и Полонского, я бы сегодня, пожалуй, выкинул совсем. Он культурнейший критик и знаток, но уж никак не поэт. Как он может Вам нравиться после, напр<имер>, Заболоцкого! В его стихах тоже — умение, культура, труд, но вот не только таланта, но даже вкуса мало, а о музыке и говорить не приходится. Хотя и здесь допускаю возможную со своей стороны ошибку и рад буду любым указаниям с Вашей стороны. Брюсов, увы, в Париже имеется, но стоит ли погрузиться в эти 20 объемистых томов в рифмах? Белого буду отстаивать, переоценивать — но в сторону похвалы. По-моему, его слава романиста и essay'иста затмила славу поэта. Тут тоже понадобился бы обстоятельный анализ, возможный только в длинной статье. Вот Белому блестяще удалось соединить, почти слить головокружительную мысль с почти детской певучестью стиха. Он умеет уплотнять отвлеченности словами, образами, музыкой. Есть и у него немало неудач (но даже они не лишены интереса), но и немало поразительных взлетов и находок. Иногда у него прекрасные стихи идут целыми страницами подряд. Напр<имер>, «Искуситель», «Мертвец», многое из кн<иги> «Королевна и рыцари».
Конечно, он труден, но именно Вы из тех, кто, если бы им подробно показать, в чем интерес его поэзии, несомненно бы его оценили. Правда, он не очень подходит Вашему темпераменту. Это — хлестаковщина, хотя и гениальная: «Легкость в мыслях необыкновенная» — он весь вот-вот готов улететь. Он крайне мало связан с землей и с ее конкретной красотой. Тем более поразительны его многочисленные удачи. Среди коротких стихотворений: «Веселье на Руси», «Зори», «Над головой полет столетий быстрый» (я его, кажется, привожу по-франц<узски>). Вообще, мне кажется, что указание на ценность Белого — одна из самых нужных в настоящее время в русской литературе работ. Богатство и глубина его мысли, сила его «видения», революционный переворот, произведенный им в области языка, — все это могло бы значительно обогатить теперешнюю литературу. Он развил и обогатил язык, придал ему гибкость в совершенно исключительной мере. Не думаю преувеличить, говоря, что в этой области он произвел скачок, равный по значению своевременным скачкам Ломоносова и Пушкина. Увы — дело его не нашло продолжателей из-за наступившей советчины. Но он еще сможет оплодотворить будущее.
Среди «симфоний» попробуйте «Возврат». Книга эта для многих послужила ключом к остальным, более трудным и обрывистым произведениям Белого. «Петербург» лучше всего читать в первой редакции «Сирина». А ставлю я его выше Джойса вот за что:
1. Белый намного способнее Джойса в области мысли, особенно отвлеченной. Там, где Джойс останавливается на намерениях и устремлениях, на смутных догадках — у Белого яркая, отчетливая, смелая мысль со значительно более широким горизонтом! До таких широких проблем философии, истории и культуры, в которых Белый постоянно движется, Джойс просто не доходил; его творчество происходит внутри их, их не обхватывая.
2. По крайней мере, в «Ulysses» («Finnegan’s Wake» я еще не читал, и, сказать правду, меня к нему не тянет) Джойсу лишь крайне редко и значительно менее интенсивно удается «создавать атмосферу» — он гораздо будничнее, благополучнее Белого, который иногда одной чертой, одним эпитетом буквально разверзает бездну между нами. Вспомните хотя бы его лакея, подымающегося по ступеням, крытым ковром, «мягким как мозговые извилины». Вспомните красное домино на льду Невы или ужас Аблеухова, нарастающий при виде пульсирующей коробки сардин. Джойс наоборот — снижает атмосферу там, где она могла бы возникнуть и сгуститься, напр<имер>, когда Daedalus засыпает в доме терпимости.
3. Моральный пафос Белого гораздо свежее и сильнее, чем у Джойса, вообще любящего ситуироваться вне добра и зла, их все-таки не исчерпав по глубине. У него более или менее устарелая «переоценка ценностей» в моде начала 20-х годов, очень спокойная, тогда как Белый горит и зажигает читателя «последними вопросами» в апокалиптически напряженной атмосфере.
4. У Джойса спокойная, почти экспериментальная вивисекция языка: «а вот, попробую, если я так скажу, то что из этого выйдет?» У Белого — творчество непосредственное, из его юродства, если хотите, но из глубин его личности, а не только разумное экспериментирование.
Причины легко было бы умножить, но, в общем, я думаю, можно сказать, что новизна Джойса, хотя и рафинированно разработаннее в подробностях (можно больше нацарапать отдельных удачных словесных или метафорических находок, пожалуй), бледнее, благополучнее, ограниченнее, менее ангажирована, чем новизна Белого, и с течением времени оказывается, что Белый острее и правильнее ощущал грядущее, чем Джойс.
При этом я ограничился только «Петербургом». Что же сказать о поэтическом творчестве, которое у Джойса вообще слабо за 2 исключениями: «Ballad of Persse O’Reilly» и еще один отрывок. А где Вы найдете у Джойса такие книги, как «Луг зеленый», «На перевале», «Символизм», «Арабески» — кишащие живой мыслью?
Пока для меня «Ulysses» — его вершина. «Dubliners» — просто Чехов, но похуже, а «А Portret of a young man», действительно сырой эскиз на сюжет «Ulysses». Похоже, что и сюжетами он беднее Белого.
Наконец — где Вы видите у Джойса такое смелое построение своеобразного космоса, как в «Котике Летаеве»?
Пастернака[79] и при составлении антологии очень любил, но боялся, что любовь эта — чересчур неразделенна. Хотя Вы проницательно отметили колебания в заметках.
Насчет Бунина — Вы правильно угадали — он считал себя прежде всего лирическим поэтом, и когда раз в его присутствии похвалили Блока, он сказал: «А разве не Иван Бунин лучший русский поэт XX века?»
О чужих стихах он говорил мало, потому что их ему не показывали…
«Прежде всего» я не считаю Бунина ни поэтом, ни прозаиком. Считаю скандально возмутительным, что Стокгольмская академия не нашла в русской литературе никакого другого лауреата. А где Толстой, Чехов, Розанов, Мережковский, Блок, Белый, Шестов, Бердяев, хоть Горький, хоть Пильняк, хоть Ремизов — и имя им легион?
«Удачи» у него изредка попадаются: «Казимир Станиславович», «Воды многие», «Ворон», «Чистый понедельник», 2–3 стихотворения (сонет «В плавнях»), но сравните, напр<имер>, его знаменитый «Солнечный удар» с чеховской «Дамой с собачкой». Это даже не хуже, это просто не существует рядом с Чеховым. А его не менее знаменитая «удостоившаяся» «Деревня»? — плохо скомканный набор внешних наблюдений.
Нет — как хотите, старика перехвалили! Писать он умел, метафоры иногда находил удачные, иногда ему удавалось «создать атмосферу». Но как не стыдно говорить о том, что с ним ушел последний великий русский писатель при жизни Ремизова или Набокова-Сирина, не говоря, напр<имер>, о Леонове или Паустовском, ибо это ведь не их вина, если им запрещают говорить свободно.
Но я верю в великое будущее русской литературы, даже не очень отдаленное. М. б., сразу после уничтожения рабства еще все и не расшевелится, но в России есть невероятные человеческие ресурсы. Вот, напр<имер>, Вы — Вы — это как если бы большевизма и не было. И Вы не один. Недавно познакомился с юношей эмигрантом (лет ему 20) — из хорошей семьи (из бывш<их> литер<атурных> кругов Москвы) — и он, хотя и не пишет, но все знает и всем интересуется. Напр<имер>, знает и любит Хлебникова и религиозн<ую> философию Флоренского. Главное даже не то, что он «знает», а то, что с ним можно говорить как с равным — без всякой специфической советчины в смысле ограниченности или натасканности.
Как это Вам всем удается в советских условиях сохранить свое я и свою личность и создать себе культуру — не понимаю. Но пока Вы есть — все возможно, и я верю, что Урин на следующий день после настоящего освобождения покажет нам прекрасные, настоящие стихи, которые будут шагом вперед русской поэзии. И не он один — и Смеляков, и Мартынов, и еще…
Пишите, дорогой Владимир Федорович. Если бы Вы только знали, как я Вашим письмам рад. А отвечаю редко и с трудом потому, что не только занят, но и переутомлен. Бывает, находится свободное время, но сил нет для настоящего письма, как следует. Надеялся было летом в Швейцарии отдохнуть, но получил только месяц отпуску, и все время шел дождь.
Бог с ним с конгрессом — с этими «демократами» вообще каши не наваришь. Видно, русский народ должен сам себя освободить без всякой посторонней помощи. Было бы хорошо, если бы они все хоть большевикам не помогали. Будем надеяться на встречу без их помощи. Верю в силу желания. Медленно, но верно она создает нужные обстоятельства. Заранее радуюсь встрече с Вами
Искренне Вас уважающий и желающий Вам всего наилучшего
Э. Райс
5
Париж 1-1-56
Дорогой Владимир Федорович.
По случаю сегодняшней даты в первую очередь желаю Вам, чтобы новый 1956 год был для Вас счастливым и творческим, а для всего человечества (т. е. в конечном итоге и для нас с Вами) менее катастрофическим, чем приходится ожидать. Руководители человечества сошли с ума и наперебой рубят сук, на котором сидят. Но увы, с ними вместе рискует провалиться в тартарары и свобода, без которой жить просто не стоит. Никогда бы не поверил, что коллективное безумие и ослепление могут зайти так далеко, даже у людей, от которых мы вправе требовать больше осмотрительности, чем у первых встречных пьяных гуляк.
Завтра Франция голосует[80] за коммуниста Дюкло[81] и за коммунизана Мендес-Франса[82]. Все, с кем приходится заговорить, даже люди вчера еще рассудительные, в один голос твердят: «Наша главная забота — воспрепятствовать американской внешней политике», «послать к черту Америку» и т. д. Каждый в зависимости от воспитания и темперамента — но все кроют злосчастную Америку чем угодно, от многоэтажной матери до мелких ядовитых уколов утонченнейшей иронии…
Но… будем все-таки надеяться, что человек(и) предполагае(ю)т, а Б<ог> располагает и расположит как-нибудь выносимо…
Поэтому вернемся к нашим делам. Сердечно Вас благодарю за внимание — присылку в рукописи Ваших публикаций в «Опытах». Сегодня моим материалом будут статьи об Есенине и о «зверях» и поэма. Начнем с поэмы — самого, пока, для меня, в Вашем творчестве… спорного.
Кроме нее, из Ваших стихов мне известны те, кот<орые> Ю.П. Иваск опубликовал в своей антологии, и серия «романсов» в «Нов<ом> журн<але>» года 2 тому назад. Все это мало утешительно. Разумеется, я хочу писать только правду, даже неприятную, ведь иначе и не стоит? Не правда ли?
Могу, конечно, и ошибаться… Впрочем, я и не собираюсь сказать Вам, что Ваши стихи «плохие». Наоборот, я бы предпочитал встретить в них немного менее игривой легкости и немного более следов борьбы с материалом, того, что Вы хотите втиснуть в стихи и чему стихи сопротивляются.
Но главное будет в «классификации». Не помню, сообщал ли Вам об одном разговоре с Ю.К. Терапиано, кот<орый> утверждал, что «не может быть», чтобы мне нравились стихи и Блока, и Ходасевича, и Георгия Иванова, и Набокова-Сирина. Одна из этих двух категорий (Блок, Георгий Иванов) или (Ходасевич, Набоков-Сирин) — по его мнению, исключает другую.
Я с ним горячо спорил, обвинял его в узости. А вот теперь сам вынужден указать на количественно значительную категорию русских стихов, для меня поэзией не являющихся: Некрасов, Маяковский, Твардовский, Вы…
Ввиду Вашей любви к Маяковскому, Вы, надеюсь, не обидитесь за такое соседство.
Почему это так? Не знаю. Верно, причина этого кроется где-то в глубинах моей субъективности. М. б., из-за того, что вся эта «поэзия» — «прикладная»? Не знаю, но у всех этих авторов (от Некрасова до Твардовского) я непрерывно чувствую внутреннюю фальшь и им не верю. Если даже у Некрасова можно сделать исключение для 2–3 стихотвореньиц: «Маша», «Утро» — то и они фальшивы насквозь.
У Маяковского я бы сделал исключение для его футуристического периода (1910–1918 прибл<изительно>) и для «Про это». От всего остального — претит! — Ложь, фальшь, ходульность, пошлость, особый вид сухой пошлости (в отличие, напр<имер>, от И. Северянина, мокрой, ему свойственной). (В прочем, кажется, наша оценка Маяковского совпадает.)
О Твардовском и говорить нечего — его благонравные фельетоны, в которых ничего, кроме послушания и потрафления, не найти — мерзки! Хотя «Василий Теркин», в советских условиях, и является почти что смелым поступком (не Сталина похвалил, шутка ли сказать!), все-таки больно и стыдно, что после Блока и Хлебникова, после Пастернака и Клюева, после Цветаевой и Ходасевича такие грубо-плоские стишки, замешанные на квасном ура-патриотизме (Теркин и Смерть), могли обратить на себя внимание образованных русских людей.
Сознаю, что у всех вышеозначенных (Некрасов — Твардовский и Маяковский в своем падении) словесная ткань очень замечательна — отличается новизной, богатством и разными там звуковыми и иными достопримечательностями. Но… вижу в этом лишь указание на то, что одной словесности недостаточно для того, чтобы получилась поэзия, тем более что эти люди в большой мере проституировали свой дар.
Что же касается Вас лично, то Вы и не фальшивы и не заинтересованы (Ваша биография доказывает противное). Но… одно из двух — или, несмотря на Вашу культурность и на сравнительно благоприятные условия в Ленинграде (см. «Нов<ый> журн<ал>»[83]), советская «эпоха» наложила на Вас свою неблагодатную печать, видно, что и Вам не удалось отделаться от твардовщины, увы!
Но вероятнее другое: сила Ваша не в стихах, а в литературной критике. В Вашей поэме лучшее — «литературность», не в смысле правильности и гладкости (попадаются шероховатости вроде
«В век выхолощенных душ»[84] —тут один слог лишний, и можно найти еще примеры), а в смысле Вашей пропитанности литературой, реминисценциями из классиков, литературной проблематикой и т. д., вроде «север вреден» или «покой и воля». Вообще Ваша поэма «ситуируется» в чистой литературе, все ее темы «ад — рай», «возлюбленная» и т. д. взяты под чисто литературным углом зрения, и правильнее всего, как «жанр», было бы назвать ее «литературная шутка».
Но… это ли поэзия? Где относительно Ваших стихов смысл немецкого слова «Dichtkunst». т. е. искусство сгущения, концентрации? Где в Ваших стихах глубочайшее, ответственнейшее, серьезнейшее, последнее выражение квинтэссенции Вашей личности или хоть стремление к нему?
Вы мне укажете на замечательных поэтов-шутников Lewis СаггоГа, Христиана Моргенштерна (Galgenlieder[85]) или на А.К. Толстого. Но… сравните и Вы увидите 2 вещи: во-первых, они несравненно гуще Вашего, у Вас слишком легко наговорено, разжижено. Во-вторых — у них за шуточной внешностью кроется очень глубокое метафизическое зерно. И этого я у Вас, при максимуме внимательного и благожелательного чтения, не различил — да и Ваша ли это природа? Тоже сомневаюсь.
Так что же остается: честный Твардовский? Для Вас я бы хотел лучшего!
В Вашей поэме (как и в прежних стихах) попадаются приятные частности, удачи, как, напр<имер>, про чертей
Хорошие ребята, Мохнатые хвостыили
стихом нальется прозаили
Но все дороги к Богу Крапивой заросли…и есть еще.
Но этого мало.
Не вижу дурного в том, чтобы замечательный критик В. Марков, от времени до времени, разражался стихотворной шуткой, но он лучше моего знает, что это не поэзия. Вот у Хлебникова:
Нам только корку хлеба И каплю молока, А солью будет небо И эти облака…[86]Не отсюда ли Ваше:
Давай краюшку хлеба, Народный тарарам, А что такое небо, Не так уж важно нам.?Сравните сами…
Но писать все это мне было немного тягостно потому, что многие почему-то ценят в себе только поэта. И ударить по поэту у ближнего часто значит ударить по самому чувствительному, больному месту.
Заранее сам очень жалею, если и у Вас так дело обстоит, но все-таки считаю, что правильнее было сказать Вам искренне то, что думаю о Ваших стихах, чем пощадить Ваш стихотворный violon d’Ingres[87].
В Вашем случае это особенно досадно, ибо у Вас есть нечто очень ценное, нужное и прекрасное, а в нашей литературе, особенно бедной по этой части, почти спасительно необходимое: критика!
Ваш подлинный дар и реже и нужнее дара поэтического и так же прекрасен, как и он. Вот Америке в этом отношении повезло! У нее целая плеяда замечательных критиков: Allen Tate, Randal Jarrell, R.P. Blackmur, не говоря о Yvor Winter, F.O. Matthiessen, D.R Bishop[88] и о многих других, хотя и менее замечательных, но тоже очень ценных и недостающих нам.
Почти все они пишут или писали и стихи. Неужели их часто бледные стихи должны затмить их литературную критику?
А Вы у нас — единственный. Ах, как бы мне хотелось окрылить Вас сознанием не только ценности, но и важности Вашей критики. Ходасевич, Д.П. Мирский и Вы — все остальное, увы, или пустыня, или бессовестное подхалимство, или просто непонимание, «в чем дело» — всех этих Сакулиных и Пиксановых (чтобы не говорить о заведомых марксистах) — путающих литературу с пропагандой экономических шпаргалок и с междупартийной грызней.
Поэтому рад теперь повернуться к лучшему у Вас — к Вашим статьям.
В первую очередь (и в этом, м. б., отчасти суть статьи о зверях) — очень важно, что Вы осмелились заговорить об оценке «всего человека в придачу».
Нет ничего более для меня отвратного, чем «прикладная» поэзия и оценка ее по всевозможным партийным и иным идеологическим признакам. Все это — ошибка, если не недобросовестность.
Но моральная оценка личности поэта — мне всегда казалась касающейся самой сути поэтического дела.
Все дело в том — какая моральная оценка. Если осуждать Бодлера за недостаточную респектабельность, а Фета за недостаточную новизну, то, конечно, цена такой оценке — грош.
Но если поставить проблему о целокупности личности поэта — то это непременно связано и с оценкой ее, ибо есть какая-то неполнота, недоговоренность в оценке личности вне моральных критериев, вне общего суждения о ней.
Но тут возникает важный вопрос. Лично мне, по судьбе, пришлось встретиться с довольно многими поэтами, как русскими, так и иностранными, и, по правде, моя моральная оценка их (это человека, почти больше всего в жизни любящего поэзию) — крайне невысока. Попытаемся сличить наш опыт. Возможно, Вам тоже известна шокирующая гордость почти всех их, достигших хоть какой-нибудь известности. Это не законное сознание собственного достоинства, а какое-то нежелание ни с кем и ни с чем считаться, наплевательство на всех и на вся, как если бы весь свет был бы перед ними в неоплаченном долгу.
Не я буду отрицать ценность того, что они дали или дают, ни заслуженную ими за это от нас (читателей) благодарность. Но опять-таки дело это не ихнее, а наше. И если читатель бывает писателю неблагодарен при встрече — то это вина читателя. Если же писатель ведет себя так, как будто благодарность ему полагается по праву, и ее требует, то моральные роли поворачиваются в обратную сторону.
Все это мало относится к русской литературе, потрепанной революцией и прочими бедствиями, хотя и у нас бесцеремоннейшее попрошайничество и прихлебательство (человек с именем такой-то (и с именем очень заслуженным), объявляющий в печати, за своей подписью, мецената, щедрого на водку, Шекспиром — увы, не единственный и даже не наихудший пример), нарушение данного слова, политическая беспринципность и т. д. тоже цветут махровым цветом.
Но не случалось ли Вам сталкиваться, напр<имер>, с английскими или французскими писателями. За 2–3 благородными исключениями (Gabriel Marsel или покойный Orwell) — ну как их просто квалифицировать!
Приходится признать, что за редкими исключениями писатели — публика морально ничтожная, мелочно-тщеславная, со склонностью к паразитству (именно не к жизни пером, что было бы благородно и хорошо, а к пьянству и к бездельничанью за счет «меценатов»), к интриганству, к профитерству, неразборчивая в средствах, на редкость лишенная элементарного благородства (заявление публичное Рихарда Штрауса, что если соответственно заплатят, то он готов дирижировать и в отхожем месте).
Если приняться за переоценку писателя как человека, мало кто из писателей последних десятилетий такую переоценку с честью выдержит.
Но ограничимся русской литературой. Были люди чистоты и благородства незапятнанных: Гумилев, Замятин, Мандельштам, Хлебников. Но вот возьмем таких китов, как Розанов или Белый.
Розанова во многом спасает его искренность. Он не покривил душой и не постеснялся признать многие темные стороны своего характера и жизни. Но, тем не менее, чем он поднимается (кроме своих признаний) над уровнем морально гибкого и покладистого, ловкого, с хитрецой, обывателя, занятого главным образом обделыванием своих делишек?
А Белый — заслуживает извинения по своей слабости и неприспособленности к жизни. Но его отношения к Блоку (товарищу!), к Нине Петровской, к Шлецерам, к Метнеру, к Вячеславу Иванову («Сирин ученого варварства», дескать), к Васильевой… А его компромисс с большевизмом, так его и погубивший. Причем, как отнестись к характеристикам бывших друзей в мемуарах, написанных за последние годы, хотя многие из них жили тогда в СССР. Конечно, слабость заслуживает снисхождения, но его личность и ее поведение, по отношению к гениальности его творчества, представляет не плюс, а минус…
Клюеву многое простится за мученичество, и грех на него руку подымать. Но если уж заговорить о его личности! Его бездушная холодность к Есенину, ловкачество, компромисс с сов<етской> властью. Он-то на них шел охотно и легко. Не его вина, если большевики раскусили рано глубокую несовместимость его личности и творчества с собою и погубили.
Увы, легко примеры умножить… Но тяжело как-то — ибо я все это и всех их люблю все-таки и склонен многое прощать.
Да и так ли уж бескорыстно Маяковский «наступил на горло собственной песне»… Хотя в сравнении с Арагоном, напр<имер>, он — образец нравственного превосходства и чистоты.
Вопрос этот важен все-таки, потому что с литературой в нашу эпоху не благополучно. Писатель перестал быть учителем. Но для многих писателей, для массы, остался, a son insu[89], образцом и источником премудрости.
Возможно, что низкий уровень современного человечества и объясняется дурным примером и учением писателя.
Глупо и нецелесообразно бороться с этим фактом принуждением, как большевики — ведь их фадеевы, Твардовские или эренбурги гаже, а не лучше наших арагонов, оденов или мальро.
Но вот угроза моральной оценки в критике… это может, со временем, оказаться серьезнее. Как же не приветствовать Вашу инициативу.
Под Вашим наущением, в настоящее время, работаю над разносом Некрасова, — ах, только чтобы удалось разделать как следует этого лицемерного барина-карьериста!
А вот Фета (даже если характер у него был и дурной и об этом не надо будет молчать) — собираюсь, наоборот, возвысить, в свете его мало осознанного, глубочайшего миросозерцания.
Ваш разнос Есенина grosso modo[90] разделяю. Но мне кажется, что его антисоветские настроения были сильнее и искреннее просоветских, явно продиктованных интересом. Для меня ясно, что «Страна негодяев» метит в большевиков, а Номах для Есенина герой и идеал. Заглавие я понимаю как горькую иронию — дескать, большевики объявили негодяями весь русский народ. Приведенные Вами примеры часто сомнительны в смысле просоветскости:
«Да здравствует революция На земле и на небесах»…[91]Советская ли это революция и не для красного ли все это словца? Неужели для Вас не явна фальшь его похвал Ленину?
Вообще же Ваша статья изобилует замечательными формулировками, проницательностью и особенно ценным и редким в русской литературе элементом критики: анализом текста. Вот, напр<имер>, Blackmur[92] почти что только на нем и сосредоточился, — а какие прекрасные и иногда неожиданные результаты у него получаются!
Очень интересно также Ваше наблюдение над тем, что основной темой Есенина является смерть[93]. Но у него ли одного? Вспомните тютчевское: «и это все есть смерть», и Анненского, Блока, Мандельштама, даже Лермонтова.
Не потому ли угнетение поэзии большевиками так катастрофично, что они запретили, выключили смерть, б. м., основную канву всякой настоящей поэзии, без которой она как бы теряет свое третье измерение?
Извините, пожалуйста, неряшливость моих последних 2 страниц. У меня грипп — писание меня утомило, но и вынужденный досуг дал мне возможность ознакомиться с Вашими текстами и ответить Вам быстрее обыкновенного.
Не обессудьте и пишите, если имеете охоту и материал.
Еще одно: Ваша литературная критика — вне обстоятельства времени и места — сразу в первом ряду русской лит<ературной> критики. Стихи же Ваши — легко ситуировать: это стихи «нового эмигранта», независимо от качественной оценки.
Не находится ли Ваше подлинное я там, где Вы вне категорий, поверх их всех?
Итак — желаю Вам всего наилучшего и жду Ваших новостей.
Ваш Э. Райс
P. S. Вы легко владеете стихом — пробовали переводить? Прельщает Вас это?
P. P. S.
Вот, напр<имер>, М. Кузмин:
Корфу
Взорам пир — привольный остров в море. О леса, зеленые леса! Моря гладь с лазурью неба в споре, Что синей: волна иль небеса? Что белей: наш парус или чайка? Что алей, чем алых маков плащ? Сколько звезд на небе, сосчитай-ка, — Столько струй родник стремит из чащ. По горам камней ряды сереют, По камням сверкает светлый ключ. В облаках зари румяна рдеют, Из-за туч широк прощальный луч. О Корфу, цветущая пустыня, Я схожу на твой счастливый брег! Вечер тих, как божья благостыня, Кроток дух, исполнен тихих нег.А вот Поплавский, из «Флагов»:
После некоторого размышления решил вместо целого стихотворения (а есть прекрасные: «Сентиментальная демонология», «Черная мадонна» и др.) выписать Вам несколько отдельных «мотивов», ибо стихотворения обыкновенно довольно длинны — (7-10 четырехстиший), а лучшее часто в отдельных вспышках:
Черная мадонна
(все-таки целиком)
Синевели дни, сиреневели, Темные, прозрачные, пустые. На трамваях люди соловели, Наклоняли головы святые. Головой счастливою качали. Спал асфальт, где полдень наследил. И казалось, в воздухе, с печали, Поминутно поезд отходил. Загалдит народное гулянье. Фонари грошовые на нитках, И на бедной, выбитой поляне Умирать начнут кларнет и скрипка. И еще раз, перед самым гробом, Издадут, родят волшебный звук. И заплачут музыканты в оба Черным пивом из вспотевших рук. И тогда проедет безучастно, Разопрев и празднику не рада, Кавалерия в мундирах красных, Артиллерия назад с парада. И услышит вдруг юнец надменный С необъятным клешем на штанах Счастья краткий выстрел, лет мгновенный, Лета красный месяц на волнах. Вдруг возникнет на устах тромбона Визг шаров, крутящихся во мгле. Дико вскрикнет черная мадонна, Руки разметав в смертельном сне. И сквозь жар ночной, священный, адный, Сквозь лиловый дым, где пел кларнет, Запорхает белый, беспощадный Снег, идущий миллионы лет.* * *
Привиденье зари появилось над островом черным, Одинокий в тумане шептал голубые слова, Пел гудок у мостов с фиолетовой барки моторной, А в садах умирала рассветных часов синева. На огромных канатах в бассейне заржавленный крейсер Умолял: «отпустите меня умереть в океане». Но речной пароходик, в дыму и пару, точно гейзер, Насмехался над ним и шаланды тащил на аркане. А у старой палатки в вагоне на желтых колесах Акробат и танцовщица спали, обнявшись, на сене. Их отец великан в полосатой фуфайке матроса Мылся прямо на площади чистой, пустой и весенней. Утром в городе новом гуляли красивые дети, Одинокий за ними следил улыбаясь в тумане. Будет цирк наш во флагах, и самый огромный на свете, Будет ездить, качаясь в зеленом вагон-ресторане. И еще говорили, а звезды за ними следили, Так хотелось им с ними играть в акробатов в пыли, И грядущие годы к порогу зари подходили, И во сне улыбались грядущие зори земли. Только вечер пришел. Одинокий заснул от печали, А огромный закат был предчувствием вечности полон. На бульваре красивые трубы в огнях зазвучали. И у старой палатки запел размалеванный клоун. Высоко над домами летел дирижабль зари, Угасал и хладел синевеющий вечера воздух. В лучезарном трико облака голубые цари Безмятежно качались на тонких трапециях звездных. Одинокий шептал: «завтра снова весна на земле, Будет снова мгновенно легко засыпать на рассвете». Завтра вечность поет: «не забудь умереть на заре, Из рассвета в закат перейти, как небесные дети».Вот уже и места не осталось — как раз для отдельных отрывков. В следующий раз, если захотите…
6
Париж 18-5-56
Дорогой Владимир Федорович.
Наконец-то мне удалось найти здесь номера «Опытов» 3–5, в которых фигурирует Ваша поэма. Это потому, что я счел себя не в праве Вам отвечать, не перечитав Вашего текста. По этому же случаю перечитали «Гурилевские романсы».
Но хотя, по тону Вашего письма, слышно, что моя критика вызвала у Вас некоторую горечь, все-таки — и на этот раз, могу и буду Вам писать только то, что на самом деле думаю, с риском Вас еще сильнее обидеть, хотя, верьте, и — думаю, Вы это сам понимаете — ничего, кроме хороших чувств, к Вам не питаю.
К сожалению, у нас в зарубежной литературе господствуют кумовство, карьерные соображения и даже просто «нежелание обидеть», состоящее гл<авным> обр<азом> в том, что обижают только самых слабых, причем часто разносят их совсем несправедливо. А вот к какому-нибудь там алданову — только попробуй сунуться!
Не Вы один, верно, этого положения не одобряете — но вот, как трудно написать поэту о нем самом правду, даже пусть в частном письме!
Тем не менее, я лично решил так поступать раз навсегда — говорить и писать людям правду об их произведениях — или, вернее, то, что я на самом деле думаю, причем сам весьма допускаю со своей стороны возможность ошибки.
Весьма возможно, что я Вашу поэму не понял и не понимаю. Но относительная истина моего субъективного к ней подхода кажется мне более для Вас стоящей, чем неискренние похвалы или же осторожное высказывание, уклончиво взвешивающее каждый термин.
Со времени первого прочтения Вашей поэмы прошло достаточно много времени, для того чтобы я забыл, что именно я о ней Вам писал в прошлый раз. Так что то, что я Вам напишу теперь, основывается почти исключительно на вторичном чтении ее.
Вот вкратце мои впечатления: автор (т. е. Вы) очень литературен, хорошо, почти виртуозно владеет стихом. Поэма — шутка в стиле «Портрета» или «Сна Попова» А.К. Толстого, только невыгодно от них отличается отсутствием сжатости, сгущенности содержания; да и технически Вы тоже на много отстаете от А.К. Т<олстого>. Вы немного забываетесь, отдаваясь легкости Вашего стиха, и недостаточно концентрируетесь.
Под влиянием Вашего ответа я старался найти в Вашей поэме некий духовный смысл, который, м. б., вижу в двух вещах:
1. В том, что религия Вас не удовлетворяет
«Но все дороги к Богу Крапивой заросли…»и след<ующая> строфа.
И еще:
«А что такое небо, Не так уж важно нам»и т. д.
2. Ответ Лады — м. б., Ваше другое «оппозиционное» я, то, которое мне писало, что питает к религии некоторую симпатию, о том, что
вину людскую вкупе до капли получа, простит, но не искупит(центрально с точки зрения мировоззренческой)
Верховная Печаль.Вообще, не знаю, не потому ли, что я к религии «отношусь с симпатией», при этом втором чтении мне больше всего понравились строфы от «К тому же нету смысла…» до «Быть может, вспыхнул свет» и они даже показались мне негласным центром поэмы.
Выуживать больше, глядя в лупу, и не умею и не стоит — ибо это значит, м. б., приписывать Вам свои мысли.
Но не в этом дело и не в этом я вижу цель и смысл поэзии — чтобы излагать свои идеи. Вы, в частности, делаете это гораздо лучше в прозе.
Смысл и цель поэзии я вижу только в ней самой. А ее-то в Вашей поэме очень мало. Я понимаю, что сравнение с Твардовским Вас обидело. Но почему-то при новом чтении его облик назойливо снова стал мне лезть в голову. Если бы он очутился вдруг на свободе — мне думается, что он «запел» бы в таком же роде — стилистически мастерском, но лишенном поэзии.
Конечно, вот есть шуточная поэзия — «Домик в Коломне», А.К. Толстой, В. Соловьев, Christian Morgenstern, Ogden Nash[94] или Lewis Carroll. Но тогда приходится выбирать: или лирика, или шуточн<ая> поэзия. Смешение того и другого смерти подобно и — верный провал. Надо быть minimum Пушкиным, чтобы, напр<имер>, в «Евгении Онегине» разрешить себе такую смесь, да и то — обратите внимание — он их никогда не смешивает, а от одного переходит к другому. Письма Евгения и Татьяны — серьезны сплошь, а в отношении петербургской холостой жизни Евгения не найдете ни капельки лиризма. Толстой, Соловьев и Morgenstern писали также и серьезные стихи, но отдельно. А соловьевское «Das Ewig-Weibliche»[95] — поэтически — ведь полный провал.
Кроме того — шуточн<ая> п<оэзия> — самое трудное и — не знаю, если Вы решите себя посвятить именно ей, м. б., Вы в ней и преуспеете, но то, что я видел пока, — «Гурилевские романсы» и поэма из «Опытов» — меня не удовлетворяет, кажется скорее смесью обоих стилей (в «Гурилевских» я бы выделил 2–3 романса, лирически действенных, но мало самостоятельных (о них — другой разговор, отдельный).
Вот другой «поэт-критик» — Г.В. Адамович. Он не лишен вкуса, проницательности и любви к литературе, но он боится писать то, что на самом деле думает, и это лишает 9/10 его статей ценности, которую они могли бы иметь по его способностям. Поэтому он, наверное, войдет в историю русской литературы не как критик, а как автор 5–6 замечательных, подлинных стихотворений (а такие 5–6 стих<отворений> у него можно насобирать).
Вы же — не только смелее его, но и явно обладаете несравненно более точным видением поэзии (напр<имер>, в В<ашей> статье об Есенине) и более живым к ней отношением, и — вообще — Вы явно вырастаете в одного из лучших критиков русской литературы, лучшего после Мирского и Ходасевича; а во многом я Вас Ходасевичу предпочитаю.
Разбирался он в поэзии, пожалуй, не хуже Вашего (хотя и односторонне), но он страдал недостатком, противоположным Адамовичу — избытком желчи, и поэтому без нужды язвил направо и налево, «ради красного словца».
Если бы я был на Вашем месте, я бы направил все свои силы на литературную критику, и со временем Вы бы смогли сравняться с Д.П. Мирским и даже его превзойти (pourquoi pas?). Для этого у Вас данные есть.
А в поэзии… даже среди новых эмигрантов я Вам предпочитаю Морщена и Елагина… «Даже» отнюдь не презрительно — новая эмиграция дала блестящих эссеистов (кроме Вас — Ржевского, Ульянова, Филиппова и еще), но пока мало поэтов. Правда, новая эмиграция — вся в будущем — она ведь продолжает прибывать, хотя и в малых количествах.
Если и когда стихи сами вылупляются (это, верно, с Вами случается) — тогда — так и быть, печатайте. Мне почему-то кажется, что Ваша поэма сама «вылупилась», как Паллада из головы Зевса, а что работа пришла потом, хотя, похоже, что она стоила Вам немалой работы.
Но, как и Адамович, и Маковский (тоже в первую очередь критики), Вы цените поэта в себе, не хотите с ним расстаться, и суровость читателей по его адресу Вас огорчает… не знаю, м. б., потому мне лично стихи ни в зуб не удаются, что я спокойно отношусь к их неудаче и существую исключительно как критик и переводчик…
М. б., то, что я Вам так пишу, даже нехорошо с моей стороны, по отношению к вам, ибо мои слова, даже если Вы их не принимаете, убивают еще непрочный росток поэзии в Вас, который смог бы в будущем развиться и вырасти… В этом опасность всякого строгого суждения, даже если оно и правда, или представляется таковой ее автору.
Ваш приезд в Париж, к сожалению, не состоялся из-за того, что предполагавшийся конгресс не вышел. Может случиться, что Вы все-таки приедете сюда по какому-нибудь другому случаю. Разумеется, если бы так случилось, был бы очень рад с Вами наконец-то лично увидеться, пригласить Вас к себе.
На этот случай прошу Вас взять тот сборник Заболоцкого, чуть ли не единственным экземпляром которого Вы располагаете. Такую ценность было бы безумием доверить почте, даже заказной — отлично это понимаю. Но когда Вы будете здесь — я бы хотел воспользоваться случаем и списать те стихи, которые не вошли в Ваши «Приглушенные голоса» и не появились в печати (хотя и «Торжество земледелия» не удается найти, ибо те номера «Нового мира»[96], где оно появилось, мне пока не удалось обнаружить в Париже). Не очень верится, чтобы они могли появиться в СССР теперь, при «перемене курса»[97].
Был бы очень рад узнать Ваше мнение о шансах и перспективах свободы в СССР. Тут у нас имеется недавно вышедший сборник «Литературная Москва»[98] — объемистый и с подписями Ахматовой, Пастернака, Заболоцкого, Мартынова и т. д. Но увы — все тексты, подписанные этими громкими именами, подстрижены под гребенку, gleichgeschaltet[99], дидактичны, осовечены до тошноты. Если так, то уж почти предпочитаешь доброе сталинское время, когда все откровенно молчали, а всякие там Симоновы и присные им предавались казенным славословиям — хоть никакого соблазна в этом не было.
Кроме «Гурилевских» (которых нет под рукой), еще хотел бы оговорить с Вами вопрос о поэзии «не лирической» — но это до следующего раза, теперь не хватит времени. Вкратце — вот в чем дело.
В противоположность мнению Адамовича, признающего только поэзию «простую» и лирическую — истекающую прямо из сердца и пр., напр<имер>: «и друга лучший друг забудет»[100], «белеет парус одинокий в тумане моря голубом» и т. д., я признаю также и, напр<имер>, Набокова— Сирина, Хлебникова или Цветаеву и вообще весь веер возможного разнообразия стилей. Для меня поэзия — именно «езда в незнаемое» — реализация такого, чего еще не было, каким бы оно ни было.
В связи с этим — интересный вопрос о судьбах поэзии в будущем. Живопись дошла до беспредметности, и не без успеха — будущее, по-видимому, в безграничных, неисчерпаемых возможностях беспредметного воображаемого мира.
Но поэзия упирается в слово, которое (даже независимо от синтаксиса или от его отсутствия) есть уже предмет. Как же тут быть? Остановка — смерти подобна — надо идти вперед. Но за пределами слова, пусть заумного — уже не поэзия «свиристели» Хлебникова, напр<имер>, или «грустилища» — еще слово, а «дыр бул щыл» Крученых уже не слово, но… еще ли поэзия?
А вопрос этот меня мучит в связи с тем, что я вижу у больших поэтов нашей эпохи настоящее замешательство и незнание, куда идти. М. б., к юродству или через юродство несерьезной поэзии Г. Иванова или Заболоцкого можно куда-то выйти?
Все это вопросы… Подумаем… Да и может ли идти поэзия от теории к практике, а не наоборот?
Пока приходится кончать. Заранее сожалею об огорчении, которое Вам причинил, но писать Вам неправду было бы, м. 6., еще более некрасиво и… не нужно. Утешьтесь тем, что не одного Вас «разделываю» в письмах — у Вас есть товарищи по несчастью.
Искренне Вам преданный
Ваш Э. Райс
7
Париж 17–10 < 1956 г.>
Дорогой Владимир Федорович.
Мне так и не удалось найти в Париже номер «Опытов», в котором обсуждалась книга Адамовича и из-за которого Вы имели неприятности[101]. Все-таки, мне кажется, что в делах такого рода лучше «ковать железо, пока горячо» и не чересчур откладывать свое противодействие. Поэтому, впредь до нахождения нужного номера (я думаю, что С.К. Маковский его для меня в конце концов найдет, хотя я ему, разумеется, не сказал, для чего он мне нужен), я бы хотел сообщить Вам то немногое, что я понял из Вашего последнего письма и что, будем надеяться, может пока все-таки быть Вам полезным.
Не знаю и не «чувствую», чтобы Вас могли «попереть» из литературы. Скорее наоборот, Ваши затруднения могут оказаться «кризисом роста» Вашей литературной карьеры, и встревоженность Адамовича, по-моему, скорее касается именно Вашей ценности, соперничества которой он боится, чем Вашей бездарности.
Пока я сам не мог прочесть нужного номера «Опытов» и составить себе собственное мнение о происшедшем, судя по Вашему рассказу, похоже гораздо больше на то, что Адамович Вас ценит, сознает Вашу талантливость и боится, чтобы мое мнение о Вас, как о лучшем русском критике зарубежья, не распространилось, в ущерб его репутации. Поэтому он… защищается, опираясь на свой авторитет и литературные связи (вроде «обожания» Иваска, о котором Вы пишете).
Тем не менее, все вовсе не ограничивается «общественниками» (которые вообще не существуют — что у них, «Социалистический вестник», что ли?) и «адамовичистами», ибо то, что мы с Вами говорим о нем без обиняков, все знают и понимают сами и только боятся его. Так что если бы Вам случилось поговорить с Ю.П. Иваском лично, то, я думаю, многое бы уладилось этим одним. Письмами, конечно, этого Вам добиться будет гораздо труднее, хотя бы из-за затруднительности называть письменно вещи своими именами.
Но независимо от Адамовича, т. е. «Опытов» и «Нового журнала» (где дело тоже обстоит сложнее и где Вы могли бы обратиться, м. б., напр<имер>, к Гулю или к Берберовой и особенно к Г.П. Струве, который и очень влиятелен, и от Адамовича ничуть не зависит), подумайте, напр<имер>, о «Новом русском слове». Там, конечно, и «общественники», и Адамович, и Терапиано, и кто хотите еще, но Вейнбаум — человек на редкость независимый и по характеру, и потому что все они зависят от него, а не он от них. А в интересах газеты (единственное, мне кажется, что его в жизни серьезно интересует) он будет рад заполучить такого талантливого и культурного сотрудника, как Вы. Конечно, я могу ошибаться, как даже сам Адамович или Карпович, но что Вы талантливы — верьте мне — на этот счет у меня нет ни малейшего сомнения, сколько я себя на этот счет ни заставлял пересматривать суждение о Вас. И я уверен, что Вейнбаум в этом скоро убедится тоже.
А частое появление Вашей подписи в его четверговых номерах, это что хотите, только не изгнание из литературы.
Кроме того — на политическом поприще (которое, принципиально, мне так же трудно, как и Вам), не забывайте, что Вы можете легко приобрести очень крупный удельный вес. Вы — отъявленный «не-антисемит» (вспомнить хотя бы Ваши высказывания о Мандельштаме и Вашу фразу в «Приглушенных голосах», где Вы именно его и Пастернака ставите морально в пример остальным) — это чувствуется, у Вас такая «аура». Тогда как большинство других новых эмигрантов подозреваются (б. м., не без основания) в антисемитизме, и именно «общественники» от них поэтому сторонятся.
Возьмите хотя бы «Социалистический вестник» — он ведь до сих пор, несмотря на все усилия и компромиссы, не нашел ни одного эмигранта, сколько-нибудь грамотного, который бы согласился с ним сотрудничать хоть сколько-нибудь без скандалов, без «свободных трибун» и т. д. А ведь стоит Вам послать им уместное «письмо в редакцию», не идущее против шерсти их «хартии», что для Вас не трудно, раз Вы сами анти-большевик и сторонник свободы, а не, напр<имер>, новой контр-диктатуры с антисемитским душком — как у Вас смогут завязаться с ними хорошие отношения и даже сотрудничество, за которые Вам охотно простится «оплеуха»[102].
Им так нужен хороший новый эмигрант, что они не будут щепетильны насчет «оплеухи» и на многое сами охотно закроют глаза, если только Вы хоть чем-нибудь покажете, что готовы с ними ладить.
При этом имейте в виду, что в области литературных мнений они Вам предоставят наверно самую широкую свободу, благо они сами в литературе ни бельмеса не смыслят. А их слабых пунктов политических (низкопоклонство перед белинско-чернышевской дурью и т. д.) — лучше просто не касаться, обходить их молчанием, пока Ваше положение как «левого» нового эмигранта не окрепнет настолько, что Вам будет разрешено атаковать и Белинского, что, вероятно, Вам тоже будет со временем разрешено, ибо прежде всего им необходим такой человек, как Вы.
Наконец, мне кажется, что мюнхенские издания, напр<имер> «Грани», ни от Адамовича, ни от Вишняка не зависят и что там Вы можете спокойно и усиленно продолжать сотрудничать. Попробуйте, напр<имер>, пригрозить Иваску, если он будет мариновать Вашу статью о «крупных формах» — передать ее «Граням»![103] Это одно может его заставить поместить ее поскорее, даже если бы это Адамовичу не понравилось. Но независимо от этого, «Грани» пользуются все растущей литературной популярностью, и Вам начихать, если Вы будете постоянно в них печататься, на капризы «Опытов» и «Н<ового> ж<урнала>». Тем хуже для них, если Ваша репутация вырастет, несмотря на них и против них.
Кроме того, укажу Вам на то, что, напр<имер>, Г.В. Иванов не любит и не боится Адамовича и иногда резко на него нападает, напр<имер>, в «Возрождении»[104] (куда я Вам пока бы не советовал обращаться, ибо тогда Ваша репутация у «общественников» пропадет окончательно). Но если бы Ваши попытки с ними примириться не дали результатов (что, по-моему, почти совершенно невероятно), то тогда — идите в «Возрождение» — это серьезный, старый толстый журнал, который тоже может серьезно содействовать росту Вашего литературного имени) — он будет рад найти в Вашем лице союзника против Адамовича. Он же сможет Вас поддержать и в «Н<овом> ж<урнале>» и в «Опытах». Но знайте, что ему нельзя до конца доверять — он человек больной, пожилой, способный на предательство, хотя и не по злости.
Затем — вот еще Вейдле, тоже человек влиятельный в литературном мире, абсолютно от Адамовича независимый. Он мне лично сказал, что считает Вас «очень талантливым критиком». Разрешаю Вам, в обращении к нему, сослаться на меня. И Г.П. Струве — о кот<ором> мы уже говорили.
Стихи, конечно, печатайте, хотя они, по-моему, все-таки далеко у Вас не лучшее, чтобы «оставаться на поверхности». Их Адамович похвалил, по— видимому, не потому, что они ему нравятся (вкус-то у черта у него есть, но держит он его про себя), а потому, что, разделав Вашу критику, опасную для него, чтобы выставить себя беспристрастным, он похвалил Ваши стихи, для него не опасные, ибо он пишет мало стихов и не на них основана его игра. Но воспользуйтесь этим, как лазейкой.
В том, что я Вам пишу, конечно, есть много требующего некоторого «ловкачества», допускаю, что оно Вам, как и мне самому, противно. Но раз в этом нет ничего идущего наперекор Вашей совести, то, м. б., стоит ко всему этому прибегнуть, чтобы исправить содеянную по отношению к Вам несправедливость в законной самозащите.
Ваша статья о Моцарте… не могу дать Вам о ней компетентного суждения, ибо вижу по ней, что Вы знаете Моцарта, а м. б., и музыку вообще намного лучше моего. Я ведь сам не играю ни на одном инструменте и с трудом читаю ноты. Лично я предпочитаю операм М<оцарта> его камерную музыку, напр<имер>, ре-минорный концерт для рояля и оркестра или квинтет с кларнетом и еще некоторые концерты для духовых ансамблей, а среди опер предпочитаю «Zauberflote» «Дон Жуану», к которому, по— видимому, скорее идут Ваши симпатии. Но, повторяю — я мало компетентен. По статье видно, что она экскурс в не совсем Вашу область. Видно, что и Вы «у себя дома» скорее в литературе. Но разумеется, ни в какое сравнение с Вашей серьезной и основательной и местами блестящей статьей работа Адамовича в «Н<овом> р<усском> с<лове>»[105] идти не может, хотя, м. б., он в ней и не сказал все, что хотел, считаясь с уровнем газетного читателя. Вообще, в русск<ой> заруб<ежной> лит<ерату>ре я пока не встретил ни одной работы о Моцарте на уровне Вашей.
Вот еще о чем я думал за это время, касательно Вас. Вы мне как-то писали, что Вам удалось показать Вашим ученикам-американцам — в чем ценность Пушкина. Но ведь и по-русски никто еще этого толком не сделал (если не считать замечательной английской же книги Мирского). Почему же бы Вам не подготовить (не спеша) монографию о Пушкине — страниц в 300–400, о его жизни и творчестве (биография Тырковой[106] изобилует материалом больше, чем талантом), синтетическую работу о нем, учитывающую лучшие достижения «пушкинизма», обыкновенно разрозненные и часто не отличающие важное от неважного и даже от глупо-ненужного. Такой работы до сих пор не было, а она нужна, ибо Вы ошибаетесь, если думаете, что все русские, даже образованные, понимают Пушкина и правильно его оценивают.
Если Вы Пушкина любите (это непременное условие, вот видно, что Хлебникова Вы на самом деле любите), с Вашим талантом — именно Вы, м. б., тот человек, который должен эту книгу написать. С нею в руках — начихать Вам на всех Адамовичей и Вишняков в мире — Вы займете кардинальное место в русской критике и истории литературы. Если идея Вас в принципе интересует — охотно готов с Вами ее продолжить, вот так в письмах, разрабатывать, разъяснять, ибо каждая идея в этом нуждается, в особенности в начале, прежде чем ее контуры не определились. Подумайте об этом.
Если бы Вам удалось переписать Заболоцкого (хоть то, что Вы не поместили в «Приглушенных голосах») — не одного меня бы Вы осчастливили[107].
Очень Вас прошу то, что в этом письме я Вам сообщил для Вашей ориентировки в борьбе, никому не сообщать — чтобы оно осталось строго между нами, ибо Вы, верно, тоже понимаете, что и моя карьера, не только литература, была бы непоправимо разрушена, если бы некоторые подробности всего этого дошли до заинтересованных лиц. Я Вам оказал доверие по-дружески, с желанием помочь Вам выпутаться из создавшегося затруднительного положения. Впрочем, если могу, охотно готов и отныне впредь все для Вас сделать, что только могу, и в этом в вопросе, и в других.
Искренне Ваш Э. Райс
8
Париж 29-3-57
Дорогой Владимир Федорович.
Вот что мне удалось сделать пока для Вашего Хлебникова. Нужную Вам книгу мне удалось найти для Вас в Париже у частного лица. О том, чтобы Вам ее послать по почте, нет речи, хуже чем с публичной библиотекой. Но фотокопию можно будет снять. Только тут — затруднение.
Вообще фотокопиями занимается Национальная библиотека и берет приблизит<ельно> 20 фр<анков> за страницу. Но в настоящее время их фотографическая мастерская перегружена работой и отказалась взять в работу книгу для Вас. Тогда я обратился к частному фотографу, специалисту по фотокопиям. Он берет 120 фр<анков> за страницу, т. е. в 6 раз больше. Вот точное заглавие книги:
«Велимир Хлебников. Неизданные произведения, поэмы и стихи. Редакция и комментарии Н. Харджиева. Проза. Редакция и комментарии Т. Грица. — Государственное издательство “Художественная литература”. Москва 1940». В книге 492 стр. Не считая заглавия — 485 стр.
Так что у частного фотографа вся копия должна была бы стоить для Вас 29 160 фр<анков>. А в Национальной библиотеке только 4800 фр<анков>. Главным образом — это дело срока. Если Вам нужно иметь книгу возможно скорее — придется обратиться к частному фотографу. Если же Вы можете подождать месяц-два, то я надеюсь достать в Нац<иональную> библ<иотеку> протекцию для того, чтобы они книгу приняли. Но даже в этом случае придется подождать минимум месяц.
Поэтому я Вас прошу написать мне, к какому сроку Вам нужна книга, а я постараюсь найти для Вас наиболее дешевое решение. В книге немало неизданных текстов, некоторые из которых замечательны. Но предисловие и примечания занимают не меньше 100 страниц. Может быть — их тоже можно исключить из копии и этим сделать ее дешевле. Не имея книги перед глазами, не могу на этот раз дать Вам больше подробностей на ее счет. Жду Ваших указаний насчет дальнейшего. За Заболоцкого — заранее благодарю. Исключите из переписки все тексты, включенные Вами в «Приглушенные голоса» — этим уже переписка сократится намного.
Будьте здоровы. В ожидании Вашего ответа постараюсь возможно лучше устроить это дело.
Ваш Э. Райс
9
Париж 18-5-57
Дорогой Владимир Федорович.
Получил от Вас, воздушной почтой, «Столбцы» Заболоцкого, за которые очень Вам благодарен. Но если Вы решились в горячее экзаменационное время на переписку 20 страниц на машинке, значит, время крайне не терпит для 7-го тома Хлебникова, копию которого я Вам обещал.
Очень огорчен, что так случилось, но Вы написали мне ничего не предпринимать до приезда Г.П. Струве, который меня вызовет и укажет, как и что делать. Я и ждал, хотя понимал, что Вы теряете драгоценное время. Но Г.П. Струве — или не приезжал, или забыл меня вызвать по Вашему делу.
Если он еще появится до получения Вашего ответа на это письмо, я немедленно пущу дело в ход по его указаниям.
Если же нет — подожду Вашего ответа насчет того, чтобы сделать фотокопию (что дороже) или микрофильм (что дешевле) — Вы мне пишете, что еще не уверены, что будете иметь аппарат для чтения микрофильма.
Потом — можно ли подождать 2 месяца для получения более дешевой копии в Нац<иональной> библ<иотеке> или же заказать у частного фотографа более дорогую (120 фр<анков> за страницу) — но более скорую.
Или же, не дожидаясь Г<леба> П<етровича>, обратиться к его брату Алексею Петровичу, за его, более дешевым (по Вашему указанию) фотографом?
Как только получу Ваш ответ, немедленно все сделаю, как можно скорее, ибо понимаю сам, что дело не терпит — чем скорее напишете, тем лучше будет.
Искренне Ваш Э. Райс
10
Париж 31-5-57
Дорогой Владимир Федорович.
Одновременно с этим письмом ушел микрофильм нужной Вам книги Хлебникова заказным авионом на Ваш адрес. Надеюсь, что получите одновременно и его.
Я заботился, по последнему Вашему письму, гл<авным> обр<азом> о скорости и поэтому заплатил, б. м., на 6 фр<анков> за лист дороже, чем если бы я действовал через знакомых А.П. Струве. Всего работа стоит, вместе с пересылкой, 4625 франков. Если желаете, можете получить счет от отправителя. Надеюсь, что успеете книгу использовать. После зашиты диссертации попрошу Вас подтвердить мне получение микрофильма. До тех пор — не желаю, чтобы Вы еще теряли время. О Заболоцком нет ничего нужного под рукой. Нужных номеров «Звезды» в Париже нет.
Экземпляр книги для микрофильма принадлежит местной семье библиофилов по фамилии Лерсис. Книгу в свое время загнал им я сам «в минуту жизни трудную» и очень сожалел, когда узнал, что она Вам нужна. Но продавал я ее с условием, что смогу ею воспользоваться в случае надобности. Для съемки они согласились, но о пересылке нечего было и заикаться. В следующий раз, если захотите, подробнее и о них. Пока же прощайте, будьте здоровы и защищайте с успехом Вашу диссертацию. Не сомневаюсь, что она будет превосходной.
Искренне Ваш Э. Райс
11
Париж 19-6-57
Дорогой Владимир Федорович.
С Вашим микрофильмом случилось несчастье. Это небольшой предмет своеобразной формы, поэтому я решил, что будет лучше, если его Вам отправит фирма, которая его изготовила. В полученной мною и имеющейся у меня квитанции указано, что отправление должно будет быть сделано заказным и по воздушной почте. Но по рассеянности служащего фирмы Ваш микрофильм ушел, хотя и заказным, но по обыкновенной почте. Поэтому, увы, по наведенным мной справкам, Вы его вряд ли получите раньше чем 24 июня (он ушел 3 июня, и в принципе из Парижа в Калифорнию обыкновенная почта идет 3 недели). Я в отчаянии, но не вижу, как бы этому горю помочь. Вполне понимаю неприятности, которыми Вам грозит это опоздание, но — когда Вы получите это письмо, верно, и пакет уже будет у Вас. Не Вам передо мной, а мне перед Вами нужно извиняться. Будем надеяться, что это опоздание не помешает Вам использовать микрофильм.
Будьте здоровы, простите и желаю Вам успеха.
Э. Райс
12
13-2-58
Дорогой Владимир Федорович.
Очень обрадовался Вашему письму, из которого заключаю, что, несмотря на все неприятности, фотокопия пришла к Вам вовремя, для того чтобы Вы успели ее использовать. А то я было боялся, что выйдет чересчур поздно, и эта мысль меня грызла.
И со стороны денег и проч. тоже все было в порядке.
Несмотря на смерть Сталина, Вы мало теряете, не следя за теперешней литературой. Столь нашумевший Дудинцев, несомненно, проявил гражданское мужество, но художественно книга не существует, да и пропагандное ее действие вне СССР ничтожно. «Доктора Живаго» по-итальянски читать тошно, но я не потерял надежду, что найдется, наконец, русский, который отважится его издать за границей. Ведь даже коммерчески дело было бы выгодным.
Но за все это время я не переставал следить за поэзией — по журналам, гл<авным> обр<азом>. Вышедшая к сорокалетию объемистая двухтомная «антология»[108] любопытна, но еще осторожна и потому пуста. Все-таки, с ее помощью удается отмечать кое-кого из молодых и даже из пропущенных стариков. Среди первых назову Якова Белинского, Коваленкова, Стрельченко, Дудина, Слуцкого и Вашего Урина, а м. 6., также Поделкова и Шубина, а среди последних — Дм. Петровского и сибиряка Мухачева. Но они не решились еще поместить Чурилина, Петникова, Мандельштама, Клюева, Нарбута, Белого, а среди молодых — Семынина и Самойлова[109]. Все-таки прогресс. Обещаны отдельные книги Павла Васильева и Цветаевой, но еще не вышли. И выйдут ли?[110] А Заболоцкий, хоть и плохой (без «Столбцов» совсем), все-таки вышел с рядом доныне неизвестных, иногда интересных стихотворений[111]. Кроме того, в Париже есть сборники Дм. Петровского, Стрельченко и Слуцкого[112]. С превеликим трудом мне удалось получить «стихи» Мартынова 1957 г.[113] — это крохотная книжонка в 100 стр., намного более слабая, чем «Лукоморье»[114] — просто жаль Мартынова, что его так обкарнали!
Но даже всего этого показалось им недостаточным, и теперь объявляют новый зажим, возвращение мороза. Увы, еще не предвидится конец уродованию русской культуры! У свободного мира не хватает мускулов поставить положение на ноги.
Если Ваши ученые дела уладились — не я один обрадуюсь Вашему возвращению «в литературу». Но увы, тем временем «Грани», кажется, дышат на ладан, а в «Новом журнале» «царят» кадеты и эсеры и печатают Герцена[115] и друг друга. Им бы прописать еще раз сиринский «Дар», но на этот раз пройтись бы по Герцену — тоже свято заслужил.
Очень рад буду Вашим новостям.
Ваш Э. Райс
13
Париж 17-8-58
Дорогой Владимир Федорович.
Если Вы хотите, мне удалось найти для Вас еще один завалящий экземпляр двухтомной советской антологии в честь ихнего 40-летия. Он стоит 1640 фр<анков>, т. е. что-то вроде 4 долларов. Если желаете его получить, прошу Вас немедленно мне ответить, ибо продавец, хотя и согласился этот экземпляр для меня задержать, вряд ли будет держать его долго. Я ему сказал, что должен написать о нем в Америку и получить ответ. Он согласился. Но, как Вы понимаете, он рассчитывает на скорость с нашей стороны. Так что лучше всего будет, если Вы мне ответите с обратной почтой.
Естественно, если так Вам интересно поближе с этой книжкой ознакомиться. Она состоит из 2 больших томов, страниц по 700 каждый. В ней представлены около 200 поэтов, среди которых несколько «трудных»: Цветаева, Орешин, Хлебников, Васильев, Корнилов. Но нет Чурилина, Нарбута, Петникова и даже Клюева, Мандельштама… Все-таки, в общем, несмотря на изобилие официальной трухи, выбор сделан старательно и, в пределах возможности, со вкусом, т. е. после обильного набора официальных текстов дается 2–3 стихотворения автора из наилучших эстетически. Книга интересна гл<авным> обр<азом> с точки зрения документальной и как материал (о каждом из поэтов имеется краткая фактическая заметка), наконец, с политической. Но несомненно, каждый из нас, и я в том числе, не может не найти в ней немало художественно-интересных и еще незнакомых текстов. Я знаю, Вы строже моего к поэтам второй величины (позиция, которую возможно и оправдать), но здесь впервые, в особенности среди молодежи, я нашел кое-какие интересные явления. В частности, здесь, впервые, я нашел 2 стихотворения открытого Вами В. Урина, действительно, хороших. Кое-кто из старших тоже впервые здесь обратил на себя мое внимание, как человек талантливый, хотя и «приглушенный», напр<имер>, В. Луговской. Поэтому, в общем, я Вам советую книгу приобрести. Зная границы возможностей ее составителей, она все-таки не лишена интереса, даже художественного. Но, конечно, ожидаю Вашего ответа.
Что же касается горе-рецензента из «Time’s Literary Suppl<ement>» (верно, это большевизан Costello[116]) — то не стоит Вам обращать на такие высказывания внимания. Сам он, верно, знает, что врет. В частности, «положительная оценка революции» — самое слабое в этой антологии, в чем Вы сами убедитесь, когда ее получите. Было бы хорошо, если бы Вы этого дядю отчитали по заслугам[117]. Сильна же она именно тем, что в ней, впервые, решились поместить ряд текстов, к революции прямого отношения не имеющих.
Что касается остальной литературы, Вы продолжаете быть строгим судьей. Конечно «Скоттов (?!), Шекспиров и Дантов» пока не видно, но в одном из последних номеров «Граней» (в самом толстом) появилась замечательная (кроме последних 2 строф) поэма С.М. Рафальского[118]. Он — малоизвестный, но очень интересный поэт Пражской школы[119] («Воля России»), которой я в последнее время все больше интересуюсь и даже начинаю предпочитать ее парижской. Кроме Рафальского в ней был интересный поэт Вячеслав Лебедев — сухой экзотик, вроде Киплинга, но без его «народных» словечек и в особенности Алексей Эйснер, сильный и своеобразный поэт с евразийской тематикой. К сожалению, в Париже трудно собрать все материалы, а то я бы хотел о них напомнить статьей. А среди Вас, «новых» эмигрантов, замечаю Олега Ильинского, по-моему, очень даровитого (хотя он и немного кривляка). Если бы не это кривляние (которое может еще пройти), я его предпочел бы даже Ивану Елагину. Но вообще, отчаиваться нечего, талантливые люди в природе есть и в любую минуту могут проявиться. После войны 1945 г. в эмиграции выросли еще 2 поэта, о которых стоит упомянуть: Ю. Одарченко[120] и А.Е. Величковский[121]. Они старые эмигранты, но впервые выступили после войны.
«Опыты» пока в Париже не получаются. Если там бывают Ваши статьи, то я лично очень об этом сожалею. Сожалею также о том, что Ваша книга о Хлебникове должна выйти по-английски. Хотя я на этом языке и читаю вполне свободно, но, все-таки, жаль. Удалось ли Вам, на чужом языке, остаться таким же замечательным критиком, как по-русски?
Сожалею насчет пробела в микрофильме (видно, что фотограф, к которому я обратился (хотя он официальный фотограф Национальной библиотеки), оказался настоящим плутом — выслал Вам микрофильм обыкновенной почтой, хотя ему было уплачено за воздушную, и вот, еще недобросовестно сделал работу). Но теперь уже, увы, этого дела исправить нельзя, ибо книжка была продана за границу, я даже точно не знаю куда — не то в Италию, не то в Швейцарию, не то еще куда-то. Ее предлагали и нам, в Национальную библиотеку, но цена оказалась слишком высокой.
Если Вы продолжаете писать стихи — попробуйте прислать мне несколько, на выбор, для антологии, которую готовлю. Конечно, если Вы согласны в ней фигурировать. Из Вашей длинной поэмы про чертей я все— таки ничего не выбрал, да и неохота разрывать на части цельную вещь. В «Гурилевских романсах», конечно, можно было бы кое-что найти. Но если у Вас имеются новые тексты, то, надеясь на нормальное созревание человека и его мастерства, среди них, может быть, имеется лучшее. Не помню, писал ли уже Вам о моем наблюдении, что в большинстве случаев лучшие стихи каждого поэта — самые поздние. Бывают, конечно, и исключения. Но они указывают на невысокое качество поэта и на какое-то неблагополучие в его творчестве. Примеры первого порядка: Фет, Блок, Волошин, Клюев, Вяч. Иванов, Хлебников, Ходасевич, Гете, Гельдерлин, Рильке, У. Стивенс, Иэтс, Э. Мюэр, наконец — Пушкин. Примеры второго порядка (не говоря о людях рано умерших, как Лермонтов, Новалис или Ките, о которых неизвестно, что бы с ними было): Полонский, Бальмонт, Маяковский, Г. Бенн, Ст. Георге, У. Оден… Нам, русским, и другим народам, живущим по ту сторону железного занавеса, пришлось особенно плохо из-за того, что по мере созревания наши поэты теряли свободу высказывания. Так что лучшие стихи, напр<имер>, Пастернака, Заболоцкого и др. — как раз первые, самые ранние. Особенно это обидно в случае украинцев Тычины, Рыльского и Бажана, еще ужаснее разгромленных партией, чем Заболоцкий или Кирсанов. Замечательные польские поэты Пшыбош[122] и Важык[123] тоже свирепо искалечены цензурой. Ну что же, тем хуже для нас. Судьба.
Был — и всегда бываю искренне рад Вашему письму. Но не трогал Вас, зная, что Вы очень заняты (это и со мной случается порою, хотя и на не такой долгий срок). За исключением Вас, остальные, встреченные мною, новые эмигранты, — страшно далеки, как бы люди с другой планеты. Они как-то собраннее и жестче нас (и в хорошем и в дурном отношении), с ними не получается полного, глубокого понимания. Где-то, в самом своем корню, они иначе. Вы — единственный, с которым я всего этого абсолютно не чувствую, и общаюсь с Вами просто и прямо, ни о чем не думая. И возможность этого ощутил еще в Ваших первых статьях, после которых меня потянуло Вам написать. Продолжаю надеяться, что нам удастся встретиться лично, несмотря на эпоху, пространственные, временные (не успеваешь) и денежные препятствия. Вы для меня большая радость, как указание на то, что не вся целиком Россия стала нам чужой, а что это, видно, лишь перемена маски, внешности, за которой остается прежнее, знакомое, свое… Верю в это, даже если это ребячество. Пишите, дорогой Владимир Федорович, если будете иметь время и охоту. А на этот раз — прошу, поскорее, хоть два слова, если желаете книжку.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
14
Париж 18-9-58
Дорогой Владимир Федорович.
Пишу Вам поздно вечером, в состоянии полной изношенности. Но боюсь, что иначе я так и не найду времени Вам написать. Есть на свете такая отвратительная вещь, которую называют «журналистика». Я имел неосторожность отдать ей малую частицу самого себя — из антисоветского долга. А она меня целиком проглотила и еще не кончила глотать. Так что все в разброде — и друзья, и литературные труды, и венгерский язык, которому я учился, не без успеха, и многое другое.
Конечно (в Вашем письме от 3–8), Вы — лучший критик, чем я (и не только чем я). Ваши характеристики Рафальского, Одарченки и Ильинского — убийственны, но бесспорны. Вы из тех, для кого в литературе есть только один ряд: первый. И это верно. Но если «первый ряд» Пушкина включает том страниц в 500 (но вряд ли больше), то «первый ряд», напр<имер>, (даже!) Фофанова, тоже включает 2–3 стихотворения, там-сям, по отдельной строчке-двум, которые тоже «первый ряд» и которые выкинуть жаль, которые в русской литературе свое место нашли, и даже если мы их выкинем, то, несомненно, раньше или позже, найдутся люди, которые им отдадут должное. Взять хотя бы знаменитые его строчки:
Звезды ясные, звезды прекрасные, Нашептали земле сказки чудные, Лепестки развернулись атласные, Зашептали листы изумрудные…Дальше — он все портит. Но у него в других местах есть (хотя и весьма редко) еще лучшие отдельные строчки, но я наизусть не помню, а книг его — не достать.
Я нарочно взял поэта крайне слабого. Но если мы подымемся к Подолинскому, Щербине, Вл. Соловьеву или к любому современнику Пушкина, то найдем, иногда, удивительные стихотворения, от которых трепещешь. Мало (по 1-2-3 на автора), но они есть.
Так что, по-моему, «первый ряд» включает не только Пушкина, Тютчева или Лермонтова (a propos у последнего, пожалуй, 9/19 стихов — макулатура, черновики, хуже Байрона), но и Сумарокова, Плетнева, Бутурлина или Асеева, хотя и в незначительных дозах. А все, что ценно — заслуживает быть не только отмеченным, но и… любимым!
А Рафальский (при правильности Ваших замечаний) — большой мастер, работник, умный, одаренный вкусом человек, и, по-моему, у него можно найти больше и лучше, не только чем у Фофанова, но, напр<имер>, и у Брюсова (кроме самых первых его «шалостей» вроде «журчащей Годавери», которая все-таки тоже не «Бог ведает что»), несмотря на незаслуженную знаменитость последнего, который тоже — замечательный критик и знаток литературы, человек глубокого и подлинного литературного опыта, но поэт — никудышный, автор иллюстраций для теории литературы. Одарченко может воскреснуть (он просто перепился), но и того, что есть, достаточно для маленького, но неотъемлемого листа в русской поэзии (на уровне, напр<имер>, Плетнева или Подолинского, а то и повыше). Верно — у Ильинского «плохое перевешивает» — потому он и Ильинский, а не Блок, или хоть Одоевцева. Но раз хорошее есть (а оно есть) — то плохое просто не интересно — оно мусор, в котором петух-критик и должен отыскивать жемчужное зерно. Да и у Лермонтова «плохое перевешивает», да еще как. Но Вы ведь за это его не сбросите со счетов.
Поэтому (а никак не «по знакомству» — я не таковский!) я не потерял надежду и на Вас. Ведь нашел я совсем всерьез хорошие стихи и у Маковского, и у Адамовича. Раз Вы поэзию любите и стихи пишете — то «надежда есть». Брюсов считал, что если у поэта нашлись 2 живые строчки — то «надежда есть». Ау Вас в «Гурилевских романсах» и даже в не понравившемся мне «Раю» (я его, a propos, перечитал — и… не переубедился), боюсь, что Вы срезались на желании непременно написать длинную. Это весьма опасная штука. Для этого нужно Пушкина или minimum Хлебникова. Даже у Баратынского (поэмы скучны и не нужны) есть больше, значительно больше. Так что, как хотите, я Вас не неволю (на мнение «критиков», кроме Вас и Маковского, мне наплевать), но я бы жалел, если бы хорошие Ваши стихи в мою антологию не попали. М. б., у Вас есть такое, к чему любишь возвращаться — жаль его не включить. А если бы тут было только «знакомство» — то неужели стал бы я Вам писать правду, с риском Вас обидеть и (если бы Вы были иным человеком, а таких «иных» — большинство), м. б., получить в Вашем лице дополнительного врага? Но людям, к которым я хорошо отношусь, я имею обыкновение говорить правду (даже неприятную), комплимент с моей стороны — признак неуважения — нечто вроде зонтика в дождь — раз он все равно болван, зачем даром испортить шляпу? Вам я комплиментов делать не хочу. Могу ошибаться (вот Иваску ведь — понравилось), но говорю искренне. М. б., другое понравится больше.
Желаю Вам благополучного заключения Ваших хождений по бюрократическим мукам[124]. И я глубоко, органически ненавижу все, что начальство и канцелярщина, и к тому же абсолютно беспомощен, когда удары сыплются на меня с этой стороны.
Будьте здоровы, не обижайтесь — пишите.
Ваш Э. Райс
P. S. Случайно нашел в каком-то сборнике Вашу статью о Лозинском[125]. Вы меня и уговорили взяться за его перевод «Божеств<енной> комедии» как за русское произведение. Читаю. Увидим. Сообщу Вам мои впечатления.
P. P. S. Было бы интересно Ваше впечатление о советской антологии. Нашли ли Вы в ней хоть что-нибудь живое, по Вашей оценке, чего Вы раньше не знали? Я лично — нашел. Напр<имер>, Луговского, которого до сих пор считал только более или менее способным подхалимом (его одиозные «стихи» о басмачах, по которым видно только одно: животный страх большевиков перед ними). Но на этот раз, напр<имер>, «Песнь о ветре» — не лишена подлинного чувства природы. Так что я взялся за его более объемистый сборник и там, среди очередного подхалимажа (в общем почти что неизбежного), нашел еще 5–6 хороших стихотворений и одно — замечательное «Черное озеро» (отмеченное, впрочем и «Лосевым»). Похоже, что поэт он настоящий, даже неплохой и, м. 6., после освобождения мы откроем у него подлинную, большую поэзию, пока что находящуюся под запретом. То же я бы сказал и о Мартынове, и о Недогонове[126], и о Стрельченко, и о Коваленкове (поэты, сборники которых я уже просмотрел и которые, в большинстве случаев, имеют стихотворения лучшие, чем те, которые приведены в антологии. Интересно было бы узнать Ваше мнение — пусть и уничижительное. Обратите внимание на то, что если бы судить, напр<имер>, Заболоцкого или Васильева по ней — то, хотя они и донельзя исковерканы, все-таки видно, что они из ряда вон выходящие.
15
Париж 29 июля 1962 г.
Дорогой Владимир Федорович.
Прежде чем благодарить Вас за Вашу диссертацию о Хлебникове[127], я счел своим долгом ее прочесть.
На сей раз «долг» оказался приятным — Ваша диссертация чрезвычайно интересна и, что почти никогда не случается с «научными» работами — жива. Вы действительно расчищаете путь для лучшего понимания Хлебникова каждому из нас. Вы рьяно придерживаетесь «формального» метода. От этого результат обычно получается какой-то топорный, мертвый, — мертвое нагромождение материалов, даже если оно и на самом деле что-либо доказывает или опровергает. Часто кажется, что одной-двух цитат в подтверждение своего утверждения было бы достаточно. Так нет, «формалист» обычно считает своим долгом вывалить перед читателем всю свою картотеку! Думаю, что это — преувеличение, и многие из лучших критиков и аналистов современного запада цитируют менее обильно (напр<имер>, A. Tate, Fritz Martini[128] или Georges Poulet[129]). Но у Вас то, что на первый взгляд кажется обычным формалистским перегибом, на самом деле оказывается полезными элементами для лучшего, более подробного объяснения текста. Так, напр<имер>, часто бывает с просодическим анализом стихов Хлебникова, почти всегда к чему-нибудь интересному приводящим.
Не знаю почему — то ли Ваша талантливость из русских статей (Ваш английский текст все-таки лишен свойственного Вашему русскому тексту стилистического и архитектонического блеска. Но, м. б., Вы его избегали сознательно, чтобы не перепугать высокопоставленных университетских мумий, которые должны были решать Вашу судьбу), то ли моя любовь к Хлебникову (все, что касается Хлебникова — хорошее) — но Вашу книжку я прочел с удовольствием и, как видите, в сравнительно короткий срок.
И у Вас — большая любовь к Хлебникову. Вы сумели внутренне вжиться во все обстоятельства его жизни и творчества, что Вам часто помогало освоить такое, чего до Вас ни я, ни другие поклонники (и даже критики) Хлебникова как следует не понимали.
Получив Вашу книжку, я пожалел об известной Вам продаже мною его шеститомного издания: вот где был бы благоприятный случай ко многому вернуться и многое пересмотреть в новом свете! Теперь же для этого пришлось удовлетвориться нарочито крохотным изданием 1960 года, по— моему посильно хорошо сделанного Степановым[130].
Вообще, до Вас, я Степанова уважал, считал, что он был Хлебникову искренним другом и усердным издателем (как и вообще неплохим литературным аналистом — хотя бы в его книжке о баснях Крылова[131]), а не коварным советизаном, без надобности искажавшим действительность, как, по-видимому, Вы считаете, на основании гл<авным> обр<азом> некоторых Ваших примечаний в конце книжки.
Но правы, вероятно, Вы, не только потому, что Вы изучили и приводите грандиозный материал, но и потому, что советские условия Вам лучше знакомы, чем мне. Согласен я и с большинством Ваших оценок отдельных поэм. Только пора и о недостатках:
Главная слабость Вашей книги — в связанности ее (знаю — неизбежной) обычаями и стилями докторских диссертаций. В значительной мере Вам удалось их блестяще преодолеть, тогда как большинство других диссертаций никто не печатает именно из-за непереносимой скучищи.
Тем не менее, видно, что эта связанность лишила Вас возможности отделить зерно от плевел. Вы были вынуждены не только писать о всех поэмах Хлебникова, но и посвящать каждой из них прибл<изительно> одинаковое количество места и внимания. Все-таки, благодаря Вам я с радостью перечитал «Журавля» и был удовлетворен тем, что любимая мною «Хаджи Тархан», которую все (Терапиано) обычно ругают, Вам тоже, по— видимому, нравится.
С другой стороны, мне кажется спорным Ваше утверждение безусловного превосходства поэм Хлебникова над его стихотворениями. Конечно, и среди поэм есть изумительные — хотя бы отмеченные и Вами «Труба Гуль-Мулы» и «Ночной обыск». Я бы еще привел «Трех сестер», «Песнь мирязя» и «Лесную тоску». Кроме того, Вы не зачислили в «поэмы», по— моему, часто гениальный «Взлом вселенной». Да, границу между поэмой и стихотворением провести не легко, — начиная с какого количества строк? Но сколько у Хлебникова прекраснейших коротких стихотворений! Хотя бы незабываемое «Ручей с холодною водой, где я скакал как бешеный мулла, где хорошо…». Конечно, Вы скажете, что оно отрывок, не вошедший в «Трубу», что, м. б., и верно, но все-таки… И есть много других, которые Вы никуда не пристроите, хотя бы «В этот день голубых медведей», «Сыновеет ночей синева», «Лиса», «Кормление голубя», «Семеро», «Голод» — да и имя им легион. Вы сами процитировали некоторые из них в «Приглушенных голосах». Мне лично кажется, что Хлебников был человеком хаотическим и что меньше всего он думал о литературных жанрах им написанного. Поэтому часто лучшее у него в неоформленных вообще отрывках и черновиках, что даже не всегда отличишь стихи от прозы.
Но это все, конечно, мелочи. В общем и в главном Ваша книга замечательна. Особенно большой Вашей фактической заслугой считаю смиренный, но обстоятельный перевод многих дерзаний или небрежностей Хлебникова на язык обычной историко-литературной терминологии. Этим вы нам всем его чрезвычайно приблизили, как бы «инкадрировали его в земную действительность». А сделали Вы это, ничем ценным у него не пожертвовав и ничего не исказив.
Мне пришла в голову мысль помочь Вам (и уговорить Вас) издать «Хлебникова» по-русски. Тут Вы будете свободны от стеснительных университетских пут и сможете ее написать так, как Вам бы того хотелось самому. Вот это будет действительно дело! Смотрите, как бы не пришлось ее с русского назад переводить на английский! А пока собранный Вами по-английски материал значительно облегчит и ускорит оформление Вашей книги по-русски. Есть у меня для Вас на виду и издатель: Федор Тарасович Лебедев[132], председатель ЦОПЭ. Его адрес: Т. Lebedew, Zope-Biiro, Renatastr. 77 Munchen 19. Германия. Можете сослаться и на меня. Я уже ему говорил о Вас, и он очень Вами заинтересовался. Возможно, что он также согласится на издание сборника Ваших статей, рассеянных по журналам и неизданных. Советую Вам ему написать.
Теперь другое. Личная к Вам просьба: теперь я ищу работы в США. По образованию я славист; есть у меня и кое-какие печатные работы. Могу, если хотите, прислать Вам подробный curriculum vitae и список печатных работ. Если в таких условиях можно говорить о своих личных вкусах, то предпочитаю работу в высших учебных заведениях и в не чересчур глухой провинции (о последней тут говорят, что она для европейцев вообще необитаема). Если ничего не можете сделать, буду рад, если хоть посоветуете: укажете, как, куда и к кому обратиться. За мной все-таки многолетний стаж во всяких французских ученых учреждениях. Говорят, что интерес ко всему русскому теперь в США растет и что шансы найти место… выше нуля. На худой конец, м. б., я бы согласился и на Канаду. Но о ней я ничего не знаю, кроме воспоминаний из гимназического учебника географии да еще «Oxford book of Canadian verse» — за редкими исключениями — ерунда.
Вы, верно, в настоящее время уже на каникулах. Если так — будьте здоровы и запасайтесь воздухом.
Искренне Вам преданный Э. Райс
P. S. Извините, что это письмо — заказное. Уже года три не имел от Вас известий — может статься, что Ваш тогдашний адрес более не действителен. Так вот — чтобы это знать и попытаться снестись с Вами иначе.
16
Париж 17-IX-62
Дорогой Владимир Федорович.
Ваше письмо от 3-IX объясняет редкость Вашего появления в русской зарубежной печати с некоторых пор. Я было приписывал ее необходимости работы над диссертацией. Но выходит, что Вы ставите принципиально вопрос о том — стоит или нет нам тут писать еще по-русски?
Понятно, что ради 2–3 полуграмотных (и не бескорыстных) похвал или придирок (благо мы знаем, от кого они исходят) — не стоит. Но ведь зарубежная печать проникает в каком-то количестве в СССР и вообще «туда» (и в Польше, и в Чехословакии, и в Болгарии, и даже в Румынии много читают по-русски). Не знаю, можно ли найти на Западе читателей, хоть отдаленно стоящих тамошних по жадности и даже по компетентности. Не говоря даже ни о каких «национальных» соображениях.
И еще: французский историк Жак Бэнвиль[133] писал: «Rien nest sur, tout est possible»[134]. Я этот его афоризм переделываю следующим образом: «Все возможно, в особенности плохое, но даже хорошее». И думаю, что это — правда.
Конечно, на этом нельзя строить никаких житейских планов, но история мчится с такой быстротой, все время происходят такие грандиозные и такие неожиданные перемены, и, опять-таки, то, чего пока нет — все-таки возможно — отрицать это не имеет смысла — что забывать о возможности и даже о близости нашего возвращения в Россию — тоже неправильно.
У меня лично имеется такой житейский принцип: «быть всегда готовым (или готовиться, предвидеть, учитывать возможность) к наихудшему, но помнить, что и наилучшее возможно, и к нему стремиться. Неужели и это Вы сочтете за «krankhafter Optimismus»?[135] Да, судьба и история многому нас учат, но от этого добро не стало невозможным.
Так вот — представьте себе, если бы через икс времени нам с Вами пришлось вернуться в Россию, то — чего бы стоили и сколько бы весили наши труды на английском и французском языках? И наоборот, мне однажды случилось встретить советского молодого человека, читающего «Грани» и знавшего про мои там статьи… Знает их и Евтушенко. Наверное, знают и Вас (если не забыли).
Тогда как наши «труды» по славистике читаются тоже только 2–3 сторонниками или противниками, ничуть не более интересными, чем Адамович или Терапиано — если не похуже. Если бы Вы захотели написать книгу о Хлебникове по-русски, то Лебедев почти наверняка доставил бы в Россию некое количество экземпляров. В худшем случае — несколько сот (по городским и университетским библиотекам для привилегированных — но и они люди, а порою и весьма стоящие) — это минимум, который туда проникнет наверняка… А если ему удастся (что не невозможно и не невероятно и наверное даже в каком-то количестве, пусть небольшом (несколько десятков), и на самом деле происходит) провести и доставить туда еще кое-что поверх официального минимума? И тут я все-таки считаю стоящим упомянуть и о наилучшем случае (правда, обычно бывает посередине, ближе к наихудшему) — что в СССР проникнут 2–3 тысячи экземпляров Вашей книжки. Неужели это не стоит больше внимания Мазона[136] или Берберовой? Мне известно, что «Посев» и «Грани» посылаются туда в количестве, соответственно, 3000 и 1000 экземпляров каждого номера. Не знаю, все ли пропадает. А читателя такого, о котором мечтал Баратынский, Вы (как и все мы), конечно, получите только там.
Такова уж наша судьба. Приходится писать для Мазонов и Фасмеpoв[137] тоже — ради куска хлеба. Но ведь не ради куска хлеба создавалась и создается культура. Кусок хлеба ведь только средство.
Все-таки Вы меня очень заинтересовали Вашими готовящимися «другими книгами». Ведь Ваша английская книга о Хлебникове все-таки хороша, хотя она и не может никак сравниться с такими Вашими шедеврами, как статьи о Георгии Иванове или о футуризме.
Вы можете намного больше, чем «стать профессором», а если можете, то, след<овательно>, и должны.
Кроме того — Вы забываете, что самое великое, основное в польской культуре (поэты Мицкевич, Словацкий и Норвид и философы Товианский, Красинский (он же немножко поэт) и Хоэне Вронский) — было создано в эмиграции. Так что же, они польские писатели или только «эмигрантские»?
А по-русски — разве философы Шестов, Бердяев, Булгаков, Франк и мн<огие> др<угие> забудутся? А Бунин? А Ремизов? А… Поплавский (даже если он пока еще не оценен по достоинству и почти не издан), а… вплоть до самых скромных среди нас. Благо Вы — не из скромных — не знаю, имеется ли сейчас в России (с эмиграцией включительно) критик, стоящий Вас. Думаю, что нет.
«Эмигрантской» литературы — просто нет; или не стоит, чтобы она была. Но лучшее из созданного в эмиграции — достояние вечной России. Все-таки, польский пример (есть другие еще — немецкий, итальянский, испанский и мн<огие> др<угие>) — ярче русского, потому что Мицкевич и Норвид не страдали комплексом неполноценности, нашептываемым неприятелем.
Недавно я ссорился тут в Париже с одним местным русским «нейтралистом», презрительно цедившим мне: «Эмигрант!» Эмигрант? — смотря какой. Такой, как Мицкевич или Бердяев, — чем плохо? Неужели Сурковы и кочетовы лучше? Я уже не говорю о критиках из «Литературной газеты» и др., они просто — позор.
То немногое, что Вы уже опубликовали по-русски, уже строит и будет строить литературную критику в завтрашней свободной России. Я из тех, кто надеется, что Вы отбросите навеянное нашими гамзеями гамзеичами уныние и будете дальше писать по-русски, не для Гуля и Померанцева, а для России.
Теперь, увы, два слова о личных делах: одновременно с этим письмом к Вам уйдет пакет с curriculum и списком печатных работ в University of California (тою же почтой). Если Вы желаете или считаете полезным — охотно готов Вам тоже их выслать. Ягодина[138] — не знаю, Vasmer, кажется, умер, с Чижевским[139] попробую списаться (он должен знать мои украинские работы), Мазон — враг, Унбегаун[140], верно, меня забыл — надо найти случай соединиться. Лет 10 тому назад мы были с ним в прекрасных отношениях. Попытаюсь также поймать Логатто[141] и Степуна. А Паскаль[142] и Янкелевич[143] — годятся ли, по-Вашему, куда-нибудь? Ибо большинство моих связей — парижские: Pierre Pascal, Jean Train, Marie Scherrer, Vladimir Jankelevitch (у последнего тот недостаток, что он не славист, а философ, но весьма именитый), Sophie Laffitte[144] — это все друзья, которые охотно поддержат. Стремоухов[145], бедняга — умер. А не то — вот кто бы мне большую рекламу сделал. Есть и один американец, который тоже, м. б., меня поддержит — Richard Pipes[146] — неглупый, способный, сильный и культурный славист, но больше историк. Готовит книгу о П.Б. Струве, которая обещает быть замечательной[147]. Если в Америке таких много — то они молодцы. Пока я Вам сообщаю его имя и то, что он преподает в Harward’e, но все-таки я бы предпочел испросить его согласия на связь с Вами по моему делу (если Вы это считаете полезным). Мои работы по русской части Вам почти все известны. В настоящее время готовлю диссертацию о советской поэзии под председательством Sophie Laffitte в Сорбонне. В ее основу ляжет Вам, верно, известная моя работа в №№ 49–51 «Граней»[148]. Если же она Вам не известна — охотно Вам ее пришлю, в оттиске. Я почти ровно на 10 лет старше Вашего.
Хотя и не сомневался в Вашей дружеской готовности посодействовать, искренне Вам благодарен за Ваши указания и хлопоты.
Будьте здоровы и пишите по-русски.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIе
17
Париж 17-XI-62
Дорогой Владимир Федорович.
Огорчаете Вы меня. Ваше письмо показывает, что Вам трудно живется. Хуже всего то, что Вы потеряли веру в Россию — единственное, во что можно еще в наши дни верить без натяжки.
Конечно — не глупо, по-западному, верить, что там уже теперь благорастворение воздухов и что США пора срочно кастризировать. Но в то, что Россия единственное место на свете, откуда может (и я лично верю твердо, что рано или поздно именно оттуда придет) прийти идея или идеи, которые сдвинут мир с мертвой точки <так!>. Неужели Вам не ясно, что из США такая идея не придет наверняка — а о каких-нибудь дохлых Франции или Германии, конечно, и говорить не приходится.
Вы, конечно, правы, говоря, что сегодня и в России оживление еще слабое и что тамошним «подпольным» поэтам еще много есть чему поучиться, хотя бы у своих предшественников. Правильно. Но тот факт, что Россия после 45 лет коммунизма выжила и, пусть криво и мало, но все-таки его перерастает, тянется куда-то дальше — это ли не чудо?
Возможно, что нам с вами уже не увидеть нового расцвета русского космоса. Но этот расцвет наверное придет, и я, в меру слабых своих сил, стараюсь содействовать его рождению. У Вас — сил больше, Вы талантливее, Ваши статьи о Хлебникове и др. были началом возможного обновления живой литературной мысли. Если же Вы собираетесь публиковать только «потому что так заведено» — то Вы рискуете погибнуть и стать чем-нибудь вроде ректора университета или советника Кеннеди по вопросам русской литературы. А не я один ожидал от Вас большего.
Страдаю от невозможности, на расстоянии, пробудить Вас, вывести Вас из уныния. Напомню Вам только, что эмиграция — изгнание, а не «оторванность», о которой пишут зазыватели «на родину». Она, пусть тяжелая, но все-таки возможность свободно мыслить, свободно говорить и обмениваться мыслями. Если то, что мы сделаем, окажется малым и плохим — вина будет только наша. А Вы один из немногих, которым дано сделать много и большое. После блестящего начала Вы хотите остановиться, тогда как достойное <решение> остаться приходит лишь после долгого искуса, колебаний, даже отчаяния — если их преодолеть.
Хочу надеяться, что Ваша теперешняя «административная» апатия — плод тяжелых условий и одиночества (да, мы — одиноки) — будет лишь этапом на пути к Вашему росту и становлению, одним из основоположников будущего Ренессанса. Вы еще не Розанов, и не Белый, и не Хлебников, а кто-то вроде погибавшего в тяжелые темные годы Аполлона Григорьева, без которого не было бы ни Страхова, ни, след<овательно>, Розанова и Блока. А. Григорьев — погиб, но как даже сейчас он нам нужен! А я хочу, чтобы Вы не погибли — ни от водки, ни от «администрации», хотя вижу, как Вам тяжело в почти такой же глухой провинции, как его Оренбург. Но наша эпоха — другая. Мы все вынуждены жить и питаться самими собой, как змея, кусающая свой хвост. Теперь весь мир — провинция, потому что его органический центр, Москва — оккупирован. Но спасение, все равно, должно будет начаться с какой-то точки. От каждого из нас зависит, в какой-то мере, такой точкой стать.
Как видите — и я не оптимист. Но решил лучше сдохнуть, чем сдаться.
Что же касается «дел», то библиотека, как таковая, меня не пугает. Я и тут, во Франции, этим делом уже свыше десяти лет промышляю. Но я опасаюсь застрять в одном из сих достопочтенных учреждений с 8-часовым рабочим днем до… второго пришествия и, таким образом, потерять возможность что-либо иное делать, стоящее или нет. Тогда как преподавание, все-таки, оставляет свободными летние каникулы и еще разные отдушины, дающие возможность «публиковать» и, вообще, организовываться.
Я и тут работаю только полдня, но выходит тришкин кафтан, потому что суммы, таким образом выколачиваемой, на жизнь не хватает (даже на эмигрантскую), и приходится пополнять бюджет за счет свободной половины дня. Проблема — во времени.
Что же касается преподавания, то, как ни отнестись к нему добросовестно (а я иначе и не собираюсь) — подготовка лекций сама по себе есть работа, одновременно могущая быть использованной для других целей.
Кроме того, я бы согласился на библиотеку, если бы было возможно просидеть в оной 2–3 года и освоиться за это время с языком и со страной (многие европейцы жалуются на «de’paysement» — французское слово, означающее прибл<изительно> отчужденность) с тем, чтобы потом, подготовив работу-другую, иметь возможность приступить к преподаванию, или, напр<имер>, к исследовательской работе, или еще к чему.
Но я-то как раз и слыхал, будто в США библиотечная работа дисквалифицирует человека для всего прочего и что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем библиотекарю в США в царство небесное научного исследования.
Не знаю, правда ли это — сужу по отрывочным сведениям издалека и рад был бы узнать на этот счет Ваше личное мнение.
А пока — будьте здоровы и не давайте Калифорнии собой позавтракать. У нее-то аппетит хороший, а вот Вы не давайтесь.
Искренне Вам преданный и сочувствующий, но и верящий в Вас
Э. Райс
Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIе
18
Париж 18-1-63
Дорогой Владимир Федорович.
«Monostiches» Лошака[149] (видно, он по происхождению наш российский «лошак» и есть!) — я заказал у моего французского книжника, и он их ищет. А найдет ли и когда — знать нельзя, потому что книга стала редкостью. И влететь может дороговато, но… дело случая. Авось вывезет.
Если интересуетесь этим вопросом, то могу Вам указать на румынского поэта Ion Pillat, у которого тоже имеется сборник стихотворений в одну строчку: «Роете intr'un vers»[150], по-моему, намного талантливее, чем у Лошака. Достать эту книгу — невозможно, но в американских библиотеках она, несомненно, найдется, а переводчик с румынского, из эмигрантов — еще легче. Вашей же статье всякой, особенно по-русски, я всегда рад, и до сих пор ни одной не интересной не было.
Хорошо было бы, и чтобы Ваша история футуризма вышла по-русски[151] — пусть ее потом американцы, немцы или французы переводят на свои языки — Вам от этого была бы только польза — престиж автора, книга которого переведена — всегда выше.
Если «спорить» не желаете (а именно русские довели спор до степени искусства. Иностранцы спорить не умеют и не любят. Он у них легко вырождается в ссору. Они предпочитают говорить друг другу пустые любезности) и, след<овательно>, даже диалога не хотите, то, пожалуй, лучше подождем личную встречу, которую я не только «зову», но и начинаю как-то ощущать. Только «высокий-то чин» Вы все-таки «снискали». Вот Вы сами пишете, что Вас зовут то в Нью-Йорк, то еще куда, и Вашу подпись встречаю во всяких солидных литературных справочниках и т. п. Конечно, это только «чин», т. е. суета и не в этом дело, но в соприкосновении с русской молодежью, с опасностью для жизни выпускающей «Синтаксис»[152], и «Феникс»[153], и «Тарусские страницы»[154], и мн<огое> др<угое> — Вы сможете зажечь настоящий огонь. Я в этом уверен.
А Ваша требовательность к себе и самоанализ — все это такое русское! Вот только сплин (хандру) Вам бы преодолеть. И это возможно. Но об этом трудно письмом — я бы предпочел для этого личную встречу. Чтобы не оставаться голословным, укажу Вам grosso modo на буддизм, на его умственную дисциплину, но не только на буддизм — такого (и хорошего, но есть и плохое, как и всюду, как и плохие стихи) есть много. И это отнюдь не требует веры в Бога, а польза может быть для Вас большая.
Что же касается моих поисков работы, за содействие которым весьма Вам благодарен, то это так: ни возраста, ни библиотеки, ни львов, ни тигров, ни прочей дребедени, в сущности, бояться нечего. Дело не в препятствиях, а в самом себе. Если Вы видите какую-нибудь возможность «зацепиться» с шансами на развитие в дальнейшем — буду Вам благодарен, если устроите, или хоть сообщите, или — порекомендуете и т. п. (смотря по обстоятельствам). А там видно будет. Моя беда в том, что я об Америке ничего не знаю, кроме ее поэзии и нескольких слоняющихся по Парижу балбесов — не знаю просто, как за дело взяться — с чего начать. А что я по части русской культуры могу принести пользу, думаю, что Вы понимаете. Только как сделать, чтобы это поняли также те, от кого работа зависит. Да, Вы правы: надо «не унывать, искать и ждать».
Ну, пока, будьте здоровы и не покидайте русской эссеистики, в которой сейчас Вы — первый.
Искренне Ваш Э. Райс
Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIе
19
Париж 2 8-III-63
Дорогой Владимир Федорович.
Во-первых, не только (разумеется!) нечего мне Вас «извинять» за краткость Вашего последнего письма, но, наоборот, я искренне тронут Вашей дружеской заботливостью и от всего сердца благодарен Вам за Ваше внимание.
Что же касается нынешней нашей «проблемы», то, по-моему, не страшно, что сейчас становится негде по-русски печататься. Такое время уже было: как раз перед возникновением «Чеховского» издательства. Как его «использовали» — другое дело и, отчасти, наша вина. Но оно появилось. С тех пор Сталин отправился к праотцам, что тоже возымело результаты. Сегодня — опять тупик. Но — русская литература ведь не может прекратиться и стать латынью. И не прекратится. В этом я тоже уверен, как и в том, что завтра утром солнце снова встанет.
Как, когда и где — не знаю. Сюрпризы возможны. Но в природе вещей — чтобы снова сделалось возможно печатать русские книги. И если Бог даст жизни — уверен, что увидите. Все мы еще увидим, кто будет жить — и вряд ли через какие-нибудь «исторические сроки». Теперь время писать, а когда будут хорошие тексты — то будет и возможность их напечатать. Впрочем — я всегда буду рад Вашим хорошим английским текстам. Только… этого ли иностранцы от нас хотят?
Что же касается Лошака, то, раз он оказался таким редким (паче чаяния), опасаюсь, если и когда его найду, что он может влететь в 20–30 долларов. Поэтому прошу Вас указать мне границу, выше которой я не должен подниматься.
Конечно, можно натолкнуться на него и за бесценок — дело случая и французской безалаберности.
Покамест же желаю Вам веселых праздников и всего самого лучшего.
Искренне Ваш
Э. Райс
Е. RAIS 5 rue Gudin Paris XVIе
20
Париж 12-1-64
Дорогой Владимир Федорович.
Вы не можете себе представить, как Ваше письмо меня обрадовало. Наконец-то мы с Вами сможем встретиться. В конце июня — начале июля я буду в Париже. Работаю в библиотеке Школы восточных языков, где бываю каждый день, кроме субботы и воскресенья, от 4 до 7 часов пополудни.
Там Вы меня сможете встретить почти наверняка, и мы с Вами условимся тогда о вечере или воскресном дне, который, надеюсь, не откажете в любезности провести у меня. Адрес: Ecole des langues orientales. Bibliotheque. 2 rue de Lille. Paris VIIе. Телефон, в те же часы: BABylone 0997. На циферблате надо сделать первые 3 буквы и все четыре цифры, потом спросить библиотеку.
Но перед приездом (если предпочитаете) уведомите меня о своих «координатах», и мы условимся. Я остаюсь в городе до последних чисел июля. Если Вы меня предупредите заранее о своем парижском расписании, я постараюсь приготовить для Вас всех (уже немногих) наличных парижских пиитов и прочих щелкоперов. Но единственный из них, связанный с футуризмом, это А.С. Гингер, для которого советую Вам заранее задержать Вашу среду вечером. Иначе его поймать трудно.
Полный комплект «Последних новостей» имеется в Париже в Национальной библиотеке. Если хотите туда попасть (что не просто, даже иностранному профессору, из-за недостатка места) и получить журнал вовремя, необходимо предупредить меня заранее, чтобы я успел все нужное Вам приготовить. Мне на это может понадобиться приблизительно неделя. Иначе Вы рискуете ту же неделю прождать даром. Консульство Вам тут мало поможет. Пошлите для этого мне Ваши 3 фотографии.
Старые сборники эмигрантских поэтов Вы ни за какие деньги в продаже не найдете. Но можете их получить в моей библиотеке или же в Национальной (не полно). М. б., кое-что сохранилось у Гингера.
Боюсь, как бы гореловские[155] переводы из Хлебникова Вас не разочаровали[156]. Но об этом подробнее, как их текст (в журнале «Iggdrasill» — в Националке) — устно. Если у Вас в Калифорнии имеется «Encyclopedic de la Pleiade. Histoire des litteratures», Vol. II[157] — то посмотрите там главу Горелого о советской литературе[158]. Это Вам уже многое скажет.
Я, увы, не уверен, получите ли Вы и это мое письмо. Вот почему. Вы пишете всегда свой адрес: «303 SO Westgate…» и т. д. Причем не ясно, это «303 50» или «303 S(буква s) О». Я пишу всегда нечто среднее. Иногда письмо доходит, а иногда нет. Так что лучше будет, если Вы это уточните.
Со своей стороны, я и сам этим интересуюсь — к Вашему приезду постараюсь собрать весь имеющийся в Париже материал о футуристах. Все, что есть в 3–4 главных библиотеках, я для Вас приготовлю.
С нетерпением буду ожидать Ваших новостей и нашей встречи.
Искренне Вам преданный Э. Райс
P. S. Ваши 3 карточки мне нужны для того, чтобы я мог изготовить для Вас вовремя входной билет в Националку.
Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIе.
21
Париж 22-V-64
Дорогой Владимир Федорович.
Ваше дело в Национальной библиотеке уже устроено. Когда Вы приедете, Вы туда явитесь со мной, и Вам немедленно выдадут разрешение на работу на все время Вашего пребывания здесь. Только они потребуют, чтобы Вы предъявили какой-нибудь документ, доказывающий, что Вы преподаете в университете. Пишу Вам об этом заранее, чтобы Вы им заручились.
По телефону Вы меня застанете в библиотеке Школы восточныхязыков (L’ecole des langues orientales, 2 rue de Lille, VIIе) каждый день от понедельника по пятницу от 4 до 7 пополудни. Номер: ВАВ 0991. Спросите Райс, а не Рэ.
В субботу я никуда не уезжаю из моей квартиры на 5 rue Gudin. Милости просим к нам на обед или на ужин, но в город я не поеду по религиозным соображениям (об этом мы еще с Вами не переписывались. Большинство моих других новосоветских друзей к религии, в лучшем случае, равнодушны). Зато, если захотите, пойдем с Вами гулять в недалекий от меня Булонский лес.
Все остальные дни недели я всецело в Вашем распоряжении.
Вижу, что о парижских футуристах Вы осведомлены лучше, чем я. Зданевич — тип не особенно симпатичный, хотя талантливый, но все-таки несерьезный, немного блефер (bluff). Лучшая его книга — роман «Восхищение», переведенный и на французский[159]. Лучший код к нему, если бы он отвиливал — все тот же Гингер, который, несомненно, будет Вам полезен. Зака[160] не знаю и еще не напал на след его адреса. Ларионов, увы, уже умер. Но его вдова[161], думаю, охотно предоставит Вам все имеющиеся у нее интересные материалы. Ее адрес я могу Вам достать. С. Прегель его имеет.
Знайте, что, во всяком случае, в Париже нет ни у кого «Весны после смерти» Т. Чурилина. Для Одарченко лучше всего снестись с Кириллом Дмитриевичем Померанцевым (Pomerantsev) 29 rue de l’Eglise, XIIе LEC 6248.
…А зачем Вам могила Г. Иванова? Когда приедете, расскажу Вам на этот счет забавный анекдот, который на самом деле имел место. По итальянскому футуризму смогу Вам кое-что показать из моей личной библиотеки, а также и библиографию, но по-итальянски. Во Франции, насколько мне известно, его не было. Зато он был в Польше, и весьма интересный. И на этот счет смогу Вам показать материалы по-польски, но кое-что (весьма, крайне немного) и по-русски.
Извините за поздний ответ, — был в разъездах по служебным делам, но сейчас, до августа, засел, по-видимому, прочно. Очень буду рад наконец с Вами лично познакомиться.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Е. RAIS 5 r<ue> Gudin Paris XVIе.
22
Париж 24-IX-64
Дорогой Владимир Федорович.
В настоящее время Вы уже, наверное, дома и работаете над Вашей внушительной махиной о футуризме. Увы, вероятно, и она будет написана на английской мове, и с аппаратом, в которых Ваш блеск и талант рискуют сильно побледнеть. Но… во-первых, полезно — и не для Вас одного. Вашу диссертацию о Хлебникове и я порядком использовал. Если бы моя работа была напечатана (шансы есть, хотя и ничтожные) — то Вы бы могли увидеть, сколько я Вас цитирую.
Во-вторых — вот и я сам грешу — на безрыбье и рак рыба…
Видались ли Вы с Д.И. Чижевским? На старости лет и он взялся собирать материал о футуризме, и, говорят, собрал немало. Пишите ему на Гейдельбергский университет: Cyzevskyj Slavisches Institut. Hauptstr. 126 Heidelberg — авось он Вам что-нибудь и сообщит.
Теперь — другое. Помните — мы с Вами говорили в Париже о фотокопиях с Чурилина и др., которыми Вы располагаете[162]. Вы выразили тогда любезную готовность их мне сообщить. Только на месте я не смог дать Вам точные указания. Вот они:
1. Т. Чурилин — Весна после смерти
2…..»……….Льву барс
3…….»………..(Гусман[163] приводит в библиографии какую-то «Вторую книгу стихов». Если это не «Льву барс»[164], а отдельное издание, то, понятно, интересна и она)
4. Г. Петников — Книга Марии
5….»….Стихотворения, изданные в Киеве в 1935 году. Не знаю, были ли у него книги с тех пор[165]. Если да — то, конечно, весьма ими интересуюсь, если не считать переводов с украинского, сделанных для заработка.
6. Вагинов К. — если был сборник его стихов[166].
7. А. Ганин — Звездный корабль. Вологда. 1920
8……….»………….Сарай (поэма)
9……..»……………..Былинное поле. Москва. 1924
Затем привожу по английской книжке Завалишина[167] заглавия, мне вообще неизвестные:
М. Кузмин — The Trout breaks the ice[168]. 1929.
Крученых — Зудесник и еще мне неизвестные Федор Богородский[169], Н. Хабиас[170], Туфанов[171], Смиренский[172], Туляпов[173], Вячеслав Ковалевский[174]. Если, по Вашему мнению, и среди них есть интересные — или если Вы знаете интересных поэтов, Завалишиным не замеченных, — то все это тоже интересует меня, хотя и во вторую очередь.
Больше же всего меня интересуют Чурилин, Ганин и Крученых, которых тут нет ничего. Петникова есть только «Поросль солнца» — первый и наименее интересный из его сборников.
Заранее Вас благодарю. Охотно готов при первой возможности возместить Вам расходы по фотокопиям и пересылке. Или же — не менее охотно — готов исполнить отсюда любые Ваши поручения и доставить Вам любые издания, которые только возможно будет достать.
Жаль, что наша встреча в Париже была такой короткой. Надеюсь, в ближайшем будущем, на более обильное дополнение. Ваш визит оставил и у жены самое лучшее воспоминание. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
P.S. Пожалуйста, извините — после написания письма верхний край оторвался. А переписывать, к сожалению, нет времени.
23
Париж 12-XI-64
Дорогой Владимир Федорович. Выходит, что оказываюсь я по отношению к Вам свинтусом. И Ганина и Чурилина получил и сердечно Вас за обоих благодарю.
Но я сейчас в таком адском водовороте, не говоря о тысяче «нормальных» дел, что, как видите, я еще не успел не только вернуть Вам Ваши драгоценные материалы (а обещал Вам их вернуть «в кратчайший срок»!), но даже поблагодарить Вас за их присылку.
И все это не «цветы красноречия», обычные в случаях опоздания писем, но, к сожалению, подлейшая действительность, о которой мог бы, но не стану распространяться, чтобы Вам не надоедать.
Хотел я было сфотокопировать присланные Вами материалы, но это оказалось не по карману, не только мне, но даже Софье Прегель.
Так что приходится перекатывать с руки, для чего я использую все свободные минуты, которых, увы, так мало. Но я сейчас весь устремлен к тому, чтобы закончить все как можно скорее.
Но все материалы, о которых я Вас просил, одинаково важны и срочны. Среди указанных Завалишиным поэтов и я не всех толком знаю. Важнее всего: 1. Стихи Чурилина, написанные после «Весны после смерти». 2. «Книга Марии» Петникова и его сборник стихов, вышедший в Киеве в 1935 г., как и другие его поздние стихи. 3. Ганина — «Былинное поле», «Сарай» и другие книжонки, выпущенные всякими кустарными способами. 4. Кузмина «Форель проламывает лед».
А с Олимповыми да с Вагиновыми придется подождать до более гостеприимных времен. Наше-то становится все сволочнее — хоть волком вой (но все-таки не «с волками»).
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
24
Париж 27-XI-64
Дорогой Владимир Федорович.
Уже дня два тому назад выслал Вам Ганина и Чурилина заказным, но не по авиону, потому что на это не хватило наших французских средств. Я было этим очень сокрушался — какой я, выходит, оказался свиньей по отношению к Вам. Поэтому в Вашем письме от 23-XI меня так обрадовала фраза о том, что Вы с этим делом не спешите. Недели через 2–3 получите, надеюсь, в полной сохранности. Изъян только один: для предполагавшейся фотокопии пришлось пронумеровать листки карандашом. А потом я не всегда сумел эти номера стереть резинкой.
Сердечно благодарен Вам также за «Книгу Марии» и за Хабиас.
А Ваше письмо от 23-XI буквально привело меня в трепет: о таких сокровищах я не смел и мечтать — да ведь это почти все произведения Петникова! Но мне нужны только стихи. Из указанного Вами: московские «Избранные стихи» 1936 г.
Стихи Чурилина из «Лит<ературно>-худож<ественного> альманаха» меня интересуют, только если они не фигурируют в «Весне после смерти». Ежов и Шамурин в Париже есть[175]. Конечно, «Заветная книга» Петникова, изданная в Симферополе в 1961 г., интересует меня тоже в высшей степени, чуть было ее не пропустил! Буду, конечно, очень благодарен и за «Форель разбивает лед» Кузмина, даже если придется перекатывать и Вам возвращать. Только, на этот раз, зная о недоступности фотокопии, я верну Вам ее в нетронутом виде, без номеров и проч<ей> пачкотни. А «Вторник Мери» и «Вожатый и эхо» меня интересуют, только если это стихи. Прозу Кузмина, дооктябрьскую, я знаю и считаю ходульной и малокровной.
Крученых мне нужен больше всего тот сборник, в котором фигурирует его «Весна с угощением». Сейчас я заглавия не помню, но в первом из моих писем к Вам этой осенью, где я впервые просил Вас о фотокопиях — я указал его заглавие. Оно есть и в брошюрке Чижевского «Der russische Futurismus»[176]. Помимо этого сборника, попрошу Вас сообщить те из остальных, которые, по Вашему мнению, представляют больший поэтический интерес.
В библиотеке Школы восточных языков имеются следующие книги Нарбута: «Александра Павловна», СПБ 22, 32 с. «Аллилуиа» 2-е издание, Одесса 1922. 32 с., «Плоть» Одесса 1920. 32 с. На «Monostiches» Лошака нет почти никакой надежды, но я буду искать. Что же касается одностиший румынского поэта Пиллата (Ion Pillat), по-моему, гораздо более талантливого, то я потребовал их для себя из Румынии. Если и когда получу (это может оказаться и очень долгим, как и весьма скорым), охотно вышлю Вам фотокопию. Кроме того, посмотрю, м. б., удастся их найти в Париже (тоже только для фотокопии, конечно).
Если для поисков Лошака я не ограничен временем, шансов их найти становится намного больше.
Если бы Вам удалось найти «Льву барс» Чурилина или другие его стихи, после «Весны после смерти», а также сборники Ганина, которые я Вам указал, или иные — вообще все интересное касательно поэтов той эпохи, то я уже точу на них зубья и рыкаю голодно по-волчьи.
Для любых Ваших фотокопий, микрофильмов и проч. я, конечно, всецело в вашем распоряжении, и весьма охотно.
Сердечный привет Лидии Ивановне. Еще раз Вас благодарю и от всего сердца.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
25
Париж 25-III-65
Дорогой Владимир Федорович.
Сердечно прошу Вас извинить меня за долгое молчание. Но дело в том, что я меняю квартиру, а сейчас в Париже это операция никак не более легкая, чем для змеи перемена кожи. Вначале окружающие считали, что она вообще не выполнима и что нам с женой придется смываться из Парижа совсем.
Но… Бог ли помог или не знаю как, вот Вам наш новый адрес: Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е — в нескольких шагах от «Имки», в которой мы с Вами встречались.
Конечно, в связи с этим пришлось было полностью менять программу работ и расписание времени. Все пострадало: и диссертация, и служба, и мое собственное «творчество» (странно: если оно потеряло в объеме, то неожиданно что-то выиграло во внезапно пришедших мне на ум идеях — если Вам интересно — как-нибудь в другой раз подробнее), и мои блуждания в поисках поэзии — русской и не русской.
Не было счастья, несчастье помогло: мой квартирный кризис совпал с падением Хрущева и с крепким зажимом свободы «там»: ничего нового, особенно интересного за это время и не вышло. Или я ошибаюсь? Тогда, пожалуйста, просветите мое невежество.
Сейчас главная моя забота — это чтобы все Вами мне доверенное — и Крученых, и, неожиданно оказавшийся еще более интересным, чем мне показалось, Г. Петников — переехало по назначению в полной сохранности.
Но вернуть Вам его смогу лишь некоторое время спустя, потому что придется заняться на новой квартире рассортировкой всех моих и чужих доверенных мне сокровищ, которые, конечно, придут и вывалятся хаотической кучей: рукописи вперемежку с бельем, микрофильмы с деловыми бумагами и проч. и проч. и проч.
Тем не менее — не беспокойтесь — Вы получите назад все в полной сохранности, хотя и с небольшим (неизбежным!) опозданием. Поэтому я сейчас не могу (до окончания рассортировки на новом месте) Вам ответить и на Ваши прежние вопросы: о дне рождения Н. Матвеевой[177] (она все-таки чересчур рано стала чересчур гладкой) и о датах Присмановой[178] (Гингер в госпитале, но скоро возвращается на свою квартиру, откуда, наверное, охотно ответит на Ваши вопросы).
При случае я его спрошу.
За «Форель разбивает лед» Кузмина буду Вам очень благодарен — у меня уже слюнки текут. Но не присылайте ее, пожалуйста, раньше середины апреля — не будет времени ею заняться. А нет ли у Вас возможности раздобыть более поздние стихи Петникова (после 1935 г.), о которых Вы мне писали? Вы имели неосторожность меня Петниковым увлечь, и теперь я хожу сам не свой — он мне «живая вода», которой… мало! Он, м. б., и есть самый значительный из всех тех малых, хотя и интересных, которых мы с Вами раскопали за последние годы — тот большой, на которого мы больше не надеялись. Не интереснее ли он все-таки вошедшего в Ваши «Приглушенные голоса» Тихонова? Не подлиннее ли он фокусника— Сельвинского? Или чем-то приторного Багрицкого? Не знаю, для меня Петников только начинается.
Не открыли ли Вы, за это время, чего-нибудь мне еще не ведомого?
Пишите, дорогой Владимир Федорович, я всегда рад Вашим письмам.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный Э. Райс
26
Париж 19-VII-65
Дорогой Владимир Федорович.
Простите великодушно за недопустимо долгое молчание. Тут кругом виноват я. Дело в том, что помимо переезда или, вернее, по его вине, накопилась уйма работы, которую надо было рассосать. А литературную работу необходимо ставить на первое место, потому что иначе она никогда не будет сделана. Вы это, наверное, знаете и по собственному опыту. Так что я и до сих пор еще не ликвидировал самых спешных работ. А Вам пишу на службе, в надежде, что начальство не вмешается своевременно.
С той же почтой, что и это письмо, но не по авиону, уйдет Крученых. Все-таки, думаю, что 3 недели на каникулах не окажется трудной задержкой. Тут опять — вина моя — переездная. Послать Вам также микрофильм Петникова? Или еще что?
Литературные наследники Одарченки в Париже имеются, но я их не знаю. Лучше всего, если обратиться к Кириллу Дмитриевичу Померанцеву (Pomerantsev) 29 rue de l’Eglise, Paris 15е или в газету «Русская мысль» (La Pensee russe) 91 rue du Faubourg St. Denis, Paris 10, где он работает.
С величайшим интересом узнаю, что Вы готовите новую антологию[179], и с не меньшим нетерпением буду ожидать ее выхода в свет. И где это Вы раздобыли издателя!
Был бы Вам очень благодарен, если бы, невзирая на мою примерную неаккуратность, Вы бы мне прислали «Форель» Кузмина и все что найдете еще Петникова. Я подозреваю, что его поздние (послевоенные) книги, изданные по провинциям, должны быть тоже интересны. Если бы он хвалил Сталина и строительство языком П.Я. Мельшина[180], то его бы печатали и в Москве. Конечно, и за «вторую книгу» Чурилина, и вообще за любые редкие материалы из СССР.
Указываю Вам на выход тоненького сборника посмертных стихов Поплавского «Дирижабль неизвестного направления»[181] — чрезвычайно интересных, лучших, чем все, что мы имели Поплавского до сей поры.
Лошака пока не нашел, а с Пиллата надеюсь месяца через 2–3 прислать Вам фотокопию — мне обещали экземпляр книжки из Румынии.
Еще раз прошу у Вас извинения за постыдное опоздание. Впредь буду аккуратнее.
Существует сборник стихов Вагинова «Путешествие в хаос» изд. «Кольцо поэтов», Петербург 1921 и «Константин Вагинов» (стихи) Ленинград 1926. 58 с. (заметка переписана прямо из Владиславлева — «Л<итерату>ра великого десятилетия» стр. 65). Ганина существует: «Звездный корабль» Вологда 1920 г. «Былинное поле» Москва 1924 г. и еще поэма «Сарай» без указания, где и когда она была опубликована[182]. Интересен и Сергей Бобров — центрифугист.
От всей души желаю Вам хорошо отдохнуть. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Е. RAIS 3 rue des Ecoles. Paris 5е.
27
Париж 9-IX-65
Дорогой Владимир Федорович.
Благодарю Вас за столь хвалебную (не сомневаюсь в нелицеприятии) критику моей статьи о Мандельштаме[183]. Но интересно было бы узнать, что Вы в ней считаете «слишком субъективным»?
Только я не умею и не хочу быть объективным. Это ведь и невозможно. Это ведь значит — писать не то, что на самом деле думаешь, а то, что считаешь удобным написать, учитывая Адамовичей с Терапианами?
Конечно, можно и ошибаться. И, видно, такую или такие ошибки Вы и обозначили как «субъективность». Во всяком случае, мне интересно узнать от Вас — какие у меня там были ошибки?
Когда вернетесь — охотно возобновлю с Вами «обмен». Микрофильм Петникова и фотокопию Крученых я Вам уже отослал в июле и потому немного беспокоюсь, что Вы их не получили. Пакет был сдан заказным.
Будем надеяться на дальнейшие присылки из Москвы или из Ленинграда. Сейчас при мне нет нужных библиографий для уточнения под рукой. Но на память знаю, что существуют 2 сборника стихов Вагинова прибл<изительно> 1924-27 года и 3 сборника Ганина. Кажется, что особенно интересен (по Иванову-Разумнику) «Звездный корабль», вышедший в Вологде. Была еще поэма «Сарай», а заглавие третьего сборника сейчас не помню.
Чурилина мы еще ожидаем «Вторую книгу стихов» — так? И, верно, было еще что-нибудь по журналам и альманахам. А м. б., был еще сборник? Он, кажется, позже перебрался в Крым. М. б., там что-нибудь еще вышло?
У меня было сильно потекли слюнки от указанных Вами сборников Петникова, вышедших в провинции. Хотя они и очень поздние (50-е годы) — меня бы удивило, если бы они не были интересны. Петников все— таки не какой-нибудь там доносчик, вроде Софронова или Прокофьева. Авось где-нибудь в Киеве или в Симферополе они будут покладистее для микрофильмов, чем в Москве.
Как только вернусь на службу (недели через две) — уточню вышеуказанные библиографические данные, кроме петниковских, которые мне указали Вы. Тогда же опишу подробно и нашу «Аллилуйю». Наше — не церковно-славянскими, а нормальными буквами[184]. Но лучше — дам Вам подробное описание, с экземпляром в руках.
Указанные Вами имена Айги и Бобышева я-то запомнил. А вот где бы текстиков, хоть немного?
И вот я Вам тоже назову два имени: Бердников[185] (не путать с тем, что был в 20-е годы с Дорониным) и Губанов[186]. Тоже оба талантливые, но подпольные. Как только получу разрешение — Вам их сообщу.
Не по душе мне ваш Лившиц — то, да не то. Про Маккавейского[187] много слыхал от одного старого, давно скончавшегося музыканта, интересовавшегося поэзией и смыслившего в ней толк. Но не видел никогда ни подстроки. Но он меня все-таки интересует, потому что ему как-то случилось подсказать Мандельштаму 2 строчки для четверостишия, которые Мандельштам принял! Это — тест! К сожалению, уже сейчас не помню, какие именно 2 строчки.
Филиппович? В начале писал стихи и работу о Баратынском (блестящая!) по-русски[188]. Но вскоре перешел на украинский и там у них прославился — выпустил 2 сборника стихов, а потом был арестован и погиб. Но, по-моему, его украинские стихи, хотя и вполне грамотные и даже местами неплохие — «не то», — ничего особенного все-таки из себя не представляют. Вроде нашей Ахматовой. А прежние его русские стихи (кое-что, кажется, вышло, в свое время, в «Русской мысли» П. Струве[189]) — и того слабее.
Холинского не знаю совсем. Вообще в ренессансную провинцию верю. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Ваш Э. Райс
P. S. Помню про «одностишия» Пиллата для Вас. Просил о них в Румынии одного тамошнего профессора, который мне доставил оттуда несколько ценных и редких изданий. У него доступ в их книжные тайники.
Но, к сожалению, он — инвалид: у него только одна почка, так что он часто недомогает и не выходит. Поэтому пропускает книжные свидания. Одностишия Пиллата он как-то открыл у антиквария, но, не придя в нужный срок, не смог их получить — они ушли.
Я все-таки просил его разыскать для меня новый случай. Авось выгорит. Если и когда да — сейчас же Вам их вышлю. В Париже их имеет только один человек: Вы, м. б., о нем слыхали. Он автор замечательной «Panorama de la litterature roumaine» по-французски. Но имеются переводы, верно, и на английский — горячо Вам ее рекомендую. Она — лучшее из всего, что имеется на иностранных языках об этой изумительной и недооцененной литературе — одной из первых в мире в наш век. Зовут его Basil Munteanu[190].
Но он, сволочь, своих книг не только никому не дает, но даже не показывает. Но я все-таки надеюсь получить ее у него для Вас, хоть для фотокопии, потому что он ко мне относительно милостив.
28
Париж 11-I-66
Дорогой Владимир Федорович.
В настоящее время не имею возможности в короткий срок вернуть Вам копии Бобышева и Айги. Поэтому — подождем. Сейчас моя диссертация вступила в решительный фазис, так что поверх неотложной литературной и хлебной работы я вынужден не только составлять примечания, но и мотаться по библиотекам, в поисках всякого этого добра. Словом, судя по Вашим трудам, вижу, что эти мытарства Вам знакомы.
А м. б., тем временем с Айги будет снят секрет, или же Вы достанете дополнительную копию, или…
Знаком с «Патмосом» Б. Лившица, это, конечно, зрелее, чем «Флейта Марсия» и проч., но все-таки даже до Чурилина далеко, не говоря о Петникове.
Что же касается парижского Зака, то я даже весьма заинтересован, и если бы Вы нас соизволили сосватать, то буду Вам только благодарен. Хотя сейчас, из-за вышеуказанной сплошной занятости, предпочел бы, если возможно, для начала ограничиться стихами.
Насчет Лошака… я просил двух сильнейших в Париже антикваров Vrin и Nizet мне его искать до суммы в 10 долларов. Они — весьма могущественны. Но, по-видимому, я для них чересчур мелкая сошка, чтобы они ради меня пускались во всю ивановскую. Так что и я — терпеливо жду, за неимением лучшей возможности. Авось, все-таки, черти лысые возьмут да и найдут, хоть один из них.
Что же касается Пиллата, то Вы мне не ответили — готовы ли Вы временно (впредь до нахождения полного экземпляра) удовлетвориться фотокопией с присланных мною из Румынии «избранных его сочинений» или же желаете и дальше терпеть, пока не откопаем текста полностью. В полученном мною сборнике однострочным его стихотворениям посвящены 6 страниц, на которых напечатаны 33 однострочника. Если хотите, фотокопию этих 6 страниц я охотно готов для Вас изготовить и Вам прислать.
Вашей историей русского футуризма я живо интересуюсь. Знайте только, что по-русски Вы пишете намного живее и талантливее (как, впрочем, и мы все), чем по-английски. Кроме того, жаль будет иметь по-английски цитаты из русских поэтов и прочих книг.
Вы как-то писали, что имеете книжку Кузмина под заглавием: «Форель пробивает лед» и что это намного лучшие из всех его стихов. Так вот, если бы Вы могли прислать мне фотокопию с этой книжки — то было бы Вам большущее спасибо.
Теперь к Вам еще большая просьба. Для проклятущей диссертации. Могли ли бы Вы мне сообщить:
А) Где и когда «Центрифуга» выходила? Журнал она или не журнал? И, если возможно, сколько вышло номеров, от какого года до какого, если можно, с указанием, кто редактор — все, что нужно для библиографической заметки.
Б) Вы, кажется, где-то как-то написали, что Кузмин умер в депортации. Могли ли бы Вы мне указать точно: где, в каком номере и на какой странице Вы это напечатали?
Где-то Г. Иванов написал о том, что Зенкевич написал «Дикую Порфиру» по указаниям и под руководством Гумилева. Где? Когда?
Скобка — вот еще книжка, которую непременно следовало бы сфотокопировать. По редким дошедшим до меня отрывкам, она изумительна — единственное хорошее, что написал Зенкевич.
Г) Что-то кто-то когда-то напечатал, что лучший из нынешних советских поэтов — Кирсанов (в советской печати или в книжке?). Если случайно Вы это отметили, то, пожалуйста, сообщите.
Есть еще немало такого же рода вопросов. Но не хочу злоупотреблять Вашей любезностью. Если бы Вы мне ответили хоть на эти, то и то было бы Вам большое спасибо…
Д) Да, еще один. Вы ведь специалист по Хлебникову, или никто другой. В одном из ранних изданий «От двух до пяти» Чуковский, кажется, нашел, что Хлебников дал ему идею этой книжки[191]. Ни одного такого издания этой книжки в Париже нет. Так что, если можете, попрошу Вас сообщить мне год издания и которое оно (первое, второе, пятое, что ли?), страницу, где об этом сказано, а еще лучше и текст его.
Не обессудьте, что морочу Вам голову нудным педантизмом. Такова жизнь. Моя жена не без яда назвала его «администрацией в литературе». Но что поделаешь. Университетские зубры ничего в литературе, кроме административной волокиты, не понимают. Заранее Вас благодарю.
Сердечный привет Лидии Ивановне и наилучшие пожелания Вам обоим на наступивший 1966 год. Жена просит Вам кланяться.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е
29
Париж 28-II <1966 г.>
Дорогой Владимир Федорович.
Поскольку гора не идет к Магомету, я решил, на всякий случай, без Вашего одобрения или не одобрения изготовить и выслать Вам ксерографический снимок со страниц, занятых одностишиями Пиллата, в составе сборника его избранных сочинений — единственного, который мне удалось получить. В Париже этих стихов нет.
В книжке около 500 страниц, так что всю ее снимать не имело смысла, да и было бы не по карману. Я и заснял только могущие Вас заинтересовать 6 страниц с заглавным листом, для того чтобы могли цитировать.
На самом деле у него одностиший раза в 3 больше. Но многие из лучших сюда вошли.
Единственный в Париже человек, у которого полный сборник одностиший есть, Basil Munteanu, автор замечательной «Panorama de la litterature roumaine» (существует и английское издание) — которую и Вам всячески рекомендую.
Но как человек он оказался свиньей, как, впрочем, мне уже говорили и как я, кажись, Вам писал: на 2 моих письма он не ответил, а когда я раздобыл его телефон, то после долгих расспросов, кто мне его телефонный номер сообщил (а я должен был обещать этого человека не выдавать), заявил, что сейчас занят и чтобы я ему позвонил в другой раз.
С тех пор прошло месяца 2–3, но я ему больше не звонил, потому что понимаю, что с ним все равно каши не сваришь. Он из таковских.
Так что пока высылаю Вам эти 6 страничек. Авось пригодятся. Буду искать дальше. Авось, в конце концов, удастся поймать Лошака.
Теперь другое: С.Ю. Прегель получила из Москвы письмо от какого-то юноши[192], по ее словам, будто из вольнодумных, который пишет диссертацию о Хлебникове и просил ее сообщить ему имеющиеся на его счет за границей материалы. Она обратилась ко мне. Я подумал о Вас и предложил ей к Вам обратиться, благо она с Вами знакома. Но она почему-то замялась и попросила меня спросить Вашего разрешения, чтобы сообщить московскому юноше Ваш калифорнийский адрес.
Она Ваш адрес имеет, но, по-видимому из деликатности, не хочет его сообщать без Вашего на то согласия. И я на Вас никакого давления в этом вопросе оказывать не хочу — поступите, как сочтете удобным, хотя я и не вижу никаких оснований для отказа московскому радетелю Хлебникова. Лично мне думается, что самый выбор такого сюжета там — уже требует некоторого мужества. А если бы диссертация удалась — это было бы и успехом свободы в России вообще.
Ваше решение — лучше сообщите мне, раз уже С.Ю. Прегель не решилась прямо обратиться к Вам.
Наконец — какие новости у Вас с фотокопиями? С «Форель пробивает лед» Кузмина? Что же касается Бобышева и Айги — присылайте, я уж для них время выкрою, чтобы Вам их поскорее вернуть. Были бы хорошие стихи, а время найдется.
Точно так же Вы у меня раздразнили аппетит Вашим парижским Леоном Заком. Сосватайте нас, пожалуйста. Я, м. б., этого самого Зака смогу напечатать. Если он захочет, конечно. Но пииты обычно поломаются-поломаются и все-таки захотят.
Тут сейчас обретается И.С. Зильберштейн — основатель и «хозяин» «Литературного наследства». Сам на себя не похож и еще меньше на свою фамилию. Моложавый — на вид ему лет 40, хотя он кряхтит о своих 60, не по-московски сдержанно элегантен и не по-советски безукоризненно воспитан. Зато нервы — сущая спичка, и все время на всех огрызается. Удастся ли его тут поймать «всерьез и надолго» — пока не знаю, уж очень он тут нарасхват, гл<авным> обр<азом> у снобов, раздражающих и его отнятием у него драгоценного времени попусту.
А пока мы, прочие, страдаем.
В случае удачи — буду Вас держать в курсе дела. Извините, что в прошлом письме чересчур заморочил Вам голову «научными» вопросами для диссертации.
Сейчас, похоже, что она перестраивается в магистерскую из докторской. Но это должен решить Мазон, правда, не один (тогда никаких шансов на успех бы не было), а в составе какой-то там комиссии, на которую, м. б., удастся произвести впечатление «трудами» — я им их и напихал, сколько влезет, и «аттестациями», отзывами обо мне знакомых славистов.
Знаю, что Вам, из калифорнийского далека, м. б., не легко будет составить обо мне конкретный отзыв, который бы мог на здешних церберов произвести впечатление.
Если бы Вы сочли, что Вам возможно мне такой «отзыв» выдать, то Вы, верно, понимаете, что ему следует быть посильно «похвальным».
А м. б., лучше дать им Ваш адрес и на Вас сослаться? В этом случае, конечно, мне необходимо Ваше согласие.
Пиллатовская ксерография уходит той же почтой, что и это письмо, и тоже самолетом. Но отдельно, потому что по здешним правилам так дешевле!
Вы их, верно, одновременно и получите.
Видели ли Вы Заболоцкого и Цветаеву в «большой» «Библиотеке поэта»? Что это их вдруг угораздило? Хотя Зильберштейн с горечью говорит, что у них обоих имеется неизданный материал, по крайней мере, на книжку такой же величины. И хорошего качества.
Сердечный привет Лидии Ивановне. Пишите.
Искренне Ваш Э. Райс
Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е
30
Париж 20-III <1966 г.>
Дорогой Владимир Федорович.
Рад, что Пиллат Вам пригодился. При сем прилагаю посильно точный его перевод. Старался передать смысл каждого из стихов, а не его красоту. Переведены все выдержки, присланные вами в фотокопии, в том же самом порядке. Для большей уверенности я их пронумеровал.
Что касается Лошака, то есть способ его достать для Вас: экземпляр несомненно имеется в Национальной библиотеке, потому что они обязаны иметь все книги, вышедшие во Франции — хоть по одному экземпляру. Но если бы я или даже Вы попросили их о фотокопии, то они пообещают, но не сдержат никогда. Для того чтобы они сдержали, было бы необходимо, чтобы, напр<имер>, американское посольство попросило о фотокопии — тогда они сделают и без большого опоздания. Но попробуйте сделать так: напишите им на бланке и от имени университета, в котором Вы преподаете, чтобы выходило, что просите не какой-то там Вы, а что университет просит. Тогда тоже, м. б., пошлют, хотя это продлится и дольше, чем если бы просило посольство.
Другого способа, к сожалению, не вижу. Разве опять-таки случай. Но, как видите, до сих пор он был к нам немилостив.
Сердечно Вас благодарю за подробности о «Центрифуге» — они не только нужны для диссертации, но и захватывающе интересны сами по себе. Бобров — преинтересен, но его не достать. И мезонинцы интересны. В ту пору Шершеневич был лучше, чем при имажинизме. Были и другие там еще любопытные парнишки. Но куда уж такие нежности при нашей бедности! Раньше падения советского строя (если доживем) и не мечтаю о таких подробностях, как бы они ни были интересны.
Сейчас в Париже гостит Зильберштейн (тот, что «Литературное наследство») и сулит золотые горы (вплоть до «Мезонина» включительно) всякому, кто доставит ему хоть какие-нибудь материалы, рукописные или изобразительные, для его издания. Но где ему такие материалы раздобыть? А ничего другого не признает. Я его уже иностранными книгами соблазнял, даже из Восточной Европы и из Латинской Америки, а он все ничего, не реагирует. Ему бы вот неизданное письмецо Толстого или хоть фотографию Плеханова — тогда от него можно получить что угодно. Я еще не сдался, но пока толку было мало.
«Патмос» — я его перечитал перед написанием Вам этого письма. Конечно, Лившиц намного лучше Чурилина (и даже Петникова) владеет стихом. Но все это какое-то прохладное, вроде Поля Валери. Акмеист среди футуристов — вот как бы я его назвал. Идеалом поэзии был бы для меня Чурилин, вооруженный техникой Лившица. Или даже нет, если на то пошло, есть получше — техникой Цветаевой или Клюева, напр<имер>. Лившиц — близок к Ходасевичу, но без черноты и остроты, а пожалуй, и глубины последнего. Конечно, при повторном чтении оказалось лучше. Но Вы не учитываете, что Чурилин не успел выработаться. А шансы его были чрезвычайно велики. Вспомните хотя бы его песню, где Товий и Леля. Какой словесный блеск! И почти каждое слово рифмуется!
Делать нечего, если Вы не принимаете предложения Струве для русского издания Вашей книжки о футуризме — будем читать ее по-английски. Слишком уж соблазнительны — и сюжет и, все-таки, Ваше авторство. У меня лично к нему слабость — не удержусь и прочту. А все-таки жаль, что не по-русски. Вы все-таки по-русски талантливее.
Что же касается антологии футуристов — пообъемистей! До пределов пространства, которого удастся добиться у Струве! — этого все любители русской поэзии будут ожидать с нетерпением. Хотя понимаю, что рано им об этом говорить.
Что касается «Форели» Кузмина — если бы Вы смогли мне ее прислать, то лучше, конечно, была бы фотокопия. Аппарат для чтения микрофильмов, хоть и плохой, у нас в библиотеке был. Но совсем испортился, и никто его чинить не собирается. А доступа к другому аппарату не имею. Можно было бы, конечно, ее переснять, но это не только накладно, но для этого было бы необходимо узнать и ее формат. Если можно — сколько сантиметров вышины и сколько ширины. Иначе мой тут фотограф не берется за дело.
Ваш университетский адрес передал С.Ю. Прегель для московских радетелей Хлебникова, и она просит передать Вам и ее сердечную благодарность.
Насчет Айги и Бобышева обещаю хранить секрет.
За аттестацию буду Вам очень благодарен. Лучше напишите ее по-английски. Чем лучше распишете, тем, конечно, будет полезнее. Комиссия собирается в конце апреля, так что было бы полезно иметь аттестацию так к 15 апреля (чтобы успеть размножить ее по числу членов комиссии — так тут полагается). Если только дать им Ваш адрес, то они, скорее всего, к Вам не обратятся: уважающий себя француз никогда не сделает усилия даже самого ничтожного, которое можно избежать без материального ущерба для себя. А какой им материальный ущерб, если Вы не распишете меня?
Антологию Триоле[193] я «разделал под орех» с предельной суровостью в мартовском номере «Возрождения», под псевдонимом «М. Бусин» и под заглавием «Русская поэзия в партийном облачении». Если у Вас нет этого номера, напишите мне, и я попытаюсь достать для Вас экземпляр в редакции. Помимо прочего, мне было бы интересно узнать Ваше мнение об этой моей статье и не найдете ли Вы в ней ошибок. Досталось и Роману Якобсону. Но разнос оглушительный. Пока весь русский Парнас хихикает, хотя и мало кто знает, что Бусин — Ваш слуга покорный. Важно, чтобы это не дошло до членов комиссии, в ней сидят трое друзей Арагонов. Заранее благодарю за аттестацию.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Ваш Э. Райс
Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е
31
Париж 8-IV <1966 г.>
Дорогой Владимир Федорович.
Большое спасибо за фотографию «Форели». Когда надо Вам ее вернуть?
Еще интересный поэт 20-х годов: «обереут» А. Введенский.
Касательно аттестации: при сем предлагаю список моих печатных работ. Но там упомянуты только более обширные. Что же касается более мелких, то, м. б., можно говорить о моей поэтической «хронике» в «Гранях»[194], хотя она и не регулярна.
В июньском номере «Возрождения» (она уже сдана и принята) будет моя большая статья о Державине[195]. Но комиссия собирается в начале мая.
Прямо атаковать Триоле в аттестации, м. б., опасно, но привести какие-нибудь аргументы (если таковые имеются у Вас) в пользу моей антологии, как доказательство ее превосходства над другими («в том числе и Триоле»), осторожно, м. б., и можно.
Адресовать ее, м. б., лучше всего «То whom it may concern»[196].
Да, еще — а мои статейки[197] о Заболоцком и Мандельштаме, в изданиях Г.П. Струве, тоже ведь «материал»? Тем более что они, пожалуй, и не плохие — во всяком случае, лучше творений моих противников, вроде Доминик Арбан[198] и др. т. п.
С особенным нетерпением ожидаю объявленной антологии Вашей поэзии футуристов[199]. Тут важно и то, что она Ваша. До сих пор ведь, пожалуй, «Приглушенные голоса» — лучшая русская антология — лучшая даже, чем «Поэты пушкинской поры» Ю. Верховского[200] и «Русская лирика» Мирского[201], которую многие ругают (и есть за что), но я все-таки ценю. Важно также и то, что футуристических текстов не достать.
Ваша же английская монография о футуристах — одна из немногих книг, написанных в изгнании русскими на иностранных языках, которая, не сомневаюсь, будет переведена на русский язык в будущей, свободной России. Тут, опять-таки, кроме Вас, вижу только Мирского и кое-что у Чижевского.
А пока — будем читать ее по-английски. Как и все, что Вы делаете, она, наверное, будет бесценным источником для так наз<ываемых> «исследователей» — приходится и нам сим тут промышлять.
Сердечный привет Лидии Ивановне от жены и от меня.
Ваш Э. Райс
P. S. Попрошу сегодня же Оболенского202 при встрече выслать Вам номер «Возрождения» с моим разносом по адресу Э. Триоле — честно заслужила!
Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е
32
Париж 8-VII-66
Дорогой Владимир Федорович.
Не писал так долго потому, что хотел Вам сразу сообщить окончательный результат наших с вами усилий для «внедрения» моего в Парижский университет. Но он еще не объявлен и… один черт его знает, что именно выскочит из этого заколдованного ящика.
А) Вот Вам один пример: Комиссия, как я Вам, возможно, писал, собралась 3 июня. В тот же вечер я получил телефонные звонки от моего «докладчика» и еще от одного моего приятеля, связанного с другими планами комиссии, что я принят первым и, след<овательно>, попал в Сорбонну. Причем ясно, что оба эти лица не имели времени сговориться между собой, чтобы мне лгать, а одно из них прямо участвовало в собрании комиссии. Другое же говорило со слов другого участника ее, и оба мнения совпадали.
Но когда через несколько дней я получил копию с решения комиссии, то я в ней фигурировал на четвертом месте. Трэн пошел туда подымать скандал. Переделать протокол они отказались, будто бы потому, что это бы потребовало нового собрания комиссии, которое «невозможно». Но все-таки «обещали» принять меня «условно» на один год.
Теперь я узнаю случайно от кого-то «по секрету», что комиссия снова заседала 30 июня! Причем я остаюсь на «месте», которое подлежит «определить в дальнейшем» («а determiner par la suite») — т. e. полнейший провал и жульничество.
Но в виду того, что у меня оказалось довольно много сторонников и что все-таки грозит скандал, если бы они меня похерили целиком, вероятно, «условное и на год» все-таки состоится.
Друзья советуют эту куцую конституцию все-таки принять и бороться в будущем году снова, причем все эти проделки могут сыграть в мою пользу.
Легко сказать… даже Вам, м. 6., было издали видно, что 2 месяца перед 3 июня я буквально не жил, не говоря уже, чтобы что-нибудь толком делать или писать.
Выходит — каждый год терять 2 месяца для хождения на поклоны к университетским вельможам… нерадостная перспектива.
Но это — «бюрократия» или, если хотите, «партократия». А с точки зрения «дела», мой докладчик мне говорил, что Ваша аттестация была одной из лучших и была бы даже лучшей, если бы большее число членов великомощной комиссии разумели какой-либо язык, кроме французского. Это выходит, они нас судят!
Так или иначе, Ваша аттестация остается одним из острейших оружий моего арсенала, на будущий год. За что искренне Вам признателен.
Так или иначе, пока что (в октябре?) из библиотеки ухожу, потому что тем временем в ней создалось невозможное положение. И на этот счет мог бы многое Вам рассказать, но предпочитаю, чтобы Вы сам, в следующий Ваш визит к нам в Париж, убедились в разнице, происшедшей за Ваше отсутствие.
Б) Что касается Вашего любезнейшего предложения прислать мне микрофильм второй книги Чурилина и книги Ганина, то, к сожалению, я вынужден от этого, крайне для меня не только приятного, но и полезного дела, отказаться.
Имевшийся у нас допотопный аппарат для чтения микрофильмов окончательно испортился, и, ввиду того что оказалось невозможным его починить, его выбросили на свалку, а купят ли другой и когда — один Бог знает. Пока директор школы сказал, что такой аппарат «баловство» (du chique) и что он, дескать, попал в Academie Francaise, не прибегая к оному, так что…
Что же касается снимка, пусть он даже будет белым по черному или хоть зеленым по лиловому — то я был бы Вам за него весьма и весьма благодарен. Верну по использованию, если и когда и, как всегда, готов Вам доставить все, что захотите. Не думайте, что я Лошака и Пиллата не продолжаю искать — но вот видите, еще не нашел.
Причем, без ложной скромности, знайте это: я теперь в Париже один из самых умелых «доставателей» трудных книг и многие ко мне обращаются по такого рода делам. Так что, и особенно для Вас, это никак не по халатности.
В) Мне было бы в высшей степени интересно узнать Ваши возражения по поводу антологии Триоле, т. е. Ваши расхождения с моей статьей. Если Вы нашли бумажку, на которой Вы их отметили — я был бы очень рад узнать и ваши мнения, и мои возможные ошибки.
Тем более что вот ошибки, которые указывали Вы, обычно соответствуют действительности. Тогда как вот меня немало удивили замечания Ю.П. Иваска (в «Новом журнале»), будто у Каверина нет политической позиции (а «в ожидании варваров», хотя бы, в числе прочего?) и о том, что в средневековом и древнем мексиканском искусстве нет радости жизни — а вся их керамика, да и многие барельефы и металлические изделия и т. д. и т. д. и т. д.?
Тогда как ведь ему, как лицу живущему в Америке, легче было, чем мне в Европе, ознакомиться с искусством Мексики.
С Вами таких «оказий» никогда не случается. Не сомневаюсь не только в его добросовестности, но и в его доброжелательстве по отношению ко мне, только не понимаю, как это он так «смазал».
Г) Насчет «объяснений» Якобсона с Вами о Триоле — тоже много можно было бы сказать. Один из примеров «хорошего» перевода Арагоном Пушкина я привел в статье. При необходимости могу привести еще. Только первая строфа «Евгения Онегина» ему действительно блестяще удалась. Но и только. Что же касается переводов остальных (двоих я пощадил больше по личным соображениям) — то это просто «курам на смех». Примеров можно привести сколько угодно.
Гиппиус, дескать, «трудно», а малограмотных пролеткультовцев «легко»?
Тоже хорош, этот Ваш Якобсон!
Д) С нетерпением ожидаю выхода Ваших новых книг о футуризме, пусть даже по-английски. На безрыбье и рак рыба. Еще придет пора Вам и нам вместе вдоволь писать и публиковать по-русски. Вот когда Вы засияете полным блеском. Потому что по-английски у Вас выходит, ей-Богу, не лучше, чем у Чижевского по-немецки. В. Сирин-Набоков, как бывает теленок с двумя головами. Всем же нам прочим — лучше писать по-русски. А вот Набоков-то феномен. Мне требовательные и малоподвижные умственно англичане говорили, что «один из лучших современных английских стилистов»!
Правда, это ведь ценою подлинности. Он и по-русски не совсем русский. Так что ему завидовать нечего.
Уезжаю из Парижа на месяц август. Почта будет ждать моего возвращения.
Желаю Вам и Лидии Ивановне хорошо провести время на каникулах и рад буду получить от Вас известия.
Искренне Вам преданный Э. Райс
33
Париж 20-Х-66
Дорогой Владимир Федорович.
Наконец-то, после долгих мытарств, получил я назначение тут в одну около-университетскую лавочку, сроком на один год. Ваше доброжелательное и умно составленное письмо, несомненно, посодействовало этому результату в немалой мере. Не сомневаюсь также, что из дружеских соображений Вы преувеличили «для них» мои весьма скромные заслуги.
Знаю, что в связи со всеми этими передрягами давно я Вам не писал — и не Вам одному. И вот, нахожу в моем портфеле Ваше письмо, в числе подлежащих ответу, с незапамятных пор.
Так что теперь надо будет снова двинуть все, было уже застрявшие на мертвой точке, дела. Одно из первых: ответить на любезное письмо Зака и приобщиться, если он согласится, к его стихам, сумевшим Вас заинтересовать.
Продолжаю остро интересоваться объявленными Вами к выходу работами. Если хотите, все охотно сделаю, что в моих силах, чтобы сосватать Вас с Б.А. Филипповым для Ваших ценнейших литературных проектов. Буду благодарен, если сообщите, где выйдут Ваши английские или англорусские работы, чтобы их тут достать.
Что касается полученных Вами микрофильмов Ганина и второй книжки Чурилина, то, конечно, интересуюсь ими в высшей степени, на которую только способен. Но — не беда, если фотография будет белым по черному. Микрофильм был бы хуже, потому что аппарат для чтения Школы восточных языков — единственный, к которому я имел доступ, — совершенно скис, и не похоже, чтобы они собрались его починить. Тут все-таки Европа и даже отсталая Франция, а не технически оснащенная Америка.
Но… м. б., я бы смог здесь сфотографировать микрофильмы у какого-нибудь здешнего фотографа и Вам их вернуть? Если бы так можно было сэкономить Ваши хлопоты?
В этом последнем случае попрошу Вас мне точно указать формат оригиналов. потому что иначе здешний фотограф не берется их снимать. Не знаю почему, но это так.
Если желаете, охотно готов Вам послать мои новые статьи в «Возрождении», в которых ругаю интеллигенцию на чем свет стоит и призываю громы небесные на ее предательскую, пустую башку[202]. Готовлю статью про Америку (философско-историческую, с ацтеками и с мормонами), затем — если условия позволят — попытка воскрешения Тредьяковского[203], развенчания Некрасова и об Андрее Белом, по поводу сюрприза, сделанного нам «Библиотекой поэта». Но… человек предполагает, а Бог располагает — будет ли время, силы и «вдохновение»? Разнос интеллигенции уже напечатан.
Прошу Вас не обижаться за мое долгое молчание и надеюсь отныне впредь быть аккуратнее.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне дружески Ваш Э. Райс
34
Париж 29-IV-67
Дорогой Владимир Федорович.
От всего сердца благодарю Вас за «Вторую книгу» Чурилина. Она мне кажется интереснее первой, более сгущенной, словесно более требовательной, более смелой.
Если хотите — более «экспериментальной». В глазах многих, это, м. б., недостаток, и возможно даже, что эта книжка была промежуточным звеном к чему-то третьему, чего мы так и не удостоились увидеть.
Но именно ее лаконичность и сосредоточенность кажутся мне, в некотором смысле, достижением, независимо от того, куда все это привело бы в дальнейшем, при нормальных условиях.
Любопытно также, что путь, которым он идет в этой книжке, странно близок к футуристам. Чурилин ведь был скорее человеком лагеря Клюева и Ганина, скорее, чем, напр<имер>, Крученыха. Но как сильная личность, он соединял в себе разные возможности, поверх школ и группировок, и шел, вероятно, к синтезу «крестьян» с футуристами, через своеобразное использование зауми.
Рядом с этим «Весна после смерти», при всей своей душевной и словесной напряженности, кажется ближе к прозе, к «разговору», если хотите, к болтовне, поскольку такое уничижительное выражение применимо к такому яркому и сильному человеку, как Чурилин.
«Вторая книга» — уход в дебри из жилого места, в направлении к невозможному. А для поэзии это — единственное направление, которым стоит идти.
В связи с этим обращаю Ваше внимание на весьма, мне кажется, ценную публикацию: А.К. Тарасенков — Русские поэты XX века. Москва. Сов<етский> пис<атель> 1966. Оказывается, что это ортодоксальнейшее пресмыкающееся, один из официальных надсмотрщиков над поэзией, был ее настоящим любимцем, ценителем и радетелем, вроде (осмелюсь даже их сравнить!) Ивана Розанова[204].
Вероятно, если все будет обстоять благополучно, в ближайшие годы мы будем иметь еще немало подобных сюрпризов из СССР, когда там будто проясняется.
Так вот теперь, когда он умер, выпустили они там составленную им библиографию его же собственной, им самим в течение всей его жизни собранной библиотеки русской поэзии XX века.
Любопытно то, что умер он в 1956 году, а библиография эта вышла только теперь. Дай полна ли она?..[205]
Но, так или иначе, ценность ее для такого человека, как, напр<имер>, Вы, неисчерпаема и не поддается учету. В книге около 500 стр. И на каждой из них свыше 30 заглавий.
Конечно, большинство из них — скучнейшая и никчемнейшая соцреалистическая халтура. Да и за истекшие со смерти Тарасенкова 10 лет немало вышло нового, что сильно меняет картину, вырисовывающую<ся> в его книге, но все-таки в ней, по крайней мере для меня, нашлась такая уйма захватывающе интересных и совершенно новых сведений, что, попади, напр<имер>, мы теперь в Москву, кажись, жизни бы не хватило, чтобы их исчерпать полностью.
Конечно, бесчисленных указанных в этой книге поэтов я и во сне не видал, всех этих Абрамовых и Аврущенок и Агатовых (имена взяты наугад на первых только двух страницах). А ведь и среди них, несомненно, есть и интересные, а м. б., и сущие откровения.
Но вот, все-таки, приведу Вам хоть несколько примеров: Ф. Богородский — Даешь! (Со статьями В. Каменского, Хлебникова и т. д.)
К. Вагинов — Опыты соединения слов посредством ритма. 1931 г. и еще 2 сборника: 1921 и 1926 гг.
Павел Васильев — Путь на Семиге 1932 г.
А. Введенский (обереут) — Стихи 1940 г. и целый ряд сборников для детей (только ли для детей?)
Ю. Владимиров (тоже обереут) — Оркестр 1929, Чудаки 1930 и еще ряд других.
М. Волошин — Чайка и Саломея (Стихотворения). Киев 1909 г.
Ганин — целых 12 заглавий с точными данными места, года и издательства, среди которых 9 мне до сих пор не известных (даже по заглавию). Что же говорить о самом тексте!
Иван Грузинов — был интересный такой имажинист, близкий к Сергею Боброву, но до сих пор известный мне только по периодике. Оказывается, что у него было целых шесть сборников между 1915 и 1926 гг.
Знаете ли Вы о существовании сборника стихов Георгия Иванова под заглавием «Лампада», вышедшего в Праге в 1922 г.?[206] — в этой библиографии попадаются сведения и о зарубежных изданиях!
Кирсанов — Заветное слово Фомы Смыслова — чудеснейший раешник, несмотря на «целеустремленность», оказывается, вышел в 1942 году на 104 страницах!
А. Крученых — Ирониада, Рубиниада, Календарь и целый ряд других изданий конца 20-х годов в Тифлисе.
Леонид Лавров — «Уплотнение жизни» 1929 и «Золотое сечение» 1933 — замечательный, совершенно неизвестный поэт. Но верьте мне, что стоящий. Звук — так себе, но образность и красочность — изумительная, и почти что ничего советского.
В. Маккавейский — Стилос Александрии, сонеты. Киев 1918. Его ценил и даже с ним советовался О. Мандельштам.
К. Митрейкин — талантливый юноша, вскоре исчезнувший, из окружения Багрицкого, который его ценил. Указано 5 книжек между 1928 и 1934 гг.
В. Нарбут — Веретено. Киев 1919 — никогда я этой книжки не видел.
С. Нельдихен — оказывается, имел целых 8 сборников стихов!
Г. Петников — Молодость мира. Харьков 1934. 188 стр. И еще другие его неизвестные сборники.
Гурий Сидоров — интереснейший и своеобразнейший, политически острый клюевец. Целых 6 книжек начала 20-х годов.
К. Случевский — Песни из уголка. СПБ, А. Маркс, 1902.263 стр. Стихи из этой книжки не вошли ни в его нивское собрание сочинений (лишь немногие, в отделе того же названия), ни в недавнее советское переиздание. Она имелась в Париже в украденной Гитлером и не возвращенной дорогими товарищами Тургеневской библиотеке. Но тогда еще не существовала фотокопия.
С. Спасский — футурист и обереут — друг Крученыха — 8 сборников стихов между 1917 и 1936 гг.
Как-то раз Вами отмеченный В. Урин — Трасса юности Сталинград 1949 и Счастью навстречу, там же в 1953 г. «Весна победителей». Москва 1946 г.
И наконец «наш» Т. Чурилин — Стихи. «Сов<етский> пис<атель>» 1940, 56 стр. 3000 экз.
Все это — лишь весьма немногие, беглые, наскоро выхваченные мною выписки из этой исключительной библиографии. Если хотите, я постараюсь достать экземпляр для Вас. Но в этом случае попрошу Вас ответить мне как можно скорее, чтобы они не разошлись.
Видел Ваши стихи в «Содружестве»[207]. Как я уже имел столь часто, в силу неприятного долга искренности, случай Вам писать — Ваша большая поэма до меня не доходит. Но короткие одностроки и стихотворения про Калифорнию меня живо заинтересовали. Я в них почувствовал, что Ваш путь в поэзии — если бы Вам захотелось этим путем идти — не в акмеистически-терапиановской гладкости и «правильности», пусть даже с юмором и словесным своеобразием, как в большой поэме, а в том, чтобы взорвать всю эту академическую правильность какими-нибудь новыми формами. Вот это (хотя его, увы, так немного) — ново, живо, и оно очень… Вы сами. Такой, каким я Вас вижу и ощущаю.
Вы — или откроете русской поэзии новые, свои пути — где-то в линии футуристов и Смога, или останетесь первым российским литературным критиком, чего Вы почему-то будто не хотите. А жаль. Поэты в России уже есть, все-таки, а критиков — Мирский, Вы и обчелся. Ну разве взять стариков — Вяземского, Пушкина, Аполлона Григорьева — до разгрома их шестидесятниками.
Рад случаю выразить Вам мое удовольствие по поводу этих немногих, но в высшей степени стимулирующих крупиц. Надеюсь на еще.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Еще раз спасибо!
Е. RAIS 3 rue des Ecoles Paris 5е
35
Париж 28-V-67
Дорогой Владимир Федорович.
Одновременно с этим письмом отсылаю Вам простой почтой новую мою книжку[208] и Тарасенкова. Конечно, и речи не может быть о том, чтобы Вы мне вернули ее цену. Вы так много мне доставили ценнейших (вернее, бесценных) фотокопий с самых насущных наших текстов, что я только рад случаю хоть в малой мере за все это перед Вами реваншироваться.
По этому случаю я придумал способ, м. б. могущий доставлять Вам кое— какие интересные тексты, выходящие в СССР ныне, если бы в Лос-Анжелесе это было трудно: уже в течение многих лет, по, вероятно, и Вам известным еженедельным тетрадкам «Новые книги» я заказываю тут главные из выходящих там текстов (напр<имер>, книги Кирсанова, Мартынова, Слуцкого, Кушнера, Сосноры и т. д. Конечно, также если случается кое-что интересное из прежнего. Так, напр<имер>, мне удалось достать стихи Стрельченко и Ксении Некрасовой) для себя. Прибывает приблизительно от 40 до 60 % заказанных текстов. Что происходит с остальными и почему не прибывают все заказы — не знаю. «Библиотека поэта» получается аккуратно.
Так вот, если хотите, могу, отныне впредь, заказывать вместо одного по два экземпляра каждого поэтического текста. Будут и ошибки: иной раз ожидаешь интересное, а выходит соцреалистическая шпаргалка. Бывает и разница во вкусах: имярек может понравиться мне и не понравиться Вам, и наоборот.
Бывает, как видите, и довольно высокий процент неиспользованных заказов.
Но если, в таком вот виде, это предложение Вас интересует, то я готов, как только получу Ваше согласие, отныне впредь, заказывать по второму экземпляру для Вас, все обещающие быть интересными советские издания.
Я было все надеялся на Лошака — и продолжаю его разыскивать — но, как видите, пока что безуспешно.
А так — Вы будете получать все, что захотите, плюс, конечно, неизвестный процент лишнего, потому что и мне самому случается иногда обжечься. Так, напр<имер>, недавно, заинтересованный гиперболическими похвалами тамошней критики по поводу некоего Бориса Ручьева, я было его заказал. А на деле оказалась скучнейшая соцреалистическая пошлятина, пожалуй менее циническая, чем, напр<имер>, у Суркова или у Софронова, но зато еще более серая. Так и не могу понять, почему они его все-таки отличили из массы всяких там Доризо, Асадовых, Ваншенкиных, Левитанских и Долматовских.
Но, хотя они идеологически кажутся мне глубоко отвратными, я бы не стал отрицать какую-то крупицу таланта, напр<имер>, у Луконина или у Николая Соколова. Хотя до сих пор их книг я не заказывал.
Так что, если хотите, я буду рад Вам этот материал доставлять.
Буду рад, если Вы обратите мое внимание на какие-нибудь имена, ускользнувшие от моего внимания.
Что же касается Тарасенкова, то я надеюсь, что Вы, одному Вам известными путями, через каких-нибудь ловких американцев, сумеете сфотокопировать хоть что-нибудь из его сокровищ.
Я уже было пробовал кое-что предпринять тут, через мои французские связи, но пока это ничего не дало. Кажись, что в Москве доступ к Тарасенковскому фонду (как, вероятно, и к коллекциям Ивана Розанова) крайне затруднен.
Затем еще: В.П. Крымов обратил мое внимание на выход антологии новой русской поэзии, составленной Вами вместе с каким-то англосаксом. Там русский текст дан параллельно с английским переводом. До сих пор, несмотря на все мои усилия, мне тут не удалось эту ижицу получить.
Поэтому я был бы Вам благодарен, если бы Вы смогли выслать мне ее оглавление. Во-первых, мне интересны Ваши оценки. А во-вторых, возможно, что в книжку попали тексты, мне неведомые. Их, верно, все-таки не много, так что после могла бы зайти речь об их фотокопии или как-нибудь иначе.
Когда освободитесь, буду весьма рад более подробному Вашему письму об интересующих нас вопросах, в частности, хотелось бы узнать Ваше мнение о моей ижице. Она — невелика. Это, м. б., главное ее достоинство.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Желаю Вам всего самого лучшего.
Искренне Ваш Э. Райс
36
Париж 24 июня 1968 г.
Дорогой Владимир Федорович.
Уже давно должен был Вам письмо, но все оттягивал ответ, в надежде на встречу с Вами на мюнхенском съезде[209], куда Вы были приглашены, но не явились.
А жаль. И потому что (представьте себе!) съезд оказался интереснее, чем я предполагал.
Конечно, многие (и американе, и россияне) несли благополучнейшую околесицу, но прения были живыми. Было несколько и блестящих участников. В первую очередь Ваш коллега из Индианы, некто Maurice Fridberg[210], о котором я до того и не слыхал, был на редкость блестящ — и умом, и познаниями, и красноречием, и на редкость приятным и чистым русским языком.
Превосходно держалась и наша Зинаида Алексеевна Шаховская.
А некто Владимиров[211], откуда-то из Англии (очень недавний невозвращенец), щеголял личным знакомством со «всеми» — от Светлова и Шолохова до Бродского и Горбовского. Впрочем, он был, хотя и несимпатичен, но остер, боек, неглуп.
Получил, в свое время, Ваш essay о русских цитатных поэтах[212]. Идея, сама по себе, интересна, и Вы ее поддержали огромным и четким подбором цитат же. Но я сожалею о том, что Ваша манера будто развивается в сторону формализма. А жаль. Вы ведь настолько умнее, талантливее, ученее их всех (кроме, конечно, Шкловского, до его капитуляции), что им бы следовало подражать Вам (если бы у них хватило пороху), чем наоборот!
Вам ведь их «метод» — не нужен. А даже талантливый и умный Шкловский — и то остался пленником своих схем и из-за них не увидел того, что художественное произведение, как, впрочем, и все живое, никакой классификации не поддается и никакой классификацией не исчерпывается.
И на это и он «сел».
А Вы понимаете (свидетельством тому почти все Ваши essays), что критика — это искусство, неповторяемое о неповторяемом. Или это Вы захотели сделать приятное Якобсону за приглашение его в свой сборник?
Кое-что из лучшего в Вашей статье (кроме общего замысла) — в примечаниях. Замечательно и верно, что и Вяземский созрел к старости.
Умно и метко у Вас и о «Распаде атома», которого, увы, почти никто не знает и не ценит.
В связи с этим у меня будет к Вам маленькая просьба. И я весьма высоко ценю умнейшего и смелого Г.А. Ландау[213] — недооцененная, трагическая фигура, жертва и русской и германской революции.
Но об его «Эпиграфах»[214] (увы!) читаю впервые у Вас. Поэтому если можете, если они у Вас под рукой — буду Вам очень благодарен, если Вы сможете прислать мне микрофильм этой книжки. И во Франции, дескать, техника прогрессирует, и в настоящее время я вооружен для переснятия микрофильмов на обыкновенную бумагу. Так что микрофильма было бы совершенно достаточно.
Во всяком случае, охотно готов Вам вернуть расходы по микрофильмовке.
Теперь другое. В номере местной газетенки «Русская мысль» от 2 мая с. г. небезызвестный Вам Терапиано поместил обширный подвал о новом сборнике стихов Петникова[215], который вышел в Симферополе в книгоиздательстве «Крым» в 1967 году, со вступительной статьей самого Н. Тихонова.
Но увы, в статье не указано точное заглавие сборника, «Избранные стихотворения»? «Утренний свет»? Из текста статьи это не ясно, но, по— видимому, одно из этих двух.
Во-первых, указываю Вам на существование этой книжки, которое могло ускользнуть от Вашего внимания. А во-вторых — раздобудьте ее. М. б., библиотека Вашего университета сумеет сделать то, что я, несмотря на все мои отчаянные усилия, не сумел устроить.
А книжка должна быть замечательной (хотя она ретроспективна и, след<овательно>, в какой-то части, нам уже знакома), если даже Терапьяну раскачала!
Очень Вам благодарен за лестный отзыв о моей ижице. Знаю, что он искренний и нелицеприятный, не только потому, что вообще знаю Вас, но и потому, что Вы, совершенно правильно, «попали в самую точку» — в самое слабое место моей книжки.
Да, я действительно очень плохо и только приблизительно владею русским языком. Но как же это, что никто, кроме Вас, этого не заметил? Неужели все они, остальные, такие же калеки по части русского языка, как и я?
А ведь у них — другое дело: они все родились в Москве и в Петербурге и на севере и прожили в России, по крайней мере, до 20-летнего возраста, тогда как я родился в Киеве, т. е. на Украине, а покинул Россию с родителями в 9-летнем возрасте и переселился в Румынию, а оттуда в Германию — пока не осел (до сих пор) во Франции.
Так что русский язык у меня — это нечто вроде выученной по книгам латыни, род неразделенной любви (случай, кажется, нередкий).
Что касается изданий, то, думаю, самый правильный (при всей его трудности) путь — это через Струве. Я до сих пор работал с героическим аскетом русской культуры Б.А. Филипповым. Но увы, это и Вам, возможно, уже известно, с некоторых пор его сильно зажали в связи с его политическим прошлым (по сути дела, чистейшим) и с его политической (да и просто человеческой) принципиальностью и непреклонностью.
Он, конечно, не из таковских, без борьбы не сдастся, да и сейчас уже многое отвоевал назад, но пока еще прежней свободы действия не обрел. Ему еще всякие идиоты навязывают скабичевщину. Подождите. Я его запрошу и, когда снова станет возможно (это зависит и от исхода президентских выборов у Вас), — я Вас оповещу.
А Струве — ему можно, ему американские полуленинцы верят. Он же, все-таки, «святые заветы» в чемодан не прячет.
Прошу, не сердитесь за мое долгое молчание. Тому виной не только надежда на встречу в Мюнхене, но и французские события. Вы, верно, видели, живем мы в самом центре, в самом узле происходящего. Одна из баррикад стояла у самых окон нашей спальни. И ее уже 2 раза восстанавливали и снова разрушали.
И все это ночью, под взрывы слезоточивых бомб и ответные студенческие вопли и драку. Полиция даже стреляет, и бывают убитые — а раненых несколько сотен — студенты же, для обороны, сорвали решетки с парков, скверов и пользуются также камнями из мостовой. Кроме того, ими применяется так наз<ываемый> «Coctail Molotov» (почему сей солиднейший каменный зад?[216]): бутылка с горючим со вставленным в нее зажженным фитилем. Если она разбивается, то пламенем может поджечь добротно одетого жандарма.
Все это опасно (особенно открываемыми им перспективами мировой абсолютной революции), но и прекрасно. Большинством юношей двигают благородные побуждения — борьба за правдивость и прямоту в политике (хотя оно и не выполнимо) и за попранную коммунистами и их союзниками свободу.
В защиту частной собственности я лично на стенку не полезу, но за свободу— да!
Только, увы, они так отравлены марксизмом, что, в случае своей победы, они предполагают уничтожить всю литературу, искусство и гуманитарные науки целиком за… «бесполезностью». Все силы повернуть в сторону техники. Писаревский ужас!
Так что тут — много хорошего, но немало и дурного. И… неизвестно, что будет. Генерал[217] явно износился, и его прокоммунистическое упрямство немало подливает масла в этот огонь.
Вы, я думаю, понимаете, что в таких условиях, живя в самом центре таких событий — сосредоточиться трудно. Еле успеваю справиться с узко профессиональными работами.
Мы тут, без преувеличения, слышим, как бьется учащенно сердце истории и грозит разорваться. «Блажен, кто посетил сей мир» и т. д. тютчевское. Вот мы его и переживаем наяву. А завтра, м. б., и на собственной шкуре.
Сердечный привет Лидии Ивановне. Жена Вам кланяется. Буду очень рад Вашему письму.
Искренне Вам преданный Э. Райс
37
Париж 10-XI-68
Дорогой Владимир Федорович.
Сердечно Вас благодарю за присылку Вашего magnum opus про русский футуризм, по-английски. Я его только что получил и принялся с жадностью его грызть. Но все-таки пока я еще не могу Вам многого о нем сказать, кроме того, что я уже вижу, что в нем имеется уйма конкретных сведений, которые я непременно использую для моей диссертации.
Да к тому же большинство даваемых Вами сведений взяты прямо из первоисточников, за которыми, при нашей местной бедности, невозможно было бы и угнаться.
Вы должны были обработать огромное количество материала. Одна только Ваша библиография — устрашающа!
Еще раз Вам спасибо и за Ваше внимание, и за самую работу.
Только одно: книжку Вы было мне прислали на адрес Школы восточных языков, в которой я давно не работаю и в которой у меня есть и противники.
Дошла же она до меня только благодаря усердию моих тамошних друзей. Но они могли бы и не доглядеть. Так что лучше знайте мой новый адрес, домашний: Е. Rais, 3 rue des Ecoles, Paris 5е.
Видел тем временем переизданного Вами Хлебникова, первые 4 тома[218]. Для Вашего оригинального 7-го тома, который был объявлен, я Вам советую обратиться к Софье Григорьевне Laffitte 60 bd. St. Michel Paris VIе, которой известно местонахождение полурукописного сборника неизданных хлебниковских текстов, купленного ею год тому назад для какой-то, ей известной, университетской библиотеки. Фотокопия с этого издания была бы наверняка для Вас очень интересной.
Она Ваша коллега, но если хотите, можете сослаться на меня.
Сердечный привет Лидии Ивановне.
Дружески Ваш Э. Райс
38
Париж 18-XII-68
Дорогой Владимир Федорович.
Уже договорился с вершителями судеб «Возрождения» о двух статьях о Вас: по поводу Вашей книжки о р<усском> футуризме и Вашего издания Хлебникова, если и когда оно закончится.
По поводу этих ваших работ надеюсь сказать кое-что и о самом футуризме, о моем к нему отношении, как и к Вам, на что, надеюсь, не посетуете.
Статьи предполагаются длинные, страниц по 15–20, — дал бы только бог времени. Боюсь, как бы дела снова не зажали меня на неопределенный срок.
А пока для всего этого читаю Вашу книжку о футуристах с необыкновенным увлечением, почти что не меньшим, чем Ваши статьи по-русски, в доброе старое время в «Гранях» и в «Новом <журнале>». Конечно, все-таки жаль, что это не по-русски, что цитаты — в английском переводе и т. п. Но на этот счет я надеюсь на обещанную Вами, в числе многого другого, в предисловии, обещания издать «А Comprehensive anthology of Russian Futurist poetry, prose and literary theory». Насчет «literary theory», Вы уже издали у Чижевского прелюбопытнейший сборник. Остаются «poetry» и «prose»… Бумаги не жалейте!
За «Эпиграфы» Ландау будет большое спасибо — их тут никто не знает.
Есть ли в «Утреннем свете» что-либо не вошедшее в присланные Вами мне прежние его сборники?
Евгении Ивановне наше с женой сердечнейшее сочувствие и приветы.
Сердечно Вас приветствую искренне Ваш
Э. Райс
39
Париж 21-III-69
Дорогой Владимир Федорович.
Большущее Вам спасибо за «Эпиграфы». Я Ландау знал и ценил за «Сумерки Европы»[219], написанные до Шпенглера (в основном) и во многом оказавшиеся пророческими. Среди русских реакционных мыслителей XX века ему принадлежит одно из видных мест.
Но, право, я не ожидал, что он на самом деле окажется таким умным! Он — умен, в этом его главная характеристика, независимо ни от какой идеологии. А в «Эпиграфах», пожалуй, что уже и об идеологии-то говорить нельзя. Что это все-таки не философия, возможно, даже хорошо. После Д.П. Мирского Вы — первый, кто о нем вспомнил.
Теперь так: пришлось (гл<авным> обр<азом> по профессиональным соображениям) мне приобрести громоздкую махину для фотокопии на дом. Она дает неплохие оттиски и (я это старательнейшим образом проверил) нисколько не вредит оригиналу.
Если бы Вы на то изъявили свое согласие, это нововведение могло бы внести новую эпоху в наш с Вами обмен материалами: я могу, отныне впредь, фотокопировать для Вас любые имеющиеся в Париже материалы, которые я смогу заполучить на дом. Это сразу исключает фонд Национальной библиотеки, откуда по закону книги не выдаются на дом никому ни за какие коврижки, а также и те другие материалы, хозяева которых откажутся мне их доверить, хоть на 2–3 дня.
Все-таки, как Вы понимаете, возможность для меня поставлять Вам материал расширяется, таким образом, в весьма существенной мере. Одно дело разрешить послать книгу в Америку, другое — дать ее на дом на очень короткий срок.
Я, конечно, буду рад доставлять Вам все, что только будет возможно.
С другой стороны, это, м. б., облегчит Вам сообщение материалов мне. Напр<имер>, вот, «Эпиграфы». В понедельник я получаю махину (сегодня пятница), так что во вторник-среду «Эпиграфы» смогут уйти к вам назад заказным.
Это же, м. б., решит задачу «Утреннего света». Судя по присланному Вами оглавлению, в нем немало текстов, не вошедших в присланный Вами мне в фотокопии сборник 1935 г. Похоже, на глазомер, что в нем текстов раза в 2 или даже в 2 1/2 больше.
Если бы Вы могли мне его послать заказным, то после 2 дней работы (прибл<изительно>) я Вам его верну заказным же назад.
Креме того, в Вашей английской книге про футуризм Вы указываете на такое множество других интересных текстов, что, вообще, м. б.,… хотя не хочу чрезмерно заглядывать вперед, помня лафонтеновскую молочницу, статуя которой, по словам Комаровского, стояла в Царском Селе[220] и, след<овательно>, Вам, наверное, достаточно знакома.
Что касается статьи о Вашей книге в «Возрождении», то А.О. Гукасов нездоров, а в его годы (94 г.) даже самое ничтожное недомогание опасно в высшей степени. Пока С.С. Оболенский мне предписал работу над статьей прервать, впредь до выяснения положения. Но прошу, чтобы это оставалось между нами. Журнал все-таки надеется выжить, а разговоры об его кризисе могут многое напортить.
Конечно, остаются «Грани» и «Русская мысль». Но Вы ведь видите, что «Грани» все более ориентируются на «самиздат», а «Р<усская> м<ысль>»… Вы заслуживаете намного большего и лучшего, чем подвал в «Р<усской> м<ысли>» (максимум, на который можно рассчитывать). Кроме того, там ишачит терапьяница, могущая из ревности испортить. Она — «парижская» школа. След<овательно>, тут футуризм не у места. Мне, конечно, Шаховская не откажет в подвале для Вас, и в одобрительном. Но я знаю тамошнюю кухню и ее вкусы: по сути дела, академизм.
Будем надеяться, что «Возрождение» все-таки выплывет. Если Ламарк писал правду, что «функция создает орган», подразумевая под «функцией» крайнюю необходимость, то «Возрождение» должно выжить.
От всей души буду рад любым от Вас известиям, особенно радостным. Сердечный привет Лидии Ивановне и Вам от жены и от меня.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
40
Париж 23-VII-69
Дорогой Владимир Федорович.
Действительно, очень и очень перед Вами виноват, что так задержался с афоризмами Ландау. Дело оказалось не таким простым, как я подумал сразу: оказалось, что фотокопировать надо было научиться. Конечно, «наука» эта не такая трудная, как, напр<имер>, скажем, изучение венгерского языка, но все-таки то, что я думал сделать в течение 2–3 недель, потребовало 2–3 месяцев, приблизительно столько же, как и управление автомобилем. Особенно для таких технических тупиц, как мы с женой.
Но теперь все это позади, и позавчера я Вам уже выслал заказным воздушной почтой Вашего Ландау, с большой благодарностью и с не меньшими извинениями за неаккуратность и несдержание слова, пусть временное.
Текст — действительно очень интересный. Ландау, по-моему, недооцененный эссеист, умнейший и своеобразнейший человек, хотя и немного по-фройдовски gehemmt[221] — в нем немало сдавленной горечи из-за неудавшейся жизни. Уже его «Гибель Европы» была замечательна и во многом оказалась пророческой. Но помимо этих двух книжек (а м. б., были еще), я помню, в разных тогдашних газетах, журналах, всякого рода сборниках и т. п., много бывало его несобранных статей, заметок, даже больших работ, почти всегда живых и своеобразных. И в то же время он никогда не оригинальничает нарочно: в его мысли всегда заметна серьезность и ответственность. И его, м. б., следовало бы отобрать и издать — хотя бы сборничек «избранных» essays, напр<имер>, в издательстве Finck, где Вы с Чижевским все-таки уже издали немало драгоценнейших вещей. Это было бы не только исправлением несправедливости (пусть посмертным), но и открытием для русского читателя, особенно для тамошнего, ценного явления, при небогатой в целом русской эссеистике.
Поэтому могли бы только благополучно закончиться все готовимые Вами с Чижевским чудеса! Мне думается, что он не виноват, что не по нерадению он запустил Ваш 3-й том Хлебникова, а, как здесь говорили, по болезни — он ведь уже немолод. Так что пока тем лучше, если он приналег — след<овательно>, можно надеяться, что осенью, к возвращению с травки, уже будут готовы и 3-й том Хлебникова (с особенным нетерпением ожидаю приготовленное Вами приложение совсем неизданного или несобранного), и Лившиц (надеюсь, с «Полутораглазым стрельцом» и с несобранными в «Кротонский полдень» поздними стихами), и Кузмин, и Хрисанф[222], а м. б., и Зданевич?
А насчет Хрисанфа, дело было так. После Вашего предложения я было твердо решил непременно с ним встретиться. Но временно был перегружен работой и переутомлен и не звонил к нему. Но потом Вы мне написали, что он меня ожидал и написал Вам, что недоволен моим отсутствием (если память мне не изменяет и если я правильно понял Ваше тогда замечание в письме ко мне). Я тогда это Ваше замечание понял так: «Я тебе дал ход, ты его не использовал. Теперь конец. Тем хуже для тебя». Поэтому я после того Вашего письма больше к Хрисанфу не пошел, даже когда появилось нужное для этого свободное время.
Потом, в Вашей английской книжке о футуризме, я снова прочитал о Хрисанфе и так заинтересовался, что стал искать своих путей, не Ваших, к нему. Но пока безуспешно.
Так что если он на меня не обиделся и встреча продолжает быть возможной, то я прошу Вас снова написать мне его адрес (и, если можно, телефон) и осенью, по возвращении с травки (я уезжаю в воскресенье, прибл<изительно> до 15 сентября), непременно постараюсь с ним встретиться.
Из-за тех же каникул, теперь тут идущих полным ходом, я сейчас уже не могу ни добраться до Маркадэ[223] (лично я его не знаю, а дама, всех тут знающая и могущая меня свести с ним, уже уехала до осени), ни до машинописных материалов Хлебникова, о которых я Вам писал, потому что и С.Г. Лафитт, имеющая к ним доступ, тоже уже на травке.
Но осенью, вернувшись, займусь обоими этими вопросами и Вас своевременно извещу.
Сергей Львович Рафалович родился в 1875 году и был депортирован гитлеровцами в 1942-м. Из ссылки не вернулся[224]. Это все, что о нем известно.
Теперь — the last but not the least[225]: «Утренний свет» Петникова. Я тщательно сличил присланное Вами оглавление с фотокопиями его старых книг и сборника 1935 года. Насколько это можно было сделать по оглавлению, я определил, что только часть стихотворений отдела «Основа» и за немногими исключениями (все-таки!) отдел «Из ранних книг» у меня уже имеется. Отделы же «Заветная книга», «Открытая страница» и «Птицы на рассвете», итого больше половины книжки — полностью отсутствуют. Неужели они целиком неинтересны? Судя по заглавиям, тематика его не изменилась.
Поэтому теперь, когда в искусстве фотокопии мы с женой насобачились в достаточной мере, очень Вас прошу выслать мне заказным (и я Вам назад верну его тоже заказным) «Утренний свет» для фотокопии. Он при этом не рискует ни в малейшей мере пострадать, потому что наша машина работает «насухо». Будьте уверены, что все будет в полном порядке и что без большого опоздания (опыт делает меня осторожным касательно указания сроков) Вы получите книжку назад. Буду Вам как нельзя более благодарен.
Статью о вашей, по-моему превосходной, истории футуризма и о издаваемом Вами Хлебникове (все вместе) для «Возрождения» уже сейчас пишу. Но оно может закрыться 1 января 1970 года. Поэтому нет уверенности, что статья успеет и быть написанной и выйти. В случае невозможности с «Возрождением», попытаюсь в «Гранях» — тема-то ведь все-таки полу-советская, так что, м. б., Наталья Борисовна[226] поместит.
Подумываю я сейчас и о «Новом журнале», хотя они ссорятся с Филипповым, с которым я работаю, и вообще, по-видимому, стоят на позициях 1870 годов. Авось и «Возрождение» еще протянет.
«Утренний свет» попрошу Вас выслать обычной, не воздушной почтой. Тогда он прибудет приблизительно к моему возвращению. А интересен он не только из-за трех совершенно новых отделов, но и из-за возможных изменений кое-где, в первых двух. Не всегда же они к худшему, надо надеяться.
Сердечный привет Лидии Ивановне. Жена просит Вам обоим кланяться.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Мой швейцарский адрес (до 20 августа): Е. Rais с/о m-me Marguerite Chappatte. Villa «Eclat d’or» 1881. Les Posses sur Gryon. Suisse.
41
Париж 9-Х-69
Дорогой Владимир Федорович.
Жаль ужасно, что мы на этот раз с Вами не смогли встретиться. После отдыха в Швейцарии мне надо было совершить несколько деловых поездок, и теперь с ужасом констатирую, что Вас в Европе больше нет.
Ну, ничего, Бог даст, встретимся в следующий раз, но тогда уже непременно. или же, м. б., мне случится махнуть в США — такой проект существует. Только пока ни одно учреждение не рискнуло пригласить меня на свой счет, а вести переговоры с несколькими учреждениями сразу, чтобы они разделили расходы между собою (кажется, это так делается) сложно, трудно и долго тянется. Хрисанфа пока держу в резерве: объявлен к выходу сборник его стихов в «Slavische Propylaen», хотя сейчас, при перемене политики в Германии, м. б., это дело закроется из-за отсутствия средств (при социалистах экономика всегда страдает), а м. б., и чтобы сделать приятное их новым «друзьям».
Так что подождем, посмотрим. А было бы жаль — у Филиппова средств как кот наплакал, и если бы не его титаническая энергия и трудоспособность, совсем бы все остановилась. А Вы там с Чижевским уже выпустили немало интересного, и я с горячим интересом ждал еще: Лившица, Гуро, вот Хрисанфа, третий том Хлебникова, «Арабески», «Символизм» и «Луг зеленый» Белого, и, м. б., еще и еще. Теперь… не знаю, будет ли еще что-нибудь.
Всецело разделяю Ваше мнение о том, что стоит написать о Петникове, и непременно напишу, если бы только Вы смогли мне доставить «Утренний свет». Вы, м. б., скоро увидите в «Р<усской> м<ысли>» мою статью
Ходасевиче и другую, про Русский Ренессанс. В «Р<усской> м<ысли>» места мало, обстоятельно ничего не скажешь, но у нее есть распространение, а о Ренессансе необходимо вопить. Я это и делаю[227].
Петникова, если сумею написать, лучше бы пустить в толстый журнал.
От Fink Verl<ag> никакого запроса, касательно Вас, не получил. А жаль. Сборник Ваших статей по-русски был бы не только большой радостью для всех, кто Вами интересуется, но и полезнейшим русским культурным делом. Думаю не преувеличить, утверждая, что в настоящее время Вы, м. б., самый одаренный русский литературный критик. Самый живой, которому больше всего есть что сказать. И, конечно, Ваши статьи надо выпустить по-русски. По-английски — то, да не то. При всем Вашем тонком англо-саксонском юморе, которого в русских статьях не помню.
Ну, будьте здоровы, сердечный привет Лидии Ивановне, в ожидании удовольствия Вас читать
Ваш Э. Райс
P. S. «Утренний свет», конечно, верну Вам заказным. Ваш экземпляр, м. б., единственный на Западе. Терапьянц ведь не в счет.
42
Париж 11-I-70
Дорогой Владимир Федорович.
Мое неприлично долгое молчание объясняется не только обычной перегруженностью профессиональными делами — хотя у нас теперь тут университет перестал быть «мирным прибежищем», и это объясняет второе: нервное переутомление, которое привело к головным болям по утрам, в свою очередь увеличившим перегруженность… и т. д., снежным комом. А Вам хотелось бы написать многое и о многом.
Теперь я немного отдохнул, отдышался и принялся снова за дела и за жизнь. Но не стал дожидаться этого времени, чтобы вернуть Вам «Утренний свет», за который не знаю как Вас благодарить. Как только переснимка была закончена, книжка была Вам отослана заказным. Возможно, что Вы уже получили или получите в ближайшее время. В Париже переснимка не такое простое занятие, как в США. У Вас, верно, засядете на час-другой, и дело сделано. Или даже университетский служитель сделает это за Вас, на казенный счет. У нас же мы с женой провозились с этим 2–3 месяца, многое приходилось переснимать по 4–5 раз, а то и больше. Но все-таки одолели, и Вы, наверное, со дня на день уже получите книжку.
По вышеуказанным же причинам со статьей придется подождать: сначала разнос шулера Некрасова, потом о Вас насчет футуризма (книжка чудеснейшая, захватывающе интересная, колоссально богатая фактическим материалом, часто для меня новым и даже, хотя и по-английски, не лишенная Вашего юмора и Вашей меткости. Единственный ее недостаток — но большой — что она не по-русски!) и о Хлебникове (скоро нельзя будет писать о Хлебникове и о Вас отдельно), и только потом Петников. Но — непременно, и Оболенский уже согласен. К тому времени, надеюсь, что выйдет третий том Вашего переиздания Хлебникова с обещанным Вами, Вашим личным дополнением.
Среди сообщенных Вами мне ценнейших материалов, собирался я было побеседовать с Вами и о Бальмонте. Ваша статья[228] о нем замечательна и давно было пора об этом всем вспомнить и напомнить. Уже много лет тому назад укорял я самого себя: надо было бы заручиться терпением и досугом и одолеть 20 или 30 томов сочинений Бальмонта. В них наверняка можно было бы наткнуться на сюрпризы. Но увы, вот как с Вашим Заком, то времени не было, то терпения не хватало, то еще всякое там разное. Так оно и длилось, пока не нашелся человек, который сделал то, что уже в течение 20 лет собирался сделать я и, верно, так бы и не собрался. Но я ведь, верно, не один. Это Вам может послужить указанием, насколько Ваша инициатива своевременна и даже насущно необходима. Да, переоценка Бальмонта стояла на очереди дня и ждала своего человека.
И человеком этим стали Вы. В моих попытках дальше, чем «Только любовь» или «Фейные сказки», я никак не мог продвинуться — одолевала скучища — на «Злых Чарах» я дрейфил и отказывался от продолжения. Сильно способствовала моему унынию критика, единодушно (до Вас) браковавшая все его книги после «Только любовь». «Если это — наилучшее, то каково остальное», говорил я себе и бросал, хотя и чуял, что тут можно что-то найти. И вот, у Вас нашлось терпение, которого не хватило у меня, и сюрприз получился захватывающий: Вы открыли намного больше, чем я ожидал. Конечно, чем слушать критиков, надо было мне руководиться постоянным моим опытом (в котором Вы, кажется, сомневаетесь) — что почти всегда почти что у всех поэтов (но и живописцев, и музыкантов и т. д.) самое лучшее — самое позднее, самое зрелое, что если случается иначе — это обычно признак какого-то общего неблагополучия данного художника (Верлен, Стефан Георге). Да оно, впрочем, крайне редко встречается. И у Бальмонта наилучшее оказалось более поздним. «Белого зодчего» я никогда не видел. «Сонетами солнца» пренебрег из-за критики, а вот в книжке «Дар земле», м. б. в целом более неровной, помню, были прекрасные вещи, напр<имер>, «Ниника» или сонет «Наука». Это меня и подзадоривало искать. Но это Вы напали на настоящий след, и заслуга (великая-великая) — целиком Ваша!
Вот даже какая идея пришла мне в голову: Вы ведь теперь, вместе с Чижевским, орудуете у Финка. Вы там наобещали (или за Вашей спиной сам издатель) целую тучу невероятных чудес: «Символизм», «Арабески» и четыре симфонии А. Белого, сочинения Гуро, Лившица, Пильняка, Ремизова, Гиппиус, Сологуба — и стихи и рассказы — Кузмина, Вами же открытого Зака-Хрисанфа, даже комплект «Лефа». В числе прочего — несобранную, т. е. лучшую, Цветаеву. Просто не верится, что такие чудеса смогут предстать перед нами. Ведь уже со времен революции такого не было. Неужели все это всерьез? Надо отдать справедливость этому Вашему Финку, что ни одно из всех этих чудес, несмотря на то что добрая их половина еще в сентябре была объявлена уже поступившей в продажу, пока никто и глазом не видел. Пока все это «мечты, мечты, где ваша сладость»[229]. Но… как не надеяться перед лицом наступления такого литературного рая? Так вот, если все это не только для того, чтобы «слюнки текли», то не следовало ли бы Вам прибавить ко всему этому и Бальмонта? Все ранние его сборники, даже с «Вертоградом многоцветным» включительно, м. 6., можно было бы временно оставить в стороне, а переиздать только начиная с «Белого зодчего», зато полностью. И «сонеты», и «В раздвинутой дали», а из «Мое — ей» и из «Северного сияния» только отмеченное Вами же, наилучшее. И еще: я помню, в последние годы его жизни, где— то между 1935 и 1939 гг., Бальмонт печатал в парижской газете «Последние новости» чуть ли не по стихотворению каждую неделю (в четверг?).
Там — самый зрелый, последний Бальмонт. На это следовало бы посмотреть. Я уверен, что там Вы бы нашли неожиданные шедевры. А м. б., и вообще в русской зарубежной печати, за те же годы. Это могло бы составить corpus Balmonticus небывалой ценности и стать крупным событием в русской литературе.
Ваша переоценка Бальмонта — колоссальное по важности дело, которое необходимо довести до конца. Это не менее важно, чем Ваша работа над Хлебниковым, несмотря, конечно, на превосходство Хлебникова над Бальмонтом, даже в Вашем освещении.
Теперь — последнее. Ваша полуанглийская антология. Я ее уже видал. На сей раз, присмотревшись поближе, увидел, что переводы часто очень хорошие. Несмотря даже на то, что порою они рифмованные, что вообще опасно и лишнее (звука все равно не передать). Конечно, можно только сожалеть о том, что невесть какие невежды навязали Вам «Песню о Родине» Лебедева-Кумача или похвалу Сталину Исаковского. Но я себе позволю и еще кое-какие замечания: «а Петников?» Вы, который мне его открыли (без и до Вас я знал только, правда замечательное, «Открываю небесный букварь»), ставите его в ряд с каким-то там Кнутом, Корниловым или Ольгой Анстей. Коневской, Комаровский и Гуро тоже заслужили лучшего обращения, чем, напр<имер>, Софья Парнок или Лидия Червинская. Пожалуй, что и Балтрушайтис, и Третьяков. Но я вижу, что до Вас просто не дошли имена двух, м. б., наилучших поэтов российского зарубежья: Бориса Божнева и Сергея Рафальского. Неужели Ильинский и открытый Вами Дукельский не лучше, чем скучнейший, правильнейший Кленовский, пай-дедушка зарубежной поэзии. И среди советчиков можно было подумать про Стрельченко, Ксению Некрасову (своеобразнейшая словесная Douanier Rousseau[230]) и Юнну Мориц (вместо чекиста Роберта Рождественского и ставшего обязательным Евтушенко), да, пожалуй, и про Тарковского, хотя он и суховат. Но насколько его суховатость свежее и сложнее «красочности» Антокольского! Но, вероятно, те же самые невежды Вам навязали и Симонова, и Озерова, и Ольгу Берггольц, и прочих полу-оппозиционеров, полу-чекистов, к поэзии имеющих довольно мало отношения. Но это все-таки мелочи, рядом с заслугой открытия Бальмонта (здесь начавшегося), Гиппиус, Вяч. Иванова, Кузмина, Ходасевича и остальных других, которых, для Запада, Вы открываете.
Серьезнее разрешу себе говорить с Вами про Андрея Белого, которого Вы сдвинули чуть ли не на одну доску с прозаиком Буниным, хотя он, м. б. (уж не говоря об его гениальных романах, до которых Прусту и Джойсу как до звезды небесной далеко, философских essays и воспоминаниях), один из первых двух-трех поэтов России, даже с пушкинской порой включительно. Не судите его по недавнему однотомнику «Библиотека поэта», хотя и там имеется немало гениального. Идите к берлинским «стихотворениям» 1923 года, где были его потрясающие «Н.В. Бугаеву», «Возврат», «Старинный друг», «На буграх», «Гранит», «Мертвец» и др., и особенно к его отдельным не-избранным сборникам стихов. «Библиотека поэта» старательно исключила почти все его стихи на тему, ему особенно близкую, но для СССР уж никак не приемлемую: перевоплощения. Важно даже не то, что, м. б., напр<имер>, и для Вас тема такая может показаться наивной и устарелой, а то, какие «звуки» Белый — для которого она была жива, актуальна и значительна — извлек из нее. Да и не только из нее. Он был магом, который владел русским стихом, как никто, м. б., другой. Куда до него Блоку. Да и был ли Блок тем, что он есть, без Белого. Почитайте хотя бы их переписку. Хлебникова Вы на сей раз, пожалуй, количественно обидели — меньше, чем Гумилева и Ахматовой? Обидели Вы и Цветаеву, лучшее у которой Вы, издатель ее несобранного, след<овательно>, знаете. Ведь все у нее лучшее — конец 20-х годов (после «После России») и 30-е. Поплавский для меня (но не для меня одного) не хуже Георгия Иванова или же — сейчас же за ним следом. Но искать его надо не в «Снежном часе» и даже не во «Флагах», а в журналах тех лет и в посмертном «Дирижабль неизвестного направления». Таких стихов, как лучшие из этой последней книжки, по-русски еще не было. Уже упомянутые Божнев и Рафальский — идут за Поплавским, намного впереди всяких там Штейгеров, Смоленских и т. п. Вы хорошо сделали, что не приняли наших «вельмож» Адамовича и Терапиано. Молодец! Зато (разве что под давлением невежд) зачем так раздуть Маяковского, почти вдвое против Хлебникова?! Настолько ли уж он лучше, чем, напр<имер>, Третьяков? Все, начиная с «Прощанья» (стр. 563 до 569), я бы скосил в пользу столь многого лучшего у других. Среди советчиков меня заинтересовало выбранное Вами «хамское» стихотворение Шершеневича, но я пожалел об отсутствии обереутов (кроме Хармса). Но ведь, напр<имер>, и Введенский несомненно интересен. Надеюсь на возможность для Вас, в ближайшее время, антологии таких же размеров, но без иностранного перевода и без навязанных Вам иностранцами же ограничений. Чтобы там было только то, что Вы любите. Вы же теперь стали там «massgebend»[231] русским критиком, оценка которого определяет и отражает эпоху.
В числе прочего попрошу Вас сообщить мне стихотворение Маргариты Алигер про Моцарта, о котором Вы похвально отзываетесь в Введении, но которое Ваш американский сотрудник отказался переводить. Раз Вы хвалите, значит интересно. И приведенное Вами стихотворение Ахмадулиной тоже интересно, хотя вообще она скучнее Юнны Мориц, а пожалуй, и Сосноры. Среди самых молодых Вы удачно отметили Матвееву (Бродского и я бы не взял), но… что Вы думаете про Дмитрия Ковалева?[232] Слежу внимательно за самыми молодыми, но особенно в СССР, где к капризному индивидуальному фактору присоединяется еще более капризный фактор политический, легко ошибиться. Л. Мартынов мог стать крупным поэтом. М. б., даже и Ольга Берггольц.
Ну, пока, желаю Вам всего самого лучшего. Пишите. Отныне впредь надеюсь быть активнее. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Ваш Э. Райс
P. S. Если хотите, могу Вам послать книгу Вальдемара Жоржа о Ларионове[233]. В ней 40 превосходных репродукций в красках, в том числе и еще неизвестный и мне очень интересный портрет Хлебникова (интересный не столько человечески, сколько артистически, с точки зрения живописи). Стоит 120 фр<анков>.
По вышеуказанной причине я мало писал в «Р<усской> м<ысли>». Кое— что вышлю пароходной почтой. Но не для Вас, для широкой публики.
43
Париж 29-IV-70
Дорогой Владимир Федорович.
Читая изданную Вашим W. Fink’oм переписку Блока и Белого[234], я заметил, что в примечаниях к этому изданию много раз цитируется совершенно мне до сих пор неизвестная книга воспоминаний А. Белого: «Омут». К сожалению, в этом издании не указаны никакие ориентиры насчет того, как эту книгу найти: ни места, ни года издания, ни даже была ли она издана или же цитируется только по какому-нибудь машинописному архивному экземпляру. Но цитируется она неоднократно, с указанием страниц, на которые примечания ссылаются. Такие ссылки имеются, напр<имер>, на стр. 161, 176 (3 раза), 178,179,181 и мн<огих> др<угих>. Судя по ссылкам, книга эта имеет, как минимум, значительный документальный интерес. То же, что она принадлежит перу Белого, является также и некоторым указанием на ее весьма возможный художественный интерес, м. б., даже незаурядный.
Поскольку Вы с этим издательством связаны, не думаете ли Вы, что было бы весьма полезно включить эту, мало кому известную, книжку воспоминаний Белого в программу русских публикаций издательства, если только бы удалось получить ее экземпляр. Если книга эта была на самом деле издана, а только случайно я ее никогда не увидел, то сделать это будет, м. б., и не так уж трудно.
Если же она имеется только в рукописи, то и тогда Вам, м. б., удалось бы, через кого-либо из Ваших коллег американцев, бывающих в СССР, достать фотокопию. Это ведь все-таки иногда удается.
Обращаюсь к Вам как к одному из весьма немногих людей на Западе, способных и понять важность этого дела, и могущих, м. б., дать ему ход.
О публикации возможно более полного собрания писем А. Белого, хотя его письма принадлежат к наилучшему из им написанного, понимаю, что при нынешнем положении не приходится и мечтать.
Сердечный привет Лидии Ивановне. Искренне Вам преданный
Э. Райс
44
Париж 17-VII-70
Дорогой Владимир Федорович.
Теперь, когда советский Бальмонт[235] наконец вышел, Вам ясно, что остается сделать: они выпустили гл<авным> обр<азом> именно тот материал, который Вы, вполне справедливо, сочли наиболее интересным. Можно было бы задумать Ваш сборник как дополнение к советскому[236]. М. б., с воспроизведением некоторой части наиболее интересных из приведенных ими текстов. Это уже Вам виднее. В их книге много лишнего: переводы подобраны из рук вон скверно, но кое-что, какое-то количество хорошего материала есть.
Тут я встретил Малмстада[237] у общих друзей — очень милый молодой человек, и если это Вы его сформировали, то честь Вам и слава, и не знаю, оценят ли американцы как должно услугу, которую Вы им таким образом оказали. У него руки чешутся, ему только подавай, он хочет издавать и, наверное, сумеет. Они там даже будто собираются воскресить труп «Чеховского издательства». Я бы им охотно посодействовал, только они начали с нехорошего поступка: устранили Б.А. Филиппова. Не думаю, чтобы доброе начинание могло рассчитывать на успех, если первый его шаг — незаслуженная обида человеку не только во всех отношениях достойному, но и весьма высоко компетентному и к тому же преданному делу, что он и доказал своим interim’oм между обоими «чеховским» затеями. Кроме того — прецедент неважный: сколько они в первый раз понаиздавали ни к чему не потребной трухи — не очень все это обнадеживает. Разве если новые люди, вроде Малмстада, произведут там полную чистку («генеральную уборку», как у нас говорили) и начнут новое дело на новых, серьезных и деловых основах!
Г-ну Зивекингу непременно напишу.
За Вашу полуанглийскую антологию я Вас своевременно поблагодарил и своевременно ее Вам раскритиковал. Она — и очень хороша (как Вы умеете делать) и… вот теперь читаю Ваш ответ… да… возможно, что я не понял насмешки с Вашей стороны, хотя Вы помещали Лебедева-Кумача и Алигер под одной обложкой с Хлебниковым и Мандельштамом! Книгу Вашу я не только «долго держал в руках», но и постоянно возвращаюсь к ней — ведь она «единственная в своем роде», а потому и незаменимая. Но если Вашего намерения не понял я — то неужели Вы думаете, что «публика-дура» поймет? Я отнюдь не считаю себя палатой ума, но глупость публики, вероятно, известна и Вам: она намного превышает любую индивидуальную глупость. В лучшем случае Ваши англосаксонские читатели скажут: «да, соцреалистическая поэзия слабее “буржуазной”» (кавычек они наверное не поставят). Но бесчисленные радетели соцреализма смогут на это возразить: «виноват не соцреализм, а “реакционер” Марков, пристрастно подбиравший тексты — если бы он дал Демьяну Бедному с Сурковым столько же места, как и “реакционным” Хлебникову или Пастернаку, то Вы бы видели, что…» и т. д. Так не лучше ли было дать это место кому надо? Впрочем, м. б., по полученным Вами письмам картина иная, и, м. 6., Вы лучше моего понимаете англосаксонскую психологию.
Да, правда, я «загибальщик». Но и Вы тоже — иначе ведь не стоит. Не правда ли? Принимать во внимание «господствующий вкус» ведь вернейший способ провалить поэзию. Она ведь всегда именно в неожиданности — окно открытое на никогда еще не виданный пейзаж. В частности, и я сейчас работаю над антологией русской поэзии. Понятно, для 19 века я бы дал Пушкину даже не 20, а 25, в том числе и «Медного всадника» полностью, а Кюхельбекеру — 3. Но счел своим литературным и даже человеческим долгом свести и Некрасова к 4. Он — явно раздут, несмотря на одобрение таких китов, как Розанов или Гиппиус. Он — фальшив до мозга костей, и у него не удалось найти ни одного целиком хорошего стихотворения — я был к нему снисходителен, давая четыре. Кроме того, он до дикости безвкусен и неровен, как никто другой. Неровен — это мягко говоря — просто из рук вон скверно почти все. Я не отрицаю его одаренности — но он (как и Маяковский) выбрал миллионы и карьеру. Он их и получил, а в истинную поэзию — не суйся! К счастью для Маяковского, он пошел торной дорожкой шулера и крепостника Некрасова (и реакционера, вспомните его «отношения» с Муравьевым), с опозданием лет в 10. Поэтому его первые 10 лет, до революции, с «Облаком в штанах» и т. д. спасены, и их я цитирую. Но вот с «Войны и мира» (где еще есть хорошие отдельные места) начинается спуск в некрасовщину. «Мелкие размышления на глубоких местах», которые Вы мне открыли — очень мило и недурно, «Про это» — в третьей части есть несколько хороших, верных (не фальшивых) нот, а все остальное, с процитированными Вами длиннейшими монахинями — халтура, хотя и «хорошо сделано» (у Некрасова чаще всего и сделано плохо — фальшь вездесуща и портит все). За Дм. Ковалевым — советую Вам следить, м. б., будет толк. Получил второй экземпляр Вашей антологии: ожидаю Вашего распоряжения, как с ним поступить.
Насчет Ларионова, советую Вам поторопиться принять решение не только потому, что он может оказаться распроданным, но и потому, что франк падает (он уже стоит 950 фр<анков>) и может стать еще дороже.
С Маркадэ и с Малмстадом познакомился одновременно по их приглашению (провел у них вечер). Оба они мне как нельзя более понравились.
Указал Вам стихи Белого длинные в первую очередь потому, что у него большое поэтическое дыхание и что на его примере видно, как трудна большая форма. Все-таки ему удается ею владеть. Не говоря уж о великолепном «Первом свидании», верно, и Вами ценимом, «Мертвец» — понимаю, чем он может быть непрочен — в частности, юмор Белого жесткий и жестокий, легко может вызвать отталкивание, но согласитесь, что эти 20–30 страниц яркой и крепкой живой иронии, на которых почти каждое слово рифмуется: «В дымных столбах, в желтых свечах, в красных цветах — ах!.. Там колкой елкой, — там можжевельником бросят. На радость прохожим бездельникам — из дому выносят» и т. д., и т. д., и т. д.
Понятно, и это, как почти любое другое, может и не понравиться, но Вы не скажете, что это «здорово»!
Но я смог бы Вам процитировать и сколько угодно его коротких стихотворений. Хотя бы его потрясающее «Веселье на Руси» или почти целиком его поздний сборник «Звезда», где почти все очень значительно. Да и многое еще другое. Да, с риском «загнуть» я продолжаю его считать одним из 2–3 самых первых русских поэтов, а м. б., из всех русских писателей вообще. На этот счет (по поводу книжки Вольского о символистах) пошлю Вам мою рецензию, как только получу оттиски. Если бы было время и наитие для большой статьи (или даже книги) об Андрее Белом — то, м. б., мне бы удалось привести просто цитатный материал, которого было бы достаточно для одного из первейших мест в русской литературе: почти всеобъемлющее могущество и неслыханная легкость его языка, глубина его мысли, яркость его видений, ум, сила — кто ему равен? В области обновления русского языка он ведь сделал не меньше, чем Ломоносов и Пушкин в свое время. Он — третий этап после них, задушенный революцией. Да, он, пожалуй, не умеет «строить», но недостатки имеются и у Шекспира.
Меня живейше интересуют примеры, которые Вы бы выбрали у Тредьяковского. В области вкуса охотно отдаю Вам первенство (Вы им обладаете по праву). Книжка у меня имеется, так что было бы достаточно, если бы Вы указали страницы и от какой строки до какой. А похвалу XVIII веку — я набросал в начале этой статьи тоже. Особенно меня интересуют: Сумароков (несправедливо осужденный Пушкиным), Ржевский, Михаил Попов, Долгорукой. Ширинского-Шихматова и Боброва, которых хвалит Д.П. Мирский, — просто никогда не имел в руках их книг. A priori уверен, что в XVIII веке было еще много других поэтов, вероятно в том числе и замечательных, книг которых за границей просто нет. Брюсов — умел писать стихи, умел и выбирать сюжеты, но я его никогда не любил, и без него можно обойтись. Разве что «Грядущие гунны», «Конь блед» — вообще политическая поэзия и поздний сборник «Меа» — хотя там тоже достаточно трухи.
Я понимаю под силлабикой стихосложение, не придерживающееся правильного ритмического рисунка (ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль) и учитывающее количество слов в строке. Маяковский, по-моему, силлабик, поскольку он вышеуказанных метров не придерживался. Виршеписцы и Тредьяковский тоже. Кроме того — вся французская поэзия, верлибр и стихотворение в прозе — по той же причине силлабич— ны. Точно так же и старые поляки от прибл<изительно> Кохановского до прибл<изительно> Словацкого, у которого появилось стремление к правильным ритмам, впрочем часто ломающееся. Но у польских поэтов начала XX века — часто встречается тоника. Теперь опять пошел верлибр.
Понимаю относительность и условность всякого определения. Буду Вам благодарен, если пришлете библиографическую заметку об учебнике стихосложения Гаспарова и Колмогорова. Тут никто о них ничего не знает и ни в одной библиотеке их нет.
О Ротчеве я узнал из последнего издания неплохой (хотя, увы, неизбежно тенденциозной) хрестоматии Гайденкова. Он там на стр. 395–397. Портрета нет. Судя по заметке, стихи его в книжку никогда собраны не были, сам Гайденков его ценит, по-видимому, очень высоко, а первый из приведенного им цикл «Подражания Корану» (но, впрочем, и остальные тексты меня очень заинтересовали). По-видимому, он — недюжинный религиозный поэт. Но… как его из СССР получить? Ввиду того что у Вас в США намного больше старых русских изданий, м. б., стоило бы начать с поисков в перечисленных Гайденковым альманахах, в пределах имеющихся в США материалов. По той же заметке, «Подражания Корану» вышли в 1928 году отдельной книжкой.
Пауль Целан, увы, уже не с нами. Во время войны он побывал в гитлеровских и в советских лагерях, и хотя вышел живым, но психически был надорван. Благодаря своей редкой живучести и недюжинной духовной силе, ему удавалось жить. Но с годами его стала охватывать все чаще ужаснейшая беспричинная тоска. Он долго и храбро боролся, но лечиться не хотел из гордости. Он все твердил, что с такими вещами, как тоска, надо справиться самому. Но вот уже года два тому назад покусился на отравление, от которого его спасла его жена, вовремя спохватившись. Потом он покушался на себя еще несколько раз, пока, увы, в последний раз, не утопился удачно в Сене.
Я лично его очень любил, и, как всегда в таких случаях, упрекаешь себя в недостатке внимания и неустойчивости. М. б., если бы я не смотрел на его гордячество и более бы настаивал, удалось бы его направить к дельному врачу. Но вот не удалось. Его очень жаль и как человека, и как настоящего огромного поэта. Он теперь в Германии был намного первым <так!>. Конечно, будь он жив, он был бы очень рад вступить с Вами в контакт (я ему о Вас говорил) касательно Хлебникова. И вообще — много еще этот человек мог сделать и, наверное, сделал бы!
Гонкуров не читает никто: они скучны, бездарно претенциозны и безвкусны. Так что Вам будет не легко докопаться до сделанного Кузминым намека.
Кроме того, они настрочили неимоверное количество. C’est la mer a boire[238], как говорят французы.
Лично я для русского стихосложения пользуюсь книжками Томашевского и Шенгели. Кажется еще, что есть неплохая (будто богатая материалом) книжка Тимофеева. Но и ее видеть не приходилось. Б.Г. Унбегаун выпустил на французском языке неплохое элементарное руководство по русскому стихосложению.
Кажется, еще были вопросы — но сейчас не могу вспомнить. Напишу в следующий раз — порядка такого, чтобы клянчить тексты.
Так что пока лучше отдыхайте. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
45
Париж 3-I-71
Дорогой Владимир Федорович.
Ваше письмо затронуло массу захватывающих, увлекательнейших вопросов. Конечно — тут не обойтись без продолжительной и подробной личной встречи. То, что Вы говорите о Некрасове, для меня, конечно, имеет огромный вес. Впрочем, то, что Вы говорите — правда. Да, ему случается «ритмически захлестывать». Об оригинальности и говорить нечего — тут дальше некуда. Кроме того, он крайне «модерный» поэт — именно в своей некрасивости, в своей стремительности, в равнодушии ко всякой эстетике. И энергия, и накал — все это верно. Кроме того, он, иногда, чертовски здорово умеет писать стихи. Иногда такое завернет, что просто диву даешься, как это и откуда это у него. Но… неровность… Я не говорю о том, что, напр<имер>, Лермонтов не ровен и что у него надо выкинуть больше трех четвертей. Но зато там, где он на высоте — как, напр<имер>, «Ангел», «Желание» (оба варианта), «Три пальмы», «Мцыри», «Валерик», «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу», «Когда волнуется», «Дары Терека» и еще десяток-другой стихотворений — тогда ему не равен никто и тогда это и есть поэзия в самом полном смысле слова. То же можно сказать и про Андрея Белого. Хуже всего он, когда подражает Некрасову, но не потому, что он перед ним мелок, а потому, что если такой гений, как он, берется подражать Некрасову, то ничего, кроме ерунды, и не могло получиться. Это как если бы Шекспир взялся подражать, скажем, Бен Джонсону (чтобы не сказать Конгриву). Да и у Державина «кумир золотой» больше чем «на одну четверть». А там где он золот — то и это чистое золото, как чистое золото там, где золот Уильям Блэйк (Songs of Innocence, «The Book of Thai», многие мелкие стихотворения и отрывки из больших «пророчеств»), хотя и он больше чем наполовину «свинцовый».
У Некрасова другое — у него «чистого золота» нет. Он срывается даже в своих наилучших вещах — из него невозможно выделить ничего целиком. У него нет ничего, за что ему можно было бы простить эту пошлятину, его злободневные куплетики кукольниковского пошиба, его небескорыстную тенденциозность, его чересчур далеко идущую безвкусицу (примеры — сплошь, но даже в его лучших вещах, как «Маша», «Убогая и нарядная», как в его фельетонах о петербургских морозах (м. б., лучшее у него) или в «Железной дороге»). Я не враг поэту, который нас хлещет по морде жесточайшим образом (пророк Иеремия в Библии), но пусть это будет нагайкой, а не дурно пахнущей тряпкой, измоченной даже не в откровенной гадости (что можно бывает простить как озорство), а в дешевых духах, потому что Некрасов безнадежно безвкусен и этим портит даже свой накал. У него розовая водичка слишком часто тушит самый подлинный огонь.
То же, что я Вам не дам — это «фальшь до мозга костей». Вы ее объявили «ужасающей несправедливостью». Меня удивляет: неужели Вы Некрасову верите? Ведь он весь (если бы только истерика, то полбеды, и там я его даже люблю) — поза, трепло, демагогическое дешевое милюковское завывание. Его «народный» язык… так разве это его язык? Ведь это сплошная ложь и фальшь («Кому на Руси жить хорошо», но и во многом другом). И он так изолгался в языке, что даже его стихи, написанные нормальным для него языком (слащавейший и лживейший декабристский «Дедушка» и оных же супруги в «Русских женщинах», bluff которых понял даже Д.П. Мирский[239]), или, скажем, «Мороз красный нос» — так и трепещут на границе лжи, потому что, в конец демагогически изолгавшись, он даже уже потерял сам ощущение, каким он языком пишет: своим ли, среднего интеллигента того времени или «народным». Это хуже Кольцова! Ведь Кольцов-то был не виноват, что родители его ничему не учили, он-то был добросовестен. Тут мне не удержаться от хоть двух примеров: А) в «Железной дороге» — «А по бокам-то все косточки русские». Это, конечно, не потому, чтобы рифмовать с «насыпи узкие». Рифмовать-то, черт, он умел, да еще как! Это чтобы… вызвать у читателя жалость к рабочим-строителям железнодорожной насыпи! Чтобы ударить по национальной струнке тоже. Да ещеякобы «народ так говорит». Дальше, в фальши, пойти некуда. А ведь это одна из вершин Некрасова! В) В «Кому на Руси» баба оплакивает умершего ребенка и говорит об его гробе: «окошки не прорублены, стеколушки не вставлены». Метафора гроба как избы без окон и дверей и проч., пожалуй, даже не лишена силы. Но ему понадобилось, демагогии ради, «выражаться» как настоящая крестьянка. Вот он и влип. Эти «стеколушки» на 10 аршин воняют не лишенным лингвистической ловкости интеллигентом. Слыхали ли Вы, когда-нибудь, у настоящих крестьян такие выражения? И так у него сплошь. Я и не стану отрицать, что в кои веки может случиться, чтобы лингвистически одаренная крестьянка (такие бывают) так выразилась. Но у него это сплошь. И как Вы не ощущаете, что это фальшь?
Кстати, за любые указания «изумительных мест» буду Вам благодарен (у меня трехтомник Чуковского, в «Библиотеке поэта», большая серия[240]) — их немало цитирует и Чуковский, и знаю и я, но… никогда это не переваливает за 4 строчки подряд, после чего следует очередной шотландский душ безвкусицы и (или) фальши, способной потушить любой «пожар».
Впрочем — Вам хорошо. Вы — в «хорошей компании». Не только Белый, но и Розанов, и Мережковский, и даже Гиппиус. Когда я ей как-то сказал прибл<изительно> то, что пишу Вам теперь, она мне ответила: «Ну да, это Вы так говорите, потому что Вы еврей» (вряд ли она это писала, потому что не любила считаться антисемиткой, хотя холодок у нее все-таки был). Но почему же еврейство мне не мешает понимать (в какой-то мере) и признавать и Державина, и Пушкина, и Тютчева, и Лермонтова, и Анненского, и Блока с tutti quanti[241], а вот именно Некрасова — нет? На это она ничего возразить не могла, хотя и обладала редким даром реплики.
Очень буду рад и «изумительным Вашим местам», и любым дополнительным выражениям и заранее предвкушаю удовольствие от устного обсуждения с Вами этого вопроса, с книжкой в руках, но все-таки пока — пусть меня ругают — есть какая-то правда и в том остром ощущении фальши и безвкусицы Некрасова, которое живет во мне. Ведь иначе откуда бы оно взялось? И… я не один. Есть другие, больше моего смыслящие в русской литературе, которые тоже Некрасова не любят: см. первое издание книжки Чуковского о Некрасове[242]. Он вынужден был изъять все враждебные Некрасову высказывания изо всех последующих изданий своей книжки.
Кстати, просьба к Вам: если это издание имеется где-нибудь в Ваших библиотеках, буду Вам очень благодарен, если Вы мне вышлете фотокопию тех 5–6 страниц, где Чуковский приводит высказывания русских писателей о Некрасове. Она была у меня до войны, но ее сперли гитлеровцы. А теперь в Париже нигде этого издания не найти.
Если Вам для дела — то охотно готов Вам поискать нужную справку у Гонкуров. Но… как это сделать? Эти господа настрочили томов 30, если не ошибаюсь, или даже еще больше. В библиотеках они, конечно, имеются. Но их никто не читал. И где взять время, чтобы просмотреть целых 30 (или больше?) томов нудного безнадежно одряхлевшего чтива? Бесполезно обращаться даже к образованнейшим французам, потому что Гонкуры умерли давно, полно и прочно. Что же касается «гонкуровской академии», то дело вот в чем: эти господа были богаты и оставили крупную сумму на присуждение ежегодных премий за романы начинающих авторов. Они и назначили первых 10 членов этой «академии», которая потом пополнялась кооптацией. И вот они уже с конца прошлого века каждый год собираются в одном тут роскошном ресторане и выдают по премии, которая, вследствие обесценения франка, стала чисто символической. За все свое долгое и бесславное существование эта «академия» только 2 раза не ошиблась: раз насчет Марселя Пруста, которого назвал им все-таки понимавший дело Леон Додэ, и еще Мальро — бывшего министра, достаточно хваткого карьериста, для того чтобы получить и эту премию. Все остальные «премианты» один бездарнее другого, и их обычно забывают сейчас же потом. Смысл этой «академии» чисто великосветский, а отнюдь не литературный, об их «ужине» пишут газеты, и эта премия несколько увеличивает продажу книжки скучающим дамам. Считается «модным» иметь у себя экземпляр такой премированной книжки. А насчет чтения писаний основателей премии — то это не работа великосветских старых дев и говорящих в нос снобов, эту премию выдающих, чтобы копаться в скучной книжной пыли. Если хотите попробовать — я постараюсь отыскать для Вас адрес кого-либо из них. Но скорее всего, что такой господин (или дама) даже не соблаговолит ответить на наше к ним письмо.
Насчет стиха Маяковского, я, видно, плохо выразился: я вовсе не претендую, что его силлабический стих «правилен». Но я заметил — и это ясно — что большинство его расположенных хитроумнейшими лесенками стихов на самом деле сводятся к четырестишиям, рифмуемым авав, и изредка к пятистишиям аваав. Бывают и просто отдельные «хвостики», вообще ни с чем не рифмующиеся, которые можно приписать скорее небрежности, чем новаторству. Вам, верно, случалось Маяковского слышать. Так Вы, верно, помните, что в его чтении лесенка передавала разные паузы, градации и т. д. и имела смысл как указание для чтения. Но после его смерти — я не понимаю, почему не печатать его стихи так, как они на самом деле написаны, т. е. вовсе не верлибром, а… ну, если хотите, неправильным силлабическим стихом.
Я не утверждал, что «верлибр силлабичен» (хотя это бывает, если считать силлабикой все, что не тоника), а что Маяковский разрешал себе вольности с силлабическим стихом. Но настоящего верлибра я у него не помню (кажется, что-то было, раз или два, в самом начале). Пока единственный крупный русский верлибрист — Хлебников.
…Выходит, что по-русски нет ни одной хорошей книжки по стихосложению. А… Шенгели? Тимофеев все-таки приводит большой материал. А там не быть тенденциозным — ведь не так просто. А Томашевский?[243]
Если хотите, чтобы я занялся Вашим «гонкуровским» делом, попрошу Вас уточнить предмет Вашего изыскания: о какой именно строчке Кузмина идет речь? Почему Вы думаете, что ключ к ней надо искать у Гонкуров? и т. д.
Послал бы вам, по сути дела готовое, оглавление моей антологии, ноне хочу делить шкуру медведя, еще не пойманного: Малмстад жалуется на недостаток кредитов.
С нетерпением ожидаю выхода вашего Кузмина, не в последнюю очередь из-за Ваших ста страниц. А… Хрисанф? А… третий том Хлебникова? Особенно был бы рад встретить Вас, когда приедете в Европу.
Искренне Вам преданный Э. Райс
Сердечный привет от жены и от меня Вам и Лидии Ивановне.
46
Париж 25-II-71
Дорогой Владимир Федорович.
Вероятно, уже и до Вас дошла неожиданно замечательная книжка Мандельштамихи[244]. И как это ее угораздило написать книгу, в своем роде выдержавшую сравнение с ее мужем и могущую, потенциально, встряхнуть сонливый Запад с силой, почти достигающей солженицынскую.
Но теперь дело не в политике (это почти больше чем политика, это то, что на нестерпимо избитом общем языке называется моралью. Но в каком— то ныне уже не существующем, достойном смысле этого слова), а в редко в этих воспоминаниях встречающейся литературе.
Вы, м. б., заметили, что на стр. 255 она перечисляет некоторые стихотворения ее мужу[245]. Среди них имеется несколько, которых я никогда не видал, а очень бы хотелось взглянуть! Вот они:
А. Добролюбов — Говорящие орлы[246]
В. Бородаевский — Стрижи[247]
А. Лозина-Лозинский — Шахматисты[248]
Б. Лапин — Что-то про умный лоб и «звезды в окнах ВЧК»[249]
……….»…….. — Как надкусывая пальцы астрам Триль-траль целовал цветы…[250]
Если бы Вы нашли хоть что-нибудь из этих стихотворений и смогли бы мне прислать — был бы Вам очень признателен.
А я Вас не забываю: на Лошака продолжаю охотиться — просто он за это время нигде не появлялся, но это дело случая. Не нашел я еще в Париже и человека (и вряд ли такой имеется), который бы читал братьев Гонкур. Эдаких чудаков следовало бы поискать в провинции. Авось кто-нибудь и подвернется. Но ведь не легко было бы найти в России человека, который бы всерьез читал Боборыкина или Ольгу Шапир[251]. Времена не те.
Сердечный привет Лидии Ивановне от жены и от меня.
Оба мы посылаем вам наши наилучшие пожелания и надежду на скорую встречу.
Искренне Вам преданный Э. Райс
47
Париж 28-XII-71
Дорогой Владимир Федорович.
Давно мы уже не обменивались вестями. Не помню уж, по чьей вине. Допустим, что моя. Обе театральные пьесы, о которых Вы было меня просили, давно Вам отосланы. Вот тогда было я и собирался Вам писать и, как видите, не вышло.
Имеется тут теперь и сборник «Избранных произведений» Эмманюэля Lochac, в числе которых и несколько страниц «monostiches». Если Вас это еще соблазняет — вышлю. Или же Вы прочно забросили Вашу идею об однострочных стихотворениях?
Возможно, Вам известный тутошний наш молодой коллега Jean Marcade перевел на французский язык полностью «Полутораглазого стрельца» Б. Лившица, со своим пространным введением и обильными примечаниями[252]. Перевод — блестящий. Одного только не достает: объявленного (кажись, под Вашей редакцией?) Финком русского текста Лившица. Вообще — что там делается?
Не стану вас донимать безобразиями, к Вам лично отношения не имеющими. Напр<имер>, назвать иначе опубликованные там не то «избранные», не то «несобранные», не то черт их знает как и что произведения Цветаевой — невозможно.
А это был удобный случай многое ценное опубликовать, теперь, из-за их нерадения, чтобы не сказать хуже, утерянный надолго.
Но вот Лившица и Елену Гуро они в свое время объявили к выходу, при Вашем участии. Два года прошло безрезультатно.
А теперь они объявили Крученых. Ну и прекрасно, не я стану на это жаловаться. Но уже появляется сомнение: а не вылетит ли ими теперь объявленный (под Вашей редакцией) Крученых так же в трубу, как и прежние Лившиц и Гуро?
В чем же там дело? Всяких там формалистов издают весьма усердно. А вот тоже Ваш 3-й том Хлебникова — тоже застрял. Бедная русская литература, не везет ей! «Там» — все возрастающий зажим. Не говоря даже о столько раз обещанном Мандельштаме[253], даже Тэффи «зарезали» больше чем на две трети (в сравнении с объявленным)[254]. Вообще, похоже, что большая, синяя серия «Библиотеки поэта» дышит на ладан. Нельзя же долго отыгрываться только на «сборниках», посвященных Лениным, октябрям и проч.
Но вот и на Западе — то денег нет (а их все меньше — говорят, что ныне американские миллионеры предпочитают фиговые листки для негров нашей литературе[255]), то — даже если кое-какие средства и появляются, то неведомо какие идиоты предпочитают перепечатывать номера «Русской мысли» 1880-х годов Хлебникову, Лившицу, Флоренскому и т. д.
А ведь Вы все-таки один из тех немногих, которые, м. б., смогли бы ударить кулаком по столу так, чтобы это было услышано!
Хотя — Вы такой мягкий, добрый, культурный — стучание кулаком, м. б., не Ваша роль. Только теперь это — необходимо! Tant pis[256]— лучше сейчас пойти против своего естества, чем молчать.
С другой стороны… а вдруг все это канун поворота знаменитой диалектической спирали или как там ее…?
Искренне Вам преданный
Э. Райс
P. S. Если хотите, сосватаю Вас с Маркадэ, стоит.
48
Париж 27-VII-73
Дорогой Владимир Федорович.
Не знаю, как Вас поблагодарить за Вашу английскую статью про Георгия Иванова[257] — и за то, что Вы имели любезность обо мне вспомнить и мне ее прислать, и за то просто, что Вы ее написали, что она есть. Жаль только, что она на иностранном языке и, след<овательно>, в русскую литературу — где ее настоящее место — не войдет. Почти что со всеми Вашими идеями и оценками я всецело согласен и считаю, что было необходимо именно их высказать. Разделяю даже ваше предпочтение Г. Иванову перед Ходасевичем, которое, если мне и случалось устно высказывать в Париже — то неизменно оно вызывало всеобщее возмущение и выдавалось за доказательство того, что «Вы в поэзии ничего не понимаете».
Я, конечно, и не претендую на понимание сей «пресволочнейшей штуковины»[258]— кто ее «понимает»? Но чувствую так же, как и Вы, т. е. что Г. Иванов настоящий и большой, тогда как Ходасевич (при всем моем к нему уважении, как, напр<имер>, и к Баратынскому, заслуги и всевозможные достоинства которого объективно вполне ценю, но жить без него могу) — поэт ли он вообще или же блестящий техник стихослагательства и умный человек, сумевший в XX веке, не впадая в стилизацию и говоря языком своего времени, с легкостью пользоваться четырехстопным ямбом и синтаксисом пушкинской поры? Это все, конечно, очень большие заслуги, но поэзия ли это? Из всех стихотворений меня задело за живое только одно: «Под землей» — из берлинских, где на двух страничках он сумел, дал нам почувствовать трагедию, суть которой высказана не была — но все-таки мы ее чувствуем с большой силой. Это, м. 6., все-таки поэзия. Тогда как остальное… умное издевательство над чем угодно, часто забавное, как, напр<имер>, в «балладе» про безрукого. Но он явно все «пересушил». А это в поэзии грех не меньший, чем наличие сентиментальности и «pompier»[259]. В настоящей поэзии эта проблема просто не должна возникать — напр<имер>, в нашу эпоху, у Хлебникова, Мандельштама, Цветаевой, Заболоцкого и, конечно, Георгия Иванова, несмотря на то что значительная часть его творчества опасно скользит на самой границе «pompier», все-таки никогда с нее не соскальзывая. Это особенно заметно в его ретроспективном сборнике «Отплытие на остров Цитеру», вышедшем в книгоиздательстве «Петрополис» в 1937 году — единственном, который Вы в Вашей статье не рассматриваете. А он важен и несколькими стихотворениями, в никакие другие сборники не вошедшими, и кое-какими поправками в стихотворениях, вошедших в другие сборники, и, наконец, самоотбором автора.
Сомнительной мне кажется также Ваша оценка Вейдле и Терапиано как «deservedly respected critics»[260]. Если Вейдле все-таки хоть как следует культурен и временами и местами не лишен таланта, а также остается автором хоть одной действительно блестящей книжки «Умирание искусства» — несмотря на то что мы с Вами со многими ее положениями бы и не согласились, то Терапиано… или Вы его пачкотню в «Р<усской> м<ысли>» не читаете и верите ему «на слово»? — Так почитайте и увидите…
Но это, конечно, мелочи и «придирки». Ваша статья на редкость содержательна, и ее бы стоило процитировать целиком. На редкость блестящи анализы пяти стихотворений Г. И. Они настолько замечательны, что в ближайшем учебном году я собираюсь представить их моим ученикам в Сорбонне как образец литературного анализа, которым им бы следовало руководиться. Конечно, если на то будет Ваше согласие. К сожалению, не все они знают английский язык. Не менее, если не более, замечателен анализ «Ivanov book by book». В целом структура Вашей статьи дерзновенно оригинальна, но настолько «officiant»[261], что, вероятно, отныне впредь многие последуют Вашему примеру, я первый в том числе.
Случилось побывать в Мюнхене. Встретил там Зивекинга[262]. Говорили о Вас и о других — об Иваске, о Филиппове, о Чижевском. Особенно он жалуется на последнего, обвиняя его в катастрофических опозданиях. Оказывается, из-за него задержаны Гуро, Лившиц, а м. б., и Ваш Крученых[263] (вот кого ожидаем с понятным Вам нетерпением!). Но почему, напр<имер>, Вы против этого положения вещей не протестуете? Ведь к этому сейчас прибавляются неприятности с долларом[264] и с вхождением СССР в число держав, подписавших пресловутое «женевское соглашение»[265], которое вообще может означать, м. б., смерть русской литературы, по крайней мере в ее печатном аспекте! Ваш Бальмонт будто бы, все-таки, несмотря на все эти беды, собирается, в какие-то обозримые сроки, выйти. Дай Боже!
Ну, будьте здоровы, отдыхайте, кланяйтесь Лидии Ивановне, все— таки надеюсь с Вами лично встретиться, если как-нибудь махнете к нам в Европу.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
49
Париж 15-Х-73
Дорогой Владимир Федорович.
На сей раз у меня, м. б., появилась маленькая возможность Вас порадовать: вылетает в США и постарается у Вас побывать сравнительно молодой (лет 40) поэт, недавний эмигрант из СССР Натан Иохельсон. Помимо того что он на редкость хороший человек — даже непонятно, как в советских условиях мог вырасти такой душевно чистый и простодушный человек — он очень интересен как поэт. В его случае советские условия, вместо того чтобы исковеркать его душу, как это бывает чаще всего, выработали у него какое-то сложное, запутанное косноязычие, особенно ярко выражающееся в его стихах. Но, м. б., это стало одним из ингредиентов его поэтического своеобразия. Словесно его стихи интересны во всяком случае. Вот, посмотрите — мне самому было бы очень интересно узнать Ваше мнение. Многого ему еще не хватает — это несомненно, но он выгодно выделяется среди других поэтов, прибывшихиз СССР, и своеобразием (несмотря на некоторое влияние Маяковского, все таки очень по-своему усвоенного), и углубленной, чисто словесной проблематикой, и новизной всего своего облика.
Теперь другое: в Польше вышла книга:
G.N. Petnikow — «Wiersze wybrane», под редакцией Тадеуша Хрущелевского (Chroscielewski)[266], в книжке 250 страниц, интересные фотографии, около ста страниц документального и литературно-критического материала, а также 70 стихотворений в польском переводе, к сожалению, без русского текста.
Петников уже умер, в 1971 году.
Книга содержит выдержки из следующих сборников: «Леторей» (1915), «Поросль солнца» (1918), «Книга Марии» (1920), «Ночные молнии» (1928), «Избранные стихотворения» (1930), «Молодость мира» (1934), «Стихи» (1935), «Книга завещания» (1961), «Открытые страницы» (1963), «Заря» (1967), «Лирика» (1969) и «Утренний свет» (1967), Вам известный. Такая честь ему была оказана, по-видимому, потому, что его мать была полькой и что у него много стихотворений на польские темы. Книжка вышла в Лодзи, о которой Петников написал три стихотворения, в польском переводе приведенные в книжке.
Выходит, что после сборника, который благодаря Вам мне удалось сфотокопировать и за что я продолжаю Вам быть сердечно благодарным, Петников выпустил еще один сборник стихов, «Лирика» (1969)[267]. Увы, никаких уточнений, касательно места издания и даже точного русского заглавия книжка не дает, ибо по мудрому коммунистическому обыкновению в ней нет библиографии (по крайней мере, когда дело касается outsider'ов). Да и заглавия, найденные мною случайно в тексте статей, я вынужден был обратно перевести с польского и поэтому не всегда ручаюсь за их правильность. Во всяком случае, оказывается, что книжек было много (они еще там говорят о каком-то его посмертном сборнике[268], но заглавия не приводят, даже по-польски) и, кроме того, много стихов было напечатано, гл<авным> обр<азом> в провинциальных журналах, и немало осталось в рукописях, никогда нигде не напечатанных. Имеются у него и неизданные воспоминания о футуристах. Жили умер он в Крыму, в местности под названием Старый Крым.
Если хотите, могу Вам книжку заказным послать.
Выходит — имеется огромный, нам с Вами, да и вообще никому на Западе не известный том. Как бы до него добраться…
Как всегда, буду искренне рад любым известиям от Вас. Сердечный привет Лидии Ивановне. Жена Вам кланяется.
Искренне Ваш Э. Райс
P. S. Еще о Иохельсоне: косноязычие его от изобилия и от избытка, а не от невегласия. Впрочем, Вы это, наверное, сами заметите.
50
Париж 21-VII-74
Дорогой Владимир Федорович.
Помнится, Вы одно время искали (в связи, кажется, с Кузминым) дневник Гонкуров. В настоящее время вышло, теоретически полное, издание в 4 томах в изд<ательстве> «Fasquelle», и стоит оно 250 фр<анков>. Если желаете — могу Вам его выслать. За истекшее время, как и Вы, верно, сами видели — ничего достойного упоминания не вышло, ни по ту, ни по нашу сторону рубежа. Если не считать Солженицына — но это особь статья. Вы — один из крайне немногих, от которых все-таки интересное ожидаешь. На Зивекинга я махнул рукой — там полный паралич. Видно, переписка Гиппиус в издании Т. Пахмус — его лебединая песнь[269]. Зато укажу Вам на «Jal-Verlag», Wurzburg, который недавно выпустил репро-друком избранные сочинения Хармса[270]. Там орудуют Сечкарев[271], Kunstmann[272] и, возможно, известный Вам George Gibian[273]. Он преподает, кажись, в Итаке — где-то около Нью-Йорка. Авось, там будет живее. Видно, для американцев африканские негры интереснее.
Но пока Вы есть — я надежды не теряю.
Будьте здоровы.
Искренне Вам преданный
Э. Райс
51
Париж-19-IX-74
Дорогой Владимир Федорович.
Не верите Вы мне — если я Вам не доставил дневника Гонкуров своевременно, когда Вы просили, то это не потому, что медлил или пренебрегал, а потому, что их не было и что вряд ли кто-нибудь другой из живущих во Франции людей смог бы их Вам тогда достать. Разве что чисто случайно. Но и за «случаями» я посильно следил, и подходящего не было. Но я никогда не забываю Ваши просьбы, и поэтому, как только дневник их появился, я Вас немедленно известил.
Мало помог и единственный во Франции специалист по той эпохе — коллега из одного тут провинциального университета (фамилию забыл) — и он ничего не достал и только удивлялся, что некто интересуется такой рухлядью, как Гонкуры. К счастью для них, далеко не рухлядный Кузмин ими интересовался.
Так что и отныне впредь — не стесняйтесь ко мне обращаться с такого рода делами. Только знайте, что фр<анцузский> антиквариат хаотичен — состоит из серии «случаев». Тут нет, как, напр<имер>, в Германии или в Голландии, центральной картотеки объединения антиквариев, где учитывается более или менее все поступающее в продажу, так что можно бывает получить определенный ответ насчет возможности достать такую— то книгу и ее приблизительную цену.
Но в Париже есть два очень сильных антиквария — Urin и Nizet, которые нас нередко выручают.
Особенно силен был Urin, пока старик, его основатель, жил — тот знал решительно все, что делается во Франции, наизусть. Теперь его внук — просто делает свое дело, как всякий другой профессионал, без «фокусов», но все-таки — и он силен.
И в Мюнхене, и в Париже все считают, что Финк — «дохлое дело». Много тут напортил старик Чижевский — из уважения к нему Зивекинг заморозил ряд интересных изданий (Гуро, Сологуб, «Первое свидание» Белого и мн<огие> др<угие>), которые своевременно могли выйти, а теперь — пиши пропало. На Вашем месте я бы не очень верил в выход не только Кузмина, но даже Бальмонта[274]. Ведь разоряющиеся издатели всегда гак делают: каждого автора уверяют, что выйдет именно его книга, а не какая-либо другая. А в результате — историю зарубежной русской книги Вы знаете так же хорошо, как и я.
Поэтому насчет Бальмонта у меня будет к Вам просьба: не рассчитывая на дышащего на ладан Финка, прислать мне заказным машинописный экземпляр. Я его тут сфотокопирую и Вам немедленно верну заказным же пакетом. Пересылка, конечно, на мой счет. Я уверен, что Ваш выбор замечателен и что он откроет новою полосу в посмертной репутации Бальмонта, который до сих пор пребывает в «чистилище» (как, напр<имер>, с некоторых пор и Рильке и Верхарн — по-моему, замечательный, хотя, как и Бальмонт, несколько неровный), куда его загнала горе-парижская школа, во главе с Адамовичем и Терапиано — из зависти?
Благодарю Вас за «Долины сна», которое я знал, только с вариантом в четвертой строчке: «с огромной» вместо вашего «с бездонной высоты». Но и Ваш вариант не хуже.
Если Вы желаете, во избежание злоупотреблений я готов отказаться от любого использования Вашего Бальмонта без Вашего предварительного на то согласия. Разве что для нескольких поздних текстов, с которыми я бы хотел ознакомить моих учеников. Но и то будет сказано, что эти тексты отобраны Вами и что Вы их мне сообщили.
Напрасно Вы так строги с Орловым. Представьте себе нас на его месте: ведь он был вынужден широко помещать и никчемные бальмонтовские «Песни мстителя», и прочую подобную ерунду[275] и сделать обратное Вашему открытию: т. е. представить дело так, будто Бальмонт (конечно!) в эмиграции, вдалеке от животворного марксизма, захирел и завял, и отвести чуть ли не половину книжки для переводов (да и то далеко не для лучших — к чему, напр<имер>, надо было помещать явно неудачное «Слово о полку» вместо интереснейших переложений из Словацкого, полных талантливейшей отсебятины?). Но ведь он мог сделать иначе — иначе ведь даже этот жалкий сборник бы не вышел. А в нем все-таки имеется немало и хороших стихотворений, даже из эмигрантского периода.
Но, конечно, Ваш выбор наверное лучше — Вы и свободны, и это… Вы — по моему скромному мнению, наилучший из русских критиков после Д.П. Мирского. А вкус у Вас лучше, даже, м. б., чем у него.
Так что все-таки надеюсь иметь радость ознакомиться с Вашим выбором, хоть в машинописи или в фотокопии, если нельзя иначе.
Что делаю я? Увы — с французами нельзя иначе: по их представлению преподаватель в университете прежде всего чиновник, обязанный исполнять кучу всевозможных административных обязанностей, пожирающих уйму времени и сил.
К тому же, будучи рождены в России (т. е. не во Франции), мы все подвергаемся постоянному артиллерийскому обстрелу, идущему из все той же администрации, — словом, работать спокойно, делать свое дело — невозможно. Приходится использовать случайные досуги между двумя очередными административными каверзами. Поэтому я и мечтал одно время перейти в США или хоть на край света, чтобы, наконец, засесть как следует за работу. Но теперь, увы, поздно. У меня сильно продвинутая рукопись (на фр<анцузском> языке) по истории русской поэзии начиная с Владимира Соловьева. По мнению некоторых компетентных читателей, знакомых с моей рукописью, выходит довольно интересно, но дело подвигается черепашьим шагом: теперь они взялись за пересмотр всего тутошнего преподавания русского языка, истории и культуры, по указанию с Востока — и нам приходится все время бороться за удержание… академической свободы, якобы все равно сущей. Но они бы хотели, чтобы Маяковский был объявлен величайшим русским поэтом после Пушкина, а о Мандельштаме можете и промолчать, если не желаете о нем говорить.
Но я сдамся последним. Без бою не отдам возможность увлекать молодых людей русской поэзией и мыслью нашего века, что мне иногда удается. Ради этого я готов пожертвовать многим.
Все-таки надеюсь мою историю русск<ой> поэзии дописать, и не только начиная с Владимира Соловьева, а с инока Германа и с Шаховского начала XVII века.
Очень был рад почитать и что-либо Ваше, не только антологии. Особенно если по-русски. Вашей английской работы о Г. Иванове не знаю, а рад бы узнать[276]. Стоит ли над имажинизмом работать?[277] Кажись, они были халтурщиками. Сердечный привет Лидии Ивановне от жены и от меня.
Искренне Вам преданный Э. Райс
52
Париж 29 мая 1978 г.
Дорогой Владимир Федорович.
Давно уже мы с Вами не переписывались, и я знаю, что вина — моя. Но за это время многое переменилось — и я вышел на пенсию, да еще попал в больницу, из которой не знаю, когда выйду и — живьем или не живьем. Но это другое дело. Остался я прежним, т. е. нет у меня другой жизни, чем русская литература — последнее, что я видел на свободе — это третий том Кузмина, который Вы выпускаете вместе с Малмстадом[278]. И Ваша статья там[279], и даже его — весьма содержательны, и я из них узнал немало для меня неизвестного. Но тут-то и произошла остановка и я (временно ли?) потерял возможность и преподавать (последнее, что мне удалось сделать, это рассказать студентам о Вашем третьем томе, с обещанием продолжать, которое я уже не в состоянии был сдержать). Но пока человек жив, он должен продолжать быть собою, а сроки ведь нам все равно неведомы. Так вот, в связи с этим имею к Вам большую просьбу: выслать мне, если он уже вышел, второй том Вашего издания, мне в большинстве случаев совсем не ведомый (большинство текстов первого тома я знаю по предыдущим изданиям). Был бы Вам очень благодарен, если бы это оказалось возможным. Работать (писать, преподавать и т. д.) пока не могу, а будущее знать невозможно. Но пока я жив, хотелось бы быть в курсе дела, а зрелый Кузмин мне не известен, а достать его тут я сейчас никак не могу. Тем более был бы Вам благодарен, если бы Вы смогли уделить мне один экземпляр — пусть поношенный, пусть с изъянами — не важно. Лишь бы текст был полностью. Как Вы поживаете, уверен что Вы готовите что-нибудь интересное, до появления которого я уже, м. б., не доживу. Но и этого знать нельзя. Судьба — штука особенная и капризная, а пути Божии — неисповедимы.
Сердечный привет и наилучшие пожелания Лидии Ивановне и Вам самому.
Ваш Э. Райс
На всякий случай напоминаю Вам мой адрес: Е. RAIS 3 rue des Ecoles 75005 Paris.
Так или иначе — попробуйте написать — если будут силы (их часто не бывает) — отвечу.
53
Париж 14-VII-78
Дорогой Владимир Федорович.
Получил Ваше как нельзя более любезное письмо. Физическое мое состояние — не важно, — почки не работают. Это не смертельно. Бывает, что так можно протянуть несколько лет, даже добрый десяток и больше — но это, конечно, редкие клинические случаи. Вообще же можно рассчитывать на год-два. Если только человеческие расчеты тут уместны. Получил Вашу «Защиту разноударной рифмы»[280]. Благодарю. Если сил хватит — прочту и напишу Вам. Что же касается Кузмина (для стихов делаю исключение — за ними первая очередь), то из второго тома (Вашего) имею только «Нездешние вечера» и «Форель пробивает лед». Все остальное знаю только понаслышке, и если у Финка такие сумасшедшие условия, то весьма был бы Вам благодарен хотя бы за фотокопии остального. Ведь там, наверное, зрелый, самый лучший Кузмин. Там ведь — самое главное. Из Вашего первого тома я никогда не видел только «Осенние озера» — второй его сборник — след<овательно>, намного менее существенный, чем никогда не увиденный материал 2-го тома. Третий том я тут достал, с пространными статьями, Вашей и Малмстада, очень полезными для преподавания — я их уже пустил в ход. Но текстов из второго тома они, конечно, заменить не могут, и я Вас за них (хоть в фотокопии) заранее сердечно благодарю. Больше писать трудно. А было бы о чем. Если бы, паче чаяния, стало лучше (врачи дают мало надежды), то Вы, разумеется, на первой очереди. А пока — будьте здоровы и действуйте. Все, что Вы делаете — очень важно, хорошо и полезно. Сердечный привет Лидии Ивановне.
Искренне Ваш Э. Райс
Если Вам надо — верну фотокопии после использования — сам их тут сфотокопирую. Были бы только силы. Но падать духом — нельзя.
Примечания
1
Чиннов И. Собр. соч.: В 2 т. / Сост., подгот. текста, коммент. О. Кузнецовой, А. Богословского. М.: Согласие, 2002. Т. 2: Стихотворения 1985–1995. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. С. 94.
(обратно)2
См.: Серков А.И. Русское масонство: 1731–2000 гг.: Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. С. 683.
(обратно)3
Из них наибольшую известность получила первая: Anthologie de la poesie russe du XVIII-e siecle a nos jours / Par E. Rais et J. Robert; pref. de S. Fumet. Paris: Bordas, 1947.
(обратно)4
Померанцев К. Памяти Эммануила Райса // Русская мысль. 1981.4 июня. № 3363. С. 13. См. также его воспоминания о Райсе, опубликованные пятью годами позже: Он же. Сквозь смерть: Эммануил Райс // Там же. 1986. 11 июля. № 3629. С. 8.
(обратно)5
Приглушенные голоса: Поэзия за железным занавесом / Сост. и предисл. В. Маркова. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.
(обратно)6
Марков В. О Хлебникове: (Попытка апологии и сопротивления) // Грани. 1954. № 22. С. 126–145.
(обратно)7
Марков В. Мысли о русском футуризме // Новый журнал. 1954. № 38. С. 169–181.
(обратно)8
О термине см.: Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: ОГИ, 2000.
(обратно)9
Описка, на самом деле 1955 г.
(обратно)10
Юркевич Памфил Данилович (1826–1874) — профессор философии Киевской духовной академии (с 1858), затем Московского университета (с 1861), философский наставник B.C. Соловьева, первое отдельное издание его сочинений вышло только в 1990 г. (Юркевич П.Д. Философские произведения. М.: Правда, 1990). Д.И. Писарев (а также Н.Г. Чернышевский, М.А. Антонович) резко полемизировал с Юркевичем, см., напр., статью Писарева «Московские мыслители» (1862).
(обратно)11
Белый А. Стихотворения. Берлин; Пг.; М.: Изд-во Гржебина, 1923.
(обратно)12
Мельников Федор Ефимович (1874–1960) — старовер белокриницкой иерархии, религиозный публицист, философ и ученый, общественный деятель. Подробнее см.: Лоскутов Ю.В. Ф.Е. Мельников как философ: (Штрихи к портрету) // Старообрядчество: История, культура, современность. Материалы VIII Международной научной конференции. М., 2007. Т. 2. С. 49–56. Ф.Е. Мельников издал под общим названием «Опровержение безбожия» ряд выпусков с единой нумерацией. В российских библиотеках представлены лишь некоторые из них: Мельников Ф. Современное безбожие, опровергаемое им самим (Марксизм и атеизм): (Публичный диспут в Сов. России). Chisinau, 1935 (Опровержение безбожия. Вып. 6); Он же. О безбожнических и христианских догматах, таинствах и обрядах: (Двухдневный публичный диспут в Сов. России с большевистскими миссионерами безбожия). Chisinau, 1937 (Опровержение безбожия. Вып. 9). См. также работу: Он же. Безбожие в СССР // Вестник РСХД. 1934. № 7/8.
(обратно)13
Книга под названием «Переписка из двух углов» (Пг.: Алконост, 1921) была написана Вяч. Ивановым и М.О. Гершензоном в форме писем друг к другу не в Ленинграде, а в Москве 17 июня — 19 июля 1920 г., когда они жили в одной комнате «здравницы для переутомленных работников умственного труда».
(обратно)14
Anthologie de la poesie russe du XVIII-e siecle a nos jours / Par E. Rais et J. Robert; pref. de S. Fumet. Paris: Bordas, 1947. Райс послал экземпляр Маркову, и в следующих письмах подробно обсуждался отбор стихов для антологии.
(обратно)15
Неясно, какая работа имеется в виду, возможно, еще одна антология, для которой Райс сделал несколько переводов и написал примечания к ним: Anthologie de l’amour sublime/ Par В. Peret. Paris: Albin Michel, 1956.
(обратно)16
Датируется по содержанию. Упомянутый в письме как готовящийся № 4 «Опытов» вышел в апреле 1955 г. На свое предыдущее письмо от 17 февраля 1955 г. Райс успел получить ответ от Маркова и отвечал ему, скорее всего, в марте.
(обратно)17
Выпускник Литературного института, бывший фронтовик Виктор Аркадьевич Урин (1924–2004) к тому времени успел опубликовать сборник стихов «Весна победителей» (1948), а также поэмы «Трасса юности» (1949) и «Счастью навстречу» (1953). Его именем Марков закончил список поэтов, испытавших влияние футуризма: «Ни один крупный поэт (кроме, может быть, Ахматовой) так или иначе футуризма не избежал и в той или иной мере отдал ему дань. Если сюда прибавить <… > немалое число поэтов второго и третьего разряда, от Кирсанова до молодого малоизвестного послевоенного поэта Виктора Урина, то картина получится еще более полная» (Марков В. Мысли о русском футуризме//Новый журнал. 1954. № 38. С. 179–180).
(обратно)18
Вероятно, речь идет об издании: Русская советская поэзия / Сост. Л. Белов, Н. Сидоренко. М.: ГИХЛ, 1954.
(обратно)19
Из длинного списка заинтересовавших Райса имен наибольшую известность получили Эдуард Аркадьевич Асадов (1923–2004), Константин Яковлевич Ваншенкин (р. 1925), Семен Петрович Гудзенко (1922–1953), Михаил Александрович Дудин (1916–1994), Марк Самойлович Лисянский (1913–1993), Леонид Николаевич Мартынов (1905–1980), Михаил Львович Матусовский (1915–1990), Александр Петрович Межиров (1923–2009). Остальные упомянутые им поэты не столь популярны: Иван Петрович Бауков (1909–1997), Владимир Дмитриевич Замятин (1915–1952), Александр Александрович Коваленков (1911–1971), Осип Яковлевич Колычев (1904–1973), Дмитрий Дмитриевич Осин (1906–1983), Николай Николаевич Сидоренко (1905–1981), Сергей Васильевич Смирнов (1913–1993), Марк Андреевич Соболь (1918–1999), Вадим Константинович Стрельченко (1912–1942), Лев Николаевич Черноморцев (1903–1974), Павел Николаевич Шубин (1914–1951).
(обратно)20
В марте 1955 г. была возобновлена после четырехлетнего перерыва (общие собрания не проводились с 29 июня 1951 г.) деятельность парижского Союза русских писателей и журналистов. На собрании 26 марта 1955 г. председателем Союза был избран Б.К. Зайцев, вице-председателем В.А. Смоленский. Второй Всесоюзный съезд советских писателей, прошедший в Москве 15–26 декабря 1954 г., вызвал в эмиграции идею провести съезд писателей русского зарубежья. Инициаторами съезда выступили руководители радиостанции «Освобождение», см. воспоминания одного из ее сотрудников: «В 1955 году “Свобода” старалась организовать съезд русских писателей зарубежья. Она бы оплатила все расходы, связанные со съездом, как снятие помещения и прочее, но официально ответственными за его организацию были бы русские зарубежные писатели. Насколько помню, Ремизов сослался на болезнь, которая мешала ему принять участие в этом съезде-конференции, в то время как Борис Зайцев, Георгий Адамович и Одоевцева согласились» (Мирковский Б. Чучи — дитя обалдевшей вдовы. Донецк: Восточный издательский дом, 2001. С. 67). Съезд долго планировался и обсуждался, однако так и не состоялся.
(обратно)21
Ширинский-Шихматов Юрий (Георгий) Алексеевич, князь (1890–1942) — общественно-политический деятель, публицист, у частник Первой мировой войны и Белого движения. С начала 1920-х гг. в эмиграции в Париже, лидер движения национал- максималистов, издатель журнала «Утверждения» (1931–1932), один из руководителей Объединения пореволюционных течений, организатор парижского Пореволюционного клуба, в 1941 г. арестован нацистами, погиб в концлагере.
(обратно)22
Чжуан-цзы.
(обратно)23
Бобринский (Бобринской) Петр Андреевич, граф (1893–1962) — участник Первой мировой и Гражданской войн, с 1920 г. в эмиграции в Константинополе, затем в Париже. Журналист, литератор, участник поэтической группы «Перекресток» (с 1928), секретарь редакции газеты «Возрождение» (с 1930), сотрудник «Иллюстрированной России», «Чисел», позже «Мостов», «Вестника РСХД». Райс упоминает брошюру: Бобринской П. Старчик Григорий Сковорода: Жизнь и учение. Париж, 1929.
(обратно)24
В 1938 г. Н.Д. Татищев опубликовал часть дневниковых записей Б.Ю. Поплавского отдельной книгой (Поплавский Б. Из дневников: 1928–1935. Париж: Товарищество объединенных издателей, 1938). Подготавливаемое Райсом издание не осуществилось. Гораздо позже были опубликованы и другие части дневника, наиболее значительные, в кн.: Поплавский Б. Неизданное: Дневники, статьи, стихи, письма / Сост. и коммент. А. Богословского и Е. Менегальдо. М.: Христианское издательство, 1996. С. 91–238; Вишневский А. Перехваченные письма: Роман-коллаж. М.: ОГИ, 2001.
(обратно)25
«Идеи порядка» («The Ideas of Order», 1936) — второй сборник стихов американского поэта-модерниста немецко-голландского происхождения Уоллеса Стивенса; (1879–1955).
(обратно)26
Хауреки-и-Агилар (Jaurequi у Aguilar) Хуан Мартинес де (1583–1641) — испанский поэт севильской школы.
(обратно)27
Аргихо Хуан де (1567–1623) — испанский поэт, учитель главы севильской школы Фернандо де Эррера.
(обратно)28
Эспиноса Педро де (1578–1650) — испанский писатель, священник, литературный противник Луиса де Гонгоры.
(обратно)29
Бутенс Питер Корнелис 1870–1943); Клоос Виллем Йоханнес Теодорус (1859–1938); Роланд-Холст Адриан (1888–1976), Марслшн Хендрик (1899–1940) — нидерландские поэты.
(обратно)30
Блага (Blaga) Лучиан (1895–1961) — румынский поэт и философ.
(обратно)31
Аргези (Arghezi) Тудор (наст, имя и фам. Ион Теодореску; 1880–1967) — один из крупнейших румынских поэтов XX в., член Румынской академии.
(обратно)32
Барбу (Barbu) Ион (1895–1961) — румынский математик и поэт, профессор Бухарестского университета (с 1942).
(обратно)33
Лагерквист (Lagerkvist) Пер (1891–1974) — шведский писатель, лауреат Нобелевской премии (1951).
(обратно)34
Экелёф (Ekelof) Гуннар (1907–1968) — шведский поэт-модернист и писатель, член Шведской академии (1958).
(обратно)35
Содергран (Sodergran) Эдит (1892–1923) — финско-шведская поэтесса, родившаяся и выросшая в Петербурге, одна из первых представительниц модернизма в странах Северной Европы, находившаяся под влиянием французского символизма, немецкого экспрессионизма и русского футуризма.
(обратно)36
Жув (Jouve) Жан-Пьер (1887–1976) — французский писатель, поэт и критик.
(обратно)37
Арто (Artaud) Антонен (наст, имя Антуан Мари Жозеф; 1896–1948) — французский драматург, поэт, актер и режиссер.
(обратно)38
Шазаль Малькольм де (1902–1981) — близкий к сюрреализму поэте острова Маврикий, писавший на французском языке.
(обратно)39
Стефанович Олекса (1899–1970) — украинский поэт. С 1922 г. в эмиграции в Чехословакии, с 1944 г. в Германии, с 1949 г. в США.
(обратно)40
Татищев Н.Д. Сновидение Ф. Гельдерлина // Грани. 1955. № 24. С. 33–54.
(обратно)41
Райс имеет в виду нью-йоркский журнал «Опыты», который довоенные литераторы нередко по старой памяти называли «Числами». В нем вскоре и появилась упомянутая поэма без названия (Марков В. «Часы холодной смерти…» // Опыты. 1955. № 4. С. 11–20). Обещанный разбор поэмы не предназначался для печати. В отличие от Маркова, неоднократно публиковавшего в «Опытах» стихи и статьи, Райс в этом журнале так ни разу и не напечатался.
(обратно)42
Марков В. О поэтах и о зверях // Опыты. 1955. № 5. С. 68–80. Статья была посвящена животным в стихах С.А. Есенина и В.В. Маяковского.
(обратно)43
Судя по всему, речь идет об альманахе «Литературный современник» (Мюнхен, 1954), главным редактором которого был Б.А. Яковлев (наст, имя и фам. Николай Александрович Троицкий; р. 1903), директор мюнхенского Института по изучению истории и культуры СССР (в 1950–1955). Марков опубликовал в нем подборку записей и афоризмов: Марков В. Из дневника «нового» эмигранта //Литературный современник: Альманах. Мюнхен, 1954. С. 201–205.
(обратно)44
Публикация Маркова в альманахе открывалась записями: «В критике больше нужды, чем в стихах и прозе. <…> Критика не вторична. Это наивысшее воплощение встречного творческого усилия» (Марков В. Из дневника «нового» эмигранта. С. 201).
(обратно)45
По датам и названию можно предположить, что речь идет об издании: Пушкин-критик/ Сост. и примеч. Н.В. Богословского. М.: ГИХЛ, 1950. Сборник впрямь был составлен добротно, поскольку являлся вариантом юбилейного издания: Пушкин-критик: Пушкин о литературе: К столетию со дня гибели А.С. Пушкина. 1837–1937 / Под общ. ред. Л.Б. Каменева; подбор текстов, коммент. и вступ. ст. Н.В. Богословского. М.; Л.: Академия, 1934.
(обратно)46
Ильин В.Н. Столп злобы богопротивной // Евразийский временник. Берлин, 1925. Кн. 4. С. 155–223.
(обратно)47
См. об этом специальную работу: Перхин В.В. О рецензиях Д.П. Святополк-Мирского в газете «Евразия» // Русский литературный портрет и рецензия: Концепции и поэтика. СПб., 2000. С. 100–105.
(обратно)48
История русской литературы Святополк-Мирского была написана на английском языке и выпущена в двух книгах: Contemporary Russian Literature, 1881–1925. London: George Routledge; New York: Alfred Knopf, 1926; A History of Russian Literature from the earliest Times to the Death ofDostoyevsky (1881). London: George Routledge; New York: Alfred Knopf 1927. Неоднократно переиздавалась, переводилась на другие языки и многими признается лучшей историей русской литературы, которая когда-либо выходила. Подробнее см.: D.S. Mirsky: Profile critique et bibliographique / Etablie par N. Lavroukine et L. Tchertkov; avec la collab. de C. Robert. Paris: Institut d eludes slaves, 1980; Smith G.S. D.S. Mirsky: A Russian-English Life, 1890–1939. Oxford: Oxford Univ. Press, 2000. На русский язык была переведена относительно недавно: Мирский Д.С. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год / Пер. с англ. Р. Зернова. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. В последние годы этот перевод также несколько раз переиздавался.
(обратно)49
Райс называет эти статьи, поскольку они были упомянуты Марковым: «Составлял ли кто-нибудь антологию лучших критических “эссеев”? Туда должны войти “Буря и натиск” О. Мандельштама и “О поколении, растратившем своих поэтов” Р. Якобсона» (Марков В. Из дневника «нового» эмигранта. С. 201). Статья О.Э. Мандельштама «Буря и натиск» была опубликована в № 1 журнала «Русское искусство» за 1923 г., статья P.O. Якобсона «О поколении, растратившем своих поэтов» — в брошюре «Смерть Владимира Маяковского» (Берлин: Petropolis, 1931. С. 5–46).
(обратно)50
Марков не принимал участия в подготовке этого издания: Мандельштам О. Собр. соч. / Под ред. и со вступ. ст. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.
(обратно)51
Переписку Николая Владимировича Станкевича (1813–1840) впервые собрал и опубликовал П.В. Анненков: Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография, написанная П.В. Анненковым. М., 1857. Позже А.И. Станкевич выпустил другое издание: Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840. М., 1914. Подробнее см.: Матвеева О.И. Переписка Н.В. Станкевича как явление литературы. Дисс… канд. филол. наук. Самара, 2004; Коневец С.Н. Эпистолярное наследие Н.В. Станкевича в контексте литературного движения 1830-х годов XIX века: Дисс…. канд. филол. наук. Саратов, 2005.
(обратно)52
Эта мечта Райса осуществилась (да и то частично) лишь семнадцатью годами позже: Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp, by T. Pachmuss. Miinchen: Wilhelm Fink Verl., 1972.
(обратно)53
Произведения Л.А. Чарской в Издательстве имени Чехова не выходили, а книги упомянутых Райсом авторов и впрямь были выпущены: Чириков Е. Юность: Роман / Предисл. Л.М. Камышникова. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955; Данилевский Г.П. Сожженная Москва: Исторический роман. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1954.
(обратно)54
«Поколение наших литературных отцов жило предчувствиями. Символисты ожидали “страшного”, и оно сбылось. Наше поколение почему-то не “глядит на будущее с боязнью”. Несмотря на бомбы (атомные, водородные), на "холодную” войну — нет предчувствия конца. Объяснение может быть трояким: 1. Гангрена. Ужас без конца отупил. 2. Никакой эсхатологии не будет: а) потому что большевизм рухнет неожиданно, быстро и фарсово; б) потому что большевизм постепенно перейдет в нечто более или менее приемлемое миру и все успокоится. Кроме кучки людей с совестью, но без влияния» (Марков В. Из дневника «нового» эмигранта. С. 202).
(обратно)55
В общих чертах (фр.).
(обратно)56
Клюев Н. Четвертый Рим. Пб.: Эпоха, 1922. Однако в 1954 г. Издательство имени Чехова выпустило солидный двухтомник Клюева под редакцией Б.А. Филиппова.
(обратно)57
Переписанные на машинке копии стихов Н.А. Заболоцкого Марков получил для своей антологии от Г.П. Струве, которому, в свою очередь, прислал их Б.А. Филиппов, см. переписку Маркова с Г.П. Струве осенью 1952 г. (Hoover. Gleb Struve Papers; Собрание Жоржа Шерона). Судя по описанию, это были стихотворения, предназначенные для сборника, который Филиппов намеревался издать. См. письмо Струве Маркову: «Я получил от Филиппова (видите, как он обязателен со мной) переписанные на машинке стихотворения Заболоцкого. Туда входят: СТОЛБЦЫ — ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ — ЛОДЕЙНИКОВ — ВТОРАЯ КНИГА — СТИХОТВОРЕНИЯ 1948 — Библиографическая справка и статья Александра Котлина “Поэт эпохи” (последнюю он, впрочем, пока не прислал мне). Всего вместе около 80 страниц (без статьи). Я так понимаю, что Филиппов хотел бы этот сборник издать, но не знаю, возьмет ли его Чеховское изд<ательст>во» (Собрание Жоржа Шерона). Копия рукописи хранится в библиотеке Сиракузского университета, в картотеке она описана как книга с предисловием Котлина, и исследователи иногда упоминают о ней как о вышедшем издании. Статья А. Котлина (наст, имя и фам. Александр Николаевич Егунов; 1905–1980) под названием «Поэт эпохи» была опубликована в дипийском журнале, изданном на ротаторе: Начало: Литературно-художественный и научно-популярный сборник. № 1. Фишбек: Изд-во Культпросветотдела лагеря Фишбек, Британская зона, 1947.
(обратно)58
Чурилин Тихон Васильевич (1885–1946) — поэт, близкий к футуристам. Страдал психическим расстройством, неоднократно подолгу находился в психиатрических лечебницах (в 1910–1912, 1927–1931, 1945–1946). Сборники стихов, подготовленные им после революции, не дошли до читателя.
(обратно)59
Ганин Алексей Алексеевич (1893–1925) — поэт есенинского круга. Осенью 1924 г. арестован по обвинению в принадлежности к «Ордену русских фашистов» и расстрелян.
(обратно)60
Орешин Петр Васильевич (1887–1938) — поэт есенинского круга. В 1937 г. арестован по обвинению в террористической деятельности и расстрелян.
(обратно)61
Петников Григорий Николаевич (1894–1971) — поэт-футурист, переводчик, сотрудник издательства «Academia» (в 1925–1931). С конца 1950-х гг. жил в Крыму.
(обратно)62
За этот период С.И. Кирсанов выпустил три десятка книг, но в эмиграции, действительно, известность получила лишь «Золушка» (М.: Гослитиздат, 1935), вызвавшая одобрение Г.В. Адамовича, откликнувшегося на журнальную публикацию поэмы в № 1 «Нового мира» за 1935 г. (Адамович Г. «Золушка» // Последние новости. 1935. 16 мая. № 5166. С. 2).
(обратно)63
Фиолетов Анатолий (наст, имя и фам. Натан Беньяминович Шор; 1897–1918) — сотрудник уголовного розыска в Одессе, поэт, участник объединений «Коллектив поэтов», «Зеленая лампа» и др. Выпустил единственный сборник стихов «Зеленые агаты: Поэзы» (Одесса: Изд-во С. Силвера, 1914). Погиб в стычке с бандитами. См. также: Фиолетов А. О лошадях простого звания. Одесса, 2000.
(обратно)64
Липскеров Константин Абрамович (1889–1954) — поэт, переводчик, драматург, выпустил несколько книг, с конца 1920-х гг. занимался только переводами.
(обратно)65
Доронин Иван Иванович (1900–1978) — поэт, называвший себя «урбанистом деревни», автор нескольких сборников стихов, наиболее активно печатался в 1920-х — начале 1930-х гг.
(обратно)66
Семенов Леонид Дмитриевич (1880–1917) — поэт, прозаик, религиозный пропагандист, внук знаменитого путешественника П.П. Семенова-Тян-Шанского. В начале 1900-х гг. революционер, затем толстовец, после 1905 г. стал странником. Убит бандитами. При жизни выпустил единственную поэтическую книгу «Собрание стихотворений» (СПб.: Изд. «Содружества», 1905). Подробнее см.: Семенов Л. Стихотворения. Проза / Изд. подгот. B.C. Баевский. М.: Наука, 2007.
(обратно)67
«Почему так много воспоминаний о поэтах и так мало интересных переоценок их творчества?» (Марков В. Из дневника «нового» эмигранта. С. 201).
(обратно)68
Дрентельн Владимир Юльевич (Юрьевич) (1858–1911) — офицер, выпустивший единственный сборник «Стихотворения» (СПб., 1889), скончался от тяжелой психической болезни. Возможно, Райс обратил внимание на его стихи, обнаружив их в антологии П. и В. Перцовых «Молодая поэзия» (СПб., 1895).
(обратно)69
Бутурлин Петр Дмитриевич, граф (1859–1895) — дипломат, сотрудник русского посольства в Риме, затем в Париже, писал стихи на английском и русском языках, выпустил несколько сборников.
(обратно)70
Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937) — преподаватель казанского училища, с 1911 г. профессор классической филологии Казанского университета, поэт и переводчик с греческого и латинского. Подробнее см.: Шмелева А.М. Семья казанских ученых Шестаковых и развитие антиковедения и византиноведения в России (40-е годы XIX в. — 30-е годы XX в.). Автореф. дисс…. канд. ист. наук. Казань, 2005.
(обратно)71
Не удалось найти данных.
(обратно)72
В библиографии Сергея Григорьевича Острового (1911–2005) нет такого сборника стихов, см.: Русские писатели. Поэты: Биобиблиографический указатель. СПб., 1994. Т. 17. С. 140–198. Возможно, Райс перепутал, имея в виду книгу Казимира Леонидовича Лисовского (1919–1979), жившего после войны в Новосибирске (где родился и Остро- вой): Лисовский К. Город моей юности: Стихи. Красноярск: Краевое изд-во, 1950.
(обратно)73
Шаблонный (фр.).
(обратно)74
Зеров Николай Константинович (1890–1937) — украинский поэт-неоклассик, литературовед, переводчик, с 1933 г. профессор Киевского университета. В 1935 г. арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, отправлен на Соловки. После пересмотра дела в 1937 г. расстрелян.
(обратно)75
Филиппович Павел (Павло) Петрович (1891–1937) — украинский поэт-неоклассик. С 1920 г. приват-доцент (позже профессор) Киевского университета. Арестован в 1935 г. как участник контрреволюционной националистической организации, дело объединили с делом группы Зерова. Осужден на 10 лет лагерей и отправлен на Соловки. После пересмотра дела в 1937 г. расстрелян.
(обратно)76
Неумолкающая птица, / Но курс был выверен и тверд, / Алмазам тщетным не светиться / Сквозь ночь, отчаянье и норд (пер. Р. Дубровкина).
(обратно)77
Из эклоги С. Малларме «Послеполуденный отдых фавна» («L'apres-midi dun faune»; 1876). В переводе P.M. Дубровкина: «…тягучий / Томительный поток негаснущих созвучий».
(обратно)78
Неточная цитата из стихотворения Н.М. Языкова «К Чаадаеву» («Вполне чужда тебе Россия…») (1844). У Языкова: «Но ты стоишь, плешивый идол / Строптивых душ и слабых жен!»
(обратно)79
Райс принимал участие в подготовке издания: Boris Pasternak: Une etude / ParY. Berger, choix de textes, trad, inedites, portraits, documents, bibliographic. Paris: P. Seghers, 1958.
(обратно)80
Результаты парламентских выборов во Франции, состоявшихся в январе 1956 г., подтвердили опасения Райса. Французская коммунистическая партия оказалась на первом месте, на втором Социалистическая партия, объединившаяся с левыми радикалами в «республиканский фронт». Главой правительства стал генеральный секретарь Социалистической партии Ги Молле, а его заместителем — лидер левых радикалов Мендес-Франс.
(обратно)81
Дюкло (Duclos) Жак (1896–1975) — французский политический деятель, один из руководителей Французской коммунистической партии, член ЦК (с 1926), член Политбюро (с 1931), секретарь ЦК (в 1931–1964), депутат Национального собрания (в 1946–1958).
(обратно)82
Мендес-Франс (Mendes France) Пьер (1907–1982) — французский политический деятель, занимавший важные государственные посты в Третьей и Четвертой республике, заместитель председателя партии радикалов (в 1955–1957), министр иностранных дел и премьер-министр в 1954–1955 гг., с февраля 1956 г. государственный министр в правительстве Ги Молле.
(обратно)83
Имеются в виду воспоминания Маркова о студенческих годах в советском Ленинграде «Et ego in Arcadia» (Новый журнал. 1955. № 42. С. 164–187).
(обратно)84
Здесь и далее Райс приводит строки из поэмы без названия: Марков В. «Часы холодной смерти…»// Опыты. 1955.№ 4. С. 6–20.
(обратно)85
«Песни висельника» («Galgenlieder», 1905) — сборник стихов немецкого лирика Христиана Моргенштерна (1871–1914).
(обратно)86
Райс по памяти приводит вариант стихотворения В. Хлебникова «Мне мало надо…» (1912,1922). У Хлебникова: «Мне мало надо! / Краюшку хлеба / И каплю молока. / Да это небо, / Да эти облака!»
(обратно)87
Скрипка Энгра (фр.). Выражение вошло во французский язык синонимом слов «хобби» или «любительство» — игрой на скрипке страстно увлекался художник Жан Огюст Доминик Энгр (Ingres; 1780–1867), не достигший в этом такого же уровня мастерства, что в живописи. Ман Рэй (Man Ray; наст, имя и фам. Эммануил Радницкий, Radnitzky; 1890–1976) назвал так одну из своих самых известных работ (1924).
(обратно)88
Райс приводит имена видных американских критиков XX в.: Аллен Тэйт (1899–1979); Рэндалл Джаррел (1914–1965), Ричард Блэкмур (1904–1965); Айвор Винтер (1900–1968); Фрэнсис Отто Матиссен (1902–1950); Джон Пил Бишоп (1892–1944).
(обратно)89
Безотчетно (фр.).
(обратно)90
В общих чертах (фр.).
(обратно)91
Из стихотворения С.А. Есенина «Небесный барабанщик» (1918).
(обратно)92
Блэкмур Ричард Палмер (1904–1965) — американский поэт, литературовед и критик.
(обратно)93
«Основным и постоянным подводным течением поэзии Есенина, дающим окраску всему его творчеству, является тема смерти. Эта тема не мучила его своей метафизикой, она просто сидела в нем, вопреки всем его идеям, стремлениям и привычкам. <… > Голос смерти звучит от первого сборника до последней поэмы, и искать у Есенина скифского космизма, имажинизма, цыганщины, Руси, антибольшевизма, деревни — значит искать несущественного или несуществующего» (Марков В. Легенда о Есенине // Грани. 1955. № 25. С. 156).
(обратно)94
Нэш Фредерик Огден (1902–1971) — американский поэт-юморист, мастер литературной пародии, поэтического фельетона и стихотворной сатиры.
(обратно)95
«Вечная женственность» (нем.); стихотворение (1898) B.C. Соловьева.
(обратно)96
Поэма Н А. Заболоцкого «Торжество земледелия» была опубликована не в «Новом мире», а в «Звезде» (1929. № 10. С. 54–57).
(обратно)97
Избранное Н.А. Заболоцкого вышло в СССР уже на следующий год (Заболоцкий Н. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1957), за ним последовали еще несколько книг, а вскоре появилось и научное издание в большой серии «Библиотеки поэта» (Заболоцкий Н.А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А.М. Туркова. М.; Л.: Советский писатель, 1965), в котором корпус стихов Заболоцкого был воспроизведен согласно завещанию автора.
(обратно)98
Речь идет о первом литературно-художественном сборнике московских писателей «Литературная Москва» (М.:ГИХЛ, 1956).
(обратно)99
Приспособлены (нем.).
(обратно)100
Из стихотворения Н.А. Некрасова «Внимая ужасам войны…» (1855).
(обратно)101
Марков В. Заметки на полях // Опыты. 1956. № 6. С. 62–66. Наибольшее возмущение вызвали два пассажа Маркова; в первом, посвященном спору о «незамеченном поколении», была задета Е.Д. Кускова: «Г-жа Кускова (которую в свое время воспел Маяковский) входе дискуссии высказалась на тему, почему-то до сих пор очень популярную в некоторых окололитературных кругах — о “понятной” и “непонятной” поэзии. Пример был взят из той же многострадальной Цветаевой — стихи совершенно понятные, даже ребенку, и вдобавок еще очень хорошие. Я их не знал и пользуюсь случаем поблагодарить Кускову за информацию»; во втором — Чернышевский и вместе с ним вся «общественность»: «Глава о Чернышевском в “Даре” Набокова — роскошь! Пусть это несправедливо, но все ведь заждались хорошей оплеухи “общественной” России» (С. 65). «Заметки на полях» вызвали бурный, совершенно несоразмерный с ожидаемым резонанс. Самые маститые присяжные критики эмиграции — каждый по своей причине — обратили внимание на Маркова, чему он был совсем не рад. 2 июня 1956 г. Г.П. Струве писал Маркову из Парижа: «На Вашу статью получил крайне возмущенный отклик от М.В. Вишняка. Он в совершенном ужасе, просит меня даже по дружбе что-то “сделать” с Вами, пробрать или проучить. Я не могу, поскольку не знаю, в чем дело. Но очевидно речь идет о чем-то недопустимом, что Вы написали по адресу Е.Д. Кусковой (кстати, я с этой замечательнейшей 87-летней женщиной провел несколько интереснейших вечеров в Женеве — я ведь специально для нее туда ездил), и еще более “недопустимой фразе о Чернышевском а ргоро сиринского “Дара”. Судя по приведенной Вишняком цитате, фраза действительно малоуместная. <…>…Боюсь, что в том, на что указывает Вишняк, сказалось не раз замеченное мною у Вас озорство и отсутствие “решпекта” к вещам, которые заслуживают иного» (Собрание Жоржа Шерона). Марков ответил Струве 8 июня 1956 г.: «Получил Ваше письмо с нотацией — поделом мне! Написал Вишняку тоже о том, что ошибку сознаю. Некоторые оправдания у меня есть (не снимающие вины, конечно). Писал я все это давно, когда еще шла газетная дискуссия между Кусковой и Яновским. Теперь же все уже читали саму книгу Варшавского, гораздо более широкую по содержанию, и мои замечания кажутся особенно легковесными и неуместными. К тому же Иваск сильно “обработал” все (вот когда прочитаете, услышите, что звучит местами совсем как Иваск — а значит, и усиляет впечатление развязного легкомыслия. <… > Еще одно оправдание: я это писал “из-под палки”, Иваск очень просил что-нибудь для номера, а у меня ничего готового не было. Можно, конечно, возразить, что скверного немало пишут сейчас на страницах нашей печати. Откуда мне такая честь — что все возмутились? Тем более что вещь-то короткая, проходная, “вторичная”, ни на что не претендующая. <… > Очевидно, придется наложить на себя какой-то “обет молчания”» (Hoover. Gleb Struve Papers. Box 105. Folder 9).
Ознакомившись с «Опытами», Струве написал Маркову 15 июня 1956 г.: «Я прочел ту статью, которую Вам инкриминировал Вишняк, и нашел, что “не так страшен черт, как его малютки” — не так уже велик Ваш грех. <… > У Вас мне не понравились “афоризмы” в конце статьи — они какие-то дешевые и Вас недостойные. Но все-таки это не значит, что Вы должны замолчать, как Вы пишете в письме, которое я нашел здесь» (Собрание Жоржа Шерона).
17 июня 1956 г. Ю.П. Иваск сообщил Маркову о развитии сюжета: «10-го было собрание “Опытов”. Что там творилось… Сперва о Вас. Разговоров было много. Все признали, что Марков талантлив, но два часа обсуждали Вашу оплеуху и один час пенис Поплавского. <… > На меня большое впечатление произвел Вишняк — еще недавно был он моложавый самодовольный адвокат-социалист, а тут он явился рыдающим Иеремией. Я постарался его успокоить. Что делать — Чернышевский для него святой, как Никола для бабы. Это вера. Ульянов и Коряков сказали, что Ваши заметки не на художественной высоте, но вместе с Завалишиным отмежевались решительно от Чернышевского и Вишняка. Но Варшавский и я, мы поняли Марка Веньяминовича, и я с ним еще долго беседовал по телефону. Ваша оплеуха по сути и по контексту добродушна. Но теперь я вижу, что надо было и оплеуху, и пенис (Поплавского) опустить, чтобы не дразнить гусей. Кое-кто грозил почтенной доброй издательнице и мне американской тюрьмой! <…> Уравновешенный Карпович говорил как всегда хорошо и умеренно, хотя и был против оплеухи. Между прочим, Завалишин сказал, что Аронсон импотент, и я, как председатель, его остановил. <…> Не принимайте всего этого так горячо. Адамович Вас ценит. Вишняка мы успокоим. Таланты Ваши признаны» (Собрание Жоржа Шерона).
22 июня 1956 г. Марков пересказал Струве письмо Иваска, добавив: «С Вишняком у нас полный мир. Я написал ему “милое” письмо, в котором не настаивал на том, что мои заметки “шедевр”, называл их “скверными” (что в конце концов и недалеко от истины) — и это его обезоружило» (Hoover. Gleb Struve Papers. Box 105. Folder 9). Струве в свою очередь сообщил Маркову из Лондона 24 июня 1956 г.: «Вчера получил письмо от Вишняка. Он пишет, что, подобно тому как они несколько месяцев “жили под знаком” или “в эпоху” Варшавского, так целая неделя прошла у них “под знаком” В. Маркова. Описывает вкратце собрание, посвященное “Опытам”, на котором он выступал против Вас (и Карпович тоже)» (Собрание Жоржа Шерона). В полемику с Марковым вступил и В.В. Вейдле в статье «О спорном и бесспорном», обратив внимание на его высказывания об «отцах и детях в эмиграции»: «О поколениях в этой статье рассуждает он, как мне кажется, совсем неправильно. <…>…В том-то и беда, что никакой борьбы литературных поколений нив России, нив эмиграции не происходит. Когда Марков полемизирует — с Г.В. Адамовичем, например, — он ищет точку опоры не в несуществующих литературных позициях своего поколения, а либо в своих частных взглядах, либо в литературных позициях одной из частей того поколения, к другой части которого принадлежит и сам Адамович. Когда же Марков пишет о “поколении отцов”, что оно, “зачитываясь Михайловским и Марксом, не имело времени читать Еврипида и Расина”, он забывает, что писатели у нас, даже и в конце прошлого века, вовсе не так уж усердствовали по части Маркса и Михайловского, тогда как тот же Анненский, например, Еврипида, во всяком случае, читал, да и Расина тоже, чего я не решусь утверждать ни о Хлебникове, ни о Маяковском, ни о многих из тех, кому они годились бы в отцы. Дело тут не в поколениях; дело в том, что в эмиграции, именно вследствие неустроенности, да и относительной бедности ее литературной жизни, постоянно велись и ведутся споры не о спорном, не о том, что заслуживало бы спора, а о бесспорном» (Опыты. 1956. № 7. С. 42–43).
Георгий Иванов, прочитавший № 6 «Опытов» с большим опозданием, ободрил Маркова в письме от 6 октября 1957 г.: «Обмолвка о Чернышевском “роскошь” сама по себе — недаром она так искренно возмутила всех Вишняков эмиграции» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955–1958 / Mit einer Einl. hrsg. von H. Rothe. Koln; Weimar; Wien: Bohlau Verl., 1994. S. 79).
Отзыв Адамовича о № 6 «Опытов» был опубликован в «Новом русском слове» (1956. 3 июня. № 15681. С. 8).
(обратно)102
Как Райс ни уговаривал Маркова, сотрудничать с «Социалистическим вестником» тот не стал.
(обратно)103
Статья в результате не попала ни в «Опыты», ни в «Грани», ни в «Новый журнал», куда Марков ее также посылал, но Карпович, как и Иваск, не захотел ее напечатать: Марков В. О большой форме // Мосты. 1958. № 1.С. 174–178.
(обратно)104
Георгий Иванов дважды задел Адамовича в «Возрождении»: Иванов Г. Конец Адамовича // Возрождение. 1950. № 11. С. 179–186; Он же. «Новоселье» на новоселье // Там же. С. 187–188.
(обратно)105
Адамович Г. Моцарт //Новое русское слово. 1956.20 мая. № 15667. С. 3.
(обратно)106
Тыркова-Вильямс А. Жизнь Пушкина: В 2 т. Париж: YMCA-Press, 1929/Г. 1; 1948. Т.2.
(обратно)107
Райс всерьез и надолго заинтересовался поэзией Н.А. Заболоцкого, много лет спустя написал предисловие к его избранному: Заболоцкий Н. Стихотворения / Под общ. ред. Г.П. Струве, Б.А. Филиппова; вступ. ст. А. Раннита, Б.А. Филиппова, Э. Райса. Washington; New York: Inter-Language Literary Associates, 1965. Позже опубликовал статью о нем: Райс Э. О поэзии Николая Заболоцкого // Грани. 1976. № 102. С. 121–146.
(обратно)108
Антология русской советской поэзии 1917–1957 гг.: В 2 т. М.: ГИХЛ, 1957.
(обратно)109
Вероятно, имеются в виду поэты Петр Андреевич Семынин (1909–1983) и Давид Самуилович Самойлов (наст. фам. Кауфман; 1920–1990).
(обратно)110
Сборник Павла Васильева уже был выпущен (Васильев П. Избранные стихотворения / Предисл. К. Зелинского; подгот. текста Е.А. Вяловой и П. Вячеславова. М.: Гослитиздат, 1957), а М.И. Цветаевой — задержался на несколько лет: Цветаева М. Избранное / Предисл., сост. и подгот. текста Вл. Н. Орлова. М.: Гослитиздат, 1961.
(обратно)111
Заболоцкий Н. Стихотворения. М.: Гослитиздат, 1957.
(обратно)112
К этому времени у Бориса Абрамовича Слуцкого (1919–1986) вышли две книги стихов, у Вадима Константиновича Стрельченко (1912–1943) — пять, ау Дмитрия Васильевича Петровского (1892–1955) — полтора десятка; какие из них были доступны в Париже, трудно сказать.
(обратно)113
Мартынов А. Стихи. М.: Молодая гвардия, 1957.
(обратно)114
Он же. Лукоморье: Стихи. М.: Советский писатель, 1945.
(обратно)115
Речь идет о публикации, которая печаталась приложениями с отдельной пагинацией в нескольких номерах: Неизданные письма А.И. Герцена к Н.И. и Т.А. Астраковым/ К печати подгот. Л.Л. Домгер // Новый журнал. 1956–1957. № 46–51. С. 1–176 (на титульном листе в № 46: Нью-Йорк: Изд-во «Нового журнала», 1957).
(обратно)116
Это же предположение высказал Г.П. Струве в письме В.Ф. Маркову 17 июня 1958 г.: «М. б., вы уже видели, а если нет, то посмотрите сейчас же у Вас в библиотеке «The Times Literary Supplement» (London) от 30 мая (я сегодня его получил). Там под названием “Soviet Poetry” большая “front page” статья по поводу недавней советской антологии, Вашей антологии. Ахматовой и Мандельштама в чеховских изданиях и Пастернака в переводе Рипеллино (включая стихи из “Д<окто>ра Живаго”). Не знаю, кто мог это написать, но вероятно Costello. TLS охотно печатает письма в редакцию по поводу напечатанного у них (в том числе и от задетых авторов), и мне кажется, Вымогай бы написать такое письмо, имеющее некоторый общий смысл. Упрек Вам в “timidity” «застенчивость. — англ.> основан, конечно, на недоразумении, как и кое-что еще, что говорится по поводу Вашей антологии» (Собрание Жоржа Шерона).
(обратно)117
Марков долго колебался, вступать ли в полемику, и писал Г.П. Струве 27 июня 1958 г.: «Все не знаю, отвечать ли TLS или нет. Сперва хотел, потом раздумал, т. к. он прав: я почти не включал вещей, одобряющих революцию, потому что почти все они были плохими стихами. А сейчас опять зачесались руки» (Hoover. Gleb Struve Papers). Набросанный вчерне ответ он в результате так и не завершил и не отправил.
(обратно)118
Рафальский С.М. Поэма о потустороннем мире //Грани. 1957. № 34/35. С. 157–160.
(обратно)119
Подробно о пражских поэтах, в том числе об упомянутых здесь Райсом Сергее Миличе Рафальском (1896–1981), Вячеславе МихайловичеЛебедеве (1896–1969) и Алексее Владимировиче Эйснере (1905–1984) см. в издании: «Скит». Прага 1922–1940: Антология. Биографии. Документы / Вступ. ст., общ. ред. Л.Н. Белошевской; сост., биографии Л.Н. Белошевской, В.П. Нечаева. М.: Русский путь, 2006.
(обратно)120
Одарченко Юрий Павлович (1903–1960) — поэт. С начала 1920-х гг. в эмиграции в Париже, занимался дизайном, росписью по тканям, печататься начал после войны, первый (и единственный прижизненный) сборник стихов «Денек» выпустил в 1949 г.
(обратно)121
Величковский Анатолий Евгеньевич (1901–1981) — участник Белого движения. С 1919 г. в эмиграции в Польше, с 1926 г. во Франции, был чернорабочим, таксистом, печататься начал в 1947 г., спустя несколько лет выпустил первую книгу «Лицом к лицу» (Париж: Рифма, 1952).
(обратно)122
Пшибош (Przybos) Юлиан (1901–1970) — польский поэт и эссеист, один из главных представителей Краковского авангарда.
(обратно)123
Важик (Wazyk) Адам (1905–1982) — польский поэт, эссеист, переводчик, связанный с Краковским авангардом.
(обратно)124
Летом и осенью 1958 г. Марков занимался оформлением диссертации и документов для получении PhD (официальное уведомление о присвоении докторской степени получил в начале октября).
(обратно)125
Марков В. Запоздалый некролог // У Золотых ворот. Сан-Франциско: Литературно- художественный кружок, 1957. С. 99–105.
(обратно)126
Недогонов Алексей Иванович (1914–1948) — поэт, участник советско-финской и Второй мировой войны. Первая книга стихов «Простые люди» вышла посмертно в 1948 г. Подробнее см.: Поздняев К. Утверждение: Алексей Недогонов и его стихи. М., 1973.
(обратно)127
Марков прислал Райсу переработанный вариант диссертации, выпущенный книгой.
Марков в это время готовил диссертацию о В. Хлебникове, защита которой состоялась в 1957 г. и которая позже вышла отдельной книгой: Markov V. The Longer Poems of Velimir Khlebnikov. Berkeley; Los Angeles: Univ. of California Press, 1962; переиздана: Westport (Ct): Greenwood Press, 1975.
(обратно)128
Мартини Фриц Оскар Ричард (1909–1991) — немецкий филолог, историк литературы, с 1943 г. профессор Штутгартского университета, член президиума немецкой Академии языка и литературы.
(обратно)129
Пуле Жорж (1902–1992) — бельгийский литературовед, представитель «новой критики», профессор Эдинбургского университета (1928–1951), университета Джона Хопкинса в Балтиморе (1952–1955), университетов в Цюрихе (1956–1967) и Ницце (с 1968), автор многочисленных работ по истории французской литературы последних пяти веков.
(обратно)130
Речь о втором, переработанном издании томика в малой серии «Библиотеки поэта»: Хлебников В. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Н. Степанова. Л.: Советский писатель, 1960.
(обратно)131
Николай Леонидович Степанов (1902–1972) много занимался Крыловым: готовил несколько изданий басен, библиографию публикаций, выпустил ряд книг. Райс, скорее всего, имеет в виду монографию: Степанов Н.Л. Мастерство Крылова-баснописца. М.: Советский писатель, 1955.
(обратно)132
Лебедев Федор Тарасович (1898–1965) — журналист, общественный деятель. С 1922 г. в эмиграции в Эстонии, с 1944 г. в Германии. В 1952 г. один из организаторов ЦОПЭ и издательства при нем, управляющий делами ЦОПЭ, с 1958 г. председатель правления.
(обратно)133
Бэнвиль (Bainville) Жак (1879–1936) — французский историк и журналист.
(обратно)134
«Ни в чем нельзя быть уверенным, возможно все» (фр.).
(обратно)135
«Нездоровый оптимизм» (нем).
(обратно)136
Мазон (Mazon) Андре (1881–1967) — французский филолог-славист, ученый секретарь Института живых восточных языков в Париже (1909–1914), профессор Страсбургского университета (1919–1923), затем Коллеж де Франс (1924–1952). Иностранный член АН СССР (с 1928), член Французской академии (с 1935), президент Института славяноведения в Париже (с 1937).
(обратно)137
Фасмер (Vasmer) Макс Юлиус Фридрих(1886–1962) — немецкий языковед, родившийся в России, ученик И.А. Бодуэна де Куртенэ и А.А. Шахматова. С 1910 г. приват-доцент Петербургского университета, с 1912 г. профессор славянской филологии и индоевропейского языкознания Бестужевских курсов, с 1918 г. до отставки в 1956 г. преподавал во многих европейских и американских университетах, член нескольких академий, автор «Этимологического словаря русского языка» (Heidelberg: Carl Winter, 1950–1958); русский перевод: М.: Наука, 1964–1973).
(обратно)138
Не удалось найти сведения.
(обратно)139
Чижевский Дмитрий Иванович (1894–1977) — филолог, историк. С 1919 г. в эмиграции в Германии. В 1924–1932 гг. лектор, затем доцент и профессор Украинского института в Праге. В 1932–1945 гг. профессор, позднее директор Института славистики в университете Галле. С 1945 г. профессор в Марбурге, с 1952 г. в Гарварде, с 1956 г. в Гейдельберге. Автор многих работ по русской и украинской литературе, истории, философии.
(обратно)140
Унбегаун (Unbegaun) Борис (Boris Ottokar) Генрихович (1898–1973) — филолог- славист, по происхождению немец, уроженец Москвы, участник Первой мировой войны и Белого движения. С начала 1920-х гг. в Париже, сотрудник Института славянских исследований. Преподавал в Страсбурге, Брюсселе, профессор Оксфордского (в 1953–1965), затем Нью-Йоркского университетов.
(обратно)141
Ло Гатто (Lo Gatto) Этторе (1890–1983) — итальянский славист, переводчик, профессор Римского и Неапольского университетов, автор многих трудов по истории России, русской литературы и русского театра.
(обратно)142
Паскаль (Pascal) Пьер (1890–1983) — французский славист, переводчик. В 1916–1933 гг. жил в России, был секретарем Г.В. Чичерина в Наркоминделе, работал в отделе печати Коминтерна, затем в Институте Маркса — Энгельса. С 1937 г. профессор Школы восточных языков, с 1959 г. Сорбонны.
(обратно)143
Янкелевич (Jankelevitch) Владимир (1903–1985) — французский философ, преподавал в Праге (1934–1935), Тулузе (1936–1937), Лилле (1937–1939). Во время войны участник Сопротивления. После войны профессор Сорбонны (в 1951–1978).
(обратно)144
Лафитт (Laffitte) Софи (София Григорьевна;?-1979) — филолог-славист, уроженка Киева. С 1919 г. в эмиграции в Париже. Одна из основательниц славянского отдела Национальной библиотеки Франции, преподаватель русской литературы в Сорбонне. Автор работ о А.Н. Толстом, А.П. Чехове, А.А. Ахматовой.
(обратно)145
Стремоухов Дмитрий Николаевич (1902–1961) — филолог-славист. С начала 1920-х гг. в эмиграции в Югославии, затем во Франции. С 1930 г. преподавал в Страсбурге, с 1948 г. в Лилле и других французских университетах, с 1958 г. профессор Сорбонны, сотрудник многих научных изданий.
(обратно)146
Пайпс Ричард (р. 1923) — американский историк и советолог польского происхождения. С 1940 г. живет в США, ученик М.М. Карповича. С 1963 г. профессор Гарвардского университета, директор Исследовательского центра по изучению России при Гарвардском университете (в 1968–1973), главный научный консультант Института по исследованию России при Стэнфордском университете (в 1973–1978).
(обратно)147
Монография вышла в двух томах несколько лет спустя: Pipes R. Struve, liberal on the left, 1870–1905. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1970; Idem. Struve, liberal on the right, 1905–1944. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1980; рус. пер.: Пайпс P. Струве: Левый либерал, 1870–1905 / Пер. с англ. А. Цуканова. М.: Московская школа политических исследований, 2001. Он же. Струве: Правый либерал, 1905–1944 / Пер. с англ. А. Захарова. М.: Московская школа политических исследований, 2001.
(обратно)148
Райс Э. Сорокалетие русской поэзии в СССР: 1920–1960 // Грани. 1961. № 49. С. 94- 140; № 50. С. 144–164; 1962. № 51. С. 149–169.
(обратно)149
Французский поэт русского происхождения Эммануэль Лошак (Lochac; 1886–1956) с 1929 г. публиковал подборки моностихов (самая значительная: Lochac Е. Monostiches // La nouvelle revue francaise. 1936. № 272. ler Mai). Упомянутый Райсом сборник 1936 г. «Моностихи» («Monostiches») — это, по всей видимости, отдельный оттиск из журнала.
(обратно)150
Сборник Иона Пиллата (1891–1945) «Стихотворения в одну строку» (Роете intr-un vers / Ed. Cartea Romaneasca, 1936) получил общеевропейский резонанс.
(обратно)151
Русский перевод в конце концов был выпущен: Марков В. История русского футуризма / Пер. с англ. В. Кучерявкина и Б. Останина. СПб.: Алетейя, 2000.
(обратно)152
«Синтаксис» — самиздатский машинописный журнал, выпускавшийся под редакцией Александра Ильича Гинзбурга (1936–2002). С декабря 1959 по апрель 1960 г. вышло три номера, в которых были опубликованы стихи Н.И. Глазкова, Г.В. Сапгира, И.С. Холина, Б.А. Ахмадулиной, Б.Ш. Окуджавы, Д.В. Бобышева, И.А. Бродского, А.С. Кушнера и др. Готовящиеся № 4 и 5 не вышли из-за ареста Гинзбурга в июле 1960 г. Все три номера были перепечатаны за рубежом (Грани. 1965. № 58. С. 95–193).
(обратно)153
«Феникс» — самиздатский литературный журнал, созданный Юрием Тимофеевичем Галансковым (1939–1972) в Москве в 1961 г. Вышел единственный номер, в котором участвовали Ю.Н. Стефанов, С.Я. Красовицкий,Л.Н. Чертков, Н.Е. Горбаневская и др. Материалы журнала были перепечатаны за рубежом (Грани. 1962. № 52. С. 86- 190) и сопровождены обстоятельной статьей: Тарасова Н. «Век крушения вер…»: (Заметки о журнале «Феникс») // Там же. С. 191–220. Позже Ю.Т. Галансков повторил опыт, выпустив самиздатский сборник «Феникс-66» (М., 1966; переиздание: Милан, 1968).
(обратно)154
«Тарусские страницы» (Калуга: Калужск. книжн. изд-во, 1961) — литературнохудожественный иллюстрированный сборник, в редколлегию которого входили Н. Оттен (Н.Д. Поташинский), К.Г. Паустовский, А.А. Штейнберг и др. Среди авторов сборника — М.И. Цветаева, Н.А. Заболоцкий, Б.Ш. Окуджава, Ю.П. Казаков, Ю.В. Трифонов, Б.А. Слуцкий, Н.М. Коржавин, Н.Я. Мандельштам (под псевдонимом Н. Яковлева). Сборник вызвал недовольство властей, готовилось специальное постановление ЦК КПСС, однако после посещения К.Г. Паустовским Н.С. Хрущева дело было прекращено.
(обратно)155
Горелый (Goriely) Вениамин (1898–1986) — уроженец Варшавы, учился в Харькове и Москве, с 1920 г. жил в Берлине, затем в Брюсселе, с 1930 г. в Париже. С 1925 г. активно публиковался как журналист, переводчик и литературовед во французской печати. О Горелом Марков уже знал от Г.П. Струве, который писал ему 18 сентября 1958 г.: «Я узнал, что Benjamin Goriely (личность во многих отношениях сомнительная) готовит в Париже большую монографию о Хлебникове. Он же выпустил какой-то апокрифический рассказ (верней — повесть) Пастернака (под названием “Recit”), якобы вышедший в России “ограниченным тиражом” в 1934 г. Мне обещали эту вещь прислать — для разоблачения, если надо. Она вызвала некоторую сенсацию во Франции» (Собрание Жоржа Шерона).
(обратно)156
К тому времени переводы были выпущены и отдельным изданием: Khlebnikov V. Ка / Textes choisi, trad, du russe et presentes par B. Goriely. Lyon: Emmanuel Vitte, 1960.
(обратно)157
Речь идет об издании: Histoire des litteratures: 3 vol. / Ed. publiee sous la direction de R. Queneau. [Paris]: Ed. Gallimard, «Encyclopedic de la Pleiade» № 3, 1956. V. 2: Litteratures occidentales.
(обратно)158
См. полемику с В. Горелым по поводу его статей во втором томе энциклопедии: Olivenbaum L. A Propos d une encyclopedic. Litterature et politique // Le Monde. 1957. 9 fevrier. № 3748. P. 7; 23 fevrier. № 3760. P. 8.
(обратно)159
Роман «Восхищение» (Paris: 41 градус, 1930) Ильязда (наст, имя и фам. Илья Михайлович Зданевич; 1894–1975) был воспроизведен репринтно (Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1983), а затем выпущен в качестве второго тома собрания сочинений Зданевича (М.; Дюссельдорф: Гилея: Голубой всадник, 1995). Издание на французском: Iliazd <Зданевич И.М.> Le Ravissement: Roman / Trad, du russe par R. Gayraud. Aix-en-Provence: Alinea, 1987. Подробнее см.: Иованович М. «Восхищение» Зданевича-Ильязда и поэтика «41 градус» // Заумный футуризм и дадаизм в русской культуре / Под ред. Л. Магаротто, М.Марцадури, Д. Рицци. Bern; Berlin; Frankfurt am Main; New York; Paris; Wien: Peter Lang, 1991.
(обратно)160
Зак Лев (Леон) Васильевич (1892–1980) — живописец, график, поэт. С 1910 г. входил в литературную группу московских футуристов «Мезонин поэзии», оформлял их поэтические сборники, публиковался в альманахах «Вернисаж» (1913), «Пир во время чумы» (1913), «Крематорий здравомыслия» (1914), готовил свой поэтический сборник «Пиротехнические импровизации» (издание не состоялось). С 1920 г. в эмиграции, с 1923 г. — в Париже. К его сборнику стихов, выпущенному позже под псевдонимом, предисловие написал Марков: Россиянский М. Утро внутри: Стихотворения и поэмы / Предисл. В. Маркова = Rossijanskij М. Die Dichtungen (Utro vnutri) / Ed. by V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1970.
(обратно)161
Вдова Ларионова Александра Клавдиевна Ларионова-Томилина передала парижское наследие М.Ф. Ларионова (1881–1964) и Н.С. Гончаровой (1881–1962) в дар Третьяковской галерее в 1989 г.
(обратно)162
Марков всю жизнь собирал для работы редкие издания поэтов рубежа веков в ксероксах и микрофильмах, опись коллекции на 60 страницах сохранилась (Собрание Жоржа Шерона). Среди прочего в ней значатся и книги Т.В. Чурилина.
(обратно)163
Имеется в виду книга: Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. С приложением библиографического указателя русской поэзии за последнее десятилетие. Тверь: Октябрь, 1923.
(обратно)164
Подготовленный Чурилиным в 1918 г. сборник «Льву — барс» так и не вышел, 14 стихотворений из него составили вышедшую в том же году «Вторую книгу стихов» (М.: Лирень, 1918).
(обратно)165
Вслед за сборником «Стихотворения» (Киев: Гослитиздат Украины, 1935) у Петникова вышла книга «Избранные стихи» (М.: Гослитиздат, 1936), после чего последовал перерыв на четверть века.
(обратно)166
У К.К. Вагинова при жизни вышли мизерными тиражами три небольшие книжки: «Путешествие в хаос» (Пг.: Кольцо поэтов, 1921), «Стихи» (Л., 1926) и «Опыты соединения слов посредством ритма» (Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1931).
(обратно)167
Zavalishin V. Early Soviet Writers. New York: Frederick A. Praeger Publishers, 1958.
(обратно)168
Кузмин М. Форель разбивает лед: Стихи 1925–1928. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929.
(обратно)169
Богородский Федор Семенович (1895–1959) — художник. В 1922–1924 гг. учился во Вхутемасе, сблизился с футуристами, опубликовал единственный сборник: Богородский Ф. Даешь!: Как будто стихи / Послесл. В. Каменского, В. Хлебникова, С. Спасского, рабочего Родова. Н. Новгород: Гиз, 1922.
(обратно)170
Нина Хабиас (наст, имя и фам. Нина Петровна Оболенская, урожд. Комарова; 1892–1943) при жизни выпустила два сборника: «Стихетты» (Пг.: Беспредметники, 1922) и «Стихи» (М., 1926). Подробнее см.: Хабиас (Оболенская) Н. Собр. стихотворений / Изд. подгот. А. Галушкин, В. Нехотин. М.: Совпадение, 1997.
(обратно)171
Туфанов Александр Васильевич (1977–1941) — поэт, теоретик искусства, педагог. В 1925 г. основал Орден заумников, затем — «Левый фланг» при ленинградском Союзе поэтов, куда входили Д.И. Хармс и А.И. Введенский. Опубликовал три книги: «Эолова арфа» (Пг., 1917), «К зауми: Фоническая лирика и функции согласных фонем» (Пг., 1924) и «Ушкуйники: Фрагменты поэмы» (Новгород; Л., 1927).
(обратно)172
Смиренский Борис Викторович (1903–1978) — поэт, близкий к эгофутуризму, участник петроградских литературных групп «Аббатство гаеров» и «Кольцо поэтов им. К.М. Фофанова». Выпустил шесть небольших поэтических книжек в 1916–1928 гг. Репрессирован. Выйдя из лагерей, жил в Волгодонске, написал предисловие к тому Фофанова в большой серии «Библиотеки поэта».
(обратно)173
Не удалось найти сведений.
(обратно)174
Вячеслав Александрович Ковалевский (1897–1977) выпустил четыре сборника стихов в 1919–1926 гг., после чего переключился на прозу.
(обратно)175
Имеется в виду издание: Русская поэзия XX века: Антология русской лирики от символизма до наших дней / Под ред. И.С. Ежова и Е.И. Шамурина. М., 1925.
(обратно)176
Tschizewskij D. Der russische Futurismus und die dichterische Sprache // Archiv fur das Studium der neueren Sprachen und Literaturen (Braunschweig). Bd. 209.1972. № 1.
(обратно)177
Новелла Николаевна Матвеева родилась 7 ноября 1934 г.
(обратно)178
Даты жизни А.С. Присмановой: 6 сентября 1892 —4 ноября 1960.
(обратно)179
В это время Марков совместно с Мерриллом Спарксом готовили антологию русской поэзии в переводах на английский язык: Modern Russian Poetry: An Anthology with Verse Translations / Ed. and with introd. by V. Markov and M. Sparks. London: MacGibbon & Kee Ltd., 1966; Indianapolis (Indiana): The Bobbs-Merrill Company, Inc., 1967.
(обратно)180
Под псевдонимом Л. Мельшин и криптонимом П. Я. публиковал прозу и стихи революционер-народоволец Петр Филиппович Якубович (1860–1911).
(обратно)181
Книга Б.Ю. Поплавского «Дирижабль неизвестного направления» (Париж, 1965) была издана стараниями Н.Д. Татищева (который поправил рукописи Поплавского, заменил отдельные, показавшиеся ему неудачными, слова и дал некоторым стихотворениям названия).
(обратно)182
Поэма «Сарай» была издана брошюркой в одной папке с девятью другими 12-16-страничными брошюрками под общими названием «Мешок алмазов» (Вологда: Глина, 1920).
(обратно)183
Вероятно, речь идет о статье: Райс Э. Творчество Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. ст. К. Брауна, Г.П. Струве, Э.М. Райса. Вашингтон: Inter-Language Literary Associates, 1964. Т. 1. С. LXXXI–CII.
(обратно)184
Речь о втором издании книги В.И. Нарбута «Аллилуйя» (Одесса, 1922), тексты которого были переработаны и набраны обычным, а не церковнославянским шрифтом, как в первом издании (СПб.: Цех поэтов, 1912).
(обратно)185
Скорее всего, Бердников Алексей Аркадьевич (р. 1937) — поэт, переводчик, с 1990-х гг. живет в Канаде.
(обратно)186
Губанов Леонид Георгиевич (1946–1983) — поэт, один из организаторов творческого объединения СМОГ.
(обратно)187
О поэте Владимире Николаевиче Маккавейском (1893–1920) подробно см.: Маккавейский В. Избранные соч. / Ред. — сост. В. Кравец, С. Руссова. Киев: Знание, 2000. Под редакцией Маккавейского вышел альманах «Гермес» (Киев, 1919), в котором впервые были напечатаны стихи Терапиано. Воспоминания о Б.К.Лившице, В.Н. Маккавейском и О.Э. Мандельштаме (в том числе и упомянутый эпизод с подсказанными строчками) см.: Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 11–15.
(обратно)188
См. примеч. 75. Здесь речь идет об издании: Филиппович П.П. Жизнь и творчество Е.А. Боратынского. Киев, 1917.
(обратно)189
Райс ошибается: в «Русской мысли» П.Б. Струве (как дореволюционной, так и эмигрантской) стихи Филипповича не публиковались.
(обратно)190
Мунтяну Базиль (1897–1972) — румынский историк литературы, литературный критик и филолог, профессор Бухарестского университета, член Румынской академии. После выхода в отставку жил в Париже. Его написанная по-французски история румынской литературы (Munteanu В. Panorama de la littcrature roumaine. Paris: Sagittaire, 1938) переведена на многие языки.
(обратно)191
Судя по всему, Райс так запомнил рассуждение самого Маркова: «Не каждый ли ребенок — природный футурист? Многочисленные примеры из книги К. Чуковского “От двух до пяти” прекрасно подтверждают это. Словообразования вроде “кустыня” (вместо “пустыня”) как будто взяты из Хлебникова, который тоже хотел смыслового соответствия слова описываемому предмету. Мальчик, становящийся ногами на часы, чтобы дать смысл выражению “стоять на часах”, совершает хлебниковскую “реализацию тропа”. Детские новообразования “не хочу идемить в столовую” или “я отмухиваюсь” по своей технике то же, что неологизм Хлебникова» (Марков В. О Хлебникове: Попытка апологии и сопротивления//Грани. 1954. № 22. С. 137).
(обратно)192
Вероятно, имеется в виду Александр Ефимович Парнис.
(обратно)193
Жена Арагона Эльза Триоле (Triolet; урожд. Каган; 1896–1970) выпустила антологию русской поэзии, которая не понравилась ни Райсу, ни Маркову: La poesie russe: Anthologie / Reunie et publiee sous la direction de E. Triolet. Paris: Seghers, 1965. 10 марта 1966 г. Марков в письме спрашивал у Г.П. Струве: «Видели антологию Триоле? Выбор удручающий. Гиппиус совсем, например, нет. Нет и Ходасевича с Ивановым — а Щипачева — Бог знает сколько» (Hoover. Gleb Struve Papers).
(обратно)194
Райс публиковал в «Гранях» (особенно часто в 1964–1966 гг.) статьи, обзоры и отзывы как о новых изданиях Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама, Н.А. Заболоцкого, так и о молодых советских поэтах (И.А. Бродский, авторы СМОГа и др.).
(обратно)195
Райс Э. Вечная юность Г.Р. Державина // Возрождение. 1966. № 174. С. 53–74.
(обратно)196
«Тем, кого это касается» (англ).
(обратно)197
Райс написал статьи для изданий, подготовленных Г.П. Струве и Б.А. Филипповым: Мандельштам О. Собр. соч.: В 2 т. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова; вступ. ст. К. Брауна, Г.П. Струве, Э.М. Райса. Washington: Inter-Language Literary Associates, 1964; Заболоцкий H. Стихотворения / Под общ. ред. Г.П. Струве, Б.А. Филиппова; вступ. ст. А. Раннита, Б.А. Филиппова, Э. Райса. Washington; New York: Inter-Language Literary Associates, 1965.
(обратно)198
Арбан (Arban) Доминик — французская славистка, сотрудница Национального центра научных исследовани й, специалист по Ф.М. Достоевскому. Спустя некоторое время Луи Арагон, муж «атакованной» Райсом и Марковым Эльзы Триоле, выпустил книгу «Арагон говорите Доминик Арбан» (Aragon parle avec Dominique Arban. Paris, 1968).
Это была не антология поэзии, Марков на следующий год выпустил книгу: Манифесты и программы русских футуристов = Die Manifeste und Programmschriften der Russischen Futuristen / Mit einem Vorw. hrsg. von V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1967. (Slavische Propylaen: Texte in Neuund Nachdruken. B. 27).
(обратно)199
Поэты пушкинской поры: Сб. стихов / Под ред. Ю.Н. Верховского. М.: М. и С. Сабашниковы, 1919.
(обратно)200
Русская лирика: Маленькая антология от Ломоносова до Пастернака / Сост. кн. Д. Святополк-Мирский. Париж, 1925.
(обратно)201
Оболенский Сергей Сергеевич, князь (1908–1980) — журналист, историк, общественный деятель. С 1920 г. в эмиграции в Венгрии, Германии, затем во Франции. Входил в руководство младороссов. В годы Второй мировой войны участник Сопротивления, член Союза советских патриотов. С 1959 г. (с № 100) был соредактором журнала «Возрождение» вплоть до его закрытия.
(обратно)202
Большая статья Райса «Интеллигенция и культура» была опубликована в 1966 г. в № 177 и 178 «Возрождения».
(обратно)203
Статья «Василий Тредьяковский — поэт» вышла три года спустя, в 1969 г. в № 207 и 208, все остальные замыслы не были воплощены.
(обратно)204
Розанов Иван Никанорович (1874–1959) — литературовед, книговед, библиофил, сотрудник Научной библиотеки Государственного исторического музея (1919–1941), затем Института мировой литературы (1945–1953), автор более 300 работ. Собрал уникальную библиотеку русской поэзии (передана в дар Государственному музею А.С. Пушкина в Москве).
(обратно)205
Работа Тарасенкова была значительно дополнена в изданиях, подготовленных Л.М.Турчинским: Тарасенков А.К., Турчинский Л.М. Русские поэты XX века. 1900–1955: Материалы для библиографии. М.: Языки славянской культуры, 2004; Русские поэты XX века: Материалы для библиографии / Сост. Л.М. Турчинский. М.: Знак, 2007.
(обратно)206
Это ошибка, свой сборник стихов «Лампада» (Пг., 1922) Георгий Иванов переиздал в Берлине в 1923 г.
(обратно)207
В антологии Марков опубликовал переработанный вариант поэмы под названием «Поэма про ад и рай», а также несколько одностроков и «Лосанжелосский верлибр» (Содружество: Из современной поэзии Русского Зарубежья / Сост. Т. Фесенко. Вашингтон: Viktor Kamkin, Inc., 1966. С. 296–303).
(обратно)208
Райс Э. Под глухими небесами: Из дневников 1938–1941 гг. Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967.
(обратно)209
Мюнхенский институт по изучению истории и культуры СССР регулярно устраивал международные конференции и съезды, на которые Марков сперва приезжал, но потом стал опасаться: он ожидал приезда матери, которой долго отказывали в визе, и боялся, что причиной могло быть его участие в антисоветских съездах.
(обратно)210
Фридберг (Fridberg) Морис (р. 1929) — американский славист польского происхождения, профессор ряда американских университетов, автор трудов по истории русской литературы и литературного перевода.
(обратно)211
Владимиров Леонид Владимирович (наст. фам. Финкельштейн; р. 1924) — журналист. В 1966 г. эмигрировал в Англию, работал на радио «Свобода» (в 1966–1979), затем на Би-би-си.
(обратно)212
Марков В. Русские цитатные поэты: Заметки о поэзии П.А. Вяземского и Георгия Иванова // То Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion ofhis Seventieth Birthday 11 October 1966. The Hague: Mouton and Co, 1967.Vol.2.P. 1273–1287.
(обратно)213
Ландау Григорий Адольфович (1877–1941) — философ, культуролог, публицист, преподаватель теории права Петроградского педагогического института. С 1920 г. в эмиграции в Финляндии, с 1921 г. в Берлине, сотрудник редакции газеты «Руль», с 1938 г. жил в Риге, после аннексии Латвии оказался на советской территории, в июне 1941 г. арестован, погиб в заключении.
(обратно)214
Ландау Г. Эпиграфы. Берлин, 1927. См. дополненное переиздание: Он же. Эпиграфы / Ред. и послесл. Ф. Полякова. М.: Пробел, 1997.
(обратно)215
Петников Г.Н. Утренний свет. 1915–1987. Симферополь: Крымиздат, 1967.
(обратно)216
Существует несколько версий происхождения названия «коктейль Молотова». Согласно отечественной версии простое, но действенное средство прозвали в народе именем советского министра иностранных дел, потому что именно В.М. Молотов подписал постановление ГКО от 7 июля 1941 г. «О противотанковых зажигательных гранатах (бутылках)». Финны предлагают свою версию, относя возникновение термина к советско-финской войне, в ходе которой советская авиация бомбила Хельсинки, а Молотов отрицал бомбардировки, заявляя, что советские самолеты доставляют продовольственную помощь. Авиабомбы в Финляндии получили название «молотовских корзин для пикника», а бутылки с зажигательной смесью, в изобилии производившиеся финской промышленностью, стали называть «коктейлем Молотова». Союзники приписывают название себе, справедливо указывая на то, что в СССР оно официального распространения не получило.
(обратно)217
Когда в мае 1968 г. во Франции начались студенческие волнения и общенациональная забастовка, Шарль де Голль (de Gaulle; 1890–1970), в 1965 г. избранный президентом на семилетний срок, распустил Национальное собрание и назначил новые выборы, победу на которых одержали голлисты. 27 апреля 1969 г. де Голль потерпел поражение на референдуме по вопросу о реорганизации сената и на следующий день ушел в отставку.
(обратно)218
Chlebnikov V.V. Gesammelte Werke / Hrsg. V. Markov. 4 Bd. Miinchen: Wilhelm Fink Verl., 1968–1972. (Slavische Propylaen, B. 37:1–4).
(обратно)219
Ландау Г. А. Сумерки Европы. Берлин: Слово, 1923. Журнальный вариант вышел девятью годами раньше (за четыре года до появления книги О. Шпенглера «Закат Европы»): Ландау Г.А. Сумерки Европы // Северные записки. 1914. № 12. С. 28–54.
(обратно)220
Имеется в виду героиня басни Лафонтена «Молочница, или Кувшин с молоком» по имени Перетта, которая строила большие планы и, замечтавшись, уронила кувшин с молоком. Фигуру «Молочница» (известна также как «Царскосельская статуя» и «Девушка с кувшином») для фонтана по проекту Бетанкура вылепил в 1816 г. скульптор П.П. Соколов, затем она была отлита из бронзы в литейной мастерской Императорской Академии художеств и установлена в Екатерининском парке Царского Села. Упоминается в стихотворении Василия Алексеевича Комаровского (1881–1914) «La cruche cassee» («Ни этот павильон хандры порфирородной…») (1913).
(обратно)221
Закомплексованный (нем.).
(обратно)222
Зак Лев (Леон) Васильевич (1892–1980) — живописец, график, поэт. С 1910 г. входил в литературную группу московских футуристов «Мезонин поэзии», оформлял их поэтические сборники, публиковался в альманахах «Вернисаж» (1913), «Пир во время чумы» (1913), «Крематорий здравомыслия» (1914), готовил свой поэтический сборник «Пиротехнические импровизации» (издание не состоялось). С 1920 г. в эмиграции, с 1923 г. — в Париже. К его сборнику стихов, выпущенному позже под псевдонимом, предисловие написал Марков: Россиянский М. Утро внутри: Стихотворения и поэмы / Предисл. В. Маркова = Rossijanskij М. Die Dichtungen (Utro vnutri) / Ed. by V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1970.
(обратно)223
Маркаде (Marcade) Жан-Клод — французский искусствовед, специалист по русскому авангарду, сотрудник Национального центра научных исследований, автор книг о К.С. Малевиче и П.Н. Филонове.
(обратно)224
Рафалович Сергей Львович (1875–1943) — поэт, прозаик, драматург, активно печатавшийся с 1894 г. С 1922 г. жил в Париже. Опубликовал несколько десятков книг.
(обратно)225
Последнее по порядку, но не по значению (англ.).
(обратно)226
Н.Б. Тарасова.
(обратно)227
Райс вскоре опубликовал большую журнальную статью: Райс Э. Русский Ренессанс — глазами интеллигента// Возрождение. 1970. № 223.
(обратно)228
Markov V. Balmont: A Reappraisal // Slavic Review. June 1969. Vol. 28. N8 2. P. 221–264.
(обратно)229
Первые строки стихотворения A.C. Пушкина «Пробуждение» (1816), позже были процитированы в одном из лирических отступлений в романе в стихах «Евгений Онегин» (гл. 6, строфа 44).
(обратно)230
Руссо Анри Жюльен Феликс (1844–1910) по прозвищу Таможенник (Le Douanier) — французский художник-самоучка, создатель примитива (Art Naif) во французском искусстве.
(обратно)231
Авторитетный (нем.).
(обратно)232
Ковалев Дмитрий Михайлович (1915–1977) — поэт. К тому времени выпустил десяток книг, преимущественно в Минске. В 1960-х гг. перебрался в Москву.
(обратно)233
George W. Larionov. Paris: La Bibliotheque Des Arts, 1966.
(обратно)234
В Издательстве Вильгельма Финка было перепечатано издание: Александр Блок и Андрей Белый: Переписка / Ред., вступ. ст. и коммент. В.Н. Орлова. М.: Изд-во Государственного литературного музея, 1940. (Летописи Государственного литературного музея. Кн. 7). В полном виде переписка опубликована лишь недавно: Андрей Белый и Александр Блок: Переписка / Публ., предисл. и коммент. А.В. Лаврова. М.: Прогресс- Плеяда, 2001.
(обратно)235
Бальмонт К.Д. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Вл. Орлова. Д.: Советский писатель, 1969.
(обратно)236
Марков составил проспект такого издания, но так и не подготовил его.
(обратно)237
Малмстад (Malmstad) Джон (р. 1941) — американский славист. В 1969 г. получил докторат от Принстонского университета, где писал диссертацию о поэзии Андрея Белого под руководством Н.Н. Берберовой. Затем преподавал в Колумбийском, а с 1985 г. в Гарвардском университете.
(обратно)238
Это как море выпить (фр.).
(обратно)239
Д.П. Святополк-Мирский отозвался о поэме Н.А. Некрасова без восторга: «Нам нелегко, к примеру, открыть какие-нибудь достоинства в написанном без вдохновения механическом переложении воспоминаний княгини Волконской, жены декабриста (Русские женщины, 1867), в поэме, которую старшее поколение считало некрасовским шедевром» (Мирский Д.С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. С. 368).
(обратно)240
Некрасов H.A. Полн. собр. стихотворений: В 3 т. / Общ. ред. и вступ. ст. К.И. Чуковского. Л.: Советский писатель, 1967.
(обратно)241
Всеми прочими (итал.).
(обратно)242
Первой была книга: Чуковский К. Некрасов как художник. Пб.: Эпоха, 1922. Но здесь Райс, по-видимому, имеет в виду другое издание: Он же. Некрасов: Статьи и материалы. Л.: Кубуч, 1926, включавшее, в частности, проведенную Чуковским анкету «Современные поэты о Некрасове», в которой на вопрос об отношении к поэзии Некрасова отвечали в 1919–1920 гг. А. Белый, Вяч. Иванов, Д.С. Мережковский, М. Горький, А.А. Ахматова, АА. Блок, МА. Кузмин и др. Впервые анкета была опубликована в «Летописи Дома литераторов» (1921. № 3.1 декабря).
(обратно)243
Райс называет авторов классических русских трудов по стихосложению: Шенгели Г.А. Техника стиха. М., 1960; Тимофеев А.И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958; Томашевский Б.В. Стих и язык. М.; А., 1959. Он же. Стилистика и стихосложение. Д., 1959.
(обратно)244
Мандельштам Н.Я. Воспоминания. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1970.
(обратно)245
«Случилось так, что два молодых человека решили попробовать, каково быть частными издателями, и заказали О.М. антологию русской поэзии от символистов до “сегодняшнего дня”. Антология открывалась Коневским и Добролюбовым, а кончалась Борисом Лапиным. О.М., как обычно, искал у поэтов удач: у Добролюбова “Говорящих орлов”, у Бальмонта “Песню араба, чье имя ничто”, у Комаровского “На площадях одно лишь слово — даки”, у Бородаевского — “Стрижей”, у Лозины-Лозинского — “Шахматистов”. Он с удовольствием переписал 2–3 стихотворения Бори Лапина — что-то про умный лоб и “звезды в окнах ВЧК” и еще “как, надкусывая пальцы астрам, Триль-Траль целовал цветы”» (Мандельштам Н.Я. Воспоминания. С. 255).
(обратно)246
Стихотворение Александра Михайловича Добролюбова (1876–1945) «Бог Отец» («Подо мною орлы, орлы говорящие…») из сборника «Natura naturans» (1895).
(обратно)247
Стихотворение Валериана Валериановича Бородаевского (1874–1923) «Вкруг колокольни обомшелой…» из сборника «Стихотворения» (СПб.: Оры, 1909).
(обратно)248
Стихотворение Алексея Константиновича Лозины-Лозинского (полн. фам. Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский; 1886–1916) «Chimerisando» («Я в шахматы играл с одним евреем, странно…») из сборника «Тротуар» (Пг., 1916).
(обратно)249
Стихотворение Бориса Матвеевича Лапина (1905–1941) «1920» из сборника Б.М. Лапина и Е.И. Габриловича «Молниянин» (М.: Московский Парнас, 1922).
(обратно)250
Стихотворение Б. Лапина «Лес живет» из сборника «1922-я книга стихов» (М.: Московский Парнас, 1923).
(обратно)251
Шапир Ольга Андреевна (урожд. Кислякова; 1850–1916) — писательница, автор «женской прозы», наибольшую популярность имела на рубеже веков. См. о ней: Юкина И.И. Ольга Шапир — идеолог российского феминизма // «Ей не дано прокладывать новые пути…?»: Из истории женского движения России. СПб.: Дорн, 1998. Вып. 2.
(обратно)252
Livchits В. L’Archer a un oeil et demi / Trad., pref. et annot. par E. Sebald, J.-C. et V. Marcade. Lausanne: L’Age d’Homme, 1971.
(обратно)253
Том О.Э. Мандельштама, объявленный в большой серии «Библиотеки поэта» еще в 1959 г., вышел лишь четырнадцать лет спустя, в 1973 г.
(обратно)254
Несколькими годами ранее в Москве вышли два сборника рассказов, своим составом не удовлетворившие эмигрантскую публику: Тэффи. Предсказатель прошлого / Сост., послесл. Ст. Никоненко. М.: Политиздат, 1967; Она же. Рассказы / Вступ. ст. и сост. О. Михайлова. М.: Худож. лит., 1971. Предисловие к последнему сборнику вызвало открытое письмо в редакцию: Верещагина М. О якобы советском гражданстве Тэффи // Русская мысль. 1972.24 февраля. № 2883. С. 8. О том, как готовился и выходил «многострадальный сборник» 1971 г., см. в письмах К.И. Чуковского: Михайлов О.Н. Корней Иванович большой и маленький // Слово. 2007. 20 сентября — 4 октября.
(обратно)255
К началу 1970-х гг. в США мода на русскую литературу, державшаяся со времен начала холодной войны, стала сменяться модой на африканский примитивизм.
(обратно)256
Ничего не поделаешь (фр.).
(обратно)257
Markov V. Georgy Ivanov: Nihilist as Light-Bearer // TriQuarterly. Spring 1973. Vol. 27. P. 139–163.
(обратно)258
Из стихотворения B.B. Маяковского «Юбилейное» (1924).
(обратно)259
«Напыщенности» (фр.).
(обратно)260
«Заслуженно уважаемых критиков» (англ.).
(обратно)261
«Священнодейственна» (фр.).
(обратно)262
Винцент Зивекинг (Sieveking) работал в то время редактором в Издательстве Вильгельма Финка.
(обратно)263
Это издание вскоре вышло: Krutenych A. Izbrannoe (Ausgewahlte Werke) / Ed. and with introd. by V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1973.
(обратно)264
Речь идет о валютном кризисе 1973 г., в результате которого Япония, а вслед за ней и другие индустриальные страны отказались от долларовой привязки своих валют, и курс доллара снижался в течение нескольких лет.
(обратно)265
В феврале 1973 г. Советский Союз присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве (подписанной в Женеве 6 сентября 1952 г.).
(обратно)266
Хрущелевский (Chroscielewski) Тадеуш (1920–2005) — польский писатель и переводчик, с 1945 г. жил в Лодзи.
(обратно)267
Петников Г. Лирика. Симферополь: Крымиздат, 1969.
(обратно)268
Он же. Пусть трудятся стихи. Симферополь: Крымиздат, 1972.
(обратно)269
Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp, by T. Pachmuss. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1972.
(обратно)270
Хармс Д. Избранное / Ed. by G. Gibian. Wurzburg: Jal-Verl., 1974. (Colloquium slavicum 5).
(обратно)271
Сечкарев Всеволод Михайлович (1914–1998) — историк литературы. С 1925 г. в эмиграции, с 1944 г. преподавал в немецких университетах, с 1956 г. профессор Гарварда.
(обратно)272
Кунстман Генрих — немецкий славист, профессор Мюнхенского университета, специалист по польской, чешской и балканским литературам. См.: Ars philologica slavica: Festschrift fur Heinrich Kunstmann / Ed. by V. Setschkareff, P. Rehder and H. Schmid. Munich: OttoSagner, 1988.
(обратно)273
Гибиан Джордж (1924–1999) — американский славист, с 1961 г. профессор русской литературы Корнельского университета (Итака (Нью-Йорк)), автор и составитель двух десятков книг, переводчик.
(обратно)274
Оба эти издания были выпущены в Издательстве Вильгельма Финка спустя некоторое время: Бальмонт К.Д. Избранные стихотворения и поэмы = Bal’mont K.D. Ausgewahlte Versdichtungen / Ausw., Vorw. und Komment. von V. Markov; with an introd. by Rodney L. Patterson. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1975. (Centrifuga. Russian Reprintings and Printings. Vol. 24); Кузмин M.A. Собр. стихов: В 3 т. = Kuzmin М.А. Gesammelte Gedichte / Hrsg., eingel. und komment. von John E. Malmstad und V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1977–1978. (Centrifuga. Russian Reprintings and Printings. Vol. 12).
(обратно)275
Речь идет о подготовленном Вл. Орловым томе Бальмонта в большой серии «Библиотеки поэта»: Бальмонт К. Д. Стихотворения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Вл. Орлова. Л.: Советский писатель, 1969.
(обратно)276
См. примеч. 256.
(обратно)277
Монографию об имажинизме и антологию Марков выпустил шесть лет спустя: Markov V. Russian Imagism 1919–1924. Giessen: Wilhelm Schmitz Veil, 1980. (Bausteinezur Geschichte der Literatur bei den Slawen. B. 15. № 1); Russian Imagism 1919–1924: Anthologie / Comp, by V. Markov. Giessen: Wilhelm Schmitz Verl., 1980. (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. B. 15. № 2).
(обратно)278
Кузмин М.А. Собр. стихов: В 3 т. = Kuzmin М.A. Gesammelte Gedichte / Hrsg., eingel. undkomment. von John E.Malmstadund V. Markov. Munchen: Wilhelm Fink Verl., 1978. III: Несобранное и неопубликованное. Приложения. Примечания. Статьи о Кузмине. = 111: Verstreut erschienene sowie neu gedruckte Gedichte. Anhang, Kommentar, Artikel uber Kuzmin. (Centrifuga. Russian Reprintings and Printings. Vol. 12. 111).
(обратно)279
125-страничная статья Маркова «Поэзия Михаила Кузмина» в этом томе (Р. 321–426) представляла собой, в сущности, небольшую монографию. Помимо того, Маркову принадлежали также написанные совместно с Д. Малмстадом примечания (Р. 617–741), занимавшие вместе со статьей треть толстого тома.
(обратно)280
Марков послал Райсу рукопись своего доклада, опубликовать текст в виде статьи ему удалось лишь несколько лет спустя: Марков В. В защиту разноударной рифмы: (Информативный обзор) // Russian Poetics / Ed. by T. Eekman and D.S. Worth. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1982. P. 235–261.
(обратно)




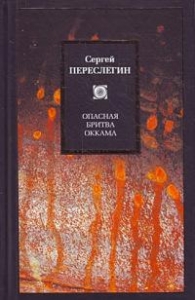
Комментарии к книге ««Хочется взять все замечательное, что в силах воспринять, и хранить его...»: Письма Э.М. Райса В.Ф. Маркову (1955-1978)», Владимир Фёдорович Марков
Всего 0 комментариев