Мария Беллончи Лукреция Борджиа. Эпоха и жизнь блестящей обольстительницы
Часть первая
Глава 1 Завоевание Ватикана
Ночью 25 июля 1492 года умирал папа римский Иннокентий VIII. Это был старый генуэзец, происходивший из семейства Чибо, который в течение многих лет за пренебрежение к своим обязанностям подвергался критике со стороны современников.
Но более всего раздражало его отношение к семье. Монах из Витербо упрекал папу за нарочитую демонстрацию родственных связей, когда тот праздновал свадьбы детей в Апостольском дворце и, нарушая канонические правила, садился за обеденный стол с женщинами. Гуманист Марулло в эпиграммах на Иннокентия VIII приписывал ему шестнадцать детей. Но, как обычно происходит с людьми, обладающими временной властью, Иннокентий VIII имел невероятно жадных детей. Папа всячески оберегал и помогал двоим своим детям, тем единственным, чьи имена сохранила история, – Теодорине и Франчесчетто. Он осыпал их милостями и подарками, и в 1488 году весь Рим стал очевидцем массовых шествий и пышных торжеств в Ватикане по случаю бракосочетания Франчесчетто и Маддалены, дочери Лоренцо де Медичи, а в 1489 году там же праздновалась свадьба дочери Теодорины с Луисом Арагоном. Предполагалось, что празднования являются свидетельством мира, царящего между епископом и королем Неаполя.
Даже на смертном одре Иннокентий VIII был окружен детьми. Теперь, находясь при смерти, папа чувствовал, что освободился от вины или, по крайней мере, что его грехи должны быть прощены. Франчесчетто стоял наготове в изголовье кровати или в соседней комнате (позже он написал, что отец испустил дух, находясь у него на руках), когда папа исповедовался в присутствии всех кардиналов, умоляя их выбрать достойного преемника и принося извинения за то, что не использовал вверенную ему власть в более благородных целях. Сказав это, он тихо заплакал.
Иннокентий надеялся, что проведет в покое последние дни, но 21 июля он узнал о возобновившемся жестоком соперничестве между воинствующими кардиналами. В числе вице-канцлеров был каталонец Родриго Борджиа. Будучи обходительным, он лестью и убеждениями всегда добивался своего. Вот и сейчас он предложил папе передать замок Сант-Анджело в ведение Коллегии кардиналов. Их беседа была прервана Джулиано делла Ровере, который вовремя вмешался в действие, сухо заявив, что поскольку у Борджиа наибольший авторитет в коллегии, то передача Сант-Анджело будет то же самое, что предоставление Борджиа на блюдечке Рима и папского престола. Разгорелся яростный спор, в котором оба священнослужителя прибегли к сквернословию. Как сообщил Антонелло де Салерно маркизу Гонзага, они называли друг друга «марранос» и «муре». Делла Ровере одержал верх в споре, и замок Сант-Анджело остался в ведении правителя, который должен был передать его новому папе римскому, и никому другому. Спустя четыре дня, 26 июля 1492 года, путь к папскому престолу был открыт.
Как известно, в это время Италия испытывала значительные трудности. Полуостров был разделен на небольшие государства и герцогства, мир в которых поддерживался с помощью силы и дипломатии. Шаткое, но столь необходимое равновесие сил сохранялось с помощью искусного лавирования среди острых разногласий, возникающих между герцогами, с одной стороны, и мирским и духовным руководством – с другой, прекрасно понимающим, что разделение силы и власти на полуострове закончится неминуемой катастрофой. К концу XV века появилась угроза вторжения извне, не только с востока, но еще более опасная с севера, из Франции. Людовик XIпревратил Францию в могущественное государство, и теперь ее притязания на Неаполитанское королевство, которое, по мнению французов, было незаконно захвачено Арагонами из династии Аньо, ни для кого не являлись тайной. Кроме того, хотя и не так открыто, но Франция считала, что Миланское герцогство по праву должно принадлежать ей с тех пор, как Валентина Висконти после замужества стала членом орлеанской династии. Одним словом, молодой король Карл VIII, наследник Людовика XI, попытался повлиять на конклав, чтобы получить такого папу, который благосклонно отнесся бы к его намерению завоевать Неаполь. С этой целью он поддерживал самого могущественного врага Неаполя, а именно Людовико Сфорца, «влиятельного Моро», являвшегося дядей, опекуном и доверенным лицом молодого миланского герцога.
Сфорца был богат и невероятно бесстрашен. Во всех политических событиях, происходящих на полуострове, чувствовалась его рука; и повсюду он имел приверженцев, информаторов, друзей и шпионов. Кроме того, в Ватикане в ожидании приказов Сфорца находился его брат Асканио, честолюбивый молодой кардинал, скорее умный, чем хитрый, свободомыслящий и склонный к риску – типичный миланец. Кардинал Асканио Сфорца возглавил антинеаполитанскую партию, в которую входили все враги короля Ферранте Арагонского, и с помощью короля Неаполя сформировал союз с Джулиано делла Ровере и его фракцией. Ни брачные союзы, ни миротворческие попытки не смогли положить конец смертельной вражде между Неаполем и Миланом, перешедшей в борьбу, во время которой две противоборствующие партии могли лишить свободы и независимости все итальянские государства.
Итак, партии, представляющие Милан и Неаполь, старались собрать по возможности большее количество кардиналов вокруг своих лидеров – Асканио Сфорца и Джулиано делла Ровере. Асканио, согласно недавно изданному исследованию о конклаве 1492 года, не имел ни малейшей надежды на то, чтобы быть избранным; ему было всего лишь тридцать семь лет, и, следовательно, он был слишком молод. Кроме того, он был убежден, что никто не допускает и мысли, чтобы папский престол отошел Людовико Сфорца. Джулиано делла Ровере был старше, но он прекрасно понимал, что его время еще не пришло, не говоря уже о том, что он был самым жестоким, самым вспыльчивым из всех кардиналов и более чем кто-либо другой вызывал ненависть и неприязнь. Из двух основных претендентов на папский престол Джулиано поддерживал португальского кардинала Коста, восьмидесятилетнего, величественного старца, чей преклонный возраст позволял надеяться, что в ближайшем будущем появится другой конклав (на самом деле Коста прожил еще пятнадцать лет). Аска-нио являлся сторонником враждебно настроенного к королю Ферранте неаполитанского кардинала Оливьеро Карафа, а Родриго Борджиа, вице-канцлера церкви, рассматривал в качестве запасного варианта.
Кандидатура Родриго Борджиа всерьез не принималась в расчет; по мнению современников, он был чужаком, не имевшим особых оснований быть избранным. Мы не знаем, что творилось в его красивой каталонской голове, вероятно, он даже поддерживал существующее мнение, чтобы иметь больше возможностей для интриг. Не впервые желания и амбиции Родриго были обращены в сторону престола; еще в 1484 году, когда конклав избрал папой римским Иннокентия VIII, Борджиа безуспешно интриговал в надежде оказаться избранным.
Теперь, по прошествии восьми лет, он стал намного богаче и находился в лучшем положении, поскольку представлял группировку, не относящуюся ни к миланской, ни к неаполитанской экстремистским партиям. А потому еще раз исподволь, упрямо приступил к реализации намеченных планов. Асканио, заинтересованный в том, чтобы выбранный папа оказался перед ним в долгу, полагал, что в худшем случае, не говоря уже о тех преимуществах, которые он при этом получит, даже Борджиа мог бы претендовать на его голос. Но Асканио ошибся в расчетах; он не учел психологического фактора. Асканио предусмотрел все, за исключением того момента, что никогда не смог бы использовать в своих целях такую умную лису, как Родриго Борджиа.
Конклав начался 6 августа 1492 года со смелого выступления Бернардино из Карваяла о зле, причиняемом церкви. В результате первого голосования Родриго Борджиа получил семь голосов, Карафа – девять, Джулиано делла Ровере – пять, Коста – семь и Мичел, кардинал из Венеции, – семь. Это были значимые результаты. Асканио Сфорца не получил ни одного голоса – свидетельство того, что он дал четкие указания своим преданным сторонникам. Голосование признали недействительным, и люди, ожидавшие результатов на площади Святого Петра, отправились по домам. При повторном голосовании Родриго получил восемь голосов, Карафа сохранил прежние девять, Джулиано делла Ровере – пять, и Мичел снова получил семь голосов. Это происходило летним утром, в девять часов, и, казалось, все застыло на мертвой точке. Несмотря на обособленность кардиналов, входящих в конклав, новости начали просачиваться наружу. Час за часом поступающие из Рима сообщения распространялись по всей Италии. Будет ли папой Карафа? Или Мичел? Или Коста? Тем временем, несмотря на видимость порядка, конклав пребывал в смятении. Борьба между двумя партиями была ожесточенной, но безрезультатной, поскольку ни одна из сторон не смогла прорвать оборону противника. Пробил час Родриго Борджиа. А чуть позже и весь мир принадлежал ему. Что же на самом деле происходило в тот день – великий день вице-канцлера? Как ему удалось убедить всех кардиналов? Нет никакой необходимости вникать в бесконечную сложную цепь переговоров, часть из которых носила характер устных соглашений, происходивших с 10 по 11 августа. К вечеру И августа Борджиа мог уже рассчитывать на семнадцать голосов, которые составляли больше двух третей, необходимых для избрания. Узнав об этом, Джулиано делла Ровере понял, что уже ничего нельзя сделать. «Тогда, – как впоследствии рассказывал феррарский посол, – поняв, что он не может ни выиграть, ни свести счеты, он поспешно и с большой охотой присоединился к враждебной партии». Благодаря сделанной уступке делла Ровере был награжден аббатством, различными бенефициями, получил должность легата в Авиньоне. Вдобавок Джулиано получил замок Рончильоне, находившийся на пути к северу Италии. Теперь, когда он получил возможность следить за движением в Рим и обратно, кардинал, по крайней мере, надеялся установить тайный надзор за перемещениями нового папы.
День и ночь Родриго Борджиа следовал своей недоступной для понимания других стратегии. На рассвете И августа римляне, находившиеся на площади Святого Петра, увидели, как посыпались кирпичи из замурованного окна, и услышали голос, радостно возвестивший об избрании вице-канцлера Родриго Борджиа, который впредь будет именоваться Александром VI. Во время четвертого голосования он был избран единогласно.
Рассуждение о том, насколько законно было голосование и о степени допущенной ошибки, заведет нас слишком далеко от основного сюжета. Как недавно объяснил Ла Торре, более всего Родриго Борджиа, бесспорно, обязан политической непримиримости двух главных соперников в конклаве. Вне всякого сомнения, он покорил сердца большинства кардиналов щедрыми дарами, и каждый мог проследить за их распределением. Деньги переходили из рук в руки настолько лихорадочно, что банк Спаннокчи, в котором хранилось богатство Борджиа, едва не обанкротился. Как бы то ни было, но описание Инфессурой нагруженных серебром мулов, движущихся из резиденции Родриго к дворцу Асканио Сфорца, может рассматриваться лишь как красочная легенда, но нет никаких сомнений, что симония{1} была. В сущности, весь этот рассказ предпринят только для того, чтобы обозначить прецеденты в жизни Родриго Борджиа.
«Наш предприимчивый папа, – писал 31 августа Джанандреа Боккаччо, посол из Модены, состоящий в переписке с герцогом Феррарским, – уже показывает себя в истинном свете». Эти корреспонденты, хитрые лисы из папской курии, исследуя происходящие события с беспощадностью в силу особенностей характера и жизненного опыта, понимали, чего следует ждать от испанца.
Семейство Борджиа происходило из небольшого городка Хативы, близ Валенсии в Испании. В венах людей, населявших этот город сплошь из белых домов на фоне голубого неба, текла смесь испанской и арабской крови. Борджиа являлись древним родом, который на протяжении веков пополнялся военачальниками и правителями. Они были местными грандами, наблюдавшими со сдержанной благосклонностью за дворами Кастилии и Арагона, энергичными и неугомонными, со столь же крепкими семейными узами, как у израильтян. В тех случаях, когда не находилось достойной пары, чтобы добавить блеска их роду, они обычно сочетались браком внутри своего рода. Но только с того момента, когда по счастливой случайности Алонсо стал папой римским Каликстом III, фортуна стала благосклонной к клану Борджиа. У Алонсо, самого младшего в семье, было четыре сестры. Имея склонность к духовной карьере, он избрал юриспруденцию и проявлял огромный интерес к сложным догматам канонического права – совершенного воплощения логического мышления. Прослушав его проповедь, доминиканец Винченцо Феррера предсказал, что Алонсо ждет большое будущее, и назвал его гордостью семьи и нации. Вероятно, Алонсо воспринял это пророчество как счастливое предзнаменование. Во всяком случае, начиная с этого момента Алонсо Борджиа неуклонно шел только вперед. Он был назначен секретарем арагонского короля Альфонсо и направлен в качестве посла к папе Мартину V. Искусная дипломатия Алонсо оказала огромную услугу папе; Борджиа смог даже убедить антипапу Климента VIII отказаться от посягательств на сан. В награду Алонсо был возведен в сан епископа Валенсии, которая с этого времени сохранялась за семейством Борджиа в качестве наследственной собственности. Благодаря собственным достоинствам и изысканным манерам Алонсо был произведен в кардиналы, и, наконец, 8 апреля 1455 года в возрасте семидесяти семи лет, страдающий от подагры, но по-прежнему неутомимо интригующий, он неожиданно был назначен папой римским, чем весьма был удивлен.
Каликст III был честным человеком, хорошим священником и искренне верил в собственные поступки и намерения, но он так никогда и не смог разобраться в проблемах высокой политики, в которой понимал еще меньше, чем в мире искусства и культуры. Упрямый нрав, непонимание классической литературы в век, безоглядно посвятивший себя латыни и греческому, заставили итальянских гуманистов видеть в Алонсо варвара. Они обвиняли его, и не без причины, что ради получения денег для проведения крестового похода против неверующих было изъято золото и серебро из священных рукописей в Ватикане. Единственным оправданием такого поведения служило чрезвычайно серьезное положение в войне с турками. Турецкий ятаган и любовь к семье действительно всю жизнь были навязчивой идеей Каликста III. Подобно Иннокентию VIII, он поддавался соблазну непотизма и всем тем чувствам сердечной привязанности и сочувствия (в которых он обычно испытывал недостаток) в тот момент, когда имел дело с любым членом своей семьи или чувствовал зов крови. У Алонсо не было детей, поскольку неизвестно, являлся ли он отцом Франческо Борджиа, ставшего впоследствии архиепископом Козенца, но он восполнил их отсутствие сестрами, племянниками, кузенами и другими родственниками, которые, несмотря на ненависть итальянцев, все прибывали и прибывали в Рим. Более других Алонсо любил двух племянников, Педро Луиса и Родриго, сыновей своей сестры Изабеллы, которая была женой Джофре Борджиа, и, следовательно, мальчики приходились ему племянниками и со стороны матери, и со стороны отца.
Таким образом, церковная карьера Родриго с самого начала складывалась весьма удачно. Он стал кардиналом в двадцать пять лет и благодаря влиянию дяди получил должность вице-канцлера церкви, по словам какого-то завистливого современника, означавшую «второе папство». Родриго был великолепным прелатом. Прекрасный оратор, невероятно привлекательный и внушающий симпатию, Родриго единственный из семьи умудрился, не вызывая ненависти, использовать каждое из предоставленных ему жизнью преимуществ. В этом он был полной противоположностью брату Педро Луису, который занимал невероятное количество должностей, в том числе главного капитана церкви и префекта Рима, но при одном взгляде на него у всякого сразу же возникала ненависть к этому человеку.
И вот наступил день, когда папа Каликст III заболел. Мрачное великолепие в испанском стиле сопровождало его длительную агонию. Окруженный родственниками, капелланами и наиболее преданными соотечественниками, денно и нощно при свечах читавших псалмы, папа, в то время как по городу ползли слухи, вызывавшие волнения и беспорядки, лежал, прощаясь с этим миром. Педро Луис чувствовал, что ему грозит опасность; он понимал, что пробил час расплаты, и обдумывал грандиозные планы по нейтрализации действий своих врагов. А вот у Родриго, впервые продемонстрировавшего благоразумие и предусмотрительность, имелись иные соображения. Педро Луис, префект Рима и капитан церкви, в последний день жизни папы Каликста III бежал из города с помощью кардинала Родриго и Барбо, кардинала Венеции, которые сопровождали его до дороги на Остию, где оставили сражаться в одиночку. Преследуемый Орсини, преданный собственными солдатами, Педро Луис разыграл свою последнюю карту с характерной для него решительностью, бросив вызов судьбе. Вместе с несколькими верными сторонниками он сумел скрыться в крепости Чивитавеккья, чтобы дождаться там момента, когда можно будет вернуться в Рим. Но 26 сентября 1458 года Педро Луис умер при невыясненных обстоятельствах.
Тем временем среди возникших волнений и беспорядков Родриго, сохраняя спокойствие, отправился в собор Святого Петра, чтобы помолиться за умирающего папу: собственный престиж защищал его куда больше, чем кардинальский пурпур. Он отдал на разграбление свой дворец, рассудив, что буйствующая толпа удовлетворится грабежом, и оказался прав; ни в чем ином он не пострадал, хотя даже его итальянские друзья и чужеземцы Борджиа подвергались преследованию и уничтожению. Когда последние признаки жизни исчезли с лица Каликста, его домочадцы, включая родственников, друзей и даже сестер, в панике бросили папу. В отличие от всех Родриго оставался рядом с ним до его последнего вздоха.
Следующим папой стал Энеас Сильвиус Пикколомини, принявший имя Пия II. Это был творец, философ и блестящий гуманитарий, имевший причину испытывать к Борджиа благодарность, поскольку Родриго подал за него решающий голос в конклаве. Пикколомини был не их тех, кто забывал людей, оказавших ему поддержку. Тем не менее его знаменитое письмо с предостережением кардиналу Борджиа является одним из наиболее откровенных документов, характеризующих образ жизни Родриго. Письмо, собственноручно написанное папой в июле 1460 года, адресовано в Сиену, где в то время находился кардинал.
«До Нас дошли слухи, будто три дня назад, забыв о высоком сане, ты находился с часа дня до шести часов среди женщин Сиены, собравшихся в садах Джованни Бичи. Ты пребывал там в сопровождении духовного лица, чей возраст, не говоря уже об уважении к папскому престолу, должен был бы напомнить о его долге и обязанностях. Нам сообщили, что танцы носили непристойный характер и не было недостатка в любовных соблазнах, а твое поведение ничем не отличалось от поведения мирян в подобной обстановке. Приличия не позволяют нам входить в детали происходившего, поскольку речь идет о делах, упоминание о которых несовместимо с твоим саном. Мужьям, отцам, братьям и другим родственникам, сопровождавшим девиц, вход в сады был запрещен, чтобы никто не мог помешать тебе и еще нескольким лицам свободно предаваться удовольствиям. В Сиене только и говорят, что об этом сборище, и смеются над тобой… Посуди сам, совместимо ли с твоим достоинством ухаживать за девицами, посылать им фрукты и вино, проводить целые дни в непрерывной череде развлечений и, наконец, отправлять мужей, чтобы обеспечить себе полную свободу действий. Не только Нас обвиняют на твой счет, но и твоего покойного дядю Каликста порицают за то, что он доверил тебе столь ответственные посты. Вспомни о своем достоинстве и не старайся завоевать репутацию волокиты…»
Родриго предпринял различные попытки, чтобы доказать, что слухи, ставшие причиной этих упреков, по большей части основывались на сплетнях. Конечно, это было нелепо, поскольку дело оказалось общеизвестным, и огорченный понтифик констатировал: «Здесь, в Бигни, среди множества людей духовного звания и мирян, ты стал уже притчей во языцех…»
В подтверждение справедливости этих упреков Люцио опубликовал письмо посла в Мантуе Гонзага, написанное в июле 1460 года, в котором подробно рассказывалось о случае, связанном с крестинами. Вот что говорилось в письме: «Мне ничего не остается, как описать Вашей Светлости крестины живущего здесь мужчины, которые отправлялись сегодня… организаторами которых являлись монсеньер Рохан и вице-канцлер [Родриго Борджиа]. Они были приглашены в сад крестным отцом, куда привели крестницу. Там был весь цвет общества, но никто не входил в сад, оберегая священнослужителей… Остроумный Синесе, который не смог пройти в сад, заявил: «Мой бог, если бы все дети, рожденные за год, вступали в мир в отцовской одежде, они все бы оказались священниками и кардиналами».
Во всем великолепии своих тридцати лет Родриго Борджиа притягивал женщин, как, цитируя летописца Гаспара де Верона, «магнит притягивает железо». Письмо Пия II задевало за живое, и можно представить, насколько это было неприятно. Родриго поспешил ответить, приведя искусные оправдания, но все-таки не смог обмануть понтифика; ему удалось только несколько смягчить папу. Пий II более всего хотел снять со своего вице-канцлера все обвинения, и в ответном письме можно увидеть желание простить кардинала одновременно с выражением недовольства всем происшедшим. «То, что ты сделал, – писал понтифик, – не может считаться безупречным, хотя, возможно, заслуживает гораздо меньше порицания, чем мне давали понять». В дальнейшем кардиналу пришлось быть более осмотрительным; что же касалось папы, то он простил Родриго и заверил его, что до тех пор, пока тот будет вести себя достойно, он, папа, будет ему отцом и покровителем.
Однако мы понимаем, что у Пия, осознающего, что он бессилен что-либо изменить, имелись дурные предчувствия в отношении будущего. Родриго устроил сцену покаяния, покинув Сиену, якобы для того, чтобы уединиться в Корсигнано и исполнить епитимью. Но не склонный обуздывать свою бьющую через край энергию, он дал себе полную волю, устраивая охоты с безумными погонями по лесам и холмам Тосканы и Апеннинам, для которых его друг маркиз Мантуи присылал специально обученных ястребов, соколов и гончих. В благодарность кардинал признался Гонзага, что не смог бы «жить в праздности и без удовольствий» и «выносить скуку в этой суровой, дикой местности». Теперь вам ясно, что имел в виду Родриго, говоря о раскаянии?
В возрасте всего лишь шестидесяти лет Родриго взошел на Святейший престол; для здорового мужчины – это вершина зрелости. Несмотря на массу полученных благодаря счастливой судьбе привилегий, я, тем не менее, полагаю, что не следует приписывать Александру VI качества истинного политического гения. Он был наделен острым умом, великолепно сложен и обладал невероятной притягательной силой. К этому следует добавить его умение разбираться в делах государственных, искусное мастерство в решении церковных и юридических проблем, сообразительность и хорошо развитое политическое чутье. Он никогда не обучался ораторскому искусству, широко распространенному среди кардиналов той эпохи, но его латынь отличалась невероятной живостью, энергией и совершенством. Все, что он говорил, будь то на латыни, итальянском или испанском, отличалось естественной грацией. Огромное разнообразие акцентов, неожиданные каденции и невероятный пафос; с помощью этих средств ему удавалось навязывать собственные взгляды, умудряясь заменять ими абсолютные истины. Он умышленно подчеркивал театральность внешнего вида и манеры поведения. Родриго был великолепным актером, импозантным и величественным, что подчеркивалось пурпуром и драгоценными камнями, удивительно подходящими его образу. Родриго был красив, но это вовсе не означало, что у него были правильные черты лица. Его привлекательность заключалась в выражении мужественности, одновременно ослепительном и высокомерном, сияющем на лице, внезапно вспыхивающем на чувственных губах, а совершенная форма его носа давала полное представление о его силе и восприимчивости. В шестьдесят лет он все еще откровенно любил женщин. Родриго был страстно привязан к детям; чем красивее и энергичнее они были, тем более видел он в них свое отражение и, внимательно наблюдая за их развитием, испытывал глубокое внутреннее удовлетворение. По словам его современников, «никогда еще не было такого чувственного епископа».
В 1488 году умер старший сын Родриго, Педро Луис, получивший герцогство Гандийское в Испании. Умерла и Иеронима, вышедшая замуж за отпрыска одного из знатных римских родов Чезарини. Еще одна дочь, Изабелла, жила в счастливом браке с римским аристократом Пьетро Матуцци. Нам неизвестны имена матерей этих троих детей. Особенно Родриго любил Чезаре, Хуана, Лукрецию и Джофре, рожденных Ванноццей Катанеи, женщиной, которую он дольше всех любил и всегда защищал. Несмотря на то что она, похоже, не оказывала непосредственного влияния на своего великого покровителя, Ванноцца любила и была любима, и ее дети росли подобно стройным тополям на берегу реки, заполненной отцовской любовью и заботой. Еще до достижения восемнадцатилетия Чезаре облачился в одеяние священника; вероятно, его отец уже тогда рассматривал сына как третьего папу в роду Борджиа. Хуану, унаследовавшему в шестнадцатилетнем возрасте Гандийское герцогство брата Педро Луиса, сулили военную карьеру. Двенадцатилетняя Лукреция находилась на попечении у одной из племянниц папы, Адрианы Мила Орсини, отвечавшей за образование девочки, а вот вопрос о будущем маленького Джофре, хотя ему уже было одиннадцать лет, пока еще не решен, но он уже имел титул и доходы каноника и архидьякона Валенсии.
Ванноцца, благодаря продолжительной привязанности и любви кардинала Борджиа жившая в счастье и благополучии, часто виделась с детьми. Ее жизнь была подчинена светским условностям, что требовало от нее держаться с достоинством. Она всегда жила в собственном доме и, за исключением коротких промежутков, была замужем сначала за церковным служителем Доменико д'Ариньяно, а затем с 1480 года за Джорджо делла Кроче, миланцем, которому она родила сына Оттавиано и с которым жила в величественном здании, втором по величине после кардинальского, на Пьяцца-ди-Мерло.
Фасад дома выходил на площадь. Светлый и солнечный, что являлось редкостью для узких улочек средневекового Рима, с множеством комнат, бассейном и с дорогим сердцу Ванноццы садом; она любила свежесть виноградных лоз. Здесь Ванноцца прожила несколько лет, но после смерти второго мужа и последовавшей вскоре смерти сына Оттавиано она опять выходит замуж и поселяется на площади Бранка в районе Аренула. Ее третий муж, Карло Канале, родом из Мантуи. Он отошел от дел и великолепно проводил время в узком кругу местных литературных знаменитостей, включая Анджело Полициано, который посвятил ему своего «Орфея». В числе прочих свадебных подарков Ванноцца получила в приданое тысячу золотых дукатов и должность в папском суде для мужа.
Весьма вероятно, что Ванноцца была родом из Мантуи, поскольку венецианский хроникер (летописец) Марин Санудо, владевший точной информацией обо всем происходящем, в своих дневниковых записях относит Ванноццу Катанеи к Мантуе. Фамилия Катанеи часто встречается во многих областях Италии, но особенно широкое распространение в те годы имела в Мантуе. Ванноцца, вероятно, была не только красива, но и невероятно соблазнительна, если умудрилась не наскучить Борджиа, – ведь он любил ее много лет и продолжал любить даже тогда, когда по тем меркам она уже считалась старой, в возрасте сорока лет. К тому моменту, когда родился последний сын Родриго – Джофре, отношения Ванноццы с кардиналом, длившиеся уже более десяти лет, напоминали своего рода супружество. Подобно морганатической жене, Ванноцца не афишировала своих отношений с кардиналом, но, например, летом или при первых признаках эпидемий, ежегодно случавшихся в Риме, она удалялась в надежно защищенные и хорошо оборудованные замки Борджиа в Непи, или, что было гораздо предпочтительнее, в Субиако. Родриго, подобно всем сильныммужчинам, уверенным в будущем, разбирался в строительстве и воздвиг в Субиако крепость со стенами, превышающими стены средневекового монастыря, на которых свирепыми аббатами было проиграно и выиграно так много сражений. Ванноцца устраивалась в этих высоких и просторных домицилиях в ожидании кардинала. С верхней смотровой площадки крепости она видела только находящийся внизу монастырь, хранящий память о святых и императорах, мирных и воинственных монахах – священный лабиринт, об истории которого повествовали картины, изображенные на его стенах. В 1471 году Каликст III передал доходы монастыря Родриго Борджиа.
Появившемуся на свет в апреле 1480 года в Субиако светловолосому ребенку было дано имя Лукреция Борджиа. Место рождения упоминается в «Storia Sublacense» дона Алессандро Туммолини, исследовавшего монастырские архивы и использовавшего рукопись «Memoirs of Stipendiary Cardinals», также упоминаемую другими историками, а ныне утерянную. Нет причин ставить под сомнения свидетельства Туммолини, тем более что, когда он упоминает о рождении Чезаре Борджиа, также случившемся здесь, историк просит прощения у жителей Субиако за тот позор, который навлекло на них рождение подобного чудовища, и не отказывает себе в потоке наивных излияний, дабы показать, что они не несут ответственности за данный исторический факт.
Сердце отца таяло при взгляде на светловолосую, с ласковыми серо-голубыми глазами Лукрецию. Когда Родриго держал девочку на руках, глядя на ее маленькое смеющееся личико, он, должно быть, ощущал себя таким же надежным, как бастион, охраняющий это хрупкое существо. Неизвестно, воспитывалась ли маленькая Лукреция в монастыре, но она, безусловно, любила монастырь доминиканских монахинь Сан Систо на Аппиевой дороге, и можно предположить, что она, по крайней мере, всегда находилась там во время религиозных празднеств. Без сомнения, в стенах монастыря ей привили чувство собственного достоинства, которое должно было уберечь от крушения в те дни, когда она была близка к тому, чтобы сбиться с истинного пути. Безусловно, Лукреция со всей искренностью относилась к религии; известна ее любовь к молитвам, ладану и духовной музыке.
Монастырь служил ей якорем в жизненном круговороте. Для Лукреции он означал не просто возврат к чему-то абстрактному, а возвращение в собственное детство, где она чувствовала защищенность в окружении шелеста нежно звучащих голосов, в мире, лишенном чувственности и сладострастия.
Являясь дочерью могущественного кардинала, Лукреция, по всей видимости, пользовалась большим уважением. Пока она, вероятно, не задумывалась об особенностях своего положения, лишь испытывая удовольствие от имеющихся преимуществ. Она видела женщин при дворе папы Иннокентия VIII, прибывающих и убывающих из Ватикана, почитаемых и уважаемых подобно законным принцессам. Лукреция, конечно, гордилась тем, что принадлежала к семейству, в число предков которого входили папы и которое было настолько связано с делами и выдающимися деятелями церкви, что казалось стоящим выше всех.
Лукреция походила на отца твердой уверенностью в многообещающее будущее. У нее был такой же, как и у отца, срезанный подбородок, но столь изящной формы, что делал ее вечно молодой. Несмотря на все изящество, горячая испанская кровь придавала грациозной и светлоглазой Лукреции здоровый и цветущий вид. Она была образованна, поскольку находилась на воспитании у Адрианы Мила Орсини, племянницы Родриго Борджиа, которая, согласно преданию, слышала зов Каталонии и ощущала себя испанкой. Слушая Адриану, Лукреция воссоздавала в воображении красивую легенду, принимавшую вид ее собственных грез. Подобно знатным женщинам своей эпохи, она изучала гуманитарные науки, но, по всей видимости, предпочитала изучение испанского языка и танцев своей страны. Так что попытки, предпринятые в 1491 году, чтобы выдать ее замуж за молодого испанского дворянина, должны были показаться ей естественным завершением всех этих приготовлений.
Помолвка явилась первым официальным актом в жизни Лукреции. Нотариус Камилло Бенеймбене, который вел все дела Борджиа, 26 февраля 1491 года составил брачное соглашение между дочерью Борджиа и доном Хуаном де Сентелльясом, владельцем Валь д'Ауора в Валенсии. Контракт подписали в Каталонии, и было обещано приданое на общую сумму в 30 тысяч дукатов, частично деньгами, частично украшениями и драгоценными камнями, как дар невесте от отца и братьев. Лукрецию следовало отправить в Валенсию, где по истечении полугода должна была состояться свадьба. Казалось, судьба Лукреции отныне решена и она в скором времени отправится в Испанию. Но не прошло и двух месяцев с момента первого соглашения, как был подписан новый контракт, соединивший обворожительную Лукрецию с пятнадцатилетним доном Гаспаре д'Аверса, графом из Просиды, который тоже был родом из Валенсии. Вероятно, свою роль сыграли амбиции кардинала Родриго.
Можно с уверенностью сказать, что Лукреция не знала ни одного из этих претендентов, хотя и понимала (не было причины скрывать это от нее), что обручена. Не могу сказать, принадлежало ли тому, кто повлиял на ее девичьи грезы, имя Хуан или Гаспаре. Возможно, у него не было имени, ведь для одиннадцатилетних девочек, несмотря на раннее развитие, сны не имели особой связи с действительностью. Мысли Лукреции, по всей видимости, сосредоточились пока на двух женщинах, с которыми она жила, поскольку и Адриана Мила, и Джулия Фарнезе были выдающимися женщинами, игравшими важную роль в любовной жизни Александра VI.
Адриана Мила была дочерью Педро Мила, прибывшего в Италию во времена Каликста III вместе с другими каталонцами, заполонившими Апостольский дворец. Вероятно, она родилась в Риме, о чем говорит ее типичное для этого города имя, и обосновалась здесь, став женой Людовико Орсини, владельца небольшого поместья Бассанелло рядом с Витербо. С 1489 года, став вдовой, она жила с маленьким сыном, названным в честь главы семьи Орсо. У него было косоглазие, и в ватиканском обряднике он записан как «Монокулус Орсинус»; судьбе было угодно, чтобы он навечно остался в истории как рогоносец. Свадьба молодого Орсо состоялась 21 мая1489 года, когда нотариус Борджиа, Камилло Бенеймбене, в присутствии кардинала Дж. Б. Зено, вице-канцлера Родриго Борджиа, прелатов, знати, свидетелей и родственников рода Орсини, Фарнезе и Борджиа, соединил его священными узами брака с «восхитительной и простодушной девушкой» Джулией Фарнезе.
Джулия происходила из древнего рода провинциальной аристократии, которому принадлежали земельные угодья, расположенные вокруг озера Больсена в Каподимонте. В замке Каподимонте величие прославленного имени сочеталось с патриархальной простотой. К настоящему моменту род Фарнезе достиг полного совершенства, соединив в себе все таланты, отпущенные природой: красоту, ум, изящество, сообразительность, удачливость и приличное состояние; требовался только удобный случай, чтобы семейство Фарнезе приобрело величие и прославило собственное имя. К 1489 году в живых остались четверо детей покойного Пьеро Луиджи Фарнезе. Во главе семьи стоял Анджело, подобно всем тиранам посвятившей себя военному искусству. Алессандро, являвшийся протонотарием, выбрал этот путь с тем, чтобы добиться папской тиары (впоследствии он стал папой Павлом III). Джироламо женился на Расси Флоренсе. Но путеводной звездой этой семьи была молодая, очаровательная Джулия, которая, едва появившись в Риме, снискала прозвище LaBella. Ее красота помогла стремительному взлету семейства Фарнезе, поскольку, едва увидев девушку, кардинал Родриго Борджиа страстно влюбился в нее. Затрудняюсь сказать, существовали ли уже доказательства любовных отношений между пятнадцатилетней Джулией и Борджиа, когда праздновалась свадьба Джулии с Орсо в вице-канцлерском по-восточному роскошном дворце. Возможно, Родриго был представлен во время свадебной церемонии своей племянницей, матерью Орсо. В письме, датированном 1494 годом, Алессандро недвусмысленно намекает на супружескую близость Джулии и Орсо, из чего можно сделать вывод, что с помощью свадьбы они просто легализовали свои отношения и свадьба отнюдь не служила предлогом, который кардинал использовал лишь для того, чтобы заполучить Джулию. Наиболее вероятно, что страстные чувства пробудились у Борджиа уже после свадьбы, когда он встретил Джулию в доме Адрианы, где был частым посетителем, поскольку любил племянницу и доверял ее мнению. Остается неясным, в какой именно момент Адриана поняла, что Борджиа избрал жену ее сына в качестве предмета сладострастия, и трудно сказать, как и почему Адриана решила стать сообщницей Родриго, и уж совсем непонятно, как об этом она сообщила невестке. Должно быть, Адриане нелегко было принять такое решение, поскольку именно она в первую очередь должна была ужаснуться случившемуся.
Как случилось, что возмутительный тайный сговор между свекровью и невесткой привел не просто к хорошим, а очень доверительным отношениям? Две женщины жили в полной гармонии между собой. Гости находили у них полное единодушие по всем вопросам, касалось ли это друзей, отношений с папой или приема послов. От Джулии требовалось только любить; Адриана с помощью разных ухищрений должна была охранять от посторонних глаз эту любовную связь. Будучи практичной особой, она приготовилась к тому, чтобы пожертвовать сыном, если папа обеспечит ему материальное благополучие. По этой причине она постоянно расхваливала Орсо в Ватикане. Возможно, Адриана считала само собой разумеющимся, что однажды страстному увлечению Родриго наступит конец и тогда будет доказана разумность ее позиции.
Таким образом, в ноябре 1493 года Джулия стала полуофициальной фавориткой Борджиа. Тем не менее, желая снискать расположение папы или добиться каких-либо привилегий, послы и правители гораздо чаще обращались за помощью к Адриане и малышке Лукреции. Три эти женщины жили во вновь отстроенном дворце Санта-Мария-ин-Портико, переданном им кардиналом. Дворец располагался слева от входа в папскую резиденцию в Ватикане и имел отдельный вход в собор Святого Петра, ведущий из личной часовни дворца в Сикстинскую капеллу. Это было великолепное сооружение с крытой галереей, идущей по всему первому этажу, со сводчатыми решетчатыми окнами и множеством просторных, красивых комнат. Его населяли любимые Александром VI женщины вместе со всеми их горничными, служанками и придворными дамами. Так он мог найти женщин, которые либо взывали к его отцовским чувствам, либо пробуждали чувственные желания, либо добивались особых дружеских отношений, которые в его случае подразумевали соучастие в любовной интриге. Он сотрясался от смеха при одной мысли об этом.
Множество Борджиа наводнили Ватикан. Сначала прибыли те, кто уже находился в Риме или Италии. Следом двинулись Борджиа, жившие в Испании; мужчины, женщины, дети и целые семейства устремились в погоню за богатством. Эти ничтожные людишки строили родственные взаимоотношения, вращаясь вокруг главы своего клана.
Александр VI незамедлительно приступил к действиям. Сразу же после избрания папой он передал своему сыну Чезаре архиепископство Валенсии и в проведенной тайно 31 августа консистории возвел своего племянника Джованни Борджиа, в ту пору архиепископа Монреальского, в кардиналы. «Он действовал настолько умело, – отмечает Джанандреа Боккаччо, – что все кардиналы оказали ему активную поддержку». Конклав пока еще без особого подозрения относился к вновь избранному папе, во всяком случае, поскольку Борджиа, не скупясь, одарил кардиналов конклава, родственники папы могли рассчитывать на получение определенных привилегий. Новоявленный Борджиа расположился в Апостольском дворце. Один из независимых обозревателей описывал Борджиа как «выдающую и весьма авторитетную личность», другими словами, следовало оказывать папе всевозможную помощь и поддержку. Спустя два месяца еще один Борджиа переехал в Ватикан – кузен папы, Родриго, сменивший Доменико Дориа в должности капитана дворцовой охраны. Эти Борджиа предназначались для ограничения власти Асканио Сфорца (именно по этой причине Джулиано делла Ровере, мгновенно оценив обстановку, оказал такую горячую поддержку Джованни Борджиа). Что же касается кардинала Сфорца, то у него не заняло много времени, чтобы понять – ему потребуются все его способности, чтобы удержаться на плаву. Уже ощущалось, что Александр VIстанет «понтификом, который будет делать то, что захочет, не обращая ни на кого внимания». Проживая рядом с папой в Ватикане, Асканио пристально наблюдал за ним, ощущая витающие в воздухе тревогу и опасность; не успокаивали и распространявшиеся повсеместно слухи. «Из-за свадьбы племянницы трудно установить отношения с папой», привычка обращаться за помощью к Лукреции в первые месяцы пребывания Родриго у власти не представлялась чем-то особенным, «и все уповают на чудо: даже у короля [Неаполя] появляются шансы на выигрыш». А вот кардинал Асканио чинил всяческие препятствия на пути короля. Он достаточно знал о любви папы к маленькой дочери, чтобы предпринять разумные действия в попытке привлечь ее на сторону Сфорца.
Презренный Джан Галеаццо Сфорца, царствующий миланский герцог, несмотря на молодость, уже изрядно устал от удовольствий и развлечений, которые позволял ему дядя и опекун Людовико Моро (неодобрительно относившийся к такому времяпрепровождению). Людовико был из тех людей, у которых жажда власти воистину неутолима, а его жена, Беатрис д'Эсте, принадлежавшая к герцогскому дому Феррара, добавляла к его амбициям собственное неуемное честолюбие. Хотя ей не было и двадцати, когда Александр VI взошел на папский трон, Беатрис д'Эсте уже четко определила цели и пути их достижения. Она была крайне своенравной женщиной, сочетавшей изысканное изящество с тонким умом и болезненным самолюбием, и больше всего на свете ненавидела женщину, лишившую ее, как она считала, положения первой дамы Милана, – благородную Изабеллу Арагонскую, жену Джана Галеаццо. Безусловно, следует признать, что убедить Моро пригласить в Италию чужеземца, чтобы разгромить ненавидимую арагонскую династию, могла только обладающая определенными качествами Беатрис, однако вряд ли одна женщина могла бы нести ответственность за серьезные события, которые должны были вскоре последовать. В данный момент это была историческая неизбежность. Беатрис действительно «гениально» разжигала борьбу между Сфорца и Неаполем, и, хотя она, возможно, испытывала муки ревности (насколько мне известно, не найдено никаких писем Беатрис Лукреции), тем не менее согласилась с планом Асканио, согласно которому не следовало упускать такого важного заложника, каким являлась дочь папы римского.
Асканио незамедлительно приступил к внимательному изучению генеалогического древа своей семьи. Рассматривая боковые ветви, он наткнулся на Джованни Сфорца, носящего титул графа де Котиньола и синьора Пезаро, небольшой папской вотчины на границе с Романьей. Джованни, похоже, имел все необходимые качества. Двадцатишестилетний вдовец (его женой была Маддалена де Гонзага), получивший гуманитарное образование, и если его внешность оставляла желать лучшего (это еще мягко сказано), то ему нельзя было отказать в умении одеваться со вкусом и вести светский образ жизни. Он был чрезвычайно тщеславен и корыстен, но по сравнению с пышным великолепием миланских родственников находился практически на уровне плебея.
Итак, Джованни Сфорца был немедленно вызван в Рим, куда и прибыл инкогнито в середине октября 1492 года. Епископ Боккаччо моментально определил, откуда дует ветер, но еще быстрее это понял один из женихов Лукреции, дон Гаспаре д'Аверса, который уже видел своих детей, крепко связанных родственными узами с королевскими домами и правящими династиями. Когда дон Гаспаре прослышал о планах Сфорца, то немедленно отправился в Рим. Поведение испанца полностью отличалось от осмотрительной манеры фаворита. С контрактом в кармане и при поддержке отца он упорно настаивал на предоставлении аудиенции и с каталонской бравадой объяснял всем без исключения, что он предназначался для того, чтобы чинить препятствия, и что король Испании на его стороне. Он заявил, что обратится ко всем монархам христианского мира в том случае, если не восторжествует справедливость. Слушавшие его люди, закаленные многолетним дипломатическим «хождением по проволоке», задавались единственным вопросом: во сколько обойдется папе бунт дона Гаспаре? Не могу с определенностью утверждать, но, похоже, цена составляла 3 тысячи золотых дукатов. Что мне доподлинно известно, так это то, что Александр VI запутал обоих испанцев, отца и сына, предоставив им право выбора, притворился, что идет на уступки и что составленный 8 августа контракт приостанавливает, но не расторгает прежний брачный контракт. По условию договора свадьба молодого валенсийца откладывалась на год, чтобы «с наступлением более благоприятного момента» он мог бы сочетаться браком с Лукрецией. Я не могу с уверенностью сказать, что имел в виду Александр VI, выставляя подобное условие, но, видимо, с помощью этой уловки он намеревался освободить Лукрецию хотя бы на данный момент. Как дон Гаспаре ни упрямился, но все-таки попал в ловушку. Что касается Джованни Сфорца, то, когда у него поинтересовались его мнением об этой истории, он заявил, что был совершенно уверен в таком исходе. Вернувшись в Пезаро, он сразу же направил своего поверенного в делах мессира Никколо да Сайяно в Рим для подписания контракта; Никколо был доктором права в Ферраре и отличался невероятной хитростью и изворотливостью. С этого времени судьба Лукреции была решена – ей предстояло стать графиней де Пезаро.
Граф де Пезаро, ощущая важность момента, посвятил себя свадебным приготовлениям. Благодаря вмешательству папы он получил хорошо оплачиваемый высокий пост в армии Милана. Люди завидовали ему не только потому, что его будущая жена стала причиной такой конкурентной борьбы, но и потому, что была цветущей, молодой и держала сердце отца в своих маленьких ручках. Было известно, что у Лукреции были потрясающие наряды и украшения (одно только свадебное платье обошлось в 15 тысяч дукатов), что она получит сказочные подарки, а ее брат, герцог Гандийский, являющийся самым элегантным и расточительным юношей Рима, будет увешан великолепными драгоценными камнями. Джованни приготовился играть такую же важную роль, как и его будущие родственники. Но у него не было туго набитого кошелька, и он находил это унизительным; более всего он нуждался в золотом, сложного плетения ожерелье, одном из тех ювелирных шедевров Ренессанса, которые являлись признаком богатства и хорошего вкуса. Джованни решил одолжить ожерелье у брата первой жены, маркиза Мантуанского. Гонзага с удовольствием исполнил его просьбу, поскольку теперь, когда Джованни готовился стать «дорогим сыном Александра VI», было важно обрести его расположение и благосклонность, и отправил ему несколько самых дорогих украшений.
Между тем 2 февраля 1493 года мессир Никколо да Сайяно по доверенности обручил Джованни Сфорца с Лукрецией и подписал брачный контракт. Лукреция незамедлительно приступила к приему гостей, послов королевских домов, прибывших поздравить ее. Ей помогали Сайяно и, конечно, Адриана Мила, получившая блестящую возможность во время приемов использовать испанскую высокопарность и гениальные способности для интриганства. Когда прибывший с поздравлениями от лица герцога и герцогини Феррарских епископ из Модены воспользовался случаем, чтобы попросить кардинальский сан для Ипполито д'Эсте, второго сына графа, ответила, как всегда, Адриана. Она объяснила, что разговаривала с папой по этому вопросу и перспективы превосходные, а затем добавила: «В любом случае мы сделаем его кардиналом». Вероятно, в своих обязанностях наставницы она заходила столь далеко лишь по одной причине: Лукреции было всего тринадцать лет. В какой-то момент из-за распространившихся слухов, будто папа ведет в Испании переговоры относительно брака дочери с графом Прада, показалось, что судьба Лукреции в очередной раз должна измениться. Но, как выяснилось, это был всего лишь тактический ход, отвлекающий враждебно настроенных в отношении свадьбы Лукреции и Сфорца. Возможно, летописцы того периода, как и историки более позднего времени, включая Грегоровия, решили, что папа, должно быть, вполне искренне изменил свое решение. В недавно обнаруженном письме Джанандреа Боккаччо сообщает герцогу Феррарскому, что кардинал Асканио конфиденциально, памятуя о тайне исповеди, сообщил ему, что «…для достижения определенной цели и с учетом многих серьезных причин это событие [брак] сохраняется в тайне и умышленно пущен слух, что ее [Лукрецию] выдадут замуж в Испании». Первоначально свадьба была назначена на 24 апреля, праздник святого Георгия, а затем перенесена на май. В итоге окончательной датой было определено 12 июня.
Летом в Риме жарко, но не душно. Когда на небе, кажется, нет ни малейшего намека на облака, откуда-то внезапно налетает ветерок, достигающий каждого раскаленного уголка городских улиц и переулков. Тогда у всех поднимается настроение и появляется ощущение необыкновенной легкости. Должно быть, именно такой ветерок налетел на свадебную кавалькаду, двигавшуюся вдоль городской стены Рима воскресным днем 9 июня. Процессию возглавляли самые влиятельные аристократы в парчовых облачениях, следовавшие за шеренгой пажей, одетых в разноцветные шелка. Придворный шут, «священник» Мамбрино, в бархатном платье и золотом колпаке, дурачась и насмешничая, создавал атмосферу беззаботности. Перед Порто-дель-Пополо жених был встречен придворными кардиналами, и посол Венеции произнес небольшую поздравительную речь, дабы продемонстрировать отеческую благосклонность республики к небольшому графству Пезаро, расположенному на ее границе. Затем под веселую музыку, исполняемую на флейтах и трубах, пышная процессия двинулась дальше. Она блестела и переливалась в горячих солнечных лучах, проходя мимо дворца Святого Марка, через площадь Фиори, по мосту замка Святого ангела, чтобы наконец пройти мимо дворца невесты.
Можно представить себе, что занятая свадебными приготовлениями Адриана Мила заранее подготовила Лукрецию. Девочка уже приняла поздравления и пожелания римских дам и, вероятно, впервые в жизни испытала опьянение, оказавшись центром устремленных на нее сотен глаз.
Все женщины и дети, едва заслышав вдалеке звуки труб, оставили невесту одну на почетном месте в лоджии и заняли места у окон. Площадь заполнилась людьми; первыми появились аристократы и пажи, затем кардиналы и, наконец, группа послов, в центре которой находился жених. Взгляды всех, от самого маленького пажа до самого важного посла, были обращены в сторону галереи дворца Санта-Мария, того самого, где жили женщины папы римского, дома Джулии Фарнезе, родственников Иннокентия VIII, известных аристократов Орсини, Колонна и других знатных фамилий. Там находилась маленькая Лукреция, которую «безумно» любил папа, и, как было отмечено, солнце сверкало в ее длинных белокурых волосах, струящихся по хрупким плечам к талии, подобно золотому водопаду. Джованни Сфорца подскакал на лошади к дворцу и остановился под галереей. Взгляды Джованни и Лукреции встретились, и дальше все должно было идти по давно заведенному порядку. Жених знал свою роль. Он, подобно придворному, отвесил поклон в сторону окна, где увидел украшенную драгоценностями головку Лукреции. После этого процессия двинулась к Ватикану, где ее ожидал папа с пятью кардиналами. Граф де Пезаро преклонил колени перед величественным тестем и произнес речь на латыни о нем самом, его государстве и всей принадлежащей ему собственности. Папа ласково ответил. По окончании официального приема граф де Пезаро вместе со свитой направился к кардинальскому дворцу, расположенному рядом с замком Святого ангела, где поселился в ожидании церемонии бракосочетания.
Здесь я хочу прервать повествование, чтобы сказать несколько слов о Джованни Бурхарде, церемониймейстере папского двора и непосредственном свидетеле событий. Немец из Страсбурга, купивший свое место за 400 золотых дукатов, он все время проводил в камерах и антикамерах Ватикана. Придавая значимость происходящему, вел дневник (записи были на так называемой вульгарной, «кухонной» латыни), в котором отмечал все важные события, свидетелем которых он был. Несмотря на определенную психологическую ограниченность, его, как правило, признают одним из основных очевидцев римского периода жизни Борджиа, хотя находятся историки, подвергающие сомнению надежность его свидетельств. Конечно, следует признать, что иногда создается впечатление, будто он намеренно хотел запутать нас. Страницы дневника «Liber Notarum» переполнены мельчайшими деталями различных торжеств и подробностями папского этикета, так что не остается ничего другого, как поверить ему и усмотреть в его педантизме и упорядоченности надежность свидетельства старательного государственного служащего. Правда, временами нам придется столкнуться с такими местами в дневнике, которые предоставят ужасающие обвинения в адрес Борджиа и Лукреции. Бурхард никогда не занимался сплетнями, не обсуждал событий и не высказывал собственного мнения. Его недоброжелательность видна как раз в показной сдержанности. Однако практически невозможно сомневаться в человеке, терпеливо показывающем более чем на сотне страниц, что он понимал, как следовало сохранить свое место. Очевидно, ограниченные пуританские взгляды вынуждали его искажать некоторые события, происходящие в среде Борджиа, но при этом доказывать достоверность представленных свидетельств. Бурхард не осуждал Борджиа; он сухо, точно, даже несколько смягчая, описывал непристойности, свидетелем которых являлся. Большинство современных историков были вынуждены признать, что почти каждое из описанных Бурхардом событий находило отражение в переписке его современников, не подозревавших о дневнике церемониймейстера. У меня еще будет повод вернуться к рассмотрению этого вопроса. А сейчас мы имеем дело с тем Бурхардом, который занимается планированием шествий, приемов и в июне 1493 года занят церемонией бракосочетания дочери папы римского.
Свадьба проходила в новых апартаментах Ватикана, и Пинтуриккьо уже приступил к их росписи. Комнаты, роскошно обставленные, тем не менее, не были загромождены мебелью. Помимо расписных стен, золотых потолков, лепных и мраморных украшений, все убранство состояло из восточных ковров и мягких драпировок. Были там кресла, диваны и бархатные подушки, но самым важным являлся возвышавшийся над всем трон папы, вернее, два трона: один в большом зале, где происходил прием, а другой в небольшой комнате, предназначенной для церемонии. Герцог Гандийский получил задание привести невесту и, надо сказать, великолепно справился с ним. В честь сестры герцог облачился в необычную турецкую мантию, a la francaise, волочащуюся по земле, из золотой струящейся ткани, расшитой огромными жемчужинами; на шее у него было ожерелье из рубинов и жемчуга, а головной убор украшен великолепным бриллиантом.
Наконец настал и день, 12 июня, и час церемонии. Вбежавшие первыми в апартаменты дамы оказались настолько возбуждены, что в спешке многие из них забыли преклонить перед папой колени, – факт, должным образом отмеченный шокированным Бурхардом как признак духовной анархии. Восемь кардиналов ожидали жениха, за которым отправили толпу прелатов, и папу. Жених тоже появился в турецкой мантии, a la francaise, но, в отличие от одеяния герцога Гандийского, на ней не было драгоценных камней, а только ожерелье, которое ему одолжил герцог Мантуи (вызвавшее улыбку узнавания у посла Мантуи). Немедленно по прибытии Сфорца последовал аффектированный выход Хуана и Чезаре, старших сыновей папы, неожиданно появившихся в комнате. Они вошли через потайную дверь, открывшуюся в стене. Чезаре был в епископском облачении, резко контрастировавшем с одеянием брата, роскошь которого вызвала множество пересудов; даже в те дни человек, носящий драгоценные камни стоимостью 150 тысяч дукатов, считался исключительным явлением. В апартаментах Борджиа были небольшие комнаты, и в данном случае в этих экстраординарных условиях они оказались просто забиты людьми. Здесь находились военные и гражданские лица; из уст в уста передавались прославленные имена; ходило множество слухов, и царило лихорадочное возбуждение. Даже острое зрение послов не позволяло им объять все происходящее.
Возвестили о прибытии невесты, и она вошла в украшенном драгоценностями наряде. Лукреция была восхитительна, и даже то, как она напускала на себя вид взрослой женщины, показывало, какой она еще, в сущности, ребенок. В соответствии с модой того времени пышный шлейф ее платья поддерживала красивая девочка-негритянка. По одну сторону от Лукреции шла Джулия Фарнезе, по другую – Лелла Орсини, дочь графа Питильяно, брак которой со старшим братом Джулии, Анджело, соединил их семью с семейством Фарнезе. Следом появилась племянница Иннокентия VIII, Баттистина Арагонская, маркиза Герасе, известная своей элегантностью и слывшая «законодательницей мод своей эпохи». Шлейф ее платья тоже поддерживала маленькая негритянка. Далее следовали знатные дамы, всего сто пятьдесят человек. Комнаты, и так уже тесные от народа, продолжали заполняться. Там уже находились, естественно, все Борджиа, торжествующий Асканио Сфорца с преданным Сан-Северино, кардиналы, архиепископы, римская знать, сенаторы и архивисты, испанская и итальянская аристократия, главный капитан церкви, капитан дворцовой стражи, офицеры и стражники. У Лукреции была легкая, изящная походка (как впоследствии выразился историк, «она несла свое тело настолько грациозно, что, казалось, едва движется»), а чуть впереди шел Джованни Сфорца. Обрученная пара преклонила колени на золотую подстилку у ног папы, и в наступившей тишине раздался голос нотариуса, Бенеймбене, задающего ритуальные вопросы. «Буду, от всего сердца», – ответил Сфорца; «Буду», – отозвалась Лукреция, и епископ Конкордийский (concord – «мир, согласие») – его имя казалось хорошим предзнаменованием – надел новобрачным кольца. Граф Питильяно держал над головами невесты и жениха обнаженный меч, пока епископ произносил великолепную проповедь о священных узах брака. И наконец, пришло время праздновать.
Обычно чувственностью проникнута атмосфера свадебных торжеств, а учитывая темперамент людей, подобных Борджиа, и особенностей, присущих данной среде, атмосфера скоро должна была стать удушающей. Человек, отвечавший за выбор пьесы – «Menaechmi» Плавта, – очевидно, не сумел оценить обстановку, и стало совершенно ясно, что комедия провалилась. Папа прервал пьесу в середине действия и, подавив зевок, заметил приглянувшейся женщине, что предпочитает современные пьесы «классическим». Однако представленная пастораль, сочиненная Серафино Акуилано в честь супружеской пары, получилась удачной и «очень изящной», по словам летописца. Классические формы, символические и мифологические намеки, так же как и лиризм, все это можно увидеть в лучших образцах современных поэтических произведений. К концу XV века Серафино, переходя из одного двора в другой, овладел искусством сочинять аллегории относительно имен, семей и стремлений своих хозяев королевских кровей и стал придворным фаворитом. Он составлял лестные загадки, которые легко отгадывались и всегда попадали в точку. Наконец, должно быть, подошло время, и внесли закуски, которых, как описывали, было много, но не чрезмерно, и без каких-либо гастрономических изысков. Конфеты и засахаренные фрукты пустили по кругу, в котором слышался довольный смех женщин. Согласно существующему этикету сначала обслуживали папу и кардиналов, затем новобрачных, женщин, прелатов и остальных гостей. Вместо того чтобы отнести на кухню оставшуюся еду, ее бросили в толпу стоящих под окнами простолюдинов. Выкинули более ста фунтов конфет, сокрушался Бурхард.
Вечером папа лично давал обед в честь молодоженов, и у послов особый интерес вызывал список приглашенных, не столько из-за собственного любопытства, сколько из-за необходимости сообщить, кто в нем указан своим повелителям; крайне важно было выяснить, к кому более всего благоволит папа. Обед подали в папском зале, который оставался украшенным еще с утренней церемонии. На обеде присутствовали кардиналы, Теодорина Чибо с ее знаменитыми плечами, Джулия Фарнезе, Лелла Орсини и Адриана Мила. Был там Асканио Сфорца с герцогом Сан-Северино; а также новый кардинал Борджиа; Джулио Орсини, сеньор Монтеротондо; кардинал Колонна с младшим братом графа Питильяно, братья Лукреции и новобрачные и еще около двадцати гостей. «Праздничный» ужин подошел к концу около полуночи, и вошли слуги со свадебными подарками. В числе подарков миланских Сфорца новой родственнице была всемирно известная миланская парча и два изумительных кольца. Подарок кардинала Асканио оказался практичным, серьезным и почти буржуазным – полный комплект «credenza», серебряный обеденный сервиз, включающий в себя чаши, тарелки, чашки, большое блюдо для сладостей, два кубка; все предметы тончайшей филигранной работы. Продемонстрировали и подарки братьев Лукреции, герцога Феррарского, кардинала Борджиа и протонотария Лунати. После показа подарков началось собственно веселье: представления, танцы, музыка, причем, вероятно, самого известного композитора того времени Жоскена де Пре – фламандца, придворного композитора Александра VI. Шло время, веселье становилось все шумнее и безудержнее, пока не перешло в безумную оргию; все современные историки единодушно подчеркивали «мирской» характер праздника. История о том, как засахаренные фрукты и другие сладости попадали за женские корсажи, подействовала на воображение биографов и романистов; впервые о ней поведал римский историк Стефано Инфессура. Но Инфессура сказал лишь о том, что папа забавлялся, бросая сладости в «sinu mulierum», что в моем понимании должно означать «в подолы». В этом случае игра состоит в перебрасывании сладостей от одной дамы к другой, что, по существу, является ребяческой забавой и уж никак не может считаться непристойной. Если все было именно так, то нет ничего странного, что сладости попадали в глубокие декольте; это, вероятно, придавало игре определенную фривольность, но не дает право говорить о разнузданной коллективной оргии.
Можно себе представить Лукрецию, глядящую по сторонам восхищенными, смеющимися глазами, слегка неуютно чувствующую себя в роли невесты, но в то же время получающую удовольствие от всего происходящего. Восхищение вызывали и Джулия Фарнезе, настоящая королева праздника, и невероятная энергия отца, и красота и элегантность брата Хуана, и таинственная и гипнотизирующая власть брата Чезаре. Но каким же было ее впечатление о муже, в честь которого устроили этот праздник? Что она думала о самой себе? Ни один из историков, осуждая ее, не задался вопросом, соответствовал ли ее внутренний мир той жизни, которую она вела на публике. Позже я более подробно остановлюсь на неопубликованном документе, написанном собственноручно папой, из которого стало ясно, что это была всего лишь номинальная свадьба, по крайней мере до середины ноября 1493 года (причина задержки бракосочетания заключалась, без сомнения, в физиологической незрелости Лукреции). Как описать чувства Лукреции, когда на рассвете 13 июня двадцатичетырехчасовое лихорадочное веселье подошло к концу и она отправилась в свою детскую кровать? Освободившись от подвенечного платья, Лукреция, должно быть, еще раз полюбовалась нарядом. Она испытывала удовольствие от дорогих нарядов, поскольку невероятно любила наряжаться. Она наверняка уже имела смутное представление о неожиданностях, ожидавших ее в будущем, но как она могла противостоять им? В последующие дни Лукреция ощущала волнение от сознания собственной значимости, от того, что превратилась в объект преклонения. Только подумайте, какая власть неожиданно оказалась в ее руках! Вероятно, от нахлынувших сюрпризов и волнения, связанного с необходимостью оправдать занимаемое положение, у Лукреции не осталось времени для анализа ситуации, а когда осознала, что вышла замуж, предварительно поняв, что означает быть женщиной, то отправилась исполнять пародию на брак во дворец Санта-Мария-ин-Портико. По всей видимости, она ощущала определенное нравственное и физическое волнение, которое был не в состоянии скрыть Джованни Сфорца. Этот брак стал началом неустойчивого существования, навязанного Лукреции средой и амбициозными устремлениями ее родственников, существование, которое она приняла и продолжала принимать со все возрастающей готовностью. Истинная драма Лукреции кроется не в ее слабости, а в губительности сделанных ею уступок, по сути означавших капитуляцию. Принятая ею тактика не замечать происходящего вокруг обнаруживает типичную для женщины форму инстинктивной самозащиты, которая хотя и уводит от жизненных проблем, но тоже становится своеобразным проявлением мужества и отваги. Лукреция никогда не была способна дойти до того, чтобы осудить отца и братьев, и не потому, что, чувствуя собственную вину, находилась в затруднительном положении, а просто из-за собственной доброты и мягкосердечности. Самое же элементарное объяснение заключается в том, что она тоже была Борджиа, и в ней, как и во всех Борджиа, величие и благородство сочетались с грубостью, животными инстинкта-ми и свободой от моральных принципов. Ей был свойствен конфликт между религиозностью и чувственностью, между стремлением к упорядоченной жизни и сжигающей ее жаждой желаний, и только в исключительных случаях, преодолев себя, Лукреция шла наперекор отцу, братьям и будущему свекру, герцогу Феррарскому. Все эти редкие проявления бунтарства позволяли ей быть той, которой она была – единственной Борджиа, сохранившей саму себя. Но все это в будущем. В тринадцать лет она еще ребенок, преклоняющийся перед могущественными мужчинами своего семейства и радующийся жизни. Она не чувствовала никакой фальши в том, что стала графиней де Пезаро, а потому и не испытывала тягости.
Глава 2 «Самый чувственный мужчина»
Король Ферранте Арагонский с беспокойством наблюдал из Неаполя за торжествами в честь заключения союза между Сфорца и папой. Король не отправлял послов в Ватикан. Когда граф де Пезаро сообщил ему о свадьбе с Лукрецией, король ответил формальным поздравлением. Он с тревогой ждал новостей от посла Диего Лопеса де Харо, которого по его просьбе его католическое величество, Фердинанд Испанский, отправил в Рим с широкими полномочиями.
Интерес его католического величества к царствующей неапольской династии, что особо подчеркивалось Диего Лопесом, вскоре стал приносить видимые результаты; понтифик с большим дружелюбием начал присматриваться к арагонской династии. Стоило этой благой вести достичь Неаполя, как король решил, что должен воспользоваться полученным преимуществом. Он отправил своего сына Фредерико в Рим с повторным предложением женить Джофре (сына папы), чтобы тот вошел в его династию (как теперь стало известно, к тому времени Чезаре стал кардиналом), и в попытке убедить Александра VI отказаться от союза против Неаполитанского королевства. Фредерико был благосклонно встречен папой и сумел заключить с ним брачное соглашение относительно младшего сына понтифика. В то время Джофре Борджиа еще не было и двенадцати лет, но, по словам посла Флорентине, «он был по-настоящему красив». Однако, как говорится, в отношении Джофре висел большой знак вопроса. Папа доверительно сообщал задушевным друзьям и даже тем, кто не особо пользовался его доверием, что полагает, будто Джофре не сын ему, но все равно признает его. У папы, наверное, были собственные причины считать, что Джофре является результатом акта измены, совершенного Ванноццей и ее мужем. По-видимому, король Неаполя не подозревал об имеющихся у папы сомнениях насчет отцовства в случае с Джофре, а если и знал, то не придал этому значения, иначе не стал бы так настаивать на женитьбе Джофре на своей очаровательной племяннице Санче Арагонской, дочери престолонаследника Альфонсо.
Свадьба Джофре и Санчи праздновалась по доверенности. Принц Фредерико представлял Санчу, и, пока зачитывались стандартные вопросы и шел обмен кольцами, он так смешно пародировал непорочную застенчивость юной невесты, что все общество во главе с папой сотрясалось от хохота. По окончании церемонии новой родственник обнялся со всеми Борджиа, и каждый присутствующий продемонстрировал дружелюбие, которое иногда перерастает в личную симпатию, но по большей части оставляет неизменной политическую ситуацию. Создалось впечатление, что юный жених повзрослел (во всех отношениях) и этот день, вероятно, ознаменовал окончание его детства.
Но самые честолюбивые планы были связаны у папы с красивым и дорогим его сердцу Хуаном, являвшимся, как говорится, зеницей его ока. Как сообщил Карло Канале, муж Ванноццы, Гонзага из Мантуи, когда обращался к нему с просьбой о лошадях для Хуана из знаменитых мантуанских конюшен, папа «почти наверняка» видит в «пасынке», как он остроумно назвал мальчика, своего преемника. Хуан жил в предвкушении прекрасного будущего, поскольку не только наследовал Гандийское герцогство старшего брата, но и вместе с невестой Марией Энрикес, кузиной короля Испании, получал королевское покровительство. (Несмотря на то что Педро Луис умер молодым, он оставил свой след в истории; всем известно, что во время службы в армии католического короля он вел себя храбро и имел военные награды.) К сожалению, Хуан не был наделен ни качествами кондотьера, как мечталось его отцу, ни хотя бы хорошего командующего. Он был молод, красив и богат, и все, что ему хотелось, так это пользоваться имеющимися привилегиями и проводить время в компании женщин. Более всего он любил куртизанок, отвечающих его необузданному темпераменту, а кроме того, молоденьких девушек и невест, которые оказывали серьезное сопротивление, тем самым удовлетворяя его жажду приключений и создавая иллюзию одержанной в ходе сражения победы, – единственный вид сражения, который ему подходил. Ему нравилось шокировать людей, и он хотел у всех без исключения вызывать восторг и восхищение. Иными словами, Хуан был тщеславен, как павлин, и являлся в значительной мере снобом. Ему по сердцу пришелся турецкий принц Джем, самая оригинальная личность в городе, который в это время жил в Ватикане в качестве заложника папы.
Возможно, у Джема на самом деле было не столь уж свирепое лицо, но оно, безусловно, выдавало, несмотря на кажущуюся апатию, коварную азиатскую жестокость. Контраст между смуглой кожей и светлыми глазами, обычно полуприкрытыми, между будто расслабленным, однако проворным телом, между его склонностью и одновременно отвращением к оргиям и чувственным удовольствиям настолько соответствовали экстравагантному и порочному идеалу Хуана, что он полагал, что, по крайней мере, должен хотя бы одеваться как Джем. Римляне скорее с иронией, чем с возмущением отреагировали на появление папского кортежа, возглавляемого герцогом Гандийским и турецким принцем, одетыми в восточные наряды, включая тюрбаны врагов христианского мира, и восседающими на одинаковых конях. Блестели и переливались на солнце церковные облачения и оружие, пока папа пересекал город, чьи церкви, дворцы, дома и средневековые башни были облиты теплым, темным золотом, которое веками доводилось до совершенства. На балконах женщины, разглядывавшие необычный кортеж, преклоняли колени, принимая папское благословение, притворно ужасались при виде турка (ходили слухи, что он не прочь поучаствовать в жестоких забавах) и с удовольствием разглядывали красивую фигуру шестнадцатилетнего герцога Гандийского, который под их взглядами чувствовал себя как нельзя лучше. Итак, задача состояла в том, чтобы женить Хуана на кузине короля Испании, что позволило бы ему стать членом одной из самых могущественных правящих династий Европы.
Папа открыл для обозрения все сундуки, чтобы поразить пышностью и великолепием предстоящей свадьбы. «В лавке рядом с моим домом, – написал Джанандреа Боккаччо, – располагался известный ювелир, который в течение нескольких месяцев только и делал, что вставлял драгоценные камни в кольца и ожерелья и скупал все виды драгоценных камней. Я сам это видел: несметное количество огромных жемчужин, рубины, алмазы, изумруды, сапфиры, и все в отличном состоянии». Все предназначалось герцогу Гандийскому – и не только драгоценности, но и меха рыси, соболя, горностая; сундуки, доверху набитые отрезами парчи и бархата, гобеленами, серебром и коврами. Папа взял на себя ответственность не только за свадебные подарки, но и за сына, его тело и душу. Дон Гинее Фира и Моссен Джеми Пертуза, заслуживающие всяческого доверия советники, были приставлены папой к Хуану, чтобы внимательно следить за молодым человеком и под страхом отлучения от церкви докладывать папе о его поведении. В Испании папа поручил сына заботам епископа Ористанского и, кроме того, проинструктировал всех и каждого, как следует наладить жизнь Хуана с самого первого момента, как он ступит на испанскую землю. Безусловно, это являлось доказательством не только знания Александром VI жизни и обычаев Испании, но и его здравого смысла.
Эти меры ясно давали понять, что папа никогда не доверял Хуану. Александр VI отдал следующие распоряжения. Его сын не должен выходить по ночам, играть в кости и притрагиваться к доходам Гандийского герцогства без согласия приставленных к нему советников. Папа особо подчеркнул, что Хуан должен хорошо обращаться с женой и составлять ей компанию. При прощании с папой 2 августа Хуан, ощущая неловкость, вел себя излишне надменно. Он еще не достиг Чивитавеккьи, а его уже догнал папский гонец, передавший дополнительные инструкции («inter alia» – «среди прочего»): следить за одеждой, заботиться о коже и волосах и немедленно надеть перчатки и не снимать их до Барселоны. Соль разъедает кожу, объяснил папа, а в нашей стране высоко ценятся красивые руки.
Свадьба состоялась в Барселоне в присутствии короля и королевы Испании. После свадьбы молодожены, ненадолго задержавшись в городе, отправились в Валенсию, и в конце концов прибыли в Гандию. Вскоре мрачные сообщения о поведении Хуана достигли Рима. Он выказывал такое пренебрежение к жене, что даже никогда не осуществлял брачных отношений, и, вместо того чтобы оставаться с ней, бродил по ночам с молодыми распутниками. За два месяца в азартных играх и кутежах он растратил 2600 золотых дукатов и попытался прибрать к рукам доходы герцогства. Получив эти сообщения, папа, естественно, пришел в ярость, поскольку опасался, и справедливо, гнева короля Испании, который никогда не простил бы Хуану неуважения к женщине королевских кровей. Итак, обеспокоенность этой стороной дела и обычная для папы озабоченность в отношении поведения его детей в обществе послужили причиной письма, отправленного Александром VI из Витербо 30 октября, в котором он резко порицал сына за его поведение. Папа попросил Чезаре написать письмо брату (я обнаружила его в Ватикане), в котором приписал и от себя несколько строк. Более того, папа настаивал, чтобы кардинал Борджиа написал письмо отцу новобрачной; правда, это письмо со всяческими заверениями все еще не найдено.
Вероятно опасаясь отцовского гнева, Хуан немедленно отправил письмо с пространными объяснениями. Он написал, что отношение отца вынудило его «невероятно страдать, как никогда прежде». Он не понимал, как папа мог поверить «сообщениям, написанным злонамеренными людьми, не принимая во внимание истинное положение вещей».
Что до свадьбы, то, как утверждали достойные, заслуживающие всяческого доверия люди, такие, как архиепископ Ористано, Моссен Пертуза, Фира и другие, она была более чем состоявшейся: разве папа забыл, что он расписал по дням и часам (почему не по минутам?) консуммацию брака? Хуан признавал, что бродил по ночам, но не думал, что может этим нанести большой вред, поскольку находился в компании своего тестя дона Энрико, родственников короля и других рыцарей, честнейших и благороднейших людей, и что он «просто прогуливался, как это принято в Барселоне». По мнению Хуана, ссылка на «обычаи» родной страны должна была смягчить сердце Родриго Каталонского больше, чем любые оправдания. «Что волнует меня больше всего, так это то, что Ваша Светлость смогла поверить этим неправдоподобным слухам». Никого, и уж меньше всего Александра VI, не могли ввести в заблуждение эти заверения в собственной непогрешимости герцога Гандийского, однако теперь папа не слишком волновался, поскольку верил, что Хуан воспринял его нагоняй и станет если не образцово, то по крайней мере регулярно исполнять супружеские обязанности.
Отец и сын продолжали переписываться. Письма Хуана выдают эгоизм, сумасбродство, отсутствие благородства и легкомыслие, в то время как письма Александра VI свидетельствуют об отцовской терпимости и снисходительности. Несмотря на неоднократные заверения Хуана, папа, должно быть, вздохнул с облегчением, когда в феврале 1494 года до него дошло известие о том, что вскоре ожидается прибытие наследника герцога Гандийского. И только тогда папа откинул все сомнения и обратил внимание на старшего сына.
Пожалуй, Чезаре менее чем кто-либо другой имел призвание к духовной жизни и первым признавал это. Но после провала переговоров с королем Ферранте Арагонским относительно женитьбы надежды Чезаре на то, что удастся отказаться от карьеры священнослужителя, испарились. Все выглядело так, будто он готов смириться с карьерой, которую для него планировал отец. Для Чезаре самым существенным независимо от вида деятельности было сохранить независимость, избежать посредственности и направить всю свою энергию на завоевание власти. Он прекрасно понимал пропасть, лежащую между его запросами и существующей действительностью, и овладел искусством лицемерия. С раннего детства он был вынужден готовиться к деятельности, которая, как он понимал, была для него непригодна, и точно так же он понимал, что Хуану не подходит выбранная отцом карьера военного. Итак, на двадцать лет раньше большинства мужчин Чезаре, оказавшись перед реальностью вести обособленное существование, испытывал либо сжигающее честолюбие, либо пессимизм. Несомненно, его озлобленность играла важную роль в отгороженности от мира, и осложненная этими обстоятельствами юность прошла в молчании, которое является первым и последним пристанищем разочарованных. Его уязвимость и обидчивость переросли в жестокость, сделав из него чудовище; Чезаре изучил слабости отца, и его собственный путь оказался поистине дьявольским. Одиночество было его крепостью, а непоколебимое мужество и независимость были призваны служить идолу Чезаре – силе власти.
Однако, хотя его заветным желанием было взойти на престол, существовал древний закон, запрещавший бастардам даже королевской крови входить в состав Священной коллегии. Следовало добиться компромиссного решения. В булле Сикста IV, узаконившей Чезаре, о нем говорилось как об отпрыске епископа и замужней женщины. Теперь ребенок замужней женщины являлся по закону отпрыском ее мужа. Отсюда, следуя данному аргументу, отцом Чезаре был мужчина по имени Доменико д'Ариньяно, являвшийся мужем Ванноццы на момент рождения Чезаре. В булле, устранявшей незаконность рождения, папа великодушно позволил Чезаре носить фамилию Борджиа. Александр VI создал прецедент, подписав другую буллу, подтверждающую, что он сам является отцом Чезаре.
Две буллы касались вопроса установления очередности рождения братьев Борджиа. В булле от 19 сентября1493 года Александр VI доказал с полной определенностью, что после смерти д'Ариньяно в конце 1474 – го или в начале 1475 года Ванноцца произвела на свет Хуана, что красноречиво свидетельствует о том, что Чезаре был старше Хуана.
Хотя этот вопрос вызвал некоторые разногласия, современные историки признали подлинность второй буллы от 1493 года. Теперь принято считать, что Чезаре родился в 1474-м или в 1475 году, а Хуан в 1476-м. Но не следует считать, что Чезаре только потому, что был старше, не имел оснований завидовать Хуану. Ничего подобного. Поскольку Чезаре был старшим сыном, то его раздражение и ненависть к Хуану более чем объяснимы; младший брат лишил его права первородства и воспользовался всеми преимуществами папского положения. Любой сколько-нибудь знакомый с семейной жизнью должен согласиться, что ничто не вызывает большей враждебности в старших сыновьях, чем осознание того, что их предпочли младшим, особенно если это незаслуженно. Пока был жив Педро Луис, все казалось достаточно справедливым. Как старший сын, он получал основную часть фамильной собственности Борджиа. Чезаре, будучи вторым по старшинству, предназначался для церковной карьеры, а третий и четвертый сыновья имели обычные для их положения перспективы.
Смерть Педро Луиса вызвала замешательство. Должно быть, Чезаре мгновенно был охвачен завистью, как только Хуану, не отличавшемуся способностями, предоставили высокое положение. К тому же булла, в которой декларировалось, что он был сыном такой малоизвестной персоны, как д'Ариньяно, нанесла сокрушительный удар по его самолюбию.
Срочно была созвана консистория для легитимации Чезаре. Ни у кого даже не возникло желания оспорить это решение. Добившись своего, папа звучным голосом в свойственной ему обворожительной манере сообщил: «Ваши преосвященства, подготовьтесь! Завтра, в пятницу, мы желаем выбрать новых кардиналов».
Трудно было оспорить предложение, сделанное таким естественным тоном, не говоря уже о том, что это был приказ. Правда, кардинал Карафа осмелился поинтересоваться у папы, должным ли образом рассмотрен вопрос соответствия выбранных кандидатур. На это папа ответил, что вопрос компетентности кандидатов касается его одного и он настаивает на своем мнении независимо от тех, кто смеет говорить, что не желает в коллегии кардиналов, которые «устраивают папу». По мере выступления гнев папы нарастал, и, говоря о противниках, он заявил: «Я покажу им, кем является Александр VI, а если они будут упорно добиваться своего, я в Рождество выберу столько новых кардиналов, сколько смогу. Никогда им не удастся выгнать меня из Рима». После его угроз никто уже не смел возражать, и небольшая группа присутствующих кардиналов возобновила процедуру выдвижения новых кандидатур в коллегию. Список кандидатур возглавлял Чезаре Борджиа, за ним следовал Алессандро Фарнезе, брат Джулии, далее Ипполито д'Эсте Феррарский, Лунати Павиа, Чезарини и еще несколько человек, в общей сложности тринадцать. Те, кто будет поддерживать папу и значительно уменьшит власть прежних членов коллегии, которые в свою очередь поведут тех, кто воздержался от путешествия в Рим, заявляя, что никогда не признают новых кандидатов. Однако стоило им признать сына папы, как у них уже не оставалось иного выхода, как признать остальных кандидатов и, таким образом, подчиниться всем желаниям Александра VI.
После многообещающего и удачного лета старый король Ферранте впал в уныние. Бессонными ночами он пытался постигнуть цели, рождающиеся в мозгу Александра VI. Король знал, что Карл VIII отправил в Рим посла, чтобы выдвинуть требования к Неаполитанскому королевству, но тот вернулся во Францию ни с чем. Однако король понимал, что существует взаимопонимание между папой и Сфорца, и от этого ему было не по себе. Асканио все еще являлся влиятельной фигурой, и, хотя уже появились признаки уменьшения его влияния, это еще пока не стало заметно за пределами Ватикана.
Король Неаполя поручил послу передать папе подарки и убедить прислать в Неаполь Джофре, чтобы он женился на донне Санче. Но хотя внесенные послом предложения были сделаны с величайшим тактом, ответом на них послужили всего лишь слова, и не более. Кроме того, Чезаре, который теперь назывался Валентинуа, или Валенца, в связи с тем, что стал архиепископом Валенсии, начал переговоры со злейшим врагом Неаполя, Карлом VIII. Надо сказать, что положение Сфорца казалось более устойчивым, чем прежде. Итак, как отметил Бурхард, в состоянии угнетенности, от недостатка сочувствия король умер.
Ферранте Арагонский был жестоким и вспыльчивым деспотом, но, несмотря на все недостатки, прославился тем, что поощрял искусства и литературу. Его сын Альфонсо, герцог Калабрийский, ставший его преемником на троне, имел еще более грубый и жесткий характер, но ему не было присуще сочетание жестокости и великодушия.
Однако правление Альфонсо II началось достаточно благоприятно. Александр VI, удовлетворенный бесчисленными дарами и теми привилегиями, которые сулил его сыновьям новый король, неожиданно проявил дружелюбие. В Ватикане было издано два распоряжения. В одном кардиналу Джованни Борджиа предписывалось отправиться в Неаполь с папской буллой для коронования нового короля от лица его святейшества; другое касалось отъезда Джофре и его женитьбы на принцессе. Оба отправились в путь. Младшего Борджиа сопровождал Вирджинио Орсини, капитан-генерал арагонской армии, с вновь сформированной свитой, в которой достойное место занимал испанец дон Феррандо Диксер. Папа поручил дону Феррандо не только сына, но и две шкатулки с драгоценностями: одну для Джофре, а другую для его будущей жены.
Санча Арагонская имела все основания для недовольства. Хотя ей было всего шестнадцать лет, ее красота уже получила широкую известность. Она была смуглолицей, с темными волосами, с глазами цвета морской волны, той особой прозрачности, что имеет губительную власть, под выразительными бровями, напоминающими море под лиловыми скалами Капри. Мать Санчи, мадонна Труциа, была родом из знатной неаполитанской семьи и, кроме дочери, имела сына от короля Альфонсо. Брат Санчитоже был невероятно красив и принят в королевском дворце на правах законного ребенка. Думая о женихе, навязанном Римом, Санча давала выход своему бурному темпераменту. Что может шестнадцатилетняя женщина, особенно подобная ей, делать с тринадцатилетним мальчиком? Остается только гадать, была ли Санча в близких отношениях с Онорато Каэтани, племянником графа Фонди и своим первым женихом. Но даже если она не была влюблена в него, то, вероятно, привыкла к мысли, что выйдет замуж за мужчину, а не за ребенка. Все, что она могла сделать, чтобы отвлечься от мыслей, связанных с крушением всех надежд, так это строить честолюбивые планы или вынашивать тайные планы мести. У нее хватало советчиков, мужчин и женщин, чтобы внушать ей такие мысли, но, возможно, ее представление о существующей действительности позволяло ей иметь собственные суждения.
Джофре был встречен Фредерико Арагонским и четырнадцатилетним братом Санчи, Альфонсо. Младший сын папы оказался таким очаровательным и веселым, что даже на Санчу при всей ее недоброжелательности произвел неплохое впечатление. Неаполитанцы приняли Джофре как принца, и 7 мая 1494 года он сочетался браком в замке Нуова в присутствии короля, принца Фредерико, дяди невесты, кардинала Монреальского, двенадцати женщин и девочек из свиты Санчи и нескольких знатных гостей. Когда епископ Тропейский задал положенный по ритуалу вопрос, мальчик ответил так по-детски, что это вызвало улыбку. Но всеобщее веселье сменилось восхищением, когда дон Феррандо Диксер внес великолепные подарки – ожерелья из жемчуга, украшения из рубинов, алмазов и продолговатых жемчужин и четырнадцать колец с драгоценными камнями. Золотая парча, бархат и шелка, последовавшие за этим, очевидно, выбирались знатоком, и, должно быть, при взгляде на все это великолепие в Санче проснулись глубоко запрятанные женские инстинкты. Больше всего она любила вызывать восхищение и возбуждать низменные страсти и вожделение и помнила о большом количестве торжеств, начало которым положит коронация ее отца.
Церемония была поистине великолепной. Каждый предмет, который использовался во время коронации – корона, скипетр и меч, – сопровождался особым ритуалом, и Бурхард, бывший в свите кардинала Борджиа в Неаполе, с таким удовольствием описывал эту процедуру, что даже при всем своем педантизме не мог удержаться от лирики. Альфонсо II был торжественно миропомазан на королевский престол, и после оглашения отпущенных папой грехов взошел на престол. По одну его сторону, но ступенькой ниже, находился Понтано, седовласый, с невозмутимым выражением лица, который передавал королевское обращение, а следом за ним герольд выкрикивал слово за словом, тщательно выговаривая каждый звук, в толпу.
Король не замедлил воспользоваться предоставленными ему исключительными правами для произведения в гранды. Первым, кто удостоился этой милости, был герцог Гандийский, получивший титул князя Трикарико, графа Кьярамонте и Лаурии и звание королевского лейтенанта королевства Сицилия. Следом шел младший брат. Джофре шагнул вперед и преклонил колени у подножия трона. Король, касаясь украшенной драгоценными камнями шпагой левого уха Джофре, произнес традиционные слова инвеституры: «Господь Бог и святой Георг сделали из тебя настоящего рыцаря». Джофре получил герцогство Скуиллаче и графство Кориати, а также звание пэра с геральдической надписью на гербе: «Скорее смерть, чем предательство». Вирджинио Орсини был вознагражден за неоднократно доказанную преданность – акты предательства были на этот момент забыты – должностью начальника стражи королевства. А затем перед собравшейся толпой проследовала пышная процессия в честь состоявшейся коронации Альфонсо II.
Церковный обряд бракосочетания Джофре и Санчи проходил И мая в королевской часовне замка Нуова. Епископ Гравинский отслужил мессу. После причастия епископ поцеловал дьякона в губы, тот передал поцелуй жениху, а жених – невесте. После окончания мессы и благословения все общество присутствовало на концерте «музыки совершенной и изумительной». По окончании был дан званый обед. Вечером Джофре дожидался невесту в их новом доме недалеко от замка Нуова. Вскоре она появилась в сопровождении короля и кардинала Борджиа, и они все вместе поднялись по ступенькам в спальню новобрачных.
Подруги Санчи, женщины и девушки, подготовили все для проведения ночного обряда. Старшим женщинам была вменена следующая обязанность: раздеть Санчу и Джофре, уложить их в постель и накрыть только до талии, как это предписывал обряд. После чего женщины вышли, и в опочивальню вошли король и кардинал Монреальский. По праву старшинства эти две важные персоны принялись поддразнивать молодоженов и восхищаться принцем, который, как заявил кардинал Борджиа, «полон энергии… и я много бы дал за то, чтобы другие увидели его так, как вижу его я». Приближался рассвет, и, благословив новобрачных, король с легатом вышли из дому под сильный ливень.
Тем временем другой новобрачный из семейства Борджиа, Джованни Сфорца, выказывал все большее беспокойство. Наигравшись за два месяца в брак, он под предлогом эпидемии чумы, охватившей Рим летом 1493 года, испросил разрешения вернуться на побережье Адриатики. Получив его, Джованни 2 или 3 августа покинул Рим, оставив Лукрецию одну во дворце Санта-Мария-ин-Портико. В начале сентября Джованни, понимая, что для него все может плохо закончиться, во всяком случае в финансовом отношении, написал папе письмо с просьбой выплатить аванс в размере 5 тысяч дукатов на том основании, что на него со всех сторон наседают торгаши, требующие оплатить свадебные расходы. Папа детально обсудил это письмо с кардиналом Сфорца. Как он написал зятю 15 сентября 1493 года, они сочли, что ближе к середине октября, когда воздух станет прохладнее и будет благотворно сказываться на организме, Джованни следует не просто вернуться в Рим, а приступить к своим обязанностям в качестве мужа Лукреции. После этого он получит не 5 тысяч дукатов, а целых 30 тысяч приданого Лукреции, и, кроме того, папа окажет ему помощь в ведении семейной жизни. Не будет ли он так любезен незамедлительно прислать ответ?
Об этом папском предложении было известно только Фелисианджели. Написанное на пергаменте и отправленное из Урбино в архив Флоренции, оно так никогда и не было обнародовано. Вне всяких сомнений, оно является бесспорным доказательством, что прежде между молодоженами не было супружеских отношений. В чем же причина? Совершенно очевидно, что Лукреция, представленная в брачном контракте как зрелая женщина, на самом деле была еще слишком юной для брачных отношений. И все-таки, несмотря на, казалось бы, очевидную ясность, остаются основания для размышлений. Начать с того, что Сфорца мог быть тайно информирован о желательности фактического брака. А если предположить, что Александр VI намеренно хотел использовать возвращение зятя как официальное признание его положения в качестве законного мужа, тогда обещание папы полностью выплатить приданое может восприниматься как поддержка или награда. Но на самом деле ситуация ухудшалась. Несмотря на откровенное приглашение, Джованни оставался в Пезаро весь октябрь и отправился в Рим только 10 ноября. Ватикан был прекрасно осведомлен, что Джованни Сфорца вернулся в Рим, чтобы «выполнять обязательства в отношении Его Святейшества и установить полноценные отношения со своей знаменитой женой». Нет никаких свидетельств тому, что произошло, когда Джованни приехал в Рим. Возможно, состоялось какое-то закрытое для посторонних празднество, но Джованни после Рождества опять вернулся в Пезаро и только в конце января решил покончить с разъездами и зажить семейной жизнью вместе с женой во дворце Санта-Мария-ин-Портико.
В невероятно сложный исторический период Джованни Сфорца оказался явной жертвой комплекса неполноценности. Он был напуган папой и опасался разрыва родственных отношений с Миланом. Он всякий раз замирал, ощущая возникающие между ними разногласия, и испытывал облегчение, заметив признаки согласия. Его власть была так же ограничена, как у принца-консорта. Так что его статус, внешне казавшийся значительным, на самом деле ничего не значил.
Но вернемся к Лукреции. Из всех событий, происходящих в человеческой жизни, брак является одним из наиболее таинственных и сложных для понимания, а потому трудно сказать, что произошло между Лукрецией и ее мужем. Более поздние источники утверждают, что они жили душа в душу; доказательством служит то уважение, которое Лукреция выказывала на людях своему мужу. Хотя это может говорить всего лишь о привитом Лукреции чувстве долга и уважения. Однако, как бы ни проходили ее ночи, дни и вечера были целиком заполнены бесконечными вечеринками, приемами и церемониями. В Санта-Мария-ин-Портико постоянно царило оживление и велись нескончаемые интриги. Послы и приверженцы принцев приобрели привычку собираться там для решения деловых вопросов. «Большинство тех, кто ищет здесь выгоду (от папы), проходят через эту дверь», – говорит один из информаторов. Ни для кого не секрет, что у Лукреции целые ящики заполнены просьбами и обращениями, и, по-видимому, так же обстояли дела у Джулии и Адрианы. Три эти женщины проводили дни в покое и согласии; они все пользовались благосклонностью папы, не испытывая чувства соперничества, а папа со своей стороны всегда помнил о них и делился лучшими дарами, которые присылали в Ватикан.
Во дворце вместе с Джулией жила ее дочь Лаура. По слухам, папа являлся отцом этой двухлетней девочки, и в надежде на то, что папа даст ей хорошее приданое, ее замужество уже являлось темой обсуждений (хотя впоследствии мы получим доказательства самого папы, которые вызовут сомнения относительно этого родства). О красоте Джулии ходили легенды по всей Италии. Все биографы Борджиа приводят известное описание ее внешности, сделанное зятем, Лоренцо Пуччи: «Я приехал в Санта-Мария-ин-Портико, чтобы повидать мадонну Джулию, которая, когда я увидел ее, только что закончила мыть волосы. Вместе с ней у огня сидели мадонна Лукреция, дочь нашего Высокопреосвященства, и мадонна Адриана… Джулия несколько располнела и стала еще очаровательнее. В моем присутствии она распустила волосы, которые заструились до самого пола… Затем она накрыла волосы невесомой, как облако, сверкающей, как солнце, сеткой… Она была одета по неаполитанской моде, как и мадонна Лукреция. Но спустя какое-то время маленькая Лукреция вышла переодеться и вернулась в платье из фиолетового шелка».
В середине 1494 года двор готовился покинуть Рим, чтобы сопровождать Лукрецию в Пезаро; Джованни Сфорца был напуган политикой папы, который теперь, казалось, преследовал и пронеаполитанцев, и антифранцузов, и антимиланцев. Папа пытается уговорить короля Франции отказаться от попытки завоевать Неаполь. Но у Карла VIII иные намерения. В марте он сообщает папе о своем решении ввести войска в Италию и покорить Неаполь; в этом случае он поселится в Ватикане и «устроит там свой дом». Александр VI лавировал, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Неожиданно возникает новая проблема в лице Джулиано делла Ровере, перетащившего Асканио Сфорца на французскую сторону. Теперь Асканио отказывает в поддержке Неаполю и Арагонам. Он покидает крепость в Остии и направляется во Францию.
Это событие оказалось решающим. Король Карл VIII, воспользовавшись неосторожностью кардинала, использовал возникшую в Италии неразбериху и невероятную слабость Неаполитанского королевства и принялся собирать армию. Папа начал готовиться к обороне. Джованни Сфорца был напуган этими приготовлениями и, несмотря на всяческие заверения папы, понимал, что в Риме у него земля ускользает из-под ног. Страх, как известно, опьяняет трусливых и придает им определенную степень безрассудства. Вот почему Джованни каждый день интересовался в Ватикане (выражение его лица было красноречивее слов), что будет с ним и его семьей. Джованни оказался в трудном положении: с одной стороны, он был связан родственными узами с Миланским королевством, а с другой – был зятем папы римского. Он так настойчиво сокрушался по поводу своего тяжелого положения и так часто мучил папу вопросами о будущем, что в конце концов папа вышел из себя и обвинил Джованни в желании узнать результаты до начала событий. Джованни на время замолчал, но по мере приближения штормовой волны из Франции он опять почувствовал себя отрезанным от своего убежища в Пезаро. В конце концов, возможно, по совету кого-то более умного, чем он сам, Джованни изменил тактику и заявил папе, что народ в Пезаро жаждет увидеть свою графиню и пришло время показаться там. Аргумент оказался столь лестным и разумным, что папа согласился, да и, кроме того, чума вновь грозила опустошить Рим. Лукреция получила разрешение покинуть Рим, а с ней Джулия Фарнезе и Адриана Мила. Возможно, папа хотел оградить их от эпидемии, а может, у него были какие-то другие мотивы. В свите, сопровождавшей отъезжающих, была и Лукреция Лопес, дочь Датари и Хуана Монкады, прислуживавшая Джулии Фарнезе. Папа серьезно обсудил с Адрианой путешествие, обратный маршрут и дату возвращения – июль и нежно попрощался со своими женщинами. 31 мая они покинули Рим.
Путешествие было долгим, но не утомило путешественниц; Джулия оставалась прекрасной, Лукреция – веселой, а Адриана – энергичной. Процессия проследовала через Умбрию и герцогство Урбино, в котором благородный гуманист Джидобальдо ди Монтефельтро сиял подобно звезде на фоне бледной геральдической красоты Елизаветы Гонзага. Герцог с герцогиней не вышли встречать процессию, вероятно опасаясь чумы, но их подданные приветствовали путешественников. Когда четырнадцатилетняя графиня 8 июня наконец достигла Пезаро, то увидела украшенные флагами улицы и сгорающую от любопытства толпу. Погода была отвратительной. Процессия до нитки вымокла под проливным дождем, который погасил сверкание золота и серебра и испортил великолепное зрелище. Процессия устремилась вперед, надеясь проскочить между двумя дождевыми зарядами, и брошенные им цветы были растоптаны в грязи. Стоило Лукреции оказаться во дворце, как она тут же удалилась в свою комнату. Во всей этой суматохе «вечером мы заботились только о том, чтобы одеться во что-нибудь сухое» – так написал Джованни Сфорца в письме, отправленном на следующий день папе. В конце концов, дождь не имел такого уж существенного значения. Наследующий день засияло солнце, и у женщин сразу улучшилось настроение. Они составили программы танцев и игр и весело проводили время, заставляя провинциальную публику в изумлении взирать на их роскошные наряды. Среди женщин, посещавших организованные ими балы и вечеринки, выделялась Екатерина Гонзага, известная не только своим аристократическим происхождением, но и невероятной красотой. Джулия и Лукреция не опасались конкуренции со стороны провинциальной аристократки, но эта жительница Ломбардии все-таки не давала им покоя, и они стали задаваться вопросом: почему бы им не устроить конкурс красоты? С помощью Адрианы, не участвовавшей в конкурсе, они облачаются в самые изысканные наряды и с удовольствием оглядывают друг друга. Их глаза светятся в предвкушении светского успеха. Сопровождавший их Джованни Сфорца одет не менее изысканно. Как образно написала Джулия: «Все выглядело так, будто мы, для того чтобы всех поразить, перевернули вверх дном Флоренцию в поисках парчи». Собралось много народу, все живущие поблизости аристократки, и, когда появилась Екатерина Гонзага, Лукреция и Джулия, оглядев ее в промежутках между танцами и разговорами, поздравили ее, делая вид, что восхищены. Была ли Екатерина на самом деле так уж красива? Лукреция улыбнулась про себя и глянула на Джулию, которая ответила незаметной для окружающих улыбкой. Свои впечатления Лукреция описала на следующий день в письме к папе: «Я должна сообщить Вашему Блаженству о красоте Екатерины Гонзага, поскольку уверена, что слухи о ней заставили думать Вас, что она прекрасна. Начну с того, что она на шесть дюймов выше мадонны Джулии, у нее прекрасный цвет лица, белая кожа, красивые руки и фигура. Но у нее некрасивый рот и ужасные зубы, большие светлые глаза, нос скорее уродливый, вытянутое лицо, отвратительного цвета волосы… Она свободно и легко говорит. Я горела желанием увидеть, как она танцует, но это не произвело на меня большого впечатления. Короче, она ни в чем не оправдывает свою репутацию [presentia minuit famam]. Такой Екатерина Гонзага вошла в историю. Но в письме, описывающем эти же события, отправленном Екатериной Гонзага папе римскому, она пишет, что Лукреция чрезвычайно похожа на своего отца «остроумием и умением держаться с истинно королевским величием; она настоящая аристократка».
Все присутствующие единодушно присуждают первое место Лукреции, а вот в отношении достоинств Джулии и Екатерины мнения разделяются. Мы являемся обладателями бесценного, неопубликованного прежде мнения, составленного Джакопо Драгони, доктора Святейшего престола. По окончании празднеств он в деталях описывает конкурс своему покровителю Чезаре Борджиа, сравнивая смуглую кожу Джулии, ее черные глаза, круглое лицо и необыкновенную пылкость [quidam ardor] с белой кожей и голубыми глазами Екатерины Гонзага.
В письме в Рим, относящемуся к этому периоду, Джулия использует излишне мирское обращение к понтифику, говоря: «Мой единственный повелитель». Это письмо, как и послание Лукреции, была найдено и опубликовано пастором.
Сдержанно описывая все эти празднества и балы, Джулия тем самым вызывала противоположную реакцию – возбуждала любопытство. Она заверяла папу, что он может не волноваться; его Лукреция весьма удачно вышла замуж и ведет себя изумительно; Пезаро даже более цивилизованный город, нежели Фолиджо, и все без исключения с любовью относятся к Сфорца. Да, здесь каждый день танцы и пение, музыкальные и театральные представления, но их святейшество не должно вообразить, что это делает их с Адрианой счастливыми. Увы, «поскольку здесь нет Вашего Святейшества, а все мое счастье и благополучие зависят от Вашего Святейшества, я не нахожу никакого удовольствия в этих развлечениях; ведь только там, где мое сокровище, находится и мое сердце». В этот момент ни Джулия, ни Александр VI не находили ничего смешного в том, что Джулия называет папу «мое сокровище». «Не верьте никаким слухам, Вас просто хотят ввести в заблуждение, – продолжает Джулия. – Ваша Светлость не должны забывать нас. Мы здесь как в заточении, но, несмотря на надежду на скорое возвращение, пишите нам хоть иногда». Она благодарит папу за новую милость, оказанную ее брату, кардиналу Фарнезе, и заканчивает письмо, чтобы «не наскучить ему». Но и речи не было о том, что она могла бы наскучить папе. Александр VI с жаром ответил, что, чем более длинными и пылкими будут ее письма, тем большее удовольствие он будет получать от их чтения. Используемые им выражения больше подходили двадцатилетнему юноше, нежели шестидесятидвухлетнему мужчине.
Джулия также писала о Катерине Сфорца, но это письмо не дошло до нас. Судя по ответному посланию папы, она из кокетства превозносила достоинства своей соперницы. «Ты уделила излишне много времени описанию красоты этой женщины, которая недостойна даже развязывать шнурки на твоих туфлях. Мы знаем, что ты вела себя скромно, и нам очевидны причины твоего поведения: каждый из тех, кто написал нам, уверял, что на твоем фоне она выглядела как фонарь по сравнению с солнцем. Когда ты пытаешься доказать, насколько она красива, твое собственное совершенство становится еще более очевидным, в чем мы, говоря по правде, никогда и не сомневались. И нам бы хотелось, поскольку это является абсолютно очевидным для нас, чтобы ты полностью и безраздельно принадлежала человеку, который любит тебя, как никто в мире. А когда ты полностью осознаешь это, если уже не осознала, мы будем считать тебя столь же мудрой, сколь и красивой». В этих строках одновременно слышатся любовь и ревность. Нам не называют имя соперника, который помешал Александру «полностью и безраздельно» овладеть Джулией, но последующие события наводят на мысль, что это был не кто иной, как муж Джулии, Орсино Орсини, находящийся в изгнании в крепости Бассанелло.
Адриана Мила тоже отправляла из Пезаро нежные письма, заявляя, что единственное ее желание – это жить «в тени» папы. «Я вновь вверяю Орсино Вашему Святейшеству», – пишет Адриана. Отправленный с определенной целью следом за женщинами Франческо Гасет, доверенное лицо Борджиа, посылал в Рим обстоятельные рассказы о событиях в Пезаро. Гасет, каноникиз Толедо, сведущий во многих тайнах Ватикана, был представлен на свадьбе Джулии и Орсино Орсини. Он был подхалимом, это требовалось ему для решения собственной задачи, но в то же время он был весьма сообразительным и находчивым и умел с помощью логических построений разгадывать сложные дамские капризы, оставаясь при этом крайне уважительным и предупредительным по отношению к женщинам. В результате женщины устраивали вокруг него страшную суматоху. «Учитывая, что мне известно, что он является преданным рабом Вашего Святейшества, и в связи с его отношением к нам, я чувствую потребность со всей возможной теплотой рекомендовать его Вашему Блаженству, чтобы Вы соблаговолили осознать то рвение, с каким он служит нам и насколько преуспевает в этом» – так писала Лукреция отцу.
К сожалению, утеряны почти все письма Гасета. Александр VI, жаждущий новостей, в каждом письме жаловался, что женщины проявляют к нему полное равнодушие и вообще забыли его. В результате, когда в конце июня 1494 года до Рима дошли известия о душевной болезни Лукреции, разразилась буря. У Александра VI пробудился отцовский инстинкт, и он, трепеща от страха, посылал одно за другим письма и посланцев в Пезаро до тех пор, пока не получил собственноручное послание от Лукреции, сообщавшей о своем состоянии. Папа незамедлительно ответил: «Донна Лукреция, возлюбленная дочь, на четыре или пять дней ты погрузила нас в глубокое отчаяние. Мы были переполнены тревогой из-за зловещих и ужасающих новостей, распространяемых в Риме, будто бы ты умерла или настолько плоха, что нет никакой надежды на то, что тебе удастся выжить. Принимая во внимание безграничную любовь, которую мы питаем к тебе, как ни к кому в мире, можешь себе вообразить, какое горе вызвали у нас эти слухи. И до тех пор пока мы не получили твое собственноручное письмо, написанное с трудом и показывающее, что ты пока еще чувствуешь себя неважно, мы не могли обрести спокойствия в душе. Мы благодарим Бога и Нашу Владычицу Небесную, что они избавили тебя от опасности, и заверяем, что не будем счастливы до тех пор, пока лично не увидим тебя».
Папа предложил Лукреции (чтобы способствовать ее возвращению в Рим и навести определенный порядок в делах Сфорца, которые медленно, но верно, вели к катастрофе) такой выход: граф Пезаро должен порвать отношения с Миланом, «поскольку Миланское герцогство, увидев, что мы объединились с королем Альфонсо, будет неохотно выплачивать ему деньги, и у него не остается иного выхода, как следовать нашим желаниям и принять командование неаполитанским отрядом». Папа просил незамедлительно дать ответ, но граф де Пезаро оказался в весьма затруднительном положении; достаточно сказать, что он зависел от Александра VI не только как синьор его преосвященства, но и как зять. Джованни страшился сделать решительный шаг, поскольку папа требовал от него пойти против собственной крови и разорвать родственные узы с миланской родней. Сфорца, оказавшись перед выбором или – или, повел себя крайне недостойно. Он принял командование неаполитанским отрядом и, соответственно, денежное содержание, но одновременно повел рискованную игру, сообщая миланским Сфорца сведения о мощности и дислокации армии Неаполя. Это было даже хуже, чем шпионаж; это была государственная измена, которая во все времена расценивалась как тяжкое преступление. Письма Сфорца показывают, насколько он был напуган тем, что творил. В одном из них, написанном 2 августа 1494 года, Джованни Сфорца сообщает Людовико Моро, что предоставил миланскому посланнику Раймондо де Раймонди всю имеющуюся информацию относительно передвижений армий герцога Калабрийского в Романью, и подчеркивает, что если просочится даже малая толика этой информации, то он окажется в серьезной опасности, поскольку служит у папы.
Лукреция не могла иметь ни малейшего представления о происходящем. Что же касается Александра VI, то он, возможно, осознавал, что вокруг него что-то затевается, но если и так, то считал несвоевременным что-либо предпринимать в ответ. В тот момент основное беспокойство вызывало у него лавинообразное наступление французов, но, несмотря на это, его стремление поскорее увидеть своих любимых женщин ничуть не уменьшалось. В связи с этим он пишет Адриане Мила, не могла бы она предпринять какие-либо действия, чтобы ускорить их возвращение. «Дорогой племяннице» поручалось осторожно выяснить, не собирается ли Джованни Сфорца возвращаться в Рим. «Если он пока не упоминал при тебе об этом, – писал папа, – действуй осмотрительно и благоразумно вместе с мессиром Франческо Гасетом… чтобы выяснить, что он задумал, потому что вышеуказанный синьор Джованни должен быть готов к тому, чтобы позволить тебе сопровождать донну Лукрецию, в то время как он сам останется в Пезаро, чтобы присматривать за своими людьми и охранять свое государство, в особенности теперь, когда французы наступают и с суши, и с моря. Мы напишем, чтобы вас отправили как можно скорее, потому что нам кажется нежелательным, чтобы во времена, подобные этим, когда в стране множество вооруженных всадников, вы находились в Пезаро». Александр в нетерпении ждал ответа, и уже после его получения договорился о встрече с королем Неаполя. Эта важная встреча, на которой папа и Альфонсо II заключили союз, происходила 14 июля 1494 года в Виковаре.
Письмо Адриане, написанное 8 июля, если и дошло до нее, то, во всяком случае, в тот момент она не была расположена ни становиться соучастницей, ни проявлять послушание. Между тем в первых числах июля Джулия часто получала письма из Каподимонте, в которых родные писали, что ее брат Анджело, глава семьи, тяжело болен и, вероятно, скоро умрет, и убеждали Джулию немедленно приехать, если она хочет повидаться с братом. Джулия решает отправиться в дорогу, хотя это решение идет вразрез с распоряжениями папы насчет Лукреции, и муж Лукреции, чрезвычайно расстроенный этим обстоятельством, делает все, чтобы удержать Джулию. Однако она отказывается выслушивать их аргументы: что ей папа? На рассвете 12 июля Джулия вместе с Адрианой Мила, Франческо Гасетом и еще несколькими сопровождающими направляется к озеру Больсена. Услышав о взятии в плен путешественников, папа приходит в ярость и сурово упрекает Лукрецию с мужем за то, что они позволили женщинам уехать. Учитывая разумность мотивов, двигавших Джулией, такие обвинения по меньшей мере вызывают недоумение. Поскольку в тот момент Джованни Сфорца находился в Урбино, занимаясь слежкой за герцогом Джидобальдо Монтефельтро и арагонской армией, Лукреция отвечает на письмо, рассказывая, как все произошло, но, поскольку она повредила руку и была не в состоянии сама писать, папа подозрительно отнесся к ее письму. Ему казалось, что сквозь оправдания просматриваются равнодушие, лживость и что, в отличие от Чезаре, ему (папе) она посылала ложные сведения. Но прежде всего он заподозрил ее в отсутствии дочерней любви, поскольку она не выказала никакого желания вернуться к отцу. Свое краткое послание он отправил в Пезаро с мессиром Лелио Каподиферро, который, кроме того, должен был передать на словах весьма суровое и подробное сообщение, которое повергло Лукрецию в «невыразимую печаль». Отношения с отцом, который выражал свою любовь таким безрадостным образом, были не так просты, как это могло бы показаться. Лукреция обратила внимание папы, что если его и поразило последнее письмо, то нет никакой причины для удивления, поскольку оно было написано советником, и его стиль изложения (что совершенно очевидно) отличается от женского. Если папа перечитает ее сообщение спокойно и сравнит с тем, что она написала Чезаре, то сможет увидеть, что между ними нет принципиальной разницы. Он должен верить в ее любовь, поскольку она ничего не желает так сильно, как «оказаться у ног Вашего Блаженства, и смиренно, изо всех сил я умоляю Вас сделать меня достойной Вас, поскольку я не успокоюсь до тех пор, пока не добьюсь оправдания». Проявления нежности со стороны Лукреции охладили пыл «быка» Борджиа; нетрудно понять, что Лукреция тут же заслужила прощение и опять была на хорошем счету у папы.
А вот с Джулией все обстояло иначе. Она вовремя добралась до Каподимонте; ей удалось повидаться с братом и скрасить его последние предсмертные часы. После смерти Анджело Джулии пришлось остаться, чтобы утешить вдову брата, Леллу Орсини, которая впоследствии ушла в женской монастырь во Флоренции и постриглась в монахини. Выполнив семейный долг, Джулия и не подумала уезжать из дома. Наоборот, осталась вместе с матерью, сестрой Джироламой Фарнезе Пуччи, кардиналом Алессандро, Адрианой Мила и Франческо Гасетом – счастливым пленником, не обратившим никакого внимания на многочисленные требования папы вернуться в Рим. Нам неизвестны мотивы поведения Джулии, так не соответствующие ее обычному отношению к папе и содержанию ее последних писем. Высказывалось мнение, что у нее были политические причины, но какими они могли быть в это время, когда предполагалось, что Орсини были наивернейшими союзниками короля Неаполя и папы римского? Пастор же объясняет этот случай следующим образом: конфликт страстей вполне мог быть усилен политическими интригами. Я попробую внести ясность в этот вопрос, поскольку его нельзя объяснить одной лишь политикой.
Бассанелло, владение Орсини, находится между Орте и Витербо. Это обедневшая деревушка, расположенная на небольшой возвышенности, население которой составляли старики и военные. Внушительная крепость прямоугольной формы, закругленная по краям, с укрепленными башнями, господствовала над расположенными внизу каменными домами. В Бассанелло имелась церковь в романском стиле с колокольней, средневековые стены которой являлись свидетелями прошлой войны; церковь страдала и испытывала дискомфорт ради удовлетворения чьих-то честолюбивых замыслов. Из окон замка видна долина, через которую несет свои воды Тибр. За горизонт уходят дороги, в которые пристально вглядывался в 1494 году Орсино Орсини в ожидании путешественников из Каподимонте или Рима.
Любовная связь между папой и Джулией была известна всей Италии уже по крайней мере в течение двух лет, и Орсино более не мог выносить сложившегося положения. Придавленный властью и влиянием папы, он выбрал превосходный момент, чтобы поднять восстание.
Подобно всем Орсини, которые подчеркивали свою независимость, сражаясь на стороне союзника Александра VI, короля Неаполя, Орсино в начале сентября получил приказ двинуть свои войска в Умбрию для соединения с арагонской армией под командованием герцога Калабрийского. В это время Джулия вместе с Адрианой Мила находилась в Каподимонте под защитой брата, кардинала Алессандро, и можно предположить, что Орсини не имел никаких особых оснований для беспокойства. Но, как сообщил Орсини один из его информаторов, Александр VI пытался заполучить Джулию обратно в Рим. Поэтому по прибытии в Читта-дель-Кастелло Орсино сказался больным, отправил своих солдат вперед, а сам остался под предлогом выздоровления. А затем, затаив злобу, отправился домой.
Теперь, когда Орсино оказался в Каподимонте, он стал серьезной помехой для возвращения Джулии в Рим; одной из вероятных причин была та, что Александр VI был обеспокоен общественным мнением. Папа по-прежнему страстно желал Джулию, но решил попробовать штурмовать крепость через третье лицо. Он прекрасно осознавал, насколько деликатна сложившаяся ситуация. Король Франции вторгся на территорию Италии с явным намерением, подсказанным ему многочисленными врагами Александра VI, свергнуть папу с престола. В данный момент скандал был абсолютно не нужен, поэтому папе, чтобы достигнуть своей цели, следовало разработать план, как обойти или Орсино, или брата Джулии, кардинала Фарнезе.
Тем временем Орсино вынужден был, отказавшись от идеи проведения военной кампании, расположиться рядом с Бассанелло. Он прикинул оборонительные возможности своего замка и решил, что может позволить себе поднять восстание. Орсино заявил матери, жене и кардиналу Фарнезе, что Джулия должна покинуть Каподимонте и приехать в Бассанелло. Если же она ослушается, то весь мир, даже если это будет стоить ему (Орсино) жизни и потери состояния, узнает об этом скандале. Слова Орсино не соответствовали его силе, но его семья получила передышку. Это решение вконец расстроило АдриануМила, которая не могла игнорировать тот факт, что Орсино был ее сыном. Вероятно, даже нежную и чувственную Джулию удалось склонить на сторону ее косоглазого мужа. Фра Тезео Серипандо, преданный советник Орсино, сообщил Джулии о той ярости, которой были пронизаны письма ее мужа, написанные в интересах обоих супругов. «Я вижу, что синьор Орсини, – писал Серипандо четкими по смыслу, но не отточенными с литературной точки зрения фразами, – терзается мыслями и испытывает большое неудовольствие из-за вашего неприбытия и вообразил, что вы, вместо того чтобы приехать сюда, отправились в Рим. Но если бы вы совершили такую ошибку, то он скорее распрощался бы с тысячью жизней, если бы у него было столько жизней, и со всем имеющимся у него имуществом, чем пережил бы это. Одним словом, я вижу, что он очень недоволен, кипит от ярости и совершает странные поступки. Я из чувства долга к вам обоим пытаюсь успокоить его и заставить изменить планы. Однако я ничего не могу поделать с тем, что он решил: вы не должны ехать в Рим, а должны приехать сюда, и обязан сказать, что если еще что-нибудь произойдет, то он станет подобно дьяволу…»
Не было никого, с кем Орсино мог обсудить свои «коварные замыслы». А в это время Александр VI со все возрастающим жаром призывал Джулию в Рим, настолько ни перед чем не останавливаясь, что кардинал Фарнезе в попытке сохранить остатки достоинства семейств Орсини и Фарнезе отправил Адриану Мила в Рим. Ничего не добившись, она 14 октября вернулась в Каподимонте, «Бог знает как устав», как она сама сообщила. Адриана привезла непреклонное требование папы: Джулия должна приехать в Рим. Кардинал Фарнезе возмущен подобным требованием и отказывается выполнять желание папы; у него тоже есть чувство собственного достоинства (несмотря на то что он являлся жертвой честолюбия, и Паскуино назвал его «кардиналом от юбки», непристойно обыграв его имя. Впоследствии кардинал Фарнезе стал папой Павлом III).
Несколькими днями ранее кардинал Фарнезе написал папе, что будет всегда служить ему «там, где это будет возможно». А теперь пусть папа узнает через Адриану Мила, что кардинал Фарнезе готов на многое, но только не на это. «Вашей репутации будет нанесен урон, если вы решитесь на столь серьезный шаг, как разрыв отношений с Орсино, учинив такого рода скандал, да еще публично». В тот же день Франческо Гасет, по приказу хозяина неотступно следовавший за Джулией, написал следующее: кардинал, ради того чтобы услужить его святейшеству, не будет возражать против оскорбления Орсино, но не готов к тому, чтобы его семейство оказалось втянутым в скандал и подверглось позору. Не будет ли лучше, писал Гасет, пригласить мужа Джулии в Рим, чтобы позаботиться об Орсини, чем вынуждать его к началу боевых действий? Проще поступить именно так, поскольку тогда Орсини превратятся в послушное орудие папы. Таким образом, отодвинув Орсино в сторону, будет проще разобраться с женщинами. Но, черт возьми, его святейшество должен действовать быстро.
Между тем Александр VI послал архидьякона, возможно Пьетро де Солиса, к Орсино с лаконичным требованием отправить жену в Рим. Архидьякона задержали по прибытии в Каподимонте и отправили обратно в Рим, куда 19 октября он прибыл в сопровождении Наваррико, одного из сторонников Борджиа, доставившего папе письма от Адрианы, Франческо Гасета и Джулии. Эти письма однозначно дают понять, что кардинал решил защищать семью от нравственной гибели и не намерен позволять сестре без разрешения мужа отправиться в Рим. Адриана явно расстроена; она не видит никакого выхода из создавшейся ситуации. Джулия, раздраженная борьбой за ее обладание, капризничает. Возможно, ее волновала и приводила в восхищение горячность мужа, посмевшего оказать сопротивление могущественному врагу, несмотря на то что Орсино был предан матерью, женой, родственниками и даже собственным советником. Если Джулия действительно была доброй и чувствительной женщиной, то она могла решить, что скорее обязана отдать свою красоту человеку, проявившему храбрость, чем тому, кто злоупотребил своей властью. Возможно и то, что Джулия, отстаивая собственную позицию, подняла не-большой бунт, что случается с каждой женщиной по крайней мере раз в жизни. Во всяком случае, она заявила папе, что не собирается уезжать из Каподимонте без разрешения Орсино.
Читая между строк письма, полученные 19 и 20 октября, папа понимает, что его противники заключили союз, чтобы не дать осуществиться его желанию увидеть Джулию, которое постепенно переросло в сжигающую страсть. Он обязан бороться. Схватив одно из писем, лежащих на столе, и, оторвав обращение в начале письма, он пишет ответ, обращаясь к Джулии: «Неблагодарная и коварная Джулия. Наваррико привез нам письмо от тебя, в котором ты объявляешь о своем решении не приезжать сюда без согласия Орсино. Хотя мы и решили, что душа у тебя и у того, кто направляет тебя, недобрая, мы не можем поверить, что ты поступишь так вероломно и неблагодарно, хотя неоднократно клялась, что будешь безоговорочно нам подчиняться и не приблизишься к Орсино. А теперь ты хочешь поступить наперекор и, рискуя жизнью, отправиться в Бассанелло только для того, чтобы отдаться этому жеребцу. Мы надеемся, что ты и неблагодарная Адриана осознаете ваше заблуждение и раскаетесь. Настоящим под угрозой отречения и вечного проклятия мы запрещаем тебе покидать Каподимонте или Марту и тем более отправляться в Бассанелло».
Видя всю бессмысленность обращений и приказов, Александр VI вынужден прибегнуть к решительным мерам. Но это письмо представляет особый интерес для историка, поскольку является косвенным свидетельством близости между Джулией и ее мужем, результатом которой, по всей видимости, явился ребенок. Поскольку единственным родившимся в браке ребенком была маленькая Лаура, считавшаяся ребенком Александра VI, мы вправе предположить, что у Джулии был еще один ребенок, мертворожденный или умерший вскоре после рождения, или что Лаура была дочерью Орсини. В этом случае Джулия, должно быть, выдала Лауру за дочь папы в надежде обеспечить ей более удачное замужество.
Следующее письмо папа адресовал Адриане, причем еще более жесткое и грубое, чем то, что получила ее невестка. «У тебя злонамеренная и недобрая душа», – написал папа и далее выразил надежду, что она приползет за покаянием под страхом отлучения от церкви. В третьем письме, адресованном кардиналу Фарнезе, папа официально заявил, что кардинал, по всей видимости, слишком быстро забыл о полученных милостях, и приказал запретить Джулии поездку в Бассанелло. Самым длинным из всех писем было послание Франческо Гасету, которое никогда не публиковалось. Папа написал на собственном специфическом языке – некоей смеси латинского, итальянского и испанского языков. Он выражал недовольство каждым, начиная с самого Гасета, затем перейдя на Адриану, которая после многочисленных обещаний «tota si es voltada», «declarant nos expressament que ella non vuol menar aci a Giulia contro la voluntat de Ursino»{2}. Как она могла предпочесть эту обезьяну нам? Но скоро они увидят, с кем имеют дело. Папа сообщил Гасету, что прочел письмо из Бассанелло от Фра Тезео Серипандо Джулии (этим объясняется, почему письмо было обнаружено в архивах Ватикана), которое дало выход накопившейся злости. Если Джулия и мадонна Адриана изволят выбрать Орсино, они будут отлучены от церкви, как, впрочем, и сам Орсино, и кузен Джулии, Ренуччио Фарнезе. Дав выход своей ярости, Борджиа приказал Гасету немедленно сообщить ему о решении, принятом женщинами. Да, Джулия LaBella задала много работы канцелярии Ватикана, только успевавшей переправлять все эти приказы и угрозы отлучения от церкви!
Между тем причина всех этих волнений оставалась в замке в Каподимонте, стоявшем на высоком берегу озера Больсена. Поначалу она очень расстроилась, но, поскольку была женщиной здравомыслящей, скоро утешилась. Стоило ей перестать ощущать себя предметом мужских желаний и вернуться к повседневной жизни, как она легко примирилась с внезапным и резким окончанием романа с мужем. В этом ей, вероятно, помог и безвольный Орсини. Если бы он отважился бросить вызов папе, отправился в Каподимонте с командой наемников и приказал семейству Фарнезе по имеющемуся у него праву отдать жену, они бы не могли отказать ему в этом. Но такая мысль никогда не приходила ему в голову. Он, должно быть, вскоре устал от собственного бунта, и архидьякон, которого Александр VI вновь направил в Бассанелло, был приветливо встречен в замке. После продолжительной беседы архидьякон вернулся в Рим к папе с посланием от Орсино, в котором говорилось: «Архидьякон, податель этого письма, передал мне послание Вашего Святейшества и еще кое-что на словах от Вас. Я хорошо понял смысл, заключенный в вашем вопросе». В этом коротком послании трусу, потерявшему самообладание, предлагалось капитулировать… а в остальном папа советовал архидьякону действовать, исходя «исключительно из принципа доброй воли». Это означало (или предвещало) капитуляцию, и в следующем месяце Джулия и Адриана отправились в Рим. Орсино даже попытался извлечь выгоду из создавшегося положения, начисто забыв о собственном заявлении, что скорее предпочтет потерять все имущество, чем вынесет оскорбление. 28 ноября он попросил у папы солидную сумму денег, чтобы заплатить войскам, сказав, что они отказываются двигаться походным маршем до тех пор, пока им не выплатят жалованье. В этот момент войска Орсини столкнулись с серьезными трудностями, и появились признаки будущей страшной измены Орсини.
Теперь женщины могли свободно отправиться в Рим, и софизмы Джулии исчезли так же легко, как упорство Орсино. В конце ноября женщины все еще оставались в Каподимонте, но информатор прояснил ситуацию, объяснив, что они остаются там «в распоряжении… легата Его Высокопреосвященства» и просто были задержаны до прибытия мессира Аничино, доверенного лица Борджиа, который должен сопровождать их «туда, куда они желают отправиться», – иными словами, в Рим. А тем временем у Лукреции продолжалась спокойная провинциальная жизнь в Пезаро.
В это самое время Италия начала испытывать на себе весь ужас чужеземного вторжения. Король Франции наступал во главе хорошо обученной армии, готовой сражаться в сложных климатических условиях и стремящейся к завоеваниям. Франция в целом не стремилась к войне, но даже очаровательной королеве Анне Бретонской не удалось отвлечь короля от стоявшей перед ним цели. Карл VIII был маленького роста, и итальянцы тут же присвоили ему прозвище Le Petito– Малыш. Советники убедили короля в существовании в Неаполе мощной группировки, которая страстно желала господства Франции, и, кроме того, имелись призывы о помощи со стороны Людовико Моро и Джулиано делла Ровере. Причина, по которой французский король оставил свою королеву в Гренобле и 3 сентября оказался в Италии, заключалась в его донкихотской любви к риску и славе.
Глава 3 Графиня де Пезаро
Вскоре положение стало угрожающим. Французский флот под командованием Луи Орлеанского одержал победу в Рапалло над арагонским флотом, и собравшиеся в Аиксе итальянцы, среди которых были Джулиано делла Ровере, герцог Эрколе д'Эсте, Людовико Моро с женой Беатрис и их пышные дворы, засвидетельствовали свое почтение королю Франции. Через несколько дней в Па-вии произошла трагическая встреча Карла VIII и Изабеллы Арагонской. Изабелла бросилась в ноги королю и, хотя понимала, что он пришел в Италию вести войну против семьи, к которой она принадлежала, умоляла его защитить законную ветвь Сфорца – ее мужа и сына – от узурпатора Людовико Моро. Безусловно, появление Изабеллы и ее мольбы прозвели впечатление на Карла VIII. Но меньше чем через месяц, Джан Галеаццо неожиданно умер. Неизвестно, была ли эта смерть естественной или насильственной, но Людовико вместе с торжествующей женой взошел на престол герцогов Миланских.
Французская армия, миновав Пьяченцу, Сарцану и Пизу (в Пизе Савонарола предстал перед королем и заявил, что является Божьим посланником, присланным дляпроведения реформации церкви), продолжала двигаться в сторону Неаполя. Под всеобщее ликование французы вошли во Флоренцию и приготовились двинуться в Рим.
Но, несмотря на успехи, а возможно, именно из-за них, Карл VIII осознавал, что не посмеет напасть на главу христианского мира. На него никоим образом не повлияли настойчивые предложения кардинала Джулиано делла Ровере созвать церковный собор и свергнуть папу. У Карла была причина опасаться других европейских держав, и он понимал, что его жена, королева Анна, не одобрит подобных действий. По его мнению, было бы гораздо лучше, соблюдая правила, получить разрешение папы пройти через Рим. Но Александр VI по-прежнему настаивал на сопротивлении, и, когда Асканио Сфорца явился в Рим для ведения переговоров, папа задержал его в качестве заложника. Между тем французская армия продвигалась настолько быстро, что среди прочих дел папа стал всерьез беспокоиться о Джулии Фарнезе.
Теперь, когда Орсино изменил свое мнение и подчинился требованиям папы, Джулия наконец-то могла в сопровождении сестры Джироламы Фарнезе Пуччи и, нет нужды добавлять, синьоры Адрианы отправиться в Рим. Ранним утром 29 ноября карета с тремя женщинами, сопровождаемая тридцатью всадниками, двинулась в путь. Довольно скоро кавалькада была неожиданно остановлена вооруженными всадниками. Попытка оказать сопротивление была не только бесполезной, но и весьма опасной, и путешественникам не оставалось другого выбора, как сдаться на милость разведывательного отряда французов под командованием Ива д’Аллегры, которому, казалось, самой судьбой было предначертано покорять красивых женщин. Французы, завороженные красотой путешественниц, сопроводили их в Монтефьясконе, где, по свидетельству Джулии, им оказали блестящий прием. Когда французский посланец в соответствии с обычаем прибыл в Рим с требованием выкупа, папа тяжело воспринял полученные известия. Ни одна лошадь на земле не казалась ему достаточно быстрой для того, чтобы доставить потребованные в качестве выкупа 3 тысячи скудо. Для большей безопасности папа отправил с деньгамизаслуживающего доверия камерария, Джованни Марравеса, но, полагая, что и этого недостаточно, не только сам написал королю, но и обратился к семейству Сан-Северино (которые даже в это непростое время были преданы Сфорца) и вынудил кардинала Фредерико, который в то время находился в Риме, написать своему брату, стороннику Карла VIII, Галеаццо де Сан-Северино. Галеаццо Сан-Северино оставил свидетельство своих переговоров с королем Карлом. Пастор опубликовал одно из писем Галеаццо, адресованных его брату-кардиналу, хотя большего внимания заслуживает собственноручное послание Александра VI, и по сей день остающееся неизвестным. «Сразу же по получении папского послания, – пишет Галеаццо, – я предстал перед королем большинства христиан и, напомнив Его Величеству случай с задержанием вышеуказанных синьор… обратился к нему с просьбой такими словами, которые, по моему суждению, были достаточно любезны, чтобы Их Величество соблаговолило освободить пленниц. На это [Его Величество] благосклонно ответил мне, что это является и его желанием; он собирался отправить их ближе к вечеру, поскольку хотел, чтобы в Рим их сопровождал доверенный человек из его окружения…» Узнав об освобождении и скором прибытии женщин, Александр VI, отбросив все мысли о политике, подобно двадцатилетнему юноше, занялся подготовкой к встрече. Первым делом он занялся собственным нарядом, который должен был выглядеть не только элегантно, но и уместно. Александр выбрал черный бархатный плащ, отделанный золотом и делавший его намного стройнее, изящные валенсийские сапоги, красивый испанский шарф и бархатную шапочку. Меч и кинжал, довершившие костюм, служили лишь отчасти для защиты, а в первую очередь для того, чтобы очаровательные женщины не обнаружили слишком большой разницы между ним и блестящим военным эскортом, сопровождавшим их в Рим. Но вот, наконец, те, ради которых затевался весь этот маскарад, в сопровождении четырехсот французов подъехали к воротам Рима. В темноте, разгоняемой светом факелов, папа видит полную любви улыбку на обращенном к нему смуглом лице Джулии. По свидетельству летописцев, Джулия провела эту ночь в Ватикане.
Мы не находим ничего странного в том, что присущие Александру VI выдающиеся способности и темперамент позволили ему не просто устоять, но избежать унижений в последовавшем за этими событиями тяжелом периоде. С каждым днем французы подходили все ближе. Падение Чивитавеккьи отрезало возможность уйти морем; в какой-то момент, когда в Ватикане стояли сундуки, наполненные гобеленами и драгоценностями, такой вариант рассматривался. Окончательный удар нанес Орсини, внезапно в декабре перебежавший на сторону Франции и предложивший королю свой замок в Брацциано в качестве военного штаба. На семейных советах Орсини голос мужа Джулии имел не слишком большой вес. По всей видимости, нам следует предположить, что он был в центре заговора, оказавшегося столь роковым для планов сопротивления, предусмотренных папой. В результате Александр VI остался с небольшой горсткой арагонских и испанских солдат среди безразличных людей, и поскольку не имел достойных союзников, то и не имел иной альтернативы, как позволить французской армии проследовать через Рим в направлении Неаполитанского королевства. Король Альфонсо предложил папе крепость Гаета, но получил отказ; единственная крепость, которой доверял Александр VI, был замок Святого ангела, откуда с бельведера он мог наблюдать за пасущимися внизу лошадьми французского короля. Сфорца освободили, и соглашение было достигнуто.
Карл VIII, не встретив сопротивления, вошел в Рим в последний день декабря 1494 года во главе французской армии, прошедшей торжественным шестичасовым маршем вместе с 2500 аристократами, большую часть которых составляли флорентийцы, одетые в роскошные одежды и увешанные драгоценностями; с группами гасконских арбалетчиков, невысокого роста, но энергичных, мускулистых мужчин; с лучниками, жезлоносцами и артиллеристами. Когда они, появившись на Виа Лата, проследовали вместе с королем до его временного пристанища во дворце Святого Марка, ныне палаццо Венеция, армия показалась огромной. У главного входа во дворец были установлены орудия, а тем временем в городе, насчитывающем едва более 60 тысяч человек, 30 тысяч молодых мужчин лишились душевного равновесия. Французская армия поняла, что безоружный город лежит у ее ног, и начала грабить дома и дворцы, насиловать женщин и воровать все, что попадалось под руку. Король Франции установил на площадях виселицы в качестве красноречивого предупреждения, не имевшего никакого практического значения. Мародерство по-прежнему процветало. Дом Ванноццы на Пьяцца Бранка сильно пострадал; это великолепно меблированное жилище являлось первоклассной добычей, и грабители, должно быть, испытывали особенное удовлетворение, обворовывая столь необычную фаворитку.
А что в это время делала Ванноцца? Существует предание, будто французские солдаты изнасиловали ее в собственном доме и она призывала Чезаре отомстить за это деяние. Но эта история не подтверждена ни документами, ни логикой вещей. Вероятнее предположить, что Ванноцца ушла из дому и с помощью мужа спряталась в надежном месте (или Александр VI предложил убежище для своей фаворитки). Может, она укрылась в замке Святого ангела, как делала это в других случаях в бурные периоды жизни Борджиа. Три коротких письма, обнаруженные Пастором в 1831 году в секретных архивах Ватикана, доказывают, что папа никогда не забывал мать своих детей и продолжал видеться с ней после восшествия на папский престол. Пастор обнаружил вышеуказанные письма среди посланий, датированных 1493-м и 1494 годами, которые в 1627 году заново классифицировал Конфалоньери, но не было предпринято никаких усилий для установления их точной даты. Теперь установлено, что найденные письма Ванноццы относятся к 1493–1494 годам и в одном из них содержится информация, не оставляющая никаких сомнений. Это просьба об аудиенции. Ванноцца просит папу принять ее, поскольку она должна сообщить ему «много вещей, о которых, я уверена, Ваше Святейшество было бы радо услышать», и прежде всего ей хотелось вместе порадоваться «благим вестям о герцоге и родившемся у него прекрасном сыне». В то время в семье Борджиа был только один герцог, Хуан Гандийский, и поскольку его жена Мария Энрикес в ноябре 1494 года родила ему сына и преемника, то письмо, по всей видимости, относится к этому событию и написано в конце ноября или в начале декабря. Эти письма показывают, что Ванноцца, энергичная и практичная женщина, жила как никогда полной жизнью. В ней нет ничего от попрошайки, и когда она просит об аудиенции, то знает, что получит ее. О дне и часе встречи договаривался Карло Канале, всегда готовый служить «почтовым голубем» между папой и Ванноццей.
Не стоит говорить, что вряд ли кому удастся застать врасплох людей, владеющих искусством скрывать подлинные чувства. Однако, как мне кажется, первое письмо, написанное из Рима в третьем лице, в отличие от всех других писем Ванноццы может пролить свет на обсуждаемую проблему. «Ванноцца смиренно просит у ног Его Святейшества, чтобы он соблаговолил дать ей завтра вечером аудиенцию, поскольку ее сердце сжимается от страха и она надеется, что любой ценой, как можно скорее, получит разрешение». Похоже, «страх» относится к сметающему все на своем пути вторжению французов. Но даже если это письмо не доказывает с полной однозначностью, что в тот момент Ванноцца находилась далеко от Рима, то, по крайней мере, показывает, что она готова защищаться при малейшей угрозе чумы или войны. Следовательно, у нас имеется еще одна причина, по которой можно предположить, что нападение на дом Ванноццы на Пьяцца Бранка было связано с грабежом, а отнюдь не с насилием.
Другая интересующая нас проблема имеет отношение к Джулии Фарнезе, которая была для папы дороже Ванноццы. Она, похоже, не укрывалась в замке Святого ангела, но осталась ли она в Риме, найдя прибежище в одном из дворцов Фарнезе? По счастливой случайности мне удалось обнаружить в архивах Ватикана письмо, которое пролило свет на некоторые противоречия, относящиеся к тому времени. Вот письмо, написанное Джакобелло Сильвестри, епископом Аллатрийским, и адресованное «Его Светлости» Марианно Савелли, который был в близких отношениях с семейством Фарнезе и на тот момент участвовал во французской кампании. Взволнованным тоном человека, способного разглядеть все возможные опасности, епископ сообщает Савелли, что Карло Фарнезе приказал ему при первой же возможности увезти Джулию из Рима. Хотя поначалу Джулия «заупрямилась» и не захотела уезжать, но в конце концов прислушалась к его увещеваниям и заявила, что будет готова сразу же отправиться в путь, как только ей предоставят достаточное количество лошадей и надежный эскорт. «В связи с этим, – добавляет Сильве-стри, – я прошу Вашу Светлость действовать быстро, чтобы удовлетворить ее требования, поскольку, честно говоря, мне кажется непозволительным то, что она должна оставаться здесь, а то, что здесь может произойти, принесет всем мало чести, поскольку Его Высокопреосвященство монсеньор (кардинал Фарнезе) хорошо понимает, что будет терзаться до тех пор, пока она не уедет из Рима. Ради Бога, пусть Ваша Светлость найдет способ отправить ее, чтобы она могла уехать отсюда».
Если Орсино не признал поражения, то это сделал брат Джулии, кардинал более могущественный, чем Орсино. В этом, как и в других, относящихся к делу документах, ни один из которых не может быть заподозрен в пристрастном отношении, мы не видим, чтобы будущему папе Павлу III досаждали отношения между Джулией и Александром VI, а значит, с него полностью снято подозрение в соучастии, в котором его обвиняют некоторые историки. Он подчинился силе. Но глубина его страданий, как написал епископ Аллатрийский, заключается в моральной поддержке. Как раз в это время или немного позже флорентийский информатор отмечает: «Я слышал, что для мадонны Джулии изготавливают кольца стоимостью тысяча дукатов, а бедному кардиналу не на что жить». Это тоже говорит в пользу Фарнезе. У него было гораздо больше забот, чем у Орсини, и люди, которым он доверял, при первой возможности были готовы оторвать его сестру от Борджиа. К тому же его, должно быть, обуял ужас при мысли о том, что может произойти, если находящиеся в Риме французы начнут противоборство с папой римским, а тогда можно будет ожидать чего угодно от такого множества вооруженных людей. Когда Джулию взяли под стражу, он был глубоко задет саркастическими замечаниями, гуляющими по стране. Нам неизвестно, какова была реакция Савелли на письмо епископа и вообще дошло ли письмо до адресата; согласно архивам Ватикана, письмо было перехвачено папскими офицерами и передано Александру VI. Как бы то ни было, но епископ, являвшийся сторонником кардинала Фарнезе, был в скором времени обвинен в деятельности, направленной против Борджиа, и заключен в тюрьму замка Святого ангела, где и был забыт вплоть до смерти Александра VI. Но даже если это письмо и не являлось непосредственной причиной длительного тюремного заключения, оно, по крайней мере, демонстрирует дух епископа и его готовность использовать любую возможность, чтобы противостоять желаниям Борджиа. Неизвестно, уехала Джулия из Рима или нет, и мне не удалось обнаружить ее следы, относящиеся к этому периоду, в Риме или Каподимонте. Тот факт, что о ней не было ничего слышно в период французской оккупации, говорит о том, что она находилась в надежном месте.
А теперь давайте вернемся к папе, в его крепость на Тибре. Александр VI прекрасно осознавал опасность оккупации города французами и понимал, что при первой же удобной возможности их следует тем или иным способом выбить из города. Папа срочно приступил к переговорам, в результате которых французской армии было предоставлено право прохода через территорию папского государства. В качестве залога папа передает крепость Чивитавеккью, турецкого принца Джема и кардинала Валенсийского Чезаре Борджиа; последний должен сопровождать французскую армию как папский легат. Александр VI оказал королю 6 января в Ватикане теплый прием, который характеризовал его выдающие качества не только как политика, но и как человека. Король рассыпался в комплиментах. В ответ он получает кардинальский сан для своего фаворита Брисонне. Затем Карл VIII был принят в новых апартаментах Борджиа, где на стенах еще не высохли краски на фресках Пинтуриккьо и его учеников.
Апартаменты Борджиа обращены на север. Сегодняшнему посетителю эти помещения кажутся чересчур мрачными за счет карнизов, расположенных над окнами, а еще более из-за того, что окна выходят во внутренний двор. Здесь даже в яркий июньский полдень всегда царит полумрак. Но в те времена над окнами не было никаких карнизов и вблизи не располагалось никаких высоких строений, а потому из окон апартаментов открывался вид на зеленые сады, тянущие до Монте-Марио, на благоухающие апельсиновые деревья и сосны, которые ни в коей мере не препятствовали проникновению полуденных солнечных лучей, добавлявших еще больше блеска росписям Пинтуриккьо. Огромные окна, заключенные в рамы сложного рисунка, разрезали ландшафт на четкие геометрические фигуры. В апартаменты вели маленькие, узкие двери, и, когда понтифик в просторной золотой мантии появлялся в помещении, заполняя своей фигурой, словно мраморная арабеска, весь дверной проем, всем казалось, что с помощью сверхъестественной энергии со стен сошло изображение папы, способное двигаться среди простых смертных. Но приехавшие из-за Альп не показывали виду, что испуганы поразительным величием представившегося им зрелища. Они, конечно, выразили восхищение, смешанное с любопытством, столь свойственным французам, и, не соблюдая требований церемониала, хотели получить все, что только возможно. Бурхард был поражен, увидев, как они беспорядочно и «невероятно торопливо» приблизились к папе, чтобы поцеловать его туфлю, и, поскольку считал, что любое правило в первую очередь должно соблюдаться людьми знатного происхождения, в конце концов решился испросить совета у папы, на что тот пожал плечами.
В конце января французы покинули Рим. 26 января король был торжественно принят в Ватикане папой и кардиналами. Король выказал дружелюбие по отношению к официально переданному ему турецкому принцу Джему. Когда армия двинулась походным маршем на юг, легкомысленному, романтично настроенному королю казалось, что он будет наслаждаться, двигаясь во главе армии-победительницы по земле, на которой уже в феврале распускаются цветы; а мысль, что он победил государство и удерживает заложников, – восточного принца и кардинала, являвшегося сыном самого папы, – доставляла ему дополнительную радость. Впереди ждало еще одно радостное событие: в Марино стало известно, что король Неаполя Альфонсо II сбежал на Сицилию, оставив трон на сына Феррандино, принца Капуйского. «Храбрец никогда не бывает жестоким», – прокомментировали люди, памятуя о злодениях Альфонсо, и его бегство – публичное признание в трусости – явилось очевидным признаком неизбежного краха арагонской династии и еще более увеличило самонадеянность французов. Затем в Веллетри происходит событие, разом разрушившее радужные планы: Чезаре Борджиа тихо «делает королю ручкой».
Кардинал Валенсийский двигался в королевской свите, демонстрируя любезные манеры, которые никоим образом не давали оснований для каких-либо подозрений. Он, безусловно, давно замыслил хитрость и просто ждал благоприятной ситуации для побега. Такая возможность подвернулась в Веллетри, где с помощью нескольких аристократов Чезаре удалось ускользнуть от французского короля. Минуя Рим, он направился в Сполето, где и стал дожидаться дальнейших событий. Француз выразил гневный протест в адрес Ватикана. «Кардинал повел себя плохо, чрезвычайно плохо», – выслушав все, заявил, укоризненно покачивая головой, Александр VI. Когда же французы открыли сундуки, принадлежавшие Чезаре, то обнаружили в них камни. Оказавшись в глупом положении по вине двадцатилетнего кардинала, Карл VIII болезненно отреагировал на столь грубую шутку. Если бы не епископ Джулиано делла Ровере, которому удалось успокоить Карла, французская армия из одного только примитивного желания нанести ответный удар с огромной готовностью разграбила бы Веллетри. Французы, не встречая никакого сопротивления, двинулись дальше. Серьезное сопротивление оказала только крепость Монте-Сан-Джованни, обитатели которой предприняли неудачную попытку противостоять французам и были безжалостно уничтожены. Объятая ужасом Капуя распахнула ворота, итрусливый король Феррандино, видя всю бессмысленность сопротивления, сбежал на Искью. С трудом веря в свалившуюся удачу, французские солдаты вступили в Неаполь.
А в то время как они, расположившись в тени Везувия, предавались сибаритству, папа энергично готовился нанести ответный удар. Он сформировал грандиозный альянс, в который вошли Людовико Моро, Венеция, которая предвидела угрозу французского господства в Италии, король Испании и император Максимилиан, предвидевшие одну и ту же опасность. О создании союза между этими силами было объявлено 12 апреля 1495 года, и ситуация сразу же стала стремительно меняться.
Карл VIII приказал немедленно отступать к Альпам и двинулся маршем на север, оставив в Неаполе французский гарнизон. Папа торжествовал. Однако, совершая обходной маневр, он все-таки потерпел неудачу, и у реки Таро, вблизи Форново, произошло знаменитое сражение, относительно которого историки и по сей день расходятся во мнениях. Командующие противостоящих сторон, король Франции и маркиз Мантуанский Франческо Гонзага, проявили невероятную храбрость, но ни один не добился решающей победы. Карл ухитрился отступить, оставив большую часть пленников и трофеев, захваченных в Италии, в руках врага. Битва при Форново произошла 6 июля 1495 года. Карл VIII задержался в Асти, чтобы привести в порядок оставшуюся часть армии, и вскоре повторно пересек Альпы, возвращаясь во Францию. Его итальянская кампания заняла меньше года.
Александр VI решил не оставаться в Риме, дожидаясь возвращения отступающего короля. Он благоразумно покинул город и отправился в Перуджу, где был радостно встречен Лукрецией. После того как французы отступили за Альпы, папа вернулся в Ватикан, а Лукреция – в Санта-Мария-ин-Портико, где воссоединилась с Джованни Сфорца, который, похоже, организовал ей достойную встречу. Лукреция устроила несколько блестящих приемов. В числе гостей были четверо вновь избранных кардиналов, а также веселый и галантный ломбардец Франческо Гонзага, победитель битвы при Форново, которого чествова-ли всюду, где бы он ни появлялся. Лукреция наслаждалась, слушая остроумные рассказы маркиза, но ей даже не приходило в голову, что этому высокому, энергичному мужчине, рыжебородому, с характерными чертами лица, впоследствии предназначено сыграть важную роль в ее жизни.
В марте Джованни Сфорца на месяц уехал из Рима, и связанные с ним темные, таинственные слухи дошли до Ватикана. «Вероятно, тиран Пезаро находит что-то такое в своем доме, о чем остальные даже не подозревают», – написал 28 апреля 1496 года Дж. Карло Скалона, информатор из Мантуи, а в сообщении от 2 мая добавляет, что Сфорца уехал «в отчаянии, оставив жену под папской мантией», объявив, что никогда не вернется в Рим. Джованни Сфорца остался в Пезаро, несмотря на то что папа всячески пытался соблазнить его вернуться: обещал высокие посты, неумеренно льстил и выказывал дружеское расположение. Тем временем на смену лету пришла осень, а затем наступила зима.
Лукреция, вероятно, была опечалена этими событиями, но, судя по всему, не слишком долго предавалась унынию, особенно когда в Рим по приказу папы прибыли ее младший брат Джофре с женой Санчей. Лукреции было всего шестнадцать лет, и, как свойственно девушкам ее возраста, жизнерадостность вскоре взяла свое.
Поначалу Лукреции было не по себе в присутствии Санчи. У нее не хватало жизненного опыта, и прежде всего опыта придворной жизни; это отмечалась всеми. «Это [то есть приезд Санчи] положило начало ревности со стороны дочери [папы]», и «графиня де Пезаро весьма недовольна», сообщают нам информаторы, злобно добавляя, что, по всей видимости, Лукреция опасалась конкуренции. Нам несложно представить, с какой тщательностью Лукреция выбирала себе наряд утром 20 мая, в день встречи с невесткой. Столь же тщательно, до деталей, она выбрала свиту, которая состояла из двенадцати девушек в изумительной красоты нарядах, двух пажей в роскошных накидках и слуг в одеждах из золотой и красной парчи. Встреча кортежей в то майское утро представляла великолепное зрелище; к тому же впечатление усиливалось благодаря присутствию семьи кардинала, дворцовой стражи, итальянских и иностранных послов. Принцесса, в королевскую свиту которой входили шесть шутов, прибыла в десять часов утра. Одетая в платье, обычное для жительниц городов юга Италии, – черное с широкими рукавами, она ехала на верховой лошади, покрытой черной попоной из чередующихся полос бархата и атласа. Попона, покрывавшая лошадь Лукреции, была из черного атласа. Сблизившись, молодые женщины торжественно обнялись, после чего кортеж перестроился. Впереди ехал Джофре с обычным для него выражением снисходительного высокомерия, которое тут же сменялось сладострастием, стоило ему остановить свой взгляд на жене. У него были длинные, тщательно расчесанные волосы светло-медного оттенка и бронзового цвета благодаря горячему южному солнцу кожа. Санча ехала между Лукрецией и испанским послом. Она бросала вокруг любопытные взгляды, и ее лицо становилось все оживленнее. Те, кто с готовностью принял на веру легенду о «самом очаровательном создании», возможно, почувствовали разочарование. По словам летописца, «точно так может выглядеть и вести себя овца, готовая отдаться желаниям волка», а что касаемо фрейлин Санчи, Лоузеллы, Бернардины и Франчески, то, добавляет летописец, «они достойны своей госпожи, и люди открыто говорят, что они стоят друг друга».
Александр VI ожидал кортеж с нетерпением юноши, мечтающего о встрече с очаровательной женщиной. Стоя у открытого окна, он внимательно разглядывал площадь и, едва завидев появившейся кортеж, занял подобающее ему место среди кардиналов. Пролетело всего несколько минут, и в соседнем зале послышались звуки шагов, шелест шелка и женские голоса, а затем в зал смело вошла Санча – она была дочерью и сестрой короля и ничего не боялась. Они с мужем преклонили колени, и Санча склонила свою темную головку, чтобы поцеловать ступню папы. Затем каждый занял предназначенное ему место: Джофре рядом с братом Чезаре, а Лукреция и Санча – на красных бархатных подушечках на ступеньках у ног понтифика. Сидя на троне, папа видел по одну сторону от себя белокурую головку Лукреции, а по другую – темноволосую Санчи и испытывал невыразимое удовлетворение (красота молодых женщин еще больше усиливала это чувство) от того уважения и почтительности, которыми они его окружали. Кроме того, являясь их господином и повелителем, он чувствовал себя в своей стихии и, демонстрируя умение вести остроумную беседу, вызывал их смех.
При папском дворе Санче была предоставлена, но не столь очевидно, как Лукреции, неограниченная власть. Звание и происхождение делали ее положение выше, чем просто фаворитки, но все-таки ниже, чем невестки в обычном понимании этого слова. Тем не менее она использовала свое непростое положение лучше, чем кто-либо другой, и никогда не выказывала явной ненависти или недоброжелательности в отношении мужа, маленького принца; наоборот, она защищала его, баловала и даже излишне осыпала знаками внимания. Она его, конечно, не любила, поскольку относилась к тем женщинам, которые способны любить только тех, кто сильнее и могущественнее их. С течением времени она осознала, что единственным человеком, в избытке обладающим требующимися ей качествами, является ее деверь, кардинал Чезаре Борджиа. Санча целиком отдалась любовному роману, как если бы это была вендетта. С первого дня появления в Риме Санча внесла тревожную ноту, явно демонстрируя текущую в ней арагонскую кровь.
На Троицу, 22 мая, папа, кардиналы и все женщины семейства Борджиа во главе с Лукрецией и Санчей присутствовали на мессе в соборе Святого Петра. Испанский прелат, отправлявший службу, чувствовал, вероятно, огромную ответственность, произнося проповедь перед самыми знаменитыми прихожанами католического мира. В то время как он занимался медленным отрыванием лепестков от своей теологической розы, женщины почувствовали утомление, и вся паства, включая папу, ощутила такую скуку и раздражение, что, несмотря на уважение к святому месту, не могла более продолжать слушать ни секунды. Неожиданное движение всколыхнуло атмосферу скуки: Санча и Лукреция в одеждах, которые не могли скрыть их проворные молодые тела, поднялись на клирос и расположились на сиденьях, предназначенных для каноников и певчих собора Святого Петра. За ними восхождение совершают придворные дамы, которые шумно усаживаются, оправляют платья, пересмеиваются между собой, преувеличенно демонстрируя внимание к читаемой проповеди, в то время как их глаза и лица озарены улыбками. Папу позабавил такой своеобразный мятеж; в конце концов, они всего лишь молодые девушки. Но в соответствии с косными правилами того времени Бурхард заявил, что произошел инцидент «magno dedecore, ignominia et scandalo nostri et populi»{3}.
Когда появилась Санча с безумным взором, чтобы еще больше взбудоражить и так уже неспокойные воды Ватикана, Бурхард растерялся. Было совершенно ясно, что именно Санче принадлежала идея занять священные места и что Лукреция просто подражала ей, словно ребенок, приглашенный поучаствовать в игре и с готовностью принявший это приглашение, но который из-за природной робости и уважительного отношения к церковным правилам никогда сам не сделает первый шаг.
Итак, Лукреция и Санча стали подругами. К счастью, они сразу же поняли огромную разницу между отведенными им ролями, и их отношения строились самым естественным образом, исключавшим какие-либо недоразумения. Рассеялись опасения Лукреции относительно возможного соперничества, и ощущаемое ею удовольствие от устраиваемых в Ватикане празднеств еще более усиливалось благодаря властолюбию Санчи. Это было время бесконечных балов, концертов и разного рода увеселительных мероприятий. Со своей кафедры в Сан-Марко во Флоренции Савонарола тщетно предупреждал, используя пророчества Амоса, относительно папских женщин: «Audite verbum hoc, vaccae pingues quae estis in monte Samariae»{4}; ни Александра VI, ни его семейство не затрагивали гневные речи. Знаменитый монах был не в состоянии противостоять крепости Борджиа и, пытаясь провести в жизнь невыполнимые реформы, был обречен погибнуть. Сравнивая пылкое красноречие Савонаролы с жизнью и характером понтифика, становится ясно, почему между этими двумя участниками спора никогда не могло возникнуть взаимопонимания. Папа обладал огромной властью, а Савонарола никогда бы не согласился на переговоры. Вот почему 25 мая 1498 года Савонарола был сожжен на костре.
Члены семейства Борджиа продолжали собираться вокруг своего главы, и, как говорилось в политических кругах, папа настолько окружил себя родственниками, что никакие силы не могли бы оторвать его от них, даже если бы Франция вновь напала на Италию; со стороны Франции и впрямь слышались подобные угрозы. Слухи подтвердились, когда папа летом 1496 года отозвал герцога Гандийского из Испании.
Непросто охарактеризовать Александра VI в качестве политика. Мало сказать, что, подобно всем мужчинам, он являлся разносторонней натурой. Папа был столь активной и решительной личностью, что современники считали, что «в папе заключено десять душ». Из вторжения французов Александр VI извлек урок: важно иметь преданных союзников. Следовательно, формирование мощной династии Борджиа соответствует созданию обороны на широком участке фронта. Отсюда можно сделать вывод, что причина непотизма папы крылась не только в чрезмерной любви к родственникам. Памятуя о катастрофе, случившейся, когда династия Орсини перешла на сторону французов, папа решил преподать урок этому семейству, который должен был стать первым этапом в крупномасштабном проекте по окончательному уничтожению римских баронов, чьи выступления угрожали спокойствию государства. Для осуществления операции, направленной против Орсини, в Италию был вызван герцог Гандийский.
Как нам известно, Александр VI не питал никаких иллюзий относительно моральных качеств Хуана. Однако он считал, что высокомерие и грубость допустимы для молодого военного и являются гарантией соблюдения прав семьи. У папы был весьма оптимистический взгляд на способности Хуана к военному делу, его личную храбрость и отвагу, и фактически это послужило причиной вызвать Хуана в Италию во время французского вторжения в 1494 – м и 1495 годах. (Хуан не подчинился приказу.) Можно подумать, что простое присутствие в лагере герцога Гандийского являлось гарантией победы. После отступления французского короля папа категорически потребовал прибытия Хуана, которому ничего не оставалась, как сесть на корабль. В конце июля он оставляет свою беременную супругу, герцогиню Марию Энрикес, и маленького сына Хуана II в укрепленном замке Гандии, и плывет в Италию.
В праздник святого Лоренцо, 10 августа, Хуан Борджиа, проехав Чивитавеккью, въезжает в Рим. Согласно принятому протоколу его выходят встречать кардиналы. Чезаре встречает брата в Порта-Портезе и с почестями провожает в папский дворец. Борджиа были непревзойденными мастерами в организации торжественных выходов, и в данном случае великолепие папской свиты соперничало с роскошью, демонстрируемой герцогом. Хуан появился на гнедой лошади, «покрытой золотой попоной и украшенной маленькими серебряными колокольчиками». Согласно дошедшему до нас сонету гуманиста Бернардино Корсо, «на нем [Хуане] был берет из красного бархата, украшенный жемчугом, бархатный коричневый камзол, рукава и грудь которого были расшиты жемчугом и драгоценными камнями, и даже привыкшая к роскоши римская публика была поражена».
В то время как папа занят формированием армии и артиллерии для Хуана, предполагаемый ликвидатор Орсини уже совершает триумфальное шествие. Герцог Гвидобальдо Урбинский получает жезл главнокомандующего как человек, сведущий в искусстве ведения войны и не имеющий амбиций, которые шли бы вразрез с целями Борджиа. Кроме того, его имя являлось гарантией серьезного отношения к делу. К октябрю 1496 года все было готово, и герцог Гандийский, теперь знаменосец церкви, получает украшенный драгоценными камнями меч, знамена с изображением знаков церкви и с быком Борджиа, белый жезл главного капитана папских войск и приступает к военным действиям.
С пренебрежением выдающегося командующего он отправляет первые депеши, и так уж произошло благодаря случайности или в силу продуманной тактики в отношении врага, что поначалу известия оказались хорошими. Десять замков, не оказав практически сопротивления, капитулировали перед папскими войсками. Настроение приподнятое. Но перед замком Браччано войска были остановлены.
Обороной мощной крепости руководил молодой кондотьер Бартоломео Алвяно, зять Орсини, невероятно уродливый, но зато самый храбрый человек в Италии. Вопреки папе после трудного боя на башнях крепости развевался французский флаг. Хуан издали изучает крепость с пятью башнями, являющимися памятником человеческой гордыни. Стоя лагерем у осажденной крепости, Хуан Гандийский, должно быть, размышляет над тем, насколько неудобно будет чувствовать себя под дождем без золотых украшений. Раздраженно вздыхая, он составляет нелепые, ребяческие планы кампании и издает указы, убеждающие врага дезертировать и предавать своих командиров. Осажденные в крепости бывалые воины только смеются над такими наивными действиями. Эхо этих насмешек раскатилось по всей Италии, что нимало не заботило Хуана. А вот папа пришел в ярость и замучил приказами свою ленивую армию. В конце концов папская армия переходит в наступление на крепость Тревиньяно, расположенную к северу от Браччано. После захвата крепости приходится применить силу, чтобы развести наемников герцога Урбинского и Хуана Борджиа, отчаянно сцепившихся из-за трофеев. А тем временем нанятая на французские деньги армия под командованием Джулио и Карло Орсини атакует папские войска. В этом бою герцог Урбинский вел себя с присущей ему храбростью, но в итоге был захвачен в плен. Герцог Гандийский слегка ранен и, используя это в качестве аргумента, почему не может продолжать боевые действия, самостоятельно удаляется в безопасное место. Лишенные командиров папские войска отступают, и враг тут же освобождает осажденную крепость.
Когда это известие достигает Рима, папа не в силах сдержать гнев: неистовствует, произносит обвинительные речи и объявляет, что лично примет участие в войне. Но по зрелом размышлении он понимает, что сейчас не тот момент, чтобы пытаться изменить ход событий, и будет гораздо лучше согласиться на мирные условия и принять предложение Орсини, согласно которому папа получает крепости Черветери и Ангвиллара и 50 тысяч золотых дукатов. Папа делает вид, что забыл о герцоге Урбинском, и оставляет его в качестве пленника в замке Сориано, где герцог терпеливо ждет, пока семья внесет за него выкуп.
Хотя в Риме появились иронические объявления с просьбой ко всем, кто имеет хоть какую-нибудь информацию о некоей армии церкви, сообщить ее герцогу Гандийскому, сам герцог, ни о чем не тревожась, возвращается к привычному времяпрепровождению, связанному с любовными приключениями и всякого рода празднествами. По счастливой случайности окончание войны совпало с началом Масленицы, так стоило ли отказывать себе в удовольствии? К тому же было бы обидно не привлечь к себе внимания больших, смеющихся глаз Санчи Арагонской, единственной женщины, которая могла оказать поддержку и подбодрить недобросовестного завоевателя. Неясно, что на самом деле произошло между родственниками. Возможно, Санче надоел кардинал Валенсийский в качестве повелителя и господина или ее побудила любовь играть с огнем, а может, она посчитала это хорошей местью своему свекру. Какими бы ни были ее мотивы, она, похоже, откликнулась на заигрывания Хуана. Между тем папа был настолько ослеплен любовью к сыну, что даже не сделал попытки обвинить его в недавнем поражении; сына, безусловно, постигла неудача, но он вскоре исправит положение.
Чезаре, надеявшийся, что после позорной кампании отец несколько охладеет к Хуану, вскоре понял, что сильно заблуждался. По правде говоря, Чезаре стал чувствовать больше, чем прежде, любви и благодарности со стороны отца, но Хуан остался «любимым», тем, кто, предположительно, в будущем покроет военнойславой имя Борджиа. Итак, в 1497 году в папском окружении назревали трагические события.
С мая по декабрь 1496 года папа предпринимал неоднократные попытки вернуть Джованни Сфорца в Санта-Мария-ин-Портико. Несмотря на неудачу, он по-прежнему считал, поскольку оплачивал его содержание, что Сфорца работает на него. В ноябре 1496 года папа приказывает Сфорца объединить его войска с армией герцога Гандийского, чтобы выступить против Орсини. Джованни Сфорца прибег к испытанному способу: собрал несколько солдат, но, вместо того чтобы отправить их из Пезаро, направил к папе канцлера Джеромино с объяснением причины своего бездействия. Александр VI подыграл зятю и в письме от 30 декабря 1496 года признал его объяснения, оправдания и выказал свое полное доверие. Это письмо служит явным свидетельством того, что папа был сильно озабочен тем, чтобы вернуть зятя в Рим, и, очевидно, надеялся обезоружить его доброжелательным отношением. Когда выдался подходящий момент, а именно 5 января 1497 года, папа отправил Джованни Сфорца короткое письмо с требованием прибыть в Рим в течение пяти дней. Джованни, как он написал герцогу Урбинскому 15 января, оказался в трудном положении и опасался, что «вызовет сильное негодование Его Блаженства». В конце концов он все-таки отправился в Рим.
Папа и братья Борджиа превзошли себя «в демонстрации нежных чувств и сердечности», чтобы добиться возвращения Джованни Сфорца в Рим. По словам одного из очевидцев, теперь Лукреция была «очень счастлива и сходила по нему с ума». Я уверена, что выражение «сходила с ума» несколько преувеличено, но она, должно быть, вела себя как «в высшей степени достойная дама»; во всяком случае, так описывали ее относящиеся наиболее предвзято к семейству Борджиа современники. Вероятно, ее обрадовало возвращение мужа, благодаря которому восстанавливалось положение, принадлежащее ей по праву; на приемах и во время различных церемоний ее муж занимал почти такое же высокое положение, как Хуан и Чезаре. Присутствие Джованни Сфорца было отмечено на папских церемониях, как, например, обряд очищения (2 февраля). Он также участвовал в церемониальном кортеже, организованном в связи с официальным приемом Гонзальве де Кордова. Джованни был среди тех, кто 22 марта следом за герцогом Гандийским принимал благословенную пальмовую ветвь на ступенях папского престола. Мирная обстановка, если Джованни не зевал и смотрел в оба, должна была дать ему пищу для размышлений; а он имел причины для того, чтобы внимательно присматриваться ко всем изменениям в политической ситуации. Папа не мог простить Сфорца союза с французами, и они определенно теряли влияние в Риме. Хотя кардинал Асканио вел открытую борьбу, лично пытался умиротворить папу и даже временами, занимаясь самообманом, полагал, что вернул свое прежнее положение вице-папы, становилось все более очевидно, что интересы Борджиа и Сфорца лежат в диаметрально противоположных плоскостях.
Утром в Страстную пятницу граф де Пезаро, поднявшись на рассвете, пришел к жене. Он коротко объяснил Лукреции, что собирается отправиться на исповедь в церковь Святого Крисостомо в Трастевере или в Святого Онуфрия, а затем в честь праздничного дня совершит паломничество в семь церквей в округе. Однако вместо этого он в сопровождении небольшого эскорта покидает Рим. Перевалив Апеннины, он мчится домой, в Пезаро. Джованни пребывает в состоянии ужаса и, по его собственным словам, «измучен быстрой ездой». Короче, он сбежал. Моментально распространились слухи об отравлении; якобы яд был в некоторых подарках, полученных Джованни. Подтверждения этим слухам мы находим в летописях Пезаро, в которых и Бернардо Мональди, и Пьетро Марцетта намекают на то, что Борджиа планировал избавиться от Джованни Сфорца. Мональди, цитируемый всеми биографами Лукреции, рассказывает историю о том, как некий Джикомо, слуга Джованни Сфорца, по приказу Лукреции спрятался за креслом в ее комнате и слышал разговор между Лукрецией и Чезаре, который не оставлял сомнения в том, что Борджиа намеревались убить Джованни Сфорца. После ухода Чезаре Лукреция наказала слуге доложить об услышанном разговоре своему господину. Безусловно, рассказ кажется излишне показным, неестественным, но это не повод, чтобы списывать его со счетов: чего только не происходило в истории человечества. Однако есть одна странность. Лукреция видела мужа в течение всего дня, а он зашел к ней только перед самым отъездом; так по какой же причине она воспользовалась столь сложным способом, чтобы предупредить его о грозящей опасности? Храбрость не входила в число достоинств графа де Пезаро, и на него следовало надавить, чтобы он сбежал из Рима. Рассказ другого летописца не столь драматичен. По его словам, папа обдумывал два варианта: или разлучить Джованни с женой, или убить его, но, «предупрежденный женой, граф ускакал в Пезаро». Важно отметить совпадения свидетельств этих летописцев в том, что Джованни узнал о заговоре Борджиа от Лукреции, а это показывает, что оба летописца, изучившие доказательства и сделавшие записи через несколько лет после описываемых событий, пришли к убеждению, что Лукреция была невиновна и даже приняла сторону мужа. «Что касается подозрений в отравлении, то я не вижу никаких оснований считать их правдивыми», – спустя несколько дней после бегства графа писал один из заслуживающих доверия информаторов, архидьякон Дж. Лусидо Катанеи. Это событие всколыхнуло весь римский двор; создавалось впечатление, что теперь последует ряд непредвиденных событий. Наблюдатели следили за атакующими маневрами папы и оборонительными – графа, и самые компетентные из них были убеждены, что Джованни Сфорца никогда не вернется в Рим. Но если мы оставим в стороне вопрос с отравлением, то, спрашивается, с чем тогда связан внезапный отъезд графа?
В Великую субботу секретари Сфорца, оставшиеся в Риме, нанесли официальный визит миланскому послу Стефано Таверно и сообщили ему об отъезде своего господина, который они объяснили его «недовольством» в отношении тестя. В тот же день, делая отчет о состоявшем разговоре для графа Миланского, Таверно пишет, что у него создалось впечатление, что нечто более серьезное лежит в основе этих объяснений, что-то связанное «с отсутствием скромности у его жены», которое привело графа де Пезаро в «состояние серьезного недовольства…». На этом сообщение заканчивается. Уже после отъезда графа Лукреция получила его письмо, в котором он решительно настаивал на том, чтобы жена воссоединилась с ним в Пезаро во время Пасхальной недели.
В Пезаро Джованни Сфорца почувствовал тоску и одиночество в собственном дворце, который маленькая графиня оживляла своим присутствием всего лишь в течение двух лет. Он ждал ее, поскольку ему хотелось верить, что она приедет в Пезаро. Когда Людовико Моро обратился к нему с просьбой дать объяснения своему бегству из Рима, Джованни ответил, что отправит послание с секретным курьером, но не раньше, чем получит ответ из Рима, – подразумевался ответ от Лукреции. Он на самом деле был выведен из равновесия, если мог поверить в такое неправдоподобное событие, как приезд Лукреции, поскольку папа ни за что не позволил бы дочери последовать за мужем, оставив его, оскорбленного в лучших чувствах, в одиночестве в Ватикане. Вместо Лукреции в Пезаро 1 апреля прибыл мессир Лелио Каподиферро, доставивший четкий и обдуманный папский приказ, датированный 30 марта: «Ваша мудрость может подсказать Вам, как глубоко ранил нас Ваш неожиданный отъезд из города… По нашему мнению, такой поступок ничем не загладить. Мы взываем к Вашим лучшим чувствам, и если Вы хотите сохранить свою честь, то должны быть готовы немедленно вернуться». Сфорца, находясь на расстоянии, ощущал себя в безопасности и резко ответил, что жена должна быть отправлена к нему. Папа объяснил, что Джованни никогда не увидит жену, если откажется вернуться в Рим, и предупредил, чтобы зять даже не пытался сопротивляться приказу.
В полной уверенности, что герцог Миланский и кардинал Сфорца окажут ему поддержку, граф де Пезаро, отправив им письма, написал ответ Александру VI. Джованни Сфорца не осознавал того факта, что политические интриги вынудят его родственников действовать несправедливо по отношению к нему. Сложившаяся ситуация ставит Сфорца в трудное положение, и он отделывается устными заверениями, дабы сохранить, насколько возможно, нейтралитет и выиграть время. Оба, герцог и кардинал, требуют дальнейших объяснений таинственного бегства своего кузена; этот вопрос граф де Пезаро упорно обходил стороной. Но вот 12 мая он сообщает герцогу Миланскому, что, когда Асканио совершит паломничество в Лорето, как он это обещал, то он, Джованни, сообщит все, что с ним произошло, «и я сделаю это вопреки моему нежеланию выносить это дело на всеобщее обозрение». Что же это за такое личное «дело»? Скрытность графа де Пезаро и его упорное молчание наводят на мысль, что он уже пришел к определенному заключению и опасается последствий, если вымолвит хоть слово. Возможно, это связано с тем, что Таверно сообщил о его жене – «отсутствие скромности», и, кроме того, нам следует вспомнить намеки, сделанные Скалона в мае 1496 года.
Тем временем Александр VI, видя бессмысленность своих призывов и распоряжений, чтобы раз и навсегда решить проблему, отправил в Пезаро Фра Мариано Дженацано, последователя учения Августина и главного врага Савонаролы. Он был красноречивым проповедником, чересчур законником, чтобы стать хорошим священнослужителем, и наиболее пригодным для такого рода дел. Стоило ему только увидеть этого посланника папы, как Джованни Сфорца тут же догадался об очередной идее Александра VI – разорвать его брак с Лукрецией. Папа, чтобы упростить дело, предложил Сфорца две альтернативы. Согласно одной граф де Пезаро должен объявить, что никогда не имел брачных отношений с женой, а согласно другой, что свадьба не имела юридической силы, поскольку формально Лукреция не была освобождена от брачных обязательств с Гаспере де Просида. Как папа объявил Асканио Сфорца, его цель заключается в том, чтобы «вышеуказанный синьор никогда не воссоединился с вышеуказанной мадонной Лукрецией, которую он собирается отправить в Испанию».
Пока Джованни Сфорца выслушивал предложения папы, Лукреция внезапно осознала, какая осуществляется жестокость. Мы не знаем, о чем она думала, что планировала, собиралась ли воссоединиться с мужем или действовала в качестве посредника между мужем и отцом с братьями. Возможно, она решила, что для них с мужем проще согласиться на развод, и, вероятно, дала согласие, поскольку 26 мая папа подписал бреве и отправил Фра Мариано в Пезаро с предложением признать брак недействительным. Лукреция, бесспорно, пережила кризис и неожиданно 6 июня вместе со своим окружением отправилась в монастырь доминиканских монахинь Сан Систо (он существует и поныне), который становился прибежищем молодых знатных женщин, желавших отказаться от блеска и суеты мира. В те времена малярия особенно свирепствовала в этой части Рима, и болезненные молодые женщины подвергались риску навсегда расстаться с жизнью, но страх смерти, похоже, не довлел над монахинями. Обитательницы Сан Систо были спокойны и, более того, уверены, что их обязанность – оставаться спокойными, и с помощью работы, музыки, размышлений и молитв они добились той возвышенности чувств, которые можно найти только в монастыре. Сан Систо был одним из редко встречающихся женских сообществ, построенном на принципах соблюдения строгой иерархии. Прибытие Лукреции со свитой нарушило ежедневный распорядок, поскольку настоятельнице пришлось заниматься вновь прибывшими, и привнесло мирские страсти в стены монастыря. Но нельзя было и помыслить, чтобы запереть дверь перед дочерью папы римского!
Ходили слухи, что Лукреция хотела стать монахиней. Люди говорили, что она ушла в монастырь, не сообщив об этом отцу – «insalutato hospite», как сказал Донато Аретино. Но Александр VI заявил Асканио Сфорца, что сам отправил дочь в Сан Систо, «поскольку это духовное и весьма подходящее место», и ему бы хотелось, чтобы она оставалась там до тех пор, пока ее муж не примет решение. Если это так, то почему 12 июня он направил вооруженный отряд, чтобы забрать Лукрецию из монастыря? «Папа отправил за ней стражу, чтобы иметь рядом с собой», – сообщает нам Катанеи. Заслышав топот лошадей и бряцанье оружия, сердца сестры Серафино, сестры Паулины, сестры Черубины и сестры Сперанцы учащенно забились; со стражей разговаривала настоятельница, сестра Джиролама Пичи, толковая и мужественная женщина. Мы понятия не имеем, что она говорила и делала, чтобы отправить восвояси папскую команду; известно лишь, что Лукреция осталась в монастыре.
Молитвы помогли ей забыть конфликты и борьбу с пылкими мужчинами, среди которых она оказалась по воле рока. Вероятно, спокойствие, царящее в изгнании, вселяло в Лукрецию надежду, что она, возможно, будет забыта. Но пока она скрывалась за монастырскими стенами, тайны ее жизни являлись главной темой дипломатической корреспонденции и занимали умы придворных.
Глава 4 Тайны и преступления
Фра Мариано путем изматывающего обе стороны спора подготовил Джованни Сфорца к решению о расторжении брака. Граф де Пезаро упорно настаивал на своем, не желая сдавать позиций, но ледяной тон монаха, в высшей степени владеющего искусством полемики, не только пугал, но и действовал на Джованни раздражающе, и он шаг за шагом сдавал позиции. В конце концов, он попросил неделю на размышления и отправился в Милан посоветоваться с герцогом Людовико.
Вероятно, тогда же Лукреция обратилась к папе с просьбой начать дело о разводе в соответствии с указом Григория IX, который гласил, что женщина, если брак не был консуммирован, может обращаться с просьбой о разводе по истечении трех лет. Лукреция написала свое обращение на латыни, и до нас дошли лишь несколько фраз, цитируемых пристрастными особами, но этих фраз достаточно. Лукреция написала, что «in eius familia per triennium et ultra translata absque alia sexus permixtione steterat nulla nuptiali commixtione, nullave copura carnali conjunxione subsecuta, et quod erat parata jurare et indicio obstetricum se subiicere»{5}.
Лукреция собственноручно подписала прошение. Хочется думать, что она поступила так для восстановления мира и спокойствия.
В Ватикане Асканио Сфорца осыпали обвинениями и упреками в адрес родственника. Причем не только папа, который поклялся, что скорее готов пострадать «самым страшным образом», чем вернуть Лукрецию Джованни, но и герцог Гандийский и кардинал Валенсии, которые «позволили себе в самых жестких словах подтвердить, что никогда не согласятся вернуть сестру тирану Пезаро». Асканио Сфорца выслушивал нападки с холодной бесстрастностью политика, считавшего, что терпеливость – лучшая стратегия. В любом случае и он сам, и Людовико Моро уже отказались от своего провинциального кузена, пожертвовав им ради хороших отношений с папой. Они сделали вид, что поддерживают его доводы, но лишь для того, чтобы внушить Борджиа, что не только у них есть воля.
В то время Александр VI занимал сильную позицию и со свойственной ему энергией гнался за славой для своего сына Хуана. Он объявил 7 июня в консистории, что намеревается передать во владение своему сыну и его потомкам город Беневенто и относящиеся к нему крепости. Все кардиналы, за исключением Пикколомини, согласились, поскольку понимали, что сопротивление бесполезно. Но испанский посол мыслил иначе. Жертва неукоснительного выполнения долга, он бросился к ногам папы, умоляя его не отчуждать церковное имущество. Александр VI помрачнел, однако достаточно благожелательно объяснил, что данное владение не слишком большое и однажды уже было продано в частное владение во времена Николая V. Поскольку посол продолжал настаивать, что такая передача послужит «плохим примером», папа, вспылив, крикнул: «Встаньте на ноги!» – и отложил обсуждение до тех пор, пока дерзкий испанец, посмевший защищать от него имущество церкви, не удалился.
Следовало ожидать, что безграничной любовью папы к Хуану воспользуются политические партии, которые попытаются использовать молодого герцога в своих целях.
Первым оказался предприимчивый кардинал Асканио. Для миланцев было бы редкостной удачей, если бы удалось склонить Хуана на свою сторону. Поскольку герцог настолько груб и инфантилен, что ни один нормальный человек не может с уверенностью предсказать его возможные действия, то вполне возможно, что усилия кардинала Сфорца не увенчаются успехом, но это никак не скажется на его соратниках. В то время как кардинал Сфорца изъяснялся на языке, принятом в среде политиков, герцогу Гандийскому был известен единственный язык – язык самовлюбленности и тщеславия, без единого признака интеллекта. Один эпизод, случившийся в начале июля 1497 во дворце вице-канцлера, прекрасно иллюстрирует их отношения.
В один из вечеров кардинал Сфорца устроил большой прием, на который пригласил много знатных гостей, включая герцога Гандийского. Поскольку у Хуана был хорошо подвешен язык и он был уверен в своей неприкосновенности, то начал высмеивать гостей и даже дошел до того, что назвал их обжорами. Один из гостей настолько оскорбился, что намекнул на незаконное происхождение герцога. Хуан тут же подскочил к нему, но, вместо того чтобы, как ожидалось, завязать драку, демонстративно покинул зал в поисках отца. Александр VI поступил невероятно жестоко. Невзирая на неприкосновенность кардинала Асканио, он отправил стражу, которая ворвалась во дворец и схватила незадачливого гостя, которого тут же повесили.
Трудно объяснить столь примитивное понимание мести и такую инстинктивную реакцию Александра VI, способность которого не обращать внимания на слухи и клеветнические выпады в свой адрес была общеизвестна. Рим – свободный город, говорил он. Но оскорбление, нанесенное непосредственно герцогу Гандийскому, должно быть, нанесло столь сокрушительный удар по гордости и отеческой любви, что в ответ он продемонстрировал собственное превосходство, причем весьма жестоко. К Хуану вернулась прежняя амбициозность, его пьянила собственная значимость, и, несмотря на предостережения отца, он безрассудно ввязывался в бесконечные любовные романы. Прошел слух, что, помимо дружбы с Санчей, он влюбился в дочь графа Антонио Марию делла Мирандола, знатную и красивую девушку из Феррары, и собирался добиться ее любыми способами. Нам неизвестно, преуспел ли он в этом, так как девушку хорошо охраняли. Тем не менее, кажется существенным, что синьор из семейства кардинала Сфорца, которому эта девушка была обещана в жены, да еще и с большим приданым, отказался от свадьбы, хотя и был влюблен в девушку.
Калейдоскоп развлечений и любовных приключений Хуана продолжался до 14 июня. К этому моменту Лукреция уже неделю находилась в Сан Систо. В один из вечеров Ванноцца Катанеи устроила большой прием для своих сыновей. Такие встречи не были случайными; Ванноцца довольно часто собирала своих детей за столом. Было начало лета, Ванноцца устроила прием не во дворце, а в саду, расположенном между церквями Сан Марино-дель-Монти и Санта Люсия-ин-Цельсе, и пригласила Чезаре, Хуана, кардинала Борджиа Монреальского и нескольких близких родственников. Ванноцца все еще была красива. Ужин, видимо, проходил в приятной обстановке. Чезаре в мирской одежде демонстрировал вкрадчивые, «бархатные» манеры. Герцог Гандийский, с его хвастовством и бравадой, которые всячески поддерживали подданные и домочадцы, был героем вечера до тех пор, пока внезапно рядом с ним не появился человек в маске. Никто, казалось, не воспринял всерьез вновь прибывшего; гости продолжали повествовать о своих любовных приключениях. Ужин затянулся, и было уже поздно, когда все распрощались с Ванноццей и отправились по домам. Разбившись на небольшие группы, они двинулись в Ватикан. Дойдя со всеми до дворца кардинала Сфорца в квартале Понте, герцог Гандийский, не обратив внимания на совет взять с собой вооруженную охрану, прихватил слугу и, сопровождаемый мужчиной в маске, канул в ночи, отправившись на таинственное свидание. Последнее, что услышали родственники Хуана, был отголосок смеха молодого человека. Остановившись на Пьяцца-дель-Эбрей, герцог приказал слуге: если в течение ближайшего часа он не появится, вернуться домой. В этот час в Риме царили тишина и темнота, дома были крепко заперты на засовы. Тут и там мелькали еще более страшные, чем темнота, призрачные тени, попадавшие в желтый круг света, отбрасываемого фонарем. Слуга, ждавший на пустынной, маленькой площади, чувствовал себя крайне некомфортно, опасаясь всех блуждающих в ночи. Герцог Гандийский исчез в темноте, чтобы встретиться с собственной смертью.
Начинался следующий день. Мысли папы были заняты королевской коронацией в Неаполе, вызванной неожиданной смертью короля Феррандино (который, по слухам, умер по причине чрезмерной любви к жене и тете, Джованне Арагонской). Утро прошло в обычных делах; герцог Гандийский не появлялся. День тянулся медленно, и испанцы сообщили папе, что Хуан все еще не вернулся. Понтифик слегка встревожился, но утешил себя мыслью, что, как уже бывало, сын задержался в доме какой-нибудь известной красавицы и решил остаться там до сумерек, чтобы выйти незамеченным, – папа первым бы одобрил подобную предосторожность. Яркий июньский день кажется папе мучительно-долгим, и, когда наступает ночь, он начинает всерьез беспокоиться. Испанцы патрулируют улицы со шпагами наголо, чтобы вселять ужас в горожан, и на случай, если кланы Орсини и Колонна, всегда готовые использовать любые беспорядки в своих интересах, покинут крепости. Начались поиски. Первым нашли смертельно раненного слугу, который был не в состоянии говорить. Это явилось несомненным доказательством, что герцог Гандийский мертв. Поиски продолжались, город был прочесан вдоль и поперек, и в конце концов был найден лодочник-далматинец, который все рассказал.
Его звали Джорджио, и он проводил ночи в лодке на Тибре, прячась в камышах, – охранял поленницу дров, стоявшую приблизительно у больницы Святого Иеронима Славонского, у моста Рипетто. В ночь с 14 на 15 июня он видел двоих мужчин, внимательно изучавших дорогу к больнице и прилегающую к нему территорию. Затем они исчезли, а вскоре вновь появились и дюйм за дюймом еще раз осмотрели все вокруг. Потом он увидел, как появился мужчина на белой лошади, за его спиной было перекинуто тело, которое с двух сторон поддерживали слуги. Всадник подскакал к реке, развернул лошадь и отдал приказ; после чего слуги столкнули тело с крупа лошади и бросили в воду. Лодочник услышал характерный всплеск и отчетливый голос всадника, который поинтересовался, сделано ли все должным образом. «Да, повелитель», – ответили слуги. Всадник повернулся к реке, бросил взгляд на медленно текущую воду и что-то там увидел; это был плащ мертвеца, раздувшийся подобно траурному парусу. Он приказал затопить труп и наблюдал, как слуги забросали «мишень» камнями. Когда вода поглотила мертвеца, мужчины исчезли, и опять наступила тишина. Лодочника спросили, почему он тут же не сообщил о случившемся. Он не придал этому большого значения: он и раньше видел по меньшей мере сотню тел, сброшенных в реку, и никто не поднимал из-за этого шума.
Папа был вне себя. Он не желал верить, что Хуан умер, и вопреки всему ждал более очевидных доказательств. Сотни сетей забрасывали в Тибр, тысячи глаз внимательно изучали их содержимое, и уже ночью выловили изуродованный труп герцога Гандийского с вырванной гортанью, в тине и прицепившемся мусоре. Его отнесли в замок Сант-Анджело, раздели, обмыли, обрядили в парадные одежды и ночью в сопровождении печальной толпы скорбящих домочадцев, священников, аристократов и испанцев перенесли и похоронили в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Странный кортеж в свете ста двадцати факелов поспешно отъехал от замка Сант-Анджело, и, по словам очевидцев, над толпой неслись стоны и молитвы, а из темных окон замка звучал крик папы, взывавшего к умершему сыну. В Санта-Мария-дель-Пополо тело положили в часовне у правого нефа, где уже покоился первый герцог Гандийский. Во времена правления Юлия II они были перевезены в место окончательного захоронения в Гандию.
Папа вел себя так, словно находился в камере пыток. В течение двух суток он не ел, не пил, не спал, оставался наедине со своим горем и стонал. Такое состояние должно было вызвать определенную реакцию, каковой явилась обостренная жажда покарать виновного. В папском дворце немедленно приступили к расследованию. Первым подозреваемым был кардинал Асканио Сфорца, и, поскольку тело было найдено недалеко от загородного дома, принадлежащего Сфорца, там провели тщательный обыск. Кардинал проявил невероятное хладнокровие; он передал все ключи от дворца пришедшим провести обыск и похвалил за принятые меры, после чего с достоинством проследовал в резиденцию миланского посла Стефано Таверно. Нет ничего странного в том, что кардинал Асканио подозревался в попытке отомстить за повешенного гостя, но в тот период Сфорца был слишком поглощен делами, чтобы заниматься отмщением. У герцога Гандийского было много врагов, фактически у него не было ничего, кроме врагов. Человек, совершивший убийство, знал об этом и точно рассчитал, что множество подобных следов скроют его следы. Асканио Сфорца вскоре был оправдан. Александр VI послал ему извинения за угрозы со стороны кардинала Валенсийского и некоторых прихвостней герцога и объяснил это обрушившимся на них горем. В число подозреваемых входили Джидобальдо де Монтефельтро, Джованни Сфорца и брат Джованни, Джан Галеаццо, но они были тоже вскоре оправданы; об этом в публичном обращении перед консисторией 19 июня заявил Александр VI. На смену трагедии приходит мелодрама. Вероятно, это был первый и единственный случай, когда папа в полном облачении в присутствии послов публично оплакивал смерть сына. «Никогда больше не сможем мы испытать большего несчастья, поскольку мы любили герцога Гандийского больше всего на свете, – объявил он в высокопарном испанском духе. – Мы охотно отдали бы семь тиар, только бы вернуть его к жизни… Господь наказал нас за наши грехи, потому что герцог Гандийский не заслужил такой страшной и необъяснимой смерти; это Господь Бог наказывает нас за наши грехи… Ходят слухи, что в его смерти виновен Джованни Сфорца, но мы убеждены в его невиновности; Галеаццо Сфорца и герцог Урбинский совершенно непричастны к этому делу». Принеся публичные покаяния, папа сообщил, что в будущем собирается вести праведную жизнь; в Ватикане будут проведены реформы; будет установлено жесточайшее наблюдение за тем, чтобы мирские интересы не затрагивали папский дворец. «Впредь бенефиции будут дароваться только тем, кто их заслужил: мы намереваемся отказаться от всякого непотизма и начать с реформ в собственном доме». Похоже, Александр VI был задет за живое, раз отважился на подобную исповедь и пренебрег тем, к чему раньше относился с особым вниманием, – семьей и тиарой. Следует отметить, что уникальность его заявления привела к резко возросшему влиянию папы, укрепился его авторитет как реформатора церкви. Для тщательный подготовки глобального реформирования Ватикана Александр VI назначает комиссию во главе с кардиналом Коста, состоящую из священнослужителей, известных своей добродетелью. Папа получает письмо от Савонаролы с соболезнованиями и предостережением, которое, видимо, было единственным местом из всего написанного доминиканцем, которое папа хоть сколько-нибудь прочувствовал. Время шло, жизнь постепенно возвращалась в привычное русло, и боль утраты немного ослабела. Поиск виновных тем временем продолжался. Но все предположения и догадки строились исключительно для того, чтобы быть тут же отброшенными; история осталась окутана тайной. Современные историки выдвигают обвинения не только против Орсини и Сфорца, но даже против кардинала Асканио или же мрачно намекают на некий заговор, чреватый неприятностями для любого, кто осмелился бы о нем заикнуться.
Здесь, по логике, нам следует задать вопрос: «cui prodest?» – кому выгодно убийство? Ответ однозначен: Чезаре Борджиа. Обладая талантом четко оценивать причины и следствия, он первым делом добился любви, а затем уже доверия и уважения со стороны отца. Для этого ему пришлось изрядно потрудиться, и все отмечали его успехи на этом поприще. Во время кампании против Орсини Чезаре, двинувшись в Тре-Фонтане, подвергался риску погибнуть от рук бродячих банд; по мнению одного из писателей, если бы он был захвачен в плен, Рим получил бы нового папу – имеется в виду, что Александр VI умер бы от горя. Чезаре прекрасно осознавалсвое истинное положение; он понимал, что до тех пор, пока жив герцог Гандийский, которого отец готовит к мирской карьере, ему никогда не удастся занять первого места в сердце папы. Если Чезаре вызывал уважение и любовь папы, то Хуана понтифик боготворил. Кардинал Валенсийский мог сколько угодно строить планы относительно блистательного будущего и разрабатывать идеальную форму правления, но между ним и его стремлениями всегда существовало препятствие в виде брата, который, несмотря на врожденную бестолковость, стоял у него на пути и разрушал все его грандиозные планы. Определенная логика, пусть даже чудовищная, в решении Чезаре избавиться от брата, безусловно, имелась. Вопрос: поступил ли он согласно этой логике?
«Я снова слышал, что причина смерти герцога Гандийского в кардинале, его брате… и вышесказанное предположение исходит из достоверного источника», – написал 22 февраля 1498 года из Венеции Джованни Альберто делла Пинья герцогу Феррарскому. Этот документ, похоже, признает вину Чезаре как нечто само собой разумеющееся, и, видимо, это соответствует общественному мнению, а в последующие годы мнению людей типа Санудо и Гуиччиардини. Тем не менее вопрос по-прежнему остается открытым. Виллари, Грегоровий, Пиккоти, Леонард и Гепхард уверены в абсолютной виновности Чезаре; Вудварт, Фестер и Шинцер не могут дать окончательного ответа, а Пастор, Люцио и Хофлер полностью отрицают вину Чезаре. Не существует неопровержимых доказательств, говорят последние, и это сущая правда. Но сжигавшие Чезаре честолюбие, его пренебрежение к человеческой жизни, злоба и презрение к трусливому брату, его всепоглощающая жажда власти являются теми мотивами, которые вполне могли бы подойти в качестве убедительных доказательств. Весь этот клубок по большей части туманных догадок и непредвиденных обстоятельств никоим образом не дает возможности разгадать тайну убийства, в которой, по моему мнению, безошибочно угадывается рука Чезаре Борджиа – человека, заранее обдумавшего все обстоятельства, чтобы при необходимости преступление само по себе превратилось в законченное и убедительное произведение искусства. Преступник так и не был обнаружен, поскольку и не мог быть обнаружен; по мнению летописцев, это был маэстро. Трудно даже предположить, что обо всем этом думал папа. Прошло менее двадцати дней после преступления, и уже 5 июля папа приказал прекратить расследование, а это дает основания полагать, что он был полностью в курсе дел. Летописцы полагают, что, возможно, он пошел на определенную хитрость, не мог же он так быстро все выяснить! Чезаре продемонстрировал все свое мастерство в выборе подходящего момента. В начале июня он получает полномочия легата для коронации нового короля Неаполя (в период с 1494 – го по 1498 год в Неаполе сменилось четыре короля; Фредерико, новый король, был братом Альфонсо II и по доверенности исполнял обязанности при заключении брака Санчи Арагонской и Джофре Борджиа). Чезаре отправился в Неаполь 22 июля, вероятно вычислив, что к этому моменту все улики приведут к нему. Папа начнет его подозревать в совершении преступления, а он не только будет далеко от Ватикана, но и займет настолько важное положение, что обвинение в его адрес навлечет позор на всю семью и церковь. По прибытии в Капую 1 августа Чезаре заболевает лихорадкой. Санча и Джофре 7 августа отправлены в Скуиллаче, это доказывает, что папа следует данному обещанию и больше не желает окружать себя детьми и родственниками. Мы можем себе представить, насколько теперь один только вид Санчи, заставившей Хуана влюбиться в нее и тем самым вызвать жуткую ревность Чезаре, отвратителен Александру VI. Теперь его отношение к детям наполнено горечью; он так любил их, а они предали его! Это относится и ко всем женщинам. Лукреция тоже внесена в список; вновь вспоминается старый план – выдать ее замуж за испанского аристократа. Прелаты, участвующие в реформах, являются единственными, кому позволен свободный доступ в Ватикан.
Долой музыкантов, актеров и молодежь, Игры и вечеринки ушли в прошлое, Папа не будет отчуждать церковное имущество, Поэты должны быть благопристойны.К концу августа папа почувствовал, что, хотя сложные вопросы по установлению нового порядка двигаются медленно, но верно, это не столь уж необходимо, как он думал ранее. В сентябре – прошло всего два месяца с тех пор, как папа написал королю Испании, что хочет отречься от престола и уйти в монастырь, – Александр VI уже отбросил все мысли об аскетическом образе жизни. Поиск убийц герцога Гандийского велся только ради соблюдения приличий. Борджиа вновь восстанавливали силы.
Едва заслышав, что папа начал проявлять интерес к мирским делам, Чезаре возвращается в Рим. Кардиналы и весь двор собрались, чтобы устроить почетную встречу папскому легату. Когда кавалькада подъезжает к папскому дворцу, папа не позволяет прервать совещание консистории, хотя это обычное слушание по делу об оскорбительном поведении ректора университета и епископа Вены. В течение получаса кардинал Валенсийский вынужден томиться в вестибюле. Наблюдатели отмечают оказанный папой холодный прием: традиционный поцелуй без единого приветственного слова. Что это может означать? Хотя кое-кто тешил себя надеждой, что непотизму папы пришел конец, Чезаре понимал, что победа будет за ним, а очень скоро и остальные это поняли.
Смерть герцога Гандийского никоим образом не возродила надежды Джованни Сфорца на возвращение жены. Хотя папа снял с него обвинения в убийстве, никто не спешил к нему с более приемлемыми, чем сделанные ранее, предложениями, а спустя пять дней после убийства Александр VI, уже оплакавший потерю сына, призвал кардинала Асканио и порекомендовал отправиться к родственнику в Пезаро и сделать все возможное, чтобы быстро и без скандала оформить развод. Папа напомнил Асканио, что для отправления правосудия предпочтительнее добиться соглашения, но даже это стоит ускорить. Пустые угрозы! Недаром Джованни окружали такие сведущие юристы, как Никколо де Сайяно из знаменитого университета Феррары. Джованни прекрасно знал, что поскольку он не давал согласия на развод, то развод никогда не будет иметь законного основания, а если его добьются силой, то Лукреция будет опозорена. Сфорца все понимал, но им владело отчаяние, вызванное борьбой со слишком сильным для него врагом, что и подвигло его инкогнито отправиться в Милан. Людовико Моро не был глуп и понимал, что папа не испытывает недостатка в шпионах, а потому настоял, чтобы его родственник появлялся в обществе со всеми знаками отличия, соответствующими положению, для придания его визиту официального характера. За несколько дней пребывания Джованни в Милане стало абсолютно очевидно, что Людовико Моро не намерен оказывать поддержку родственнику, дабы не давать папе повода для нападок на семью Сфорца; это было бы на руку французам, которые могли предъявить претензии на Миланское герцогство. Поэтому первой мыслью Людовико было сообщить как можно большему числу людей, включая дипломатов и послов, что Джованни прибыл в Милан не по политическим причинам, а только затем, чтобы попросить совета и помощи в вопросах, касающихся его брака. Приняв решение представить все дело в виде шутки, герцог Миланский наслаждался, выказывая любопытство, которое он пытался выдавать за неподдельный интерес и искреннее беспокойство. Он поинтересовался у кузена, насколько справедливо утверждение папы относительно его (графа де Пезаро) несостоятельности в осуществлении супружеских обязанностей, на что Джованни Сфорца ответил, что тысячу раз выполнял супружеские обязанности, а затем, потеряв всякий контроль над собой, выпалил, что, по его убеждению, папа отобрал у него Лукрецию, поскольку сам хочет ее. Очевидно, именно это имел в виду Джованни, намекая в письмах на «нечто ужасное». Как можно было опровергнуть заявление, сделанное тем, кто находился в непосредственной близости к Ватикану и имел основание быть посвященным в дворцовые тайны? Герцог Людовико, похоже, чувствует, что этого откровенного заявления более чем достаточно; проявляя предусмотрительность, он прекращает всяческое выяснение дальнейших подробностей. Однако поскольку он вынужден что-то предпринять, то делает кузену предложение, реально осуществимое, но довольно оскорбительное. Лукреция должна приехать в поместье Асканио в Непи, где к ней присоединится Джованни. Если это удастся устроить, то Джованни и Лукреция могли бы под присмотром семейств Борджиа и Сфорца наглядно продемонстрировать брачные отношения. Джованни наотрез отказался; мы не знаем, боялся ли он оказаться несостоятельным во время публичного испытания, которое из-за его нервозности могло окончиться для него весьма плачевно, а может, он опасался оказаться отравленным или заколотым кинжалом. Тогда Людовико предлагает, чтобы доказательство мужской силы было дано с какой-нибудь другой женщиной в присутствии кардинала-легата Джованни Борджиа. Но граф де Пезаро отклонил и это предложение. Если эти предложения вызывали у него отвращение, то следует согласиться, что это частично оправдывает его. В заключение Людовико спросил у Джованни, как же папа может обвинять его в импотенции, когда общеизвестно, что первая жена графа де Пезаро, Маддалена Гонзага, умерла при родах. «Только представьте, – ответил Джованни, – они говорят, что она забеременела не от меня». Обсуждение, грубое и комическое, напоминало сцену из «Мандрагоры»; шутки Людовико носили безжалостный характер. Он продемонстрировал истинное равнодушие к провинциальному кузену, когда рассказал Антонио Костабили, феррарскому послу в Милане, о сделанных Джованни предложениях и его ответах и добавил, что, по его мнению, если Джованни хорошенько пригрозить, то он признался бы, что «никогда не имел супружеских отношений» ни с первой женой, ни с Лукрецией, «потому что если он не является импотентом, то должен привести определенные доказательства, опровергающие предъявленные обвинения». Кроме того, он заявил, что молодой человек, «согласившись на развод, не будет испытывать никаких трудностей, а приданое останется за ним».
Возможно, это все не соответствовало действительности, поскольку Людовико старался изо всех сил продемонстрировать, что принимает сторону папы. Приданое Лукреции, оставленное Джованни, лишь в незначительной степени компенсировало оскорбления, которым подвергся Джованни. Единственным утешением для его уязвленной гордости явилось предложение родственников его первой жены, Гонзага. Они выбрали этот момент, чтобы предложить ему невесту из своей семьи, «с которой у него [Джованни] будут все основания, чтобы быть довольным». Джованни рассыпался в благодарностях, но отложил обсуждение до момента расторжения того, что он называл «папским браком», от которого он надеялся вскоре «избавиться, не запятнав себя и других». Однако он попросил Гонзага Мантуанского сохранить их намерения в тайне, поскольку, как им известно, он имеет дело с людьми, которые выбирают «между насилием и ядом». Когда Джованни вернулся домой в Пезаро, то чувствовал себя еще более неуверенно, чем до бесполезного, принесшего разочарование визита к герцогу Людовико. Но по одному вопросу он занял жесткую позицию: категорически отказался соглашаться на развод.
Джованни Сфорца писал кардиналу Асканио: «Я не хочу соглашаться на этот развод, поскольку ни один верующий человек не пойдет на это, и, даже если бы я дал согласие, это не имело бы юридической силы вследствие того, что было между мной и упомянутой мадонной Лукрецией, о чем я долго объяснял Его Превосходительству, известнейшему из герцогов [Миланскому], вещи, о которых мне не хотелось бы упоминать не только здесь, но и вообще, если только меня не обяжут… Но, – продолжил он более решительно, – если наш владыка [папа] намерен воспользоваться силой, а не правосудием, как он, похоже, собирается сделать, я бы скорее предпочел лишиться состояния и жизни, чем обесчестить себя, и я скажу, невзирая на лица, хотя делаю это весьма неохотно, все, что при определенных обстоятельствах я сказал Его Превосходительству, упомянутому герцогу, – истинная правда, потому любому человеку должно быть ясно, что справедливость на моей стороне».
В этом письме Сфорца опять ссылается на обвинения, невольно вырвавшиеся у него в Милане, и ясно, что он искренне верит в сказанное. Историки, отрицающие ужасное подозрение, рассматривают слова Джованни Сфорца как клеветническое обвинение, выдуманное им в состоянии неконтролируемой ярости, когда ему хотелось отомстить Борджиа. Правда, не похоже, чтобы они обращали внимание на поведение Сфорца в целом; прежде всего начиная с таинственной скрытности до признания в Милане и непрерывных упоминаний впоследствии – обо всех этих моментах, которые привели его к непоколебимой уверенности в собственной правоте. На чем все-таки основывалась его уверенность?
Живший страстями, Александр выражал отеческую любовь чересчур пылко. Его любовь не ограничивалась духовной сферой; создавалось впечатление, что его волнует только материальная сфера общения: появление детей, их поведение, голоса, черты характера. Его бредовые идеи относительно герцога Гандийского напоминают ослепление влюбленного, как, впрочем, и в случае с Чезаре. Его чувства к Лукреции излишне нежны; сравнивая дочерей с дерзким мужским потомством, чувствительные отцы всегда сильно переживают. А если это так, то даже у такого уравновешенного человека, каким был граф де Пезаро, при виде любви папы к дочери могла здорово закружиться голова. Или Джованни владел неопровержимыми доказательствами, чем-то большим, чем просто намеки и подозрения: может, он видел ясный ответ в глазах тестя? Реальность такова, что, выдвигая обвинения против папы, Джованни продолжал настаивать на возвращении жены, предполагая, что у него есть причины считать ее невиновной, а может, потому, что на самом деле между отцом и дочерью ничего не происходило или в худшем случае, что Лукреция согласилась на это, будучи не в себе. В таком случае все – сознательное действие, желание, ответственность и позор – должно было быть на совести другого человека.
Александр занял позицию полнейшей невиновности. Он продолжал умолять миланских Сфорца помочь ему разобраться с их родственником, обсуждая с ними эту проблему, лавируя между правилами, доказательствами, оправданиями и отговорками (возможно, он зашел слишком далеко, приписав Джованни с невероятной ловкостью физический недостаток, умудрившись обмануть людей гораздо более умных, чем Сфорца). В итоге Джованни, не выдержав, уступает, когда встает вопрос о юридической силе более раннего брачного контракта между Лукрецией и доном Гаспаре д'Аверса, и Ватикан испускает вздох облегчения. С того момента, как был получен ответ, все пошло обычным порядком, и было не избежать безоговорочной капитуляции.
Официальное дело о разводе рассматривалось Алессандрино Джованни Антонио, кардиналом Сан-Джорджо, Антоньотто Паллавичини, кардиналом Санта-Прасседе, и аудитором Роты, гуманистом Феллино Сандио. Получив ответ Джованни, папа тут же вызывает кардинала Алессандрино и в присутствии Асканио Сфорца, одного из самых ловких и наиболее выдающихся канонистов Ватикана, передает ему письменное свидетельство Джованни. Кардинал читает, качая головой. Предложения, содержащиеся в заявлении Джованни, по мнению кардинала, «не соответствуют статьям закона». Брак может быть расторгнут только в двух случаях: либо путем приговора, вынесенного комиссией кардиналов, либо папская булла приведет к соглашению обе стороны. Александр VI заявил, вздохнув, что подобные слова ставят его в щекотливое положение, и долго рассуждал о собственной чести и достоинстве своей дочери, о том, что следует проявить такую изобретательность, чтобы развод не запятнал имени Борджиа. Из-за любви, которую он питает к герцогу Миланскому и кардиналу Асканио, он настаивает на том, чтобы его зять выбрал из двух имеющихся альтернатив. Как пишет кардинал Сфорца в письме Джованни, «проявляет высочайшее милосердие и демонстрирует уважение и добрые намерения в отношении нашей семьи, он [папа] хочет передать в полное распоряжение Вашей Светлости [Джованни] приданое дочери». Если же он откажется, то этот милосердный акт обернется серьезными неприятностями. Существовавшая ранее договоренность о браке Лукреции и доном Гаспаре д'Аверса теперь не упоминалась в качестве мотива для расторжения брака; после того как кардинал Алессандрино забраковал его как нечестный, о нем было лучше не упоминать.
Джованни Сфорца выбрал наименее тяжелый для себя вариант, а именно судебное разбирательство, которое освобождало его от признания в супружеской несостоятельности. С этого момента папа начал выражать удивление и неудовольствие, поскольку усмотрел задержку в деле, и жаловался, что Сфорца намеренно пытается разрушить следующий брак Лукреции, подготовка которого шла уже полным ходом. Сфорца упорно стоял на своем, заявляя, что ничто не заставит его подписать заявление, содержащее кошмарную фразу: «quod non cognoverim Lucretiam»{6} Он столь упорно настаивал на своем, что миланский посол Стефано Таверно из уважения к чувствам понтифика не позволил зачитать письма Джованни в Ватикане. Папа, писал Таверно, настоятельно требует развода и хочет доказать, что его дочь осталась «virgo intacta» (девственницей) с графом де Пезаро, «а если это будет признано, то он сможет отдать свою дочь за другого». В конце концов после переговоров, длившихся в течение долгих месяцев, Людовико Моро предупредил Джованни, что если тот не согласится выполнить волю папы, то он лишит его своей поддержки. Это бы означало крах, и у Джованни не хватает мужества, чтобы и дальше настаивать на своем. Вконец измученный, он капитулирует.
Ученые богословы собрались на заседание 18 ноября 1497 года во дворце Пезаро. Когда все расселись, в зале появился граф и, по всей видимости, повторил фразу, написанную им Людовико Моро: «Я не осмелюсь противоречить Его Святейшеству, если он желает настаивать на собственной правоте. Пусть делает что хочет». Хотя это и вызывает у него внутренний протест, Джованни ставит подпись в присутствии свидетелей. Отправленный Асканио Сфорца документ содержал крайне необходимую фразу, свидетельствующую об отсутствии супружеских отношений в браке, что давало кардиналу возможность предпринимать все необходимые шаги для признания брака недействительным. Теперь, после вынужденного отступления во всех письмах к герцогу Миланскому, Джованни не уставал повторять просто для собственного успокоения, что только потому подписал заявление, что против него действовала более мощная сила. В Риме кардинал Алессандрино, кардинал из Санта-Прасседе и мессир Феллино Сандио внимательно изучали безукоризненные формулировки, прикрывавшие грехи и обман.
Лукреция, в то время как ее личность являлась предметом столь многочисленных дискуссий и в Италии увеличивалось число претендентов на ее руку, пребывала в полном спокойствии.
Известие о смерти Хуана застало ее в монастыре Сан Систо, и, обладая пылкими чувствами, присущими их семейству, она была убита горем.
Лукреция всегда пребывала в уверенности: что бы ни случилось, она сможет рассчитывать на своего элегантного и блестящего брата. После бегства графа де Пезаро Хуан собирался забрать ее в Испанию, для Борджиа всегда бывшей царством грез, но его страшная смерть положила конец всему, а то, что папа далеко и не мог разделить с нею горе, делало все еще ужаснее. Она погрузилась в мрачные мысли, и, учитывая ее возраст, едва ли удивительно, что она ухватилась за первую соломинку, только бы отвлечься. Соломинка оказалась не той, которая была нужна, видно, так было угодно судьбе.
Папа лично отбирал посыльных, по большей части испанцев, курсирующих между Ватиканом и Лукрецией. Один из них, Педро Кальдес, более известный как Перотто, появлялся чаще других. Его ежедневное присутствие пробудило в Лукреции доверительные, дружеские чувства, которые постепенно переросли в привязанность, а затем и в страсть. По отрывочным, но единодушным свидетельствам современников, Педро и Лукреция влюбились друг в друга. Событие держалось в секрете, поэтому есть определенные трудности в его воссоздании, но, похоже, именно оно имело большое значение в становлении характера Лукреции.
Если Лукреция действительно отдалась молодому испанцу, то с самого начала ей было прекрасно известно, что нет никакой надежды на то, что им с Педро удастся соединить свои жизни. Что может быть более грустным, но, тем не менее, возбуждающим, чем любовь, когда каждая встреча является последней и непонятно, что будет завтра? Однако в этом случае наступило завтра. По мнению современников, любовники оказались настолько неблагоразумны, что в один прекрасный день Лукреция поняла, что ожидает ребенка. Можно представить себе ее смятение. С помощью преданной камеристки Пентасилии ей удается скрывать свою тайну под просторными одеждами. Какое-то время все идет успешно, но, когда она должна 22 декабря прибыть в Ватикан для обнародования заявления о разводе, в котором торжественно упомянута как «virgo intacta», оказалось так трудно набраться необходимой в данном случае храбрости. Однако Лукреция поехала в Ватикан и выслушала все с улыбкой. Стефано Таверно описывает сказанную Лукрецией на латыни благодарственную речь, которую она произнесла «с таким изяществом, что, будь она самим Туллием Цицероном, она бы не могла говорить с большей изысканностью и столь по существу». Нелепо сравнивать Лукрецию с Цицероном, однако это показывает, что ее усилия не пропали даром. Даже если мы предположим, что она выучила свою небольшую речь наизусть, все равно замечательно, что она смогла столь безупречно, с таким спокойствием и легкостью связать воедино предложения на латыни. Ей в высшей степени были присущи такие фамильные качества, как храбрость и лицемерие. Можно, однако, сделать вывод, что Перотто являлся источником постоянного раздражения Борджиа и, более того, что Чезаре в конце концов избавился от него. Кардинал был в неописуемой ярости: он освободил сестру от графа де Пезаро, чтобы использовать ее в своих политических играх, и знать, что ее скомпрометировал слуга, было для Чезаре практически то же самое, что гореть заживо на костре. Однажды, как сообщает нам венецианский посол Поло Капелло, у папских апартаментов он наткнулся на Перотто, выскочившего на него с обнаженным мечом. Преследуемый Чезаре, слуга пустился наутек. Промчавшись через папские апартаменты, они остановились у ступенек трона понтифика. Там, на глазах у папы, безуспешно пытавшегося защитить слугу, спрятав его под своим одеянием, Чезаре наносит Перотто мечом удары такой силы, что «в лицо папы ударяет струя крови», добавляет Капелло. Нам неизвестно, были ли раны, нанесенные Перотто, смертельны. Следующая информация приходит от Кристофоро Поджо, осведомителя из Болоньи, написавшего 2 марта 1498 года: «Теперь я понял, что Перотто, первый cameriere [камергер] нашего Повелителя, должен был очутиться в тюрьме за то, что сделал дочь Его Святейшества, мадонну Лукрецию, беременной». Кроме того, имеется запись в дневнике Бурхарда, согласно которой труп испанца, связанный по рукам и ногам, был обнаружен в Тибре. В тот же день река вынесла тело Пентасилии, камеристки Лукреции. По моей информации, в марте у Лукреции родился ребенок. В сообщении из Рима, датированном 18 марта 1498 года, говорилось: «Уверяют, что дочь папы родила».
Еще не было объявлено о разводе, а в Ватикан уже явились претенденты на руку Лукреции. Папа и кардинал Валенсийский тщательно рассматривали каждое предложение; не напрасно же они боролись с графом де Пезаро и преодолели все препятствия. Теперь Лукреция свободна и нужна им для осуществления новых честолюбивых замыслов. Чезаре был тем, кто давал толчок и задавал тон общим устремлениям. Будучи в Неаполе, Чезаре смог лучше узнать этот прекрасный край и обнаружил, что неаполитанский двор, хотя и в состоянии упадка, был все еще великолепен. Он обратил внимание на слабые места в военной и гражданской сферах Неаполитанского королевства, раздираемого разногласиями и находящегося во власти мятежных баронов, и, хотя он был бастардом, у него родилась мысль захватить часть или даже все королевство. Ходили упорные слухи, что Чезаре отказался от кардинальского сана и женился на Санче Арагонской, а кардинальский сан вместо него получил Джофре. На самом деле существовали серьезные препятствия для того, чтобы Санча могла сменить мужа, поскольку, как помнят читатели, кардинал и король в день свадьбы Санчи и Джофре присутствовали в момент выполнения ими супружеских обязанностей. Кроме того, к этому моменту непомерно возросли честолюбивые устремления Борджиа, и они могли решить, что Санча все-таки тоже незаконнорожденная и не сможет обеспечить Чезаре высокое положение. Пришло время, и этим сплетням был положен конец. Теперь все мысли Чезаре сосредоточились на Карлотте Арагонской, законной дочери короля Неаполя, получившей воспитание при дворе королевы Анны Бретонской. Чезаре начал действовать, а папа завел переписку с французским двором, прощупывая настроения нового короля Людовика XII (Карл VIII скоропостижно скончался 7 апреля 1498 года).
Новая стратегия Борджиа предполагала балансирование между Сциллой и Харибдой. Притязания Чезаре на руку Карлотты предполагали, по крайней мере, поверхностные дружеские отношения с ее отцом, королем Неаполя. Но еще более важной представлялась дружба с французским королем, поскольку этот брак должен был в большей степени зависеть от Франции, чем от родителей Карлотты. Для этого имелись две причины: во-первых, Карлотта находилась на французской земле под защитой королевы-матери и, во-вторых, у Людовика XII были собственные, абсолютно четкие цели и на коронации он был провозглашен королем Франции и Неаполя. Итак, Чезаре пустился в головокружительное и рискованное предприятие: сначала добиться расположения противоборствующих сторон, оспаривающих права на королевство, а потом захватить по крайней мере часть территории для себя. Тем временем Александр VI мастерски плел дипломатические интриги, столь тонкие и призрачные, что их всегда можно было легко порвать. Что же касалось завоевания дружбы арагонской династии, то в этом вопросе он воспользовался Лукрецией.
Количество предложений и просьб жениться на Лукреции, восемнадцатилетней разведенной, продемонстрировали, что инсинуации Джованни Сфорца, даже если им поверили, не вызвали чувства неприятия или отвращения к Лукреции. Одним из первых принявших участие в свадебной гонке был Антонелло Сан-Северино, храбрый и умный сын принца Салерно. Его кандидатура пришлась не по вкусу королю Неаполя, поскольку Антонелло принадлежал к одному из наиболее могущественных семейств королевства, но, подобно остальным членам семьи, был чистокровный анжуец, чрезвычайно расположенный к королю Франции. Стоило королю Фредерико удостовериться, что предприняты практические шаги и предполагаемый жених должен быть назначен главным капитаном церкви и жить в Риме под покровительством папы, как он тут же отправляет в Милан посланника, чтобы попросить Сфорца воспользоваться их влиянием в Ватикане и аннулировать проект, согласно которому король Франции и папа устанавливали власть над Неаполитанским королевством. Неаполь и Милан, некогда враждовавшие, в настоящий момент сформировали союз против французов. Кардинал Асканио имел в запасе сильные доводы, и брачный план Сан-Северино провалился.
Следующие претенденты не заставили себя ждать. В их число входили: Франческо Орсини, герцог Гравинский, тиран Пьомбино и член семейства Аппиани, Оттавиано Риарио, сын от первого брака Катерины Сфорца, графини Форли (похоже, что Асканио, предложившего кандидатуру Оттавиано, ничему не научил первый опыт общения Лукреции с семейством Сфорца). Член арагонской династии Альфонсо, брат Санчи, незаконнорожденный сын Альфонсо II и донны Тучи Гацулло, вообразил, что Борджиа только делают вид, что не заинтересованы в таком поклоннике, как он. Но папа развеял домыслы Альфонсо, заявив, что «ни его ум, ни его достоинства» не производят на него никакого впечатления. Джан Лусидо Катанеи со свойственным ему проникновением в суть предмета комментирует явную двуличность папы: «Понтифик держал всех в недоумении и по этому и по другим важным вопросам», поскольку перед принятием решения хотел получить ответ из Франции, ведь «в соответствии с планами он старался получить как можно больше».
Похоже, настойчивость папы в достижении выбранных целей дала хорошие результаты. Судя по всему, Людовик XII был готов помочь кардиналу Валенсийскому, если папа в свою очередь поможет ему. Прежде всего французский король хотел получить разрешение на расторжение брака с женой, набожной и некрасивой Жанной Французской, навязанной ее отцом; Людовик поклялся, что между ними никогда не было супружеских отношений. При этом условии не имелось никаких препятствий, чтобы быстро прийти к соглашению по требуемым папе вопросам. Сразу же по выполнении оговоренных условий кардинал Валенсийский мог соединиться с Карлоттой Арагонской. Улажен вопрос и с браком Лукреции: она становится первым связующим звеном с Неаполем благодаря браку с Альфонсо Арагонским, который получает титул герцога и княжество Бисельи; приданое Лукреции составляет 40 тысяч дукатов и превышает сумму приданого в первом браке. Особо оговаривается, что супружеская пара должна жить в Риме во дворце Санта-Мария-ин-Портико.
У Лукреции есть все основания чувствовать себя счастливой. Она слушает разговоры Санчи о брате, и он уже захватил ее воображение. Лукреция знает, что Альфонсо один из наиболее красивых молодых людей Италии, с очаровательными манерами и хорошим характером, и ей приятно сознавать, что полученный титул даст право занять высокое положение при дворе короля. Она измучилась, оставаясь в тени после скандала, последовавшего за разводом, и любовной интриги с Перотто, и знает, что ее жизнь в Ватикане, согласно общественному мнению, признана непристойной. Это мнение все более укреплялось в сознание людей, о чем мы можем судить по записям венецианского летописца Джироламо Приули, который назвал Лукрецию самой известной шлюхой в Риме, а умбрийский летописец, более известный как Матараццо, относится к ней как к главной падшей женщине, лидеру всех подобных женщин (летописцы, честно говоря, используют более грубые выражения). И Приули, и Матараццо, жившие далеко от Ватикана, питались скорее слухами, нежели реальными фактами, а слухи по большей части были сугубо отрицательные. Частная жизнь Лукреции могла быть даже еще сомнительнее, чем ее описывают недоброжелатели, но, вне всякого сомнения, ее не устраивали обычные страсти и любовь известной куртизанки. Кроме того, хорошо информированные и проницательные неаполитанцы прекрасно понимали, что единственная проблема Лукреции связана с родственниками, живущими в Риме. Поэты, поддерживавшие арагонскую династию, посвящали свои изящные латинские арабески только одной теме – чудовищным обвинениям, выдвинутым Джованни Сфорца. Понтано писал:
Ergo te semper cupiet, Lucretia, sextus? Будет ли шестой всегда желать тебя, Лукреция?А Саннадзаро составил известную эпитафию, оскорбительную по форме и содержанию:
Hie jacet in tumulo dormit Lucretia nomine, sed re Thais, Alexandri filia, sponsa, nurus. В этой могиле спит та, которая звалась Лукрецией, Но на самом деле должна бы называться Таис, Потому что была дочерью, супругой и невесткой Александра.Но все это произошло несколько позже. Сейчас нам следует вернуться к моменту прибытия Альфонсо из Неаполя, в середину июля 1498 года. Альфонсо, восемнадцатилетний юноша, которому римский гуманист Евангелиста Каподиферро предсказал, что ни его происхождение, ни его семья не смогут уберечь его от неприятностей, если он совершит этот опрометчивый брак. Лукреция с нетерпением ждала Альфонсо, и свадьбу отпраздновали в апартаментах Борджиа в Ватикане. На этот раз гостей было немного: живущие в Ватикане Борджиа, кардинал Сфорца, очень довольный новым союзом папы с неаполитанскими друзьями, кардиналы Джованни Борджиа и Джованни Лопес и епископ Маррадес. Во время церемонии испанский капитан Хуан Сервиллон держал обнаженный меч над головами жениха и невесты. Начало последовавшего за брачной церемонией праздника омрачилось стычкой между свитой Чезаре и Санчи, решивших выяснить, кто занимает более высокое положение, и тем самым давая выход враждебным чувствам своих хозяев и хозяек. Обменявшись оскорблениями, испанский и неаполитанский епископы принялись дубасить один другого. Папа оказался «в центре драки», и драка так разгорелась, что его слуги сбежали, и потребовалось какое-то время, чтобы успокоить их и вернуть обратно. Мир был восстановлен, и праздник с танцами, театральным представлением и маскарадом продолжался до рассвета. Чезаре вызвал восхищение, появившись в костюме единорога, символизирующего чистоту и верность. Что же касается папы, то он «как юноша» участвовал в празднике. Последующие дни показали, что Альфонсо и Лукреция понравились друг другу. Папа был доволен.
Людовик XII назвал Чезаре Борджиа кузеном и чего только не наобещал. Король очень нуждался в папе, поскольку хотел жениться на любимой женщине, вдове Карла VIII, умной и красивой королеве Анне, которая принесла бы ему в качестве приданого Бретань. 29 июля 1498 года Александр VI создает комиссию для рассмотрения доводов в пользу развода Людовика XII с Жанной Французской, хотя, как прекрасно понимал король Людовик, если бы он помог Чезаре занять определенное положение, то вопрос удалось бы легко уладить. Однако теперь намерения Чезаре выходят за пределы его статуса, но даже у Борджиа не рискуют заводить разговоры о женитьбе кардинала, все еще носящего пурпур. Итак, 17 августа, впервые за несколько месяцев облачившись в кардинальские одежды, Чезаре является на заседание консистории и просит у собравшейся горстки кардиналов (все они более или менее подготовлены, чтобы принять участие в «неслыханном» деле) дать ему слово. Он начинает свою речь с обращения, по всей видимости подготовленного в тайном сговоре с папой. Чезаре говорит, что никогда не имел призвания к духовной карьере, поступил так по принуждению, и просит разрешить ему вернуться к светскому образу жизни в интересах спасения его души. Если его просьбу удовлетворят, он окажется всецело в распоряжении церкви и, лично отправившись во Францию, предпримет попытку спасти Италию от возможного вторжения. Всю ответственность за решение этого вопроса кардиналы переадресовали папе, и Александр VI, используя возможности своего великолепного голоса, с пафосом ссылаясь на бесчисленные соображения относительно важности данного случая, подчеркнул необходимость воспользоваться здравым смыслом для решения этой проблемы.
Теперь, когда наиболее сложный вопрос был решен, Чезаре смог перевести дух. Сбросив кардинальскую мантию, казавшуюся ему немыслимым бременем, Чезаре отправляется встречать французского посла, Луи де Вильнева, барона де Транс, прибывшего в Рим для передачи королевского декрета. Этим декретом Людовик XII жалует Чезаре титул герцога Валенсийского – «великолепного города на Роне в Дофине, где располагается университет… недалеко от Лиона и в двух днях пути от Авиньона, что будет приносить ему 10 тысяч экю дохода…» (так писал информатор маркизу Мантуанскому). Таким образом, кардинал Валенсийский стал герцогом Валенса; в Италии его еще называли «иль Валентине».
Чезаре, это было решено, уедет во Францию в сопровождении Вильнева и самых известных испанских аристократов. Становится известно и о личных приготовлениях Чезаре: он подверг такому разграблению римские лавки, что там не осталось даже намека на золотые и серебряные ткани, он забрал золотые цепочки и великолепных лошадей, доставленных ему из знаменитых конюшен Гонзага. Папа приходит в восторг при виде такого великолепия. «Папу больше всяких слов восторгало это великолепие», – говорили послы. Теперь, ощущая мощную поддержку, папа находит большое удовольствие в хороших отношениях со Сфорца, для которых его профранцузская политика представляла серьезную угрозу. Пока Чезаре как ненормальный тратил деньги, папа никак не мог нарадоваться при мысли о прибытии впечатляющей кавалькады во Францию. И сам Александр, и его сын, будучи испанцами, обожали пышность и великолепие и никогда не задумывались, что подобное пристрастие может вызвать насмешки со стороны окружающих. Менее всего им были свойственны умеренность и сдержанность. Им удалось бы достичь большего, если бы они, сдерживая свои безумные желания, избежали искушения ослепить короля Франции.
Чезаре был настоящим Борджиа, и ему шла красивая одежда. Его мускулистое тело было гибким и проворным, а движения гармоничными. К сожалению, его лицо было обезображено периодически возвращающейся «французской болезнью», которую он подхватил во время пребывания в Неаполе, и ему даже пришлось отложить поездку во Францию; не хотелось, чтобы девушка, которую он намеревался покорить, заметила следы заболевания. В конце концов, благодаря травам, выращиваемым в садах Ватикана, он смог привести себя в должный вид и 1 октября отправился во Францию. Он восседал на гнедой лошади в наряде из белой с золотом дамасской ткани и накидке из черного бархата; его лицо обрамлял завитой парик (вероятно, он носил парик, чтобы скрыть кардинальскую тонзуру). Чезаре вез во Францию две папские буллы: разрешение на развод французского короля и назначение кардиналом Жоржа д'Амбуаза.
Вся Италия говорила о его путешествии, а о его лошадях с серебряными подковами ходили легенды. Но, достигнув границы с Францией, Чезаре обнаружил, что не все так просто, как он надеялся. Слухи обогнали его, и при виде кортежа, несшего весть о несправедливом разводе с благочестивой королевой Жанной, и самого Чезаре суровые провинциальные католики средневековой Франции испытывали ужас, как если бы он олицетворял злого гения. Когда кавалькада прибыла в Шинон, где в это время находился королевский двор вместе с Людовиком XII, простолюдины застыли, онемев при виде золотых украшений, красочных нарядов и драгоценных камней вступившей в город процессии, а придворные постановили, что «маленький герцог Валентинуа был по-настоящему хорош». Чезаре встретили со всеми полагающимися почестями и пригласили ко двору, но, когда зашел разговор о браке с Карлоттой Арагонской, высказывания стали носить столь неопределенный характер, что Чезаре отказался передать буллу, касающуюся развода короля, до тех пор, пока не будет принято решение в отношении его собственного брака. В конце концов, Чезаре пришлось передать буллу, и он присутствовал на свадьбе короля и королевы Анны Бретонской, которая, то ли из кокетства, то ли из-за угрызений совести, в течение нескольких месяцев отказывалась выходить замуж, заявляя среди прочего, что ее происхождение не позволяет ей становиться французской куртизанкой. И все-таки 6 января 1499 года она стала королевой. Чезаре тем временем воспользовался торжествами, чтобы выразить почтение Карлотте Арагонской, являвшейся одной из придворных дам королевы. Его учтивость, похоже, произвела на Карлотту впечатление, но до определенной степени, поскольку она никогда не согласилась бы называться «кардинальшей». Говорили, что она заявила ему, что не даст положительного ответа до тех пор, пока не получит соответствующего приказа своего отца (к тому времени она была уже влюблена во французского барона, за которого и вышла замуж спустя несколько месяцев). Ее хитрость удалась; король Фредерико категорически отказался дать согласие, в результате чего французский король «неласково» выпроводил его послов из страны.
Но хотя Людовик XII производил впечатление человека крайне расстроенного происходящим, у меня нет никаких оснований полагаться на это впечатление. Любой, кто интересовался подробностями пребывания Чезаре во Франции, мог понять, что подразумевал один из кардиналов в Риме, когда сказал, что король удерживает герцога Валентинуа в качестве заложника, чтобы заполучить папу на свою сторону на время проводимой в Италии кампании. Теперь, когда Чезаре находился в изоляции вдали от родины, французы позволяли себе шутить на его счет; они говорили, что на сей раз «сыну Божьему» не удастся ускользнуть от них, как это было в Веллетри. Вскоре Чезаре с горечью осознал, что попал в западню, и предпринял мужественную попытку повлиять на события, в то время как его камергеры, не обладавшие его силой воли, не могли скрыть охватившей их тревоги. Один из них, «очень способный человек», описывая почести, оказанные Валентинуа королем, закончил письмо в Рим следующим образом: «Позвольте надеяться, что они не закончатся подобно почестям, оказанным Христу в Вербное воскресенье, после того как в пятницу его распяли». Сравнение, возможно, непочтительное, но это не преуменьшает его значения.
Играть роль жениха, прибывшего издалека, но не достигшего цели, уязвляло чувство собственного достоинства Чезаре. Март не принес никаких изменений в положение герцога Валентинуа; ему безуспешно предлагали одну за другой французских принцесс, а папа в разговорах с французским королем перешел на язвительный тон. Александр VI, будучи хорошим политиком, понял, что поездка Чезаре может самым губительным образом отразиться на Борджиа и нанести его семье моральный ущерб. Прошел слух, что не менее пяти коронованных особ унизились до того, что написали королю, объясняя, что королевская кровь Карлотты «не должна быть осквернена», подразумевалось, проходимцем. Папа был так раздражен, что в какой-то момент решил отозвать Чезаре и дать ему в жены итальянскую принцессу, тем самым связав его судьбу с Италией. Он заявил, что «хочет, чтобы он [Чезаре] женился в Италии и оставался в ней [в Италии]». Различные информаторы подтверждали пристрастие папы к Италии в этот период, и легко вообразить, каким образом национализм папы мог бы отразиться на Италии, собиравшейся защищаться от иностранного вторжения. Но в действительности Александр VI не обладал достаточной властью, чтобы отозвать сына: французы не дали бы Чезаре уехать. Лучше было оставить все как есть, притворившись, что его забавляет их игра.
Между тем Лукреция мирно жила в Риме вместе с мужем, веселым, предупредительным и в достаточной мере неаполитанцем, чтобы не беспокоиться о политических проблемах, если этого не требовалось. Он устраивал приемы, приглашал поэтов, литераторов, кардиналов и принцев, и под его тайной, но полной энтузиазма защитой небольшая партия арагонцев, которая впоследствии нанесла обиду Чезаре, начала процветать. Между тем в период серьезной политической напряженности Асканио Сфорца решил нанести визит Лукреции, чтобы лучше подготовиться к защите против французов. Подобно большинству женщин, Лукреция не любила заниматься политикой. Однако она достаточно долго жила среди людей, чтобы освоить искусство заботиться о собственных интересах в бурном взаимодействии семейных амбиций. Усердие, с которым Асканио Сфорца добивался дружбы герцога и герцогини, служит доказательством того, что через родственников мужа и союзников арагонской династии Лукреция пыталась помочь тем миланцам и испанцам, которые были какими угодно, только не послушными.
Португальский посол ничего не преуменьшил, когда выразил недовольство в отношении профранцузского поведения папы и его непотизма в период пребывания испанского посольства во главе с Гарсилассо де ла Вега, человеком готовым на все ради своего короля, который в грубой форме угрожал главе церкви, что конклав свергнет его с престола. Папа отвергал одно оскорбление за другим и в ответ на обвинения в симонии заявил, что Фердинанд и Изабелла незаконно захватили власть. Заявление, что смерть герцога Гандийского вполне могла быть своего рода божьим наказанием, папа молниеносно опроверг, обратив внимание на еще более страшные наказания, обрушившиеся на потомков испанской королевской семьи. В конечном счете испанец и португалец объявили, что впредь не будут считать папу главой церкви, и над одним из них, использовавшим слишком уж непочтительные выражения, нависла явная угроза очутиться в Тибре. Эта грубая перепалка, с одной стороны, привела папу в бешенство, но в то же время подействовала на него возбуждающе, словно ссора с соотечественниками на родном языке придала больший размах его энергии. Однако следовало успокоить не в меру разошедшихся послов, и папа ломал голову, как достичь примирения. Поскольку испанцы объявили себя сторонниками территориальной целостности папства (понтифик умолчал о территориальных притязаниях Франции к Италии), Александр VI отобрал герцогство Беневенто у наследников герцога Гандийского и торжественно возвратил его церкви, хотя, учитывая отсутствие интереса к внукам, этот жест практически выказывал пренебрежение к испанскому королю. Пытаясь выиграть время, папа пошел на эту и еще кое-какие небольшие уступки в вопросах религии, но, несмотря на сложную обстановку, не потерял вкуса к увеселениям и устраивал вечеринки для Лукреции и ее молодого мужа. В конце января в компании кардинала Борджиа, кардинала Лопеса и Альфонсо де Бисельи папа участвовал в большой охоте в Остии и в прилегающей к ней лесистой местности, столь же богатой в те времена развлечениями, сколь богаты ими сегодня окрестности замка Порциано. Триумфальное возвращение охотников в сопровождении своры гончих и слуг, несущих трофеи, «оленей и диких коз», пришлось на 1 февраля. В этом же месяца папа появился вместе с Лукрецией на балконе замка Сант-Анджело и, наблюдая за проходившим на площади карнавалом, наслаждался всеобщим весельем. В тот год карнавал не мог быть таким уж ярким, поскольку, как сообщают очевидцы, «папа и мадонна Лукреция так долго стояли на балконе, что должны были быть увидены».
Лукреция всегда могла найти повод, чтобы посмеяться. Влюбленная, она купалась в счастье; ей было тесно в лабиринте старого города. День 9 февраля 1499 года был, вероятно, одним из тех солнечных дней римской зимы, когда блеск Аполлона вызывает беспокойство и тревогу, и Лукреция в сопровождении придворных дам отправилась на приятную прогулку в виноградники кардинала Лопеса. Лукреция была на втором месяце беременности, но, должно быть, забыла об этом, когда предложила компаньонкам пробежаться по дорожке. Не обращая внимания на покатый склон, она бросилась вперед, остальные – следом. Неожиданно она споткнулась, зацепившись носком туфли, и, падая, сбила бегущую за ней девушку, которая упала, придавив Лукрецию. По словам Катанеи, она была без сознания, когда ее доставили во дворец, и «в девять часов вечера у нее был выкидыш, и никто не знает, был ли это мальчик или девочка». Папа сильно расстроился, но, вероятно, успокоил себя мыслью, что Лукреция и Альфонсо молоды, страстны и влюблены. Через два месяца Лукреция снова забеременела, и о несчастном случае забыли.
Весна принесла хорошие известия из Франции. Посыльный Гарсиа примчался 16 марта 1499 года с сообщением о состоявшейся женитьбе Чезаре. Его женой стала Шарлотта д’Альбре, «самая красивая молодая женщина в стране», дочь короля Наваррского и родственница короля Франции. У нее была прекрасная репутация, хотя итальянец, увидев ее спустя несколько лет, сказал, что она была «скорее обаятельной, чем красивой», то есть он подразумевал, что она обладала скорее шармом, нежели классической красотой. Возможно, она рано поблекла, что иногда случается с женщинами такого типа.
Договориться о свадьбе было не так-то просто, поскольку отец девушки, требовательный и суровый Алан д'Альбре, не желал признавать, что духовное лицо и бывший кардинал имеет право жениться, поэтому потребовалось время, чтобы разъяснить папскую буллу, признавшую Чезаре свободным от всех церковных обетов. В конце концов с помощью дорогих подарков и обещаний Чезаре относительно блестящего будущего, которое ждет его жену, но прежде всего благодаря твердому обещанию короля Людовика произвести в кардиналы брата Шарлотты, Аманье д'Альбре, все препятствия были преодолены.
Свадьбу отпраздновали 12 мая в Блуа, а на рассвете 13-го, как только Гарсиа выяснил, насколько успешно прошла у молодоженов ночь, тут же вскакивает на лошадь и уже через четыре дня оказывается в Риме. Он настолько измотан безумной скачкой, что даже в присутствии папы не может удержаться на ногах и получает разрешение сесть, но при условии, что как можно быстрее со всеми подробностями расскажет о свадьбе. Рассказ занимает семь часов. Гарсиа начинает повествование с обсуждения условий брачного контракта и, не упуская ни одной детали, рассказывает об обмене кольцами, праздничных торжествах и ночи любви, в течение которой совершается шесть «причастий». Под хохот окружающих король поздравляет Чезаре, признавшись, что на этом поле боя он уступает новобрачному. Дальше шло описание приема, который Чезаре давал для короля и королевы, герцога Лорайна и аристократов французского двора. Залы дворца были слишком малы, чтобы вместить всех знатных гостей, а потому прием проходил на огромном лугу, разделенном на «залы и комнаты», потолком которым служило нежное майское небо, ковром – весенняя трава, а стенами – гобелены с цветочным орнаментом.
В Ватикане царит радостное оживление. Чезаре – счастливейший в мире человек. Он подарил жене драгоценные камни, парчу и шелка общей стоимостью 20 тысяч дукатов. Рассказ о свадьбе Чезаре с каждым посетителем обрастает новыми подробностями; папа хочет, чтобы все, будь то друг или враг, радовались вместе с ним или, наоборот, тревожились. Он приказывает, чтобы ему принесли шкатулки с драгоценными камнями и ласкает их толстыми пальцами, рассматривая кроваво-красные рубины, изумруды, цветом напоминающие застывшие молнии, и переливающийся, подобно небу на востоке, жемчуг. Все это должно достаться его новой невестке. Понтифик начисто забыл свои высказывания против французского короля. Он смеется над герцогом Миланским и Асканио Сфорца, когда они говорят, что, несмотря на недавнее объявление о создании союза между Людовиком XII и Венецией для того, чтобы поделить Миланское герцогство, не верят в неизбежность вторжения французов. «Пусть он [то есть Людовик] поостережется, – смеется Александр VI, – а не то будет пойман таким же образом, как хороший человек король Альфонсо [Неаполитанский]», который во времена вторжения Карла VIII до тех пор отказывался верить в нападение, пока не увидел французов у ворот Неаполя.
Для арагонской династии опять наступили мрачные времена, грозившие закончиться бурей. Лукреция еще только ощущала некоторую тревогу, а Санча уже не на шутку разволновалась. Джофре, казалось, делал все возможное, чтобы доказать, что он настоящий Борджиа (в ряде случаев папа отказывался признавать его статус), подражая братьям. В сопровождении испанцев он гуляет по городу, производя немыслимый шум и приставая ко всем встречающимся на пути патрулям. Однажды ночью Джофре в сопровождении двадцати пяти испанцев, переходя по мосту в замок Сант-Анджело, оскорбил начальника стражи, и один из стражников пустил в него стрелу. В соответствии с показаниями свидетеля, Джофре отправился «в Тибр, чтобы присоединиться к герцогу Гандийскому».
Когда Санча увидела доставленного домой мужа и поняла, что его жизнь в опасности, то почувствовала, как с новой силой вспыхнула в ней ненависть к семейству Александра VI. Она прибежала в Ватикан, чтобы выяснить, как мог папа позволить простым солдатам поднять руку на собственного сына. Папа выходит к ней и заявляет, что Джофре получил по заслугам, нечего было досаждать страже. Этот ответ не удовлетворяет Санчу, и она разошлась не на шутку. Неаполитанская экспансивность в сочетании с чувством собственного достоинства, свойственным арагонской династии, дают себя знать в полной мере! Долго длилась схватка между Александром VI, таким тяжелым и неповоротливым в папском облачении, и смуглой маленькой женщиной со сверкающими голубыми глазами, и много было произнесено слов «и с той и с другой стороны», «злых и не делавших чести ни одному из них». Впоследствии папа признался одному из доверенных лиц, что испытывал боль не потому, что Джофре его сын, а из опасения, что этот инцидент негативно скажется на чести и достоинстве его семьи. Возможно, во время ссоры с Санчей папа отрицал свое отцовство, а Санча, естественно, отвечала в весьма и весьма язвительном тоне.
Между тем и союз папы с французами, и то удовольствие, которое он столь явно демонстрировал, стало все больше раздражать католических послов Фердинанда, вызывая у них возрастающее недоверие к папе. Они обвиняют Александра VI в получении из Франции черного пороха и бочек с вином и решают вернуться в Испанию, поскольку их протесты не действуют на папу, чтобы представить королю полный отчет о происходящем в Италии. Тогда король, сделав необходимые выводы, мог бы предпринять соответствующие шаги. Накануне отъезда они получают аудиенцию у Александра VI. «Святой отец, – заканчивая визит, произнес Гарсилассо де ла Вега, – я отправляюсь в Испанию и полагаю, что вы должны последовать за мной как беглец – не на корабле с почетным эскортом, а на барже, и только в том случае, если вы окажетесь достаточно везучи и сможете ее найти».
Посол был краток, и вряд ли можно было высказаться еще более непочтительно, но Александр умен и выдвигает встречные возражения. Он с трудом скрывает радость от отъезда этих людей, связавших его по рукам и ногам и лишивших свободы, столь необходимой, чтобы плести сети заговора с Францией.
Явное изменение политической ситуации и ее очевидные последствия наводят Альфонсо де Бисельи на грустные размышления, и, по всей видимости, он делится своими соображениями с Асканио Сфорца, испанскими и неаполитанскими послами и с сестрой Санчей. Хотя папа изо всех сил старается продемонстрировать нейтралитет и продолжает утверждать, что короля Людовика интересует исключительно Миланское герцогство и он даже не помышляет о Неаполе, ни для кого не секрет, что это говорится для отвода глаз. В конце июля кардинал Асканио Сфорца покидает Рим и присоединяется к брату герцогу Людовико, ведущему борьбу против французов. Он силен духом и находится в приподнятом настроении, питая надежду на скорое триумфальное возвращение. Его оптимизм, наверное, основывался на уверенности, что «наверху» недовольны действиями Александра VI. Весьма вероятно, что, испытывая дружеские чувства к герцогу и герцогине де Бисельи, Асканио Сфорца предупредил Альфонсо о тех ловушках и опасностях, которые будут подстерегать его до тех пор, пока он водит компанию с Борджиа, и напомнил о судьбе Джованни Сфорца. Асканио вздохнул с облегчением, когда узнал, что Альфонсо Арагонский в сопровождении нескольких придворных утром 2 августа 1499 года сбежал из Рима. Папские сбиры преследуют его до наступления сумерек, но ему удается укрыться в Дженаццано, вотчине Колонна, – друзей короля Фредерико. Оттуда Альфонсо отправляется в Неаполь, послав жене письма с просьбами присоединиться к нему.
Когда Лукреция узнала о случившемся, она разразилась нервным смехом. Ну не парадоксально ли, что ее покорность, любовь и привязанность вынуждают мужей спасаться бегством, как будто она страшилище наподобие Медузы Горгоны. Граф де Пезаро будет смеяться еще больше, решила Лукреция. Она была уже на шестом месяце беременности и чувствовала себя униженной. Папа разразился проклятиями в адрес короля Фредерико и всей арагонской династии и мстительно приказал Санче немедленно вернуться в Неаполь; король не пожелал ничего отдавать из общей с папой собственности, так и папа со своей стороны не собирается ничего оставлять королю. Александр VI ведет себя «нелюбезно» и, когда Санча отказывается вернуться, угрожает «вышвырнуть ее вон», что вызывает у нее бешеное негодование. Возможно, она, как Альфонсо Лукрецию, убеждала Джофре последовать за ней.
Папа умудрился высказать претензии в адрес Альфонсо и короля Фредерико, заставившегося сбежать мужа Лукреции, даже миланскому посланнику Чезаре Гьяско. По мнению посланника, папа только подлил масла в огонь, настаивая на возвращении Санчи в Неаполь, и тем самым нанес новые оскорбления. Александр настоял на своем, и Санча вернулась в Неаполь. Лукреция заливалась слезами; «она занята только тем, что плачет», сообщают свидетели. Папа своей властью назначает Лукрецию губернатором Сполето и Фолиньо; эту высокую должность до сих пор занимали только кардиналы или прелаты. Историки не усмотрели связи между слезами Лукреции и ее новым назначением. Но если мы задумаемся над состоянием и характером Лукреции, то разберемся в замыслах папы. По свидетельству очевидца, Александр VI боялся, что его детей «введут в заблуждение», и, кроме того, хотел доказать королю Неаполя, что отлично управляется со своими делами. Он не хотел унижать свою возлюбленную дочь, но фактически намеревался лишить ее свободы, и, поскольку в ней было сильно развито чувство собственного достоинства, сделать это надо было особым образом. Александр понимал, что Лукреция никогда не посмеет пренебречь своим положением и сбежать. Она не рассматривала себя в качестве оставленной жены, мечтающей воссоединиться с мужем. Нет, она считала себя высокопоставленным государственным чиновником, получившим назначение перед началом неизбежной войны. Папа учел и тот факт, что Сполето расположен в ста пятидесяти километрах севернее Рима и, следовательно, еще дальше от Альфонсо. Как губернатор города, Лукреция будет вынуждена жить за крепостными стенами и не сможет тайком отправлять письма мужу. Джофре следует за сестрой в Сполето в сопровождении шести слуг, которые, по всей видимости, поклялись не упускать его из поля зрения. Он был узником, и, как показало будущее, его сестра тоже была узницей, хотя и под видом благородной идеи.
Лукреция и Джофре выехали утром 8 августа в сопровождении пышного кортежа, проверенного лично папой. Кортеж состоял из сорока трех экипажей, в которых размещались аристократы, и среди них Фабио Орсини, придворные дамы, стража и слуги, или, скорее, тюремные надзиратели. Учитывая состояние Лукреции, папа приказал приготовить носилки, матрасы из темно-красного атласа, расшитого цветами, две подушки из белой дамасской ткани и балдахин, а на тот случай, если Лукреция пожелает путешествовать в седле, были предусмотрены обитое атласом седло и специальная скамеечка, чтобы было удобнее садиться в седле; и все это было изобретательно пристроено под седлом. Когда во главе кортежа Лукреция и Джофре отъезжают от дворца Санта-Мария-ин-Портико, папа выходит на лоджию, чтобы приветствовать Лукрецию как губернатора Сполето. В лучах августовского солнца его глаза светятся любовью. Брат и сестра, не сходя с лошадей, склоняются в почтительном поклоне, и на их волосах, светлых Лукреции и каштановых Джофре, играют солнечные блики. Папа трижды благословляет детей и остается в лоджии до тех пор, пока кортеж не исчезает из виду.
Всю дорогу до моста замка Сант-Анджело Лукреция вела беседу с неаполитанским послом, обманывая себя, что таким образом она будто бы поддерживает контакт с мужем. Теперь она осталась одна, сопровождаемая только свитой и обремененная искусственно созданной должностью, которая кое-как прикрыла оскорбительное положение брошенной жены. Однако если что-то и поддерживало в ней мужество, так это осознание занимаемой ею государственной должности и решимость сыграть роль, предназначенную мужчине. Только действенно и энергично используя данную ей власть, Лукреция могла доказать себе и другим, что назначение на пост губернатора не являлось какой-то сомнительной уловкой, преследующей чисто семейные цели, а было необходимо с точки зрения решения вопросов государственной важности. Вновь вернувшись мыслями к Альфонсо, она тут же утешила себя, вспомнив весьма оптимистичные прощальные слова неаполитанского посла. Постепенно к Лукреции возвращалось хорошее настроение; этому немало способствовал разворачивающийся перед ее глазами пейзаж, то идиллический, пасторальный, то суровый и даже аскетический. Дорога бежала через луга и каштановые рощи, и вдруг неожиданно появился вознесшийся над городом (а это был Сполето) замок, словно бросивший якорь в зеленые волны листвы. Крепость была построена Маццео Джаттапоне, и эта тяжеловесная громада, возвышающаяся на фоне нежно-голубого умбрийского неба, появлялась на какое-то мгновение, а затем дорога шла вниз, и крепость пропадала из виду, чтобы вновь появиться уже в непосредственной близости от города, состоящего из домов, которые, словно действуя согласно военному плану, карабкались вверх под защиту крепости, венчающей Сполето.
Лукреция остановилась на завтрак в замке Поркария, в нескольких милях от города. Здесь ее как губернатора от лица горожан вышли приветствовать представители города. В сопровождении четырехсот пехотинцев, четырех представителей Сполето и собственной свиты 14 августа, в полдень, сидя на позолоченном седле, под балдахином из камчатной ткани, расшитой золотом, Лукреция въехала в город. Она проезжает под триумфальными арками, украшенными цветами и флагами, под приветственные крики радостной толпы. Пока произносятся приветственные речи, с ее лица не сходит улыбка. В крепость она попадает перед самым заходом солнца. Лукреция верхом въезжает на передний двор, ограниченный с одной стороны башней Спиритата, а с другой – башней Торетта, пересекает его, проезжает под аркой с барельефными изображениями гербов кардинала Альборнозо и Урбана V и, наконец, оказывается в самой высокой точке крепости. Сюда, в великолепный Зал чести с лоджией, поддерживаемой восьмиугольными колоннами и разделенной аркадами, уже не долетают приветственные крики толпы. Внизу, как раз под окнами зала, расположены два двора, где проводят время стражники и слуги замка.
В Зале чести Лукреция, наделенная властными полномочиями, дает приорам Сполето аудиенцию и вручает им бреве папской канцелярии. Она слушает отчеты о городских делах, благосклонно и терпеливо рассматривает петиции и выслушивает жалобы. Но мы можем быть абсолютно уверены, что в глубине души она думает о курьерах с юга. Испанский командующий Хуан Сервиллон, о котором благосклонно отзывались и арагонская династия, и семейство Борджиа (он был свидетелем на свадьбе Борджиа-Бисельи), 20 августа по заданию Александра VI выехал из Рима в Неаполь, к королю Фредерико для ведения переговоров о возвращении герцога де Бисельи. Несмотря на то что короля не убедили вдохновенные речи Сервиллона о великолепном будущем, которое ждет Альфонсо, он, по крайней мере, выслушал их. В изложении королевского солдата обещания папы произвели на короля хорошее впечатление и показались искренними. После долгих споров и многочисленных обещаний было решено, что в середине сентября Альфонсо воссоединится с женой. Эта последняя попытка, предпринятая арагонской династией с целью восстановления дружеских отношения и возвращения покровительства папы, закончилась весьма плачевно.
Глава 5 Роковая герцогиня де Бисельи
Завоевание Милана французами пришлось на лето 1499 года. Перейдя в июле через Альпы, французские войска двинулись прямо на город, где Людовико Моро, оказавшись перед лицом реальности, во-первых, предпринял попытку получить помощь и, во-вторых, разработал оборонительные планы. Обе попытки окончились ничем. Он очень рассчитывал на союз с Максимилианом Австрийским, но император, занятый войной со швейцарцами, не оправдал надежд Людовико, бросив его в беде. Моро был не тот человек, который может в одиночку встретить войну; его интересы лежали в сфере политики, а в вопросах военной стратегии он целиком зависел от других. Его жена Беатрис, маленькая принцесса д'Эсте с железным характером, могла бы заставить его держаться до конца, но она умерла два года назад. Зажатый с запада и востока французами и венецианцами, он не смог придумать ничего лучше, как сбежать к Максимилиану в Тироль, куда следом за ним отправился кардинал Асканио, чьи решимость и горячность были столь же бесполезны, как его знаменитые доспехи из дамасской стали. Милан открыл ворота французам, и население бурно приветствовало короля Франции, который во главе армии с триумфом въехал в город.
Короля сопровождает группа итальянских принцев, представители савойской династии, герцоги де Монферра, де Салуццо, Мантуанский, Феррарский. Они надеются, что предложенная дружба спасет их государства от гибели. В свите короля и Чезаре Борджиа; теперь, когда неудачное пребывание во Франции осталось позади и он смог полной грудью вдыхать воздух Италии, вновь проявились его самонадеянность и невероятный апломб. Он все еще приходил в ярость, когда слышал, что студенты из Парижского университета разыгрывают комедии, высмеивающие его женитьбу. Его с папой представляли в таком унизительном виде, что Людовик XII направил в Париж главного канцлера и графа де Лину, чтобы замять скандал, и, когда эти посланники оказались в руках шести тысяч студентов, угрожавших восстанием, король срочно покинул Блуа, чтобы восстановить порядок.
Александр VI опять почувствовал себя защищенным. Он знал, что Чезаре у него под рукой, и надеялся, что дорогой король Людовик XII прибудет в Рим, чтобы присутствовать на рождественской мессе в соборе Святого Петра. Папа только улыбнулся, когда кардиналы в довольно резкой форме обратили его внимание на то, что французские короли не относятся к тем гостям, которых особенно хотелось бы видеть, и напомнили папе, как ему пришлось бежать из Рима во время вторжения Карла VIII. Услышав о бегстве Сфорца, папа рассмеялся, но тут же сделал вид, что весьма сожалеет об этом. «Бедные люди, – посетовал понтифик, – им следовало бы иметь дело с герцогом Франческо [основателем и главой династии], который не сбежал бы, как этот». Но тем не менее, Александр конфискует Непи, подаренный им Асканио (Непи было в числе наград, врученных папой Асканио Сфорца). Теперь отношение Александра VI к Сфорца «доброе только на словах, а на деле неприязненное». Король Неаполя пришел в неописуемое волнение, услышав о бегстве союзника и вступлении французов в Милан. Лихорадочно отыскивая выход из создавшегося положения, он обращается к папе, пригрозив, что, если тот не сможет защитить его, он будет искать поддержку у турков. Александр прекрасно понимал, что, если король Неаполя выполнит свою угрозу, церковь окажется в серьезной опасности, а потому старался не слишком афишировать тесные отношения с французами перед Неаполем. Вместо этого он время от времени делал вид, что бесконечно обязан династии Арагонов, Испании и Неаполю, и настолько ловко вводил окружающих в заблуждение, что у каждого появлялся луч надежды.
Жертвой подобных иллюзий стал Альфонсо де Бисельи, вернувшийся во второй половине сентября из Неаполя. Вместе с давнишним фаворитом короля Ферранте, одним из Пигнателли, Альфонсо, объехав Рим стороной, едет прямо в Сполето, куда попадает к вечеру 19 сентября. Если в первые минуты встречи и существовала какая-то напряженность, то улыбка Лукреции рассеяла все тревоги; она вновь почувствовала себя защищенной, и это радостное состояние Лукреции передалось всем домочадцам. Весь сентябрь муж и жена были счастливы; они бродили из лоджии в лоджию, из одного внутреннего двора в другой, скакали верхом по окрестностям, и вечерами звуки труб и стук копыт галопирующих лошадей возвещал об возвращении молодых, усталых и готовых насладиться отдыхом.
В это же самое время папа наконец-то определил точные границы будущих владений Борджиа – Романьи и, кроме того, составил буллу, провозгласившую, что владельцы Пезаро, Имолы, Форли, Фаэнцы и Урбино лишаются документов на право собственности, поскольку оказались не в состоянии вносить регулярную плату за собственность в папскую казну. Сразу же после опубликования буллы Чезаре, ждавший этого сигнала, привел армию, усиленную за счет французских частей, в боевую готовность и двинулся из Милана в Романью.
14 октября в сопровождении мужа Лукреция возвращается в Рим. Весь дом готовится к торжествам, которые принято устраивать в королевских семьях в связи с рождением детей, а 1 ноября роскошная колыбель была уже занята новорожденным мальчиком. Последовали все необходимые приготовления для проведения крестин. Сына Лукреции должен крестить если не папа, то по крайней мере кардинал, чтобы пышность и помпезность церемонии смогли удовлетворить требования Борджиа. 11 ноября, когда все было готово, шестнадцать кардиналов собрались в часовне дворца Санта-Мария-ин-Портико, где сама обстановка, гобелены и ковры не отвлекают придирчивый взгляд Бурхарда. Лукреция, хотя и немного бледная, светится, как всякая счастливая молодая мать, неземной красотой. Она принимает поздравления, сидя в кровати, покрытой красным атласом с золотой каймой, в комнате, стены которой обиты бархатом цвета голубого анемона, его в те времена называли александрийским. Во дворце, залы, стены и лестницы которого скрывались под коврами, гобеленами, шпалерами и шелковыми портьерами ручной работы, царит атмосфера счастья. Внутреннее убранство дворца представляло собой смешение двух стилей: искусства Ренессанса и экзотических испанских мотивов.
Аристократы, послы, прелаты и друзья торжественной шеренгой проходят мимо кровати Лукреции. Несмотря на утомительную церемонию, Лукреция понимает, насколько важно иметь друзей, и пытается отличить их в толпе гостей. В назначенный для крещения час кардиналы переходят из часовни дворца в расположенную по соседству часовню Сикста IV, иначе говоря, в Сикстинскую капеллу. Микеланджело еще не вдохнул жизнь в стены и потолок, но Боттичелли уже изобразил там прозрачных дочерей Джетро, а Перуджино фреску «Передача ключей», имевшую сходство с музыкальными интервалами, записанными в пространстве. Для проведения обряда крещения дальнюю стену, где сегодня мы видим «День Страшного суда» Микеланджело, задрапировали золотой парчой, а пол устлали коврами.
Процессию возглавляют конюшие и камергеры папы, одетые в розовые одежды, и музыканты с флейтами и барабанами. Следом появляется Хуан Сервиллон, храбрый испанский офицер, друг Арагонов и Сфорца, исполнявший роль посредника между королем и папой. Он несет ребенка, одетого в платье из золотой парчи, подбитой мехом горностая. За ним следуют губернатор Рима, посол императора Максимилиана, послы и длинная вереница прелатов, идущих по двое. Подойдя к алтарю, Сер-виллон передает ребенка Франческо Борджиа, архиепископу Козенца, который подносит его к серебряной купели. Кардинал Карафа совершает обряд крещения. Ребенок получает имя Родриго, такое же, как у дедушки. Бурхард с обычной для него придирчивостью замечает, что в церемонии участвовало слишком много женщин, которые, желая лучше рассмотреть ребенка, заняли первый ряд кресел, отведенных для кардиналов, и те были вынуждены занять задние ряды, поставив ноги на ледяной пол. По окончании церемонии ребенка передают Паоло Орсини в знак возобновления дружбы между папой и кланом Орсини. Молчавший до этого младенец начинает громко плакать, и так продолжается до тех пор, пока он находится на руках у Орсини; это расценили как плохое предзнаменование. Обряд крещения прошел торжественно и явился свидетельством любви папы к дочери, а через нее и к Альфонсо и всей арагонской династии. Иллюзия доверия была восстановлена.
Спустя неделю после крещения Чезаре Борджиа инкогнито возвращается в Рим вместе с любимым постельничим папы Морадесом. Чезаре появляется в Ватикане, где его уже ждет папа, и проводит там три невероятно насыщенных дня, обсуждая свежие новости и разрабатывая планы на будущее. Он, вероятно, видел Лукрецию, Альфонсо и ребенка, которых в то время боготворили в Ватикане, и, когда его отец говорил о безумной любви к внуку, испытывал сильное раздражение. Чезаре ненавидел арагонскую династию. Он не мог забыть презрения со стороны Шарлотты Арагонской и принца Фредерико. Более того, если мы ищем первопричину, которая впоследствии привела к трагедии, то имеет смысл предположить, что именно теперь Чезаре начал лелеять надежду, если не сказать определенный план, или, по крайней мере, замысел, уничтожить династию Арагонов, являющуюся препятствием на пути честолюбивых замыслов Борджиа.
Если бы Лукреция оставалась преданной мужу, а папа разделял ее привязанность, это, очевидно, помешало бы полностью уничтожить арагонскую династию. У Чезаре было слишком много врагов, а значит, на его пути возникало много преград; было бы неблагоразумно вести борьбу внутри собственного семейства.
Ужас перед семейством Борджиа, достигший к этому моменту наибольшего накала, оставался таким вплоть до смерти Александра VI. Мы уже знаем, что даже в обычные времена Тибр служил зловещим хранилищем трупов, а в эти годы он поглощал их, а затем в надлежащее время опять выбрасывал испанцев, священнослужителей, офицеров, солдат и очень часто фаворитов Борджиа. Чезаре доказал свою способность устранять стоящие на его пути препятствия еще в те времена, когда был жив герцог Гандийский, а уж теперь, когда ему улыбнулась фортуна, он чувствовал еще большую, чем прежде, необходимость в том, чтобы, невзирая на жертвы, оставляемые на обочине, вырваться вперед. В 1499 году Тибр выбросил мешок с трупом испанского констебля из папской охраны, бывшего когда-то любимцем Чезаре. Причина столь жуткой смерти была до крайности проста: он слишком много знал. И это было только начало.
Ближе к концу года, спустя несколько дней после того, как он поднес маленького Родриго де Бисельи к купели, Хуан Сервиллон обратился к папе за разрешением покинуть Рим, чтобы вернуться в Неаполь, где жили его жена и дети и где он рассчитывал предложить свои услуги королю Фредерико. Ему никак не удавалось добиться разрешения; Сервиллон был посвящен и в секреты Ватикана, и в военные тайны папского государства. Он объяснил, что не побоится выступить открыто (он откровенно сожалел о поведении Санчи Арагонской, по всей видимости имея в виду ее дела с Чезаре), и его друзья, опасаясь за Сервиллона, неоднократно предупреждали, чтобы он был начеку. Но он только смеялся. Вечером 2 декабря его безрассудная смелость сослужила ему плохую службу. Возвращаясь со званого ужина от своего племянника дона Тезео Пигнателли, Сервиллон, прежде чем успел выхватить меч из ножен, был разрублен на куски неизвестными личностями. На следующее утро его спешно похоронили в церкви Санта Мария-ин-Траспонтино в Борджо-Нуово, и, по словам Санудо, никому не было позволено увидеть его раны.
Еще более таинственная смерть произошла в лагере Чезаре в Романье. Жертвой стал португальский епископ Сеутский, Фердинандо д'Алмейда, амбициозный человек с плохой репутацией, помогавший Чезаре во Франции со свадьбой и последовавший за ним в Италию. Нам доподлинно неизвестно, чем занимался этот епископ: шпионил ли на короля Франции, занимался ли шантажом или делал и то и другое. Как бы то ни было, но однажды днем было замечено волнение у помещения, которое занимал епископ, и, можно сказать, нарочитая демонстрация докторов, хирургов и медицинских сестер с бандажами, мазями и притираниями. Было объявлено, что Алмейду ранили во время сражения, хотя на самом деле он умер. Был ли он отравлен? Хотелось бы знать, шел ли уже тогда разговор о знаменитом порошке Борджиа?
А тем временем войска под предводительством Чезаре упорно продвигались вперед. Имола пала, хотя Диониджи ди Нальди, руководивший обороной города от лица графини Форли, оказал упорное сопротивление, прежде чем приступить к переговорам с французами и перейти на сторону Чезаре. Папа «с большим удовольствием и гордостью» выслушал сообщения о том, как его сын сражался с передовыми частями противника под стенами Имолы, прикрываясь только щитом; что он постоянно демонстрировал храбрость и здравомыслие и все преклоняются перед его щедростью и великодушием. Затем Чезаре двинулся дальше и приступил к осаде Форли. Обороной крепости и города руководила Катерина Сфорца, считавшаяся самой храброй женщиной Италии; кстати, в эту эпоху было много воинственных женщин. Один из современников описывает Катерину как «необыкновенно жестокую женщину-воительницу», но даже в этом описании присутствует оттенок восхищения – ей выпало быть продолжателем дел своего знаменитого предка, кондотьера Франческо Сфорца. После смерти первого мужа Джироламо Риарио она вышла замуж за Джакомо Феа, и, когда он был убит, Катерина во главе отряда всадников ворвалась во вражескую крепость и в качестве ответной меры приказала уничтожить всех, будь то мужчина, женщина или ребенок.
Описания, оставленные теми, кто знал ее как «имевшую добрый нрав веселую женщину», с руками «мягкими, как мех» (Катерина пользовалась душистыми мазями и притираниями), лицом, как видно на ее портретах, выражающим решимость и твердость характера, склонную к полноте (информатор маркизы Мантуанской в 1502 году пишет, что Катерина «настолько толстая, что не имеет себе равных»), никогда не заставят нас сомневаться в неутомимой энергии и силе мускулов, благодаря которым Катерина Сфорца стала воплощением войны. Когда Чезаре двинулся на Форли, Катерина была уже готова к обороне города. Она произвела осмотр крепостей и, отправив своего ребенка в безопасное место, доигрывает последний акт правления с холодной страстностью, столь характерной для нее. Но нельзя долго противостоять превосходящей в силе армии Чезаре. Графиня Форли руководит обороной крепости среди дыма и вспышек орудийных залпов. Ее неистовство в ходе сражения ни в коей мере не повлияло на здравость рассудка; когда ее взяли в плен, она без малейших колебаний признала себя пленницей и потребовала, чтобы ее передали французскому королю. Французы восхищены ее мужеством, красотой и чувством собственного достоинства. Французский командующий Ив д'Аллегра, во времена Карла VIII взявший в плен неповторимую женщину, а именно Джулию Фарнезе, пытается взять Катерину под свою защиту, чтобы впоследствии освободить. Но Чезаре настаивает, чтобы она осталась с ним, гарантируя хорошее обращение, и в конце концов Катерина остается с ним. Ходили разговоры, и весьма правдоподобные, что Чезаре хотел, чтобы его отважная пленница испытала все ужасы неволи, и даже пытался заставить ее стать его любовницей. Нам известно, что какое-то время он удерживал ее у себя, а затем отправил в Рим, не в цепях, как утверждает легенда, а в сопровождении папского капитана Родриго Борджиа. Папа поместил пленницу под строгим надзором в Бельведере, стоявшем среди сосен и апельсиновых деревьев, а позже Катерина была переведена в замок Сант-Анджело. Она, как и прежде, сохраняла чувство собственного достоинства, и не было способа, чтобы подчинить ее; казалось, она была «одержима дьяволом».
Даже враги вынуждены признать, что Чезаре Борджиа обладал всеми необходимыми для военачальника качествами; командовать неорганизованными войсками, которые после падения Форли пользовались каждым удобным случаем, чтобы затеять ссору, под силу только человеку, обладающему сильным и решительным характером. Итальянцы были на ножах с французами. Мы уже говорили, что французы отказались признать власть итальянских командиров и вели себя крайне высокомерно, как будто каждый из них играл роль «французский король на войне». Чезаре проявлял «чудеса, учитывая трудности того времени, многообразие взглядов и различных препятствий» – это цитата из Катанеи, который уж точно не может подозреваться в симпатии к Борджиа. Чезаре, помимо военных талантов, демонстрировал прекрасные административные способности: пытался по мере сил оградить жителей захваченных территорий от грабежей и насилия, а изданные им указы можно даже в определенном смысле назвать гуманными. На протяжении столетий Романья привыкла к жадным, ведущим захватническую политику тиранам, и жители Романьи, наблюдая за действиями разумного правительства, испытывали нечто сродни помрачению рассудка. Это объясняет, почему, когда позже для Чезаре наступили тяжелые дни, Форли и Сезена остались ему верны.
Еще одна смерть в окружении Борджиа произошла через несколько дней после захвата Форли. На этот раз им оказался член семьи, кардинал Джованни Борджиа, называемый младшим. Он отправился к Чезаре, чтобы поздравить его с последней победой, но сильнейшая лихорадка свалила его в Фоссомброне, и в течение нескольких часов его не стало. Всем своим видом папа и Чезаре демонстрировали огромную скорбь, но, хотя не имелось никаких оснований для излишней подозрительности, люди в те времена были весьма недоверчивы, и нас это едва ли может удивить – семейство Борджиа в полной мере владело «смертельными тайнами». Смерть кардинала была неслучайной, но и деньги не могли послужить причиной убийства; значительные доходы кардинала перекрывались еще более значительными долгами. Его доходы, долги и кардинальский сан тут же перешли к его брату Людовико Борджиа, рыцарю Родосскому, обладающему галантными манерами и, по словам Катанеи, порочным лицом. Тело умершего кардинала в спешном порядке отправили в Рим и похоронили в Санта-Мария-дель-Пополо. На могиле не установили даже надгробную плиту, и все упоминания о младшем, и его смерти в особенности, были «чрезвычайно неприятны папе».
Оставалось еще множество проблем. При содействии армии Максимилиана под приветственные крики горожан, к тому моменту решивших, что предпочтительнее иметь свое правительство, чем состоящее из иностранцев, Людовико Моро вернулся в Милан. Кардинал Асканио написал папе пылкое письмо, сообщив о возрождении Сфорца; у папы так и чесались руки, когда он читал это послание.
Изменение на политической арене, вызванное возвращением Сфорца, приостановило продвижение Чезаре. Теперь он направился в сторону Пезаро, где приступил к переговорам с бывшим шурином Джованни Сфорца, надеясь таким образом захватить город.
На данный момент Джованни был очень беден и заботился только о том, чтобы как-то сохранить свое небольшое владение, но известия из Милана придали мужества даже этому слабому человеку, и он категорически отказался от переговоров. Чезаре был загнан в тупик; он молча наблюдал за отходом французов, отказавшихся от него в Романье и спешным порядком двинувшихся в Ломбардию, оставляя за собой след грабежей и насилия и тем самым давая выход чувствам. Когда Чезаре понял, что ему не остается ничего другого, как заключить перемирие, он объявил о своем намерении вернуться в Рим и во главе большой армии с триумфом вошел в город.
«Единственное, чего недостает, так это четырех заключенных в триумфальной карете. Можно подумать, что удалось одержать победу над королевством», – шептались римляне, и тон их по мере подготовки к триумфальной встрече, ведущейся по приказу папы, становился все более язвительным. Как бы то ни было, но 26 февраля 1500 года у ворот Санта-Мария-дель-Пополо для торжественной встречи Чезаре собрались прелаты, вельможи и послы. Войско торжественно вступило в город. С изобретательностью режиссера Чезаре в драматическом ключе решил всю сцену вступления – основным лейтмотивом являлся траур по тем, кого династия Борджиа потеряла в последнее время (одна из потерь была особенно подозрительной). Первыми двигались сто повозок, задрапированных черным сукном наподобие траурных покрывал, а за ними в полной тишине, нарушаемой только стуком копыт, шли солдаты, по пятеро в шеренге, папские уланы, гасконцы и швейцарцы, и над ними развевались их знамена. За ними шли двести швейцарцев в черных бархатных камзолах и беретах с черным плюмажем из птичьих перьев и пятьдесят оруженосцев, одетых, как и швейцарцы, в черный бархат. Далее следовали Джофре Борджиа, опьяненный восхищением от брата, и Альфонсо де Бисельи, разбивавший женские сердца, и, наконец, Чезаре в костюме из черного бархата. Домочадцы, епископы, вельможи и простолюдины двинулись за торжественным кортежем; шествие замыкали наемники Вителлоццо Вителли, у которых под суконными жилетами прятались сверкающие доспехи. При подъезде к замку Сант-Анджело мрачный кортеж встретил орудийный салют. От заключительного залпа слетели ставни в окнах близлежащих домов и дрогнули стены. Чезаре въехал в Ватикан.
Лукреция переживала счастливые времена. Она оставалась, как и прежде, излишне доверчивой и считала, что папа примет решение, которое предотвратит уничтожение арагонской династии. Теперь она энергично отстаивала свои права и была еще более, чем прежде, любима. Отец дает ей возможность приобрести город Сермонету с замком и прилегающими землями, то, что недавно было отобрано у Каэтани, друга короля Фредерико Арагонского. Церковь нуждается в деньгах, заявил папа, и Лукреция заплатила в папскую палату 80 тысяч дукатов. Теперьсобственность Лукреции состояла из герцогства Бисельи, Непи, Сермонеты и, конечно, территории, прилегающей к Сполето. После рождения Родриго она полностью восстановила прежнюю красоту, хотя была теперь уже не столь ослепительна, как прежде, а более мягкая, женственная. Когда 1 января 1500 года Лукреция во главе вооруженной кавалькады двигалась по направлению к церкви Сан Джованни-ин-Лютерано, чтобы торжественно отметить начало юбилейного года, ее переполняло чувство гордости. Путь расчищали пятьдесят всадников, скакавшие за личным капелланом Лукреции епископом Каринольским, ехавшим между римским бароном и человеком, которого мы меньше всего ожидали увидеть в этой компании, – Орсино Орсини, косоглазым мужем Джулии Фарнезе.
В период с 1494-го по 1500 год отношения между Джулией Фарнезе и Александром VI стали более осмотрительными и сдержанными. Нам известно, что она все еще была в фаворе в 1497 году, а в августе 1499 года миланский посланник Чезаре Гьяско замечает, что «мадонна Джулия вернулась к Их Преосвященству». Это относится к возвращению после отсутствия или к возвращению любви? Но как бы то ни было, мы убеждены, что Джулия должна была, подобно всем сгоравшим от любви, познать печальный опыт охлаждения, поняв, что страсть, которой она отдалась так самозабвенно, постепенно ослабевает. В 1500 году, когда папа подхватил лихорадку, в Риме пользовалась большой популярностью сатирическая поэма, озаглавленная «Dialogo fra il Papa e la Morte», в которой Александр VI взывал к своей «возлюбленной». Но нет никаких сомнений, что в промежутке между 1499-м и 1500 годами наступил разрыв отношений; наши источники в 1500 году упоминают о ней как о «мадонне Джулии, бывшей фаворитке папы», а это показывает, что пришел конец ее власти, закатилась звезда на небосклоне Борджиа. Однако на всех приемах и праздниках кардинал Алессандро Фарнезе оставался по-прежнему на первом плане, а у Орсино установились близкие отношения с семейством Бисельи. В связи с этим можно предположить, что Александр VI сохранил нежную привязанность к Джулии; как и в случае с Ванноццой, он показывал, что она осталась в его памяти. Что касается Адрианы Мила, то резкое вхождение Чезаре во власть в значительной мере уменьшило ее влияние на папу. Она еще в какой-то мере пользовалась благосклонностью Александра VI, и к ее мнению внимательно прислушивались. По всей видимости, Адриана сыграла свою роль в одной весьма деликатной проблеме. Когда папа решил постепенно, безболезненно прервать отношения с Джулией, Адриана помогла ему осуществить разрыв, избежав неприятных сцен и упреков. Однако вернемся к описанию свиты, сопровождавшей Лукрецию 1 января 1500 года. Орсино уже был упомянут, а вот Джулия – нет; в тот момент она, возможно, находилась в Бассанелло или в Каподимонте. В Риме Джулия появилась несколько позже, причем выглядела необыкновенно хорошо и оказалась в самом центре внимания. Несчастный Орсино понимал, что его нелепая супружеская жизнь подошла к финалу. Именно в тот год, когда жена вернулась к нему и он так надеялся, что сможет безраздельно наслаждаться ее обществом (а ведь он ждал этого так долго!), его внезапная смерть (во время сна на него обрушился потолок) свела на нет все мечты Орсино. Никто не сожалел о случившемся. В Риме так прокомментировали это событие: «Его жена получит возможность произвести замену».
Место Джулии осталось свободным; впредь фаворитки оставались у папы на заднем плане. В первый день нового столетия центральное место занимала Лукреция с любимым мужем и «служащими ей» вельможами, придворными, вплоть до последнего испанского рыцаря. Александр VI дожидался прибытия кавалькады в замок Сант-Анджело, которая, по свидетельству Бурхарда, привела если не «к славе и чести Святой Римской Церкви, то, по крайней мере, к его личному искуплению».
Положение, которое папа отвел дочери, лучше всего иллюстрируют подарки и послания, передаваемые из Ватикана во дворец Санта-Мария-ин-Портико. Лукреция была первой и самой желанной на всех приемах, балах, спектаклях и проповедях. Теперь она испытывала удовольствие от собравшихся вокруг нее (при ее собственном дворе!) людей – людей, которых она любила: священнослужителей, политиков (из ее арагонской партии), писателей и артистов, которые преувеличивали ее знания поэзии и прозы и на итальянском, и на латыни, как это было принято в период Ренессанса.
Мои соображения по поводу интеллектуальной жизни Лукреции в Риме основаны на выводах из имеющейся информации. Документальных материалов, безусловно, недостаточно, но все же не до такой степени, как считал Грегоровий. Если вдуматься, то нет ничего странного в отсутствии достаточного количества документальных фактов; точно неизвестно, сколько длился ее поспешный брак со Сфорца, где-то в период между 1497-м и 1498 годами она ушла в монастырь, а первые месяцы брака с Альфонсо были заняты беременностью и волнениями, связанными с бегством мужа. Лукреции трудно было найти время, чтобы собрать вокруг себя литературный круг. Она не могла быть достаточно образованной, но, находясь под влиянием классической литературы и современного гуманизма, перевела имеющиеся знания в романтическую плоскость. Лукреция вполне прилично знала латынь, по крайней мере, настолько, чтобы читать, готовить тексты собственных выступлений и понимать чужую речь. Кроме того, она немного знала греческий. Ее страстная любовь к поэзии носила чисто женский характер; поэзия воспринималась на эмоциональном уровне.
Женщины Ренессанса обожествляли Петрарку, увы, не за его лирические произведения, а за любовную лирику. Само собой разумеется, что у Лукреции был экземпляр «Canzoniere»; в каталоге личной библиотеки эта книга значится как написанная от руки на пергаментной бумаге, в переплете из красной кожи с медными застежками и нарядно оформленная. Лукреция любила Петрарку не потому, что это было модно; она чувствовала очарование плавного течения его стихов и, вероятно, его беспокойный, чувствительный дух. Это объясняет ее любовь к другим поэтам вроде Серафино Акуилано, подражателя Петрарки; Лукреция так никогда и не поняла разницы между ними. Изящные поэтические обороты и прозрачный язык поэзии вызывали отклик в сердце Лукреции.
Следует немного рассказать и о римском традиционалисте Евангелисте Маддалене Каподиферро, в поэтическом мире известном как Фаусто. Он был племянником того самого Лелио Каподиферро, который в период с 1494-го по 1497 год множество раз проделал путь из Рима в Пезаро, находясь в услужении у папы и его женщин. Евангелиста Маддалене Каподиферро странным образом воспевал свои отношения с папской семьей. В его стихах, хранящихся в рукописном виде в библиотеке Ватикана, только часть из которых была издана, мы находим весьма противоречивые чувства. За стихами, прославляющими Борджиа, в том числе и Лукрецию, следуют ядовитые эпиграммы в их же адрес. Дифирамбы Борджиа были написаны, чтобы их читали в Ватикане, а эпиграммы предназначались для чтения в других местах. Похоже, этот гуманист питал личную неприязнь к Александру VI; у него как-то поинтересовались относительно нескольких бенефиций, и он объяснил, что его поэтическая слава – достаточная награда за его работу. Ответ довольно-таки нелюбезный, если не принимать во внимание, что у Каподиферро были на то личные причины.
Частенько в произведениях о Лукреции тон Каподиферро становится мягче. Но одновременно мы находим, что ласковые нотки, сожаление в связи с потерей ребенка (выкидышем) в феврале 1499-го, которую он приписывает губительной ревности Венеры, чередуются с упоминаниями долгих ночей, посещаемых кровосмесительными призраками и туманными намеками на Мирру, Бублис и Пасифу, любивших Тельца.
Я не могу с уверенностью утверждать, что Лукреция общалась и с другими римскими гуманистами, однако позже, когда в литературных кругах обсуждались сравнительные достоинства Лукреции и других женщин, большая часть римских литераторов оказалась на ее стороне. Еще труднее установить ее связи с художниками, такими, как Микеланджело или даже Пинтуриккьо, любимым художником Борджиа. Вполне вероятно, что Пинтуриккьо делал наброски с Лукреции для серии фресок с изображениями ее и братьев в замке Сант-Анджело, которые, к сожалению, не сохранились до сегодняшних дней. Я далеко не уверена в этом, но, согласно преданию, которого придерживаются многие историки, знаменитая святая Катерина Disputa Пинтуриккьо, находящаяся в комнате ангелов в апартаментах Борджиа, есть идеализированный портрет Лукреции, имеющий реальное сходство с оригиналом. Однако следует заметить, что очаровательное лицо святой Катерины в обрамлении золотых волос имеет общие черты и с другими женщинами, изображенными Пинтуриккьо. Более того, большинство искусствоведов отказываются признать, что в XV веке художник мог позволить себе идеализировать модель. Тем не менее есть что-то в этой фигуре, вызывающее в памяти немедленную ассоциацию с Лукрецией. Когда мы сравниваем этот портрет с изображениями Лукреции на медалях и с рисунками Комо и Нимеса, датированными более поздними числами, мы не можем не заметить определенного сходства. Став старше, она несколько располнела, но виден тот же правильный овал лица со срезанным подбородком, те же нежные губы, тот же открытый взгляд. Действительно, в медальоне, названном Аморино Вендато, можно заметить, что так же убраны и уложены волосы. Стройная молодая фигура, спокойствие, кажущееся слегка напряженным в окружении людей, находящихся в естественных позах, характерны для ребенка, рано повзрослевшего и одетого в тщательно продуманный взрослый наряд; красное бархатное платье с голубой накидкой кажутся неподходящими для ее нежного возраста. Одним словом, если это и не прижизненный портрет Лукреции, то, безусловно, аллегория, как и в случае с фреской, на которой изображен император Максимилиан, напоминающий Чезаре, и не только из-за сходства изображенного профиля с профилем Чезаре из собрания Юпитера, откуда почерпнуты наши знания о характерных особенностях его лица, но и потому, что он лишь слегка опирается плечами на спинку трона, готовый вскочить в любую минуту. Вероятно, перед мысленным взором Пинтуриккьо вставали образы красивых детей папы, и когда он писал картины, то бессознательно воплощал эти модели в красочные изображения. А может, он намеренно рисовал по памяти, чтобы польстить своему покровителю папе, любовь которого к семье была общеизвестна. И последнее: те, кто обнаружил сходство молодого человека в восточных одеждах на лошади с герцогом Гандийским, оказались абсолютно правы. Однако Лионелло Вентури нашел эскиз к этому портрету и убежден, что это фигура турецкого принца Джема, который, как помнит читаталь, содержался заложником в Ватикане.
Я в равной степени не имею достаточных документальных свидетельств в отношении музыкантов, посещавших дворец Лукреции в Риме и повлиявших на формирование ее музыкальной культуры, разбудивших в ней страсть к музыке, унаследованную от Александра VI, которая позже проявилась в Ферраре. В Ватикане Лукреция слушала замечательные композиции Флеминга Жоскена де Пре, находившегося при папском дворе до 1494 года. Он руководил всеми вопросами, связанными с музыкальным оформлением церемоний и празднеств, в отношении духовной и светской музыки и, следует признать, за весьма незначительное вознаграждение. Он глубоко страдал от необходимости одеваться скромно при дворе, где золото считалось обычной деталью туалета.
Подобно людям королевского происхождения времен Ренессанса, Лукреция имела склонность к искусству риторики, а тот факт, что она была испанкой, давал дополнительные основания развивать это качество. При дворе отца она получила возможность слушать таких известных ораторов и гуманистов, как Марсо, Сабеллико, проповедников Фра Мариано да Дженаццано, Фра Еджидио из Витербо и знаменитых слепых братьев Аурелио и Рафа-эло, принадлежавших к аристократическому флорентийскому семейству Брандолини и объединившихся с монахами-августинцами. Одним из завсегдатаев, посещавшим семейство Бисельи, был Винченцо Кальмета, друг Акуилано, который в первую очередь был придворным, выдающимся интриганом и только во вторую очередь артистом, что он доказал, будучи при дворе Людовико в Милане, а затем в Риме и Урбино. Биографы Борджиа пропустили одного поэта, а именно Бернардо Акколти, который оставил нам документальное подтверждение – стихотворение, повествующее о частной жизни Лукреции в Риме. Бернардо Акколти, родом из Ареццо, известный под именем Уникум из Ареццо, или просто Уникум, был более чем посредственным поэтом, а вот способность к импровизации принесла ему славу не только при дворах, но и среди простых людей. Наморщив лоб, сдвинув брови и придав лицу сосредоточенное выражение, Бернардо читал свои стихи, и толпы римлян, настолько огромные, что приходилось закрывать магазины, сбегались, чтобы послушать его импровизации. Он не страдал от излишней скромности и стал так гордиться собственной популярностью, что отвел себе третье место среди поэтов, после Данте и Петрарки.
Мало того что он отличался наглостью и беззастенчивостью, так он еще упорно карабкался вверх. Этот обладающий актерскими способностями осмотрительный тосканец заботился о том, чтобы только яркие и влиятельные женщины служили источником его вдохновения, затем влюблялся в них, конечно платонически, и, заимствуя мотивы для своей модели у Петрарки, создавал у них иллюзию, что в жизни они исполняют роль прекрасной Лауры. Он играл роль отвергнутого любовника: мучился от боли, обливался слезами, хватался за любую соломинку, а затем изображал все эти переживания в своих стихах. Читать его поэзию – все равно что осквернять «Canzoniere» Петрарки! У него было весьма и весьма выгодное занятие. Придворные дамы расплачивались подарками и оказывали всяческое покровительство за его способность рассмешить их. Акколти защищал полученные блага самым жестоким образом, что доказывает следующий случай. Когда враги напали на него в его собственном доме, он защищался с такой дьявольской силой, что ранил сотню человек. Этот литературный пират провел 1499 – и и 1500 год в Риме и видел Лукрецию столь часто и был осведомлен о таких интимных отношениях, что вполне мог написать, что ухаживал за ней (естественно, подразумевались галантное ухаживание и платоническая любовь). Как-то, увидев ее (вероятно, на приеме в Ватикане) между послами двух враждующих государств, Франции и Испании, Акколти сочинил сонет. Лукреция, должно быть, отнеслась к нему весьма благосклонно, поскольку всегда мечтала о достижении мирных договоренностей и желательно при ее содействии. Это небольшое стихотворение цитировал Витторио Чиан. Рукопись стихотворения хранится в Национальной библиотеки Флоренции, но, возможно, вследствие небрежности переписчика некоторые слова трудно разобрать. Однако посвящение говорит само за себя, и две первые строфы звучат следующим образом:
Мессир Бернардо Акколти послам Франции и Испании, между которыми находится дочь папы Александра VI, за которой ухаживал поэт: Regi invicti e accorti, or chiaro parmi ch'a tutta Italia dominar volete, poi che quella che in mezzo a voi tenete vince со' gli occhi piu che noi con I'armi. La spesa e la fatica or si risparmi di macchine fatal che conducete, che, dove volge lei sue luci liete, rompera 'I ciel non che ripari e marmi. Непобежденные, умные короли, Теперь мне представляется ясным, Что вы желаете завладеть всей Италией. Но та, которая находится между вами, Способна сделать гораздо больше своими глазами, Чем вы своими руками. Давайте избежим расходов на смертоносные машины, Ведь там, куда она бросит свой веселый взгляд, Рухнут не только неприступные крепости, но и сами небеса.Его любовь к Лукреции была темой бесед римских гуманистов и стала одной из тех историй о литераторах, в которой каждый понимал суть сделанных намеков. Евангелиста Каподиферро строго придерживался традиционных норм академической школы при написании любовной поэмы о Лукреции, в которой он подражал языку и страстям Уникума. Свою работу, озаглавленную «De Lucrezia Borgia Alexandri Pont. Max. F. loquitur Unicus», Каподиферро начал с таких слов: «Давным-давно родилась Лукреция, более целомудренная, чем античная Лукреция; она не является человеческой дочерью, а рождена самим Юпитером». Как известно, гуманисты под Юпитером подразумевали папу, и тогда становится ясно, что поэт прославляет отцовство. Многим может показаться не только странным, но и неприятным, что Лукреция предстает в облике самой целомудренной из женщин, а ведь к девятнадцати годам у нее было уже довольно бурное прошлое. Однако такая форма восхваления, вероятно, не устроила Лукрецию, хотя и не может быть названа грубой или унизительной. Лукреция была легко возбудимой, крайне нервной особой, но никогда не поддавалась капризам, как Санча Арагонская. Она довольствовалась мужьями. Во время брака с Альфонсо де Бисельи, который был так же добр и мягок, как идиллический пастушок, Лукреция, конечно, почувствовала, что ей улыбнулась судьба. Если за кулисами бьющего точно в цель представления таилась неясная угроза, высказывалось предположение, что появился граф де Пезаро, ей хотелось закрыть глаза.
После битвы Милан опять перешел к французам, что предвещало обернуться серьезной бедой для Сфорца. Людовико Моро, изменив внешность, попытался скрыться, но был пойман и отправлен в замок Лохес в Турин, где скончался от неизвестной болезни в 1508 году. Асканио, некогда вице-папа, был тоже схвачен и препровожден в тюрьму в Бурже, откуда он вышел только после смерти Александра VI. Теперь, когда удача отвернулась от семейства Сфорца, Борджиа более чем когда-либо стали зависеть от Франции. Ни для кого не являлось секретом, что французы готовили наступление на юг, собираясь завоевать Неаполь.
Эти новости, должно быть, повергали Лукрецию в полное отчаяние. Одно событие, которое притупило бдительность Лукреции, но зато дало возможность Чезаре решительнее, чем когда-либо, освободиться от всех обязательств, кроме тех, что были связаны с Францией, на которую он возлагал все надежды, ускорило ход истории.
Как вам известно, 1500 год был юбилейным. Многочисленные паломники заполнили Рим. Среди них находился тот, кто стал причиной серьезного раскола западной церкви, – Мартин Лютер. Папа не скупится на приемы и церемонии, и, хотя крепкий организм не оградил его от удара (в начале июня у Александра VI случился приступ), он с обычным оптимизмом участвует во всех мероприятиях, и уже в день святого Петра, 29 июня, абсолютно здоров и ожидает прибытия детей в папском зале. В радостном ожидании проходит полдня, и Александр занимает свое место на троне под балдахином. Рядом находятся двое, епископ из Капуи и камергер по имени Гаспарре, возможно, преемник несчастного Перотто. Неожиданно налетает сильный ветер с дождем и градом – настоящая летняя гроза. Епископ и камергер бросаются к окнам, и, пока они борются с ветром, за их спинами раздается ужасный грохот. Повернувшись, они видят огромное облако пыли и груду кирпичей, которые, казалось, поглотили понтифика и трон.
Дворец был охвачен волнением. Поднялся крик: «Папа умер, папа умер!» – и мгновенно по городу распространился слух, вызвавший лязг оружия. Люди поспешно запирались в домах, и усиленные патрули охраняли запертые ворота Ватикана. Между тем прислуга и домочадцы пытались вытащить папу из-под обломков. Как выяснилось, причиной катастрофы послужил удар молнии, который пришелся в ту часть апартаментов, которую обычно занимал Чезаре. По счастливой случайности Чезаре отсутствовал на тот момент, когда три этажа оказались погребенными под грудой щебня. Люди работали в полной тишине, и только время от времени, когда кто-нибудь звал: «Святой отец», все напряженно прислушивались в ожидании отклика. Ответом была мертвая тишина. Наконец показался трон и край плаща понтифика. «Святой отец!» – хором крикнули собравшиеся и поняли, что уже никогда не услышат голоса Борджиа. Они принялись яростно разгребать штукатурку и в конце концов обнаружили папу на троне, без сознания, но совершенно целого, если не считать незначительных порезов на лице и руках. Папу уложили в кровать. Его стало лихорадить, поднялся жар, появилась опасность заражения. Кроме Лукреции, которая не отходила от постели отца, ухаживая за ним, понтифик хотел видеть только Чезаре и преданного кардинала из Капуи.
К концу недели папа уже забыл все страхи, отбросил мысли о пророчествах Всевышнего и принялся обсуждать и планировать будущее. Полностью придя в себя, он пригласил венецианского посла. Во-первых, чтобы он лично удостоверился, что папа по-прежнему полон жизни и чтобы заручиться для Чезаре поддержкой республики. Венецианцы внимательно и весьма настороженно наблюдали за событиями в Романье и, очевидно, обсуждали вопрос отправки своих войск в качестве подкрепления в Фаэнцу и Пезаро. Вне всякого сомнения, именно Чезаре подсказал Александру устроить эту встречу, чтобы с помощью уговоров и всяческих уверений в преданности и дружбе попытаться сблизиться с послом, сдержанным и не допускавшим фамильярности человеком. Но, несмотря на всю его хитрость, Чезаре получил отпор. Когда посол попрощался с обществом, в котором, кроме папы, были Лукреция, Санча (ныне прощенная и вернувшая благосклонность), Джофре и прелестная молодая девушка, занявшая вместо Джулии Фарнезе место фаворитки, Чезаре пошел проводить его через папские апартаменты и, взяв за руку для придания доверительности и конфиденциальности, прошептал: «Посол, теперь я осознаю опасность, которой подвергаюсь. Я больше не хочу зависеть от судьбы и желаний папы. Я решил передать все под защиту Венеции». Венецианец ответил, что это прекрасная идея поместить свое состояние под защиту республики, но – доверие за доверие – «без папы вы не продержитесь и четырех дней». Пусть жестокая, но очевидная реальность.
После опыта с венецианцами, от которых в лучшем случае можно было бы ожидать, что они займут нейтральную позицию, взор Чезаре неминуемо обращался на север. Если все же он остановится на Франции, то следует разорвать все нити, связывающие его с Неаполем и Испанией, чтобы у французов не появилось и тени недоверия. Его тревога росла день ото дня. Кроме того, постоянные встречи с Альфонсо, неизменно благожелательным и красивым молодым человеком, обостряли зависть Чезаре и усиливали враждебность к династии Арагонов. В конечном счете Чезаре проникся такой ненавистью, которая не поддается никакому определению; случается, что любящие братья могут страстно возненавидеть мужей своих сестер. То, что поначалу было просто замыслом, постепенно в мозгу Чезаре стало обретать конкретные формы и, следуя его логике, перешло из области необходимого в область неотложного. Александр VI еще не пришел в себя окончательно, чтобы встать у кормила власти, а Альфонсо был уже обречен.
Лукреция всячески содействовала выздоровлению папы и способствовала усилению домашней тирании не без помощи Санчи, испытывавшей сильнейшее беспокойство относительно положения Арагонов; этот период был наполнен волнениями и обсуждениями дворцовых и государственных дел. Вечер 15 июля 1500 года ничем особо не выделялся в череде обычных дней. Альфонсо де Би-сельи отправился навестить жену и сестру, остался на обед с тестем и закончил летний день в кругу семьи. С наступлением темноты Альфонсо пожелал всем доброй ночи и вместе с камергером Томазо Альбанезе и оруженосцем вышел из Ватикана через дверь под лоджией Благодарения. Они неторопливо отправились к дворцу Санта-Мария-ин-Портико и не испытали особого волнения, увидев замотанные фигуры, лежащие на ступенях собора Святого Петра, напоминающие нищих или паломников. Такие сцены в юбилейном году можно было наблюдать ежедневно, поскольку со всей Европы христиане устремились в Рим вымаливать прощение, и многие то ли из-за данных обетов, то ли по бедности спали у дверей собора Святого Петра.
Но едва герцог де Бисельи ступил под аркаду, как по команде, произнесенной свистящим шепотом, спящие мгновенно вскочили на ноги, окружили герцога и его спутников, преградив путь и не давая возможности скрыться, и бросились на Альфонсо с поднятыми мечами. Герцог, храбрый и хорошо тренированный, пытаясь защититься, молниеносно выхватил меч; он отлично владел техникой неаполитанской школы фехтования. Разъяренные противники скрещивают мечи. В течение нескольких секунд, кажущихся такими долгими, слышен только лязг оружия и тяжелое дыхание. Герцог скидывает плащ и элегантный, расшитый золотом камзол; его рубашка изорвана, а из ран начинает сочиться кровь. В конце концов молодой герцог падает, тяжело раненный в голову, плечо и бедро. Злоумышленники бросаются к нему и пытаются подтащить к лошадям, стоящим невдалеке и нетерпеливо бьющих копытами. Возможно, они собирались сбросить Альфонсо в Тибр, повторив трагедию герцога Гандийского. Но они не приняли в расчет двух спутников герцога. Пока один из них тащил истекающего кровью хозяина в направлении дворца Санта-Мария-ин-Портико, а затем, разглядев там подозрительные тени, двинулся к Ватикану, другой прикрывал отступление «подобно рыцарю», сражаясь с яростью и отчаянной решимостью. Всего лишь мучительные мгновения слышались лязг мечей, крики, стоны и призывы о помощи. Наконец открылись ворота Ватикана, и, стоило только послышаться скрипу больших ворот, наемники пустились наутек. Вышедшая из ворот папская стража услышала только топот удаляющихся лошадей.
Согласно свидетельствам летописцев, стражники на руках переносят Альфонсо Арагонского в Ватикан и появляются со своей истекающей кровью ношей на пороге комнаты, где Лукреция все еще продолжает беседу с отцом и Санчей. Альфонсо, еле живой, все-таки находит силы, чтобы сказать о случившемся. «Он сказал, что ранен, и сказал кем», – пишет Санудо. Лукреция теряет сознание. Однако, придя в себя, она понимает, что есть такие моменты в жизни каждого человека, когда постыдно всякое проявление слабости. Альфонсо, потерявший много крови, находится в бессознательном состоянии, и его нельзя переносить из Ватикана. Охваченный ужасом папа выделяет Лукреции комнату в своих апартаментах, приставляет к ней шестнадцать надежных гвардейцев охраны. Ни минуты не колеблясь, Александр VI дает разрешение пригласить неаполитанского посла, докторов короля Фредерико и хирургов из Неаполя. Вместе с Санчей Лукреция, дрожащая словно в лихорадке, начинает продумывать наилучшие способы защиты. Вероятно, она уже предчувствовала наступление еще более страшных дней.
На следующее утро в Риме царит беспорядок. С первыми лучами солнца слуга придворного поэта Винченцо Кальметы прокрался на площадь Святого Петра и подобрал улики, оставленные после дуэли: порванный плащ Альбанезе и расшитый золотом камзол Альфонсо. Он, должно быть, сильно переволновался, крадучись вдоль стен: ранний час, опасность, запачканная кровью одежда. Альбанезе, чтобы оправиться от ран, нашел прибежище у Винченцо Кальметы.
То, что Альбанезе выбрал дом поэта в качестве убежища, имеет важное значение по двум причинам. Во-первых, это говорит об отношениях, существовавших между домочадцами Бисельи и Кальметы; последний не взял бы на себя такую серьезную ответственность, даже если бы был личным другом Альбанезе, ни из-за дружеского расположения к Лукреции, ни из-за награды. Во – вторых, это доказывает, что Альбанезе не был уверен, что ему удастся выздороветь, находясь в собственном доме, а тем более во дворце Санта-Мария-ин-Портико. И там и там он был бы в пределах досягаемости людей, подготовивших засаду, которые могли разрушить его планы. Альбанезе абсолютно точно знал, «кто» нанес удар, поскольку успел заметить его, а значит, его жизни угрожала опасность. В доме Кальметы до него было трудно дотянуться, поскольку поэт был другом принцесс, их мужей и многих итальянских литераторов, которые, стоит только вторгнуться в дом поэта, тут же развяжут языки и примутся сочинять эпиграммы. А разве не так же действуют современные средства информации? Благодаря огромному количеству высокопоставленных знакомых поэт обладал иммунитетом. В письме к графу Урбинскому он описал это преступление, подчеркнув, что «все полагают, что причиной этого послужил герцог Валентинуа», и, хотя он не указывает источник информации, можно предположить, что об этом ему рассказал Альбанезе, основной свидетель трагедии.
Кое-кто из послов высказывался откровеннее других, но все так или иначе сходились на одном. Франческо Капелло осторожно сообщил: «Весь Рим гудит о том, что происходит между ними [Борджиа], поскольку дворец переполняют такая ненависть, прошлая и настоящая, такая зависть и ревность в связи с государственными и другими вопросами, что подобные скандальные происшествия должны происходить часто». Санудо: «Неизвестно, кто совершил убийство, но, говорят, оно совершено тем же, кто убил герцога Гандийского». Неаполитанский очевидец Нотаи Джиакомо сообщает 15 июля о новостях и добавляет, что «Валентинуа сделал это из зависти». Катанеи говорит весьма завуалированно, но, тем не менее, совершенно определенно: «Автор [преступления], вне всякого сомнения, человек, обладающий большей властью, чем он [Альфонсо], хотя он [Альфонсо] – герцог, племянник ныне здравствующего короля, сын умершего короля и зять папы». Намек очевиден.
Тем временем Альфонсо де Бисельи переносят в башню Борджиа и укладывают в комнате, украшенной фресками Пинтуриккьо. Папа, «перенесший огромные страдания в связи с ранением дона Альфонсо», торопится пригласить посла неаполитанского короля, чтобы тот присутствовал при осмотре ран. Лукреция, бледная, но решительная, вместе с Санчей безотлучно находится у постели мужа. Женщины спят на импровизированных кроватях в нескольких футах от раненого Альфонсо. Все заботы о нем они взяли на себя, собственноручно готовят для него еду, чтобы «она не оказалась отравленной». Охрана апартаментов состояла из шестнадцати папских гвардейцев и надежных слуг Бисельи, в том числе и маленького горбуна, которого очень любил Альфонсо. Вскоре к Лукреции и Санче присоединились два известных неаполитанских врача, присланных королем Фредерико, – мессир Галеано да Анна, хирург, и мессир Клементе Гектула, терапевт. В это же время, если не раньше, там появился Джованни Мария Гасулло, брат мадонны Тусиа и дядя герцога. Так уж было суждено, что он прибыл в Рим к трагической развязке.
В течение этого лета жизнь в Ватикане можно охарактеризовать как сплошной кошмар. И хотя докторам удалось довольно скоро поставить Альфонсо на ноги, ни у кого не оставалось иллюзий относительно участи молодого герцога. «Сами по себе раны были не смертельны, если бы к ним не добавилось еще кое-что», – замечает Кальмета. Чезаре навещает шурина и, склонившись к нему, шепчет: «То, что не удалось за обедом, будет сделано за ужином». Даже если он и не говорил именно этих слов, то они могли быть ему приписаны, особенно после того, когда папа отказался от Альфонсо. В разговоре с Александром VI венецианский посол упоминает об этих словах. Папа подробно объясняет, почему он уверен в невиновности Чезаре, но после того, как посол загоняет его в угол с помощью неопровержимых доказательств, Александр резко меняет позицию и заявляет, что, если Чезаре нанес удар, значит, Альфонсо этого заслужил. Неизвестно, что крылось за этими словами. Один, вдали от дома, Альфонсо вряд ли мог рассчитывать на снисхождение, тем более что ежедневно убеждался в проводимой политике, направленной на уничтожение арагонской династии. Короче, папа дал однозначно понять, что верит объяснениям Чезаре. Дело Альфонсо начинает его утомлять, и это не та проблема, чтобы отнимать у него столько времени. Лукреция, находясь в башне Борджиа, похоже, испытывала дурные предчувствия. Она договорилась с королем Фредерико об отправке Альфонсо в Неаполь, как только он будет в состоянии совершить такое путешествие, и, вероятно, решала, то ли сопровождать мужа, то ли позже присоединиться к нему в Неаполе. Состояние Альфонсо значительно улучшилось, и он мог уже передвигаться по комнате и подходить к окнам, из которых открывался вид на ватиканские сады. Возможно, стоя у окна, он планировал будущую жизнь в Неаполе и в своем поместье в Апулии, а может, вспоминал Бисельи. Жизненные силы герцога и любовь Лукреции, бывшей его единственной защитой, способствовали быстрому выздоровлению. Но вряд ли стоит его винить в том, что одновременно с возвращением сил в нем росла ненависть к своему гонителю. Существует история, возможно выдуманная Чезаре, что однажды, когда Альфонсо увидел шурина, идущего по саду, то прицелился в него из арбалета. Ненависть маленькой группы Арагонов должна была найти выход хотя бы в словах, если не в делах. Какую позицию заняли Лукреция и Санча, когда выяснили, что должны признать виновным человека, который одной из них приходился братом, а другой – любовником? Но мы можем легко отбросить проблему женской психологии, поскольку не из-за нее они совершили ошибку. Их ошибка состояла в том, что они оставили Альфонсо одного 18 августа 1500 года.
Флорентийский посол сообщил, что в этот день «жены и сестры [Альфонсо] не было в комнате, поскольку они, увидев, что ему стало намного лучше, пошли навестить кое-кого из женщин». Венецианский посол пишет совершенно иное. Согласно его свидетельству, Валентинуа вошел в комнату Альфонсо и заставил женщин уйти, поскольку хотел остаться наедине с шурином. Из двух представленных свидетельств последнее кажется более вероятным; трудно предположить, что Лукреция и Санча были готовы оставить Альфонсо одного ради какого-то непонятного визита. Но и венецианская версия не слишком убедительна, поскольку Чезаре не являлся главным действующим лицом в этой драме; он использовал в своих целях дона Микелетто Кореллу. Кроме того, если Чезаре хотел использовать силу для решения этого вопроса, почему же он дожидался выздоровления Чезаре? Ведь было бы куда проще избавиться от герцога в первые же дни после неудачного нападения. Чезаре мог выжидать все это время, поскольку настраивал отца против Альфонсо и династии Арагонов, объясняя это политическими причинами, и тем самым добиться того, чтобы папа с безразличием отнесся к тому, что должно было произойти. Кроме того, следовало восстановить доверие Лукреции, чтобы несколько ослабить ее бдительность. Однако есть нечто общее между версиями флорентийца и венецианца, подтвержденное впоследствии хорошо информированным, педантичным человеком.
Речь идет об известном слепом проповеднике и гуманисте из Флоренции Рафаэло Брандолини, который, как мы уже знаем, был наставником Альфонсо де Бисельи. Теперь Брандолини не только пользовался доверием и авторитетом у молодого герцога, но и поддерживал связи с арагонской партией и был в курсе всех дел. Его версия случившегося, изложенная в письме, отправленном из Рима во Флоренцию, совпадает в целом с первыми двумя и, кроме того, дополняет и объясняет их.
В полдень 18 августа герцог де Бисельи находился в комнате с маленьким горбуном и несколькими слугами, когда туда по приказу Чезаре ворвались несколько вооруженных мужчин во главе с Микелетто Кореллой, чтобы арестовать всех присутствующих. Они должны были, согласно обвинению, ответить за готовящийся вместе с Колонна заговор против Борджиа. Все сторонники герцога были схвачены и брошены в темницу, включая терапевта, мессира Клементе, и хирурга, мессира Галеано. Операция была проведена настолько неожиданно и такими недозволенными методами, что, когда Лукреция и Санча бросились к месту действия, было уже поздно. Придя в себя, они потребовали объяснения случившего; «muliebriter objurgant», говорит Брандолини, и его восхитительная латынь дает прекрасное представление об их возмущении. Их поразил ответ дона Микелетто, который прямо заявил, что не вдавался в детали, а просто сделал то, что ему приказали. Его неуверенный, извиняющийся тон вселил надежду в женщин, и они, решив, что смогут овладеть ситуацией, принялись с новой силой требовать объяснений. При виде такой настойчивости дон Микелетто вообще потерял уверенность. В конце концов ему пришло в голову дать им совет. Почему бы им не пойти к папе и не попросить освободить пленников до того, как их бросят в темницу?
Предложение показалось вполне приемлемым в сложившейся ситуации и было сделано экспромтом, вряд ли можно было заподозрить Микелетто в обмане. Как же могли Санча и Лукреция, хорошо зная Чезаре и постоянно находясь начеку, попасться в ловушку? Как они могли не продумать такой момент, что для безопасности Альфонсо кто-то один всегда должен оставаться в комнате?
Конечно, следует помнить, что к этому моменту женщины уже не жили в состоянии постоянного кошмара и чувствовали определенную защищенность, основанную на заверениях папы и лицемерном поведении Чезаре. Несмотря ни на что, Лукреция все же старалась хорошо думать о брате. Она любила его, даже зная, что мужская ненависть требует крови. Возможно, она считала, что, поскольку собственной рукой восстановила то, что Чезаре пытался разрушить, все еще можно переиграть. Более того, предполагаемый отъезд Альфонсо в Неаполь был равносилен признанию в том, что арагонская династия отказывается от мысли продолжать борьбу с помощью молодого герцога и супружеская пара де Бисельи собирается впредь вести уединенный образ жизни. Чезаре получал Ватикан, поскольку отъезд являлся молчаливым согласием, а Альфонсо – жизнь. Объяснения вполне достаточные не только для Лукреции, но и для Санчи, тем более что Санча всегда действовала под влиянием момента независимо от того, верила она в то, что делает, или нет. Одним словом, она была натурой страстной, извечным нарушителем спокойствия. Но вернемся к нашему повествованию. Две эти женщины (здесь нет никаких расхождений с мнением флорентийца, который сообщает, что они добровольно покинули комнату, и с версией венецианца, который говорит, что их насильно выставили наружу) находят приемлемым совет дона Микелетто и, объяснив, что вернутся через минуту, бегут к папе. Но как только дверь за ними закрывается, дон Микелетто тут же бросается к алькову, где лежит Альфонсо. Согласно записи флорентийца, Альфонсо, еще недостаточно окрепший, встает на ноги, и, похоже, это резкое телодвижение являлось отчаянной попыткой противостоять жестокой смерти, уготованной ему. Затем он падает, подняв руки и моля о пощаде. Палач неумолим, и в мгновение ока все заканчивается.
Вернувшись из апартаментов понтифика и обнаружив, что дверь в комнату Бисельи охраняют вооруженные люди, Лукреция и Санча сразу догадались, что Альфонсо мертв. Дон Микелетто принялся объяснять, что от случайного падения началось сильное кровотечение, вызвавшее смерть, но женщин не проведешь, и они почувствовали, что стали жертвами страшного предательства. Скоро дворец заполнили рыдания, призывы к Альфонсо, причитания. Несмотря на горе несчастных женщин, я очень сомневаюсь, что им позволили увидеть тело убитого герцога и, уж конечно, не разрешили присутствовать на скромных похоронах вечером 18 августа. При свете двадцати факелов герцога де Бисельи, сопровождаемого небольшой группой монахов, шепчущих молитвы, и архиепископом Козенца Франческо Борджиа, перенесли к месту погребения в Санта Мария-делла-Феббри, маленькую церковь рядом с собором Святого Петра; сейчас на этом месте находится базилика. Тщетны блеск и суета этого мира, только духовные слова несут сострадание, надежду и обещание справедливости.
«Папа не в духе, поскольку по вине обстоятельств король Неаполя и его собственная дочь пребывают в отчаянии», – написал Катанеи, и его мнение подтверждают остальные наблюдатели, находившиеся в пределах досягаемости отраженного горя Лукреции. Ей предстояло не только выдержать горе, но и вытерпеть насмешки. Спустя два дня после смерти Альфонсо Валентинуа с сотней копьеносцев навестил Лукрецию, чтобы все поняли: он нуждается в защите против заговоров, замышлявшихся за стенами дома Бисельи. Сторонники Чезаре распространяли слухи, подкрепленные доказательствами предполагаемых заговоров, но они были быстро опровергнуты. Слуги Альфонсо все еще незаконно удерживались в замке Сант-Анджело, и Валентинуа объявил о своем намерении провести расследование и разослать полученные выводы во все королевские дворы Италии и прежде всего в синьорию Венеции, поскольку каждый должен понимать натуру врага, с которым он борется. Санудо пишет, что эти сообщения не произвели желаемого впечатления и выводы «никогда и никуда не поступали»; и так понятно, что они никогда не могли быть сделаны.
Лукреция осталась наедине со своим горем. Ее слезы в скором времени стали действовать на нервы понтифику, поскольку ему было совершенно непонятно, почему двадцатилетняя женщина, у которой еще все в будущем, должна так страдать. Поло Капелло, венецианский посол, чьей информации я особенно доверяю, пишет: «Раньше мадонна Лукреция, дочь папы, отличавшаяся здравым смыслом, пользовалась благосклонностью, но теперь папане слишком любит ее». Лукреция упорно оплакивала молодого мужа, поскольку не только понимала смысл утраты, но, вероятно, чувствовала раскаяние, что сыграла роль злого гения в жизни Альфонсо. Чего папа просто был не в состоянии понять, так это подлинности ее горя. Слезы Лукреции, своеобразная форма протеста, привели к потери папской милости, причем сделано это было преднамеренно. Она не желала успокаиваться. Пришло время, когда она больше не могла находиться в своих комнатах в Ватикане, а вид могильный плиты Альфонсо приводил ее в невменяемое состояние. Лукреция обратилась с просьбой и получила разрешение уехать в Непи, куда и отбыла 30 августа в сопровождении шестисот всадников. Миновав Кассиу и Америну, 31 августа она увидела древние стены Этрурии.
При виде Непи у Лукреции сами собой потекли слезы, но ради маленького Родриго она заставила себя улыбаться. Ей казалось, что жизни пришел конец и для нее закрыты все двери в будущее. Но в Риме уже вынашивали планы следующего замужества Лукреции.
Разгромив Сфорца и вновь завоевав Миланское герцогство, король Франции вспомнил о соглашении с Валентинуа и отправил в Романью усиленное подразделение французской армии. Одновременно с этим в Риме Валентинуа с Ватиканом, который находился всецело в его распоряжении и где никто не посягал на его авторитет, готовился к соединению с французскими полками. Чеза-ре имел хорошо оплачиваемую, прекрасно экипированную десятитысячную армию. Высококлассные командующие из аристократических домов Италии, такие, как Орсини и Савелли из Рима и Баглиони из Перуджи, числились в ведомости на денежное содержание, причем общий фонд вырос за счет средств, выделенных новыми кардиналами в сентябре 1500 года. Сразу же после назначения кардиналов Чезаре пригласил их на прием, устроенный в помещениях, расположенных над апартаментами Борджиа, туда, где несколькими годами позже Рафаэль написал свои «Диспут» и «Афинская школа». Престиж Чезаре возрос. Еще бы, ведь он смог собрать у себя за столом столько кардиналов! И он увеличился еще больше. Ещедо отъезда Чезаре из Рима к папе из Чезены прибыло посольство с просьбой передать власть над городом герцогу Валентинуа, который, по их мнению, хорошо известен своими либеральными взглядами, мудростью и является одним из наиболее выдающихся военачальников в мире (все это «чепуха» и «вздор», по мнению Катанеи). Чезена сдалась сама; войска Чезаре и союзников двинулись на Пезаро, где первый муж Лукреции пребывал в состоянии хронического возбуждения.
Смерть Альфонсо де Бисельи принесла Джованни Сфорца некое горькое удовлетворение; ведь ему-то удалось избежать подобной участи. Джованни было непросто утешиться после неудачного приключения с Лукрецией, и уже в 1499 году венецианский информатор написал, что «тиран Пезаро плохо переносит разлуку с женой». Влиятельные миланские родственники, которых Джованни всегда считал непобедимыми, оказались разгромлены, и он пришел в ужас, когда стало ясно, что близок его собственный конец. С началом наступления Валентинуа Джованни разослал призывы всем влиятельным лицам, но это была пустая трата времени. Все, что он смог сделать, когда враг был уже на подступах к Пезаро, так это спрятаться у брата первой жены, Франческо Гонзага, в Мантуе. Там Джованни обнаружил небольшую группу известных эмигрантов, среди которых была Лукреция Кривелли, очаровательная экс-возлюбленная Людовико Моро; здесь находился и Гулиельмо Каэтани, герцог де Сермонета, которого Борджиа лишил состояния. Джованни Сфорца оказался уместным дополнением в этой компании, и можно представить, с каким удовольствием общество Мантуи, возглавляемое великолепной маркизой Изабеллой д'Эсте, упражнялось в ядовитой критике семейства Борджиа.
Армия Валентинуа стремительно надвигалась, и люди в Мантуе пытались догадаться, в каком направлении двинется армия. Завоеватель с помощью французского короля и при поддержке папы стремился развалить старые синьории, стойкие, непоколебимые династии, и его следующей жертвой вполне могли оказаться Флоренция, Болонья, Сиена или даже Феррара или Мантуя. Ходили слухи, что папа любил вспоминать о сделанном цыганкой пророчестве, что будет у него сын, который станет королем Италии. Поэтому можно себе представить, с какой радостью воспринял Александр VI сообщение, что Валентинуа встретил достойного соперника под стенами Фаэнцы. Обороной Фаэнцы руководил Асторре Манфреди, красивый восемнадцатилетний юноша, обладавший невероятной вежливостью и обходительностью, можно сказать, ангельскими манерами. С помощью любящих его подданных Асторре месяц за месяцем удерживал город. Вся Италия восхищалась (увы, дальше восторгов дело не шло) геройством этого молодого синьора. Ему удалось уберечь свой город от разорения ценой заключения соглашения с Чезаре, передав себя и своего кузена в качестве заложников герцогу Валентинуа. Он не мог и предположить, чем обернется для него этот благородный жест; ценой заточения, унижения достоинства и смерти молодой синьор спасет своих сограждан.
После взятия Фаэнцы все выглядело так, словно Чезаре собирается двинуться на Болонью. Прошел слух, что король Франции попросил у папы разрешения овладеть этой областью, чтобы передать ее под власть Валентинуа. Семейство Бентивольо, тираны Болоньи, стремясь отвести приближающуюся опасность, предложили Чезаре замок Болоньезе вместе со значительным годовым доходом и для оказания помощи в войне пятьсот полностью экипированных солдат. Флоренция последовала примеру Болоньи и тоже была оставлена в покое, а армия-завоеватель широким фронтом двинулась на Пьомбино и с невероятной скоростью, вызывавшей в памяти войны Юлия Цезаря, захватывала города, замки и территории.
Многонациональная армия Валентинуа отличалась суровой дисциплиной. Жители захваченных городов – купцы, священники, музыканты, литераторы и женщины – помогали утомленным воинам восстановить силы. И над всей толпой современников возвышалась гениальная личность эпохи Возрождения, самый смелый мыслитель и искатель приключений, когда-либо известный миру, – Леонардо да Винчи. По словам Валентинуа, Леонардо «наш выдающийся и возлюбленный слуга, главный архитектор и инженер». Главный инженер изучал водные потоки, изобретал новые механизмы и машины для ведения войны, делал наброски жилищ или дорог Романьи, вдоль которых тянулись виноградные лозы, связанные в гирлянды; он слушал звуки фонтанов в Римини или решал проблему, связанную с навигационным каналом в Портоце-сенатико, которая существует и поныне.
Между тем Чезаре никогда не забывал о своей жене-француженке Шарлотте д'Альбре (папа уже подумывал пригласить ее в Италию) и считал своим долгом производить на нее сильное впечатление. Он лично выбирал предназначенные жене изысканные подарки. Например, в декабре 1501 года он купил в Венеции и отослал во Францию конфеты, засахаренные фрукты, патоку, девять бочонков с мальвазией, восточные специи, апельсины, лимоны и разнообразные ткани. Честно говоря, Чезаре не чувствовал необходимости сохранять верность жене, но это никого и не удивляло. В это время в Милане он влюбился в молодую аристократку Бьянку Люсию Стангу, и в июле 1501 года даже показалось, что он хочет вызвать ее в Романью. Кроме того, существовала таинственная история, связанная с прекрасной Доротеей.
В ожидании сдачи Фаэнцы в 1501 году Чезаре побывал на карнавале в Урбино в качестве (возможно, нежеланного) гостя семейства герцога Монтефельтро. К этому времени у герцога Валентинуа была настолько ужасная репутация, что он еще не успел появиться в городе, как уже поползли слухи, что он попытается отравить семейство герцога, что трудно представить, учитывая сложившиеся обстоятельства. Чезаре наслаждался изысканным времяпрепровождением при дворе, где высоко ценился интеллект, и, кроме того, он познакомился с очаровательной ломбардской девушкой (одной из тех, кто получил образование под руководством герцогини Елизаветы), происходившей из аристократического семейства Мантуи и собиравшейся выйти замуж за Джан Баттиста Карраччьоло, капитана венецианской армии. Чезаре влюбился в нее, но, кажется, потерпел неудачу; девушка, помимо того, что ее тщательно охраняли, была еще и весьма добродетельна. Однако это еще больше разожгло пыл такого мужчины, каким был Чезаре, любящего превращать каждую любовную интригу в настоящее сражение.
По окончании карнавала Чезаре вернулся в лагерь. В феврале Доротея со свитой отправилась из Урбино, чтобы в Сервии, являвшейся частью Венецианской республики, присоединиться к жениху. Пребывая в веселом расположении духа, думая о предстоящей свадьбе, Доротея ехала на встречу с Карраччьоло, когда ее кортеж был атакован группой всадников под командованием человека, в котором, хотя у него и была повязка на глазу, легко угадывался герцог Валентинуа. История, описанная одним из тех, кому удалось скрыться, гласит, что все были захвачены в плен, а Доротея, растрепанная и заплаканная, была посажена на лошадь и увезена в неизвестном направлении. Похитители, принимая во внимание благородное происхождение Доротеи, похитили и одну из камеристок. Девушки исчезли, и можете себе представить их участь. Вслед за похищением, вызвавшим всеобщее негодование, не замедлил разгореться скандал. Французский король направил Луи де Вильнева и Ива д'Аллегру с выражением протеста в лагерь Чезаре. Требовалось срочно принять меры, поскольку Карраччьоло поднял страшный крик, собираясь бросить службу и отправиться на поиски Доротеи. Его уход нанес бы серьезный удар по Венеции, поскольку в этот момент венецианские войска под командованием Карраччьоло двигались в направлении Фриули, чтобы предупредить вероятное вторжение императора Максимилиана. Направили послов и в Ватикан. Папа выразил сожаление по поводу происшедших событий, но категорически отверг возможность участия сына в похищении. Чезаре спокойно отмел все обвинения, но признал, что кое-что ему все-таки известно: в деле замешан капитан дон Диего Рамирес, которому, между прочим, девушка подарила несколько расшитых сорочек. Чезаре никак не мог взять в толк, почему все продолжают настаивать на обвинениях в его адрес, если общеизвестно, что он не испытывает недостатка в женщинах. Доводы Чезаре настолько удачно вписывались в общую картину преступления, что французы и венецианцы, так до конца и не понявшие, что же случилось на самом деле, признали его объяснения. А вот Карраччьоло отказался согласиться с ними и на официальном совещании в Венеции громко выражал протест и грозился жестоко отомстить похитителю. Однако местонахождение девушки так и не было обнаружено, и, должно быть, пролив немало слез, она смирилась со своей судьбой. В итоге для нее все закончилось гораздо лучше, чем для ее похитителя.
Что же касается Лукреции, то она не могла убежать от Чезаре; она должна была приютить его на ночь в Непи. Он появился в Непи со своими генералами и заставил ее слушать их разговоры о жизни и смерти, войне и военных подвигах, разнообразя их недвусмысленными намеками на предстоящую свадьбу. Весьма возможно, что короткий визит этих умных и энергичных людей заставил Лукрецию несколько встряхнуться, правда оставив ощущение смутной тревоги.
Per pianto la mia carne si distilla. Вместе со слезами тает и моя плоть.Мне кажется, это самая прекрасная строка, написанная неаполитанским поэтом, сторонником династии Арагонов, Джакопо Саннадзаро. Она великолепно передает состояние Лукреции в то время, когда одиночество, вдовий траур и вид оставшегося без отца маленького Родриго служили постоянным напоминанием о свалившемся на нее горе. Правда, после отъезда армии Чезаре под звуки труб и фанфар Лукрецию охватило некое предвкушение ожидания, смешанное с привычным раскаянием в содеянном.
Пришло время строить планы на будущее. Папа, для которого сватовство являлось любимой формой политических интриг, стремился выслушать всех представителей монархов, которые, несмотря на то что прошел всего месяц после убийства мужа Лукреции, уже просили руки его дочери. Среди безрассудных просителей находился Людовик де Линьи, кузен и любимец французского короля, чьи притязания были поддержаны Чезаре. Линьи с удовольствием женился бы на дочери папы; «…эти французы ничего не пожалели бы ради денег и кардинальской шляпы», – считал Катанеи, при условии, что он получит сказочное приданое и что Петруччи, правящие тираны, будут высланы из Сиены, а он займет их место. Но Лукреция положила конец переговорам с Людовиком де Линьи, заявив, что никогда, ни при каких обстоятельствах не уедет во Францию.
Следующим, появившимся на сцене просителем был человек, уже делавший предложение в 1498 году, – Франческо Орсини, герцог де Гравина. Возлагая серьезные надежды на успех предприятия, он в середине октября 1500 года покинул свои владения и 26 октября появился в Трани, куда с большой кавалькадой по пути в монастырь Санта Чиара уже прибыла его молодая любовница, собиравшаяся постричься в монахини. Публичный разрыв отношений, по всей видимости, был предназначен для того, чтобы о нем заговорили. 6 декабря герцог де Гравина прибыл в Рим, где был любезно встречен папой, который принялся торговаться с герцогом, так и не достигнув общего решения, поскольку такое решение уже были принято с Оттавиано Колонна. У Гравина были все основания полагать, что во второй половине ноября в ватиканских кругах вопрос со свадьбой будет улажен. Так как будущий муж был вдовцом с двумя сыновьями, соглашение должно включать статью, оговаривающую, что детям будет уготована духовная карьера и получение богатых бенефиций, обеспеченные частично кардиналом Орсини, который был необычайно богат, а частично папой. Это соглашение являлось бы гарантией того, что потомство в новом браке унаследует титулы и герцогство.
Думаю, Лукреция считала осень, заставившую ее вернуться в Рим и обосноваться во дворце Санта-Мария-ин-Портико, отвратительной. Когда папа вызвал ее в Ватикан, чтобы сообщить о том, что де Гравина просит ее руки, Лукреция спокойно отвергла это предложение. «Почему?» – поинтересовался понтифик, который был не очень удивлен отказом, но ему не терпелось узнать, что именно она ответит. Вместо ответа, который папа ожидал услышать, дочь заявила, что не хочет вступать в повторный брак, так как «мои мужья были несчастны», а желает посвятить свою жизнь сыну. Санудо добавляет, что она вышла от папы в ярости. Узнав об отказе, герцог де Гравина ужасно разозлился, поскольку подозревал, что понтифик играл с ним и мог навязать свою волю дочери. И ведь де Гравина оказался прав! Если бы папа действительно собирался выдать Лукрецию замуж за Орсини, он, заранее зная реакцию дочери, не поставил бы его в неудобное положение, связанное с отказом. Александра VI устраивало, что его дочь окружена претендентами на руку, поскольку, во-первых, увеличивало значимость данного ею согласия, а во-вторых, давало ему свободу для маневров в соответствии с испытанной им не раз системой. Он вновь смог вернуться к старой мысли о браке в Испании и в феврале послал туда епископа с поручением договориться о свадьбе. Испанским претендентом был «некий граф», бывший, должно быть, хорошей парой, поскольку в качестве награды епископу, ведущему переговоры, была обещана кардинальская шляпа. Однако нам неизвестно, чем закончилась эта история. Интенсивное движение вокруг Лукреции доказывало, что люди не опасались брака с дочерью папы. Тем временем французский король, в котором Валентинуа видел самого преданного союзника, подсмеивался над матримониальной манией Борджиа. Он объяснил феррарскому послу, что слышал, будто папа хочет выдать свою дочь за маркиза Монферрато, обещая ему превосходно укрепленный город Александрию на Танаро, который контролирует всю верхнюю долину реки По. Людовику казалось абсурдом давать такие обещания; эта черта Борджиа являлась признаком их сверхъестественной уверенности в себе, присущей их характеру. К данному моменту Лукреция уже отказала графу Линьи, Оттавиано Колонна и Франческо де Гравина, хотя с каждым отказом ее решимость уменьшалась. Постоянные размышления и поиск ответов в собственной душе привели ее к другого рода подчинению.
Лукреции было только двадцать лет, но у нее уже не осталось никаких иллюзий, а теперь она еще испытывала неуверенность в себе. Она понимала, что единственный способ преодолеть меланхолию, раздражение – это обрести внутреннюю силу. Это необходимое одиночество, столь любимое Лукрецией, было одиночеством, наполненным воспоминаниями. В конечном счете Лукреция пришла к выводу, что нуждается в минимальной физической защите, чтобы каждый рассвет не таил в себе угрозу, а осознав это, поняла, что должна уехать из Рима с человеком, по крайней мере, таким же могущественным, как ее отец, и чье будущее не зависело от Чезаре. Стать женой правителя царствующей династии – вот единственно правильное решение! Теперь, не задумываясь о том, что скажет ее семья, она впервые сознательно отказалась от окружавших ее претендентов и направила свой взгляд в ином направлении.
Глава 6 Третье замужество
В то время, когда Лукреция еще оставалась в Непи по случаю траура, Ватикан уже обдумывал возможность ее брака с Альфонсо д'Эсте, старшим сыном герцога Феррарского и кузеном со стороны матери убитого мужа Лукреции. Это имя уже упоминалось в числе прочих, и тогда же создалось впечатление, что этот человек целится гораздо выше, что для гордого феррарского рода – одного из самых древних и могущественных в Италии – не к лицу снисходить до женщины с репутацией Лукреции и становиться членом обычного «простого семейства», как его впоследствии назвал Гуиччиардини, подразумевая под этим определением незначительную династию. Но после взятия Фаэнцы и усиления могущества Чезаре у всех правящих династий, особенно у тех, кто, подобно д'Эсте, подчинялся папе, появилась серьезная причина опасаться экспансии Борджиа и добиваться гарантий обеспечения мира путем заключения союза с понтификом. Так что никого не удивило, когда в феврале 1502 года Джанбаттиста Ферраре, кардинал Моденский, предложил герцогу Эрколе д'Эсте женить своего сына Альфонсо на Лукреции. За предложением последовали переговоры с весьма обнадеживающим исходом, хотя Лукреции было не просто войти в семью, которая до сих пор ухитрялась устраивать только выгодные для себя браки. Глава семейства, герцог Эрколе, был вдовцом; герцогиня Элеонора Арагонская, дочь короля Ферранте Неаполитанского, к тому времени умерла. Альфонсо, его наследник, тоже был вдовцом. Его первой женой была Анна Сфорца, сестра Джана Галеаццо, герцога Миланского, на которой Альфонсо женился в момент наибольшего благосостояния правящей миланской династии. Обе покойные принцессы были добродетельны и не имели никаких любовных историй вне брака. В Ферраре и в соседнем государстве, где жила сестра Альфонсо, Изабелла, жена маркиза Франческо де Гонзага, была прекрасно известна история Борджиа и, надо сказать, в самой отвратительной интерпретации.
Обвинения Джованни Сфорца в адрес папы, имевшего противоестественные интимные отношения, содержатся в письме, отправленном испанским послом в Милане герцогу Эрколе д'Эсте. Таким образом, о рождении в марте 1498 года таинственного ребенка Лукреции становится известно из переписки мантуанского семейства. Семья д'Эсте не без содрогания выслушала известие о том, что папа в восторге от предстоящего брака, да и сама Лукреция не возражает против предложенной партии. Однако хитрый герцог Эрколе крайне осторожен; он посоветовал послам прикрываться до поры до времени ничего не значащими фразами, а тем временем договорился с тайными агентами, что они будут информировать его обо всех ватиканских интригах.
Лукреция и в самом деле лояльно отнеслась к последнему предложению. Она не устояла перед страстным желанием обрести спокойствие и была убеждена, что стены Феррары послужат гарантией счастливого окончания ее жизни. Все, что касалось семейства д'Эсте, казалось надежным и основательным. Они принадлежали к древнему аристократическому роду. Герцогство Феррарское занимало доминирующее положение между центральной и северной частью Италии, а за счет реки По почвы в этом районе были очень плодородные. Правосудие отправлялось надлежащим образом. Университет, под названием «Стадиум» был известен в Европе, да и сам город был необыкновенно красив. Папа во время проводимой 8 мая 1501 года консистории долго распространялся на тему Феррары, словно она была его собственностью. Все Борджиа сошлись насчет Феррары. Даже Чезаре полагал, что родство с семейством д'Эсте поможет ему завоевать Романью, и немедленно принялся обмениваться подарками и оказывать различные знаки внимания детям Эрколе, в особенности кардиналу Ипполито, пользовавшемуся в то время широкой известностью.
Людовику XII очень повезло, когда с целью завоевания Неаполитанского королевства удалось добиться создания франко-испанского союза. Подразумевалось, что Фердинанд Католический откажется от кузенов, неаполитанских Арагонов, и согласится на раздел Южной Италии. Соглашение, предусматривающее, что Неаполь, Терра-ди-Лаворо и Абруцци должны отойти Франции, а Апулия и Калабрия – Испании, было несправедливым и нецелесообразным. Однако оно было достигнуто. С полного одобрения папы две армии находились в исходных точках, одна, под командованием маршала д'Обиньи, прибыла со стороны Альп, другая прибыла в Колумбус из Испании морем на двух однотипных судах «Пинта» и «Санта-Мария».
В соответствии с соглашением Чезаре должен был прервать свое наступление и проследовать к д'Обиньи, но в новом герцогстве Романья у него оставались первоклассные гарнизоны и хороший административный аппарат. Конец июня 1501 года Чезаре застал в Риме – настолько против его желания, что он даже не потрудился организовать хоть какое-то подобие парада победы. Как написал Катанеи: «Он недоволен и не уверен в отношении своего положения. Если Франция победит, они не примут его в расчет; если они проиграют и Франция будет разгромлена, то для него это окажется еще хуже». Новости из Германии еще больше усугубили недовольство Чезаре; франко-испанское соглашение и участие в нем папы вызвало бурю негодования со стороны императора Максимилиана, и он грозился лично напасть на Италию, чтобы, проколов Болонью, как мыльный пузырь, наказать Борджиа за их непомерные амбиции. Кроме того, Чезаре чувствовал, что французы наблюдают за ним, следят за развитием его кампании и критикуют за «незначительные успехи», – это было невыносимо! Он и сам, должно быть, подвергал сомнению историческую значимость собственных завоеваний. Однако терзавшая его ярость нашла выход при взятии Капуи. По сути, битва в Капуе превратилась в кровавую бойню, после которой город был отдан на разграбление.
Французская армия приближалась, и король Фредерико заключил соглашение с Людовиком XII, согласно которому эмигрировал во Францию. Его приняли со всеми подобающими почестями, а спустя несколько лет он скончался. Неаполь опять перешел к французам. Чезаре, казалось, вновь воспрял духом и, наслаждаясь триумфом, прекрасно проводил время на балах и маскарадах. Неожиданно герцог Валентинуа слег и, учитывая ненависть неаполитанцев (мать Альфонсо де Бисельи была еще жива), пригласил из Рима двух надежных врачей. Под охраной преданных людей, с помощью приглашенных врачей герцог Валентинуа в скором времени восстановил не только здоровье, но и душевные силы.
А тем временем в Риме Лукреция размышляла, глядя на портрет Альфонсо д'Эсте. Она, должно быть, почувствовала уверенность, рассматривая его мужественное лицо, и сделала вывод, что если она как жена будет выполнять свои обязанности, то будущий муж должен будет дать ей возможность жить собственной жизнью. Ей невероятно хотелось выполнять эти обязанности, подобно школьнице, которой так хочется быть хорошей ученицей. Начиная с момента рождения и до настоящего времени она жила как отверженная, словно лицо, объявленное вне закона, и теперь ее новое социальное положение казалось невероятно завидным. Изменить саму себя, сменить страну, жить отдельно от мужа, подобно другим молодым аристократкам, и соответствовать своду правил, одинаковому для всех, – вот это, как казалось Лукреции, было наиболее желательно. Чем больше она думала об этом, тем большим раем казалась ей Феррара. Она надавила на отца, чтобы он как можно скорее прояснил все проблемы, связанные с брачным контрактом.
Понтифик, увидев, что Лукреция взялась за ум, с новой силой обрушил на нее всю свою любовь. Ему хотелось, чтобы семейство д'Эсте, набравшись мужества, высоко оценило качества этой женщины, и с этой целью (не считая представленных доказательств его любви и преданности Лукреции) он на время совершения инспекции передал ей свои полномочия в правительстве Ватикана. Он разрешил ей вскрывать всю корреспонденцию, не имеющую непосредственного отношения к церковным делам. Лукреция обосновалась в папских апартаментах и, склонив свою надушенную и украшенную драгоценностями головку над документами, сконцентрировалась на серьезных государственных вопросах. Кардиналы в свою очередь продемонстрировали глубокое понимание ситуации и, не проявив и капли возмущения, прониклись духом игры. Подавал пример кардинал Джорджио Коста. Этот величественный восьмидесятипятилетний старец, который, по словам Поло Капелло, «пользовался большим уважением при дворе и откровенно говорил с папой, а папа смеялся и не возражал», являлся одним из наиболее популярных представителей конклава 1492 года, а с Лукрецией он выбрал почти отеческий тон, смесь иронического уважения и явной благосклонности. В сентябре 1501 года в консистории Коста объявил, что из уважения к Лукреции чувствует необходимость благословить семейство д'Эсте. Понтифик знал, что делал, когда советовал дочери обращаться к старому кардиналу всякий раз, когда она испытывала неуверенность в принятии какого-то решения. Теперь нам точно известно, какую проблему она наверняка обсуждала с Коста. Прелат выслушал Лукрецию с большим интересом; он тут же понял, что она столкнулось со «словесной игрой», и любовался ее серьезным и сосредоточенным выражением лица. Вопрос, объяснил кардинал, должен быть поставлен на рассмотрение. Теперь всякий раз, когда папа выносит вопрос на обсуждение, в консистории всегда находится тот – вице-канцлер или кардинал, – кто записывает, что было сказано, и берет на заметку результаты голосования. Горя энтузиазмом, Лукреция предложила себя для выполнения этой задачи.
Папа остался доволен поездкой и тем, как Лукреция в его отсутствие руководила делами, а потому приготовился исполнить ее желания. Он внимательно выслушал условия герцога Эрколе и в конце концов согласился на них. Приданое Лукреции должно состоять из 100 тысяч дукатов и замков Ченто и Пьеве, которые были незаконно отторгнуты от Болоньи и вновь обрели значительную ценность. Кроме того, у Лукреции должны быть драгоценные камни, одежда, серебро, парча, гобелены и прочие ценности общей стоимостью 75 тысяч дукатов. Ежегодный налог, уплачиваемый Феррарой в папскую казну, снижался с 4 тысяч до 100 дукатов. Потомство этого брачного союза будет наследовать герцогство Феррарское. Кардинал Ипполито д'Эсте, второй сын герцога, должен стать протоиреем собора Святого Петра и в будущем получать незначительные бенефиции. Это был огромный кусок, но счастливое лицо дочери помогло папе пережить горечь утраты. А пока Лукреция опустошала Рим, скупая парчу и бархат, как в свое время это делали герцог Гандийский для испанской свадьбы и герцог Валентинуа для французской, 16 августа 1501 года в Ватикане был составлен и подписан брачный договор. Ремолино чертовски быстро доскакал до Феррары, чтобы вручить договор герцогу Эрколе. Герцог находился в своем замке в Бельфьоре, в чьих стенах, украшенных картинами Эрколе ди Роберти, он наконец-то подписал брачный договор.
Вечером 4 сентября измученный курьер привез в Рим радостное известие – контракт подписан. В честь знаменательного события в замке Сант-Анджело устраивают фейерверк, чтобы люди могли принять участие в очередном семейном триумфе; по словам очевидца, «пальба из пушек и фейерверк были такие же, как после выборов папы». Лукреция стремилась произвести на мужа впечатление обилием и пышностью церемоний. 5 сентября в сопровождении кортежа из пятисот всадников Лукреция в окружении епископов, послов Франции и Испании направляется в Санта-Мария-дель-Пополо, любимую церковь Борджиа. Она поднимается по ступеням, проходит через портал в стиле Ренессанса и направляется к главному престолу, где сияет во всем великолепии переданная в дар церкви Александром VI мраморная скиния. Лукреция шепчет молитвы и благодарит Господа Бога за оказанную помощь. Нет никакой возможности узнать, кого именно она упоминала в своих молитвах; неизвестно, вспомнила ли она герцога де Бисельи или же прошептала его имя в связи с каким-то событиями. Когда в римских сумерках она возвращалась во дворец под крики «Да здравствует папа Александр! Многие лета светлейшей герцогине Феррарской!», то это был поистине триумф, хотя, до тех пор пока был жив герцог Эрколе, она не могла официально называться герцогиней (на самом деле, поскольку герцог Эрколе был вдовцом, он позволил молодой невесте воспользоваться титулом, которого так сильно жаждали Борджиа).
Король Франции, похоже, доволен эти браком, а вот венецианцы крайне раздосадованы, поскольку враждебно относятся к Ферраре и предвидят, как отзовется на них союз д'Эсте-Борджиа. Реакция императора Максимилиана была еще более негативной; он пришел в ярость при мысли о родстве между семейством д'Эсте (вассалы империи в Реджио и Модене) и теми, кто, по его мнению, отвечал за уничтожение Сфорца. Начавшиеся интриги усугублялись всеобщими пересудами. Лукреция предостерегала стражу от распространения слухов и в конце первой недели сентября с завидным терпением ожидала посланников герцога Эрколе, направленных с заданием отрегулировать окончательные детали, связанные с приданым невесты.
Доверенные лица Эрколе, Джерардо Сарацени и Эттоле Беллингьери, были опытными юристами и адвокатами. Прибыв в Рим 15 декабря, они тут же поспешили в Санта-Мария-ин-Портико, где Лукреция встретила их «приветливыми и мудрыми словами», но после любезностей они сразу перешли к делу. Итак, вопрос с приданым должен быть улажен следующим образом: нужно издать буллу, определяющую вопросы, связанные с будущим потомством; ежегодная подать должна быть сокращена, и прежде всего должны быть переданы Ченто и Пьеве-ди-Ченто. Эти владения не могли быть отторгнуты от Болоньи без согласия архиепископа Джулиано делла Ровере. Архиепископ, хотя это и шло вразрез с его желанием, все-таки дал свое согласие, но в данный момент находился где-то между Миланом и Францией, и, следовательно, связаться с ним было практически невозможно. Решение многих процедурных вопросов явно затягивалось; совещающиеся стороны погрязли в обсуждении деталей.
Каждый день представители Феррары наблюдали, как Лукреция в сопровождении блестящего эскорта из придворных дам, епископов, кардиналов и послов наносит визит понтифику и, усаживаясь ступенькой ниже у его трона, предъявляет для рассмотрения брачный контракт. Кроме того, во время частных бесед в Санта-Мария-ин-Портико Лукреция поразила Сарацени и Беллингьери своей мягкостью и добротой. Мадонна задавала все время один и тот же вопрос: когда герцог приедет за ней и заберет в Феррару?
Представители герцога объяснили, что все зависит от того, насколько быстро выполнит папа свои обещания. Они дали понять, что в ее же интересах уладить все еще до прибытия в Феррару, дабы избежать неприятных эксцессов. Герцог Эрколе, выдвигая свои требования, похоже, совершенно потерял чувство меры, считая, что должен получить сполна в обмен на то, что Лукреция окажется под «его защитой». Столкнувшись с непомерными требованиями семейства д'Эсте, папа время от времени отступал перед этим «купцом», как он его называл, но все же в итоге сдавался. Понтифику доставляло удовольствие выспрашивать у Сарацени и Беллингьери об Альфонсо: выше ли он ростом, чем герцог Валентинуа, красив ли, хорошо ли сложен, любит ли оружие? Приличия и достоинство не позволяли Лукреции задавать вопросы о женихе, но, несмотря на общепринятые взгляды, которые разделяет и Грегоровий, она, как сообщает нам Сарацени, поддерживала переписку с Альфонсо. По общему признанию, они обменивались исключительно деловыми письмами, но сам факт существования переписки означал, что Лукреция имела еще одну возможность подвергнуться оскорблениям.
Тем временем Альфонсо д'Эсте занимался приготовлениями к свадьбе, на которую не жалели денег. Обсуждались женские наряды, в особенности наряд невесты. Те, кто видел Лукрецию, описывали ее как одну из самых обаятельных женщин, к тому же богатую и щедрую. «Ей-богу, это истинная правда!» – подтверждали придворные. Женщины обменивались информацией о внешнем виде и манерах новой герцогини. Было известно, что она не завивает волосы, давая им свободно спускаться по плечам, что в одежде придерживается молодежного стиля, что можно увидеть на фреске Пинтуриккьо в Ватикане и на медали, названной «Аморино Бендато», отчеканенной в Ферраре. Лукреция держится изящно, с достоинством и, согласно чьей-то записи, «она столь грациозна, что когда прогуливается, то практически не видно, чтобы она прилагала для этого какие-то усилия».
Предполагаемый маршрут Лукреции тщательно изучен, подготовлен поименный список сопровождающей ее свиты. В списке значились около двадцати молодых женщин и девушек, среди которых была и Адриана Мила, слуги (по большей части испанцы), мажордом, секретарь, два капеллана, a maitre-d'hotel, придворная дама, ведающая гардеробом, портные, повара, кузнец, шорник, интендант, чтец, десять грумов, десять пажей и пятьдесят погонщиков. Кроме того, представители аристократии: семейств Колонна, дель Буфало, Палуцци, Маззини и Франджипане. Список заканчивался тремя епископами и одним кардиналом – Франческо Борджиа. Чезаре Борджиа включил сверх того двести синьоров, которые должны были прибыть в Феррару в связи с ожидаемым приездом его жены в Италию. Двадцать горнистов и четыре испанских клоуна придавали особый колорит этой кавалькаде.
Со своей стороны представительство Феррары планировалось с не меньшим размахом, Сарацени и Беллингьери заранее предсказывали тех, чьи имена, как ожидалось, войдут в список приглашенных. И хотя вмешательство императора Максимилиана казалось простым блефом, однако вызвало волнение в сердце Феррары, решившей отложить все до Рождества. Лукреция пыталась понять причины задержки, глядя в глаза посланцев из Феррары, а между тем заняла, возможно, единственно правильную позицию и скрывала свое постоянно растущее желание ускользнуть из Рима. Однажды в присутствии монсеньора Сабино она заявила Сарацени, что если не выйдет замуж за Альфонсо д'Эсте, то больше не согласится ни на какие разговоры о свадьбе, полностью изменит свою жизнь и отправится в монастырь. Лукреция обратилась к монсеньору, чтобы он засвидетельствовал ее намерения.
В то время Лукрецию волновала судьба маленького сына Родриго де Бисельи, поскольку было совершенно очевидно, что его не ждут в Ферраре. История объясняет, как, для того чтобы поднять этот животрепещущий вопрос, мадонна Лукреция умудрилась организовать встречу Сарацени с ребенком в собственных апартаментах. В итоге она поставила жесткие условия Сарацени: ребенок останется дома, будет получать ежегодный доход в 15 тысяч дукатов и находиться на попечении дяди Франческо Борджиа. В булле, датированной 17 сентября 1501 года, папа подтвердил передачу Сермонеты, прилегающих к ней земель и окрестных замков Родриго де Бисельи. В той же булле владения Лукреции вблизи Чивита-Кастеддана и в римской Кастелли передаются другому ребенку Борджиа, хорошо известному римскому инфанту.
Этот ребенок, начиная с совпадений в связи с датой рождения, представляет собой серьезные проблемы для историков. Когда 1 сентября 1501 года в Бельфьоре шло подписание брачного контракта Лукреции, папа опубликовал две буллы. В первой он объявил трехлетнего ребенка Джованни Борджиа законным сыном герцога Валентинуа и «некоей незамужней» женщины. Во второй, следуя процедуре, которой он воспользовался при назначении Чезаре кардиналом, понтифик признал отцовство за собой, мать при этом осталась прежней. Александр VI заявил, что его цель в том, чтобы устранить препятствия на пути наследования собственности, по праву принадлежащей ребенку. Эти уловки абсолютно непонятны, если за ними не скрывается что-то еще. «Каноническое право, – пишет Грегоровий, – запрещает папе признавать сына». Но Пастор, обратившийся к источникам и получивший консультации канонистов в Ватикане, оспаривает это мнение и заявляет, что такого закона не существовало. В чем же дело? Сохранял ли таким образом папа, по крайней мере формально, собственное достоинство? Вторая булла оставалась тайной, как минимум, до 1508 года, когда инфант был признан сыном Чезаре. Впоследствии, в 1517 году, он был официально признан сыном папы и младшим братом Лукреции.
Какую позицию при этом заняла Лукреция и имелись ли у нее причины выяснять, кто был матерью ребенка? Бурхард ссылается на «некую римлянку», и эта ссылка заставляет вспомнить даже Джулию Фарнезе. Хотя Джулия официально была замужем за своим многострадальным мужем и не имела причин скрывать сына, тем более что с готовностью признала Борджиа в качестве отца Лауры Орсини, хотя малышка могла не иметь и капли крови Александра VI. Кроме того, нет никаких упоминаний о том, что Джулия когда-либо проявляла заботу об инфанте, хотя, став вдовой, могла бы этим заняться. Теперь Лукреция оказалась тем человеком, который принял на себя заботы об инфанте и ответственность за его образование. История семейства Борджиа настолько запутанна, что стоит только сделать какие-то предположения, как тут же всплывает что-то серьезное, и если я не ограничусь документальными свидетельствами, то фантазия может увести нас с вами в неизвестном направлении.
Согласно документам можно с полной уверенностью установить соответствие между датой папской буллы, узаконившей инфанта, и датой отправки сообщения, что Лукреция родила незаконного ребенка. Есть ли связь между этими рождениями? Было ли это в действительности одно и то же событие? Следует ли нам считать, что в период подписания брачного контракта Лукреции в сентябре 1501 года была умышленно объявлена легитимация, чтобы снять все подозрения относительно невесты? Далее. Уезжая в Феррару, Лукреция оставила распоряжения относительно своей собственности, которая должна была быть поделена между Родриго деБисельи и маленьким Джованни Борджиа, римским инфантом. Как нам стало известно из некогда забытых архивов д'Эсте, когда Борджиа в конце концов настигла беда, Лукреция так волновалась об инфанте, что привезла его в Феррару, дабы заботиться о нем и следить за его образованием. Вопрос, на который хотелось бы получить ответ: была ли любовь Лукреции к ребенку любовью сестры, тети или матери? В этой связи мне бы хотелось опять вернуться к трагической любовной истории с Перотто, убитым Чезаре. Вероятно, стоит предположить, что папа включил ребенка в число собственных детей, чтобы восстановить доброе имя дочери и тем самым привязать ее к семейству Борджиа. Известно, что д'Эсте весьма неохотно позволили Лукреции оставить ребенка в Ферраре (у них были все основания испытывать к нему антипатию), и, надо сказать, основания эти были весьма неприличного толка. Я намеренно использую слово «неприличный», поскольку подозреваю, что инфант был сыном папы и римлянки, которая была не кем иным, как Лукрецией.
Подозрение такого рода не только отвратительно само по себе; оно не подлежит обсуждению, если не имеется соответствующих документальных подтверждений. Что же касается доказательств с помощью метода индукции, то я воздержусь от них. Если Перотто не сделал Лукреции ребенка, то почему был убит? Единственно возможная причина в том, что он слишком много знал. Непостижимая тайна! А вот действительность такова, что в сентябре 1501 года весь мир узнал о существовании малыша Джованни Борджиа, римского инфанта.
С этической точки зрения для Лукреции было бы лучше, чтобы никогда не происходило тех событий, которые случились в конце года. Имеется слишком много свидетелей, чтобы приходилось сомневаться в существовании вечера с ужином, на котором присутствовали пятьдесят проституток. Бурхард подробно описывает это в своем дневнике; намек на это событие угадывается в известном памфлете против Борджиа, написанном в виде письма к Сильвио Савелли; об этом рассказывается, правда менее подробно, в сообщении Франческо Пепи, в те времена, когда он был флорентийским посланником; об этом рассказывает, хотя и несколько запутанно, умбрийский историк Франческо Маттарраццо. Мало того, я почти уверена, что они узнали об этом инциденте из независимых источников. Флорентийский посланник и памфлетист сообщают только об очень непринужденной вечеринке, проходившей в апартаментах Чезаре, на которой присутствовал Александр VI. «Папа, – пишет Пепи в сообщении от 4 ноября, – из-за простуды не появлялся в соборе Святого Петра в День Всех Святых. Однако в воскресную ночь, накануне праздника, ничто не помешало ему до полуночи находиться у герцога, который созвал во дворец куртизанок и проституток». Пепи не упоминает Лукрецию, но Маттарраццо и Бурхард (чьи свидетельства более убедительны, поскольку он жил в Ватикане) откровенно ссылаются на Лукрецию, являвшуюся свидетелем сцен коллективной оргии, которая из соображений приличий не может быть описана. Нам было бы трудно оценить такого рода развлечения, если бы мы не помнили о чувственной натуре испанцев, которая располагает их к избыточной сексуальности. По словам Бурхарда, Лукреция сидела между отцом и братом и председательствовала на вечеринке.
Трудно смириться с тем, что это та же Лукреция, которая хотела произвести хорошее впечатление на посланников из Феррары, которая хотела оставаться безупречной и просила друзей написать о ней герцогу Эрколе, особо подчеркнув применительно к ней слово «достоинство». Посланники должны были услышать об этой вечеринке, но ни в одном из ежедневных отчетов, написанных Сарацени и Беллингьери, нет даже тени намека на это событие. Что же мы должны думать? Что этого никогда не происходило, что это легенда, распространенная врагами Борджиа? Или вечеринка все-таки была, но в ней участвовали только сторонники Валентинуа, которые, как все солдаты в перерывах между кампаниями, хватались за любую возможность хорошо провести время? Возможно, Чезаре пригласил Лукрецию на первую половину вечера, на ужин, а основное веселье продолжилось после ее ухода. Нам было бы проще обвинить Бурхардав неточности, если бы спустя несколько дней в его дневнике не появился аналогичный эпизод, также известный Маттарраццо и памфлетисту. Два лесоруба вели своих тяжело нагруженных кобыл в направлении Порта-Виридари, и, когда они проходили мимо Ватикана, их окружили папские слуги, которые забрали лошадей и отвели их во внутренний двор Апостольского дворца. После чего из конюшни понтифика привели четырех жеребцов, а папа и Лукреция с удовольствием наблюдали за последующим зрелищем из окна дворца. Трудно опровергнуть этот рассказ. Однако злонамеренный Бур хард мог бы пропустить такой эпизод, но как главный церемониймейстер (об этом не стоит забывать) он весьма гордился своей точностью. Он мог бы с такой же легкостью оклеветать Борджиа и в других ситуациях, в то время как практически только упоминает о Джулии Фарнезе или Ванноцце и никогда не касается развода Джованни Сфорца. Более того, в истории с этим инцидентом и с предыдущей вечеринкой он даже не признается, как он это часто делает, что присутствовал там, а сообщает, что наблюдал за происходящим через слегка приоткрытую дверь и через оконный ставень. Бурхард сообщает об этих двух сценах как об отдельных событиях; если бы это происходило часто, он не поленился бы записывать. И последнее: следует помнить, что эти события произошли в период, когда Лукреция со дня на день ожидала отъезда в Феррару, и могли быть связаны с фанатичным желанием папы, чтобы брак дочери обязательно принес потомство; даже Эрколе д'Эсте, несмотря на узость взглядов, включил «очень непристойную» комедию в программу праздничных торжеств в Ферраре.
Судя по всему, в Ферраре не знали об этих происшествиях, во всяком случае, никаких свидетельств на этот счет не имеется. Однако, вместо того чтобы послать за невестой (а ведь год уже близился к концу!), герцог Эрколе потребовал церковных бенефиций для своего внебрачного сына, красавца дона Джулио, и кардинальскую шапку для своего советника, Джана Люки Кастеллини да Потремоли. Столь явное затягивание со свадьбой не могло не привлечь внимания, и по Италии поползли слухи. Это обстоятельство сильно тревожило папу, и в конце концов герцогу Эрколе пришлось отправить объяснения послу во Флоренцию. Задержка, сообщил он, вызвана простой необходимостью обновить гардероб, как-никак приближается зима. Д'Эсте упирались до последнего. В ноябре герцог Эрколе конфиденциально сообщает императору Максимилиану, что, поскольку приближается такое время года, когда движение по дорогам становится опасным, он чувствует необходимость отложить свадьбу с Борджиа до весны, но, признается Эрколе, теперь он не может отложить свадьбу, поскольку это приведет к разрыву отношений с папой. Итак, в письме Лукреции герцог просит завершить выполнение условий брачного контракта, так как «любая задержка чревата неприятностями». Увидев, что папа выполнил свою часть сделки, герцог обвиняет в задержке свадьбы своих посланников. Наконец 8 декабря 1501 года из Феррары отправляется авангард кавалькады, состоящий из интендантов и сенешалей. На следующий день герцог Эрколе со старшим сыном отправился во дворец Чертоса, резиденцию кардинала Ипполито, своего второго сына, с поручением возглавить при поддержке младших братьев дона Ферранте и дона Сиджизмондо, свадебную свиту из Рима в Феррару. Жених должен оставаться в Ферраре.
В состав свиты входил еще один человек, к которому герцог Эрколе испытывал полное доверие, – проницательный советник герцога, Джан Люка Кастеллини да Потремоли, полностью осведомленный во всех вопросах, связанных со свадьбой: от приостановок свадебных торжеств со стороны семейства д'Эсте до подробностей переговоров, которые он от лица герцога обсуждал с посланниками папы. Герцог был высокого мнения и о Никколо да Корреджо, человеке, совмещавшем в себе качества воина, политического советника, поэта и гуманиста, и, кроме того, доверял графу Юджоччионе деи Контрари, первому барону герцогства и мужу кузины Альфонсо, Дианы д'Эсте. Эрколе, скорее, меньше доверял собственным сыновьям, которые были чересчур молоды (старшему из сыновей, кардиналу, было лишь двадцать пять лет), и он с трудом понимал их. Однако герцог знал, что поскольку все они члены семейства д'Эсте и имеют хороших консультантов, то, безусловно, выполнят все как положено. Кроме трех сыновей Эрколе, в свиту входили еще три представители семейства д'Эсте: Никколо Мария, епископ Адрии, Мелиадузе, епископ Комаччио, и один из кузенов Альфонсо, по имени Эрколе. Фамильные драгоценности семьи д'Эсте, которые носили Элеонора Арагонская и Анна Сфорца, достали из сундуков, чтобы передать новой невесте.
Как только новость об отъезде свиты из Феррары достигла ушей понтифика, он тут же набросал два коротких послания, датированных 8 декабря, одно – герцогу Эрколе, а другое – кардиналу Ипполито. Затем Александр VI, пригласив Сарацени и Беллингьери, бурно выразил свою радость и признательность в адрес посланников. Папа, вспомнив о днях молодости, о временах герцога Борсо Феррарского, плавно перешел к обсуждению достижений герцога Эрколе и неожиданно поинтересовался, кто выше: он или герцог? Сарацени затруднился с ответом, поскольку, сказал он, видел их только врозь, но точно знает, что его хозяин выше его самого. Папа встал, чтобы сравнить свой рост с Сарацени, и «обнаружил, что Его Святейшество выше». Александр пришел в восторг и продолжил разговор, сообщив, что будет рад видеть возлюбленного герцога, и в очередной раз намекнул, что хотел бы в скором времени лично приехать в Феррару, что, несомненно, облегчит расставание с Лукрецией. Он на самом деле любит Феррару, что же касается Альфонсо, то он любит его как сына и считает единственным и неповторимым. У понтифика не было слов, чтобы в полной мере выразить охватившую его радость.
Кавалькада из Феррары в середине декабря оказалась во Флоренции, 17-го проехала Поджибонси, озеро Больсена и 20 – го въехала на территорию понтифика. Лукреция ускорила приготовления; приданое было готово и имело тот безукоризненный вид, который присущ совершенно новым вещам. У женщин, которым позволили полюбоваться приданым, перехватило дыхание при виде двух сотен блузок, часть из которых была расшита золотом и жемчугом. О нарядах Лукреции слагались легенды. Чеготам только не было: платья из бархата, парчи, атласа; расшитые золотом, серебром и цветами; обшитые золотой каймой; с рукавами, отделанными жемчугом, etc. Самые бедные женщины, обсуждая платье стоимостью 20 тысяч дукатов или шляпу за 10 тысяч дукатов, скрашивали этими разговорами о чужом великолепии свои серые будни.
В восемь часов утра 23 декабря феррарский кортеж, насчитывающий пятьсот всадников, собрался в Понте-Молле в ожидании папских церемониймейстеров. Спустя два часа, то есть в десять часов утра, кавалькада опять пришла в движение. Ее возглавляли слуги кардинала д'Эсте и его братьев, за ними слуги остальных членов свадебной свиты в нарядных костюмах (те, чья одежда не соответствовала моменту, отправлялись в хвост, к грумам и конюхам). Далее ехал сам кардинал с братьями, доном Ферранте и доном Сиджизмондо, два епископа д'Эсте, Мелиадузе и Никколо Мария, новый феррарский посол в Риме, монсеньор Бельтранто Костабили, советник герцога Джан Люка Кастеллини да Потремоли и, наконец, остальные аристократы, слуги и грумы.
В Понте-Молле кавалькаду встречали люди, представляющие Джованни Борджиа, кардинал Монреальский, кардинал Коста и кардинал Сантаджело. Начиная с этого момента, состоялись встречи: с губернатором Рима, сенатором, хранителем, начальником канцелярии, различными папскими секретарями и переписчиками – одним словом, с папским двором. Наконец, недалеко от Пьяцца-дель-Пополо они завидели кавалькаду герцога Валентинуа, «и тут мы увидели великолепных жеребцов, представленных нам в самом выгодном свете», как замечает Джан Люка да Потремоли, подчеркивая тщеславие, свойственное Валентинуа. Чезаре ехал в сопровождении восьмидесяти алебардщиков, одетых в папские цвета – желтый с черным. Сам герцог был великолепен – «весь в золоте и драгоценных камнях» – верхом на лошади, у которой, «казалось, были крылья». Чезаре церемонно поприветствовал гостей и занял место рядом с Ипполито д'Эсте; теперь братья Ипполито ехали за ними вместе с французским и испанским послами. Монсеньор ди Адриазанял место рядом с губернатором Рима, епископ Комач-чио рядом с секретарем понтифика, Адриано Кастелли, представлявший короля Англии, и Кастеллини – рядом с венецианским послом, который в свойственной ему аффектированной манере принялся расточать комплименты советнику герцога Эрколе, приводя его тем самым в невероятное смущение.
В Порто-дель-Пополо кавалькаду приветствовала девятнадцать кардиналов конклава. После бесчисленного количества речей «мы прошли к Апостольскому дворцу самой красивой в Риме дорогой под звуки труб, флейт и рожков». Как только первая лошадь ступила на мост Сант-Анджело, раздался грохот канонады, и понадобилось все мастерство всадников, чтобы удержать испуганных коней. По прибытии на площадь Святого Петра кое-кто из кардиналов и послы попрощались и ушли, а оставшиеся отправились нанести визит понтифику. Начало было беспорядочным, но волнующим. После того как кардинал поцеловал ногу и руку Александру VI, папа, обняв Ипполито, сердечно расцеловал его, а затем и его братьев, дона Ферранте и дона Сиджизмондо. Затем присутствующим позволили коснуться туфли понтифика, и все пришли в такой восторг, что Кастелли не мог подобраться к папе, и папскому секретарю пришлось расчищать ему дорогу. Папа сиял от радости; он разговаривал, расточая самые обворожительные улыбки. Он сразил всех присутствующих своим обаянием, одержав победу над их сердцами. Наконец, он благословил всех, приказал, поскольку уже спускалась ночь, зажечь десятки факелов, и отправил всех к невесте.
Самые именитые гости, возглавляемые Валентинуа, направились во дворец Санта-Мария-ин-Портико. Эти искушенные «светские львы» потеряли дар речи, увидев спускающуюся к ним по лестнице Лукрецию. На мадонне было платье из особо любимой ею парчи (глубокого черного цвета, отливающего в лиловый), на плечах золотая накидка на собольем меху; волосы, покрытые тонкой зеленой шелковой сеткой, украшали драгоценные камни, а длинная нитка жемчуга и рубинов обвивала стройную шею. Лукреция появилась не одна, а под руку с седым господином, одетым во все черное (никто не знает, кемон был). После приветствий Лукреция направилась к советнику герцога Эрколе и всякий раз при упоминании Эрколе и Альфонсо принимала смиренный вид. В разговоре с Ипполито и его братьями она позволила себе быть более свободной и веселой, одним словом, вела себя со всеми по-разному. Даже самый взыскательный из гостей был вынужден признать, что «мадонна вежливая и элегантная». По окончании вечера Лукреция попросила кланяться будущим родственникам.
Существует неопубликованный отчет об отъезде кавалькады из Феррары в Рим, более забавный, чем описание Санудо, с которым, за исключением пары деталей, находится в полном соответствии. Письмо Джана Люки Кастеллини герцогу Эрколе, написанное вечером 23 декабря, хотя цитировалось Грегоровием и вообще было общеизвестно, является слишком важным, чтобы опустить его в нашем повествовании. «Невеста, – писал советник, – бесспорно красива, и ее манеры добавляют ей шарма. Одним словом, она кажется столь одухотворенной, что мы не можем и не должны подозревать ее в недостойном поведении, но предполагать, верить и надеяться, что она всегда будет хорошо себя вести… Ваше высочество и дон Альфонсо будут довольны, потому что, помимо безупречной красоты, скромности, приветливости и учтивости, она католичка и почитает Бога».
Это свидетельство, вероятно, имело огромное значение для д'Эсте. Кастеллини откровенно дает понять, что Лукреции не может приписываться вызывавшее у них опасения «недостойное» поведение. Ознакомившись с корреспонденцией, хранящейся в архивах Модены, хочу упомянуть два письма Кастеллини герцогу Эрколе, датированные 23 сентября. Одно, содержащее подробное описание церемонии вступления в Рим, имеется в двух экземплярах, написанное от руки переписчиком и только подписанное и местами исправленное Кастеллини. Другое, содержащее описание Лукреции, написано собственноручно Кастеллини и совершенно очевидно отвечает на настойчивые вопросы, заданные герцогом и Альфонсо.
Д'Эсте со свитой разместили кого куда. Кто-то оказался в Санта-Мария-ин-Портико, некоторые попали в Ватикан, а кое-кто – в Бельведер, где в прошлом году в качестве пленницы жила Катерина Сфорца, до того как была переведена в замок Сант-Анджело и наконец освобождена. Некоторые из гостей были вынуждены остановиться в гостиницах. Конечно, всем аристократам был оказан сердечный прием, поскольку папа испытывал глубокую гордость от сознания, что его дочь властвует над такими красивыми и образованными мужчинами. Александр VI объявил, что в честь герцогов Феррарских проведет торжественную мессу в соборе Святого Петра и даст благословение с полным отпущением грехов.
За религиозным представлением следует карнавал с танцами, играми и представлениями; папа хочет, чтобы и народ участвовал в празднованиях по случаю свадьбы его дочери. Каждый из Борджиа исполнял свою роль в этом представлении. Папа принимал гостей, поддерживал беседы с членами семейства д'Эсте, усаживал их рядом с собой и выступал на торжественных церемониях с таким величием, что производил сильное впечатление даже на самых критически настроенных гостей. Валентинуа свел дружбу с кардиналом д'Эсте и познакомил его с удовольствиями, которыми одаривали известные римские проститутки. Лукреция была занята подготовкой к отъезду.
После Рождества, 26 декабря, Лукреция дала прием в Санта-Мария-ин-Портико в окружении двора и пятидесяти римских аристократок, причесанных на римский манер, с прямоугольниками из гладкой ткани на голове, что, по всей видимости, приблизительно передал Рафаэль своей «La Velata», написанной несколькими годами позже. Пристальные взгляды гостей главным образом прикованы к молодым придворным дамам Лукреции, которые будут сопровождать ее в Феррару; гости обсуждают их прелести и пытаются снискать их расположение. Лукреция, танцующая с доном Ферранте под легкую музыку флейт и виол, выглядит восхитительно в платье из черного атласа, отделанного золотом. Кое-кто из гостей отмечает необыкновенную красоту одной из кузин герцогини, пятнадцатилетней Анджелы Борджиа, уже помолвленной с Франческо Мария делла Ровере. Благопристойность этого приема производит великолепное впечатление на Кастеллини, который тут же сообщает герцогу Эрколе свежие впечатления о герцогине. Она обещала, писал советник, что отцу никогда не придется краснеть за нее, и в это можно поверить, принимая во внимание «ее доброту, искренность и благоразумие», которые с каждым днем становятся все очевиднее. Письмо заканчивалось восторженным заявлением, что ее домашний уклад «больше, чем христианский, – он монашеский».
Кроме Кастеллини, в Ферарру ежедневно поступали отчеты от Ипполито, дона Ферранте и дона Сиджизмондо. Братья д'Эсте писали не только отцу, но и сестре, Изабелле д'Эсте Гонзага, которую бросало в дрожь от одной мысли о соперничестве, когда приедет ее богатая невестка. Она нуждалась в более подробных, чем могли предоставить ее братья, отчетах и стала подыскивать человека из своего окружения, который мог бы справиться с поставленной задачей. Изабелла нашла такого. Им оказался Никколо да Корреджо – одновременно шут, секретарь и доверенное лицо хозяина, но, кроме того, способный выполнить любую работу, не подставляя себя под удар. Он имел имя, но известен был только под прозвищем el Prete– Священник, которым подписывал письма. «Я буду следовать за непревзойденной донной Лукрецией, как тень следует за телом, – писал Священник, – и куда не смогут проникнуть очи, туда дотянется нос». Сохранилось немного писем Священника, но такие, как это, наглядно демонстрирующее его верность и ответную благодарность Изабеллы. Она называла его своим «преданным псом». Это был Священник, который посылал Изабелле подробности относительно «пышного великолепия и золотых нарядов» Лукреции и который обращался к римским портнихам за описанием нарядов с «украшениями из чеканного золота и серебра и с эмалевым узором». Будущая невеста, по словам осведомителя, «вся в золоте».
Беллингьери 20 декабря уезжает из Рима, чтобы стать владельцем состояния, переданного папой в качестве гарантии, что он выполнит условия брачного договора; Сарацени и советник герцога оставались до окончания переговоров. Они действовали с такой педантичной тщательностью, что вечером 28 декабря у них разгорелся спор с нотариусом Камилло Бенеймбене относительно формы контракта, касающегося приданого. Этот вопрос был в ведении юристов, но папа незамедлительно решил его, отдав приказ, чтобы все было сделано так, как желают феррарцы, тем самым «откровенно продемонстрировав, что не боится никаких мошеннических действий», то есть уверен в честном ведении дел. Теперь все было готово к заключению брака по доверенности, и 30 декабря эта процедура наконец-то состоялась.
Лукреция появилась на церемонии в платье из темно-красного бархата с вставками из золотой парчи, обшитом горностаем. Ее сопровождали дон Ферранте и дон Сиджизмондо д'Эсте, придворные и пятьдесят римских аристократок. О прибытии Лукреции возвестили фанфары. Сначала огласили брачный ритуал, далее последовала соответствующая проповедь, которую папа остановил жестом руки. Дон Ферранте от имени брата Альфонсо вручает Лукреции обручальное кольцо, и она звонким голосом отвечает, что принимает его. Соответствующие документы подписаны, и вперед выходит кардинал Ипполито. Он выглядит даже щеголевато в сшитом специально для этого случая кардинальском одеянии, с расчесанными длинными волосами, которые поддерживаются небольшими гребнями из слоновой кости, подаренными ему сестрой. Ипполито произносит короткую речь, открывает сундучок и вместе с доном Ферранте начинает передавать драгоценности. Когда зрители в полной мере оценили стоимость драгоценностей на языке дукатов (70 тысяч, по оценке кардинала Санта-Прасседе), Лукреция не могла сдержать восхищения, увидев «отделку и качество исполнения» этих шедевров искусства.
Празднества на площади Святого Петра продолжаются в апартаментах понтифика, где папа с удовольствием наблюдает за танцем дочери с Валентинуа, исполняющимся специально для него. Затем, объединившись в пары, исполняют танец девушки из свиты Лукреции, доставляя понтифику массу удовольствия. Затем показывают комедию, которую папа останавливает одним словом – «скучная», следом идут эклоги, написанные членами Римской академии, но не Акколти и не Сальмета. Наконец гости удаляются, а д'Эсте и Борджиа заканчивают вечер в семейном кругу.
Следующий день – последний день 1501 года. Кастеллини возвращается в Ватикан для ведения дальнейших дискуссий. С невероятной изобретательностью он пытается одновременно добиться своей собственной цели – стать кардиналом и привести к успешному завершению соглашение в отношении приданого. Он ознакомился с буллой, освобождающей Феррару от подати, и установил подлинность подписей кардиналов. Он просмотрел и остальные буллы, должным образом составленные и врученные Лукреции для дальнейшей передачи ее новым родственникам. Но у Кастеллини есть еще кое-что, что он собирается сказать папе, бесспорно, с молчаливого согласия Эрколе, и это доставляет ему невероятное удовольствие. Вечером 31 декабря, после того как Александр VI объявляет, что на следующий день они отсчитают 100 тысяч золотых дукатов в качестве причитающейся суммы, Кастеллини заявляет, что дукаты должны быть «большими», а не «казначейскими» – между этими видами дукатов имелась разница в весе. Александр VI категорически не согласен с новым требованием и, поскольку Кастеллини продолжает настаивать, заявляет, что передаст вопрос на рассмотрение юриста. «Думаю, это его последнее слово, – заключает Кастеллини в письме к Эрколе д'Эсте, – и он не заплатит «большие» дукаты». Далее он пишет, что папа пожаловался кардиналу Феррарскому на эти чрезмерные запросы.
В то время как 1 января на столе в присутствии казначеев и свидетелей разложили кучками золотые дукаты, дабы пересчитать приданое, на площади Святого Петра продолжалось веселье. Вечером танцы и представление, состоящее из двух эклог. Одна – «очень сухая, неинтересная» – придуманная кардиналом Сан-Северино, а другая – изумительно оформленная, с «лесом, фонтанами, холмами и горами» – Чезаре. Эта эклога, по словам Сарацени, была «изящно разыграна и понятна». Трезвон колоколов и подъем флагов возвестил о наступлении 1502 года. В этот день представители тринадцати римских кварталов в старинных головных уборах и с белыми жезлами появились на площади Святого Петра во главе процессии, состоящей из двух тысяч пехотинцев и тринадцати триумфальных колесниц, по числу кварталов. Здесь были Кастор и Поллукс, представлявшие квартал Квиринал; Марк Аврелий верхом на лошади, стоявший тогда на площади Святого Джона Лютеранского; Геркулес, символизирующий Капитолий и другие причудливые образы, прославляющие величие Древнего Рима. Весь папский двор наблюдал за необыкновенным спектаклем из окон дворца, а когда он закончился, все перешли в Зал попугая, чтобы посмотреть комедию. Папа сел на трон, Лукреция, как обычно, на ступеньках у его ног. На сей раз эклогу сочинили специально в честь Лукреции. Из Зала попугая перешли в Зал понтификов, где были показаны символические танцы, напоминавшие мавританские. В одном из танцев, наиболее изящном, танцовщицы были привязаны цветными лентами к джинну, стоявшему на вершине дерева, и он, казалось, с помощью этих лент направлял их движения, заставляя делать танцевальные фигуры одна причудливее другой. На сцену поднялся Чезаре в маске, но легко узнаваемый благодаря необычайной элегантности его одежды и исполнил несколько танцевальных фигур; а следом Лукреция в костюме из темного бархата, отделанного золотом и драгоценными камнями. По просьбе папы она танцевала с девушкой из Валенсии. В тот вечер все отметили необычайно красивые наряды придворных дам Лукреции – платья из темно-красного бархата и золотой парчи и цветные плащи из расшитого золотом шелка.
2 января на площади Святого Петра Валентинуа на коне вступает в борьбу с быками. Его выступление с бандерильями «поистине изящно», и сам он невероятно хорош в золотом костюме. В тот же вечер дают еще одну пьесу, «Менехмы» Плавта, перед которой была разыграна аллегорическая пантомима. Чезаре и Геркулес получают от богини Юноны обещание счастливого брака, затем Рим и Феррара спорят за обладание Лукреции, затем Рим и Феррара сообща празднуют победу.
Лукреция пребывает в ожидании отъезда в Феррару, не подозревая, что герцог Эрколе дал четкие указания – Лукреция должна прибыть в Феррару именно 28 января. Следом за торжественным вступлением начнется карнавал, который продлится десять дней, вплоть до Пепельный среды – дня покаяния.
Представители Феррары и понтифика в дальней комнате Ватикана продолжали пересчитывать приданое; ко 2 января они пересчитали только 25 тысяч дукатов. Монеты, вызывавшие подозрения или стершиеся, тут же заменялись, и подсчет продолжался. 5 января дон Ферранте признает правильность расчетов, и папа обещает поспособствовать процветанию Феррары. «Если он выполнит свои обещания, – писал Кастеллини, – у нас прекрасно пойдут дела». Напоследок папа задаривает Лукрецию: деньги на ее личные расходы, на свиту и на лошадей, великолепный паланкин и много всего, что она еще попросила. Сундуки настолько переполнены, что их с трудом закрывают, а папские буллы с тяжелыми красными восковыми печатями, не дожидаясь, пока просохнут чернила, уже громоздят одна на другую.
Все дни стояла мягкая погода, но 6 января задул северный ветер и пошел снег. Но никто даже не подумал отложить отъезд. С раннего утра всадники объезжали улицы, проверяя, все ли в порядке. Последний раз Лукреция завтракает в Санта-Мария-ин-Портико и прощается с малышами – Родриго и римским инфантом. Она покидает дворец, в котором прожила десять лет – и каких лет! – и идет попрощаться с отцом. Все как обычно: папа сидит на троне, а ее подушечка пока еще на ступеньке у его ног. В полной тишине Лукреция встает на колени, и все присутствующие покидают зал, оставляя отца с дочерью наедине.
Нам не суждено узнать, о чем они говорили, но это было незабываемое прощание для обоих. Через час папа вызывает Валентинуа, и они продолжают разговор уже втроем. На валенсийском диалекте, их тайном языке, который используется в целях конспирации, они обсуждают политическую ситуацию и какую позицию следует занять Лукреции и Ферраре; говорят о маленьком Родриго и римском инфанте. Вероятно, обсуждают поездку в Феррару Александра VI. Закончив обсуждения, папа отправляет слуг за кардиналом Ипполито, доном Ферранте, доном Сиджизмондо и другими гостями из Феррары.
Состоялась сцена прощания. Члены семейства д'Эсте опускаются на колени и по очереди целует ногу понтифика. Александр сообщает, что авансом подарил Лукреции все, о чем она только могла подумать, и приказывает Чезаре и кардиналу сопровождать Лукрецию на всем пути ее движения. Все будет хорошо, сказал Александр VI, и, если она будет в чем-то нуждаться, пусть напишет ему и он сделает для нее намного больше того, что он делал, когда она была с ним. Он сказал это громко, на итальянском, чтобы все присутствующие могли услышать и понять его слова, и предназначались они для того, чтобы защитить дочь от феррарцев. После этого Лукреция наконец выходит из зала и спускается на площадь. Ее ожидает длинная кавалькада; лошади нетерпеливо бьют копытами и выпускают пар из ноздрей. Лукреция садится в дорожное кресло, установленное на муле, который покрыт черной бархатной попоной. По одну сторону от нее Ипполито д'Эсте, по другую – Валентинуа. За ними следуют дон Ферранте и дон Сиджизмондо, кардинал-легат Франческо Борджиа, послы, епископы, придворные дамы и девушки, аристократы, рыцари, солдаты, грумы и сто пятьдесят повозок, покрытых сукном и бархатом ее цветов, желтого и темно-коричневого.
Бурхард описывает снежную погоду и добавляет, что она освободила Лукрецию от необходимости надеть одежду, которая предписывается этикетом в подобных случаях. В отличие от него феррарский посол, монсеньор Бельтранто Костабили, упоминает наряд из золотой и малиновой парчи и золотой плащ, подбитый горностаем, и замечает, что герцогиня была «очень изящно одета». У меня нет основания полагать, что столь педантичный Бурхард был способен допустить ошибку, но я не могу подвергнуть сомнению и свидетельство Костабили, который сопровождал Лукрецию на протяжении многих миль. Можно только предположить, что утром на Лукреции был простой наряд из шерсти, а позже по совету отца и братьев она, возможно, вернулась в Санта-Мария-ин-Портико и переоделась. Теперь можно только гадать. Ясно одно: Бурхард видел Лукрецию в Ватикане, а Костабили – в дороге.
Кавалькада едет по пустым улицам. Богатство Лукреции охраняют солдаты Чезаре; как иронично заметил наблюдатель, с помощью этого богатства папа пытался «выполнить церковную заповедь, выдавая замуж женщин и девственниц». Следом движется паланкин, «комната, сделанная из дерева с золотом и обитая роскошной тканью». Затем лошадь невесты, покрытая попоной из золотой парчи, и мул, покрытый попоной из малиновой парчи. А затем и сама Лукреция. Последний раз она ехала верхом по улицам Рима. Папа, переходя от одного окна к другому, с болью в сердце наблюдал за удаляющимся кортежем.
Вереница проследовала вдоль берега Тибра к Понте-Мильвио, минуя Пьяцца-дель-Пополо, где был похоронен герцог Гандийский. Прошли годы, а с ними и переполненная страстями жизнь, ссоры из-за золота, кардинальского пурпура, веселье и ужас. Лукреция, дитя юга, отказывалась от золотого римского солнца ради серого неба Феррары. Снежная тишина заглушала голоса. Город, спокойный и шумный, богатый и нищий, был тих и пустынен. Никто не вышел поприветствовать Лукрецию, и это лишило ее живописного спектакля, знакомого с детства, и вернуло к извечным вопросам. Женщина, которая покидала Рим, больше не была дочерью папы римского, она являлась новорожденной герцогиней Феррарской, иностранкой, более не доверяющей этому городу. Отныне Рим и Лукреция стали чужими друг другу.
Часть вторая
Глава 7 При дворе д'Эсте
Герцогство д'Эсте расположено в долине реки По, южнее Венеции и Ломбардии и севернее Апеннин. Все в зелени, с реками, болотами и возделанной выносливыми земледельцами настолько плодородной землей, что она прямо-таки побуждала к проведению крупномасштабных экспериментов. Сердце изысканной цивилизации страны, Феррара поднималась из плоского зеркала ландшафта. Никаких гор или просто холмов; Феррара открыта навстречу северным ветрам.
Здесь здоровый климат. Свежие порывы ветра проносятся по всему городу, раскинувшемуся под необъятным небом: через главную площадь, вокруг старого кафедрального собора со скульптурами в романском стиле – когда Лукреция впервые увидела их, им было уже четыре сотни лет, – над церквями, монастырями, дворцами, домами и садами, всюду, от темных средневековых улиц до светлых кварталов, построенных в конце XV столетия, и, наконец, достигают замка д'Эсте.
Жители Феррары всегда готовы дать сражение или принять бой; активные, чем бы ни занимались, энергичные, временами буйные (ходили разговоры, что никто, хотя бы единожды, не избежал удара ножом). Тем не менее всех их объединяла преданность правящей династии; и аристократия, и простые люди испытывали патриотическое возбуждение при виде орла династии д'Эсте, обычно сходясь во мнении, что победоносная история Феррары суть то же, что династии д'Эсте. Как мы уже знаем, д'Эсте была одной из самых древних династий в Италии. Их родоначальниками, по всей видимости, являлись лонгобарды, и они ассоциируются с именами короля Беринджера и Отто Великого. Семейство д'Эсте управляло городом с XII столетия. Феррара принадлежала партии гвельфов, а часть – графине Матильде; в одну из передышек в войнах между папой и императором в Ферраре установилось республиканское правление. Господство д'Эсте оспаривалось вплоть до 1329 года, когда папа поставил наместника церкви в обмен на ежегодную дань. Позже император назначил их имперскими наместниками в Модене и Реджио, в самых влиятельных городах епархии после Феррары. Владельцы Эсте устояли не только за счет формального введения во владение собственностью, имперской и папской, но и благодаря собственным усилиям. Они были готовы защищать свои правы с помощью оружия, и поколение за поколением производили на свет выдающихся личностей: Обицци, Фолько, Альдоб рандино и Аццо – политики и военные, настолько отважные и благородные, что поэты приводили их в пример уже в 1100 году.
Основу семейного богатства заложил Альдобрандино, увеличил его Никколо II, а Альберто, введенный во владение папой Бонифацием IX, упрочил семейное богатство. Статуя Альберто в доспехах и с папской буллой в руке установлена в стене рядом с входом в кафедральный собор. Его сын Никколо пришел к власти в 1402 году и являлся одним из наиболее выдающихся членов семейства. У него был невыносимый характер, но в то же время удивительная способность доводить все начатое до удачного завершения. Во время войны он отличался храбростью, а его репутация любителя женщин была такова, что, по его словам, он мог заслужить титул Pater Patriae на том основании, что все жившие по берегам По являлись его детьми. Доподлинно известно, что у него было двадцать семь детей и все – бастарды или законнорожденные – воспитывались при дворе. Во времена его правления замок являл собой сцену, на которой разворачивался страстный роман между Парисиной Малатеста, второй женой Никколо, и его незаконным сыном Уго; трагический адюльтер закончился обезглавливанием обоих незадачливых любовников. После приведения приговора в исполнение Никколо издал приказ, что все женщины, совершившие прелюбодеяние, должны подвергаться казни (без обжалования). Необычный приказ, свидетельствующий о его безумной ярости и являющий собой пример, определяющий сущность законодательной власти, когда частный вопрос может лечь в основу общих принципов управления.
Однако, обладая определенной интуицией, Никколо перед смертью утвердил в качестве наследника Леонелло – бастарда, рожденного ему Стеллой дель Ассассино, очаровательной жительницей Сиены, от которой у него были и другие дети, в том числе и несчастный Уго. Леонелло был своего рода принцем, чья власть и престиж не нуждались в поддержке с помощью страха; его обожали простолюдины. Пизанелло оставил нам портрет этого гуманиста – владельца Эсте. Он был тонким политиком и, подобно Лоренцо Медичи, пытался установить мирное равновесие в Италии путем баланса могущества городов; он поддерживал и содействовал развитию образования и науки, вел переписку с выдающимися людьми своего времени, основал несколько библиотек и больниц и провел реорганизацию университета Феррары.
Леонелло умер в 1450 году в возрасте сорока семи лет (говорили, что он слишком часто приносил жертвы Венере). Его преемником стал другой сын Стеллы дель Ассассино – Борсо.
На фресках у Борсо полное лицо, открытый и умный взгляд, выражающий благородство души, мужество и чувство собственного достоинства. Во времена правления Борсо пришедшее с испанским этикетом подобострастие еще не было свойственно Ферраре; пышность и великолепие двора Борсо прекрасно уживалось с искренними и простыми отношениями. Так же как отец Никколо и брат Леонелло, Борсо стремился расширить границы государства. Он строит дома, прокладывает дороги, разрабатывает первые проекты, связанные с осушением болот и созданием плодородных земель. Леонелло, безусловно, был умнее, но зато Борсо отличался дальновидностью и упорством в достижении цели. Он был настолько захвачен идеей создания идеального государства, что так никогда и не женился. Мало того, у него никогда не было никаких, даже самых незначительных, любовных интриг, поскольку Борсо не хотел нарушать прямую линию наследственности притязаниями со стороны бастардов. Спустя тридцать лет, когда старые придворные хотели доказать собственное благородство и патриотизм, то объясняли, что были «крестьянами и оруженосцами герцога Борсо». Самой большой страстью герцога, от природы наделенного воображением и питавшего любовь к пышному великолепию, было изобразительное искусство; он собирал портреты, картины и фрески мастеров школы живописи в Ферраре, достигшей высот совершенства с Эрколе де Роберти, Косимо Тура и Франческо Косса.
Знаменательные события из жизни страны, изображенные на стенах собора, мы относим кисти именно этих трех художников. Ярким примером является и знаменитая Библия, иллюстрированная миниатюрами Таддео Кривелли и его помощников, впоследствии попавшая во дворец Маф-фия Корвино. На смену Борсо пришел его брат Эрколе, старший из законных детей Никколо III и Ричарды да Салуццо.
В 1471 году Эрколе исполнилось тридцать лет. Он был, как и братья, прирожденным политиком, но, если учесть, что Леонелло был умным и тонко чувствующим человеком, Борсо – величественным в самом красочным смысле этого слова, то Эрколе был предусмотрительным и осторожным даже в том, что касалось развлечений, по характеру склонный к жадности, религиозный, но не в обычаях Ренессанса, а в строгом духе Средневековья. Он был глубоко убежден в необходимости церковной реформы, и это роднило его с Савонаролой (который сам был родом из Феррары), хотя впоследствии, осознав политические ошибки Савонаролы, Эрколе отошел от него. С большим уважением относясь к монахам и монахиням, Эрколе приглашал самых умных и образованных богословов для проведения дискуссий, внимательно следуя за силлогическими умозаключениями; их разговор, казалось, напоминал музыку чистого интеллекта.
Эрколе продолжил начатую Борсо мелиорацию земель, сумев осушить большую территорию за пределами города. В период его правления и благодаря великому архитектору Бьяджо Розетти Феррара приобрела изящный и праздничный облик, свойственный ломбардскому искусству Ренессанса. Даже карта города дополнилась широкой прямой улицей под названием Аддиционе-Эркулеа. Эрколе содействовал развитию литературы и искусства. Он любил музыку, но главной его страстью был театр (здесь он даже забывал о своей пресловутой жадности); он с одинаковым удовольствием смотрел классические комедии и новые сочинения гуманистов Феррары. Актеры, съезжавшиеся со всей Италии, играли не только в огромном зале палаццо делла Реджионе, но и давали частные представления. Время от времени даже члены семейства д'Эсте принимали участие в спектаклях.
В 1473 году, исходя из политических соображений, Эрколе женился на Элеоноре Арагонской, дочери короля Неаполя Ферранте, находившегося в тот момент на вершине власти. Его жена обладала той величественной красотой, которая находится вне всякой критики. Прибытие Элеоноры в Феррару было отмечено серией праздничных торжеств. Герцогиня, вызывавшая неизменное восхищение окружающих, родила шестерых детей для династии д'Эсте: Изабеллу, Беатрис, Альфонсо, Ипполито, Ферранте и Сиджизмондо.
Смерть Элеоноры в 1493 году стала настоящей национальной трагедией, поскольку только герцогиня могла убедить свою дочь Беатрис в необходимости сдерживать гибельные амбиции Людовико Моро. В свою очередь, в 1497 году неожиданно умирает Беатрис; политическая ситуация резко ухудшается. Альфонсо, выросший в замкнутом мирке, был, по сути, далек от отца. Он, казалось, сторонился государственных и политических дел, общества мужчин своего круга и изысканной утонченности, свойственной принцам в XV веке. Он родился в 1476 году, и его детство и юность пришлись на тревожный период, вызванный войной с Венецией. В результате Феррара лишилась важных территорий, принадлежавших Ровиджо Полесине. Такимобразом, полученный опыт убедил Альфонсо в необходимости усиления боеспособности; он стал военным. Он придавал артиллерии исключительно важное значение и лично руководил литейным производством. Альфонсо весьма уважительно относился к ремесленникам (сейчас мы их называем рабочими), а его привычка беседовать с ними стала причиной постоянного злословия при дворе. Альфонсо, одновременно бесхитростный и порочный, не отказывал себе в низкопробных удовольствиях, удивительно напоминая в этом Никколо III. Отец Альфонсо, аристократ до мозга костей, здравомыслящий политик, считал сына чуть ли не монстром; полное несходство характеров неизменно вызывало столкновения между отцом и сыном. Известен такой случай. Когда Альфонсо было двадцать один год, он средь бела дня нагой, с мечом в руке прошел по улицам Феррары; вероятно, это была своего рода бравада, а может, заключенное с кем-то пари.
Герцог Эрколе, зная, что сын шляется по проституткам, прекрасно понимал, что не помогут никакие увещевания. Конечно, Эрколе и сам был небезгрешен (во времена Ренессанса целомудрие было синонимом мужского бессилия), но проявлял определенную сдержанность. У него было лишь две любовные интриги: одна с Людовикой Кондулмиере, молодой аристократкой, родившей ему дочь Лукрецию, а другая – с Изабеллой Ардуино, неаполитанкой, одной из придворных дам его жены. Сын Изабеллы, дон Джулио (его прекрасные глаза были притчей во языцех), вместе с единокровной сестрой Лукрецией воспитывался при дворе, под присмотром герцогини Элеоноры. Сын, в отличие от отца, любил крупных, обладающих повышенной сексуальностью женщин; Альфонсо предпочитал простолюдинок, с ними было проще. Правда, в результате он подхватил сифилис. С первой женой, Анной Сфорца, женщиной своенравной, с причудами, Альфонсо жил на условиях формального соглашения, не обращая внимания на ее времяпрепровождение. Когда двадцатилетний муж перестал навещать ее в спальне, она утешала себя, проводя ночи с очаровательной черной рабыней. Анна умерла при родах, в те дни такие случаи были нередки. Не было ничего странного и в ее неудачном браке.
Часто можно услышать, что Альфонсо не пользовался известностью. Его действительно не любили при дворе, но, заметьте, только придворные и аристократы, которые не испытывали к нему доверия и даже задавались вопросом, не является ли кардинал Ипполито более достойным их уважения. Ипполито больше подошла бы карьера военного, чем кардинальский пурпур. Между братьями частенько возникали разногласия, и между членами двух дворов нередко случались потасовки. Младшие братья создавали еще более беспокойную атмосферу. Правда, это не имело отношения к Сиджизмондо, набожному, проводящему жизнь в молитвах и начисто лишенному честолюбия. К нарушителям спокойствия относились красивые и веселые дон Ферранте и незаконнорожденный дон Джулио. Эрколе пробовал найти Джулио подобающее место в церкви, но это было абсолютно бесперспективное занятие. Джулио был настолько красив и пользовался таким успехом у женщин, что никогда бы не согласился добровольно надеть церковное ярмо.
Таким было семейство, в которое благодаря власти папы и силе золота должна была войти Лукреция. Герцог Эрколе и Альфонсо, каждый по-своему, должны были примириться с Лукрецией, а вот членом их семейства, не желавшим принять дочь папы и уже приготовившимся к началу военных действий, была сестра Альфонсо – Изабелла д'Эсте, маркиза Мантуанская. С первого взгляда становилось ясно, что эта выдающаяся женщина является истинным представителем своей династии. Во имя государственных интересов она была способна разработать, выполнить и довести до логичного завершения самые дерзкие планы; умная, честолюбивая, энергичная, что, впрочем, нисколько не мешало ей оставаться невероятно женственной. Поскольку правительство Мантуи находилось в руках мужа, она могла только советовать ему в тех редких случаях, когда он соглашался выслушать ее. Изабелла предпринимала немало попыток, претендуя на главенствующее положение в интеллектуальной сфере жизни. Она и в мыслях не допускала, что кто-то может оспаривать ее положение «первой женщины ее эпохи». Она любила, а частенько и сама проектировала экстравагантные наряды, и дамы подражали ей во всем. Изабелла придавала огромное значение различным деталям, выбранные ею ткани отличались совершенством, меха – безупречностью, а цветовые гаммы и фасоны – оригинальностью.
Двор Изабеллы, самый блестящий в Италии, был всегда полон очаровательных и остроумных молодых девушек. Ее замок в Минчио, идеальное место для женщин-литераторов, был заполнен классическими скульптурами, картинами, книгами и вещами, найденными при раскопках. Изабелла знала латынь, изучала греческий и поддерживала переписку с известными поэтами, художниками и литераторами, которых ей довелось узнать. Она отвечала на письма в том же стиле, в каком они были написаны. С годами она приобретала все более широкую известность, ее имя символизировало самую яркую представительницу итальянского Возрождения. Однако, вопреки общему мнению, хотя у нее был развит художественный вкус и она следовала моде, ей недоставало прирожденной интуиции; она была скорее образованна, нежели одарена свыше, и превозносила мужчин вроде Кальметы, Акколти или Триссино в выражениях значительно более теплых, чем те, что она использовала для Ариосто. Но стоило ей обратить свои мысли на вопросы государственной важности, как она словно сбрасывала с себя невидимые оковы, выпрямлялась и демонстрировала оригинальность суждений и почти дьявольский ум.
Как и следовало ожидать, ее усилия, связанные с выходом во внешний мир, оставляли немного времени для нежного и интимного мира женщины. Появлявшаяся временами нежность, так ей несвойственная, была отголоском слабой наследственности со стороны мягкой и нежной матери. Изабелла не была столь привлекательной, как ее придворные дамы, но так следила за своей внешностью, что, будучи довольно приземистой, создавала полное впечатление величественной фигуры.
Неизбежный приезд Лукреции впервые пошатнул устои созданного Изабеллой мира. Она не знала, чего ожидать от новой невестки и ее двора, с которым никто не решался конкурировать. К этому моменту каждый считал своим долгом сообщить Изабелле о красоте и достоинствах Лукреции, но непосредственно из уст бывшего мужа Лукреции (который первым браком был женат на сестре маркиза Мантуанского) она слышала клеветническую версию о скандальном прошлом новоявленной невестки. Необходимость относиться к подобной женщине как к равной и оказывать ей как хозяйке Феррары должное уважение, было ничто по сравнению с мыслью о той роли, которую Лукреция сможет играть на границе ее владений, в ее родном городе и среди людей, которые называли ее, Изабеллу, «первой женщиной эпохи» и даже «богиней». Каждое сообщение о богатстве и очаровании конкурентки наносило очередной удар по самолюбию Изабеллы Мантуанской.
Долгие зимние месяцы, с октября по январь, при дворе Мантуи были до предела заполнены делами. Изабелла муштровала прислугу, часами изучала новые фасоны, подбирая цветовые гаммы, бархат и меха, чтобы найти наиболее оригинальное сочетание. Она не довольствовалась золотом и парчой и отыскивала новые идеи в украшенных цветными рисунками рукописях. Изабелла занималась пением, аккомпанируя себе на лютне. Она знала, что Лукреция обожает танцы, и решила превзойти ее даже в этом. Она не только научилась французским и итальянским танцам, причем при полном отсутствии способностей к этому виду искусства, но и овладела навыками учителя танцев.
14 ноября 1501 года, в то время как Лукреция в Риме все еще мучилась от неопределенности положения, герцог Эрколе уже послал Изабелле официальное приглашение на свадьбу. Совсем недавно оригинальный текст помог пролить свет на вопрос, который на протяжении длительно времени ставил историков в тупик. Почему на свадьбе Борджиа-Эсте в Ферраре Изабелла появилась одна? Почему ее не сопровождал муж? Люцио, заслуживающий наибольшего доверия историк дворов Мантуи и Феррары эпохи Ренессанса, расценивает факт отсутствия Гонзага в Ферраре как недоверие к герцогу Валентинуа, который своей страстью к интриганству наводил ужас на всех тиранов Италии. Люцио цитирует письмо из Бользано от Маттео Мартино да Буссето маркизу Мантуанскому, в котором он сообщает, что папа заключил тайный союз с Францией и Венецией и отдал распоряжение, чтобы армия Валентинуа напала на Феррару во время свадебных торжеств и захватила в плен владельцев тех территорий, которые он собирается оккупировать. Гипотеза кажется столь абсурдной, что, как я полагаю, могла вынашиваться только при дворе императора Максимилиана, чей рассудок был явно расстроен. Буссето советует маркизу Мантуанскому не оставлять своих владений и вести пристальное наблюдение на границах. Письмо написано 9 декабря 1501 года и, как нам теперь ясно, не имеет никакого отношения к отсутствию Франческо Гонзага на свадьбе. Именно герцог Эрколе был тем, кто воспрепятствовал появлению Гонзага по причинам, изложенным им в письме дочери.
Письмо начиналось с официального приглашения маркизы Мантуанской на свадьбу: «Ваша Светлость должна присутствовать на свадьбе, поскольку является нашей дочерью». И дальше: «Нам кажется предпочтительнее, чтобы, учитывая сложившееся положение, Его Светлость Франческо Гонзага не появлялся у нас, и я уверен, что Его Светлость проявит благоразумие, внимательно рассмотрит вопрос, полностью отдавая себе отчет в происходящем». Это больше чем совет, это – приказ. «Ваша Светлость в состоянии объяснить ему это», – заканчивает письмо герцог, тем самым показывая, что он более уверен в понимании со стороны дочери, нежели со стороны зятя. Итак, если Гонзага испугался (а для этого у него были серьезные основания), то герцог Феррарский, который был не из тех, кого могли напугать бредовые фантазии, стал первым, кто поддержал его. Свойственное Валентинуа стремление к завоеваниям было общеизвестно, и Эрколе был осведомлен о том, что папа жаловался на Гонзага Сарацени и Беллингьери, говоря, что он «излишне свободен в речах» и прежде всего виновен в том, что давал пристанище его, понтифика, врагам, включая Джованни Сфорца. Вот почему Изабелла отправляется в дорогу без мужа. Ее сопровождает маркиза Котронская, а в Ферраре встречают невестка Елизавета Гонзага, герцогиня Урбинская и близкая подруга Милия Пио ди Монтефельтро – одна из самых остроумных женщин своего времени. Изабелла знала, что они разделяют ее взгляды и будут поддерживать во всех вопросах.
Свадьба Борджиа в Ферраре запустила в действие огромный механизм и даже развязала закрытый кошелек герцога, хотя он и вел подробный учет всех расходов. Джикомо и маэстро Никколо получили заказы на изготовление шкатулок. Придворный ювелир вставлял новые драгоценные камни в старую оправу. Бернардино, венецианский гравер, вместе с Джорджио делла Корделле и Франческо Спаньоле занимались новой сбруей с золотыми пластинами для лошади жениха. Художники Фино и Бартоломео да Бресци разрисовывали, красили и покрывали позолотой экипажи, в которых должны были ехать придворные дамы. На улицах, в замке Тедалдо и в Сарацено и Сан-Доменико были установлены деревянные эстрады для актеров, которые должны приветствовать невесту. Но больше всего народу, настоящая армия, было задействовано в подготовке театральных представлений – комедий, интермедий и так называемых мавританских танцев под личным руководством герцога. Постановщики Эрколе Паниццато и Филлипо Пиццабекари ломали голову над тем, как добиться впечатления, достойного аудитории и отмечаемого события. В большом зале палаццо делла Реджионе художники и декораторы под руководством художника Якопо Майнарди декорировали белой, красной и зеленой тканью ступени, которые должны были выдержать пять тысяч зрителей, драпировали золотой тканью балдахин герцога, развешивали гирлянды из зелени и изобразили огромные гербы д'Эсте и Борджиа, а также великого покровителя Феррары – короля Франции. Пока сотня актеров, музыкантов и танцоров репетировала свои выступления, составлялся перечень театрального реквизита. Этот невероятный по масштабам список включал: плюмажи из страусовых перьев для Джованни Массариато, сорок фунтов специального страховочного каната, колокольчики, тамбурины и цветные шары для маэстро Бельтрано, двадцать четыре зеркала для маэстро Джорджио, шестнадцать навесов из красного шелка для мессира Люка, украшенные вышивкой перчатки для Марино, полосатые цветные чулки для Сальваторе Байони, тридцать девять колец, чтобы «мнимые мавританки» вставили их в уши, шпоры, ожерелья и маски феррарского специалиста Джероламо делла Виола, таинственный «музыкальный шарик», парики, меха, канделябры, ленты, пояса, колокольчики, трубы, непонятные предметы одежды, сорочки, камзолы, плащи и башмаки.
До Ферарры Лукреция с компанией добирается с несколькими остановками. Они проезжают через Сполето, где Лукреция когда-то была губернатором. В Урбино их встречает знаменитая Елизавета Гонзага, герцогиня Урбинская и сестра маркиза Мантуанского. Миновав Пе-заро, они двигаются дальше на север. Все расстроены дошедшими до них слухами: Джан Баттиста Карраччьо-ло, жених прекрасной Доротеи, которую похитил Валентинуа, собирается на них напасть. 28 января они приезжают в Болонью, где их принимает семейство Бентивольо, тирана этого города. В замке Болоньезе, одном из красивейших замков Бентивольо, происходит встреча Лукреции с Альфонсо д'Эсте. Жених и невеста проводят какое-то время «в приятной беседе о присутствующих», после чего Альфонсо откланивается. Последняя часть пути проходит по реке. Утром 1 февраля 1502 года Изабелла д'Эсте Гонзага с братом доном Джулио отправляются встречать Лукрецию на последнем этапе пути.
Следующая встреча, которой более всего страшилась Лукреция, состоялась в Торре-делла-Фосса, где герцог Эрколе ожидал свою невестку с группой придворных сановников. Как только лодка коснулась берега, Лукреция встает, быстро проходит по мостику и наклоняется, чтобы поцеловать руку свекру. В свою очередь герцог поднимает ее, заключает в объятия, произносит слова приветствия, берет за руку и ведет ее и наиболее влиятельных членов ее двора к своему большому золотому «Буцентав-ру» – кораблю, предназначенному для праздничной церемонии. Здесь Лукрецию ожидают послы, чтобы выразить дань уважения невесте, а затем все присутствующие входят в своего рода беседку, где Лукрецию усаживают между французским и венецианским послами. Изабелла д'Эсте оказывается между венецианским и флорентийским, а герцогиня Урбинская – между флорентийским послом и послом от Люкки. В последующем разговоре галантный французский посол де ля Рош Мартин ведет себя так, словно является воплощением французской учтивости и рыцарских манер. Снаружи до них доносится громкий смех синьоров и придворных, наблюдающих за тем, как шуты Лукреции подшучивают над Эрколе д'Эсте и Альфонсо. Корабль приближается к Ферраре, и уже видны выстроившиеся вдоль берега арбалетчики Альфонсо, слышен грохот артиллерийских орудий, принадлежащих Альфонсо, и радостные звуки, извлекаемые трубачами, которые скачут вдоль берега, держась рядом с кораблем. К четырем часам под артиллерийский салют вся компания прибывает во дворец Альберто д'Эсте, где Лукреция должна остаться до утра. Невесту встречают Лукреция д'Эсте, старшая законная дочь Эрколе д'Эсте, и большая группа дворян из Феррары и Болоньи. Сенешаль Альфонсо представляет Теодору Анджелини с двенадцатью юными камеристками, отобранными герцогом Эрколе. Девушки в нарядах из красного атласа и черного бархата кажутся робкими и до крайности смущенными. С лица Лукреции не сходит улыбка; она выражает признательность за комплименты и поздравления. Герцог Эрколе дарит Лукреции пять карет; одна запряжена белыми лошадьми и декорирована золотом, другая, декорированная коричневым атласом, с гнедыми лошадьми и так далее. Но вот наступает время прощаться, и семейство д'Эсте возвращается в Феррару.
Поднявшись в апартаменты, Лукреция, наконец-то оставшись одна, может стереть с лица застывшую с раннего рассвета улыбку. Она бросила взгляд на возвышающуюся вдали четырехугольную громаду замка Эсте и решила, что пока не может утверждать, что добилась окончательного успеха. Завтра наступит кульминационный и завершающий момент свадьбы. Лукреция, вероятно, трепетала при мысли о новой близости. Она очень устала и находилась в полном смятении и мыслей и чувств.
Утро. Женщины надевают на Лукрецию свадебное платье из чередующихся лент золотого и темного, почти черного атласа, с широкими рукавами по французской моде, отделанное мехом горностая, и длинный золотой плащ, подбитый горностаем по моде XVI века. Законченность наряду придают фамильные драгоценности д'Эсте, которые выгодно смотрятся на фоне темного атласа, золотой ткани и меха горностая. Ожерелье из великолепных рубинов и бриллиантов обвивает шею Лукреции, драгоценные камни искрятся в золотой сетке, поддерживающей ее длинные волосы, оставляя открытым лоб. Невеста готова. Она спускается вниз и садится на огромного серого жеребца, покрытого попоной из малинового бархата, подарок герцога, и направляется в город в сопровождении французского посла и собственной свиты. В воротах стоят доктора из Феррарского университета, цвет городской интеллигенции, готовые нести балдахин из темно-красного атласа, под которым едет невеста. Один информатор сообщает нам, что французский посол ехал рядом с невестой, но не под балдахином, а другой – что он вместе с венецианским послом следовал за невестой. Процессия движется в следующем порядке. Впереди арбалетчики герцога Эрколе, за ними восемьдесят трубачей и двадцать четыре музыканта с флейтами и волынками. Далее следуют дворяне Феррары; на них невероятно дорогие золотые цепи. Они бросают быстрые взгляды в толпу: какое впечатление производит это на простолюдинов? За ними – дворянки герцогини Урбинской, одетые по ее приказу в черный бархат или атлас; дон Альфонсо на лошади, упряжь которой украшена золотыми пластинами работы мессира Бернардино, венецианца. Руководствовался ли жених собственным вкусом, или это вышло случайно, но на нем одежда спокойных тонов – бежевый камзол, черный берет с белым пером и бежевые чулки. Рядом с ним скачет его шурин Аннибале Бентивольо, окруженный друзьями, Джероламо даль Формо из Модены, Алессандро Фаруффино, Андреа Понтеджино и Биджо дей Банчи.
За ними снедаемые любопытством и недоверием римские и испанские аристократы. Они казались иностранцами (и, вероятно, именно так себя и чувствовали) и держались слишком высокомерно (а ведь на них не было никаких украшений!), хотя кое-кто из испанцев, чьи тонкие лица покрывала изысканная бледность, а одежда была из золотой парчи или черного бархата, вызывали восхищение своим мрачным благородством. Следом едут пять епископов, послы из Люкки, Сиены, Венеции и Флоренции и четыре посла из Рима в длинных плащах из золотой парчи. За ними шесть барабанщиков и два клоуна. Клоуны возвещают о прибытии Лукреции, которая медленно движется впереди под блестящим балдахином. Она настолько преисполнена чувством ответственности, что, когда ее лошадь становится на дыбы, испугавшись фейерверка, продолжает улыбаться. Лукреция соскальзывает с лошади и пересаживается на одного из своих мулов, которого подводят грумы. Кортеж торжественно въезжает в город. Герцог Эрколе подъезжает к Лукреции, и они едут между домами, через площади Феррары. Рядом с Лукрецией герцогиня Урбинская в новом изысканном платье из черного бархата, расшитого золотыми знаками зодиака. За ней три женщины Орсини – Орсина Орсини Колонна, Джеронима Борджиа Орсини и Адриана Мила – и двенадцать карет с местными и иностранными красавицами, вызывающими всеобщее восхищение. Затем личная кавалькада Лукреции и вереница повозок с багажом, запряженных мулами в попонах из желтого и коричневого атласа.
Спокойная и уверенная, въезжала Лукреция в чужой город. Наконец-то она была свободна и наслаждалась произведенным триумфом, причиной которого на этот раз в большей степени были ее такт и любезность, чем власть, данная ей отцом. Для каждого у нее находились улыбки и приветствия; аристократы и простолюдины, ремесленники и солдаты – все чувствовали себя рыцарями, обязанными защищать хрупкую женщину. В первый момент Лукреция, возможно, разочаровала некоторых зрителей непривычно мелкими чертами лица и изящной фигурой. Первое чувство разочарования быстро рассеялось; прелестное лицо и выражение глаз, словно молящих о пощаде, наполнили любовью все сердца. Под фанфары, приветствия и песни Лукреция выехала на Пьяцца-дель-Дуомо. Все прошло гладко, без задержек. У въезда во дворец с башен Риджобелло дворца Подеста к ногам Лукреции спускаются два акробата, чтобы поприветствовать невесту. К этому моменту идущие во главе процессии входят во внутренний двор и занимают места вдоль аркады напротив входа и с двух сторон под окнами, украшенными цветочными гирляндами в стиле ломбардского Ренессанса, с символикой Борсо, василисками, орлами, крестами и розами. Свободным остается только пространство у основания широкой мраморной лестницы.
Наверху лестницы стоит Изабелла д'Эсте Гонзага, решительно завладевшая вниманием всех аристократок из Феррары и Болоньи. На ней роскошное золотое платье, расшитое нотными знаками, замечательно контрастирующее с астрологическим платьем герцогини Урбинской. У подножия лестницы Лукреция ступает на землю и тут же, в соответствии с традицией, стрелки Альфонсо и Эрколе начинают сражаться за балдахин и мула новобрачной. Тем временем Лукреция поднимается по ступенькам, приближаясь к последней фазе своего триумфального шествия. С двух сторон у двери в зал для приемов установлены гигантские статуи. Под их символической охраной Лукреция входит в зал – «один из прекраснейших в Италии», украшенный золотыми и серебряными гобеленами и драпировками из шелка. В зале невесту приветствует старик, по лицу которого можно изучать его жизнь, – гуманист Пеллегрино Присчиано. Он произносит официальную речь на торжественной, скучной и витиеватой латыни. Он начинает даже не с Адама и Евы, а с союза стихий, земли и воды, и только после ссылок на халдеев, египтян и греков и цитирования Гомера и Аристотеля осыпает похвалами Лукрецию. В нескольких фразах он превозносит семейство Борджиа, особенно Каликста III, а затем принимается исступленно восторгаться личностью и достижениями Александра VI, который, по сути, и являлся основой его длинной торжественной речи. Присчиано сравнил понтифика со святым Петром и добавил: «Habuit Petrus Petronillam filiam pulcherrimam; habet Alexander Lucretiam decore и virtutibusundique resplendentem. О immensa Dei omnipotens mysteria, О beatissimi homines…»{7}.
Валентинуа тоже отводится место в генеалогическом древе семьи; его военные успехи дают прекрасную пищу для красноречия. Покончив с Борджиа, оратор решительно переходит к основному вопросу – величию семейства д'Эсте, о котором он повествует с его возникновения до настоящего момента.
Мне ничего неизвестно ни о других речах, произнесенных в этот день, ни о стихах, которые декламировали поэты. По окончании церемонии Лукреция в сопровождении Изабеллы д'Эсте, герцогини Урбинской и послов удаляется в апартаменты новобрачных, и с последней музыкальной руладой двери закрываются от любопытных взглядов зрителей. Ни у кого и в мыслях нет устроить представление вокруг кровати новобрачных, как это было во время первой свадьбы Альфонсо, когда присутствующие вздумали петь, и прекратили это занятие, только когда Альфонсо всерьез пригрозил им. Лукреция была слишком взволнованна и стеснялась проявлений столь бурного веселья. У нее было достаточно причин, чтобы не афишировать любовные истории и первые браки.
Под присмотром Адрианы де Мила придворные дамы снимают с Лукреции золотые одежды, причесывают ее чудесные волосы и надевают ночную рубашку. У нее, вероятно, не осталось времени вспомнить о прошлой жизни, поскольку Альфонсо уже входил в комнату. Ночь была страстной.
Глава 8 Тревожные дни
Ночью Альфонсо показал себя галантным и сильным мужем, проявив мужской пыл три раза (хотя кое-кто утверждал, что он испытывал некоторые затруднения) в присутствии женщин, испанских прелатов, родственников и доверенных лиц, специально присланных в Феррару для наблюдения за ночным поведением супружеской пары. Неизвестно, остался ли папа доволен услышанным. Утром 3 февраля 1502 года Лукреция просыпается уже с совершенно иными ощущениями… в герцогской кровати, одна. Молодая супруга полна неги. Она медленно одевается, съедает легкий завтрак, беседуя по-испански с Адрианой Мила и Анджелой и, конечно, с епископом из Венозы. Теперь, обретя надежный дом, она возвращается к прежней милой неторопливости, как некогда с Альфонсо де Бисельи. Гости уже собрались во дворце: появились послы, а Изабелла д'Эсте, герцогиня Урбинская, Эмилия Пио и многие другие нетерпеливо ожидают начала праздничного веселья. Лукреция не спешит. Они могут подождать!
Герцог Эрколе занимается составлением письма своему послу в Риме, которое должен увидеть понтифик. Его переполняют льстивые комплименты в адрес невестки, которая «превзошла все ожидания». «Вчера вечером, – пишет герцог, – наш сын, выдающийся дон Альфонсо, и она составили компанию, и мы убеждены, что оба остались полностью удовлетворены».
Лукреция появляется к полудню. Все находят ее очень красивой, и кое-кто из гостей ищет «следы сражения с мужем» на лице молодой жены. Лукреция одета на французский манер: в золотое платье и плащ из темного атласа, обшитый узкой золотой каймой; жемчуг и рубины украшают ее шею и волосы. Французский посол выступает вперед и предлагает герцогине руку. Во главе процессии они торжественно переходят в огромный зал. Лукреция, послы и наиболее знатные дамы занимают места под золотым балдахином. Начинаются танцы. Гостей так много, что во время танцев кое-кто из женщин падает в обморок.
Ночь продолжается, и на сцену выходят сто десять актеров, одетых на классический манер, в тоги и туники. За пять дней они должны представить пять комедий Плавта, отобранных герцогом Эрколе и переведенных придворными гуманистами. Присутствующие переходят в большой зал палаццо делла Реджионе, который вмещает пять тысяч зрителей. Семья герцога занимает места под золотым балдахином. По свидетельству летописца Замботто, Лукреция «в радостном нетерпении» осматривает огромный зал. Подняв голову, она видит на потолке большие гербы: папскую тиару, вызывающую в памяти феодальное прошлое герцогства, лилии французского короля и быка Борджиа рядом с черно-белыми орлами дома д'Эсте. Собралась огромная аудитория; справа и слева слуги семейства д'Эсте, Гонзага и Бентивольо, на котором так много «парчи и золотой вышивки, что невольно вызывает ассоциацию с золотым рудником». Зал сверкает разноцветными красками и утопает в роскоши. Чувствуется сердечная атмосфера. У герцога Эрколе уже не такой суровый взгляд, когда он смотрит на сцену. Время начинать представление. Внезапно сцена оживает, и «Epidicus» играется в свете «такого количества люстр и канделябров, что видно все до мельчайших подробностей; стихи произносятся в полной тишине, и никто не выказывает огорчения в связи с поздним ужином». Изабелла, маркиза Мантуанская, разошлась во мнениях с этим хроникером. Она обнаружила недостатки в стихотворных формах, а голоса актеров действовали ей на нервы. Но даже она вынуждена признать, что аллегорические и фантастические танцы «были очень хорошо поставлены».
На следующее утро, 4 февраля, Лукреция никому не позволяет входить в свою спальню, где проводит время до полудня. Изабелла д'Эсте делает вывод, что герцогиня много времени уделяет туалету, в то время как сама она с раннего утра уже готова принимать братьев и женщин, оказавшихся перед закрытой дверью в апартаменты Лукреции, бдительно охраняемые придворными герцогини. 4 февраля, в пятницу, отмечаются Страсти Господни, и придворные дамы Лукреции одеты во все черное, как и полагается при католическом испанском дворе. В этот день танцы не устраиваются. Сразу начинается комедия «Bacchides», и Изабелла находит ее слишком затянутой и скучной. В перерывах показывают два мавританских балета, которые не имеют успеха; публика зевает и недовольна. Наступает самый интересный момент за весь вечер – гости покидают дворец герцога и небольшими группами расходятся по домам, где начинают живо обсуждать события прошедшего вечера. Учитывая антипатию семейства д'Эсте, особенно герцога Эрколе и Изабеллы, к тем, кто составляет свиту Лукреции, они насмехаются над молодыми римлянами и испанцами, без всякой надежды на удачу посещающих дома красавиц Феррары. Изабелла смеется над молодыми людьми, однако на тот случай, если вдруг понадобится помощь со стороны Ватикана, оказывает одному или двум мужчинам из свиты Лукреции знаки внимания. Только в ближайшем окружении Изабелла позволяет себе недружелюбно высказываться о Лукреции. В субботу, на третий день торжеств, Лукреция объявляет, что останется в своих апартаментах, чтобы вымыть голову и написать письма.
Отсутствие Лукреции в субботу дает возможность Изабелле критически оценить собственное положение. Она надевает роскошное серебряное платье и разрабатывает план обольщения самой значительной персоны – Филиппа де ля Рош Мартина, французского посла. И здесь дело было не только в ее задетом самолюбии; Изабелла обладала достаточным политическим чутьем, чтобы понимать – французский король подозревает ее в крепкой дружбе с Людовико Моро. Теперь, к несчастью для Италии, крепла власть короля Франции, и Изабелла понимала, что необходимо заполучить друзей при французском дворе.
Маркиза Мантуанская выяснила, как французский посол планировал провести день, и узнала, что он пригласил к себе после окончания мессы в кафедральном соборе нескольких феррарских аристократов. Затем он должен преподносить подарки французского короля: золотую медаль с изображением святого Франциска – герцогу Эрколе; золотые четки, полые бусины которых наполнены пахучим мускусом, – Лукреции, и медальон с изображением Марии Магдалены – Альфонсо, удивительный, но не случайный выбор. Как объясняет Каньоло, Людовик XII рассматривал это как ссылку на новобрачную, «отважную и нежную, как Магдалена». Учитывая, кем являлся даритель, подарок был принят, хотя Альфонсо скорее предпочел бы другой дар от короля – его метод отливки орудий.
После вручения подарков посол поехал нанести несколько визитов, в том числе и маркизе Мантуанской, которая пригласила его на ужин. Филипп де ля Рош Мартин не мог пожелать ничего лучшего, чем провести время с такой приятной и хорошо осведомленной женщиной, к тому же окруженной остроумными девушками, раскованными, веселыми и готовыми доставить удовольствие. Посол, сидящий между Изабеллой и герцогиней Урбинской, непринужденно поддерживал разговор. Маркиза с сияющими глазами под аккомпанемент лютни небольшим, но приятным голосом исполнила несколько современных арий. Наконец, вместе с двумя девушками Изабелла отвела француза в свои личные покои и с видом соучастницы сняла свои надушенные перчатки с очаровательных ручек и подарила их рыцарю вместе с «милыми и благородными» словами. Опьяненный чувством, посол ответил, что принимает перчатки с благодарностью и любовью и обещает хранить их в «священном месте».
В воскресенье состоялась торжественная месса в кафедральном соборе, на которой присутствовали феррарцы и прелаты (хотя из послов был только де ля Рош Мартин). Альфонсо вручают благословенные папой шапочку и меч, подарки, привезенные Лукрецией. Из собора все отправляются во дворец, и начинается бал. Под музыку лютней и виол Лукреция с одной из своих придворных дам исполняет французский танец – страстно и изящно, и «очень благородно», как вынуждена признать сама Изабелла. Бал длится более двух часов, а затем все идут смотреть представление. По какой-то непонятной причине, может, сказалось возбуждение от танцев, но зрители никак не могут сосредоточиться. А ведь комедия уже началась! Скоро в первых рядах зрители начинают шептаться, и затем поднимается общий шум, так что актерам приходится перекрикивать разговаривающих в полный голос зрителей. Неизвестно, что было бы дальше, но ситуация была удачно разрешена счастливой мыслью о танцах.
Известно, что в тот вечер во время беспорядка в зале произошла сцена между Изабеллой д'Эсте и «известной иностранной персоной». Изабелла первой начала ехидно критиковать представление, отвернулась от сцены и стала обмениваться шутками с соседом, обратив все внимание на него и смеясь в ответ на все, что бы он ни говорил. Она даже распорядилась, чтобы принесли сладости, и угостила своего собеседника, который был весьма польщен и искренне участвовал в игре. Изабелла настолько увлеклась, что совершенно забыла, что это праздники в честь ее невестки и она должна соблюдать хоть какие-то правила приличия.
Какова же была реакция Лукреции? Она не имела никакого опыта общения в столь легкомысленной среде, так непохожей на римский двор, но здесь не было никого, кто помог бы ей. Альфонсо исполнял супружеские обязанности по ночам и уважительно относился к ней на людях, но между ними не было никакой особой близости или доверия, и муж в основном оставлял Лукрецию одну. Герцог Эрколе занимался подсчетом того, во что ему обходятся привычки невестки и ее двора, и уже разрабатывал план по сокращению ее расходов. Семейство д'Эсте и феррарцы под влиянием Изабеллы при внешней подобострастности были враждебно настроены к новой герцогине. На самом деле Лукреция вовсе не была подавлена. В качестве ответной меры она закрылась со своими женщинами и отказалась от разговоров с выбранными герцогом Эрколе придворными дамами.
Понедельник начался с турнира на Пьяцца-дель-Дуомо между Альдровандино Пьятезе да Болонья и Вичино да Имола; последний был воспитанником маркиза Мантуанского. Часовой бой закончился победой Альдровандино. Затем все опять проследовали на представление. Давали «Asinaria». Наученные горьким опытом, актеры сократили пьесу; успешное завершение представления отметила даже Изабелла. В перерыве был концерт; выступила известная певица, колоратурное сопрано, Тромбосино, затем была показана танцевальная пантомима со звенящими колокольчиками и мавританский танец на тему сбора урожая.
В последний день карнавала, 8 февраля, послы вручили подарки Лукреции. Флоренция передала золотую ткань, Сиена и Люкка – серебро, а Венеция – два плаща из великолепного венецианского бархата, подбитые горностаем. В этот же день гости смотрят последнюю из комедий Плавта «Casina» – «непристойную» пьесу о проститутках и сутенерах. Комедия дала возможность продемонстрировать Изабелле собственное достоинство и скромность – она запретила своим придворным дамам находиться среди публики (у них, судя по всему, не хватало достоинства, поскольку они умоляли Изабеллу выдать их замуж за придворных, чтобы покончить с надзором за их несокрушимым целомудрием). Сама Изабелла присутствовала на представлении, но сидела поджав губы и с оскорбленным видом. Эрколе прекрасно знал обо всех злонамеренных планах дочери, и было абсолютно ясно, что Изабелла, следуя нравам своей эпохи, допускает в высшей степени неприличные выступления. В любом случае Лукреция не могла понять намерений Изабеллы или делала вид, что не понимает. Она наслаждалась комедией, которая исполнялась «с новыми сценами любви», и слушала с восторгом то, что один придворный охарактеризовал как «необычайно сладкое и непристойное». Танцы, исполненные в перерывах, были великолепны. На сцену падает огромный шар, из него появляются четыре Добродетели, песней восхваляющие невесту. Дон Альфонсо и дон Джулио участвуют в представлении и демонстрируют свои акробатические способности в военном танце, а затем Альфонсо участвует в концерте виол. Вечер заканчивается балом. В тот же вечер на ужине гости заговорили об отъезде.
Прощание началось в Пепельную среду. Послы посетили герцогиню в ее апартаментах. Лукреция в конце концов согласилась открыть двери, и Изабелла д'Эсте и Елизавета Гонзага, воспользовавшись предоставленной возможностью, внимательно ознакомились с обстановкой. Венецианский посол произнес замечательную речь. В ответной речи Изабелла в красноречивой и витиеватой манере отметила великолепие династии Гонзага, военный талант маркиза Мантуанского и традиционную дружбу между Мантуей и Венецией. Затем Елизавета произнесла короткую речь, и, наконец, Лукреция застенчиво выразила свои чувства всего несколькими словами, которые, согласно информатору, немного добавили к уже сказанному, но показали ее воспитанность и здравый смысл.
Гости уезжали из Феррары, но 14 февраля, через пять дней после окончания карнавала, оставались еще четыреста пятьдесят человек и триста пятьдесят лошадей. Изабелла писала своему мужу: «Ваша Светлость может представить, как это нравится герцогу». Эрколе д'Эсте, негодуя, просматривает расходные ведомости, ища выход из сложившегося положения. Просто надо найти предлог, чтобы выставить вон людей герцога Валентинуа, и Эрколе отправляет их на том основании, что их пребывание в Ферраре делает мало чести его святейшеству и герцогу Романьи. Более того, в письме Бельтранто Костабили в Рим Эрколе указывает, что у женщин, оставшихся в Ферраре, так много рыцарей, грумов и слуг, что гостеприимство обходится ему слишком дорогой ценой.
Изабелла д'Эсте тоже решает отложить отъезд из Феррары. Ей становится известно, что дела ее невестки не так хороши, как кажутся на первый взгляд, и явные щели в ее броне заставляют Изабеллу остаться. Общаясь с Теодорой Анджелини, феррарской придворной дамой Лукреции, Изабелла легко переводит разговор в пессимистическое русло, и поощренная таким образом девушка признается, что в скором времени герцогиня избавится от всех феррарцев и оставит при дворе только римлян и испанцев. Изабелла уверена, что эти опасения, о которых она немедленно оповестила, вызовут бурную реакцию не только среди придворных, но и в семействе д'Эсте. Теперь она могла отомстить, и 16 февраля, почувствовав, что уже достаточно сделано, Изабелла уезжает вместе с Эмилией Пио, маркизой Котронской, Елизаветой Гонзага и всеми сопровождающими. После церемонии прощания Лукреция и ее двор вздохнули с облегчением. Изабелла и Лукреция обменялись холодными, но учтивыми коротенькими письмами. Время шло, а их отношения оставались неизменными.
Намеки Изабеллы не остались без внимания. В конце февраля по приказу герцога большая часть испанцев Лукреции и кое-кто из придворных дам должны покинуть Феррару. Это, сказали придворные, только начало. Удар нанесен настолько неожиданно, что Лукреция ощущает его особенно болезненно. Но она никак не реагирует, будто ничего не происходит. Она ясно осознает, что не обладает никакой властью, и обязана согласовывать свою жизнь, по крайней мере внешне, с жизнью своей новой семьи.
В день отъезда испанцев Эрколе д'Эсте организовал специально для Лукреции изысканную охоту в парке Бельфьоре, когда специально обученных соколов посылали за цаплями, зайцев ловили с помощью леопардов, а лисиц загоняла свора гончих, принадлежавшая герцогу. Лукреция наблюдала за рыцарями и дамами, скачущими на великолепных лошадях через зимний лес, который только просыпался в ожидании первых фиалок. Лукреция наслаждалась солнечным утром, вдыхая прохладный воздух, но, конечно, испытывала укоры совести при мысли о людях, которых она любила и которые ехали сейчас на юг. Правда, сейчас было важнее позаботиться о тех, кто остался, и, возможно, у Лукреции уже был готов план, когда вечером она возвратилась в замок.
Она не возмущалась. Нет, она притворилась, что сдается, смирилась с теми слугами и придворными дамами, которых навязал ей Эрколе, и не знает о плане свекра еще до Пасхи выслать из Феррары Адриану Мила, мадонну Цеццареллу и других. Она призвала феррарских девушек и даже пригласила Теодору Анджелини к своему столу в Великий пост. Теодора с трудом верила в случившееся и в письме Изабелле рассыпалась в похвалах герцогине, которая стала «нормальной, милой и человечной». Кроме того, должно быть, кто-то объяснил Лукреции, что ее холодность по отношению к Изабелле является серьезной дипломатической ошибкой, и в разговоре с Теодорой она выражала полное согласие с похвалами, расточаемыми в адрес невестки. Один из испанцев, которого Изабелла склонила на свою сторону, обратил внимание Лукреции, что феррарцы отмечают ее холодность по отношению к семейству д'Эсте. Лукреция, приняв несчастный вид, начала оправдываться, что еще не освоилась в новой стране, горько сожалеет, что не воспользовалась предоставленными ей блестящими возможностями – все это, безусловно, предназначалось для ушей Изабеллы.
Известный своей жадностью, старый герцог Эрколе выделил невестке ежегодную ренту в 8 тысяч дукатов. На это она должна была содержать двор: одевать, кормить, содержать лошадей и повозки, не считая пожертвований и приемов, соответствующих ее положению. Подобное решение оскорбило Лукрецию, которая любила тратить деньги щедро, как королева, и небрежно, как куртизанка. Кроме того, она прекрасно знала, что ее приданое позволяет выделить ренту в 12 тысяч дукатов. И теперь она просила об этом. Эрколе решил посоветоваться с Изабеллой, которая незамедлительно ответила, что сумму в 8 тысяч дукатов считает приемлемой, после чего герцог все-таки пошел на компромисс и выделил Лукреции 10 тысяч в год. Лукреция заявляет, что не владеет искусством заключать сделки, и уходит, бросив напоследок: «Феррарский лавочник» – выражение, которым уже пользовался Александр VI. Альфонсо д'Эсте, не вмешиваясь, наблюдает за препирательствами. Конфликт между свекром и невесткой разрастается, становится все более ожесточенным и часто переходит границы дозволенного. Вскоре Лукреция получила дополнительный довод в свою пользу: в марте стало очевидно, что она ожидает наследника. Интересно, будет ли в этом случае герцог настаивать на своем или все-таки уступит?
Похоже, он не собирается менять своего решения, хотя всячески демонстрирует отеческую заботу: сопровождает невестку во время посещений монастырей и церквей и даже в Вербное воскресенье отправляется с ней в одном экипаже, чтобы увидеть дочь Сиджизмондо д'Эсте, Джинерву, постригающуюся в монахини в древнем монастыре Сан Антонио, рядом с Порто-Романа. Холодные взгляды, которыми обменивались свекор и невестка, были красноречивее любых слов, но Эрколе оставался тверд, как кремень, и Лукреции пришлось уступить. Замешательство и растерянность привели ее в поисках утешения в монастырь. Это случилось в среду на Страстной неделе. Монастырь, выбранный Лукрецией, естественно, не относился к излюбленным местам Эрколе. Это был монастырь, основанный Элеонорой Арагонской для детей из аристократических домов. Он существует и по сей день.
Обитый шелком экипаж движется настолько медленно, что Лукреция может сосчитать почки на небольших деревцах, растущих вдоль стен монастыря. Выйдя из экипажа, Лукреция проходит через небольшой, скромно оформленный арочный проем. Настоятельница и монахини ожидают ее, и среди них Лаура Байярдо, кузина поэта. Лукреции кажется, что она снова в Сан Систо, она с наслаждением прислушивается к шелесту монашеских одеяний. Она вновь видит спокойные улыбки на лицах монахинь, вдыхает аромат ладана, слышит призывный звон колоколов и нежное пение. Впервые за долгие дни Лукреция спокойно засыпает в маленькой келье посреди разлившейся тишины. Будущее казалось многообещающим, и она больше не чувствовала необходимости вести борьбу с неприятельскими силами.
Из Ватикана Александр VI пристально наблюдал за жизнью дочери. Помимо официальных писем, которые герцог присылал своему послу Костабили и лично ему, понтифик получал информацию об отношениях новобрачных через тайных слуг. Ему было приятно услышать о пышных празднествах, о триумфе Лукреции, и как-то в приливе чувств он заявил феррарскому послу, что относится к дону Альфонсо как к сыну, не проводя различия между ним и герцогом Валентинуа, добавив: «Помяните мое слово, герцогиня забеременеет еще до Пасхи, и, когда это случится, мне бы хотелось, чтобы дон Альфонсо приехал сюда».
Расположение и любовь к семейству д'Эсте удачно сочетались у папы с осторожностью и предусмотрительностью. Из Феррары шли постоянные просьбы о церковных привилегиях для д'Эсте. Кардинал Ипполито чувствовал себя в Риме как дома; его приглашали на охоту и пирушки, а во время карнавала на приемы, балы и вечеринки в папские апартаменты. Участники этих вечеринок преследовали определенные цели. Там был замечен смуглый профиль Чезаре Борджиа, одерживавшего одну победу за другой. Санча Арагонская, отправленная в отставку на период свадебных мероприятий, вернулась, еще более дерзкая и неугомонная, чем прежде. Там бывал некий прелат, приверженец Борджиа, и какой-то испанец. Папа заставлял девочек танцевать и не уставал постоянно проводить вечеринки. Атмосфера вседозволенности способствовала любовной интриге, начавшейся между Санчей и кардиналом Ипполито. Они были двоюродными братом и сестрой, поскольку король Альфонсо, отец Санчи, был братом матери Ипполито, Элеоноры Арагонской. Санча не задумывалась о подозрительности или ревности Чезаре; такие мысли не могли стать препятствием у нее на пути желаний. Со своей стороны кардинал Ипполито, что характерно, рассматривал свою прихоть как веление судьбы. Риск только возбуждал любовников. В конце февраля и в первых числах марта в Рим из Феррары начали возвращаться испанцы и римляне. Первым появился рыцарь Чезаре, и можно легко представить, какие слухи поползли по Риму. «Я слышу со всех сторон, что испанцы, вернувшиеся из Феррары, говорят, что их выгнали оттуда и, мало того, собираются выслать всех наиболее близких герцогине слуг», – сообщалось феррарскому послу. Костабили решил положить конец слухам, и его сутана была замечена во дворцах наиболее влиятельных кардиналов. Папа отмалчивался и только постоянно приставал к послу с письмами Лукреции, которые прибыли в Рим с дипломатической почтой Эсте. То, что Лукреция иногда задерживалась с ответами, можно понять из вопросов понтифика: «Разве герцогиня не ответила на отправленное [мною] в среду послание?» – поинтересовался папа 15 февраля, и, когда Костабили упомянул о невероятной активности Лукреции, «папа рассмеялся и решил переговорить с Чезаре». Когда наконец пришло письмо, оно вызвало много шуму. Александр VI вызвал Костабили и сообщил, что получил неприятные известия из Феррары; оказывается, у Лукреции нет денег, и ей пришлось заложить драгоценности, чтобы купить подарки уезжающим из Феррары испанским друзьям. Что же ответил на это посол? Используя все возможное красноречие, Костабили принялся объяснять, как сильно любят Лукрецию в ее новой семье. Он перечислил все подарки, полученные ею от герцога, и все публичные и частные торжества, организованные в ее честь. Герцог лично приходит к Лукреции, чтобы пригласить на очередное мероприятие. Что же касается Альфонсо (а ведь папе это хорошо известно), то он горячий и страстный муж, безупречный во всех отношениях. Более того, папе уже стало известно, что последствия внимания его зятя вскоре примут конкретную форму. После этих слов к Александру VI возвращается хорошее настроение, он смеется и продолжает: помнит ли еще посол, что папа напророчил месяц назад? Костабили ответил, что все прекрасно помнит, его святейшество – превосходный пророк. Понтифик радуется, что у Альфонсо вошло в привычку спать с герцогиней каждую ночь и не искать удовольствий на стороне, как это часто делают молодые люди, хотя, добавляет он со слабым вздохом сожаления, «надо признать, что такая практика действует на них благотворно». Черту под тенденциозными сообщениями вернувшихся из Феррары людей подвел кардинал Моденский, заявив: «Если супружеская пара занимается любовью, все остальное не имеет значения».
Лукреция при всей ее кажущейся хрупкости была твердой и достаточно сильной и пришлась не по зубам герцогу Эрколе. Ее апартаменты находились практически на осадном положении. Она выехала из герцогского дворца и жила теперь в большом замке, построенном Никколо III. Замок был прямоугольной формы, окруженный рвом с «зацветшей» водой, остающейся неподвижной даже при сильном ветре. Ее комнаты, обращенные в сад, создавали иллюзию открытого пространства и, возможно, вызывали ностальгию. Одна комната была в голубых тонах, с голубой кроватью, балдахином, столом и коврами. Личная комната Лукреции была декорирована золотым атласом. В третьей комнате, обтянутой зеленым бархатом, стояла длинная скамья, на которой обычно сидели придворные дамы и посетители. Комнаты были оформлены еще до появления Лукреции, и ей казалось, что имеется определенное несоответствие между цветом и формой.
Поскольку герцог Эрколе ни на йоту не отступил от своего решения в отношении ренты и не собирался добавлять ни одного дуката к 10 тысячам, Лукреция отказалась от феррарцев. Результат ее раздражения не замедлил сказаться. Четверо феррарцев, обладающие «прекрасными качествами», сообщили, что в скором времени они будут уволены, поскольку «только испанцы снискали расположение» новой герцогини. Теодора Анджелини заявила, что забирает назад все комплименты в адрес герцогини, сделанные ею в марте, поскольку Лукреция держит ее и всех придворных дам Феррары на расстоянии и ясно дает понять, что не желает видеть их прелестных лиц «вплоть до Судного дня». Кроме того, Теодора способствовала распространению суждения, что герцогиня любит только женщин, привезенных из Рима.
Подобно всем, кто старается не уронить своего достоинства, Лукреция испытывала необходимость в очень узком круге людей, которые были бы настроены на ее тональность и на которых можно положиться. Она не выносила подозрительности и, когда понимала, что за ней шпионят, испытывала сильный дискомфорт. Ей не нужна всеобщая любовь, она хотела быть любимой лишь несколькими людьми. Семья, по ее мнению, поскольку была необходима, входила в число доверенных лиц, хотя в силу специфических особенностей была не столь важна, как ее собственный клан. Придворные дамы подражали хозяйке и притворялись даже тогда, когда позволяли соблазнить себя. Немногие из оставшихся испанцев решительно перемещались взад и вперед между апартаментами Лукреции и подсобными помещениями с видом заговорщиков, от одного вида которых стыла кровь в венах даже у расположенных к Лукреции феррарцев. Если вспомнить все, что говорилось о жадности герцога Эрколе еще в Риме, то можно себе представить настроение, царящее среди домочадцев Лукреции. Все объединились в едином стремлении – сопротивляться д'Эсте, поскольку Лукреция объяснила, что борьба ведется не за нее, а ради упрочения положения всего двора. Однако феррарцы были абсолютно не правы, полагая, что жители Испании находили большое удовольствие в смирении. Тем временем Анджела Борджиа произвела приятное впечатление на Феррару. Она довольно глупенькая, зато могла и любила смеяться и была очень забавна. Свое место в семействе д'Эсте она находит в сердце Джулио, незаконного сына Эрколе. Дон Ферранте, чтобы не отстать от брата, тоже находит среди женщин Лукреции возлюбленную – Сьенезе Никола. Эти двое, как говорили, «действовали безрассудно», хотя и «не совершая греха». Герцог вовремя вмешался, притормозив разгоревшиеся было страсти, и не дал свершиться греху. Он запретил дону Ферранте посещать апартаменты Лукреции чаще двух раз в неделю.
Добровольное изгнание Лукреции проходило под знаком Эроса. Лукреция вставала поздно, лениво одевалась и шла к обедне в маленькую капеллу. Потом завтракала. Принимала нескольких посетителей, которые позволяли себе в ее присутствии непринужденно беседовать с ее женщинами, читала духовные книги или любовную поэзию. Придумывала вместе с портнихой новые наряды. Или посылала за одним из сейфов, в которых держала бесчисленное количество обращений и секретных документов Ватикана, читала старые письма, обращаясь мыслями в прошлое. Во время приступов меланхолии Лукреция, как никогда, нуждалась в поддержке, и Никола умела ее приободрить и утешить. В атмосфере радостного возбуждения Лукреция требовала принести пудру, жаровни, золотые сетки, мавританские рубашки, наполнить что-то типа ванны горячей водой, а затем, оставшись наедине со своей любимицей Никола, снимала с себя парчу, раздевала ее, и они вместе садились в ванну, в которую маленькая горничная Люсия подливала горячую воду. Молодые женщины резвились, смеялись и согревались в душистой воде. Позже, надев только сорочки и набросив на волосы золотые сетки, они вытягивались на подушках и курили благовония. Эти подробности стали известны придворным в Ферраре и Мантуе от нескромного Священника, «сторожевого пса» Изабеллы д'Эсте. Осыпав знаками внимания… и конфетами маленькую Люсию, он покорил ее сердце и теперь имел непосредственного очевидца событий, происходивших в доме Лукреции. Таким образом, приятное времяпрепровождение Лукреции тут же обсуждалось во дворах Феррары и Мантуи, причем без каких-либо признаков осуждения или неодобрения.
К этому времени Эрколе Строцци уже появился и, мало того, занял место в жизни Лукреции. Впервые мы обнаруживаем его имя в документах, имеющих отношение к торжественному вступлению Лукреции в Феррару. «Этим вечером мы идем на ужин с М.Геркулесом Строцци», – пишет Изабелла д'Эсте своему мужу 29 января 1501 года. Строцци вместе с другими придворными был, вероятно, представлен новой герцогине в последующие дни, хотя исход дела нам неясен. Чуть позже, в марте, стало известно, что феррарский поэт мечтал стать кардиналом, давал 5 тысяч дукатов за кардинальскую шапку и что Альфонсо д'Эсте написал брату, кардиналу Ипполито, в Рим, дабы поддержать его просьбу. Возможно, Лукреция добавила что-то от себя. Но в конце марта ничего не было слышно ни о пурпуре, ни об отъезде Строцци из Феррары. Вероятно, произошло нечто заставившее его изменить планы; может, получил соответствующий ответ, или разумный совет, или многозначительное молчание подсказало ему больше любых слов. Одним словом, что-то заставило Лукрецию взять его под свою защиту. С этого дня Строцци пользуется покровительством Лукреции, может свободно входить в апартаменты герцогини и уже на пути к тому, чтобы стать ее фаворитом. Изящный поэт, безупречный придворный; знакомство с ним оказало бы честь любой выдающейся женщине. Но, несмотря на множество достоинств, его моральные качества оставляли желать лучшего.
Уж не было ли это дьявольской проделкой? Эрколе Строцци происходил из феррарской ветви знаменитой флорентийской династии Нанни Строцци, переселившейся в Феррару в начале XVI века. Он унаследовал аристократическое имя, богатство, высокое положение и репутацию от своих предков, в особенности от отца, Тито Веспасиано Строцци, одного из наиболее уважаемых стариков герцогства, известного автора латинских стихотворений. Эрколе Строцци унаследовал от отца хороший поэтический и литературный вкус и так развил его, что к тридцати годам уже превзошел отца и считался одним из наиболее изящных латинистов не только в Ферраре, но и во всей Италии. Будучи хромым от рождения, он всегда ходил с палкой, и, как это часто происходит с калеками, его физический недостаток причинял ему много душевных мук. Цинизм, пессимизм и развращенность – вот следствия его больного ума. Но мягкая грация, изящные фразы и блестящие глаза снискали ему дружбу и любовь женщин, особенно тех женщин, которые страдали. Как и следовало ожидать, его, как правило, ненавидели мужчины, но его острый ум оценил старый герцог, который покровительствовал ему при дворе как гуманисту, поэту, переводчику пьес и театральному консультанту. Альфонсо д'Эсте ненавидел Строцци, осуждая среди прочего резкость и грубость при выполнении им общественных обязанностей. Однако Альфонсо считал себя не вправе мешать Строцци и не предпринимал никаких действий, чтобы запретить ему доступ в апартаменты Лукреции. Возможно, он не видел никого более достойного, чем Строцци, кто мог бы украсить двор Лукреции умом и образованностью.
Строцци владел даром убеждения; умело играя на женском тщеславии и капризах, он всегда добивался того, чего хотел. Теперь он взялся за Лукрецию, решив дать несколько советов относительно ее гардероба. Он принялся описывать невероятное изобилие (Западная Европа и представить такого не может!) товаров в Венеции и что только там мадонна сможет удовлетворить все потребности и желания. В результате «увечный Строцци» отправляется в Венецию с ее романтической атмосферой. Там он наносит визит другу Пьетро Бембо, светочу итальянского гуманизма той поры. Кроме того, он встречается с капризной и чувственной венецианской аристократкой, с которой вступает в длительную любовную связь. В конце концов он все-таки покупает для герцогини великолепные ткани, заставляя лавочников отбирать только высококачественный товар: темно-красную и золотую парчу и изумительный бархат изысканных, редко встречающихся тонов. В Фондако, где было холодно даже в июле, раскручивают рулоны материи, только чтобы поэт мог оценить их качество и цвет. Выбранные образцы отправлены в Феррару и показаны женщинам. Восторгам нет конца! Гардероб Лукреции растет как на дрожжах… и все в кредит. Обойдя установленные жадным Эрколе ограничения (наверное, по совету Строцци), Лукреция начинает тратить деньги, не задумываясь об имеющихся у нее средствах. В кредит пошиты наряды из купленных в Венеции в кредит тканей; в кредит изготовлены наряды из цветного камлота для придворных дам. И наконец, в кредит она заказывает мессиру Бернардино, венецианскому мастеру, колыбель для будущего ребенка. Лукреция объявляет, что потратила 10 тысяч дукатов – всю годовую ренту; а специально для вечеринки с ужином, на которую она пригласила все семейство д'Эсте, включая свекра, выкладывает столовое серебро.
Подобная вечеринка являлась вызовом, и те, кто увидел гравировку, сделанную на приборах, отметили нарочитую иронию. Многочисленные предметы из «жертвенника», подаренного кардиналом Асканио Сфорца на ее свадьбу с графом де Пезаро, демонстрировали геральдические фигуры Сфорца. Все служило напоминанием об арагонском эпизоде Лукреции: большая и маленькая фляги, изящная солонка и многое другое. Предметы, щеголяющие медведем Орсини, вызывали в памяти рискованное предприятие, связанное у Лукреции с семейством Орсини, оружие Франческо Гасета, правила Толедо, сыгравшие значительную роль в любовной связи Александра VI и Джулии Фарнезе. На всем остальном господствовал герб Борджиа; в сочетании с короной и пламенем герцога Гандийского, шляпой Франческо Борджиа и, наконец, с папской тиарой. На крышке большой чаши посреди замысловатого изображения золотой листвы располагался массивный позолоченный бык, похожий на золотого библейского тельца. Быки меньших размеров были изображены на чашках, стаканах, шкатулках, вазах, чернильницах, кувшинах для воды, а на большой серебряной купели было выгравировано имя понтифика: Alexander sextus pontifex maximus.
Лукреция, пользуясь правом хозяйки ужина, при каждом удобном случае упоминала имя своего отца. Старый герцог отвечал с изысканной учтивостью, больше напоминавшей безразличие; если Лукреция намекает ему (это после всего!), что у нее не хватает средств, то у него готов ответ: он столько сделал кое-кому, в то время как они…
Нельзя сказать, что понтифик имел столь уж значительный вес при дворе д'Эсте. Эрколе начал понимать, что значимость преимуществ, исходящих из Рима, не оправдывает возложенных на них надежд, одним словом, Рим не выполняет обещанного. Поэтому, когда Лукреция, получив послание от отца, в котором он поддерживал ее требования по увеличению ренты, передала его Эрколе через одного из его придворных, герцог жестко ответил, что не собирается отступать от своего решения, «даже если Господь Бог навестит нас». Лукреция пришла в неописуемую ярость, которая достигла таких масштабов, что в один прекрасный день, когда герцог нанес ей обычный визит, она не смогла вынести светскую беседу и, вспыхнув, заявила, что было бы куда лучше, если бы герцог задержался и «уладил вопрос со счетами». Герцог, сделав вид, что не заметил выходку Лукреции, отправился, невзирая на плохую погоду, в Бельфьоре, прихватив с собой французские рыцарские романы.
В июне беременность настолько измучила Лукрецию, что она попросила герцога Эрколе разрешить ей вместе с двором поехать в Бельфьоре подышать свежим воздухом. Эрколе отказал на том основании, что там работает много маляров и других рабочих. После небольшой перебранки Лукреция отправляется в Бельригуардо, самый прекрасный из летних дворцов д'Эсте, где ведет настолько уединенный образ жизни, что даже отказывается повидаться с Никколо да Корреджо, которого герцог прислал, чтобы он поговорил с Лукрецией. Правда, в тот же день она возвращается в Феррару. Зная, что свекор намеревался встретить ее, она задержалась дольше, чем следовало, на завтраке в замке каких-то своих друзей, испытывая прямо-таки наслаждение оттого, что заставляет старого герцога дожидаться ее на обочине дороги. Спустя несколько дней та же история. В Ферраре проходила религиозная процессия, и Лукреция заставил всех ждать ее, а появилась, когда процессия закончилась. Ее изысканно-ироничная улыбка заставила придворных воскликнуть: «Мы дошли до точки!» 24 июня 1502 года Чезаре Борджиа внезапно напал на Урбино, его атака, которую семейство Монтефельтро надеялось избежать, поскольку оказало гостеприимство Лукреции во время ее свадебного путешествия, явилась очередным доказательством беспринципности Валентинуа. В ночь на 23-е, похоже предупрежденный как раз вовремя, герцог Урбинский чудом спасается еще с двумя спутниками, умчавшись на лошади в одном камзоле. Он пытается укрыться в Кастель-Нуово, расположенной на территории Венеции, но комендант крепости отказывается принять его. Тогда он перебирается в Мантую, где его жена Елизавета Гонзага гостит у маркизы Изабеллы.
Стоило Чезаре оказаться в герцогском дворце в Урбино, центре средоточения итальянской культуры и гуманизма, как он тут же приказал составить опись тех статуй, книг, картин, ковров и гобеленов, которые следовало упаковать, считая их своими трофеями. Узнав о новом завоевании Чезаре, Лукреция пала духом. Она замечала укоризненные взгляды придворных; они возлагали вину на Чезаре, и она была вынуждена согласиться с ними. К ней вернулся прежний страх перед герцогом Валентинуа, и ее домочадцы рассказывали, как она заявила, что охотно отдала бы 25 тысяч дукатов, только бы никогда не знать Елизавету Гонзага, поскольку тогда не пришлось бы краснеть перед ней.
Семейство д'Эсте с таким подозрением относилось к Борджиа, что сомневалось даже в истинности чувств Лукреции (так ли уж она убивается, а вдруг это игра?) до тех пор, пока не опросило некоторых испанцев, которые заверили их, что герцогиня действительно ужасно переживает из-за случившегося. Зато Изабелла сохраняет невозмутимость; она отлично помнит, что маленькая античная Венера и знаменитый «Спящий купидон» Микеланджело («Среди новых вещей им нет равных», – сказала маркиза) находятся во дворце в Урбино и очень подошли бы для ее собственной коллекции. Она пишет брату Ипполито в Рим, чтобы он попросил у папы и Чезаре эти скульптуры. Со слезами радости принимает Изабелла «Венеру» и «Купидона» и даже не помышляет о том, чтобы когда-нибудь вернуть их законным владельцам.
Все тираны Италии переругались. Казалось бы, гарантией неприкосновенности Феррары служит и сама Лукреция, и покровительство короля Франции, а почему-то тревожно. Что же касается других государств, то они уже видят, по словам маркиза Мантуанского, «как их захватывают одного за другим, и ничего тут не поделаешь». Всем очень хотелось прояснить один существенный вопрос: каково отношение французского короля к Валентинуа? Совершенно очевидно, что без поддержки столь влиятельного союзника Чезаре не удастся расширить свое герцогство. Наиболее осведомленные шептали, что король Франции действительно собирается использовать Борджиа для своих целей завоевать Неаполь и что у него нет ни малейшего желания поддерживать испанскую династию, и более всего в Италии. Поэтому небольшие дворы жили надеждой, в то время как в июле 1502 года Людовик XII вошел в Милан, повторно завоевав это герцогство.
Французский король устраивает резиденцию в замке в Павии, и туда один за другим стекаются итальянские тираны и послы. Эрколе д'Эсте представляет Феррару, Франческо Гонзага – Мантую. Но когда вся эта вереница посетителей появилась в Мантуе, то стала свидетелем теплого приема, оказанного королем Чезаре Борджиа, и празднеств, устроенных в его честь. Король лично провожает Чезаре в его апартаменты, расположенные по соседству с королевскими, предоставляет в распоряжение герцога свои костюмы и лошадей, приказывает подать на ужин любимое блюдо Валентинуа – мясо с кровью. Все потрясены, «никому прежде не оказывалось подобной милости». Только Чезаре не выказывает никакого удивления. Он владеет ситуацией, сохраняет со всеми равнодушно-прохладный тон и никогда не наносит ответных визитов, даже тем, кто старше его, например герцогу Эрколе. В один из дней, играя в солдаты с французским придворным шутом, известным под именем монсеньор Джелерин, Чезаре чудом избежал смертельного удара от его кинжала. Рассмеявшись, он сумел увернуться, отделавшись всего лишь царапиной.
Наконец-то достигнута договоренность относительно брака между единственной дочерью Чезаре и Шарлотты д'Альбре, Луизой, и Федерико, наследником маркизы Мантуанской (пока девочке вот-вот должно исполниться три года, а мальчику нет и двух). Они совершенно не похожи. Ребенок Борджиа, уродливый, с «отвратительным» носом и… умным лицом. Красивый ребенок Гонзага уже служит прообразом очаровательного малютки, его изображения будут приводить в восторг папу Юлия II. Но все это не шло ни в какое сравнение с политическими соображениями. Чезаре Борджиа неистово стремился к этому браку; ему был необходим всего лишь прецедент, чтобы расширить господство в Северной Италии, а у Гонзага было не то положение, чтобы отказываться.
Именно Изабелла д'Эсте занялась решением вопросов, связанных с брачным соглашением. Потребуется слишком много времени, чтобы описать затеянные ею интриги, притворный энтузиазм, с которым она отправляла посланцев Валентинуа и принимала тех, кого герцог отправлял ей. А с каким изяществом и обходительностью Изабелла пленяла посланцев герцога! А искусство, с коим она умудрялась тормозить решение всех вопросов! Указания, которые она давала своим посланникам, вводили в заблуждение даже Валентинуа, который в деловых отношениях не имел себе равных. Один из ее курьеров, направленный к королю Франции, конфиденциально посоветовал Людовику XII быть очень осмотрительным, прежде чем заключать официальный договор с Борджиа, поскольку «кто знает, что может произойти за это время, между днем нынешним и днем свадьбы». Точно такой же совет исходил от французского короля в период переговоров относительно брака Эсте-Борджиа, и нетрудно представить, какое удовольствие испытали Гонзага, услышав подобные слова. Маркиза использовала их как фишки в своей дерзкой игре, по условиям которой требовалось загнать противника в угол, держать в страхе и не давать передышки.
В середине июля эпидемия, опустошившая Италию и Европу, добралась и до Феррары, поразив двор герцога. Заболевание было не самым опасным, но заразились все поголовно. Лукреция и так-то не отличалась особым здоровьем, а тут еще и беременность, так что она одной из первых стала жертвой эпидемии. В Феррару были немедленно вызваны доктора со всей Италии. Герцог Валентинуа направил к сестре Гаспаре Торелла из Урбино и Никколо Марини из Чезены. Александр VI прислал Бернардо Бонджованни, епископа Венозы, врача, которому Борджиа полностью доверяли. Папа дал возможность Костабили увидеть охватившую его тревогу и, воспользовавшись обстоятельствами, намекнул, что болезнь герцогини, очевидно, явилась результатом крайней меланхолии из-за ренты в 10 тысяч дукатов. Он никогда бы не написал непосредственно герцогу Эрколе в Феррару, продолжал папа, поскольку ему не хочется, чтобы создалось мнение, будто он устанавливает законы в чужом доме, но он понимает, что должен добиться для дочери 12 тысяч дукатов, которые доставят ей такое удовольствие, что она вскоре поправится и заживет прежней жизнью. Герцог Эрколе, похоже, забыл, что в его доме живет невестка. Ему следует что-то предпринять, поскольку смерть Лукреции не входит в планы Борджиа. И, папа особо подчеркнул эти слова, он не знает, как это отразится на семье д'Эсте.
В Ферраре все были обеспокоены. Здоровьем Лукреции озаботились даже те, кто приходил в ярость при упоминании одного ее имени. Среди последних, кто честно выражал свои мысли, говорилось следующее: «Бог хранит ее, поскольку не годится, чтобы она умерла именно сейчас». Папа продолжает посылать своих людей. В Феррару приезжает Траш, затем Мишеле Ремолино, относящийся ко всему с недоверием, очень квалифицированный врач. И наконец, 12 августа неожиданно появляется Валентинуа. Состояние Лукреции улучшилось, она сидит в кровати и неожиданно слышит знакомые шаги на лестнице. При виде брата к ней, похоже, возвращаются жизненные силы. Всю ночь дети понтифика проводят в разговорах на своем непонятном для окружающих валенсийском диалекте, и вполне возможно, что Чезаре обещает сестре, что новое завоеванное пространство отойдет римскому инфанту. На рассвете Валентинуа прощается с сестрой. У Лукреции, измотанной долгой беседой и уставшей от эмоционального напряжения, случается рецидив. Врачи составляют бюллетени здоровья, в которых сообщается о ночах, проведенных в горячечном бреду, об очередных рецидивах и новых лекарственных средствах лечения. 13 августа, когда болезнь свалила весь двор, герцогиня немного пришла в себя. К этому времени Анджела находилась в постели, а Лизабетта да Сиена и мадонна Цеццарелла умерли. Болели уже четверо врачей, а самый старый, Карри, умер. Уже и Теодора Анджелини стала жертвой эпидемии. Вместе с дочерью она ушла домой и однозначно дала понять, что они никогда не вернутся туда, где подверглись стольким оскорблениям.
В случае Лукреции наиболее точный диагноз был поставлен Франческо Кастелло, врачом герцога, которого Эрколе послал ухаживать за невесткой. Кастелло написал герцогу, что Лукреция сразу поправится, как только родит ребенка. Сильные приступы, при которых ее кидало то в жар, то в холод, случались практически ежедневно и приписывались избытку желчи в организме. Но с этим ничего нельзя было поделать, учитывая ее хрупкое телосложение и тот факт, что она была женщиной (существо довольно таинственное). Епископ Венозский придерживался противоположной точки зрения и сообщал о «душевных потрясениях» и симптоме истерии; в таком же духе он писал и в Рим.
3 и 4 сентября Лукреция была настолько плоха, что Кастелло отдал все в руки божьи. Вечером 5 сентября внезапная судорога в спине вызвала у несчастной стон. Ночью она родила мертвого семимесячного ребенка. Послеродовая лихорадка вызывала особое беспокойство, и рядом с Лукрецией постоянно находились врачи. Спустя два дня Феррара наполнилась быстрым звоном копыт; ворота замка открылись и впустили группу усталых, запыленных придворных французского короля. Это были герцог Валентинуа с шурином, кардиналом д'Альбре, и еще тринадцать человек. На следующее утро Чезаре навестил сестру, которую нашел в крайне тяжелом состоянии. У нее сильно поднялась температура, и доктора решила, что ей надо пустить кровь. Валентинуа сам держит ногу сестры и старается отвлечь ее от этой небольшой операции, рассказывая забавные истории. В ночь с 7 на 8 сентября у Лукреции случается рецидив, и утром следующего дня ее собираются причащать. Собравшиеся вокруг люди уверены, что она уже не встанет, но доктора, похоже, настроены более оптимистично. Вечером того же дня Валентинуа покидает Феррару так же неожиданно, как и появился.
Если улучшение и было, то очень недолго. 13 сентября состояние опять угрожающее, и об этом говорят по всей Италии. «Почему бы Богу не положить руку ей на голову и не освободить ее», – писал Бартоломео Картари, а феррарский посланник в Венеции продолжил: «К тому же, чтобы положить конец слухам».
Нетрудно догадаться, откуда взялся этот вопрос по поводу слухов; проснулись прежние подозрения: уж не яд ли причина столь серьезного заболевания? В этот день Эрколе получил два бюллетеня о здоровье невестки. Проснувшись утром, Лукреция попыталась выяснить, что с ней, и у нее вырвался вздох: «О, хорошо, я умерла». Она выразила желание составить завещание и, отправив всех феррацев, вызвала секретаря и восьмерых монахов. Люди герцога Эрколе попытались выяснить, о чем пойдет разговор, и им удалось узнать, что проблема заключалась в составлении дополнительного распоряжения к завещанию, касающегося Родриго де Бисельи. Лукреция хотела внести дополнение в то завещание, которое составила, уезжая из Рима.
Феррарцев невероятно раздражали колебания Лукреции между жизнью и смертью, подъемами и спадами, неожиданными появлениями Валентинуа и столь же неожиданными отъездами. Наиболее проницательные и сведущие придворные уже заметили отношение герцога Эрколе к Чезаре и полностью разделяли его – это была враждебность, испытываемая главой государства к потенциальному врагу, отвращение чистокровного аристократа к авантюристу, антипатия мыслящего человека к человеку, толкующему о войне, достигающему побед с внушительной армией и невероятно удачливому. Интуитивно Валентинуа чувствовал неприязнь к себе, поскольку шутливо заметил феррарскому посланнику, что ему не подойдет кровь Эрколе, поскольку «у Его Превосходительства кровь холодная, а моя кипит». Ни для кого не было секретом, что Чезаре постоянно пребывал в лихорадочно-возбужденном состоянии. Один день он проводит с французским королем (чья милость к Борджиа все еще вызывала всеобщее удивление) в Генуе; следующий – в Ферраре; затем в сопровождении испанцев едет в Урбино на охоту с леопардами, затем внезапно пропадает. Сразу же поползли слухи, что Валентинуа готовит нападение на Флоренцию, и флорентийцы, которым не удалось добиться благосклонности Людовика XII, запаниковали. В течение восьми или десяти дней никто не знал о местонахождении Валентинуа, и представители Феррары и Мантуи, примчавшиеся в Романью якобы по поручению хозяев, а на самом деле заняться шпионажем, отказывались верить приближенным Чезаре, сообщившим, что герцог болен. Вскоре выяснилось, что Чезаре в Риме. Я не знаю, чем он там занимался, какое новое предприятие обсуждал с папой. Несмотря на то что Чезаре хотел быть независимым, Рим для него все еще являлся центром, а Ватикан – основой его могущества.
Среди тем, которые отец с сыном обсуждали на тайных встречах, одной из первоочередных, вероятно, была проблема, связанная с Лукрецией. Папа остался доволен, что в критические моменты болезни Валентинуа находился рядом с сестрой. Возможно, понтифик также упомянул тот факт, что мертворожденным ребенком оказалась девочка, а не сын-наследник; за эти дни папа испытал страшные душевные муки. Все же он утешался, что у постели больной Альфонсо д'Эсте дал жене торжественное обещание, что в ближайшие месяцы сделает ей сына. Однако волнение не покидало его до тех пор, пока в двадцатых числах сентября из Феррары не пришло сообщение, что Лукреция находится вне опасности и идет на поправку. Александр VI всегда говорил о дочери как о «любимой и дорогой», и феррарскому послу приходилось всегда быть начеку и иметь ответы на все интересующие понтифика вопросы, касающиеся здоровья его дочери. Когда папа вернулся к теме денежного содержания и поинтересовался, почему герцогу Эрколе не удалось выделить Лукреции 12 тысяч дукатов, посол дал понять, что разница в 2 тысячи дукатов может быть восполнена из другого источника. Папа только что передал Ченто и ля Пьеве семейству д'Эсте в вечное пользование, освободил их от уплаты налогов в церковную канцелярию, по собственной воле выделил кардиналу Ипполито ежегодный доход в 3 тысячи дукатов, чтобы компенсировать ему расходы на проживание в Риме, и, наконец, предоставил самому Костабили комфортабельные апартаменты во дворце в Бордо, а для этого ему пришлось потеснить испанцев Валентинуа. Было бы хорошо, если бы Чезаре в один из визитов в Феррару напомнил Альфонсо о ренте Лукреции. Эрколе по-прежнему упирался.
К данному моменту после долгих месяцев ссор, болезни и треволнений Лукреция и Альфонсо устали морально и физически и решили на некоторое время расстаться. Альфонсо объявил, что, пока жена болела, он поклялся совершить паломничество к Деве Марии в Лорето. Он должен был отправиться пешком, но благодаря настойчивости отца получил папское освобождение от обета и ехал верхом. Лукреции был необходим свежий воздух, и она решила вернуться в монастырь. Утром 9 октября в небольшой повозке, запряженной двумя великолепными белыми лошадьми, «в очень хорошем настроении» Лукреция в сопровождении Альфонсо и его братьев отправилась в монастырь. Простой народ приветствовал Лукрецию, понимая, что ее выздоровление некоторым образом влияет на безопасность герцогства. В этот же день Альфонсо отправился в Лорето, довольный, что у него появилась возможность исследовать побережье Адриатики, представляющее гораздо больший интерес, нежели храм мадонны. Под эгидой религии каждый из этих двоих выбрал одиночество и более предпочтительный образ жизни.
Глава 9 Ее самая большая любовь
Эрколе д'Эсте в знак благосклонности передал семье Строцци большой, наводящий уныние загородный дом в Остеллато. Строцци принимал в нем друзей, устраивал гулянки и останавливался там во время охоты. 15 октября 1502 года туда из Венеции приехал Пьетро Бембо. Он пересек голубую лагуну Комаччьо в большой лодке, заполненной греческими и латинскими книгами.
Тридцатидвухлетний Пьетро Бембо был безоговорочно признан королем итальянских гуманистов. Он был учеником Леоницено, доктора университета Феррары, филолога, философа и математика; Аристотель и Платон привели его к христианской концепции Бога; Петрарка был его поэтом. Несмотря на это, Бембо вполне мог спуститься с поэтических и философских высот, чтобы принять участие в обсуждении дворов с присущим ему остроумием и шармом, и, конечно, при дворах обожали его.
Эрколе д'Эсте познакомился с Пьетро Бембо в 1497 году, когда тот появился в Ферраре вместе с отцом, Бернардо Бембо, дворянином и гуманистом. Мы можем быть уверены, что герцог Феррарский сильно сомневался в правильности крайне провенецианскои политики отца Бембо, но, вне всякого сомнения, оценил высокую культуру и хороший вкус его сына. Эрколе пригласил Пьетро Бембо ко двору и выслушал его с большим почтением, что, учитывая холодность его темперамента, было высочайшим признанием.
У Бембо везде было много друзей, и Феррара не стала исключением. Садолето Цицерониан, Людовико Ариосто, Целио Цалсаджинини, Антонио Тебаолдео и, конечно, оба Строцци, отец и сын, были элитой феррарских гуманистов и преданны герцогу Феррарскому и, как это ни странно, сохранили свою преданность. Но д'Эсте больше всех любил Эрколе Строцци; они понимали друг друга и имели одинаковые литературные пристрастия.
Бембо искренне восхищался Строцци, считая его утонченным латинистом, а потому отправлял ему свои элегии, написанные на латыни, чтобы Строцци просмотрел их и в случае чего внес поправки. Они беседовали о женщинах и о любви, писали письма, полные намеков. Бембо считал, что итальянские поэты должны писать простым языком, чтобы их стихи могли читать женщины; Строцци начал писать на итальянском, но не слишком успешно.
Бембо любил женщин, и не только потому, что был приверженцем Петрарки и считал необходимым тосковать по Лауре, но и потому, что был влюбчив и получал удовольствие от женщин, сочетавших одновременно чистоту и чувственность. К примеру, он без памяти влюбился в венецианку по имени Елена и с полной искренностью и откровенностью писал ей: «Люби меня, люби меня, люби меня и еще тысячу раз подряд», «Люби меня, если можешь», «Можешь ли ты любить меня чуть больше, чем сейчас» и еще тысячи разных обращений и просьб. На самом деле они совершенно не понимали друг друга.
Эрколе Строцци из Феррары беспокоился, удобно ли друг устроился в Остеллато. «Будь я даже сатрапом, – стараясь успокоить Эрколе, писал Бембо, – меня и то не могли бы обсуждать с большим усердием». От будущего он не ждал никаких неожиданностей. К этому моменту Лукреция не просто почитала Строцци, он стал ей необходим, а он наверняка рассказал ей все о поэте из Венеции. Итак, однажды размышления Бембо были прерваны появлением Лукреции в Остеллато. Напомним, что теперь этой блондинке с великолепными волосами было двадцать три года. Она появилась в роскошном наряде из золотой ткани, в изумрудах и жемчугах, сопровождаемая свитой из придворных дам, девушек, шутов и музыкантов. Веселая компания ненадолго остановилась в загородном доме, и то лишь потому, что Бембо попросил оказать честь этому дому. Прощай, Аристотель! Бембо повел разговор в свободной и неторопливой манере, и Лукреция отвечала ему тем же. Разговор принял более или менее светский тон, но было совершенно ясно, что он идет не сам по себе, им управляет большой мастер. Между рыцарем и дамой было установлено взаимопонимание, ведь оба они находились во власти Петрарки.
Бембо часто приглашали ко двору. В Ферраре страстно увлекались музыкой, и в этом нет ничего странного, ведь все члены семейства д'Эсте были музыкантами. Концерт следовал за концертом; Альфонсо был поочередно то слушателем, то исполнителем. В январе начинаются праздничные торжества. Первый блестящий бал дает в своем дворце в Ферраре Эрколе Строцци. И Бембо, несколькими днями раньше написавший брату, что признателен герцогине за оказанную честь и знаки внимания, вероятно, именно по этой причине присутствовал на балу. Все молодые члены семьи, включая Альфонсо, Ферранте и даже набожного Сиджизмондо, обычно весьма нелюдимого, отправились вместе с Лукрецией на бал во дворец Строцци. Только старый герцог Эрколе бойкотирует развлечение и в одиночестве отправляется в Бельригуардо, увозя с собой главную бухгалтерскую книгу герцогства, чтобы она в любой момент была у него под рукой.
Свекор сдал позиции, и Лукреция одержала победу в трудной борьбе, получив долгожданные 12 тысяч дукатов годовой ренты. На самом деле это нельзя было назвать победой. После мучительных размышлений герцог Эрколе сделал вид, что подчинился требованиям, и предложил условия, способные удовлетворить и невестку, и его самого, проще говоря, сообщил, что готов половину суммы оплатить наличными, а вторую – поставками для содержания ее двора. Совершенно ясно, что с помощью различных ухищрений с объемами и качеством продуктов он собирался сэкономить на обещанных поставках. Нам доподлинно известно, что точно так же он поступал и с собственными придворными, с тем же Ариосто, которые временами выражали сильное недовольство качеством продуктов придворных поставщиков. Однако скупость герцога не мешает Лукреции наслаждаться радостями жизни, особенно теперь, когда больше не ведутся разговоры об увольнении тех немногих испанцев, которые еще остались при дворе, и всех придворных дам.
Но, несмотря на отвоеванные преимущества, драгоценности, золото и бархат, Лукреция оставалась пленницей замка. Эти стены превратились для нее в навязчивую идею. Пользуясь любым благовидным предлогом, Лукреция ускользала из места вынужденного заточения. То она отправлялась по церквям и монастырям, посещая Сан Лаззаро, Санто Спирито, Сан Антонио, монастырь доминиканских монахинь Санта Катарина и еще многие другие; то совершала небольшие вояжи, «наслаждаясь страной». Несмотря на снег, дождь и туман, характерные для долгих зимних месяцев, ее кареты всегда в разъезде. А по вечерам в замке или во дворцах знати при свете факелов устраиваются танцы. После бала во дворце Эрколе Строцци, любимца Лукреции, дает бал фаворит Альфонсо – Бернардино Риччи, затем устраивается праздник во дворце Дианы д'Эсте, и снова Эрколе Строцци устраивает пышное празднество, пытаясь превзойти все предыдущие балы. В феврале герцог д'Эсте возвращается из Бельригуардо и приступает к постановке античных комедий «Менехмы» и «Евнух». Кажется, что все пребывают в радостном возбуждении, но под всеобщим оживлением таится темная угроза.
В середине февраля кардинал Ипполито д'Эсте неожиданно появляется в Ферраре в сопровождении незначительной свиты и почти без багажа. Он объясняет, что не сбежал, а просто уехал, поскольку «не может позволить себе так долго жить в Риме» (такова официальная причина появления в Ферраре). Тем не менее Бурхард поясняет, что на самом деле кардинал положил конец любовной связи с Санчей Арагонской, которая все еще является пленницей замка Сант-Анджело. Кардинал д'Эсте отнюдь не глуп и, должно быть, понимает, что ему небезопасно находиться в Риме, и заранее, не собираясь подвергать себя излишнему риску, принимает соответствующие меры. «Ревность» Валентинуа, да еще в тот момент, когда дружеские отношения между Борджиа и д'Эсте медленно, но верно стали ухудшаться, не могла привести ни к чему хорошему.
Кардинал предпринял максимум усилий, чтобы его отъезд в Феррару не напоминал паническое бегство, и, дабы получить разрешение понтифика на отъезд, придумал вполне логичные причины, побуждавшие его покинуть Рим. Вернувшись домой, он взял на себя расходы по содержанию двора невестки, причем так рьяно, что, по словам посла, Лукреция могла бы сказать, что принадлежит «ночами дону Альфонсо, а днем – кардиналу». Они были словно «слиты воедино», добавляет посол. Но в одном он ошибался. Лукреция с готовностью принимала знаки внимания со стороны такого известного эминенция{8}, который, по словам женщин Феррары, обладал «всеми достоинствами своей сестры», имеется в виду Избелла д'Эсте, но после неожиданной встречи в Остеллато в ее очаровательной головке зародились совершенно другие мысли Эрколе Строцци постоянно был при герцогине; без его советов не обходилось ни одно приобретение тканей, нарядов или «изящных вещиц», и, конечно, они часто говорили о венецианском поэте, который наблюдал за наступлением весны в уединенном саду в лагуне. Однажды, когда о приближении апреля можно было догадаться только по особому аромату, витающему в воздухе, Строцци показал Лукреции только что написанное им письмо, в котором сообщал Бембо, что тот является основной темой разговоров между ним и герцогиней. Прочитав послание, Лукреция оценила изысканный стиль письма, но заявила, что оно не может быть отправлено. Под влиянием момента она не отказала себе в удовольствии слегка позабавиться и собственноручно написала на письме имя Бембо. Придворные дамы с удовольствием наблюдали за небольшим капризом своей мадонны. Письмо пришло в Остеллато. Полученное послание заставило Бембо вздрогнуть, но, распечатав письмо, он все понял и почувствовал прилив удовлетворения при мысли, что герцогиня думает о нем. Одна мысль о ней сделала его счастливым; она так красива, изящна, беззаботна, «у нее нет предрассудков». По словам Бембо, он абсолютно естественно вошел в атмосферу любви без какой-либо предварительной подготовки. Теперь ему было о чем писать, и он начал писать. Дни шли за днями, и уже наступил июнь. Альфонсо д'Эсте отправился в одну из своих ежегодных поездок, которые подвергались изрядной критике со стороны старшего поколения, но зато позволяли ему медленно, но верно осваивать политику, географию и военную науку. Эти знания весьма пригодились Альфонсо во время войны.
Зима была холодной, весна – неустойчивой и капризной (не надо забывать, это все-таки Северная Италия), а вот начало лето порадовало изумительной погодой. В садах расцвели розы. Солнце возвращало Лукрецию к жизни, одновременно наполняя истомой. Она написала Бембо несколько коротеньких писем на испанском, наверное, под влиянием испанских любовных стихов, которые читала и даже выписывала некоторые двустишия из Лопеса де Эстуньиги:
Yo pienso si me muriese у con mis males finase desear Tan grande amor fenesciese que todo el mundo quedase sin amar? Я думаю, что, если я умру И все мои невзгоды наконец уйдут, Тогда моя безмерная любовь угаснет, Чем будет этот мир, лишившийся любви?Сердце Лукреции переполняли чувства. Она начинает писать «Yo pi…». На этом запись обрывается. То ли кто-то неожиданно вошел в комнату, а может, Бембо похитил листок, чтобы оставить на память. Бембо пишет маленькое лирическое стихотворение, на которое его вдохновило то ли испанское стихотворение, которое он вспомнил, то ли (если следовать объяснениям Райяна) безвозвратно утерянное итальянское лирическое стихотворение.
Tan biuo es mi padescer I tan muerto mi sperar? Мое страданье так невыносимо, И столь бессмысленны надежды и мечты.Он послал эти строчки герцогине вместе с небольшим наставлением по эстетике, в котором предупреждает ее, что «чувственному наслаждению испанского нет места в строгой чистоте тосканского, а насильственное использование внесет фальшивую ноту и окажется инородным». После этой литературоведческой вставки письмо обретает нормальный тон. Поэт признается, что Остеллато больше не доставляет ему прежней радости, и задается вопросом: что бы это значило? Если бы Лукреция могла отыскать ответ в своих книгах… Он пишет письмо, сидя у небольшого окна, наблюдает за ярко-зелеными листьями, которые трепещут на ветру, и переполнен мыслями о ней. В те дни он часто приезжает в Феррару. Его откровенное поведение не вызывает никакого раздражения; даже герцог относится к нему как к официальному поэту герцогини, украшающему ее двор. «Ad Bembum de Lucretia», посвятил ему эпиграмму Тито Веспасиано Строцци, но на его собственном счету (поскольку в восьмидесятилетнем возрасте все литературные страсти допустимы) было уже множество стихов, выражающих горячий восторг и восхищение герцогиней.
Под непосредственным наблюдением Лукреции медаль с изображением пламени была выполнена ювелиром (маэстро Эрколе или маэстро Альфонсо). В какой-то момент Лукреция осознала, что у нее до сих пор нет девиза, который объяснял бы значение пламени. Она тут же пишет в Остеллато Бембо: он должен быстро придумать несколько подходящих слов, которые будут выгравированы на медали. Поэт отвечает, что символом огня может служить только душа, и предлагает платоническую фразу «Est animum». Он отправляет курьера обратно в Феррару, сообщив, что «слишком много мыслей возникает в связи с этой темой». Нам уже понятно, что Бембо и Лукреции не мешало бы проявлять осторожность, не слишком афишируя близкие отношения. Ей не следовало посылать ему так много писем, он и так уже стал ее пленником.
Поэта очень интересует, пыталась ли Лукреция найти толкование в собственном магическом кристалле? Или, может, она избегала ненужных вопросов… Несколько дней, прежде чем написать ответное письмо, Лукреция пребывает в нерешительности. Стихотворные строчки Бембо музыкой звучат в ее сердце. Наконец она садится за письмо и выводит своей красивой рукой: «Messer Pietro mio» («Мой мессир Пьетро»), «mio» означало почти что признание в любви. Письмо было коротким, без подписи, и, похоже, явилось заключительным этапом разрешения внутреннего конфликта. Да, она обращалась к магическому кристаллу и обнаружила, как много общего у нее с поэтом, – «ни с чем не сравнимая» общность. Мессир Пьетро должен знать об этом, и пусть так будет вечно. Лукреция предложила сохранить их любовь в тайне; она будет помечать письма условным знаком – FF.Ответ Бембо последовал незамедлительно. Он предложил грандиозные проекты во имя любви; он чувствовал себя сильным и смелым. Эней и Дидона, Тристан и Изольда, Ланселот и Гиневра прошли перед его мысленным взором как в одном из «Trionfi» Петрарки. Его любовь, как нам уже стало ясно, была одновременно литературной и страстной, в ней были не столько чувства, сколько интеллект и темперамент. «Я чувствую, что пылаю как в огне», – спустя несколько дней пишет Бембо Лукреции и интересуется ее ощущениями.
По советам докторов Лукреция несколько июльских дней провела в провинции, но 1 августа, вернувшись в Феррару, не подавала никаких признаков жизни, за исключением редких ужинов на открытом воздухе, например в Бельфьоре. Бембо тоже находился в Ферраре, но то ли из-за жары, то ли из-за усталости сильная лихорадка свалила его в постель. Можно представить, что стало с Лукрецией, когда ей принесли эту новость (Строцци или Тебалдео, ее секретарь) и сообщили под большим секретом. На самом ли деле красивому рыцарю так плохо? Бембо немедленно пишет письмо со словами утешения. Может, Лукреции стоит приехать, чтобы повидаться с ним? В конце концов, навещала же она несколько месяцев назад Людовико Гуаленджо, когда он заболел (тогда даже старые придворные удивлялись, «откуда взялась такая гуманность»). Это являлось признаком благосклонности, недопустимой для обычной женщины, но позволительной с точки зрения принцессы.
Итак, 11 августа Лукреция собрала самых близких друзей, и они отправилась в путь в карете герцогини по раскаленным от летней жары пустынным улицам Феррары. Подъехав к дому Строцци, где находился сейчас Бембо, они вышли из кареты, поднялись по ступеням и вошли в комнату больного. Подобно всем образованным дамам эпохи Ренессанса, Лукреция обладала определенными знаниями по практической медицине. Присев рядом с постелью, на которой лежал Бембо, она принялась расспрашивать его о симптомах болезни, о лечебных препаратах и, выслушав ответы, дала несколько практических советов. Постепенно разговор оживился. Под нежными взглядами красивых женщин молодой человек стал испытывать удовольствие от свалившейся на него лихорадки. «Beato in sogno e di languir contento!» – мог бы воскликнуть он вместе с Петраркой («Я сплю. Пусть этот сон продлится!»). Лукреция всячески успокаивала Бембо, но улыбка и блеск ее глаз говорили больше, чем обычные слова утешения. Визит затягивался, и уже давно следовало быть дома, но никому и в голову не приходило напомнить ей об отъезде. Лукреция смотрела на своего возлюбленного и не могла наглядеться; ей казалось, она никогда его не забудет. Зачем шпионить за ней? Лукреция с истинно испанской гордостью и чувством собственного достоинства, присущего всем Борджиа, была готова встретиться лицом к лицу с недругами.
Надо сказать, что такое поведение требовало определенной смелости, поскольку в Ферраре уже свирепствовала чума, занесенная мальчиком из Пезаро, и даже были летальные исходы; следовало срочно уезжать из города. Герцог Эрколе уже отправился в Бельригуардо, прихватив с собой дона Ферранте (тот явно не хотел уезжать, но, увы, пришлось подчиниться). Дон Джулио дожидался Лукрецию, чтобы отправиться вместе с ней. Этот пылкий бастард, без устали похвалявшийся своими любовными подвигами во время карнавала, был в полном восторге от представившейся перспективы сопровождать столько красивых женщин и девушек, тем более что среди них находилась Анджела Борджиа. Все они радовались возможности уехать из Феррары, даже Лукреция, наметившая посетить Модену и Реджио и остановиться в Меделане, расположенном неподалеку от Остеллато. Лукреция взяла с собой придворных дам, одетых в разноцветные шелка, клоунов и музыкантов. Сейчас, когда она отдыхала от брака с доном Альфонсо, вдали от зоркого «орлиного» ока герцога Эрколе и ледяной учтивости кардинала Ип-полито, ей хотелось веселого и приятного времяпрепровождения. Она испытывала пылкий восторг и от своего состояния влюбленности, и от той таинственности, которой окутаны их отношения, и даже от их чистоты. Бембо уехал в Остеллато раньше, чем Лукреция покинула Феррару. «Я покидаю тебя, о моя жизнь», – написал, прощаясь, Бембо. Можно с уверенностью сказать, что в этот момент Лукреция была счастлива.
Враги семейства Борджиа испытывали глубокое возмущение, стоило им только подумать о воцарившемся, словно на веки вечные, на папском престоле Александре VI, постоянно озабоченном только тем, как бы протащить в жизнь новые проекты. Каждое утро старый понтифик начинал с мыслей о своих детях. Он с нетерпением ждал новой беременности Лукреции и говорил об этом с феррарским послом. Не странно ли, что маленького д'Эсте до сих пор нет еще и в проекте? Желая сделать папе приятное, герцог Эрколе откровенно задал невестке интересующий папу вопрос, после чего сообщил, что пока нет никаких признаков беременности. Несмотря на это, понтифик в целом был доволен, что дочь здорова, весела и проводит дни в бесконечной череде развлечений, связанных с самым веселым карнавалом в мире (посол передал Александру перечень балов и вечеринок). Как мы знаем, было бы неправильно говорить, что она была абсолютно счастлива, и придворные не единожды видели Лукрецию печальной или огорченной. Траш знал об этом, и как-то в Ватикане, слушая, как Костабили ярко живописует развлечения и шумные пирушки, улыбнувшись, заметил, что это отнюдь не бесконечный марафон. Костабили был не слишком убедителен, и папа, который мог получить информацию непосредственно от испанцев или от дочери (Лукреция даже после получения требуемой ренты попросила у отца дополнительные денежные средства, объяснив, что была вынуждена заложить драгоценности, чтобы купить наряд для приема герцогини Мантуанской), собирался навестить ее. А уж если он что-то намеревался сделать, то тут же и приступал к разработке конкретных действий. По словам Катанеи (за точность этих сведений я не ручаюсь), брачный договор между Лукрецией и Альфонсо содержал особое условие, касающееся посещения папой Феррары. В апреле 1502 года Александр VI однозначно заявил в консистории, что собирается в июне посетить Феррару, «cum tota curia», и тот из кардиналов, кто откажется сопровождать его в этой поездке, тут же лишится кардинальской шапки. По этому поводу Валентинуа заявил, что в план поездки будет включена встреча понтифика с королем Франции. Должно быть, так оно и было. Однако вмешались неожиданные обстоятельства – болезнь Лукреции, и, поскольку в Неаполитанском королевстве сложились напряженные отношения между французами и испанцами, возникла необходимость внимательно следить за развитием событий, поэтому Александр VI не выезжал из Рима, если не считать непродолжительных визитов к соседям. А теперь, спустя год, вопрос, правда в несколько ином виде, вновь был вынесен на рассмотрение. Встреча отца с дочерью была перенесена из Феррары (раскол между Борджиа и д'Эсте стал уже очевиден) в Лорето, место святого паломничества. Папа намеревался отправиться в Лорето в сентябре, когда уже несколько спадет жара, и, воспользовавшись случаем, посетить и благословить новое государство Чезаре – Романью.
Теперь Чезаре был уже настоящим хозяином Ватикана, поскольку принял на себя руководство всеми папскими войсками и удерживал Рим в состоянии подозрительности и страха. Теперь расправа с Синигальей не казалась пределом его преступных деяний. Это была эпоха знаменитого яда Борджиа, и на протяжении столетий данный период связывался с семейством Борджиа, причем имя Лукреции фигурировало наравне с именами отца и брата. Мрачная фантазия романистов, в особенности Виктора Гюго, превратила Лукрецию в отравительницу и злого гения. Велись бесконечные споры о том, была ли кантарелла (зеленый порошок из шпанской мушки) на самом деле таким уж талантливым открытием, вершиной злодейства, с помощью которого можно было нанести смертельный удар в точно рассчитанный момент времени. Современные химики и токсикологи предполагают, что этот яд замедленного действия является одним из составляющих легенды о семье Борджиа. Что же касается изготовления кантареллы или мышьяка, то Фландин в своей книге «Traite des Poisons», Левин и другие предполагают, что мышьяковая кислота способна вызвать две формы перемежающейся лихорадки: обычную желудочную и цереброспинальную малораспространенную. В конце концов, не важно, был ли это мышьяк или что-то другое, но готовили отраву весьма тщательно. Но еще ужаснее, чем сам яд, представляется душевное состояние тех, кто его использовал. Богатый венецианский кардинал Микьели был отравлен наемным убийцей Борджиа, Аскуиньо Коллоредо, впоследствии признавшимся, что за тысячу дукатов согласился влить смертельную отраву в бокал с вином. Огромное состояние Микьели перешло папе и, соответственно, Валентинуа. Но даже денег богатого венецианского кардинала оказывается недостаточно для ведения войны, и в 1503 году папа назначает новых кардиналов, которые платят за красные кардинальские шапки около 150 тысяч дукатов. Кардинал Джан Баттиста Орсини заключен в тюрьму замка Сант-Анджело за намерение отравить понтифика; столь серьезное обвинение говорит о желании Борджиа избавиться от Орсини. Папа вызвал к себе Орсини, и богатый, могущественный и храбрый кардинал не побоялся появиться в Ватикане после наступления темноты, хотя очаровательная любовница умоляла его не уходить из дому; ей приснился вещий сон, в котором вино превращалось в кровь. Ходили слухи, что кардинала Орсини пытали и он сделал попытку броситься со стен замка Сант-Анджело. Каждое утро, глядя на величественную громаду крепости, члены семейства Орсини задавались одним вопросом: жив ли кардинал или уже умер? Но они не теряли времени попусту. Мать кардинала направила папе послание, в котором предлагала крупную сумму денег за освобождение сына. Любовница предприняла нечто совершенно иное. Переодевшись мужчиной, она ухитрилась добиться встречи с понтификом и предложила ему великолепный жемчуг, подаренный ей Орсини, – Борджиа страстно желал заполучить это украшение. Такая цена была заплачена за получение трупа кардинала.
Кардинал был третьим членом семейства Орсини, считая герцога Гравинского и Паоло Орсини, убитых в течение нескольких месяцев. Длительная борьба между этой могущественной римской династией и Борджиа продолжалась. В этот момент захватнические планы Чезаре совпадали с политикой Александра VI, которой он следовал в течение последних десяти лет, – освобождение всей папской территории от могущественного влияния римских баронов. Брат кардинала, Джулио Орсини, синьор Мон-черотондо, отправляется в Рим просить о снисхождении в обмен на захваченного в плен Джофре. Когда известие о том, что Джулио помещен в замок Сант-Анджело, достигло Орсини, они, осознав опасность выдвинутого ими условия, почувствовали сильный страх. Это была своего рода мера эмоционального воздействия, целью которой было напугать главу семейства Орсини, поскольку после восстановления мирных отношений Джулио вернулся живой и здоровый. В Риме ходили слухи, что, когда мать увидела его живым, она от радости свалилась замертво. Из Франции король Людовик XII громогласно заявлял, что никому не позволено притрагиваться к его друзьям Орсини.
Александр VI, верный своим принципам, утверждал, что имеет полное право управлять своим государством так, как считает нужным, а французский король может разбираться с собственными баронами, поскольку такие вопросы относятся к внутренней политике государства.
Что же касается внешней политики, то в данный момент Борджиа проявляли некоторую нерешительность. Они оказались перед дилеммой: какое из двух государств, добивающихся установления суверенитета над Италией, а именно Франция или Испания, окажется удачливее? Они беспокоились из-за действий испанцев в Неаполитанском королевстве и планомерной высадки войск католического короля под Везувием. Людовик XII был не меньше Борджиа озабочен планами испанцев и занялся подготовкой новой итальянской экспедиции. Когда Бартоломео Картари, феррарский посол, поинтересовался, правда ли король собирается атаковать Пизу, Людовик XII заявил, что никогда не поверит, будто отец и сын Борджиа намереваются пойти против его воли (в этот период Тоскана находилось под защитой Франции). Чезаре объяснил нескольким французам, находившимся в Риме, что у него никогда не было никаких планов в отношении Тосканы, а войска, расположившиеся между Тоди и Перуджей, – его личная охрана. Каждому необходима хорошая персональная охрана, заявил Валентинуа.
Пока в Меделане Лукреция завлекала Бембо в любовные сети, Александр VI и Валентинуа находились на распутье между Францией и Испанией. В начале августа 1503 года умер кардинал Монреальский Джованни Борджиа; после него осталось то, чего он «не мог захватить с собой»: деньги, драгоценности, великолепные лошади и другое имущество. Чезаре отложил отъезд из Рима, поскольку хотел вместе с отцом отпраздновать одиннадцатую годовщину пребывания его на папском престоле, хотя на самом деле собирался «дождаться, чтобы посмотреть, что предпримут испанцы». 10 августа, в день святого Лоренцо, бывший секретарь папы Адриано Кастелли ди Корнеко, недавно назначенный кардиналом, устраивает роскошный завтрак в своих виноградниках, куда приглашает понтифика с сыном и нескольких близких друзей. С этого события началось падение династии Борджиа.
Не вполне ясно, что именно происходило за завтраком. В «Дневниках» Санудо была обнаружена сделанная анонимом запись, рассказывающая о событиях того дня. Кардинал Адриано Кастелли, прослышав, что Александр VI положил глаз на его богатство, вознамерился убить его с помощью отравленных сладостей, но передумал. Вместо этого нанятый им убийца предложил папе и Чезаре отравленное вино. Это еще одна из бесчисленных тайн, окутывающих семейство Борджиа и вызывающая горячие споры уже на протяжении столетий. Историки древности, такие, как Гуиччиардини, Джовио и Пьетро Матире, верят, что Борджиа отравили. Современные писатели, Пастор, Люцио и Вудварт отвергают эту теорию на основании доказательных свидетельств современников Борджиа, Бурхарда, Костабили, Катанеи и Джустиана, которые объясняли случившееся малярией. На следующий день, И августа, Адриано Кастелли слег в постель. Если верить истории с отравлением, то получается, что либо кардинал испугался содеянного и от страха заболел, либо сам слегка попробовал отравленный напиток. 12 августа заболел папа, а 13-го – Валентинуа. Вообще-то заболели многие, а повар и кухонный работник даже умерли. Монсеньор Бельтранто Костабили пишет 14 августа: «Нет ничего удивительного, что Его Святейшество и Его Светлость [Валентинуа] заболели; все присутствовавшие на завтраке либо заболели, либо почувствовали себя плохо. Это следует отнести к ухудшению атмосферы, несущей болезни». В свою очередь Катанеи записал еще 5 августа: «Многие нездоровы, хотя и нет никакой чумы, а только лихорадка, которая вскоре погубит их». Помимо этих свидетельств, вся Италия заговорила об отравлении, возможно, потому, что в данном случае это казалось наиболее логичным: Борджиа должны были умереть именно с помощью яда. В этом были убеждены даже приверженцы Валентинуа, но, может, это было обычным притворством. Один из них доверительно сообщил Катанеи, что яд был в треббийском вине, причем папа выпил его неразбавленным, а Чезаре добавил большое количество воды. Исходя из этого, Катанеи решил пересмотреть гипотезу, связанную с отравлением, хотя так и не пришел к конкретному заключению.
Как бы то ни было, но все по-прежнему покрыто мраком. Утром 13 августа папу посетили его врач, епископ Венозы (кстати, сам больной), и специально приглашенный в Ватикан врач. Положение признано крайне серьезным. В это же время Валентинуа тоже страдает от лихорадки: его рвет, лихорадит, и состояние даже хуже, чем у отца. Такое впечатление, что перезвон колоколов донес до врагов Борджиа известие о болезни отца и сына. Они снова воспрянули духом, час отмщения близок. Друзья Чезаре договариваются выступать единым фронтом, сохраняя спокойствие. Говорят, что герцог болен. Ерунда, нет никаких оснований для тревоги. Огромным усилием воли Чезаре заставляет себя принять первого посетителя в собственных апартаментах папского дворца. Несмотря на ужасное самочувствие, Чезаре демонстрирует хорошее настроение. Но ему не удается обмануть посетителя, который слишком умен, чтобы не понять, с какой целью организована эта встреча: теперь он сможет сказать, что видел Валентинуа в полном здравии (хотя совершенно ясно, что все это сплошное притворство).
На следующий день папе пускают кровь. Наступает некоторое облегчение, и он даже садится играть в карты с кардиналами. Но 16 августа наступает рецидив. 17-го опять наступает улучшение, а 18-го, прослушав мессу и исповедовавшись, папа чувствует, что ему действительно очень плохо. Вечером папу соборовали, а к вечерне в полной тишине Александр VI умер. Его сердце уже не смогло устоять против лихорадки, и у него случился апоплексический удар.
В этот момент рядом с ним находились несколько человек. Тишину нарушил приглушенный шум голосов – еще отдаленной, но совершенно очевидной угрозы. Двери внезапно распахнулись, и группа вооруженных людей под командованием дона Микеллотто Кореллы вошла в апартаменты, закрыв за собой дверь, и заступила в караул. Кардиналу-казначею был предложен выбор: либо он отдает ключи от папской казны, либо будет выброшен из окна. Увидев приставленный к груди кинжал, кардинал передал ключи от сундуков с серебром и золотыми дукатами. В спешке люди Чезаре допустили ошибку, о которой впоследствии горько сожалели. Они выпустили из виду шкатулку с драгоценностями Александра VI. Схватив добычу, они тут же убрались восвояси.
В это время Чезаре сильно лихорадит, но, тем не менее, он наблюдает за доном Микеллотто и маленьким принцем Скуиллаче, кичившимся храбростью и непомерно самонадеянным. Во главе вооруженного отряда Джофре Борджиа выезжает из Ватикана и едет по Риму так, словно совершает инспекционный объезд собственной территории. На площади Минервы он видит людей, возводящих баррикады. «Что это значит?» – интересуется Джофре. «Назревает скандал», – следует ответ. «Прекрасно, мы зайдем с той стороны, а вы – оттуда», – приказывает Джофре, указывая в сторону Тибра. Вернувшись в замок Сант-Анджело, он сразу же открывает предупредительную стрельбу в направлении Виадей-Банчи. Дон Микеллотто продемонстрировал большую осмотрительность и здравомыслие; не позволяя себе расслабиться, он отдавал приказы энергичные, но и весьма осмотрительные. А в это время толпы слуг, переворачивая все вверх дном, грабили апартаменты Борджиа в Ватикане, утащили даже трон понтифика.
По приказу Бурхарда тело покойного обмывают, одевают в белую с золотом ризу и кладут на катафалк, покрытый темно-красным атласом. Последние знаки внимания, оказанные Александру VI, не были следствием любви к понтифику, а являлись результатом четкого исполнения обязанностей со стороны церемониймейстера из Страсбурга. В таком виде тело переносят из разграбленных апартаментов в Зал попугая, куда пришли кое-кто из членов семейства; безусловно, Джофре, а может, и Ванноцца Катанеи. К вечеру, как и положено, тело на открытом катафалке было выставлено перед входом в собор Святого Петра, чтобы люди могли проститься с понтификом. От долгого пребывания на жаре тело начало разлагаться. Исказились черты лица; тело почернело и распухло, превратившись в безобразные останки, в которых уже не угадывалось не только вышеупомянутого понтифика, но и вообще ничего человеческого. Казалось, подтверждением всех этих страшных историй о договорах с дьяволом, жутких видениях и злых духах является это разложившееся тело. В результате те, кто прошел через собор Святого Петра, с привычным наслаждением начинают распространять умопомрачительные истории, а ведь люди готовы поверить во что угодно. Наконец, исходя из гуманных соображений и вспомнив о приличиях, разложившееся тело прикрывают. Поздно вечером при свете нескольких факелов состоялись похороны. Тело понтифика в сопровождении епископа Каринолы и нескольких прелатов похоронили в маленькой церкви Сайта Мария-делла-Феббри, где покоилось тело убитого тремя годами раньше герцога де Бисельи. Сцена похорон представляла кошмарное зрелище. Тело папы к этому моменту настолько распухло, что его никак не удавалось положить в гроб. Два здоровых могильщика силой стали запихивать его в гроб. Яркий неровный свет усиливал ужасную картину происходящего. Наконец тело втиснули в гроб и захоронили под камнем (как было сказано, временно). И тут же небольшая группа могильщиков и прелатов поспешно, в полном молчании удалилась.
Чезаре, прикованный к постели, мгновенно осознал крушение всех своих надежд. Его комнаты находились над апартаментами папы, и, вероятно, он слышал заупокойные молитвы. Он не в силах ничего изменить и обязан освободить Ватикан до нового конклава. Беспокойство Чезаре растет; он понимает, что враги Борджиа спят и видят, как бы отомстить ненавистному роду. Женщин Борджиа собирают в замке Сант-Анджело. Здесь Санча Арагонская, Доротея да Крема, похищенная по пути в Равенну (драматичной была встреча этих двух женщин, объединенных общей ненавистью к человеку, любившему их), все дети Борджиа, маленький герцог Лукреции, римский инфант, потомство боковых ветвей семьи Борджиа и, вероятно, самый последний плод развратной жизни Александра VI – Родриго Борджиа, родившийся между 1502-м и 1503 годами. Вскоре весь гарем, включая Ванноццу Катанеи, был отправлен в крепость Чивита-Кастеллана. Сам Чезаре, которого кардиналы попросили покинуть Ватикан, поскольку его присутствие могло невольно помешать работе конклава, отправился в Непи в сопровождении военного эскорта и нескольких проституток. Восемь слуг несут его паланкин, обтянутый темно-красной тканью. Впереди паж ведет коня; через седло перекинут связанный пленник, чье имя неизвестно (может, заложник Орсини). Чезаре и в самом деле серьезно болен: ноги опухли, он сильно похудел и испытывает жуткие головные боли. Более того, он стал заговариваться. Просперо Колонна отправляет ему послание с предложением защиты при одном условии: в предстоящем конклаве Чезаре обязан использовать свое влияние в интересах Испании. Чезаре принимает это предложение, но одновременно принимает на таких же условиях помощь со стороны французов. О его двойной игре немедленно узнают обе стороны; это отталкивает испанцев и рождает недоверие у французов.
В действительности Чезаре возлагает все надежды на выбор французского папы, а именно честолюбивого кардинала д'Амбуаза. Теперь, когда был очевиден вред, нанесенный папству испанцами, итальянцы с большой осторожностью отнеслись к выбору очередного иностранца (хотя французам было совершенно непонятно, почему неудачное правление испанца должно уменьшать шансы француза). Именно в это время в Риме вновь появляется Асканио Сфорца. Он освобожден из темницы, находится в прекрасных отношениях с королем Франции, а за период заточения возросли не только его амбиции, но и устремления. Он появляется в сентябре вместе с кардиналом д'Амбуазом. В Порто-дель-Пополо его встречают кардиналы из Болоньи и Вольтерры, кардинал д'Альбре и кардинал Сан-Северино. Его приветствуют взрывами ликования и даже фейерверком. Женщины, высунувшись из окон, кричат: «Асканио! Асканио! Сфорца! Сфорца!» – словно все, как одна, влюблены в него. Никто не ожидал такого бурного восторга, и это привело в некоторое замешательство французского кардинала, который видел в Асканио вассала. Говорили, что Сфорца был освобожден, чтобы работать на д'Амбуаза. Собравшийся конклав оказывается лицом к лицу с прежним врагом (еще с 1492 года!) Джулиано делла Ровере, который прежде всего хочет разрушить надежды француза. Среди всеобщего замешательства, разногласий и неразберихи конклав избирает честного, высоконравственного человека, но, по сути, немощного старца Франческо Тодескини Пикколомини, взявшего имя Пий III. Он должен был стать папой переходного периода.
Французы продолжали наступать на Неаполь, намереваясь вступить в борьбу с испанцами. Они прошли через Непи, оставив больного Валентинуа в одиночестве. Когда Чезаре узнал, что Бартоломео д'Альвиано находится на пути к Непи, намереваясь отомстить за Орсини, герцог ощутил нечто вроде паники. Он отправил курьера в Рим к вновь избранному папе с просьбой предоставить ему убежище. К невероятному удовольствию врагов, ему не удалось скрыть свою беспомощность, но папа Пий III, испытывая жалость к герцогу, разрешил ему вернуться в Рим и разместиться во дворце Ипполито д'Эсте, рядом с Ватиканом.
Вскоре после этого на улицах Рима было замечено большое скопление войск. Это были войска Альвиано, Баглиони и Орсини, которые в ожидании мести убивали и мучили испанцев и насиловали женщин. Жертвой стал римлянин Пьетро Матуцци, женившейся на одной из дочерей Александра VI, Изабелле Борджиа, еще до избрания ее отца папой римским. Орсини ворвались во дворец Пьетро Матуцци и в качестве ответной меры за поругание, которому подверглись их женщины, забрали его жену и дочь. Чезаре понял, что его не спасет никакая охрана. Он слышал в шуме уличной толпы голоса своих врагов, выкрикивающих: «Убить эту собаку, засунуть его в мешок, как он это делал с другими». Чезаре прекрасно знал, как возбуждают солдат подобные выкрики, поскольку все его солдаты являлись наемниками. Более того, его испанские солдаты ощущали явное недоверие со стороны испанского короля, так как они служили Чезаре, который считался предателем из-за махинаций с французами. По большей части они выражали недовольство герцогом Валентинуа. Оставались только немцы, немного итальянцев и французы. Оглядев свою уменьшившуюся охрану, Чезаре подумал о возвращении в замок Сант-Анджело, комендант которого находился всецело в его руках, но даже он теперь подчинялся только понтифику, который мог оставить его на этой должности, а мог и снять. В Риме со смехом говорили, что, в то время как молодой Джофре демонстрирует несгибаемое мужество, выступая против Орсини во главе немногочисленной армии наемников, предложение Валентинуа засадить его в темницу иначе как чудом не назовешь.
Известие о смерти Александра VI 19 августа достигло Феррары. Узнав об этом, кардинал Ипполито тут же вскочил на коня и во весь опор поскакал в Меделану, чтобы сообщить о случившемся Лукреции.
Герцогиня почти обезумела от горя. Она была слишком Борджиа, чтобы не почувствовать глубину уз, связывающих ее с отцом. Вся в черном, в темной комнате, без света, без еды, как она выразилась впоследствии, «я думала, что умерла». Земное существование казалось ей бессмысленным. Дон Альфонсо наносит короткий визит и тут же уходит; слезы и меланхолия раздражают его. Эрколе д'Эсте, как отметили в Ферраре, похоже, не слишком опечалился. Старый герцог затаил обиду на папу, поскольку его фаворит Джан Люка Кастеллини не был включен в число новых кардиналов. Истинные чувства герцога Эрколе стали известны благодаря письму, написанному им спустя несколько дней после смерти папы Джано Джорджио Серегни, феррарскому посланнику в Милане. В этом письме он сообщает, что не только не оплакивает смерть папы, а, напротив, «для чести Бога и всеобщего блага христианского мира нам всегда хотелось, чтобы Божественное Провидение и Доброта дали нам пастыря доброго и примерного, чтобы он изгнал зло из своей церкви!». При случае Эрколе, действуя как последователь Савонаролы, заявлял, что почти желал смерти понтифику. Нам ничего не стоит представить те чувства, которые он испытывал к дочери этой «скандальной личности» и к Чезаре, очертя голову мчавшемуся навстречу гибели.
Лукреция отдается скорби, но она одинока в своем горе, лишь немногие из ее придворных оделись в траур. Она прекрасно понимает, что означают для них траурные одежды; теперь она будет их опорой и защитой. Сочувствуют ей придворные дамы Строцци и Тебалдео, но больше всех Пьетро Бембо, который, едва узнав о случившемся, тут же примчался в Меделану, еще до появления Альфонсо д'Эсте. Его переполняют слова сочувствия и утешения, но, войдя в комнату и увидев сидящую на полу, стенающую Лукрецию, Бембо теряет дар речи. Боясь сделать что-то не так, он возвращается в Остеллато. Оттуда он пишет Лукреции нежное письмо, выражающее искренне сочувствие, и объясняет, что, понимая все ее горе, тем не менее, советует, чтобы никто не заподозрил, что именно она оплакивает. Поэт, должно быть, понимал, что судьба Лукреции висит на волоске, и, вероятно, слышал, что говорилось о могуществе французского короля.
Теперь стало ясно, что Людовик XII предоставил Чезаре самому себе, продемонстрировав, «насколько непостоянна милость находящихся по ту сторону Альп». Более того, король дошел до того, что заявил, будто Лукреция не слишком хорошая жена для Альфонсо д'Эсте (наследника до сих пор нет!). Нам неизвестно, рассматривал ли король это как предлог для развода или он таким образом выражал свое желание помочь семейству д'Эсте при разводе. Однако у нас нет никаких свидетельств, подтверждающих намерение Феррары добиться развода; в этом случае придется вернуть огромное приданое, и Чезаре Борджиа пока еще не утратил могущества в Романье. Лукреция мгновенно осознает, что единственным залогом величия Борджиа является герцогство Романья – гарантия могущества ее брата. Она пытается найти способ помочь Чезаре. Лукреция не располагает большой суммой денег, поскольку не задумываясь тратила выделенную ей ренту. Ей все-таки удается собрать армию в тысячу пехотинцев и сто пятьдесят лучников, которая под руководством Педро Рамиреса направляется для подкрепления в Чезену и Имолу. Там они творят чудеса, а вот помешать водворению в Пезаро бывшего мужа Лукреции, Джованни Сфорца, им не удается. Как уже говорилось, звезда Борджиа должна была закатиться, и даже ничтожный Джованни Сфорца должен был одержать победу над этой семьей. Вернувшись в свой город, он приказывает казнить Пандольфо Колленуччо, одного из известнейших гуманистов эпохи Ренессанса, поэта и жителя Пезаро, который в свое время предложил Чезаре заключить союз с д'Эсте. Лукреция возмущена мелочностью экс-мужа.
Римини пал, но крепости Чезена и Форли по-прежнему остаются во власти Валентинуа. Удивительная преданность! Внушает уважение комендант замка Форли, который казнил папского курьера, доставившего распоряжение о сдаче крепости. Похоже, Лукреция передала коменданту крепости значительную сумму денег, чтобы помочь ему продержаться. Позиция герцога Эрколе неоднозначна. Ему известно, какую бурную деятельность развила Лукреция и что со всех сторон ее обвиняют в желании «поддержать Валентинуа». В письме своему послу в Риме Эрколе сообщает, что ему гораздо выгоднее, чтобы Романья принадлежала Борджиа, чем грозной Венецианской республике, давно уже сосредоточившей на границе свои войска. Если к герцогу обращались с жалобами на Лукрецию, то он отвечал, что абсолютно не в курсе дел своей невестки, и не давал ей ни пенни на ее рискованные предприятия, что вообще-то именно так и было. Таким образом, любовь Лукреции к брату служила интересам других людей, никоим образом не отражаясь на ее собственной жизни.
А тем временем в Меделане и Остеллато вплетались последние нити в любовный роман Лукреции и Бембо.
Поэт написал Лукреции, и она, вероятно, оценив постоянство и искренность Бембо, признается ему в любви. В начале октября поэт пишет: «Я готов пожертвовать любыми сокровищами, только бы еще раз услышать то, что вы сказали мне накануне». Далее он продолжает, что никогда ни один любовник не пылал таким чистым и жарким огнем, чем тот, что в нем зажгли FF и его судьба. Да, это слова платонического любовника, но любовника достаточно страстного, который надеется, что если Лукреция попытается потушить пламя в собственной груди, то сама же в нем и сгорит (он цитирует испанскую притчу, найденную среди его бумаг).
Нет никаких сомнений, что на протяжении всей осени переписка между страдающей Лукрецией и ее утешителем становится все оживленнее. Герцогиня получает из Феррары темную тафту на платье, чтобы несколько смягчить испанскую строгость ее траура. Это платье из жесткого материала с большими фалдами придает ее изящной фигуре особую хрупкую нежность, вызывающую желание у мужчин подобных Бембо. Я так и вижу ее в этом наряде без каких-либо украшений, стоящую у окна и встречающую или провожающую своего возлюбленного или выходящую вместе с ним по вечерам на балкон, чтобы полюбоваться луной. На этом балконе, о котором он будет позже с тоской вспоминать, Бембо долго говорит о любви, а тактичные соучастники этой любви, друзья и придворные дамы, ждут их неподалеку.
Бембо писал: «Я целую эту прелестнейшую руку, являющуюся причиной моей смерти» и «Я целую эту руку, и ни один мужчина никогда не целовал ничего прекраснее». Возможно, поцелуев было слишком много, и об этом стало известно Альфонсо д'Эсте. Во всяком случае, 7 октября он в сопровождении придворных появляется в Остеллато. Мне неизвестно, был ли его поступок продиктован чувствами или желанием показать Бембо и Строцци, что, несмотря на молчание, он внимательно следит за происходящим. Стоит взглянуть на даты, и вы поймете, что 10 октября Бембо уже вернулся в Венецию, а оттуда поехал навестить друзей в Венето. Конечно, это может быть случайным совпадением, но стоит заметить, что Эрколе Строцци, увязший в этом романе Лукреции (как и в ее последующей любовной истории), был достаточно умен, чтобы понять предостережение и предпринять соответствующие шаги. Бембо следовало уехать, но разлука с Лукрецией вызвала такую боль, что в конце октября поэт вернулся в Остеллато. Но жизнь любовников непроста, и им вскоре приходится признать этот факт. 2 ноября Бембо пишет Лукреции из Феррары, сообщая, что ему пришлось покинуть Остеллато, поскольку туда приехал дон Альфонсо со свитой, и ему не хватило места за столом, поэтому ничего не оставалось, как смириться и уехать. Невозможно представить, что там, где хватило места более чем пятидесяти персонам, не нашлось места для Пьетро Бембо. Совершенно очевидно, что такое отношение со стороны Альфонсо продиктовано антипатией к человеку, ставшему слишком близким его жене.
Временное пребывание в Меделане из-за эпидемии чумы в Ферраре затянулось на год. Лукреция собиралась съездить на Капри к Альберто Пио, близкому другу Бембо и Строцци. Баржа уже была готова к отплытию, когда заболели сначала тридцать четыре члена ее двора, а вскоре болезнь поразила еще двадцать человек. Какая уж тут поездка! Лукреция вернулась в Феррару в конце декабря. Альфонсо встретил ее и лично препроводил в замок, весьма обходительным образом вновь заключив в темницу.
Начинался новый сезон развлечений, но траур Лукреции и пошатнувшееся здоровье старого герцога служили препятствием к участию в бесконечной череде балов и вечеринок. Бембо обещал Лукреции провести зиму в Ферраре, но в конце декабря родственники вызывают его в Венецию, и он в спешке покидает Феррару. Они грустят, расставаясь; Бембо открывает Библию и зачитывает Лукреции слова, знаменующие их расставание. Случайно выбранная фраза говорит о смерти: «Obdormivit cum patribus suis et sepelierunt eum in civitate David»{9}.
Прощаясь, они оба ощутили на себе бремя пророчества. Лукреция успевает до отъезда Бембо отправить ему коротенькое письмо, которое не содержит никакой конкретной информации, это просто крик души молодой женщины. По приезде в Венецию Бембо узнает, что его младший брат Карло умер несколько дней назад. Поэт оплакивает брата; а в это время вдали от него, запертая в красной кирпичной крепости в Ферраре, рыдает Лукреция, и ее слезы служат утешением поэту. Их вновь объединило общее горе.
Поэту стало известно, что Лукреция хорошеет день ото дня (его, должно быть, информирует Строцци, который то и дело ездит из Феррары в Венецию и обратно в поисках интересующих герцогиню товаров), и он не находит себе места. В марте 1504 года поэт в письме умоляет свою возлюбленную написать «Мой мессир Пьетро». Лукреция отвечает, что он должен извинить FF, у которой много причин, по которым она не может писать так, как ей бы хотелось, и она, герцогиня, просить извинить ее. Бембо должен простить ее и помнить, что у FF не было другого желания, кроме как постараться доставить ему удовольствие.
Тон письма позволяет понять, как тщательно она подбирала слова, опасаясь неосторожной фразой вызвать ненужные подозрения. Поэт, тем не менее, счастлив. Он радостно восклицает, что способен думать о ней сутки напролет. В августе 1504 года он передает ей через посредника «Asolani» («Азоланские беседы»): диалоги о любви с посвящением прекрасной даме из Феррары.
Несмотря на, казалось бы, излишнее восхваление герцогини, чувствуется, насколько глубоко проник поэт в психологическую сущность своей героини. Он говорит, что, поскольку Лукреция превосходит всех женщин в красоте физической, она должна превосходить их и в духовной красоте. Бембо был тем единственным, кто понял душу Лукреции, ее замкнутость и сдержанность. Она слушала, как вокруг обсуждают и комментируют главы произведения Бембо, как Строцци блестяще анализирует каждую фразу, каждое слово, а на самом деле слышала венецианский акцент Бембо, отбивающий ритм в ее сердце, и, возможно, вздыхала, тоскуя.
Двадцать шесть дней пребывания у власти оказались непосильны для папы Пия III. Он храбро держался все это время, но 18 октября 1503 года все-таки скончался, и возобновилась борьба за престолонаследие. 31 октября 1503 года конклав избирает Джулиано делла Ровере, который берет имя Юлий II.
Чезаре, чей разум столь же ясен, как и в период расцвета, понимает, что теперь даже папа не в силах помочь обрести ему прежнее могущество. От него отказались и французский, и испанский короли. У него нет солдат, нет друзей, нет доверия властей предержащих. Юлий II, конечно, мог зайти как угодно далеко, но не настолько, чтобы отобрать крепости в Романье, все еще занятые войсками Валентинуа. Чезаре отправляется в Остию. Заканчивается погрузка на корабли, и Чезаре уже готов отлыть в Ливорно, когда гонцы привозят папские распоряжения. Герцог отказывается подчиниться приказу о сдаче крепостей Романьи. Его немедленно арестовывают и препровождают в крепость делла Ровере в Остии. Он все еще тешит себя иллюзиями, что обладает прежней силой и могуществом. В скором времени его переправляют в Рим. Осознав, что действительно стал пленником, Валентинуа падает духом (говорили, что он даже плакал). Потеряв всякий интерес к жизни, герцог, чувствуя себя в положении загнанного зверя, дает волю эмоциям. Все кончено. Тюремщики внимательно наблюдают за пленником. По их мнению, герцог ведет себя достойно. С ним трое его слуг, которые полностью обслуживают герцога, готовят ему пищу. Чезаре принимает посетителей, и те торжествуют, глядя на некогда могущественного, а ныне поверженного Борджиа. Чезаре с удовольствием играет в игры со стражей (папской!), и они поражаются азарту, с каким он отдается игре (возможно, он просто притворяется, чтобы внести хоть какое-то разнообразие в их скучную жизнь). Когда один из тюремщиков удивился безразличию герцога к собственной судьбе, Чезаре ответил: «Я думаю о тех многих, которые из-за меня подвергались заточению». Жизнестойкость пленника приводила папу в неописуемую ярость.
В это время испанцы под руководством знаменитого Гонзальве Кордуанского одерживают блестящую победу в битве при Гарильяно. Изгнав французов из страны, они устанавливают господство в Южной Италии. Узнав об этой победе, Чезаре тут же вспоминает о дружбе, связывавшей Гонзальве с его семьей, и понимает, в чем следует искать свое спасение. Он соглашается передать крепости Романьи в обмен на свободу и охранное свидетельство для отъезда в Неаполь. По свидетельству очевидцев, стоило Валентинуа вдохнуть воздух свободы, как он потребовал коня. «Вы всегда были человеком несгибаемой воли», – сказали герцогу, и он гордо ответил: «Чем сложнее обстоятельства, тем сильнее мой дух». Итак, весной 1504 года Валентинуа отплыл из Остии в Неаполь.
Выбор Неаполя стал последней, роковой ошибкой Чезаре. Ведь именно там собрались все женщины арагонской династии, принесенной в жертву Борджиа, включая старую королеву Джоанну, вдову Альфонсо II, бывшую королеву Венгрии, Беатрис (в свое время Александр VI при разводе Беатрис и короля Ладислава вынес решение в пользу короля), и Изабеллу Сфорца Арагонскую, бывшую герцогиню Миланскую. Помимо принадлежности к арагонской династии, каждая из них имела личную причину ненавидеть Борджиа; все они были родственницами убитого герцога де Бисельи. Кроме того, в Неаполе находится герцог де Гравина, Франческо Орсини, многие приверженцы Орсини и родственники Джеронимо Манчиони, которому по приказу Чезаре за литературное сочинение о событиях, происшедших во время захвата Фаэнцы, отрезали язык и руку. Ну и, наконец, там находилась Санча, замеченная главным образом в компании Гонзальве Кордуанского, и маленький Родриго де Бисельи, находящийся на попечении кузин, тетушек и двоюродных бабушек.
Валентинуа не собирается долго задерживаться в Неаполе. Говорили, что он задумал перебраться в Романью (такой уж он был человек!), хотя и чувствовал царящую вокруг атмосферу ненависти и недоброжелательства. Более того, в Испании происходили важные события. Джустиан и Катанеи утверждают (у меня нет никаких доказательств, подтверждающих их заявление), что мрачно-спокойная герцогиня Гандийская появилась при дворе его католического величества Фердинанда и поинтересовалась, будет ли, наконец, восстановлена справедливость; в убийстве мужа она обвиняет герцога Валентинуа. Их католические величества, король и королева Испании, были крайне враждебно настроены к Александру VI из-за его профранцузской политики, называя ее предательской, считали, что за этим стоит герцог Валентинуа, и поэтому не нуждались в долгих объяснениях. Они отдают распоряжение Гонзальве арестовать Чезаре и отправить его в Испанию. Получив приказ, Гонзальве оказался в весьма затруднительном положении, поскольку дал слово чести предоставить свободу герцогу Валентинуа. Спустя годы знаменитый капитан (Гонзальве), вспоминая свою полную приключений жизнь, сказал, что за все прожитые годы он три раза был вынужден нарушить свое слово и каждый раз это причиняло ему сильную боль. Это был один из тех случаев. Он обязан подчиниться своему королю. Вечером Гонзальве отправляет Чезаре послание с просьбой немедленно прибыть в Кастель-дель-Ово, поскольку в окрестностях бродят большие отряды родственников человека, у которого по приказу Чезаре отрезали язык. Чезаре верит слову Гонзальве и вновь оказывается в тюрьме. На этот раз окончательно.
В августе 1504 года человек, который мог бы стать королем Италии, плыл на борту испанского корабля в страну своих предков. Его сопровождал Просперо Колонна, который, преодолев неприязнь, ведет себя весьма благородно, обращаясь с Чезаре как с равным себе свободным человеком. Герцога Валентинуа заключают в крепость Чинчилла. Поговаривали, что король собирался устроить общественный суд и казнить герцога, а если и оставить его в живых, то лишь затем, чтобы наводить ужас на Юлия II. Стоило оказаться в заточении в далекой стране, как о нем постепенно начали забывать, даже жена. Единственным человеком, который никогда не забывал о нем, была Лукреция. С завидной энергией и упорством она продолжала интересоваться судьбой брата. В первые месяцы правления Юлия II шел разговор о водворении Валентинуа в Ферраре. Папа обсуждал этот вопрос с Костабили, на что тот без обиняков ответил, что герцог Эрколе вряд ли согласится на подобное бремя (Юлий II наверняка и не ждал иного ответа). Страстно желая определиться с возможностями Чезаре, папа пишет королю Франции, не позволит ли он Валентинуа жить на принадлежащей королю территории. Людовик XII любезно отвечает, что готов оказать гостеприимство герцогу, главным образом для того, чтобы удовлетворить многочисленные обращения герцогини Феррарской. Письмо должно ввести в заблуждение Валентинуа, вот цель, которую преследует король. Одновременно с этим письмом Людовик XII посылает второе письмо, герцогу Феррарскому, в котором заявляет, что никогда ни при каких обстоятельствах не разрешит Валентинуа въезд во Францию. Более того, он советует герцогу поменьше интересоваться этим «папским бастардом». Конечно, Эрколе пришелся по душе такой совет. Эти письма лишний раз доказывают не только двуличность Людовика XII, но и сильную обеспокоенность Лукреции судьбой поверженного брата.
Альфонсо д'Эсте много путешествовал. Все его дорожные размышления сводились к практическим современным аспектам знаний, таким, как градостроение и благоустройство территорий, сооружение крепостей и строительство портов. Но он не обходил стороной и вопросы, связанные с семьей: права законных детей и бастардов, права на наследование, справедливость и дружба между братьями и, конечно, отношения между мужем и женой. Он не испытывал ни малейшего интереса к политическим играм в борьбе за долю в наследстве и власть, но это вовсе не означало, что у него не было собственных политических убеждений. Его пристрастие к Венеции было общеизвестно, и невольно предполагалось, что в будущем намечается политический союз с «Serenissima». Тем временем Альфонсо, выжидая подходящего момента, занимался своим литейным производством, излюбленными пушками, токарным станком, на котором работал часами, и изготовлением майолики, которое давало ему возможность насладиться трудом ремесленника. Придворные презирали Альфонсо за его любовь к простому труду и простым людям. Эрколе тоже весьма неодобрительно относился к наклонностям сына. Правда, мысли о втором сыне были еще мрачнее.
Никто не мог повлиять на кардинала Ипполито, а уж тем более его отец. Невероятное сочетание гуманистических идей, духовного образования и гипертрофированного чувства собственного достоинства придавало его внешности вид холодной торжественности. Его улыбка не только не вызывала доверия, а наоборот, внушала безотчетный страх. Эрколе стремился убедить сына больше обращаться к требнику, а не к оружию. Ипполито с удовольствием снял бы сутану, надел кожаный жилет и отправился бы с воинственно настроенными придворными, объятый страстью к разрушению. Он уничтожил бы всю дичь, которую смог бы найти, и, если бы этого ему показалось мало, убил бы домашних гусей и кур. Ипполито отвечал на письма отца то с показной набожностью, то раздраженно, но всегда с оскорбительным высокомерием. Разногласия и неразбериха, окружавшие Ипполито, предвещали будущие беды. Группа придворных, которая придерживалась умеренных взглядов, уже давно задавалась вопросом: кто скажет, что произойдет, когда не станет «бедного старика» (имелся в виду герцог Эрколе)?
Два младших брата Ипполито, дон Ферранте и дон Джулио (никому и в голову не приходило вспоминать о самом младшем из братьев – Сиджизмондо), нетерпимые и своевольные, но не такие способные, как Ипполито. Правда, они не выказывали никакого желания перестроить мир и вызывали меньше опасений. Дон Джулио, незаконнорожденный сын Изабеллы Ардунской, обаятельный красавец, сибарит и страстный любитель красивой одежды. Он знал чарующую силу своих глаз, доставшихся ему от матери-неаполитанки. «Все женщины напускают на себя важность, а сами только и думают, как бы заставить меня танцевать с ними»; «Герцогиня [Лукреция] вообще не танцевала, пока я не пригласил ее на танец, зажигательный танец…» Я красив, я неотразим, я уникален, я, я, я… Вот портрет дона Джулио. Был ли он в действительности столь чудовищно тщеславен или его слова были своего рода шутливым хвастовством, являвшимся неотъемлемой частью разговоров, ведущихся между братьями? В письме Ипполито дон Джулио говорит о себе как о сыне и брате неотесанных деревенщин (в семействе д'Эсте любили добродушно подшучивать друг над другом). Дон Ферранте, соперничая с братом, ухаживал подряд за всеми женщинами. С политической точки зрения братья были полными ничтожествами. Дон Джулио занял оборонительную позицию по отношению к отцу, мечтавшему о духовной карьере для сына. Дона Ферранте якобы интересовало военное искусство, но он всегда старался найти «непыльную работенку». И конечно, оба были недовольны положением дел.
В конце 1504 года герцог сильно сдал, и стало ясно, что близится его конец. В Англию, где в то время находился дон Альфонсо, были спешно отправлены курьеры. Члены семейства д'Эсте и главные прелаты герцогства тут же переходят в распоряжение Лукреции «на тот случай, если умрет старый герцог». Под звуки клавесина Эрколе д'Эсте спокойно прощается с жизнью. Он рассуждает о значении музыки, слушает музыкальные композиции XIV века, отбивая такт рукой. Он рассуждает о дочере Изабелле (в Ферраре было замечено, что маркиза Мантуанская пыталась найти оправдание, почему не сидела у кровати отца). Но вот Эрколе внимательно оглядывает наследника дона Альфонсо, который успел-таки приехать вовремя и теперь стоял рядом с отцом, членами семейства, продолжателями рода, которые, похоже, ладили друг с другом, и тихо угасает.
Колокола Феррары созывали совет старейшин для назначения нового герцога, как того требовали государственные дела. Пока монахи читали молитвы над телом отца, Альфонсо отдавал необходимые распоряжения. В белом плаще, подбитом белкой, в белом берете а lа France он принял старейшин и множество других людей в большом зале. При всеобщем одобрении собравшихся последовала передача меча и золотого скипетра. Затем вновь избранный герцог с братом кардиналом, доном Ферранте и доном Джулио вышли к народу и были встречены шумными возгласами одобрения. В тот день стоял убийственный холод. Шел снег, дул северный ветер, но, когда Альфонсо верхом проехал через весь город, он обратил внимание, что снег убирается, улицы запружены оживленными людьми и энтузиазм его подданных, казалось, согревает холодный воздух. Альфонсо принимал приветственные крики с безмятежным спокойствием. У кафедрального собора он спешился и вошел внутрь. Торжественная месса закончилась, и Тито Веспасиано Строцци, чей почтенный возраст придавал особую торжественность церемонии, короновал герцога. В середине дня получивший одобрение людей и божье согласие Альфонсо вышел из собора через двери, исполненные в романском стиле и охраняемые двумя львами, и предстал перед толпой.
Лукреция наблюдала за происходящим с балкона, обращенного к собору. Торжественная церемония имела отношение и к ней. С раннего утра она принимала аристократок Феррары во главе со знаменитой Джинервой Ренджони да Корреджо. Она вела беседы, выслушивала добрые пожелания, принимала знаки уважения и почтительности. Окруженная аристократками Феррары, рядом с Никколо Мария д'Эсте, епископом Адрии, Лукреция наблюдала с балкона за триумфом нового герцога. Затем она спустилась вниз. Там, у дверей, она встретила мужа и наклонилась, чтобы в знак покорности поцеловать ему руку, но он поднял ее, поцеловал в щеку и, взяв за руку, отправился давать артиллерийский салют в честь открытия праздничных торжеств. Сутки продолжался веселый праздник, с приемом и ужином, после чего они вернулись к прерванному трауру и делам, связанным с похоронами старого герцога, которые были обставлены с большой торжественностью.
Со смертью старого герцога статус Лукреции изменился, но это никак не повлияло на ее душевные переживания. Бембо в числе прочих поздравил Лукрецию. Что же все-таки произошло?
Весь 1504 год Бембо провел в Венеции, занимаясь семейными проблемами, политическими переговорами и, вероятно, руководствуясь простым благоразумием (хотя и продолжал переписываться с Лукрецией). Она предполагала съездить в Венецию перед Великим постом, затем на праздник Вознесения, но, похоже, не смогла уехать из Феррары (именно в марте у Лукреции зарождается чувство любви к Франческо де Гонзага, мужу Изабеллы д'Эсте). Возможно, Бембо что-то заподозрил. Они теперь редко обменивались письмами, но это были нежные и трогательные послания. Большая часть их затерялась, что-то было уничтожено, и в результате до нас дошла лишь незначительная часть корреспонденции, адресованной не Лукреции, а «мадонне N», вероятно, Николе, жене Тротти, для передачи герцогине. Вот одно из наиболее искренних и выразительных писем Бембо. «Помните, что я думаю только о Вас, с восхищением и почтением, и, если после смерти моя душа будет парить над Вами, я готов умереть». Болезни и удары судьбы, писал поэт, не имеют никакого значения, если он будет знать, что любим той, которая является для него «надежной гаванью». Бембо посылает Лукреции образок с изображением агнца, который носил на груди. Он просит ее надевать его на ночь, и тогда «он сможет находиться рядом с ней на нежном алтаре ее сердца». Подарок был не столь безобиден, как может показаться на первый взгляд; это своего рода косвенный способ проявления изысканной чувственности. Да и само письмо, хотя и по другим причинам, не кажется таким уж наивно-простодушным. Бембо убеждает Лукрецию не делиться ни с кем своими мыслями и чувствами, чтобы «круг людей, знающих о нашей любви, был еще более ограничен, чем прежде». Никому нельзя верить, пишет поэт, а «я в любом случае приеду к Вам перед Пасхой (или после Пасхи?)… если еще буду жив. Предъявитель сего письма, которому я целиком доверяю, едет на Капри и позже вернется, чтобы узнать, не захотите ли вы выдать мне какое-нибудь распоряжение. Соблаговолите ответить мне через это доверенное лицо, и Ваш ответ буде доставлен наилучшим образом с соблюдением полнейшей секретности. Поскольку у нас нет возможности прямого общения, то Вы должны подробно написать мне обо всех происходящих с Вами событиях, поведать о всех Ваших мыслях, рассказать мне, человеку, которому Вы доверяете, что Вас волнует и что приносит успокоение. И непременно соблюдайте осторожность, поскольку мне точно известно, что за Вами пристально наблюдают… После Пасхи, как я уже говорил, я должен приехать в Феррару, чтобы затем на месяц или более уехать в Рим». Итак, встреча назначена.
Вокруг этого письма разгорелось множество дискуссий. Начиная с XVI века архивные собрания Бембо тщательно изучались, и всегда сильное недоумение вызывала дата написания этого письма – 10 февраля 1503 года. Морсолин, одним из первых внимательно изучивший переписку Бембо, справедливо указывает на то, что в 1503 году дружба между Лукрецией и Бембо только зарождалась и в тот период Строцци был единственным связующим звеном между ними. Впервые о своей любви поэт заговорил лишь в июне 1503 года. В XVI веке переписчик, возможно, допустил ошибку и вместо «1505» написал «1503». Несколько неопубликованных заметок, хранившихся до недавнего времени в архиве Гонзага в Мантуе, служат подтверждением догадок, высказанных Морсолином.
Таким образом, Бембо мог приехать только после Пасхи, но еще вопрос, собирался ли он вообще приезжать в Феррару. По мнению Морсолина, Бембо так и не появился в Ферраре, так что любовники больше никогда не встречались. Но существует абсолютно противоположное мнение, высказанное Бенедетто Капилупи, самым дотошным информатором, отправившим из Феррары 9 апреля 1503 года отчет о политических и других событиях, происходящих в городе. В нем, в частности, говорилось, что «мессир Пьетро, сын венецианского вельможи мессира Бернардо Бембо, сообщил, что назавтра в Римини и Урбино отправятся послы из Венеции и куда он намеревается отправиться, чтобы встретиться с ними».
Капилупи имеет в виду венецианскую миссию, направленную в Рим с целью обсуждения вопросов, связанныхс городами Романьи, которые после падения Чезаре должны были отойти Венецианской республике, в то время как Юлий II добивался, чтобы они стали собственностью церкви. Бембо, являвшийся участником дипломатической миссии, должно быть, выехал раньше всех, чтобы повидаться с герцогиней. Затем он присоединился к остальным в Урбино и уже оттуда отправился в Рим в точном соответствии с планом, содержащимся в февральском письме к Лукреции. Письмо Бембо Изабелле д'Эсте от 8 апреля нисколько не противоречит приведенному доказательству, поскольку вполне вероятно, что Бембо написал Изабелле непосредственно перед отъездом в Феррару. Расстояние между Венецией и Феррарой при хорошей езде он мог преодолеть за пять часов и уже к вечеру приехать в пункт назначения. Получается, что информация Капилупи вполне достоверна, и, оказавшись 9 апреля в Ферраре, поэт наверняка виделся с Лукрецией, ради которой он и совершил это поездку. Нет никаких данных о том, удалось ли любовникам хоть сколько-то времени провести наедине, или же неразбериха, царившая в связи с приездом иностранных гостей (в этот момент в Ферраре находилась миссия из Франции), не дала им возможности спокойно поговорить. Затем Бембо отправился в Урбино, чтобы, присоединившись к венецианской делегации, двинуться дальше в Рим. Вероятно, как ни мучительно Бембо было это сознавать, у них не могло быть будущего.
Возможно, Бембо останавливался в Ферраре на обратном пути из Рима, поскольку в середине июня Эмилио Пио писал Изабелле д'Эсте из Джуббио, что Бембо пять дней провел в Джуббио, а затем отправился в Мантую. Правильность этой информации подтверждается письмом Антонио Тебалдео, отправленным Изабелле Мантуанской из Феррары пятью днями позже. Оно датировано 20 июня и сообщает о приезде двух друзей – Пьетро Бембо и Паоло дель Канале – «двух знаменитостей», остановившихся в Ферраре по пути в Мантую. Бембо сам передал это письмо Изабелле («предъявителем сего письма будет мессир Пьетро Бембо», написал Тебалдео), а это лишний раз доказывает, что он до мельчайших деталей следовал своему ранее разработанному плану. Поэт 15-го уехал из Джуббио, 20-го – из Феррары, и между 20-м и 27 – м наконец-то появился в Мантуе, где, как надеялась маркиза, она могла бы отомстить невестке, очаровав венецианского поэта.
О чем могли говорить любовники во время последней встречи (в промежутке между апрелем и июнем 1505 года), когда участь их любви была уже решена? С этого момента не было уже ни страстных писем, ни упоминаний о FF. Бембо отправляет поздравления, пожелания или выражения сочувствия в зависимости от событий, происходящих в жизни Лукреции, но не более. Вполне возможно, что подозрения Альфонсо д'Эсте усилились. Похоже, он не испытывал симпатию ни к кому из близких друзей жены. В то же лето 1505 года Тебалдео жаловался, что «герцог по непонятной причине держит на меня зло». Что же касается Эрколе Строцци, то ходили упорные слухи, будто он впал в немилость. Кроме того, Бембо, вероятно, понял, что его любовь может представлять серьезную опасность для Лукреции, и не мог этого допустить. Так что во время последней встречи любовники, обсудив создавшееся положение, возможно, решили пожертвовать своей любовью. Лукреции был необходим возлюбленный, пока она была занята борьбой со свекром и переживаниями, связанными с мучительной смертью отца, но теперь, когда она стала коронованной герцогиней, облеченной законной властью, пленницей в золотой клетке, Бембо, похоже, оказался лишним.
Я представляю себе тонкий профиль молодого поэта (каким он изображен на медали), склонившегося над локоном Лукреции, хотя и слегка обесцветившимся от времени, но все еще сохранившим природный блеск и хранящимся в прозрачной шкатулке в музее Милана. Спустя три столетия этот локон настолько тронул сердце Байрона, что он утащил один волос из локона мадонны Лукреции.
Бембо, безусловно, обрел душевное равновесие. Впоследствии он стал весьма влиятельным секретарем Льва X, а впоследствии (Лукреция этого уже не застала) кардиналом, причем очень известным. Он любил женщину, звавшуюся то ли Аврора, то ли Топацио, и последней его любовью стала генуэзка Моросина, от которой у него было трое детей. Впрочем, Лукреция тоже не хранила ему верность и нашла утешение в другой любви.
Вероятно, читатель задается вопросом: как далеко зашли Бембо и Лукреция в своих отношениях? Или это была платоническая любовь? В данном случае трудно основываться на предположениях. Хотя Лукреция все время оставалась под самым пристальным наблюдением, она была окружена людьми, готовыми выступать в качестве сообщников, и прекрасно известно, как просто можно было добиться уединения, на время приехав в другую страну. Хотя следует иметь в виду, что такие впечатлительные натуры, как Лукреция и Бембо, нуждаются не только в физической, но и, если можно так выразиться, в духовной общности, а это встречается намного реже, чем принято думать. В итоге ответ на этот вопрос не имеет решающего значения. Имей мы даже четкие свидетельства и письма, они вряд ли смогли бы изменить самую суть этой любви, страстной, но столь ограниченной в свободе действий. Этот роман навсегда останется самой сильной любовью Лукреции Борджиа.
Глава 10 Дворцовые интриги
4 июня 1505 года Бернардино Проспери пишет Изабелле д'Эсте: «Похоже, желание хозяина [герцога Альфонсо] состоит в том, чтобы мадонна Элизабета и все иностранцы, и мужчины и женщины, составляющие свиту его знаменитой супруги, покинули Феррару… Ваша Светлость может себе представить, в каком они находятся положении». Это и два других письма, написанные 10 и 23 числа того же месяца, наглядно демонстрируют националистические настроения феррарских придворных, поскольку в них неоднократно повторяется: «Испанцы должны покинуть чужую страну». Кроме того, их неприятно удивляет, что Лукреция показывает свои «переживания», словно положение правящей герцогини должно восполнить свалившиеся на нее несчастья.
Тем временем Альфонсо под предлогом, что хочет быть в большей близости с женой, приказывает построить внутренний переход, который позволил бы ему в любое время пройти из собственных апартаментов в личные комнаты герцогини. Однако абсолютно ясно, что таким образом он стремился ужесточить наблюдение за Лукрецией. Осознав положение дел (или ей подсказал Строцци), герцогиня решила, что лучший способ защитить себя и свой двор – это подружиться с феррарцами. Такая тактика не замедлила сказаться наилучшим образом – ненависть к испанцам и «иностранным манерам» исчезла.
Лукреция согласилась занять место председателя комиссии по проверке прошений горожан (здесь весьма кстати пришелся опыт, полученный в Риме и Сполето). Даже враги были вынуждены признать, что герцогиня прекрасно справлялась с этой работой. Она часто принимала посетителей, особенно теперь, когда один за другим прибывали послы, чтобы поздравить нового герцога. Она устраивала приемы, давала балы и представления. Исполняла роль крестной матери (по политическим соображениям) по отношению к маленькому племяннику vice-domino Венеции (крестным отцом был Ипполито), и вся Феррара обсуждала шаль, отделанную золотом, «больше чем красивую, роскошную», в которой она была на крестинах. Лукреция носила строгий траур по герцогу Эрколе, но наряды из великолепных черных тканей прекрасно смотрелись на ее изящной фигуре. Придворным дамам было приказано одеваться в темные тона, и, подобно хозяйке, на них были вуали, закрывающие лица. Но насколько соблазнительнее казались женские взгляды и улыбки под этими легкими вуалями!
Трудно точно определить, когда дурные мысли созрели в душе дона Джулио. Рикардо Баччелли, самым тщательным образом изучивший преступный сговор братьев д'Эсте, абсолютно прав, считая, что дон Джулио был слишком слаб, чтобы сопротивляться страстям, кипевшим в нем с бешеной силой. Он был абсолютно неуправляем, и даже его отказ от духовной карьеры шел не от убежденности, что это не его призвание, а от неспособности выносить любые ограничения. Вероятно, он заметил, с каким уважением в конце жизни Эрколе д'Эсте относился к своему старшему сыну и даже к кардиналу, в то время как лично он терял всяческое почтение к старшим братьям – он чувствовал, что имеет право критиковать их, и не видел причины, почему бы ему не делать этого. Возможно, подсознательно дон Джулио ожидал, что после смерти Эрколе (которая, так или иначе, укрепит положение младших братьев) ему удастся увеличить свое влияние, в каком-то смысле продвинуться вверх. В действительности Альфонсо и Ипполито заключили тайный союз. Почему тайный? Да потому, что в прошлом между ними существовали серьезные разногласия. Альянс старших членов семейства д'Эсте должен был неизбежно повлечь за собой объединение младших.
В начальный период правления Альфонсо, казалось, все будет относительно спокойно; редко на смену разочарованию приходит настоящая ненависть. В документах этого периода говорится о признательности младших братьев герцогу: дон Джулио получил от Альфонсо дворец, и обоим младшим братьям было увеличено содержание, что позволило им выйти из того полунищенского состояния, в котором их держал герцог Эрколе (на то была веская причина). Возможно, дон Джулио никогда бы не пошел на такие крайние меры, если бы не провокационные действия со стороны кардинала Ипполито. Первое открытое столкновение произошло из-за капеллана, которого кардинал заключил в тюрьму, а дон Джулио освободил.
Альфонсо переживал сложнейший период. Вдобавок к серьезным вопросам, связанным с эпидемией чумы, нехваткой продуктов и неблаговидным поведением спекулянтов, добавились проблемы с братьями. Узнав об освобождении капеллана, кардинал пришел в неописуемую ярость. Это был акт прямого неповиновения; Джулио ни во что не ставил его ни как человека, ни как кардинала. Ипполито потребовал от Альфонсо жестоко наказать брата, одновременно дав понять, что в случае необходимости и сам готов наказать Джулио. Альфонсо, боясь довести дело до серьезных семейных раздоров, пытается загасить скандал. Приняв решение, герцог пишет письмо и отправляет его, но не младшему брату, а Лукреции с просьбой передать его дону Джулио. Суть письма сводится к следующему: Джулио должен покинуть двор герцогини и отправиться в ссылку в поместье в Берсчелло, не покидать зону радиусом в две мили и давать ежедневный отчет представителю семейства д'Эсте на месте. Пусть каждый запомнит, добавлял Альфонсо, что невыполнение этих условий повлечет самые серьезные последствия. Лукреция приняла непосредственное участие в этом деле. Вместе с гуманистом Альберто Пио они посчитали, что наилучшее решение проблемы в том, чтобы убедить дона Джулио и его союзника дона Ферранте отправить освобожденного капеллана обратно в тюрьму. Обе брата, «еще более ожесточенные, чем прежде», ответили, что никогда не пойдут на это. И надо же, именно в этот момент пришло письмо от герцога Альфонсо. Дон Джулио рассвирепел, но ему не оставалось ничего другого, как отправиться в изгнание; Пио вернулся на Капри и уговорил причину всех этих треволнений, капеллана дона Ринальдо, вернуться в Монте, в замок Джессо, торжественно пообещав, что ему будет сохранена жизнь.
В середине августа Лукреция прибыла в Реджио. Она тяжело переносила беременность, но теперь ей стало несколько лучше. В письмах мужу она отчитывалась о здоровье – сухо, четко и бесстрастно. Самая нежная фраза, выходившая из-под ее пера непостредственно перед подписью: «Разрешите засвидетельствовать вам свое почтение».
19 сентября 1505 года в Реджио родился наследник дома д'Эсте. Мальчика называют в честь папы – Александром. «Несчастья» в виде чумы и голода не дают в полной мере отпраздновать это радостное событие, но дон Джулио (с компанией) амнистирован. Альфонсо рад простить брата и доволен, что удалось найти способ для восстановления мира в семье. Герцог считал, что Ипполито должен забыть об этом инциденте, поскольку капеллан возвращен в тюрьму. Но он так и не понял глубину гнева, душившего кардинала Ипполито: несколько недель приятного изгнания не могли компенсировать открытое неповиновение дона Джулио, и капеллан был здесь совершенно ни при чем.
К великому сожалению, ребенок Лукреции прожил только двадцать пять дней. Правда, новая дружба с деверем Франческо де Гонзага, маркизом Мантуанским и мужем Изабеллы д'Эсте, несколько облегчила горе. Лукреция почти десять лет назад, в 1496 году, уже встречалась с маркизом, когда он прибыл в Рим, овеянный военной славой, победитель Форново, чтобы принять золотую розу и папское благословение.
Хотелось бы напомнить, что маркиз Мантуанский имел причины, чтобы не присутствовать на свадьбе Лукреции, но весной 1504 года он приехал в Феррару и познакомился с невесткой. Маркиз мгновенно оценил обстановку и догадался и о ее мучениях, и о тоске, и о всевозможных ограничениях. Он пообещал ей выполнить то, что далеко выходило за пределы его возможностей, – освободить Чезаре Борджиа. Благодаря деверю Лукреция, окруженная враждебным отношением семейства д'Эсте к ее брату, открыла новые неожиданные горизонты. Она позволила себе увлечься Гонзага. Потеряв Бембо, герцогиня уступила увещеваниям следующей страсти. И хотя Бембо совсем недавно ушел из ее жизни (она все еще страдала, вспоминая о нем), его место мало-помалу занимал маркиз Мантуанский.
Франческо де Гонзага принадлежал к тому типу смуглых мужчин, которых и по сей день можно увидеть в долине По. Высокий, стройный, с тонкой нервной организацией и с мощной мускулатурой, он относился к мужчинам, которые обращаются со своим телом как с архитектурным сооружением. У него были глубоко посаженные, полуприкрытые глаза и полные чувственные губы. Независимо от того, нравился маркиз или нет, но те, кто однажды видел его, уже никогда не могли забыть это лицо, как не удается это сделать и нам, когда мы смотрим на его портрет, приписываемый Боньсиньори, или профиль работы Мантеньи в Лувре. Гонзага был страстным и крайне непоследовательным человеком. Любил вино, женщин (что доказывается множеством незаконнорожденных детей, разбросанных вокруг Мантуи, и подтверждается документально). Портрет Гонзага не может считаться законченным, если не вспомнить о его великолепном умении держаться в седле, о таланте полководца, невероятной сердечности в отношении женских страданий и любви к искусству. Единственное, что невероятно ранило его гордость, так это отсутствие необходимых для наследного принца и главы государства качеств, но иного и не могло быть рядом с такой женой, как Изабелла д'Эсте. Он любил жену, восхищался ею, но, исходя из высшего политического смысла, окружал себя теми, кого ненавидела Изабелла. Но даже этого было недостаточно. Он осознавал, что жена догадывается о женщинах, которые доставляют ему не только чувственные наслаждения, но и готовы полностью подчиниться ему. Когда он опрометчиво пообещал содействовать освобождению Валентинуа, то с радостью обнаружил, что Лукреция искренне поверила в него. Вскоре герцогиня окончательно покорила его сердце.
Им не потребовалось много времени, чтобы достичь полного взаимопонимания. Стоило Гонзага уехать из Феррары, как одна из придворных дам Лукреции уже пишет ему, что они теперь не живут, а существуют, поскольку лишились «божественных добродетелей и ангельских манер Вашей Светлости». Все женщины двора обожали Гонзага, особенно Анджела и Полиссена, прежние любимицы Бембо. Ничто не могло восполнить им эту потерю – ни веселые вечеринки, ни приподнятое настроение придворных мужчин, ни пышные наряды. «Ничто не радовало непревзойденную мадонну [Лукрецию] и меня, которая служит ей, – пишет Полиссена, отправляя маркизу отчет о приеме, – поскольку там не было Вашей Светлости».
Франческо Гонзага обещает отправить несколько сонетов (трудно сказать, собственные или чужие) и в свое оправдание ссылается на нездоровье. Он заболел, писал маркиз, поскольку лишился воздуха Феррары, который оказывает на него благотворное влияние. Следует отметить, что отношения между дворами Мантуи и Феррары были достаточно напряженными в связи с политическими разногласиями. То, что два семейства связаны родственными узами, ни в коей мере не способствовало дружеским отношениям, разве что чисто внешне.
Узнав, что Лукреция в одиночестве страдает после смерти ребенка в Реджио, маркизу приходит мысль, что это весьма удачный момент для того, чтобы пригласить Лукрецию в замок Боргофорте, стоящий на берегу По. Герцогиня принимает приглашение и в конце октября оказывается в Боргофорте. Следует заметить, что она сообщила Альфонсо о своем намерении посетить деверя в тот момент, когда он уже не мог ничего изменить.
Маркиз был в восторге от решения Лукреции. Она окажется в его доме, и он сможет ухаживать за ней, не опасаясь посторонних глаз; а она увидит в нем полновластного хозяина своих подданных. Пусть Боргофорте всего лишь крепость, маркиз, тем не менее, собирался сделать все, чтобы с комфортом разместить герцогиню вместе со свитой. Представьте город, заполненный рабочими, декораторами и слугами, несущими белье, кровати, мебель, чтобы создать удобные условия герцогине. Она остановится не в военной крепости под названием Рочетта, а в небольшом дворце XIV века, принадлежащем Джероламо Стадже. Изабелла со стороны наблюдала за всеми приготовлениями, не изъявляя никакого желания принять участие в этой суете. 26 октября 1505 года Лукреция покидает Реджио.
28 октября в Боргофорте воздух был удивительно теплый для этого времени года. Теперь, когда все готово к приезду гостьи, Франческо Гонзага задался вопросом: неужели Лукреция и вправду приедет к нему? Однако не стоило сомневаться, поскольку она уже приближалась. В тумане вырисовывалось судно, плывущее по молочно-белой реке вдоль берегов, поросших березами. Уже можно разглядеть яркие женские наряды и блеск драгоценных камней, украшающих их волосы. Лукреция, самая яркая из всех, приветливо улыбалась. Гонзага приблизился к ней и, предложив руку, помог сойти на берег. Начавшийся разговор постепенно становился все свободнее и затрагивал всех присутствующих. Это был тот редкий случай, когда ощущение свободы создает невероятно праздничную атмосферу. Лукреция и Франческо конечно же обсудили положение Валентинуа, и маркиз пообещал, что лично отправит посланника в Испанию с просьбой об освобождении Чезаре (он действительно выполнил свое обещание, за что Лукреция тепло поблагодарила его 6 ноября). Их беседы задали тон будущим нежным отношениям; теперь уже путь к отступлению был отрезан. Позже, оставшись в одиночестве, они будут вспоминать слова и жесты друг друга.
28 и 29 октября прошли сумбурно и бестолково, что обычно предшествует началу любви. И тут Гонзага осенило: почему бы Лукреции не навестить Изабеллу в Мантуе? Разве можно отказаться от такого приглашения? Лукреция пишет Альфонсо, объясняя ему, что деверь убедил ее «с невероятной горячностью и решимостью, что она должна завтра же навестить знаменитую маркизу, и, хотя я всячески сопротивлялась, однако была вынуждена подчиниться». В ответ Альфонсо вежливо поблагодарил за честь, оказанную герцогиней Феррарской.
Красота Мантуи произвела неизгладимое впечатление на Лукрецию. Изабелла поджидает герцогиню в замке, возвышающемся над озерами, и ведет ее по залам, демонстрируя произведения искусства, книги, картины и раритеты. Маркиза пыталась воздействовать на гостью силой своего интеллекта, но, будучи тонким наблюдателем, вскоре поняла, насколько это все далеко от Лукреции. После двух дней, проведенных в Мантуе, женщины расстаются еще холоднее, чем прежде. Утром 31 октября Лукреция вновь отправляется в путь, сменив свое небольшое судно на быстроходный корабль Франческо, и к вечеру того же дня пребывает в Ла-Стеллато, где остается на ночь. Дальнейший путь проходит по суше, и вот уже видны яркие башни Бельригуардо. Там после небольшой передышки она вновь погружается в атмосферу трагедии.
А тем временем Анджела пожинала плоды своих любовных утех. Несмотря на все предосторожности, уже ни для кого не было секретом, что страстная молодая женщина вскоре должна родить; семья всячески стремилась замять возможный скандал. Это обстоятельство объясняет, почему двор Лукреции до декабря отсутствовал в Ферраре. Тайна отцовства столь тщательно оберегалась д'Эсте, что нам, живущим спустя несколько столетий после тех событий, пришлось изрядно потрудиться, чтобы обнаружить отца ребенка. По всей видимости, им был дон Джулио. Первые сведения о начавшемся романе между Анджелой и доном Джулио можно обнаружить в архивных документах семейства Гонзага. 9 июня 1502 года Бернардино Проспери пишет Изабелле д'Эсте, что в поездку по стране старый герцог Эрколе взял с собой дона Джулио, «которому пришлось подчиниться воли отца», а двумя днями раньше, 7 июня, он пишет об отъезде Лукреции в Бельригуардо, упомянув, что Джулио по причине нездоровья до 11 июня оставался в Ферраре. Принимая во внимание крайнюю осмотрительность и сдержанность Проспери особенно в делах такого рода (маркиза Мантуанская бранила его за излишнюю скрытность), становится понятно, почему дон Джулио отказывался от поездки с отцом. Учитывая темперамент этой пары, трудно поверить, что у них могли быть просто дружеские отношения. Кардинал Ипполито тоже начинает оказывать Анджеле знаки внимания, но она, по свидетельству Гуиччиардини, опрометчиво заявляет кардиналу, что отдает предпочтение Джулио из-за его прекрасных глаз. Сохранилось предание, будто Анджела добавила, что глаза дона Джулио стоят больше, чем весь кардинал целиком. Может, так, а может, и нет, кто теперь скажет? В любом случае известие о том, что ему предпочли младшего брата, задело за живое. Вероятно, беременность Анджелы еще больше разожгла взаимную ненависть и ревность братьев. Последующие события показали всю степень неприязненности между Ипполито и Джулио.
После полудня, 1 ноября 1505 года, кардинал Ипполито, окруженный свитой, встречает дона Джулио, возвращающегося верхом из Бельригуардо. Увидев приближающегося Джулио, как обычно невероятно довольного собой, кардинал не может сдержать ярость. «Убейте его, выколите ему глаза», – приказывает Ипполито (возможно вспомнив слова Анджелы). Слуги с невероятной готовностью людей, привыкших к жестоким приказам, стаскивают Джулио с лошади и выкалывают ему глаза. Похоже, что, увидев кровь брата и несколько поостыв, Ипполито понял всю жестокость и бессмысленность содеянного. Оставив Джулио лежать на траве, обезображенного, но пока еще живого, кардинал поскакал к границе герцогства Феррарского.
Кто знает, сколько времени пролежал дон Джулио на земле, но после того как он был найден, его привезли обратно в Бельригуардо. У меня нет никаких документов, описывающих состояние ужаса, охватившего Лукрецию, или рыдания Анджелы, но можно себе представить, что творилось с ними. Пока доктора пытались сделать все, чтобы сохранить зрение дону Джулио, замок сотрясали слова ненависти, доносившиеся из трех сотен его помещений.
Герцог Альфонсо был буквально ошарашен услышанным. И поскольку в связи со сложившимися обстоятельствами он не мог посоветоваться с кардиналом, то совершил политическую ошибку. Упустив из виду, что такие серьезные вопросы следует решать самому, он пишет сестре Изабелле и ее мужу Франческо Гонзага. Письмо состоит из двух частей. В одной дается официальная версия события, согласно которой двое слуг Ипполито обвиняются в совершении преступления; в другой объясняется истинный смысл происшедшего. Герцог в замешательстве. Он понимает, что обязан сурово наказать виновного, но чувство справедливости мешает вынести окончательное решение. Надо сказать, что он восхищался способностями Ипполито, уважительно относился к кардинальскому сану. Альфонсо мучительно хотелось избежать скандала, который неизбежно последует за наказанием кардинала. Поэтому, когда маркиз и маркиза Гонзага в ужасе от случившегося написали ему о необходимости самого сурового наказания (Изабелла испытывала слабость к своему обворожительному, незаконнорожденному брату, но Гонзага понимал, что наказание кардинала повлечет за собой ослабление могущества семейства д'Эсте), Альфонсо ответил, что не видит причины слишком торопиться с решением данной проблемы. Какое-то время он позволил кардиналу находиться там, где ему было угодно, а спустя месяц написал своему кузену, Альберто д'Эсте, чтобы тот передал Ипполито разрешение вернуться в Феррару, поскольку в противном случае он будет играть на руку врагам герцогства.
Врачи из Феррары и Мантуи (их прислала Изабелла) настолько хорошо потрудились над доном Джулио, что можно было надеяться на частичное восстановление зрения в обоих глазах. 6 ноября герцог Альфонсо распорядился перевезти брата в Феррару. На Джулио страшно смотреть: его левый глаз страшно распух и нет правого века. Альфонсо настаивал на примирении, но Джулио был простым смертным, а потому вынашивал планы мести.
Альфонсо понимал всю необходимость примирения. Срочно требовалось положить конец подстрекательству, исходившему из Мантуи, и заставить замолчать всех тех, кто был настроен против семейства д'Эсте, в том числе и в Риме, где папа Юлий II подверг сомнению официальную версию и хотел добиться ясности. Дону Джулио было обещано так много, что в конце концов бедняга согласился сохранять спокойствие. 23 декабря к Альфонсо и Ипполито приводят младшего брата. Вечер. При свете факелов вид бледного, обезображенного лица Джулио вызывает слезы на глазах у Альфонсо. Кардинал, похоже, абсолютно спокоен. Во всяком случае, по голосу не скажешь, что его волнует происходящее. Он говорит, что недоволен собой и постарается стать хорошим братом. Джулио призывает Альфонсо обратить внимание, насколько безжалостно с ним поступили. Долгая пауза. Джулио не может заставить себя произнести слова прощения. Наконец, он выдавливает их из себя. Теперь Альфонсо может слегка отдышаться. Он просит братьев жить в мире между собой и с ним. Он сказал мудрые, справедливые, но совершенно бесполезные слова.
Итак, метафорические раны наскоро подлатали, и оптимистически настроенный Альфонсо посчитал, что примирения братьев можно добиться одними нравоучениями. Мало того, он приказал удвоить заботу о доне Джулио.
Все беды прошедших месяцев – смерть отца, маленького сына, чума, голод, изуродованные глаза Джулио – вызвали у Альфонсо вполне понятную реакцию. Он снял наложенные герцогом Эрколе в последние годы жизни запреты на карнавальные костюмы и придумал новые забавы для простого люда, игры, театрализованные представления и рыцарские поединки. Это был первый устраиваемый им карнавал, и ему хотелось создать незабываемое зрелище. Ежедневные маскарады и ежевечерние балы и театрализованные представления, после которых гости заканчивали вечер в апартаментах герцогини. Думая о доне Джулио, старые придворные только качали головами, неодобрительно отзываясь о таком необузданном веселье. Что уж говорить о том, что начисто заброшены все государственные дела и не рассматриваются даже прошения горожан!
Помолвка Анджелы Борджиа стала главным событием сезона. Безусловно, не с Джулио, которому теперь, больше чем когда-либо, требуются дисциплина и порядок, свойственные духовной жизни, причем до такой степени, что Лукреция собственноручно пишет приору Джеросолимитани в Венецию с просьбой о должности и бенефициях для своего деверя в Мальтийском ордене. Семейство д'Эсте желало одного – увидеть пылкую Анджелу замужем, чтобы больше не возникало никаких внутрисемейных неожиданностей. 18 декабря 1506 года Проспери отправляет важное сообщение: «Я пришел к заключению, что донна Анджела родила ребенка на корабле». Быстро находят человека, готового ради выгоды (близкое родство с правящим домом) не обращать внимания на ее сомнительное прошлое. Этим человеком оказался Алессандро Пио де Сассуоло.
Карнавал, естественно, вызвал тоску и гнев дона Джулио, забытого своими эгоистичными братьями и ветреной Анджелой. Пребывая в одиночестве в темной комнате, дон Джулио, прислушиваясь к шумному веселью, царящему в Ферраре, размышлял о своем незавидном положении и плакался на судьбу. Ферранте подпадает под влияние брата, тем более что и сам ненавидит старших братьев. Вдвоем они шаг за шагом разрабатывают план мести. Виноват не только кардинал; герцог, не желающий сурово покарать преступника, ничуть не лучше брата. Мысль избавиться от старших братьев и в качестве награды получить герцогство кажется обоим восхитительной. Поначалу детальное обсуждение плана тешило их самолюбие, но постепенно у них созрел заговор. К ним присоединились и другие, недовольные сложившемся положением вещей: Альбертино Боччетти (Альфонсо д'Эсте претендовал на Сан-Чезарио, принадлежавший Боччетти), его зять Джерардо де Роберти, капитан стражи герцога, и Джан Чанторе ди Гуасконья, священник, благодаря изумительному голосу пользовавшийся особой благосклонностью Эрколе и Альфонсо. Абсолютно ясно, почему младшие братья замышляли заговор, а вот с какой стати к ним присоединился Джан Чанторе, понять трудно. Может, он возлагал большие надежды на младших братьев д'Эсте, а может, у него были личные причины ненавидеть герцога Альфонсо. Так или иначе, но этот толстый гасконский священник присоединился к Джулио и Ферранте. Заговорщики продемонстрировали полную несостоятельность даже в совершении преступления. Воспользовавшись тем, что Альфонсо безоговорочно доверял священнику, во время очередной вечеринки гасконец связал обнаженного герцога прямо в постели куртизанки. Заговорщики собирались воспользоваться ядом, поэтому Джан Чанторе не посмел заколоть герцога кинжалом. Он сам же и освободил Альфонсо, который тут же разразился смехом, решив, что стал участником новой игры. Заговорщики предприняли еще одну попытку. С оружием в руках они поджидали Альфонсо на перекрестке дорог, а он в тот день поехал другим путем.
В апреле 1506 года, оставив бразды правления в руках жены и кардинала Ипполито, Альфонсо отправился путешествовать. Вероятно, именно в это время кардинал, мастерски расставив сети, выявил исполнителей заговора и сообщил об этом старшему брату.
Получив сообщение, Альфонсо тут же покинул Бари, где вместе с кузиной Изабеллой Арагонской обследовал замки и крепости (вероятно, там он видел Родриго, сына Лукреции). 2 июля он приезжает в Луджо, где его уже поджидает тайно прибывший туда Ипполито. Всеми была отмечена особая бледность и нервозность Альфонсо, когда 3 июля он появился в Ферраре. Дон Джулио, интуитивно почувствовав неладное, собрался отправиться в Мантую к сестре Изабелле. Но без предупреждения захлопнулась западня, устроенная кардиналом; Джулио попался. Боччетти, Роберти и дон Ферранте арестованы; дону Джулио обещана жизнь, которую он должен провести в тюрьме. Джан Чанторе, отправившийся в Рим и за счет актерских данных добившейся расположения любовницы кардинала, пойман несколько позже. После того как участники заговора сознались в подготовке преступления, они безоговорочно были признаны виновными. В присутствии дона Джулио и дона Ферранте Боччетти и Роберти четвертовали на площади. Ферранте ждала та же участь, но, когда он уже поднимался на эшафот, герцог великодушно сохранил ему жизнь. Казнь заменили пожизненным заключением. В одной из башен замка подготовили две камеры, одну над другой, побелили в них стены, а двери замуровали. Еда и редкие посетители, приходившие убирать помещения, попадали внутрь камер через небольшие отверстия, сделанные высоко в стене, почти под самым потолком. Позже узникам разрешили общаться друг с другом в третьей камере, предоставленной в их распоряжение, светлой и просторной, из которой была видна улица с расположенной на ней больницей Святой Анны. Самое удивительное, что сменилось два поколения герцогов д'Эсте, а братья все еще находились в заточении. Дон Ферранте умер, проведя в тюрьме сорок три года, а спустя еще десять лет Альфонсо II, племянник Лукреции, освободил дона Джулио после пятидесятитрехлетнего заточения.
«Зло порождает зло», суммируя общие чувства, под веселый перезвон колоколов, орудийные залпы и благодарственный молебен, заявил Никколо да Корреджо. Имущество Джулио и Ферранте было распределено между друзьями Альфонсо, придворными и Андреа Понтеджино, знаменитого тем, что плюнул в лицо Джулио, когда того закованного в цепи доставили из Мантуи. Лукреция ухитрилась спасти одного из сторонников Джулио, капеллана дона Рейнальдо, являвшегося первопричиной возникшей враждебности. В платежной ведомости Лукреции за 1508 год он фигурирует в качестве состоящего на службе капеллана.
Тем временем мир был охвачен волнением в связи с создавшейся политической обстановкой. Нам уже известно, что понтифик Юлий II, ненавидевший Борджиа всеми фибрами своей души, проводил политику Александра VI и герцога Валентинуа. Он хочет установить полное господство Святого престола над всеми территориями, которые на протяжении столетий находились в руках непокорных феодалов. Венеция должна вернуть несколько территорий, захваченных у Романьи в период падения Валентинуа. Непи, Сермонета и Кемерино, недолговечное наследие сына Борджиа, вернулись к папе, который передал их римским баронам (в свое время Александр VI отобрал эти земли у баронов), чтобы заручиться их дружбой и защитить собственные границы. Желая укрепить союз с Орсини, Юлий II обдумывал возможность заключения двух браков. Один между его дочерью, красивой и умной Феличией делла Ровере, и Джаном Джордано Орсини, а второй между его племянником Никколо делла Ровере и Лаурой Орсини, дочерью Орсино Орсини и Джулии Фарнезе, которая некогда считалась дочерью Александра VI и Джулии Фарнезе. В 1508 году Джулия Фарнезе, которой было чуть больше тридцати, получила возможность вернуться в Ватикан, где она, по словам очевидцев, была самой прекрасной и обольстительной из всех дам, включая собственную дочь. Юлий II, по всей видимости, разделял мнение, что отцом Лауры является Орсини. В противном случае он никогда не согласился бы на брак между Лаурой и членом своей семьи. Позже Лаура вела достаточно беспорядочную жизнь (что само по себе весьма печально), разрушая тем самым заложенные еще ее предками традиции истинной любви.
Уладив вопросы с браками и восстановив Орсини, Гаэтани, Колонна и Савелли в правах на территории, Юлий II, посчитав, что обезопасил себя, занялся подготовкой к борьбе с феодальными землевладельцами. Наибольшую опасность представляли Беджлиони из Перуджи и Бентивольо из Болоньи. Против этих, по общему признанию, продажных семейств понтифик, объединившись с Феррарой, Урбино, Флоренцией и Сиеной, повел серьезную войну, сумев избежать опасности французского вмешательства на стороне Бентивольо. Италия, хотя и привыкшая к оригинальным армиям, никогда не видела ничего подобного. Во главе армии двигался папа, словно олицетворение дантовского святого Геста, а за ним кардиналы, готовые двигаться во главе наступающих войск, разбивать палаточный лагерь и переносить все трудности армейской жизни. Беджлиони сдается без борьбы, и 13 сентября папа без помех вступает в город. За восемь дней, которые Юлий II провел в Перудже, он вернул церковные владения, реорганизовал магистратуру и изгнал всех виновных в гражданских преступлениях. Затем он двинулся на Болонью.
Несмотря на всю привязанность к Бентивольо, семейство д'Эсте не могло избежать присоединения к папскому союзу, поскольку было обязано сохранять преданность папе. Кардинал д'Эсте выехал в Имолу для встречи с главой церкви, предварительно направив туда продовольствие, дичь, муку и прочее. Продовольствие было встречено с гораздо большим удовольствием, чем Ипполито. При встрече с Юлием II, который испытывал предубеждение против д'Эсте, к тому же усугубленное событиями прошлого года, Ипполито столкнулся с одной из характерных черт папы. Через папского прелата кардинал получил жестокий нагоняй, который нанес серьезный удар по его самолюбию, за «копну» его длинных блестящих вьющихся волос, за галантные «женские» манеры (имелось в виду излишнее жеманство) и за знаменитые руки, чья красота вдохновляла женщин-литераторов, в том числе и поэтессу Веронику Джембера. Альфонсо была оказана более благосклонная встреча, когда он появился, чтобы воздать должное союзнику. Папа не баловал семейство д'Эсте любезным отношением. После трагедии с доном Джулио и доном Ферранте в Риме поговаривали, что дни герцогства Феррарского сочтены, поскольку семейство д'Эсте подозревалось в оказании тайной поддержки Бентивольо.10 ноября папа в роскошных одеяниях, украшенных драгоценными камнями, в окружении кардиналов, прелатов, офицеров и церемониймейстеров, с триумфом под крики «Виват!» вступил в Болонью. В Ферраре эти приветственные крики вызвали что-то похожее на ужас.
В конце 1506 года Чезаре Борджиа удается совершить побег из Медины. Он едет в Испанию, находит пристанище у родственников в Наварре и сразу же отправляет к Лукреции слугу-испанца, чтобы тот сообщил о совершенном побеге и в случае чего она могла бы оказать ему помощь. Лукрецию охватило радостное возбуждение. С кем еще она могла поделиться радостью, как не с Франческо Гонзага? Пока она пишет послание маркизу, ее охватывает все больший и больший восторг. Страстно желая помочь брату, герцогиня пишет письмо французскому королю и Манфредо Манфреди, феррарскому послу в Париже, поручив ему направлять ей ежедневные новости о том, какие шаги предпринимаются для оказания помощи Валентинуа. Манфреди отвечает, что посланник герцога Романьи, монсеньор Рекуэсенс, прибыл в Блуа и от имени своего хозяина попросил разрешения вступить во владение герцогством Валентинуа. Теперь, когда Александр VI уже не мог оказать поддержку в итальянской кампании, Людовик XII считал не только нелепой, но и очень опасной идею передать одну из провинций Чезаре. Отчет был тщательно продуман и основывался на взаимоуважении двух королей. Как он может позволить себе принять того, кто сбежал из тюрьмы Фердинада Католического?
Лукреция читает эти безрадостные отчеты, но унаследованный от отца оптимизм не дает ей пасть духом. Она высказывает различные предположения, придумывает объяснения и молит о помощи. Уже в том, что Чезаре оказался на свободе, она видит возможность возрождения Борджиа. Чезаре теперь тридцать лет, и если бы он смог сыграть свою роль в политической борьбе в Европе, он бы восстановил былое могущество. Уже поползли слухи, что венецианцы хотят пригласить Валентинуа в Венецию в противовес завоеваниям Юлия II. Все решало время…Теперь Лукрецию не угнетают стены замка Эсте; она полна надежд и тайно любит. Франческо Гонзага посетил Феррару во время карнавала. Юлий II назначил его главным капитаном церкви, и это звание словно добавило ему очарования. Герцогиня в роскошном наряде из золотой парчи и бархата спускается в большой зал, чтобы встретить маркиза. На балу она танцует со своим возлюбленным, и он видит необычайное изящество ее движений и легкость походки, когда она подчиняется музыке виол. Нет никаких документальных свидетельств их разговора, но вся Феррара обратила внимание на «большую сердечность и расположение», которые Лукреция оказывала своему деверю. Она танцевала с таким упоением, что вечером у нее случился выкидыш. Как свидетельствует Проспери: «Вчера, в пятницу, у мадонны случился выкидыш. Хозяин [Альфонсо] был очень недоволен, и, насколько я мог слышать, на этот раз ребенок родился мертвым, поскольку у нее слабый позвоночник». Альфонсо не отличался деликатностью, а потому не желал скрывать дурного настроения: пусть жена знает, что вся ответственность за происшедшее лежит на ней. Нечего так отдаваться танцу! Альфонсо обладал крепким здоровьем, был силен и груб, и слабость Лукреции, которая так волнует Гонзага, его раздражает. Но герцогиня не обращает внимания на ворчащего мужа и уже через несколько дней сама встречает гостей Ипполито – группу молодых, любящих удовольствия кардиналов из свиты Юлия II, которые прибыли из Болоньи, чтобы принять участие в карнавале. Она видит молодых кардиналов и чувствует себя на седьмом небе от счастья (даже при том, что они приехали инкогнито и на них нет пурпурных мантий). Они напоминают Лукреции далекое прошлое. Она чувствовала себя в родной стихии и не скрывала этого до такой степени, что отбросила свою привычную сдержанность. Говорили, что великолепные, изысканные манеры герцогини действительно достойны «всяческих похвал».
Излишнее возбуждение вызвало очередной рецидив. Но Лукреции удалось вовремя восстановить силы, чтобы 26 февраля устроить ужин для Камилло Костабили и его жены. Вся Феррара участвовала в праздниках герцогини. Помимо грандиозных балов в герцогском дворце, устраивались частные вечеринки, на которых женщины блистали даже больше, чем на официальных приемах. Тротти с женой завели моду устраивать вечеринки для узкого круга. Эти приемы получили известность благодаря своей необычности. Здесь блистали Никола, жена Тротти, с ее необузданными, но пока еще управляемыми страстями, Барбара Торелли, красноречивая и высокоинтеллектуальная, Джованна да Кимини и Анджела Борджиа – очаровательная четверка, прославившаяся любовными романами. Ничего неизвестно о мужчинах, посещавших эти вечеринки (информатор не называет их имен), но они наверняка были достойны таких женщин.
Карнавал закончился, но женщины были заняты пуще прежнего. В этом году Лукреция пригласила монаха Рафаэле да Варезе, человека, который был «по-настоящему полезен для души». Когда он увидел стольких красивых женщин, да еще разодетых в пух и прах, энергичный монах стремительно бросился в атаку. Он принялся критиковать роскошные женские наряды, экстравагантные украшения, их страсть к помаде, румянам и пудре. Это прямая дорога в ад, etc. В общем, обычные нравоучения.
В те времена женщины пользовались тональной пудрой, названной «liscio»; сначала на все лицо наносилась белая основа, а уже затем на щеки накладывали румяна. Лукреция, однако, была убеждена, что следует прислушаться к советам монаха и провести серьезные реформы. Она приказала придворным дамам воздержаться от употребления «liscio», если, конечно, они хотят по-прежнему пользоваться ее благосклонностью. Ну, если только чуть-чуть румян! Она лично приказала придворному алхимику (вероятно, это был маэстро Фабрицио делли Миччи), снабжавшему ее кипрской пудрой, приготовить травяной настой для мытья лица и омолаживания кожи. В Страстную пятницу феррарцы получили огромное удовольствие, наблюдая за женщинами и девушками, пришедшими на проповедь, можно сказать, с обновленными лицами; все они казались прекрасными. Вдохновленная удачным началом (спасибо монаху!), Лукреция решила продолжить реформирование двора. Женщины не на шутку встревожились. «Они собираются запретить нам носить декольтированные платья», – беспокоились дамы, предвидя, что в ближайшее время будут вынуждены носить платья с закрытым воротом. Шли разговоры и о других реформах: обязать евреев носить желтые шапочки, чтобы их можно было видеть издалека; ввести жесткие правила в отношении богохульства с наложением штрафа, например, два дуката за поношение Бога и один – за святых, соблюдая тем самым небесную иерархию.
Женщины Феррары восприняли эти реформы как издевательство. Когда они поняли, что им грозит потеря всего, что составляет важную часть их жизни, они подняли бунт, поддержанный мужчинами, и направили протест двору. Они считали, что каждый имеет право тратить деньги так, как ему заблагорассудится; полезнее уделить внимание «более важным вещам, таким, как оскорбление Бога», чем концентрироваться на этих реформах. Лукреция вынуждена признать обоснованность выдвинутых аргументов и больше уже не возвращается к теме о размерах декольте и длине шлейфов.
20 апреля 1507 года Лукреция занята обсуждением различных вопросов с членами двора и близкими родственниками, среди которых Эрколе д'Эсте, кузен Альфонсо. Герцог, как обычно, отправился в очередное путешествие и оставил на нее управление делами герцогства. Можете себе представить недовольство Изабеллы Мантуанской, которая не желает признать, что ее соперница способна справиться с государственным управлением. Но даже наиболее осторожный из информаторов маркизы вынужден подтвердить эти новости. Проспери пишет Изабелле, что «почти» поверил в способности Лукреции, поскольку «ни слова не было произнесено о кардинале». Лукреция одна осуществляет руководство; рассматривает обращения, выслушивает горожан, в общем, занимается всеми делами герцогства. Возможно, кардинал помогал ей советами в частном порядке, но официально все дела вела герцогиня.
Так вот, пока в апартаментах Лукреции идет обсуждение, во внутренний двор въезжает испанец, усталый и запыленный. Он принес страшную новость, о которой сообщает слугам. Чезаре Борджиа умер! Сообщение облетает замок подобно молнии, и монах Рафаэле доносит ее до Лукреции. Какое-то время она остается в неподвижности, и первые слова, которые вырываются у нее, обращены против Бога: «Чем старательнее я выполняю Божью волю, тем холоднее Он относится ко мне, – и чуть позже добавляет: – На все воля Божья».
Вызывают прибывшего испанца. Это один из слуг Валентинуа. Он рассказывает об обстоятельствах смерти герцога. Чезаре сражался в Виане с графом де Лерином. Во главе сотни всадников он совершает вылазку. Враг бросается в беспорядочное бегство. Забыв обо всем, Чезаре отрывается от отряда, устремившись в погоню, и попадает в руки врага. Забрав оружие, доспехи и одежду, истекающего кровью, обнаженного Чезаре бросают на землю. Когда солдаты находят герцога, он уже мертв. Он был настоящим воином и принял достойную смерть. Но Лукреция почему-то решила, что это было самоубийство. Валентинуа всегда знал, что делает. Он не из тех, кто в горячке сражения мог потерять голову, и никогда не отличался стремлением к героическим подвигам. Если уж он поступил столь опрометчиво, то только потому, что видел – ему больше нет места в этом мире. За несколько дней до этого печального события Рекуэсенс вернулся из Блуа с сообщением об изгнании, и Чезаре, вероятно, почувствовал, что родственники д'Альбре, хотя и считали, что он может оказаться полезным в условиях войны, в глубине души относились к нему как к бедному родственнику и в любой момент могли пожертвовать им. Насколько известно, Шарлотта, жена Валентинуа, не предпринимала никаких шагов для оказания помощи мужу, и только слабый голос Лукреции, затерявшийся в трясине всеобщего равнодушия, звал его домой. Он не мог примириться с мыслью о крахе династии Борджиа и о себе как о жалком беглеце, живущем подаяниями, и, вероятно, именно эти соображения бросили его в безумную погоню за врагом.
В полной тишине выслушала Лукреция рассказ испанца. Присутствующие отдали должное ее самообладанию и «твердости духа». Она взяла себя в руки и продолжила прием и рассмотрение прошений. Но когда пришла ночь и герцогиня осталась одна, придворные дамы затаив дыхание слышали в соседних комнатах, как она бессчетное количество раз повторяла имя брата, к которому на протяжении всей жизни относилась с глубоким почтением и любовью. Да, в прошлом остались убийства герцога Гандийского, Перотто и Альфонсо де Бисельи. Но содействовала ли она этим преступлением, примирившись с ними (не считая ужаса первых мгновений) и, что хуже, забыв о них? Узы внечеловеческих законов, основанные на инстинкте, связывали ее с братом, и испанские и валенсийские слова срывались с губ, когда она взывала к нему в ночной тишине, и, вероятно, это были слова любви.
По всей Ферраре разносится похоронный звон колоколов. В церквях читаются молитвы и звучат реквиемы, а герцогиня оплакивает брата в монастыре Тела Господня. В самой Италии и за ее пределами люди ощущают, как новость о смерти Чезаре словно освобождает их от какого-то ядовитого насекомого. Теперь они могут вновь спокойно дышать. Среди прочих «доброжелателей» король Франции и Юлий II, члены семейства д'Эсте (теперь им не нужно разрываться между собственными интересами и чувствами Лукреции) и еще множество людей.
Cesare Borgia, ch'era dalla gente per armi e per virtu tenuto un sole mancar dovendo, ando dove andar suole Febo, verso la sera, all' Occidente. Чезаре Борджиа, кто всеми управлял И был блестящим воином и мужем, Когда на запад вечер опустился, Он вслед за Фебом молча удалился.Безликая эпитафия! Чезаре оплакивали его мать, Ванноцца, Джофре, князь де Скуиллаче со второй женой Марией де Мила (Санча умерла в 1504 году в возрасте двадцати семи лет. Ее последний обожатель Гонзальве Кордуанский засвидетельствовал почтение на ее похоронах) и конечно же солдаты и офицеры, восхищавшиеся его выдающимися способностями. Именно Лукреция собрала вместе тех, кто сопровождал брата на протяжении его жизни, и дала приют не только испанцу, принесшему ужасную весть, но и испанскому священнику, который помог Чезаре совершить побег из Медины, а теперь оказался бездомным. Она вызвала из Рима незаконнорожденную дочь Валентинуа, свою тезку, Лукрецию, одела в атлас, бархат, парчу и меха и вверила заботам Анджелы Борджиа.
Что же касается личной жизни Лукреции в этот период, то заметное место в ней занимал Эрколе Строцци. Словно в противовес неприязненному отношению к нему со стороны Альфонсо, Лукреция даже чересчур приблизила его ко двору. Не считая личного секретаря Тебалдео, Строцци был допущен в апартаменты герцогини, естественно в отсутствие герцога. Частенько, когда ей нездоровилось, она принимала Строцци лежа в постели, и с его приходом комната наполнялась свежими известиями, счастьем сегодняшнего дня и будущими надеждами; с помощью поэтических образов он воссоздавал окружающий ее мир, как это делал когда-то Бембо. Лукреция не скрывала своей привязанности к поэту, которая в полной мере проявилась, когда Строцци потребовалась помощь герцогини во время его романа с Барбарой Торелли, имя которой прославило итальянскую литературу.
Барбара, изгнанник и бунтарь, обладала тем очарованием, которое отличает людей, смело вступающих в схватку, когда, казалось бы, нет никаких шансов на выигрыш. В двадцать семь лет она вышла замуж за Эрколе Бентивольо (Болонья), который сделал ей двух дочерей, а затем превратил ее жизнь в оскорбительное существование, в высшей степени отвратительное и жестокое. Он зашел так далеко, что решил продать ее за тысячу дукатов епископу, а когда она отказалась, пригрозил, что обвинит ее в попытке отравления. Это переполнило чашу терпения, и Барбара сбежала. Она являлась родственницей Гонзага по линии матери, и с помощью наилучших рекомендаций от герцогини Урбинской ей удалось спрятаться в монастыре в Мантуе. Оттуда она перебралась в Феррару и осталась жить с монахинями Сан Рокко. В архиве Гонзага был найден неопубликованный ранее документ отапреля 1502 года, доказывающий этот факт. Франческо Кастелло, доктор и придворный Эрколе I, которому приходилось часто по роду службы ездить в женский монастырь, с воодушевлением рассказывал о Барбаре Торелли как «об очень красивой и умной донне». Получив поддержку герцога Феррарского, близкого друга и родственника Бентивольо, Барбара почувствовала себя достаточно защищенной, чтобы заявить о своих правах. Единственное, чего она хотела, чтобы ей было позволено вести жизнь, в которой не будет места оскорблениям и унижениям, что ей должно быть возвращено приданое, или, по крайней мере, выплачена сумма, которая позволит вести «скромный и непритязательный образ жизни». Но подобно всем жестоким натурам, видящим, как жертва ускользает из их рук, муж ответил, что не собирается выдавать ей ренту. Рассказ Барбары о непреклонности и жадности мужа на фоне ее наивности и красоты превратился в одну из знаменитых романтических историй в хрониках Гонзага. Общественное мнение и личные симпатии были на стороне Барбары; она стала известной и многого добилась. Но еще задолго до ее триумфального восхождения она познакомилась с Эрколе Строцци, и он стал центром ее мироздания. Что заставило поэта влюбиться в Барбару? Был ли он очарован ее красотой или умом, или и тем и другим в сочетании с тем фактом, что она была жертвой, вовлеченной в борьбу, чреватую ловушками и опасностями? Выиграть Барбару Торелли, не обращая внимания на гнев семейства Бентивольо, было не менее заманчиво для человека с таким темпераментом, как у Строцци, особенно учитывая богатство, которое принесет ему эта победа. Со своей стороны Барбара видела себя в компании человека знаменитого и исключительно образованного. Хромота, очевидное проявление слабости, придавало ему особое очарование в ее глазах. Она принимала его любовь с естественной пылкостью и страстью, считая для себя большим счастье целиком покориться его власти, которую она осознала и полностью приняла.
Со временем взаимная симпатия между Лукрецией и Франческо де Гонзага все увеличивалась, и нет нужды объяснять, чем это могло обернуться у людей с таким темпераментом, как эти двое. Строцци был личным другом маркизы Мантуанской и мгновенно понял, чем все это может закончиться, но, вместо того чтобы поднять тревогу, взял на себя обязанности посредника между двумя любовниками. Письма, обнаруженные Люцио в архивах Гонзага в Мантуе, которые я сравнила (совершенно излишне) с оригиналами писем Строцци, не оставляют места для каких-либо сомнений. Человек, писавший под псевдонимом Зилио и являвшийся посредником между любовниками, не кто иной, как Эрколе Строцци.
Имея в наличии всего несколько загадочных посланий, можно только частично восстановить эту тайную связь. Начало романа относится к первым числам лета 1507 года (вероятно, взаимопонимание было достигнуто во время карнавала, когда маркиз Мантуанский дважды посещал Феррару). Он развивался в условиях соблюдения особых мер предосторожности, а в качестве дополнительной меры для сохранения тайны переписки всем действующим лицам были придуманы псевдонимы. Действовали следующим образом. Строцци от имени Лукреции писал Гонзага (иногда она писала собственноручно) и адресовал письма Гвидо Строцци, одному из своих братьев, жившему в Мантуе. Получив письмо, Гвидо либо сам передавал их маркизу, или через своего шурина Уберто дель Уберти, или через того, кто обозначен загадочными буквами «D.A.». Ответы передавались тем же путем. Для переписки каждый получил псевдоним. Гонзага был Гвидо, Лукреция – Барбара, Альфонсо д'Эсте – Камилло, Ипполито – Тигрино, Изабелла – Лена. Строцци, как я уже говорила, стал Зилио. Корреспонденты не придавали особого значения этим псевдонимам, рассматривая их в качестве последнего оборонительного рубежа, поскольку были уверены в своей неуязвимости. Сегодня с помощью графологической экспертизы не составит особого труда определить принадлежность почерка, но даже тогда было несложно обнаружить в этих письмах скрытый обман. В одном и том же письме Зилио упоминает двух Барбар, «моя Барбара» означает Барбару Торелли, а «ваша Барбара» – Лукрецию. Лукреция больше не может оправдывать свои письма Гонзага просьбами об оказании помощи Валентинуа. Почему она согласилась на эту опасную тайную связь? Не потому ли, что была еще очень молода и не могла так рано отказаться от любви? Она, безусловно, сильно рисковала, но еще большему риску подвергался ее сообщник Строцци, который писал маркизу, что ради него «ежесекундно» рискует собственной жизнью. Лукреция могла убедить себя, что если ей удастся сохранить их отношения на уровне нежной дружбы, то ее нельзя будет обвинить в грехе. В любом случае игра стоила свеч, но чего добивался Строцци? Большого вознаграждения? Наверное, хотя он и так имел дворцы, богатство, славу и любовь. На самом деле он тратил так много, что был почти без денег, и при случае Лукреция одалживала ему значительные суммы. Но это конечно же не причина, поскольку он не был ни беден, ни скуп, чтобы взять на себя эту роль из личного интереса. Дружба Строцци с Гонзага, Альберто Пио и Бембо, со всеми, кого по той или иной причине ненавидел Альфонсо д'Эсте, вкупе с его положением злого гения Лукреции говорит о том, что он испытывал тайную ненависть к семейству д'Эсте, и особенно к Альфонсо. Точно известно, что герцог не любил поэта, поскольку не только лишил его государственных должностей, но и намеревался отобрать земли, переданные его отцу Эрколе I. Поощряя страстные желания Лукреции, Строцци, вероятно, замыслил утонченную месть за нанесенные ему мужем герцогини обиды. Итак, механизм интриги был приведен в действие, и тайная переписка шла в обе стороны через реку По. Неизвестно, предоставлялась ли им возможность увидеться в течение лета 1507 года после той встречи на карнавале, но точно известно, что в декабре Лукреция опять забеременела и на этот раз все должно было пройти успешно; у Лукреции хорошее самочувствие, и она пребывает в отличном настроении.
Портреты Лукреции, написанные во время карнавала 1505 года и в период с 1504 – го по 1510 год, оригиналы которых, увы, потеряны, но копии, должно быть, хранятся в коллекции Несси в Комо. Широко известная коллекция портретов знаменитых людей, собранная историком XVI века Паоло Джовио, включала и портрет Лукреции, с которого сделана копия Несси. Копии не дают нам ключа к разгадке, кто художник оригинального портрета. Говорили, что портрет анфас и манера письма вызывают в памяти имя Бартоломео Венето, который занимался оформлением апартаментов Лукреции в течение 1506 года. Он был великолепным портретистом и вполне мог взяться за такой заказ. К сожалению, у меня нет никаких документальных подтверждений данной гипотезы.
В Национальной галерее в Лондоне находится прекрасный, нежный портрет Лукреции, откровенно приписываемый Бартоломео Венето. До недавнего времени никто не признавал на этом портрете герцогиню Феррарскую. На желтом фоне изображена сидящая дама в элегантном платье из черного бархата, с широкими рукавами, расшитыми золотыми пальмовыми листьями. Ее шею украшает золотое ожерелье с изображениями символов Страстей Господних и букв, по всей видимости составляющих латинскую фразу. На голове изящная корона, украшенная жемчугом и рубинами. Мягкие округлые линии шеи, остро очерченный нос, великолепные белокурые волосы и срезанный подбородок (напоминает портрет Александра VI). Все эти детали, безусловно, указывают на то, что это портрет Лукреции.
Итак, Лукреция ждет ребенка, и в это время из Рима доставляют несколько «древних колонн с капителями» и висячий сад, чтобы украсить апартаменты герцогини, и Строцци конечно же находится рядом: кто мог лучше его дать совет? Кроме того, получены великолепные книги от книготорговца Джованни Марокко, страницы и переплеты которых, должно быть, ласкали пальцы Строцци.
Приближается рождение ребенка, и все разговоры сводятся к этой теме. Вопрос колыбели, например, вызвал долгие дебаты: какая модель из представленных Бернардино Венециано будет предпочтительнее? В итоге остановились на невероятно сложной колыбели – некоем подобии храма с алтарем. Место для младенца было выполнено из дерева с золотом (сразу же возникала ассоциация с горной породой); расположенные по краям четыре изящные опоры поддерживали классический архитрав. Свод колыбели усеян листьями и цветами из золота, чтобы у ребенка в колыбели создавалось ощущение, что он лежит в солнечной беседке, увитой цветущими растениями. Картину дополняли белое атласное белье и маленькие подушечки, белые с золотом. Полосатый бело-малиновый атласный навес над колыбелью предохранял от возможных сквозняков. Угол в большой комнате, отведенный для колыбели, задрапировали великолепными гобеленами и установили печку. Одним словом, все было продумано до мельчайших подробностей. Придворная вышивальщица, гречанка, чуть не потеряла зрение, вышивая приданое ребенку и простыни для Лукреции. Придворные дамы, ведающие гардеробом, доставили сокровища династии д'Эсте – ковры, гобелены, кружева, тюль и атласные занавеси, принадлежавшие Элеоноре Арагонской. В небольшой гостиной Лукреция приказала установить кровать под серебряным балдахином. Стены комнаты обили золотой и коричневой тканью (цвета Лукреции). В соседней комнате, отделанной деревом с золотом, по распоряжению Лукреции поставили печку; там она могла ежедневно принимать ванну. Этой вредной по тем временам привычке Лукреция, вероятно, была обязана испано-арабскому воспитанию. Самая известная в Ферраре акушерка Франсина с видом полнейшей невозмутимости ходила взад и вперед по замку, раздавая оптимистические обещания относительно ожидаемого новорожденного. По ее совету уже была выбрана и привезена в замок кормилица, молодая замужняя женщина поразительной красоты.
Мне не удалось найти никаких следов глубоких переживаний Лукреции, связанных с приближающимися родами. Читая письма Строцци от Зилио к Гонзага, у нас создается впечатление, что герцогиня далека от погруженности в процесс, происходящий в ее чреве. Она пространно рассуждает со Строцци о маркизе Мантуанском, о семействах д'Эсте и Гонзага, которые открыто ссорятся по самым обычным вопросам (почему слуга, сбежавший из одного дома, получил защиту в другом), строит планы, которые позволят ей навестить маркиза и остаться с ним. «Мы ежедневно говорим о вас», – сообщает Зилио в письме Гонзага. Она невероятно встревожилась, узнав 2 апреля, что он болел. А 3 апреля у Лукреции начались схватки, и Санудо сообщает нам, что герцог Альфонсо «без каких-либо объяснений покидает Феррару». По политическим причинам Альфонсо следовало поехать в Венецию, но его отъезд именно в этот день связан с тем, что ему не хочется оказаться свидетелем неудачных родов; это было бы слишком унизительно. На следующий день родился жизнеспособный наследник, маленькое создание с острым носом. Будущего Эрколе II положили в его аллегорически-гуманистическую колыбель.
Альфонсо немедленно возвращается в Феррару. Как ему уже успели донести, ребенок некрасив, но здоровый и крепкий. Герцог испытывает невероятный прилив гордости, демонстрируя голенького ребенка послам, приехавшим с поздравлениями, чтобы они могли видеть, что «младенец здоров и снабжен всем необходимым». В честь рождения наследника объявлена амнистия, но никому и в голову не пришло включить в список амнистированных дона Ферранте и дона Джулио. Спустя пять дней герцог отправляется во Францию.
Как только Лукреция смогла говорить, она тут же обращается к Гонзага. Она возмущена поведением Альфонсо; он официально уведомил о рождении ребенка только Изабеллу и, желая оскорбить, намеренно проигнорировал маркиза. Лукреция осуждает «вероломство Камилло [Альфонсо] и Тигрино [Ипполито]». Почему бы Гонзага не выразить открыто свое недовольство, чтобы Лукреция могла направить ему официальное извинение? Почему он не может найти способ приехать в Феррару, где его с нетерпением ждет Лукреция? «Камилло завтра уезжает во Францию», – пишет Строцци, настаивая на немедленном ответе, поскольку герцогиня страстно мечтает о встрече.
В ожидании ответа Строцци читает герцогине первые строки маленькой поэмы «Genethliacon», сочиненной им в честь новорожденного. Окружающие их роскошь, золото, серебро, бархат; весеннее солнце и латинские стихи, казалось, предвещают счастье. Франческо Гонзага не пишет, но может неожиданно приехать. Лукреция повторяла опять и опять, что, прежде чем уехать, Альфонсо сказал, что ничего не имеет против своего шурина и хочет, чтобы у них были мирные отношения. Но от Франческо нет писем. Что это значит и что ей делать в таком случае? Она решила отправить к Гонзага Строцци, но неожиданно передумала; она боится самостоятельно предпринять такой решительный шаг. Зилио опять пишет Гонзага, живописуя эмоциональное состояние Лукреции. Маркиз должен увидеть, до чего дошла прекрасная герцогиня Феррарская, жена герцога Альфонсо д'Эсте. «Я уверен, у вас нет лучшего слуги, чем я, никого, кто сделал бы для вас больше, чем я». Увы, это истинная правда.
«Ваш приезд, – пишет Зилио, – значит для нее больше, чем 25 тысяч дукатов. Я не могу выразить то лихорадочное возбуждение, в котором она пребывает. И потому, что страстно желает видеть вас, и потому, что вы не отвечаете на ее письма… Если бы вы хоть иногда прислушивались к моим советам… Я гарантирую, что она [Лукреция] любит вас. Ей не нравится ваша холодность, но она одобряет вашу осмотрительность и еще тысячу ваших качеств, которые вызывают у нее восторг. Мне жаль, что вам не удалось приехать… Она [Лукреция] безумно любит вас, гораздо больше, чем вы можете представить, поскольку, если бы вы действительно поверили в силу ее любви, вы не были бы столь холодны и попытались приехать к ней… Я даю вам слово, что она любит вас, и если вы последуете моим советам, то вскоре добьетесь того, чего желаете. Покажите, что вы любите ее, поскольку она только об этом и мечтает. Когда будете писать ответ, не упоминайте о моих словах, поскольку я не хочу, чтобы она думала, что это я заставляю вас любить ее. Покажите, как страстно вы жаждете приехать к ней, и тогда вы поймете, что я даже преуменьшаю истинное положение вещей. Она заставила меня задержать курьера, поскольку сама хотела написать вам письмо, но она еще плохо видит после родов. Она передает вам, что перед отъездом Альфонсо выразил желание помириться с вами, и вам следует предпринять такую попытку, поскольку тогда вы сможете приехать к ней. Она хотела, чтобы я съездил к вам, но пока не может обойтись без меня. Я пишу вам еще одно письмо, уже от себя, которое вы сможете показывать…»
Все эти мольбы, просьбы, обещания! Не возникает и тени сомнения, что за всем этим стоит Лукреция. Вероятно, в то время у Гонзага были нехорошие предчувствия. Строцци мог поднять тонус, чтобы внести свежую струю в утихнувший роман, когда пообещал Гонзага, что тот «добьется чего желает», то есть конечной цели любовного романа. «Я пишу письмо, которое вы сможете показывать», – написал Строцци, и действительно, в архиве Гонзага я обнаружила деловое письмо от 25 апреля, адресованное маркизу Мантуанскому и собственноручно подписанное Строцци. Тот же самый день! Если бы потребовалось идентификация, то было бы легко установить принадлежность подписи Зилио. Лукреция и Строцци были абсолютно уверены, что окружены шпионами, причем знали об этом еще со времен романа с Бембо. В письме Зилио, датированном мартом 1508 года, появляется некий М., который является к Лукреции и предлагает себя в качестве посредника. Он готов отправиться в Мантую, чтобы договориться о примирении между домами д'Эсте и Гонзага и убедить маркиза приехать в Феррару. Лукреция соглашается, но без особого воодушевления. Этот М. отправляется в Мантую, приходит к маркизу и дает ему понять, что его послала Лукреция, поскольку хочет, чтобы он тайно приехал в Феррару. Гонзага тут же заподозрил неладное (ему крайне не понравился посланник) и сделал вид, что не понимает, о чем идет речь. М. резко меняет тему разговора и вдруг неожиданно предлагает маркизу миниатюру с изображением Лукреции. Гонзага приходит в страшную ярость. Неужели они думали, что он поддастся на такую примитивную уловку? Он выгоняет пришельца, естественно, вместе с миниатюрой и тут же описывает Зилио всю историю.
Лукреция со Строцци сразу догадались, что этот таинственный М. выступал от имени третьего лица, который наверняка был членом семьи д'Эсте. Кто же этот М.? Поскольку этот человек был вхож в оба дома, то, по всей видимости, это был кто-то из придворных, при-чем пользующийся благосклонностью. Если предположить, что им был Мазино дель Фор но – зловещая фигура, связанная с преступлениями семьи д'Эсте, то в этом случае мы получим путеводную нить, которая проведет нас через последующие мрачные события. Мазино дель Форно был приближенным кардинала Ипполито.
Возможно, за всеми этими событиями более отчетливо прорисовываются фигуры Ипполито и Изабеллы, а вовсе не Альфонсо. Уж не для того ли предложила Изабелла миниатюру Лукреции, чтобы иметь доказательство интимных отношений между родственниками? А зачем было предлагать маркизу приезжать в Феррару в то время, когда семейства враждовали друг с другом? Или предложение было сделано просто для того, чтобы посмотреть, поддастся ли он на обман или нет? Гонзага не попал в ловушку, может, из страха перед д'Эсте. Однако Строцци был не менее хитер, чем его противники, и всегда сохранял спокойствие. Он все продумал. Письма любовников никогда не будут обнаружены; люди, вовлеченные в передачу писем, заслуживали всяческого доверия и всегда имели официальную причину, чтобы пересекать По. Письма тщательно сохранялись, и когда набиралось два-три письма, то их возвращали отправителю, который их сжигал. Из письма Зилио маркизе Мантуанской: «Я получил ваши письма вместе с моими и одним от донны Барбары; все в порядке. Я вернул Барбаре ее письмо, а остальные сжег». Теперь становится понятно, почему, несмотря на развитие интриги, сохранилось так мало писем, и, кроме того, совершенно очевидно, что хотя бы одно из писем было перехвачено. Теперь отношения Лукреции и Франческо перестали быть тайной, тем более что затеянная Строцци игра с ее мужем и роль в ней близкого друга Гонзага и родственника Строцци, Уберто дель Уберти, становится известна Изабелле, которая в середине 1507 года пишет брату: «Мессир Эрколе состоит в родстве с Уберто дель Уберти, невероятным бунтарем и моим личным врагом. Он оскорбил меня, и я расскажу Вашей Светлости обо всем при личной встрече. Он часто бывает в Ферраре и совсем недавно опять побывал там, после того как мессир Эрколе приезжал в Мантую. Я уверена, он приезжает, чтобы шпионить; это, очевидно, его работа. Я сказала ему, что нам следует поговорить. Я умоляю вас ради сохранения моего доброго имени сжечь мои письма, а я сожгу ваши».
Итак, мы видим, что письма Эрколе Строцци, Лукреции, Франческо Гонзага, Изабеллы и Альфонсо были сожжены. И если не сожжены письма Ипполито, то лишь потому, что он был самым умным из всех и вообще не писал писем. В этой атмосфере всеобщей подозрительности, где мужья, хоть и связаны обязательствами по отношению к женам, являются их лютыми врагами и каждый в той или иной мере участвует в заговоре, и только у Лукреции из всех участников этой истории есть оправдание – она стремилась к любви, которой по праву принадлежит весь мир.
За трагическим прологом неожиданно разворачивается драма. Как вы помните, после гибели Валентинуа Лукреция позаботилась о судьбе молодого испанского священника, который помог ее брату бежать из Медины. Она поместила его в монастырь Сан Паоло и часто приглашала ко двору. Вечером 4 июня 1508 года он, как обычно, возвращался из замка в монастырь прямой дорогой (теперь она называется Корсо-Порта-Рено), идущей от главной площади до монастыря. Эта улица, узкая и темная, улица пьяниц (вам так и слышится, как они поют при луне), которые группами вылезают из подвалов с маленькими окошками. Эта улица такая же темная, как средневековая Виа-делле-Вольте с ее мрачными готическими фасадами. Под древними портиками мрачных домов много темных углов и выступов – превосходных потайных мест для летучих мышей и наемных убийц. Глаза испанского священника уже никогда больше не увидели монастыря Сан Паоло с его изящной галереей XV века. Он упал с перерезанным горлом, не издав ни звука, и никто не мог даже предположить, кому понадобилась эта смерть. Неужели за несколько месяцев, проведенных в Ферраре, священник умудрился нажить смертельных врагов? А если это не так, то в чем же причина? Дальнейшие размышления привели нас к семейству д'Эсте. Может, они посчитали, что сейчас наиболее благоприятный момент для того, чтобы удалить всех вызывающих подозрение людей из окружения герцогини? Это убийство следует рассматривать в совокупности со следующим, происшедшим в скором времени.
Эрколе Строцци трудится над созданием элегии в честь рождения дочери, которую недавно родила ему Барбара Торелли, и весь интеллектуальный мир Феррары с нетерпением ждет окончания работы. К сожалению, произведение, написанное то ли на латыни, то ли на итальянском, было утеряно, но те, кто читал его, говорили, что подспудно в нем ощущалась тема смерти, словно поэтом владело страшное предчувствие. Возможно, он мысленно читал свою элегию, когда, хромая, шел ночью 5 июня по Ферраре (нам неизвестно, шел ли он от герцогини или от Барбары). Ему уже было не суждено когда-либо увидеть их.
Рассвет 6 июня 1508 года связан с одним из наиболее известных убийств в истории итальянской литературы. Тело Эрколе Строцци было обнаружено на углу Виа Прайсоло и Виа Савонарола около стены дворца Ромеи. Он был убит кинжалом (на теле обнаружено двадцать два следа от ударов), но… на лице застыло обычное для него выражение надменного презрения, и он не утратил своей элегантности. Рядом валялась его трость. На нем были шпоры.
Город охвачен волнением. Строцци не пользовался популярностью; его не любили за излишнюю резкость и суровость. Но он был влиятельным, богатым человеком, принадлежал к одной из самых значительных семей в городе, приобрел известность в качестве поэта, был принят при дворе. И вот в один момент оборвалось все то, что некогда пробуждало зависть, восхищение или ненависть. Кто ответит за это преступление? В письме к Изабелле д'Эсте Проспери сообщил, что имеются противоречащие друг другу версии в отношении виновных в преступлении. Замечено, что Тебалдео охватила паника, и он попросил разрешения уехать, желательно в Рим (но в действительности он оставался до тех пор, пока не утихла буря). Завеса тайны опустилась на Феррару; никто не высказывает никаких предположений – так надежнее. По городу ползут таинственные слухи. На пышных похоронах в кафедральном соборе собираются все феррарские интеллектуалы, нет только официальных лиц. Филолог и гуманист Челио Чалкаджини поднимается с места, и под аркадами собора звучат закругленные фразы торжественной речи, presete cadavere: «Magna me cruciat miseratio, torquet iactura, magnitudo vexat indignitas rei…»{10}.
Постепенно в его голосе все явственнее слышится переживаемое им горе. «Куда ушел светоч души? В один момент исчезло все… блестящий и острый ум, эрудиция, изящная поэзия». Волны похвал вздымаются все выше. «Если его прельщал язвительный куплет, серьезное героическое стихотворение или нежная элегия, он всегда находил такие яркие и красочные обороты, что любой мог позавидовать ему…» Оратор продолжал, наращивая темп: «Нет ничего удивительного, что ему покровительствовала Лукреция Борджиа, жена герцога, которому он всегда выказывал самое благоговейное отношение». Если кто-нибудь из присутствующих в огромном зале вздрогнул при звуке этих слов, то не показал виду, поскольку каждый знал цену осмотрительности. Бембо, должно быть, с болью узнал о смерти, будучи в Урбино, но тоже проявлял осторожность. Единственным человеком, который не побоялся открыто выражать свои чувства, была Барбара Торелли.
Прошло тринадцать дней со дня родов, и Барбара все еще находилась в постели, когда был убит Строцци. И хотя разом рухнули все ее надежды, она остается верна себе. Немедленно собирает всех детей Строцци в своем доме – двоих своих и четверых незаконнорожденных – и, хотя еще очень слаба, пытается принять меры, чтобы защитить их. Братья Эрколе Строцци, Лоренцо и Гвидо, пишут маркизу Мантуанскому, выражая надежду, что он отомстит «убийце своего преданного слуги». Гонзага обещает награду в 500 дукатов и гарантирует безопасность тому, кто назовет имя убийцы, и пишет вдове письмо с выражениями соболезнования. Более того, при крещении маркиз держит над купелью дочь Барбары, названную Джулией. Но проходят дни, а никто не спешит получить обещанную награду. Похоже, в Ферраре забыли о справедливости. Крепнет всеобщая уверенность, что следы преступления следует искать в высших сферах.
Историки всегда разделяли эту точку зрения, хотя существовало два основных мнения о виновнике случившего. Согласно первой версии, Лукреция влюбилась в Строцци и убила его из ревности к Барбаре Торелли. Согласно второй, герцог Альфонсо влюбился в Барбару Торелли и устранил со своего пути ее мужа. Никаких документальных свидетельств, подтверждающих эти версии, никто и никогда не обнаруживал. Люцио и Каталано решили поступить иначе. Они предпочли выявить самых заклятых врагов Барбары Торелли и Строцци и пришли к выводу, что убийца действовал по приказу родственников Барбары, а точнее, ее бывшего мужа Бентивольо, который считал, что Строцци лишил его приданого Барбары. Убедительным доказательством этой версии служит письмо Барбары маркизу Мантуанскому, в котором она умоляет помочь ей. Она просит жестоко покарать того, кто оставил ее вдовой с шестью детьми, которых еще надо вырастить, воспитать и дать образование. «Он, который отнял у меня мужа, – писала Барбара, – пытается ограбить его детей, прилагает все усилия, чтобы нанести мне наибольший вред и лишить меня моего приданого». Совершенно ясно, что это не имеет никакого отношения к семейству д'Эсте, которое и не помышляло о приданом Барбары, напротив, они поддерживали ее в борьбе против жадных родственников. Безусловно, речь идет о Бентивольо и Галеаццо Сфорца, которые избавились от мужа Барбары, чтобы как можно быстрее довести ее до бедности. Письмо информатора из Болоньи кардиналу Ипполито подтверждает логичность сделанного вывода. В нем конкретно сказано, что убийца Строцци выполнял приказ Алессандро Пио, мужа Анджелы Борджиа и сына Элеоноры Бентивольо, который всвою очередь действовал от имени семьи Бентивольо, и что убийцей был Мазино дель Форно (иль Моденезе).
А вот здесь давайте немного задержимся. Важно помнить, что Пио был беззаветно предан д'Эсте и добивался благосклонности герцогского дома, чтобы сохранить господство над Сассуоло. Как же он мог приказать убить придворного, которому благоволила герцогиня, если понимал, что его поступок не окажется безнаказанным? Получается, что он сделал это с молчаливого согласия д'Эсте. В таком случае кинжал Мазино дель Форно, «кровавых дел мастера», мог сослужить службу Бентивольо. Мазино сам никогда не пошел бы на преступление, если бы не был уверен, что это понравится его хозяевам и, самое главное, кардиналу Ипполито.
Спустя несколько лет Джовио скажет, что «судья не захотел добраться до сути таинственного убийства». Следует отметить такой важный момент: не проводилось никаких расследований, хотя в те времена при малейшем подозрении людей подвергали арестам и пыткам. Конечно, ввиду отсутствия судебных документов (они были сожжены) мы не можем с полной уверенностью судить о нерадивости судопроизводства, но, если бы шли расследования и аресты, сохранилась бы хоть какая-то информация, однако, судя по всему, летописцы избегали этой темы. Позиция безучастных наблюдателей, выбранная семейством д'Эсте, указывает на соучастие в преступлении. Народная молва возлагала вину на семейство д'Эсте (неспроста Тебалдео охватила паника), и строчки Джероламо Касио подтверждают это как нельзя лучше:
Ercole Strozzi cui fu dato morte per aver di Lucrezia Borgia scritto С огнем Эрколе Строцци играл, Поскольку о Лукреции писал.До недавнего времени историки не принимали в расчет эти строчки, казавшиеся им полной ерундой; всем было известно, что Строцци всегда уважительно писал о герцогине, но в свете переписки Зилио эти строки приобретают иной смысл.
Непонятна реакция Лукреции. Всем были известны ее тесные отношения со Строцци, но никто даже не упоминает ее в связи с преступлением. Неизвестно даже, помогала ли она Барбаре Торелли, которая, безусловно, была вправе обратиться к герцогине за поддержкой. И опять же в связи с отсутствием каких-либо документов на этот счет не будем теряться в догадках. Нам проще думать, что Лукреция помогла вдове Строцци, нежели отказалась от нее. Во всяком случае, Барбара, вероятно по рекомендации Лукреции, которая не могла гарантировать ей безопасность, уехала из Феррары в Венецию.
Герцогиня не покидает замка д'Эсте. Связь с Гонзага, похоже, прервалась. Лукреция раскаивается, что по ее вине Строцци приходилось так сильно рисковать. Она всматривается в лица членов семьи д'Эсте, пытаясь понять, имеют ли они отношение к этому преступлению. Увы, ей не суждено в этом разобраться. Можно предположить, что причина происшедшего в ненависти Бентивольо к Барбаре, и она принимает это объяснение. Словно испуганный ребенок, Лукреция, пытаясь убежать от самой себя, завязывает дружбу с Изабеллой Арагонской, последней королевой Неаполя, которая после смерти мужа, короля Фредерико, приехала в Феррару, где ей была оказана достойная встреча. Через неделю после гибели Строцци герцогиня начала жаловаться на погоду, она, мол, чувствует, что будет не по сезону жарко, и завела разговоры об отъезде из Феррары. На празднике Тела Христова под предлогом, что ей хотелось бы вблизи посмотреть торжественное шествие, она получила приглашение королевы Неаполя наблюдать за праздником из ее окон, выходивших на путь следования процессии, и заблаговременно подъехала к палаццо Паречи, королевской резиденции. Этот низкий, вытянутый в длину дворец (полностью перестроенный в XVIII веке) находится на Виа Савонарола, напротив дворца Ромеи, и из окон первого этажа можно увидеть место убийство Строцци. Близость страшного места, трагическое лицо вдовствующей королевы и торжественность момента – все это, вместе взятое, заставило Лукрецию искренне разрыдаться. Ей не с кем разделить свое горе.
Кто, как не Гонзага, мог помочь ей вновь обрести себя? Она тут же стала высматривать нового посредника. И нашла того, на кого мы подумали бы в самую последнюю очередь, – брата Эрколе, графа Лоренцо Строцци. Мне ничего неизвестно об отношениях этого человека с семейством д'Эсте, но я точно знаю, что в июне 1508 года (месяц совершения убийства поэта) он находился в замке д'Эсте с Лукрецией. Можно сказать, находясь в состоянии ступора, я читаю вступительные слова, собственноручно написанные Лукрецией Франческо Гонзага 30 июня 1508 года: «Настоящий податель сего письма граф Лоренцо Строцци, преданный слуга Вашей Светлости не меньше, чем был его брат Эрколе Строцци…» Далее она добавляет, что маркиз может доверять ему так же, как ей.
Лукреция почувствовала, что вернулась к жизни, и решила съездить в Модену и Реджио. Жители, помнившие об ограблениях, совершенных в 1505 году поварами, слугами и остальной придворной челядью (утащили все, вплоть до простыней и канделябров), с некоторым опасением наблюдали за приездом двух известных дам. Герцогиня и королева наслаждались спокойной атмосферой Реджио. Через несколько дней королева уехала, и герцогиня осталась одна в смятении чувств; она в полной уверенности, что Гонзага, вспомнив, как просто добраться из Боргофорте в Реджио, неожиданно появится здесь. Поняв, что Франческо не посетит подобная идея, она, дрожа от нетерпения, приказывает Лоренцо обратиться к маркизу. Он должен воспользоваться такой удобной возможностью и как можно скорее приехать в Реджио, поскольку в конце августа она обязана вернуться в Феррару. «Постарайтесь найти возможность, чтобы поскорее приехать сюда», – пишет новый посредник, бледное подобие своего брата. Герцогине объяснили, что Франческо болен, но она заявила, что во всех монастырях Реджио и Феррары будет молиться за его здоровье, так что в скором времени ему станет намного лучше. Так что пусть поспешит приехать, в любом случае ответ должен быть дан немедленно.
Ответ от 25 августа написан любимым секретарем маркиза, Толомео Спагнуоли. В нем за сдержанной нежностью подразумевался отказ. Маркиз очень хочет увидеть свою «дорогую сестру», но что же поделать, если он болен? Лукреция больше не может сдерживать своих желаний и еще до получения письма решает, что, если маркиз болен, она поедет навестить его в Ман-тую. Теперь, после того как ее догадка подтвердилась, она начинает собираться, но из-за неожиданного приезда герцога Альфонсо не может привести свой план в исполнение. «Герцогиня, собиравшаяся навестить вас, остается здесь», – пишет Гонзага один из придворных шутов. Далее он сообщает маркизу, что семейство д'Эсте не поверило, что маркиз действительно так уж плох. Теперь герцог и кардинал могли с улыбкой наблюдать за неудавшимся романом маркиза Мантуанского. Лукреции не остается ничего другого, как подчиниться, и она обращается за помощью к поэзии. В Реджио она встречает Бернардо Акколти, unico Aretino. Для нее даром богов было встретить Аретино в тот момент, когда он свободен и готов писать стихи и посвящать их Лукреции. Ее литературные вкусы не отличались особой избирательностью, но она не могла жить без поэзии. Она оставляет Акколти при дворе, выказывает благосклонность, засыпает его подарками и наслаждается талантливым ухаживанием. В нем нет изысканного великолепия Бембо и метафизической остроты Строцци, но она полностью удовлетворена тем, что может обсуждать с ним темы, которые раньше так увлекали ее, – вопросы литературы и жизнь государей.
Глава 11 Феррара в вихре войны
В сентябре, так и не повидавшись с Гонзага, Лукреция возвращается в Феррару. Эрколе подрос, выглядит гораздо лучше, лежа, словно в солнечной беседке, в своей колыбели. По большей части он спит, как и положено младенцу. У него так и остался (похоже, навсегда) острый нос и светлые глаза – знаменитые «прекрасные» глаза его матери, и, по словам старого придворного, он «очаровательный, нежный и беленький малыш». Смерть Строцци оставила неизгладимый след в жизни Лукреции, и теперь она, более чем прежде, нуждалась в поддержке. Она понимала, что как друг Строцци не имел себе равных и никто не в состоянии занять его место, хотя, вероятно, и не осознавала, что именно с ним связано ее тайное желание идти наперекор установленным законам общества. Придворные с удивлением наблюдали, с каким отсутствующим видом, «словно потерянная», она появляется на людях; так обычно происходит, когда люди не удовлетворены существующим положением вещей, но не в силах ничего изменить. Мятущаяся душа Лукреции распространяла вокруг флюиды тревожного беспокойства, сильно огорчая этим окружающих. Без какого-либо предупреждения, правда вежливо, она отказалась от услуг Беатрисы Контрари, которая в течение нескольких месяцев присматривала за ребенком. Никого не принимала и не устраивала приемы. Единственным человеком, скрашивавшим ее одиночество, был Бернардо Акколти, прибывший с ней из Реджио, с которым Лукреция обращалась как с принцем. Замечу, что начиная с сентября я не нашла никаких упоминаний о нем: то ли семейство д'Эсте заставило его покинуть Феррару, то ли он сам почувствовал неприязненное отношение и решил вовремя удалиться. Придворные заметили, что Альфонсо чаще, чем прежде, составлял компанию жене, но ему никак не удавалось утешить ее. Теперь он практически каждый вечер ужинал вместе с Лукрецией, очевидно поняв, что слишком часто пренебрегал ею и оказался перед ней в долгу. Вполне возможно, что вместе с чувством глубокого сочувствия к жене в нем неосознанно пробудилось и чувство раскаяния. Увы, было слишком поздно. Лукреция выслушивала его отчеты о состоянии дел и давала толковые советы или, что случалось чаще, просто одобрительно слушала его; всю нежность она оставляла для Гонзага. Она опять разрабатывает целую систему символов для переписки с Франческо. «Сокол» означает письмо, а может, поцелуй или даже любовь, «сокольничий» – это сама Лукреция. Но теперь она не ощущает того волшебного чувства таинственности, как во времена Строцци. Она приглашает маркиза в Феррару, и вновь ее ждет разочарование.
Утерян магический магнетизм поэта; Лукреция становится рассеянной, вялой и медлительной. Неожиданно возникшее ощущение, что рядом появился новый враг, приводит ее в истерическое состояние. Она вызывает Лоренцо, поскольку ей не верится, что из Мантуи нет никаких сообщений. Писем нет, говорит обиженный посредник; он вынужден выслушивать претензии и обвинения герцогини, поскольку ей кажется, что письма идут слишком уж извилистым путем. Либо она действительно что-то заподозрила или случайно использовала выражение, наиболее точно передающее ее чувства. Лоренцо немедленно информирует Гонзага о недовольстве, которое выражает его беспокойная подруга, и умоляет ответить ей. Но Гонзага, хотя и сильно обеспокоен состоянием Лукреции, старается оставаться подальше от Феррары (скорее всего, из свойственной ему крайней осмотрительности) и вряд ли отвечает на письмо. Лукреция вынуждена отступить, что не лучшим образом сказывается на ее состоянии; она еще больше замыкается в себе и становится абсолютно неуправляемой. К примеру, приказывает соорудить в соборе шатер, в котором она могла бы со своими придворными дамами слушать проповедь, не находясь при этом на всеобщем обозрении. Правда, за весь Великий пост она лишь один или два раза посетила собор. Ей никогда бы и в голову не пришло, что свежую струю в ее жизнь внесет событие, которого она боялась больше всего на свете, – война.
10 декабря 1508 года в Камбре образована лига, направленная против властолюбивой Венеции. В нее вошли король Франции, король Англии и император Максимилиан. Лига объявила началом военных действий весну 1509 года. Юлий II безуспешно пытался убедить венецианцев вернуть города Романьи, занятые ими после падения Чезаре Борджиа. Более того, венецианские посланники, приняв невыносимо высокомерный тон в разговоре, категорически отказались вернуть захваченные территории и крепости. В марте 1509 года папа после неудачной попытки прийти к мирному соглашению с венецианцами примкнул к лиге вместе с Альфонсо д'Эсте, который очень надеялся, что сможет отбить Полезину. Франческо де Гонзага тоже примыкает к союзу в расчете обрести свое место под солнцем. Альфонсо д'Эсте, назначенный знаменосцем церкви, занимается подготовкой артиллерии к войне и отдает необходимые распоряжения по управлению герцогством. После ухода Альфонсо на войну Лукреция должна взять бразды правления в свои руки и встать во главе совета из десяти самых влиятельных людей города. Кардинал Ипполито будет помогать ей по мере необходимости. Но практически все ляжет на нее одну, поскольку кардинал уже вытащил доспехи и меч и только и ждал того момента, когда сможет ими воспользоваться.
Первым действием вновь образованной лиги явилось торжественное отлучение Венеции от церкви. Венецианцы восприняли это известие невозмутимо; они с оптимизмом смотрят на происходящее, и их уверенность подкреплена четкой аргументацией. Венецианские послы давали подробную информацию о распределении войск и сил лиги. Благодаря этому венецианцы с большей долей вероятности могли оценить свои шансы на победу. Они совершенно точно вычислили, что король Испании против воли вступил в этот союз, что император Максимилиан больше говорит, чем делает, поскольку не имеет ни денег, ни армии. Они предполагали, что не только наемники папы, но и его офицеры не заслуживают особого доверия, и, наконец, союзники абсолютно не доверяют друг другу. Но, рассуждая о ненадежности папских армий, они не взяли в расчет собственных наемников и упустили из виду существование мощной связи между членами союза – их общей ненависти к богатой, процветающей и гордой республике святого Марка.
Для своего времени Венеция имела мощную армию, пятидесятитысячную, хорошо оплачиваемую, вооруженную и оснащенную. Когда первые солнечные лучи пробежали по вышитым на штандартах надписям «Defensio Italiae», венецианцы под крик «Italia Liberta!» пошли в атаку. Но республика должна быть наказана за излишнее самомнение. Какова наглость, пытаться захватить всю Европу, не имея союзников! Четырехдневное сражение при Аньяделло 14 мая 1509 года закончилось триумфальной победой лиги. Армия понтифика под руководством племянникапапы Франческо Мария делла Ровере, молодого герцога Урбинского (благородный Гуидобальдо скончался годом раньше), начала победное шествие по Романье. Теперь венецианцы осознали допущенную ошибку и поспешили направить миссию в Ватикан с просьбой о мире и с предложением передать крепости Романьи церкви. «Не оскудеет рука дающего»!
Но вернемся к нашим героям. Франческо де Гонзага с несколькими сопровождающими в приступе безрассудной смелости продвинулся в глубь венецианской территории. Среди ночи на них неожиданно напали враги, окружили и захватили вместе с лошадьми, палатками и вещами. Узнав об этом, папа зашелся в крике, он в прямом смысле взревел от ярости. Теперь венецианцы заимели важного пленника и могли изменить тональность разговора, получив определенное преимущество при переговорах. Франческо Гонзага был не просто важным пленником и одним из глав государств, которого понтифик (а ведь это был не Александр VI!) обязан защищать; этот человек прежде был союзником Венеции, и не исключено, что с учетом сложившихся обстоятельств мог изменить лиге и вновь объединиться с республикой.
Известие о взятии в плен Гонзага привело в хорошее настроение жителей Венеции, и они собрались на площади Святого Марка, чтобы увидеть его прибытие. «Крыса в клетке! Турко [военное прозвище Гонзага] схвачен! Повесить предателя!» – неслись со всех сторон возбужденно-радостные выкрики. Можно себе представить, что чувствовал Гонзага при виде беснующейся толпы и слыша бессчетное число раз слово «предатель», возвращавшее его к временам Форново. Но выдержки и достоинства Гонзага было не занимать. Когда кто-то из толпы насмешливо сказал: «Добро пожаловать, маркиз Мантуанский», он выдержал паузу и произнес, глядя в глаза насмешнику: «Я не понимаю, о чем вы говорите. Перед вами Франческо Гонзага, а не маркиз Мантуанский, находящийся в Мантуе». Скрытый смысл его замечания заключался в следующем: что бы ни случилось лично с ним, его род продолжит сын Федерико. Франческо де Гонзага брошен в тюрьму, не в самую страшную и грязную, однако это все-таки тюрьма. Он вспоминал всех; не только жену и детей, но любимого певца Марчетто, художника Лоренцо Коста, друзей, лошадей, соколов, собак и всех, всех, всех. Перво-наперво он вверил себя молитвам монахов. Его бессвязные письма, горячие, нежные, импульсивные, произвели большое впечатление в Мантуе – на всех, кроме Изабеллы.
Наконец-то Изабелла дождалась часа своего торжества. Она глубоко вздохнула, узнав, что муж попал в плен, срочно созвала городской совет и, воспользовавшись представившимся случаем, попыталась найти такие слова, чтобы они, воспламенив сердца, дошли до их разума. Она отправила своего маленького сына верхом впереди кортежа через Мантую, и люди радостно приветствовали его; они обожали Федерико. Она много раз подряд созывала советников и все-таки внушила им собственные мысли, а затем принялась за спасение государства, своего и мужа. Я не могу согласиться с венецианцами, что она решила сгноить мужа в тюрьме, чтобы удовлетворить собственные амбиции, хотя позже подобное обвинение выдвинет и Юлий II. Вполне возможно, оказавшись у руля, она почувствовало некоторое опьянение властью: наконец-то можно развернуться в полную силу. В такой момент Изабелла и не вспоминала о Лукреции.
Король Франции, император и папа, все, как один, не доверяли Франческо де Гонзага. Да, они вели переговоры о его освобождении, но для пущей уверенности хотели в качестве заложника получить Федерико, сына Гонзага. Федерико следует отправить во Францию, а уж тогда они найдут способ освободить его отца. Изабелле очень не хотелось отпускать ребенка, но еще больше ей не хотелось рисковать судьбой государства, а потому она вела политику пассивного сопротивления: выдвигала необоснованные возражения, занималась демагогией, в общем, всячески тянула с ответом, лишний раз доказывая свою расчетливость и изворотливость. Какие уж тут переживания! А ведь она знает, что муж находится в тюрьме, у него рецидив старого заболевания, которое нельзя запускать. В своем письме Франческо просит послать сына в качестве заложника, давая тем самым доказательноство лояльности по отношению к союзникам. Женщина более мягкая и сострадательная не могла бы вести светский образ жизни, зная, что муж в плену. Но, занимаясь государственными делами, Изабелла меньше всего думала о Франческо. Она и не знала (а если бы знала, то лишь высокомерно улыбнулась), что Лукреция предпринимает посильные попытки улучшить положение Гонзага.
Стоило Лукреции узнать, что Франческо Гонзага находится в плену, как помимо огорчения она почувствовала, что к ней возвращается страстное желание любви. Впервые она почувствовала (сколько работал над ее чувствами Эрколе Строцци!), что ее любовь действительно расцвела. День и ночь прошли в приятном возбуждении. Лукреция не могла понять, как можно управлять своими эмоциями, исходя из холодной расчетливости, как это делала маркиза д'Эсте по отношению к мужу своего ребенка. Лукреция знала, что семейство д'Эсте не волнует судьба зятя, они даже позволяли себе отпускать шуточки в его адрес. Надо же умудриться так опозориться! Однако такое отношение к маркизу только усиливало симпатию к нему Лукреции и превращало в своего рода героя, пострадавшего по вине обстоятельств. Она немедленно вызвала Анджелу Борджиа, доверенное лицо в сердечных делах, и начала искать способы, как помочь Гонзага.
Довольно скоро она находит возможность (оставшуюся неизвестной) отправлять маркизу письма и лекарства. Никто из феррарцев не имел к этому никакого отношения, и мы так бы никогда и не узнали об этом, если бы сам Франческо Гонзага впоследствии не упомянул о помощи, оказанной герцогиней. Она писала Гонзага и заказывала молитвы в монастырях. Она и сама молилась в монастыре Святого Доминика, хотя чувствовала себя неважно из-за новой беременности. Нечего и говорить, что Лукреция не могла позволить себе отойти от дел именно в тот момент, когда маркиз более всего нуждался в ее помощи, а д'Эсте поручили управление делами государства. Свойственное ей чувство здравого смысла вызывало такое уважение, что, не побоявшись оставить герцогиню одну, кардинал Ипполито, дрожавший от нетерпения немедленно применить свои военные таланты, двинул армию против венецианцев.
При попутном ветре венецианский флот плывет по реке По в Адрию. Над Феррарой нависла угроза. Кардиналу Ипполито предоставляется шанс показать себя в полном блеске, и он максимально воспользовался предоставленной возможностью. Кардинал бросается в бой, словно настоящий военачальник. Приняв на себя командование, он отдает приказы, руководит наступлением и устраивает засады в соответствии с выработанной стратегией. Целый день продолжалось сражение. Между атаками Ипполито отправляет сообщения в Мантую и Феррару. Изабелла получила коротенькое послание, которое заканчивалось словами: «…к вечеру венецианцы будут окончательно разбиты». Вечером была одержана величайшая победа: захвачены 18 галер, 5 кораблей, вооруженных тяжелой артиллерией и 140 легкими орудиями, много пленных, оружие, знамена и другие трофеи.
Захваченные корабли поднялись по реке По и подошли к стенам Феррары. Герцог стоял на флагманском судне. Августовское солнце отражалось в позолоченных шлемах личной охраны д'Эсте. Знаки отличия знаменосца церкви, орлы династии д'Эсте, цвета победивших государств и флаги вражеской армии наполняли яркими красками этот августовский день. Стены Феррары заполнены зрителями. Трубы, флейты, мортиры и пушки переговаривались между собой, создавая праздничный шум. Альфонсо в великолепном наряде, украшенном драгоценными камнями, со спокойным достоинством благодарил подданных за поздравления, в то время как находившегося за его спиной кардинала, опять одетого в пурпур, распирало от гордости.
Лукреция отправилась встречать Альфонсо во главе настоящей армии аристократок, наполнившей до отказа двадцать экипажей. Сойдя с корабля, герцог д'Эсте оказывает самое почтительное уважение жене, обмениваясь любезностями с ней и ее придворными дамами. Затем верхом в сопровождении придворных под приветственные крики толпы следует к замку.
В это время в Риме Юлий II занят серьезными размышлениями. Он осведомлен об амбициях французского короля и понимает, что будет серьезной ошибкой привлечь к участию в деле такого могущественного врага, который установит французское господство над Северной Италией и покорит весь полуостров, включая территории, принадлежащие церкви. Требовалось защититься от опасности, и, конечно, для этой цели лучше всего подойдет могущественная Венеция. Папа делает выбор в пользу мира с Serenissima, тут же передает крепости Романьи, давая свободу перемещения по Адриатике, и освобождает духовенство Венеции от налогов. Отлучение от церкви, наложенное на Венецию, аннулируется 24 февраля 1510 года в соборе Святого Петра в присутствии венецианских посланников. Война окончена. Папа приказывает всем членам лиги сложить оружие.
С этого момента Феррара становится основной сценической площадкой. Герцог Альфонсо, опьяненный успехом, рассчитывает любой ценой вернуть территории, которых его отец лишился в 1484 году, и, что более важно, поддержать Францию. Он вопреки приказу папы открыто заявляет, что собирается продолжать войну с Венецией. Такое заявление со стороны человека, совсем недавно представлявшего папу, равносильно бунту. Разве так должен вести себя знаменосец церкви? Наконец-то Юлию II представилась возможность выплеснуть накопившееся раздражение к д'Эсте. Не был ли этот мятежник тем самым герцогом Феррарским, чьи братья заживо погребены в башне крепости; тем человеком, который претендовал на территории, необходимые церкви, и посмел вмешиваться в ее дела? Возмущенный позицией Альфонсо, папа получил удобный предлог, чтобы начать войну против Феррары, о которой давно уже шла речь в Ватикане. В этом случае семейство д'Эсте, подобно Баньоли и Бентивольо, теряли свое извечное могущество. Как только удастся изгнать их из Феррары, Юлий II получит в распоряжение церкви огромную территорию.
Итак, очередное отлучение в еще более торжественной форме обрушивается на мятежный город. Папа, теперь уже в союзе с Венецией, срочно собирает армию. Он понимает, что намеревается выступить против Альфонсо, воинственного духа феррарской аристократии и преданности простых людей… и союзника Феррары, Франции, которая сделает все возможное, чтобы увеличить тяготы войны. И Юлий II, и Венеция понимали, что союз Франции с Феррарой, по сути, является ответом Людовика XII на антифранцузские настроения, лежавшие в основе мира, заключенного между папой и Венецией. «Эти французы лишили меня аппетита и сна, – заявил папа своему окружению, – но я надеюсь с Божьей помощью выдворить их из страны».
Те же самые слова произнес венецианский дож, освобождая из плена Франческо Гонзага: «Мы должны уничтожить французов, повторив подвиг Сицилийской вечерни, и назовем это Мантуанской вечерней». Теперь, когда папа и Венеция стали союзниками, вопрос с Франческо Гонзага решился сам собой. Его не только выпустили из тюрьмы; папа передал ему звание знаменосца церкви, отобранное у Альфонсо д'Эсте. Однако перед отъездом в Мантую маркиз должен передать сына Федерико в качестве залога своей благонадежности. Гонзага испытывает такую уверенность, что приказывает жене отправить ребенка в Венецию. Под различными предлогами Изабелла отказывается выполнять приказ мужа, давая понять, что она мать и ей решать судьбу ребенка. Юлий II вмешивается в спор и предлагает отправить мальчика в Ватикан, где он будет находиться на попечении людей, выбранных его матерью, и под непосредственным присмотром молодого герцога и герцогини Урбинских, Франческо Мария делла Ровере и Элеоноры Гонзага, старшей сестры Федерико. Но Изабелла все равно не отдает мальчика, заявляя, что испытывает невероятные мучения, и придумывая кучу различных оправданий. Это приводит к тому, что в один прекрасный день папа в гневе заявляет мантуанскому послу, что «эта подлая маркиза» продлевает мужу срок пребывания в тюрьме только для того, чтобы и дальше руководить государством, и что у маркиза есть все основания прийти в ярость, поскольку он уже не является пленником венецианской синьории. Со своей стороны «этот несчастный» Франческо пишет жене, что если она немедленно не отправит Федерико в Рим, то он задушит ее собственными руками. Его угроза не производит на Изабеллу никакого впечатления; ей прекрасно известна вспыльчивость мужа. В конце концов Изабелла уступает и отправляет сына к папе, не преминув публично продемонстрировать, что ее сердце разрывается от жалости к несчастному ребенку.
Объявленное папой отлучение Альфонсо от церкви вызвало сильную тревогу у Лукреции. Она испытывает невероятную тоску и усталость. Открыто не высказывая свое мнение, герцогиня, вероятно, осуждает д'Эсте за слишком опрометчивые действия, разрушившие мир в Ферраре. К счастью, маркиз Мантуанский, хоть и находясь на вражеской стороне, относится к ней лучше прежнего. Он не забыл, какую помощь оказала ему герцогиня. Узнав об освобождении Франческо Гонзага, Лукреция пишет ему теплое письмо, которое отправляет все с тем же Лоренцо. Судя по тому, что Лукреция готова была вновь и вновь слушать рассказ графа, маркиз ответил нежно и обнадеживающе. «Лоренцо, – спрашивает она, – могу ли я надеяться, что маркиз поможет мне и защитит меня в случае беды? Мое сердце разрывается от горя». Лукреция не верит ни в политику, проводимую д'Эсте, ни в возможности Альфонсо с его артиллерией, ни в военные таланты кардинала Ипполито. Герцог приложил все усилия, чтобы убедить жену, что она надежно защищена. Однако, когда папские войска повели наступление на Модену, Лукреция так испугалась, что решила спасаться бегством. Она принялась спешно упаковывать вещи, намереваясь отправиться в Парму или в Милан, находившиеся под защитой Франции. Когда жители Феррары услышали о ее приготовлениях, они направили в замок официальное заявление, в котором говорилось, что, раз жена герцога с детьми собирается покинуть город, каждый житель вправе поступать так, как считает нужным. Тогда Лукреция распаковала вещи, разложила ковры, повесила на место клетку с попугаем и вверила себя Господу Богу и маркизу Мантуанскому.
Ипполито д'Эсте вынужден уехать из Феррары, дабы избежать осуждения церкви, но перед отъездом он обратился с речью к горожанам. Со всей силой красноречия он призвал их набраться терпения и сохранять выдержку. Он заверил, что война является фатальной необходимостью, а не следствием борьбы двух личностей, оспаривающих собственные притязания. Феррарцы поклялись, что скорее предпочтут быть захороненными под собственными домами, чем станут свидетелями падения дома д'Эсте. «Кардинал стоит целого мира», – говорили они, расходясь с митинга; их одобрение относилось и к Альфонсо, который в это время занимался вопросами защиты города, укрепления крепостных стен и подготовкой артиллерии.
Страшный удар обрушился на Альфонсо: Франческо де Гонзага назначен знаменосцем церкви и капитаном венецианской армии, что автоматически переводило его в разряд главных врагов Феррары. Возможно, Альфонсо был излишне самонадеян, полагая, что сестре удастся сохранить нейтралитет. Но как мог Гонзага сказать «нет» своим союзникам, к тому же удерживающим его сына в заложниках? Отношения между д'Эсте и Гонзага не могли заставить Франческо пожертвовать своим новым положением. Осенью 1511 года взят в плен Мазино дель Форно, и, поскольку он был, по словам папы, «пособником кардинала Феррарского и виновником многих предательств и убийств», все складывалось против него. Действительно, Мазино присутствовал при избиении дона Джулио, а значит, по крайней мере один раз он был сообщником преступления. Но был ли он преступником? Не заходим ли мы слишком далеко, обвиняя его в убийстве Эрколе Строцци? С этого момента в дело было решено вовлечь маркиза Мантуанского. Архидьякон Габбионетта, пользовавшийся доверием папы и Гонзага, попросил маркиза срочно прибыть в Болонью, где Юлий II хотел бы поговорить с ним о фактах, напрямую касающихся его, которые были выявлены в ходе следствия над Мазино дель Форно. Вероятно, папа под страхом отлучения от церкви запретил архидьякону объяснять суть вопроса в письме; он только предупредил, что Альфонсо и Ипполито затевают против маркиза «ужасные вещи». В этот момент сразу же приходит на ум загадочный посредник М., который в 1508 году сыграл роль провокатора, посетив Лукрецию и маркиза и пытаясь заставить последнего приехать в Феррару.
Был ли Мазино дель Форно этим загадочным М.? И не семейство ли д'Эсте подготовило западню для своего родственника Гонзага? Мы уверены в одном: как только Гонзага получил письмо, датированное 26 сентября, он отправился в Болонью и 30 сентября принял командование венецианской и папской армиями.
У союзников был один противник, который не уступал мужским желаниям, – Изабелла д'Эсте. Она была не в восторге от идеи уничтожить брата, поскольку это повлияло бы на могущество Мантуи, и знала, что у мужа нет иного выхода, как следовать предписанным ему путем. Изабелла быстро сориентировалась, произвела расчеты и приняла решение. На своей стороне По она будет поддерживать папскую и венецианскую армии, но будет сообщать братьям, находящимся на другой стороне реки, о вражеских перемещениях и попытается, насколько возможно, препятствовать действиям мужа. Она начала кампанию с того, что позволила французам, идущим из Милана на помощь Ферраре, пройти по территории Мантуи, и приказала посланникам ссылаться на то, что она была вынуждена подчиниться силе. Курьеры ежедневно пересекали реку и умудрялись за несколько часов покрывать расстояние между Феррарой и Мантуей. Венецианцы в скором времени проведали об этом и донесли папе о преступных действиях Изабеллы. Понтифик обрушил гнев на свое окружение, но люди, тайно преданные Изабелле, например архидьякон Габбионетта сделали все возможное, чтобы заглушить подозрения понтифика. Благодаря этому Изабелла продолжала поддерживать связь с братьями и помогала им людьми и оружием. Она даже взяла на себя смелость заложить часть драгоценностей Лукреции, в том числе великолепный изумруд, который тронул сердце Бембо. Она постаралась убедить мужа, что он все еще очень болен, чтобы выступать в поход против Феррары, тем самым давая союзникам возможность закончить оборонительные работы. Венецианцы шумно высказывали свое негодование. Папа, в восторге от собственной хитрости, приказал одному из своих врачей отправиться в Мантую и проверить состояние здоровья знаменосца церкви; ему бы никогда не пришло в голову, что за 10 дукатов доктор мог подтвердить плохое самочувствие маркиза.
В середине декабря папа, несмотря на преклонный возраст (шестьдесят семь лет!), подагру и холода, решил лично возглавить армию. Вместе с кардиналами и епископами он провел смотр войскам. Их также сопровождал друг папы, архитектор Браманте Урбинский, с которым вечерами после обсуждения плана кампании папа мог читать и комментировать «Божественную комедию». Данте как нельзя лучше устраивал Юлия II. Когда папа сопровождал поэта в странствиях по Аду, проходил через Чистилище и Рай, он оказывался в мире, с которым составлял одно целое, освобождался от земных пут и попадал в суровое и прекрасное царство. Он не любил войну ради войны и рассматривал ее лишь как необходимое условие для существования общества, основанного на суровых законах справедливости. Его привлекали глобальные планы и предложения. К примеру, проект большого крестового похода с участием европейских стран за освобождение Востока, предложенный Шотландией в тот самый момент, когда он (Юлий II) завяз в войне с Феррарой. Несмотря на всю неприязнь, испытываемую к д'Эсте, папа не собирался с помощью войны решать собственные проблемы. В январе он выступил с мирными предложениями: Феррара остается Альфонсо, а Модена с только что завоеванными территориями отходит церкви. Альфонсо, и в первую очередь французы, ошибочно решили, что эти предложения продиктованы страхом, и отклонили их. Папа ответил осадой Мирандолы, одной из наиболее укрепленных крепостей д'Эсте.
Упорное сопротивление осажденной стороны и непримиримость осаждающей увековечили осаду Мирандолы в анналах военного искусства. Папа, забывая о возрасте и плохом самочувствии, в ветер и снег заставлял армию вновь и вновь штурмовать несокрушимую цитадель.
Советники Юлия II отговорили его оставаться в крепости; левый фланг армии понтифика подвергался опасности, поскольку Мирандола располагалась на передовой линии фронта. Оставив гарнизон в Мирандоле, Юлий II, чудом избежав ловушки, вернулся в Болонью. Из Болоньи он двинулся внутрь Романьи, в Имолу – бывший штаб Чезаре Борджиа. Правительство Болоньи возглавил кардинал Алидоци, столь же красивый и порочный, сколь ленивый и неумелый. Едва заслышав о восстании в Болонье, этот кардинал помчался в Кастель-дель-Рио, а оттуда в Равенну, где племянник папы Франческо Мария делла Ровере с криком «Предатель!» набросился на него и убил. В Болонье творилось что-то невообразимое. Воспользовавшись беспорядками, Бентивольо при поддержке французов напал на город и разогнал немногочисленную оборону. Ликующий народ разбивает статую Юлия II работы Микеланджело. Бентивольо вновь становятся тиранами Болоньи.
Но и это еще не все. Людовику XII приходит в голову опасная идея: необходим новый папа, причем француз. Король начинает атаку на Юлия II; он подвергает сомнению законность пребывания папы на этом посту и его соответствие занимаемому положению. Людовик предлагает заняться розыском женщин, с которыми у папы были интимные отношения, а затем, собрав необходимый материал, устроить суд над главой церкви, обвинив его в безнравственности. Удалось найти трех женщин, и хотя эти новости, возможно, расстроили кое-кого, но не вызвали никакого резонанса ни в Италии, ни за границей. Куда более важным оказалось создание в Пизе совета кардиналов-раскольников, который занялся обсуждением предъявленных обвинений и свержением папы. На стенах кафедрального собора появляются буллы, подписанные кардиналами Брисонне, Сан-Северино, Франческо Борджиа, Ипполито д'Эсте и Карвахалом. Но не так-то просто справиться с Юлием II; он прекрасно осведомлен по всем вопросам, касающимся церкви, и у него на все есть готовый ответ. Нащупав слабые места в буллах, папа мечет молнии со Святого престола в раскольников, отлучает их от церкви и лишает званий и должностей. Кому только могло прийти в голову свергнуть столь могущественного и грозного папу?
Герцог и герцогиня, оказавшись на краю гибели, предсказанной еще при падении Мирандолы, собираются с духом. «Так почитаются нами Марс и Венера, господствующие теперь над всем миром», – заявил Бернардо дей Проспери. И это не было преувеличением.
Прибыли французы. Солдаты-наемники не отличались особой щепетильностью; они насиловали женщин, занимались мародерством, в то время как их командиры представляли сливки французской аристократии – галантные кавалеры, словно герои средневековых легенд о рыцарях, готовые прямо с поля боя мчаться на бал с той легкостью и беззаботностью, что и является истинной храбростью. К культурным манерам итальянцев (о них несколько позже напишет Бальтазар Кастиглионе в «The Courtier») и гуманистическому великолепию двора, не допускавшему чрезмерной свободы, французы добавили свойственные их темпераменту огонь и энергию. Герцогиня давала балы и приемы, и французы не могли удержаться от восхищения. Возвращение Бентивольо в Болонью сопровождалось всенародными торжествами в Ферраре. Празднично одетые горожане, женщины, украсившие волосы цветами, устремились по широким улицам к герцогскому дворцу, утопающему в свежей зелени.
Альфонсо, оценив растущую день ото дня значимость герцогини, попытался освободить ее от забот. Если д'Эсте знали, что Лукреция переписывается с маркизом Мантуанским, то сейчас следовало окружить Лукрецию любовью и нежностью, чтобы затем, используя ее, заманить Гонзага в ловушку. Ничего страшного не случится, если они пару раз встретятся. Итак, возобновились поездки Лоренцо Строцци, доставляющего письма обоим адресатам.
Франческо Гонзага почувствовал новый прилив любви. Теперь уже Лукреция была пленницей, удерживаемой в городе венецианскими и папскими войсками. Она умоляла о помощи, и он слепо доверился ей. Гонзага приходилось следовать советам жены, но глубоко внутри (Изабелла и не подозревала об этом) у него росла бешеная злоба. Несмотря на то что ему хотелось продолжить роман с Лукрецией, приходилось притворяться больным.
Гонзага попросил герцогиню написать несколько слов своей рукой, это будет таким утешением для него! Любовники по-прежнему использовали язык символов; слова «сокол» и «сокольничий» многократно повторяются в их письмах. Лукреция сообщает, что собственноручно напишет письмо тут же, как только он сам попросит ее об этом, поскольку не сможет ему отказать. Большая часть любовных писем Гонзага приходится на этот период вынужденного безделья. Испытывая легкие сомнения, Лукреция медлит с ответом. Приближается Пасха, и она, по обыкновению, удаляется в монастырь, по всей видимости захватив с собой письмо Гонзага.
Но теперь она отправляется уже не в монастырь Тела Господня, а в собственный, основанный после 1510 года. Она поместила в него самых любимых монахинь; они улыбались, когда улыбалась она, а если она горевала, то и они горевали вместе с ней. Этот второй дом, в котором никто не мог нарушить ее покой, располагался во дворце Номеи, у стен которого в июне 1508 года было найдено тело Эрколе Строцци. Вероятно, это обстоятельство определенным образом повлияло на ее выбор. Внешний облик здания остался неизменным, но над входом была выбита пламенеющая роза, эмблема святого Бернардина. Настоятельницей монастыря Святого Бернардина Лукреция назначила Лауру Байярдо из монастыря Тела Господня. Среди послушниц находилась еще одна Лукреция Борджиа, незаконнорожденная дочь Чезаре, уехавшая из Рима в 1507 году. Там, в монастыре, где война казалась чем-то нереальным, по окончании Пасхи Лукреция написала Гонзага.
Она извинялась за задержку с ответом, но была уверена, что он поймет ее сомнения, поскольку ей не хотелось «беспокоить Вашу Светлость во время святых дней». Разве могла она упоминать о «соколе», принося покаяние? Но Франческо может не сомневаться, что «сокол» очень хорош и даже стал еще лучше и «им интересуются намного больше, чем духовник – делами прошлого». Но, спешит добавить Лукреция, дабы успокоить свою совесть, это было сказано «без намерения оскорбить Бога или нанести вред соседу». Затем Лукреция игриво попеняла маркизу, что его письма излишне наполнены земной любовью. Она его тоже любит, но как «повелителя и брата».
Солнечный сад, атмосфера, царившая в монастыре, аромат ладана – все это невольно придавало письму Лукреции нежность, если не сказать невинность. Он должен знать, что она поняла, на что он намекает, и, хотя ее ответ продиктован долгом, она наслаждается его письмами. Ее слова не могли вызвать недовольство Гонзага, поскольку он отличался набожностью. Он наслаждался любовью, которая на старости лет вдохнула в него новую жизнь, сохранив при этом благочестие и набожность. Думая о Лукреции, он чувствовал, как к нему возвращается молодость, а осознание того, что она находится в опасности, будило в нем новые силы и рождало надежду, что в один прекрасный день она появится в Мантуе и будет полностью принадлежать ему. Фантазия, похоже, могла обернуться реальностью, и маркиз, действуя так, словно все решено, уже обдумывал, как следует поделить трофеи, и попросил папу передать ему полномочия в отношении жены герцога Альфонсо.
Такая просьба могла бы показаться невероятной, если бы не письмо, датированное 23 января 1511 года, в котором откровенно изложено это требование. После заверений личного консультанта папы, архидьякона Габбионетты, что, если Альфонсо д'Эсте схватят на территории Мантуи, его немедленно передадут папе, Гонзага еще раз обратился с просьбой, чтобы было проявлено максимальное снисхождение к «герцогине, бывшей Феррарской [папа заявил, что лишает Альфонсо титула]. В наших силах обеспечить ее безопасность, поскольку только она одна среди всех наших родственников поддержала нас, когда мы находились в плену в Венеции, а это обязывает нас проявить благодарность; никто не проявил к нам такого сострадания, как эта бедная девочка». Гонзага сгорает в нетерпеливом ожидании своей «бедной девочки». (Из этого письма и стало известно, что Лукреция поддерживала Гонзага во время его заточения в Венеции.)
Папа, вероятно, пообещал Лукрецию маркизу или дал понять, что согласен, поскольку Франческо начал приводить в порядок апартаменты во дворце, у церкви Сан-Себастьяно. Он подбирал картины, ковры и мебель, и о каждом приобретении сообщал Лукреции. Только не подумайте, что он намекал на обстоятельства, связанные с этими приготовлениями, конечно же нет, он просто описывал ей ту обстановку, которую она увидит, приехав к нему. Ведь дом оборудован специально для нее. «Позвольте нам надеяться, что после всех треволнений нам удастся вместе наслаждаться всем этим», – с благодарностью отвечала Лукреция. Маркиз мечтал, когда в этой комнате, под потолком, изображающим небо, после долгих разговоров, он, спаситель, наконец-то склонится над своей возлюбленной. Теперь его жизнь наполнилась до краев, и казалось, что уже нет места никаким желаниям. Где-то далеко шли бои, а Франческо Гонзага часами наблюдал за работой художников и декораторов, украшавших апартаменты. И когда мастера развернули разноцветные гобелены, в которых превалировали любимые Лукрецией коричневые тона, в памяти всплыла изысканная строчка Никколо да Корреджо, которая, казалось, написана специально для того, чтобы объяснить ему и Лукреции значение цвета и их дружбы:
Е chi veste morel secreto sia… Непостижимы те, кто носит этот цвет коричневый…Лето подошло к концу. Тяжело заболел Юлий II, что тут же отразилось на военных действиях, уже нет прежнего воодушевления. Воспользовавшись этим обстоятельством, Лукреция едет на воды в Реджио поправить здоровье. Вероятно, воды были просто удобным предлогом, на самом деле она надеялась повидаться с маркизом, приехавшим из Боргофорте. Реджио означало надежду, и нежная природа рождала неясные предчувствия: что-то может произойти, но что? Если в непривычный час хлопала дверь, она бледнела и воображала, что это прискакал с севера всадник. Лукреция настолько любила Реджио, что 4 октября 1511 года, хотя уже закончилась эпидемия чумы, она отправила письмо в Остеллато, где в это время охотился Альфонсо, с просьбой разрешить ей остаться в Реджио и прислать туда детей Эрколе и Ипполито (он родился в 1509 году). «Дети останутся тут, такова воля хозяина», – последовал ответ Проспери. Папа выздоравливает, а значит, скоро возобновятся военные действия; мальчикам д'Эсте лучше оставаться в замке. Лукреция возвращается в Феррару, куда понаехало много новых знаменитостей и царит веселое оживление.
Теперь, когда герцогиня хорошо отдохнула и чувствует себя совершенно здоровой, она готова вернуться к прежней жизни. С помощью маэстро Джерардо и маэстро Бартоломео она изобретает «неслыханные» фасоны; уроки Эрколе Строцци не прошли даром, у Лукреции развился отменный вкус. Она устраивает бесконечные балы и вечеринки с пением, танцами, играми. Пока жена веселится, Альфонсо, вооруженный только жезлом, предприняв атаку против войск понтифика при Ла-Бастиде, добивается победы, после которой его сравнивали с Геркулесом, вооруженным дубиной. По возвращении в Феррару ему пришлось сбрить волосы из-за ранения в голову, и не только двор, но даже весь город были больше захвачены разговорами о бритой голове, чем о доблести герцога. Подражая герцогу, некоторые придворные тоже обрили голову, и девушки не могли без смеха смотреть на эту «бритую компанию». А вот кардинал д'Эсте вернулся в Феррару с бородой, которая вызвала обсуждение даже при дворе в Мантуе и невероятно забавляла Изабеллу. Ее шутки не произвели никакого впечатления на высокомерного кардинала. «Ваша Светлость [Изабелла], – отвечает Ипполито, – должна запомнить, что мне никто не может быть указчиком». Однако эта маленькая размолвка не помешала кардиналу заручиться поддержкой сестры, чтобы вернуть часть своего имущества, оказавшегося в руках врага, и главное, флейты, «поскольку они обладают превосходными качествами, и мне было бы больно потерять их». Язык не повернется сказать, что жизнь при дворе была тусклой и безрадостной; все эти новые прически, наряды, шутки, любовные романы, праздники, флейты, виолы, ужины на открытом воздухе и дурачества клоунов занимали вни-мание всего герцогского двора. Лаура Гонзага и Лукреция д'Эсте проехали через Феррару по пути в Болонью и были встречены просто по-королевски. Народ приветствовал их, распевая песни, сочиненные специально по этому случаю:
II Papa se sogna che volendo Ferrara perdera Bologna. Папе следовало знать: Хочешь Феррару получить, Придется с Болоньей расстаться.Французы, сновавшие туда-сюда через Альпы с сообщениями о последних военных новостях и рассказами о феррарских праздниках, с таким восхищением говорили о герцогине, что пробудили любопытство королевы Анны Французской и она захотела увидеть Лукрецию. Итак, после окончания войны планировалось нанести визит во Францию. Первой, кто узнал об этом, была Изабелла. Она засыпала Альфонсо вопросами: так ли это на самом деле, когда они поедут, каким путем, кого они возьмут с собой и так далее. Альфонсо ответил наилучшим образом, заявив, что она узнает обо всем в свое время. Правда, уже стали известны имена придворных дам, которые будут сопровождать Лукрецию в этой поездке, среди них были Кассандра и Джеронима, жена доктора Людовико Боначчьоло. Доктор входил в число тех, кто сопровождал Лукрецию, когда она впервые прибыла в Феррару из Рима, и только ему одному удалось остаться в Ферраре. Но визит во Францию так и не состоялся. Среди тех, кто с особым восторгом говорил о герцогине, был некий капитан Фондраглия и рыцарь Байярдо. Известный панегирик Лукреции, написанный преданным слугой, раскрывает сердце восхищенного рыцаря: «Каждому прекрасная герцогиня, являющаяся жемчужиной этого мира, оказывает особый прием, ежедневно дает балы и устраивает изумительные празднества на итальянский манер. Смею утверждать, что никогда прежде я не встречал такой блистательной принцессы; она красивая, доброжелательная, любезная, мягкая и обходительная. Она знает испанский, греческий, итальянский и французский языки, немного латынь и сочиняет на всех этих языках. Нет ни малейших сомнений, что именно благодаря этой самой даме ее умный и храбрый муж так хорошо справляется со своими обязанностями».
Сама же Лукреция нашла собственный способ осуществления господства – с помощью присущей ей учтивости и обходительности. Она завоевывала власть, как тонко заметил французский наблюдатель, давая каждому почувствовать, – здесь улыбкой, там жестом, – что между ними существует тесная связь взаимопонимания. Теперь, когда она счастлива и свободна и мысль о маркизе пьянила ей голову, она перестала ощущать на себе подозрительные взгляды д'Эсте. Ей легко, как никогда прежде, дышалось в Ферраре. Она чувствовал себя свободной и независимой; даже в Риме она никогда не испытывала таких чувств. Лукреция невероятно благодарна этим очаровательным французам, а они не перестают удивляться контрасту между ее почти кощунственным происхождением и невинным лицом, доброжелательностью и мрачными рассказами о ее прошлом, изящной красотой и тяжелыми, припухшими веками. При дворе велись разговоры о поэзии, музыке и любви или, выбрав партнера, разучивались французские, итальянские или испанские танцы. Тени Бембо и Эрколе Строцци присутствовали во всех разговорах Лукреции. В атмосфере рыцарства и галантности герцогиня, одетая в восхитительный венецианский и флорентийский бархат, с волосами, украшенными драгоценными камнями, окруженная самыми красивыми женщинами города, при каждом удобном случае пела дифирамбы главному капитану вражеской армии Франческо Гонзага. Ну какой еще двор мог похвастаться такой галантностью по отношению к врагу? Во время приемов герцогиня не могла удержаться от похвал в адрес друга, и французам это казалось верхом галантности, воплощением обычаев Роланда и короля Артура. Позвольте заметить, что это, конечно, было преувеличением, поскольку нам известно, по какой причине Гонзага помогал Ферраре, но это поднимало боевой дух французов и феррарцев, ожидающих часа сражения и очарованных нежным голосом герцогини и улыбками придворных дам.
Следующим событием стало появление Гастона де Фуа, молодого французского генерала, красивого и храброго; при виде его женщины приходили в неописуемый восторг. За время пребывания в Ферраре генерал поучаствовал во всех проводимых в замке праздниках. Из Феррары он проследовал в Болонью, осажденную папской армией, освободил семью Бентивольо и вновь вернулся в Феррару. Лукреция завладела его воображением. Генерал не мог устоять перед великолепием двора; со своей стороны он внес свойственную ему живость и энергию, как в свое время это сделал Александр VI в Ватикане.
20 февраля 1520 года в Ферраре стало известно, что французы освободили Брест. Герцог устроил блестящий (исключительно для мужчин) ужин, а герцогиня дала бал. Этот год, отметивший начало иностранного господства в Италии, как ни один другой, отличался невероятным количеством праздничных торжеств и любовных романов. В то время как французы находились в Ферраре, союзники папы, испанцы, выгрузились в Неаполе. Их встретил роскошный и благопристойный неаполитанский двор. Вновь прибывшие делили время между занятиями военным делом и весельем, соревнуясь в любви, галантности, остротах и виршах. Эти воины в ожидании будущего сражения всеми силами старались понравиться дамам. Беда в том, что они слишком серьезно относились к собственным персонам, вызывая еще больший смех. Разве не был смешон маркиз де Пескара, муж Виттории Колонна, одетый в желтый бархатный камзол, украшенный вышитым серебром девизом, или в костюм из белой парчи и желтого атласа, расшитый перьями?
Но всяким развлечениям когда-то наступает конец. Папская и испанская армии под командованием Раймондо де Кар дона (Франческо Гонзага продолжал болеть в Мантуе) двинулись вперед. Глаз было не оторвать от этого великолепия: превосходное оружие, камзолы, расшитые золотом, попоны, украшенные серебром и драгоценными камнями, бархат, парча, знаки отличия, плюмажи и, конечно, кони, главным образом арабские. Из Феррары вышлаармия, не такая блестящая, зато оснащенная артиллерией. Особую гордость Альфонсо вызывает пушка, названная «Юлианой», отлитая из обломков бронзовой статуи Юлия П. Герцог Альфонсо, или, как его называли соратники, Землетрясение, командовал артиллерией. Общее командование армией осуществлял генерал Гастон де Фуа.
Армии сошлись 11 апреля 1512 года у Равенны. Бой длился с утра до четырех часов дня под непрерывный грохот артиллерийской канонады. Вот что об этом сражении писал своему брату Якопо Гуиччиардини: «Это было ужасно… каждый удар сносил шеренгу врага, поднимая в воздух отдельные части человеческих тел: оторванные головы в касках, руки и части туловищ». Храбрость французско-феррарской армии не могла сравниться с невероятной отвагой испано-папской армии, продолжавшей героически сражаться под ураганным огнем. Опьяненные боем, в состоянии своего рода воинственной эйфории, воины умирали с улыбкой на губах. Этот кровавый день закончился гибелью десяти тысяч человек, и среди них одним из первых погиб генерал Гастон де Фуа. Вечером И апреля испанцы были выбиты из Равенны. Город подвергся страшному разграблению. Все богатство папской армии, серебро, лошади, оружие, драгоценные камни и 300 тысяч дукатов досталось в качестве трофеев французам, оставшимся в живых. Да, их шеренги заметно поредели, и вскоре Ариосто написал:
Вдовы повсюду во Франции, В трауре, с заплаканными лицами.Гастон де Фуа был 12 апреля похоронен в Ферраре, и его похороны явились настоящим апофеозом рыцарства. Со смертью генерала судьба отвернулась от французов. Новый командующий, монсеньор ла Палисс, не снискал авторитета в армии. Начались разногласия между французами и ландскнехтами, присланными императором Максимилианом в помощь Альфонсо. В это же время в Риме начались беспорядки, и Юлий II приготовился защищать замок Сант-Анджело. Швейцарцы под командованием кардинала Шиннера, двинувшиеся на защиту папы, уже переходили Альпы.
По всей Италии вспыхнули антифранцузские восстания. Сначала Генуя, за ней Римини и Равенна освободились из-под власти французов. Швейцарцы, испанцы и итальянцы, поспешившие им на помощь, освободили Парму, Пьяченцу, Павию и даже Асти, являющуюся частью наследия французской короны. Прошло меньше двух месяцев со дня победы в Равенне, а французы уже ушли за Альпы, оставив о себе героическую память. Юлий II, вдохновитель и организатор движения сопротивления, сиял от счастья, когда римляне скандировали на улицах: «Юлий! Юлий!»
Феррару ожидали бурные времена. В распоряжении Альфонсо была артиллерия, большое число пленных и довольна значительная армия. Как только Альфонсо остался один, без союзников, он сразу же отошел за стены Феррары и затаился, стараясь не раздражать папу. Шли дни, а предпринятая им политика не давала результатов. Ему следовало принять адекватное решение, не дожидаясь инициативы со стороны папы, что в сложившейся ситуации могло грозить Ферраре бедой. Прикинув возможные варианты, Альфонсо решил, что наилучшим вариантом в сложившейся ситуации окажется раскаяние. Нужно отправиться в Рим и, разыграв сцену повиновения, просить о помиловании. Изабелла д'Эсте взяла на себя ответственность за переговоры с папой о безопасности Альфонсо. Юлий II согласился принять герцога, пообещав, что ему ничего не угрожает в Риме. Изабелла привозит в Феррару папское разрешение, и город встречает ее словно освободителя.
24 июня 1512 года герцог Феррарский, оставив управление городом на Лукрецию и кардинала Ипполито, вместе с Фабрицио Колонна отправляется в Рим. Они приезжают в Рим 1 июля и останавливаются во дворце Сиджизмондо Гонзага. Федерико Гонзага, племянник Альфонсо, живущий в Риме на правах заложника, сообщает им обнадеживающие новости о настроении папы. Вначале, казалось, все идет как надо. 9 июня Альфонсо, одевшись соответственно случаю (все-таки он шел каяться), отправился в консисторию, чтобы предстать перед папой. Последовала одна из тех сцен покаяния, которые устраиваются во имя Божественной силы и, следовательно, не оскорбляют достоинства кающегося. После долгих мучительных дней, проведенных в неопределенности, прощение понтифика вызвало у Альфонсо слезы облегчения. Отлучение от церкви было снято со всех членов семейства д'Эсте и с герцогства в целом; церемония закончилась ужином в доме кардинала Луиджи Арагонского. Теперь оставалось только выяснить условия мирного договора.
Когда папа выставил условия, стало ясно, что ни о каком послаблении не может быть и речи. Освобождение дона Ферранте и дона Джулио оказалось самым простым из выдвинутых условий (хотя Изабелла ратовала за освобождение младших братьев, в данной ситуации это условие казалось ей «неподходящим»). Но это было ничто по сравнению с основным требованием. Альфонсо должен отказаться от Феррары в пользу папы, получив взамен Асти. Это означало крах династии д'Эсте, а на это Альфонсо никогда не согласился бы. Герцогу не оставалось ничего другого, как бежать из Рима и укрыться в Марино, крепости Колонна, прекрасно известной папе, поскольку ему самому часто приходилось скрываться там во времена Александра VI. В то время как Юлий II изрыгает проклятия на голову герцога, семья Колонна отплачивает Альфонсо за гостеприимство, которое он в свое время оказал главе их семьи, скрашивая его вынужденное заточение охотой и веселыми пирушками. Но пора приниматься за дело. Ал ьфонсо пишет в Феррару, что в скором времени вернется домой.
В конце августа в Бари от болезни умирает тринадцатилетний сын Лукреции Родриго Арагонский, герцог де Бисельи. Узнав страшную новость, Лукреция немедленно удаляется в монастырь Сан Бернардино, но эту рану исцелить непросто.
Лукреция всегда помнила о своем маленьком сыне, и Григоровий только по причине душевной глухоты мог обвинять ее в отказе от сына. Разве могла она забыть об этом необыкновенном свидетельстве любви между ней и герцогом де Бисельи! Даже находясь в разлуке с сыном, Лукреция продолжала нежно заботиться о нем; в архиве д'Эсте хранятся документы, свидетельствующие о привязанности герцогини к Родриго. Она назначала управляющих, следила за тем, как они ведут дела в герцогстве Бисельи и, если ее что-то не устраивало, меняла управляющих.
Лукреция не ограничивалась заботами о герцогстве; не в меньшей степени она заботилась о ребенке. С самого раннего возраста Родриго был передан на попечение веселой и простодушной няне Катерине. Отправляя подарки сыну, Лукреция никогда не забывала о Катерине. Из расходных книг Лукреции видно, какие подарки делались тем, кто опекал ее маленького сына: вышитые рубашки, бархатные камзолы, шелковые шляпки, игрушки и детские шпаги из позолоченного дерева в отделанных бархатом ножнах. Пожалуй, чаще всего Лукреция посылала подарки Изабелле Арагонской, герцогине Бари, при дворе которой рос маленький Родриго. Великолепная экс-герцогиня Миланская заботилась не только о сегодняшнем дне ребенка, но и о его будущем. Энергичная и откровенная, она содержала один из известнейших дворов, где смело бросала вызов надвигающейся старости. Она часто бывала в Неаполе и, вероятно, брала с собой сына герцогини Феррарской. Лукреция и туда посылала подарки. Самый оригинальный подарок Лукреция сделала дочери Изабеллы – красавице Боне Сфорца, впоследствии ставшей королевой Польши. Это была кукла – «маленькая деревянная девочка, копия настоящей», одетая как Лукреция. Спустя несколько лет Франциск I отправит Изабелле д'Эсте такую же куклу, только «одетую как маркиза».
Лукреция ужасно тосковала по сыну. В 1504 году она попыталась привезти его в Феррару. Увы, из этого ничего не вышло. Известно, что 24 июля 1506 года Лукреция собиралась поехать в Лорето, чтобы встретиться с герцогиней Бари и маленьким Родриго и забрать ребенка с собой в Феррару. Но именно в то лето был раскрыт заговор дона Джулио, и не могло быть и речи ни о каких поездках.
Теперь же Лукреции оставалось только плакать и молиться. Кардинал Ипполито навещал ее в монастыре, ине было никакого способа скрыться от него. Она должна была выслушивать его равнодушные соболезнования и делать вид, что радуется скорому возвращению Альфонсо. Кроме того, пора было заняться траурной одеждой, и ей пришлось принимать портних. И наконец, следовало распустить маленький двор герцога де Бисельи в Бари и вступить в наследство.
Лукреция не отваживается слишком долго соблюдать строгий траур. Выяснив, что Альфонсо действительно скоро приедет в Феррару, она переодевается в коричневые тона. Альфонсо под прикрытием Просперо Колонна, кузена Фабрицио, выехал из Марино 20 сентября. Колонна предполагал присоединиться к испанской армии на севере Италии. По прибытии в Тоскану Альфонсо прощается с Колонна и, изменив внешность, тайно пробирается по папской территории. Ариосто, по свидетельству Каталано, с несколькими феррарцами выезжает встретить герцога в Тоскану. Он тревожно вслушивается в ночную тишину и каждый раз, заслышав топот копыт, воображает, что на них наступает враг. Зато Альфонсо лишний раз доказал, что его нервная система в порядке. Полностью одетый, он крепко спал на соломенном матрасе. Перед появлением в Ферраре Альфонсо переоделся. Не мог же он позволить себе появиться в городе в нищенских лохмотьях.
Собравшийся на площади народ под звон колоколов радостно приветствовал возвращение герцога Феррарского. Жена ожидала его во дворце. Альфонсо с трудом выдержал радостные объятия членов семьи, а затем изъявления почтения прибывших гостей. Эрколе и Ипполито, пребывая в состоянии немого обожания, не отрывали взглядов от отца (Ипполито впоследствии станет кардиналом). Несмотря на царившее вокруг радостное оживление, герцог уже обдумывал планы ведения войны против папы. В этот день он долго совещался с кардиналом Ипполито, и принятое решение явственно читалось на их лицах.
Ипполито заинтересован в кардинальской шапке, которую он чудом сохранил в период создания совета кардиналов-раскольников, и теперь решил ее передать брату.
Сам он хотел занять нейтральную позицию, отправившись в далекое епископство в Венгрию. Альфонсо серьезно занялся вопросами вооружения имевшейся в его распоряжении армии; Лукреции даже пришлось заложить кое-что из своих драгоценностей. В настоящее время на посту главного капитана папской армии находился племянник Юлия II, Франческо Мария делла Ровере, герцог Урбинский, бывший зятем Гонзага Мантуанского. Он передал Альфонсо, что будет действовать против него «как можно мягче». Но те, кто видел папу при штурме Мирандолы, предвидели неизбежность падения Феррары. В конце февраля, когда папская армия уже выступила в поход на Феррару, Юлий II неожиданно умирает.
За время десятилетнего правления он неоднократно доказывал свою неординарность, проявлявшуюся даже в свойственной ему несдержанности. Его царствование было отмечено многими достижениями, говорящими о величии его души. При нем была осуществлена закладка нового собора Святого Петра, появились «Stanze» Рафаэля в Ватикане, «Моисей» Микеланджело и роспись Сикстинской капеллы, начались серьезные изменения, приведшие в итоге к реформе церкви, и велась борьба с иностранным засильем в Италии. Он не боялся жизни и мужественно принял смерть. Он не забыл кардиналов-раскольников, источник постоянного раздражения; они могли повлиять на следующий конклав, и Юлий II слабым голосом, но в сильных выражениях требовал ни в коем случае не ослаблять и не разделять силы церкви. Он уговаривал кардиналов выбрать следующего папу законным путем, каялся в совершенных грехах и заявил, что искренне прощает своих врагов. Юлий II умер 21 февраля 1513 года. Рим оплакивал понтифика. Длинные очереди выстроились к собору Святого Петра; люди хотели последний раз увидеть того, кто вызывал их доверие.
А вот в Ферраре людям хотелось звонить в колокола и возносить благодарственные молебны. Конец войне! Несмотря на настойчивые требования герцога Альфонсо поостеречься демонстрировать столь явно свою радость, Лукреция переходила от одного алтаря к другому, воздавая хвалу Господу за освобождение мира от «этого Олоферна», посылая его «вести войну в другом месте». Когда стало известно, что вновь избранным папой стал друг д'Эсте – Лев X, Феррара не смогла сдержать радостного возбуждения. Вновь избранным папой стал Джованни дей Медичи, сын Лоренцо Великолепного, давший впоследствии название целой эпохе и присвоивший себе достижения Юлия II. Позже Лев X стал тайным врагом Феррары, хотя из-за природной трусости не отваживался открыто заявлять об этом. Секретарями нового понтифика стали Садолето и старинный друг Лукреции Пьетро Бембо. Разве мог Бембо забыть Феррару? Конечно же нет. Он был рад возможности оказывать помощь и поддержку Лукреции, и добился восстановления ее во всех правах, которые она имела при Александре VI. Мало того, ему удалось уговорить папу на конфирмации стать крестным отцом маленького Эрколе. В связи с этим событием Лев X прислал ребенку медаль с изображением Геркулеса, сражающегося с гидрой.
Однако папа не спешил снять с герцога Феррарского обвинения, выдвинутые Юлием II. Лукреция считала, что папа руководствуется осторожностью, затягивая с решением этого вопроса. Такого же мнения придерживались и купцы, вернувшие заложенные Лукрецией драгоценности. По их мнению, «дела Феррары» находились теперь «в совершенно другом положении, чем в те времена, когда герцогиня закладывала драгоценности». Опасность войны миновала, и жизнь постепенно входила в привычное русло. К этому периоду относится серебряная медаль с изображением Лукреции и Альфонсо. До недавнего времени считалось, что это изображение не могло быть сделано с натуры. Тем, кто знаком с портретами герцогини, совершенно ясно, что ее профиль, изображенный на медали, является точной копией медали, на которой она изображена с волосами, заплетенными в косу и покрытыми тончайшей сеткой, или почти точной копией того портрета (с той лишь разницей, что на нем она изображена анфас), где она сидит в окружении придворных дам. Художник не смог соблюсти пропорции, и на портрете довольно большая голова герцогини резко контрастирует с небольшими головками придворных дам, располагающихся у нее за спиной; зато найдено умное решение относительно фигуры маленького Эрколе.
Даже если не рассматривать этот портрет с точки зрения реального сходства с Лукрецией, он дает нам представление об окружении герцогини, об изяществе и богатстве тиранов начала XVI века. Феррара и семья д'Эсте видела, сколь послушна Лукреция их воле, хотя их победу следует скорее отнести к обстоятельствам, продиктованным тем временем, нежели к ее искреннему согласию. Теперь, когда в пылу войны Альфонсо едва не потерял герцогство, он решил вернуться к политике «равновесия сил», проводимой его отцом, старым герцогом Эрколе, но, приспособив ее к новой ситуации (правда, от военных учений он так никогда и не отказался). В отличие от мужа Лукреция продолжила исполнять роль герцогини, как и прежде. Франческо Гонзага решил, что излечился от сифилиса, и сообщил придворным, что готов «осуществлять брачные отношения». Его желания могли касаться как собственной жены, так и новых любовных романов… и он мог запереть маленький дворец, смотрящий на заливные луга, и попробовать забыть мечты и легкомысленные планы, на которые однажды вдохновила его любовь.
Глава 12 Эпоха мира и благоденствия
Последние годы жизни Лукреции до пределов заполнены любовью (я не имею в виду супружеские отношения). Она никогда не уставала от общественных обязанностей, занимаясь такой важной проблемой, как рассмотрение обращений подданных. Я готова оспаривать утверждение историков, умаляющих ее способность заниматься общественной деятельностью, и в то же время не могу назвать иначе, как откровенной лестью приписываемые Лукреции благоразумие и чистоту, о которых пишет в посвящении к полному сборнику поэтических произведений Эрколе Строцци, выпущенном в 1513 году, Альдо Мануцио. Я не берусь сравнивать Лукрецию с Изабеллой д'Эсте, но она добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности вплоть до 1518 года, когда Альфонсо переложил это бремя на себя, чтобы уберечь ее от усталости и болезней.
Она всегда готова участвовать в общественных мероприятиях то ли в силу своего положения, то ли потому, что получала от этого удовольствие. Теперь, по прошествии времени, она могла позволить себе развлекаться так, как ей того хотелось. В праздничные дни она могла покинуть герцогский зал, чтобы слегка перекусить в назначенный доктором час, а затем опять вернуться и досмотреть пьесу или танец. В какой-то момент танцы и театральные представления вышли из моды, и их заменили разные игры, такие, как фанты, секреты и прочее. К примеру, мужчины вроде Ариосто или Бембо в полной мере владели искусством использовать вольности, позволительные в этих играх, незаметно нашептывая дамам любовные слова. Придворные Феррары, вероятно, занимались тем же самым с той лишь разницей, что не обладали литературными талантами. Вероятно, эти игры пользовались популярностью по той простой причине, что давали возможность допускать милые вольности. Игры играми, но музыка тоже не была забыта. Ежедневно давались великолепные концерты; Лукреция никогда не изменяла красивым голосам и хорошим танцевальным школам. Тромбонсино и Никколо из Падуи, Далида де Путти и музыкантша Грациоза Пио; балерины – валенсийская девушка Катерина, Никола и славянин, вероятно, русский, танцор Дмитрий; герцогине нравилось быть в окружении этого «гарема», одетого в золотой тюль, шелка и драгоценности. Оживление вносили карлики и шуты; Ариосто упоминает шута Сантино, известного своими умными эпиграммами и рассказами. Вечером, после ужина, женщины и дети усаживались за столом, и тут откуда ни возьмись карлик. Оглядит всех своими живыми маленькими глазками и начинает рассказ об Эзопе. Лукреция, придворные дамы и дети слушают его в радостном изумлении, а он играет свою роль, по словам придворного, в точности как «волк, дающий наставление овце».
От басен Сантино герцогиня переходила к проповедям монахов, известных своим красноречием. Монастырь Сан Бернардино был по-прежнему ее любимым духовным домом, и она уходила туда в дни, предшествующие большим праздникам. Внутренние дворы дворца Ромеи тихи и приятны; зимой сюда проникали солнечные лучи, а летом можно было спрятаться в тени под арками, и здесь всегда можно укрыться от ветра и дождя. В маленьком внутреннем дворике XIV века росли белые цветы с четырьмя лепестками с сильным запахом (они растут там и по сей день, и в мае монахини украшают ими статую Мадонны). Такой запах рождает доверие, и в этом они походили на ту картину, которую Лукреция могла видеть из своей комнаты, – монастырский сад и жилища простых людей. Гармония не нарушалась до тех пор, пока перед ее мысленным взором не появлялась картина: группа таинственных фигур, сгрудившихся вокруг тела Эрколе Строцци (ночь, подобная всем ночам, несущим смерть в тени римских церквей).
Эти мысли разгоняли молитвы монахинь Лауры, Ефросиньи и дочери Валентинуа, походившей на отца не только лицом, но и талантами и гибкостью ума. Воздух в июне прозрачен, и отчетливо доносятся все звуки. Вот стукнули монастырские ворота. Раздался шелест юбок послушницы, преисполненной самых добрых намерений. Открывается дверь, и на пороге дамы, приехавшие навестить герцогиню. Дверной проем неожиданно заполняется модницами, и в комнату Лукреции заходит Лаура Гонзага. Лукреция, вся в черном, лежит на кровати и просит извинить за неважное самочувствие. Они говорят о моде; Лаура описывает последнее изобретение Изабеллы д'Эсте.
В нарядах Лукреции явственно ощущалось влияние международной моды; некое причудливое смешение испанской, римской, неаполитанской, феррарской, французской, ломбардской и мантуанской моды и конечно же самые разнообразные драгоценности. Пышное великолепие и богатство являлись для Борджиа неотъемлемой частью внутреннего раскрепощения личности. Через Альдобрандино дель Сакрато, французского посла, Лукреции передавали золотые цепочки наитончайшей работы, которые переливались подобно сверкающей реке под ее проворными пальцами, когда она читала какую-нибудь книгу из своей личной небольшой библиотеки, например Петрарку или «Asolani» Бембо, поэмы Строцци, испанские песни, рассказы о приключениях, духовную литературу. То она вдруг принималась читать книгу по философии, сотни раз повторяя фразу «внешний вид вещей, среди которых мы живем…», и оставляла в этом месте закладку, сделанную из «девяноста жемчужин среднего размера». Все окружавшие Лукрецию вещи отличались высочайшим качеством изготовления. Стоит только упомянуть об ожерельях из крупных драгоценных камней, каскадах жемчуга, множестве колец и браслетов, сотнях пряжек и застежек из золота и эмали, медалях, изумрудах, рубинах, сапфирах, бриллиантах, рубинах, жемчуге, сердоликах и кораллах. А такие нужные вещи, как серебряная чернильница, черный бархат и пояс из золотых пластинок, маленькие коробочки и массивные золотые и серебряные сосуды с редкими мазями и притираниями, пестики для растирания косметических средств, гребни из слоновой кости с серебром, зеркала в серебряных рамках, украшенных узором из листьев.
Когда приходит время читать молитвы, бледные пальцы Лукреции перебирают золотые четки или серебряные с позолотой, рубиновые из сердолика или перламутровые. Она открывает молитвенник в переплете зеленого бархата и золотыми застежками. На рукописных пергаментных страницах сделаны изумительные миниатюры, и они помогают Лукреции обратиться мыслями к Богу. Украшенные драгоценными камнями кресты, медальоны, потиры и ракии, привезенные из Рима, украшают часовню в Ферраре. Один из капелланов, дон Рональде или дон Барталомео, в золотой ризе, отделанной бархатом и парчой, с благоговением перебирает золото и драгоценные камни, сияющие во славу Господа Бога, и запах ладана, смешанный с изысканной косметикой, заставляет Лукрецию мысленно погрузиться в молитву.
Лукреция никогда не чувствовала себя ферраркой. Она дала городу детей, служила ему, пользовалась за это уважением, но никогда не испытывала чувства привязанности к Ферраре. Она постепенно привыкла к местному климату, но так и не смогла понять мрачные картины Козимо Тура и суровую духовность Эрколе де Роберти, представителей традиционной школы искусства Феррары (занимаясь украшением апартаментов, она обращалась к изящному искусству Джерофано и его школы). Интересно, что при этом она не могла понять ни Ариосто, ни последователей изысканной поэзии Серафино Акуилано. Ей было не дано понять страстную силу этого города, необычность широкого неба, словно заколдованную природу, магические картины из пышных цветных облаков – все то, что оживлял гений Ариосто.
Этим фантастическим картинам Лукреция противопоставляла знакомые картины Испании. Любой человек, каким-то образом связанный с родиной Борджиа, мог рассчитывать на защиту и помощь Лукреции. Когда дон Энрико Энрикес, отец герцога Гандийского и кузена короля Испании, был проездом в Ферраре, Лукреция подарила ему украшенный драгоценными камнями кубок. Она делала подарки испанским послам, влиятельным лицам и прелатам, приезжавшим в Феррару. В бухгалтерских книгах Лукреции содержатся ежедневные отчеты о подарках, сделанных испанцам: шевалье из Санта-Крус, графу Стабелла, шевалье Габанулласу и многим другим. Она стремилась окружить себя испанцами, но так, чтобы по возможности не раздражать националистических чувств Альфонсо. Среди них был ювелир Мигуэль, грум Бальдассар, гравер Санчо и ювелир мессир Франциско.
Лукреция состояла в дружеской переписке с герцогиней Гандийской. В феврале 1515 года один из информаторов Ипполито писал из Рима: «Здесь находится испанец, прибывший из Испании с двумя ящиками товаров для нашей герцогини от герцогини Гандийской; один с духами и маслами, а другой с различными сладостями». Бергамот и жасмин, засахаренные фрукты, миндаль и мед, должно быть, несли Лукреции вкус и запахи Испании. В ответ она отправляла невестке коралловые четки, которые пришлись как нельзя кстати; теперь, когда законный наследник, Хуан II, достиг совершеннолетия, герцогиня Гандийская вместе с дочерью Изабеллой удалилась в монастырь. Любовь Лукреции к Испании была общеизвестна. По словам одного из флорентийских информаторов, когда шевалье Кавриана оказался в Испании при дворе католического короля, он встретил там молодого герцога Гандийского и «тут же перед его мысленным взором возникло лицо герцогини Феррарской, настолько герцог был похож на нее». Должно быть, читая эти строки, у Лукреции вскипала кровь Борджиа. Лукреция, как любой другой, кому с детства была уготована удивительная судьба, но затем стало ясно, что этому не суждено сбыться, пыталась найти равновесие и гармонию с помощью того, что было под рукой: сомнительной дружбы, ложных доводов. Даже достигнув прочного положения в жизни, Лукреция не могла расстаться с иллюзорной уверенностью, что в Каталонии она была бы намного счастливее, чем здесь.
Она с детства любила цветы и лучше всего чувствовала себя на природе. Стоило установиться теплой погоде, как Лукреция с Альфонсо отправились в длительное плавание по реке. Вместе с ними были придворные дамы, не были забыты певица Далида де Путти, танцор Дмитрий и женщина-шут Катерина Матта. Путешествие длилось с весны до осени. Какое счастье плыть по узким речным протокам под молочно-белым весенним небом. Легкий бриз проносится над водой. Судно тянут мулы или лошади, и оно медленно движется по мелководью. Обычно плыли в Бельригуардо. «О Belriguardo d'amore», – пел позже Джан Баттиста Джуарини, и, вероятно, такое же чувство испытывала Лукреция, завидев самую прекрасную из летних резиденций д'Эсте, дом, утопающий в зелени. Приятное, совершенно не утомительное путешествие подошло к концу. Лукреция видит герб д'Эсте, поддерживаемый двумя ангелами (его и сейчас можно увидеть), а дальше, за открытыми воротами, огромный двор, готические окна величественного здания, центральная аллея, сверкающий фонтан. Она любила бродить по залам, лоджиям и галереям, среди произведений искусства; картины времен Леонелло, «Психея» Лаззаро Гримальди, фрески Эрколе де Роберти, ради которых даже герцог Эрколе откладывал государственные дела. В часовне, расписанной Козимо Тура (он изучал в Бресте магическую манеру письма да Фабриано), было сто сорок пять ангелов, отцов церкви и апостолов.
Но настоящее наслаждение Лукреция испытывала в огромном парке Бельригуардо с его воздушным великолепием, искусно созданным садовниками, художниками и архитекторами, с прудами, в которых плавали рыбы, фонтанами, водопадами, аллеями, деревьями, кустами и цветами. Да, она испытывала удовольствие, гуляя в парке, но это вовсе не означало, что ее, как Вергилия, тянуло к земле. Аркадия в понимании Лукреции, если она существовала, являла собой изящный небольшой луг, на котором синьоры и синьорины, одетые в атлас и бархат, собираются в тени величественного бука, а под ногами у них струится ручеек, «прозрачный, чистый и мелодичный», как в стихах Петрарки. Они перечитывают «Asolani» Бембо и обсуждают проблемы платонической любви. Кто-то из синьоров берет лютню и начинает петь; возможно, близкий друг Лукреции Грациозо Пио, знаменитый миланский красавец. Яркие башни Бельригуардо привлекают их внимание, вызывая мысли о дворе, и заходит разговор о предстоящих балах. Лукреция в прекрасном расположении духа и хочет видеть вокруг себя только счастливые лица. Она дарит Пио драгоценные камни для его дочери Беатрис и устраивает танцевальные вечера и званые ужины в честь ее помолвки. Триста комнат Бельригуардо переполнены гостями. В перерыве между музыкой и танцами кто-то замечает, что жених опаздывает, и тут же слышится иронический шепот: «Пока стакан не осушил, не говори, что не пролил». Говоривший был, естественно, другом Изабеллы д'Эсте.
Слухи о событиях в Ферраре теперь разносил не только верный Бернардино Проспери, но и придворный, друг маркизы Мантуанской, Баттиста Стабеллино, посредственный гуманист, но крайне язвительный человек, подписывавший свои письма Demogorgonили Apolloи принадлежавший к направлению, основанному на философской системе эпикурейства. Эта система, на три четверти – шуточная, а на одну четверть – грустная, была основана на принципе: «Сейте радость и веселье, чтобы не умереть от меланхолии». Последователи учения брали шутливо-эротические псевдонимы. Известные женщины Феррары и Мантуи (включая Изабеллу д'Эсте) прятались под именами мадонна Бланда, мадонна Амата и мадонна Рисибиле. В их кругу разрешалось вести только легкие, веселые беседы и рассказывать смешные анекдоты, но герцогине Феррарской казалось, что их разговоры трудно назвать изящной светской беседой. Лукрецию, например, покоробил злобный смех, вызванный тем, что при игре в карты Лукреция и ее фавориты использовали в качестве ставок марципаны и фаршированных цыплят, которые победители и проигравшие вместе съедали после игры. И все были довольны. Сельская местность способствовала такого рода играм. В тех случаях, когда герцогиня не могла выехать вместе с двором в Бельригуардо, она отправлялась в Бельфьоре, в большой загородный дом, украшенный фресками феррарских художников XIV века и окруженный знаменитым парком, в котором водилась разная дичь, от зайцев до коз, лис, кабанов и даже волков. Из парка она шла в импровизированный замок, построенный на месте разрушенной крепости, по аллее, засаженной соснами, и выходила в большой сад. Самой известной местной достопримечательностью был бассейн, снабжавшийся водой из По. Так и видишь, как герцогиня вместе с девушками плещется в воде, подальше от любопытных глаз придворных.
Но вот пришла зима, открыв сезон официальных празднеств. Лукреция обязана находиться в замке, и самым длинным путешествием будет теперь поездка по городу. В зимние месяцы она иногда проводила время в монастыре Сан Бернардино. В 1516 году во время ужина в великолепном дворце Костабили Лукреция вновь повстречала брата Джулии, кардинала Фарнезе. Он вырос, набрался мудрости и опыта и подавал большие надежды (стал впоследствии папой Павлом III). Лукреция и кардинал вели беседы о событиях давно минувших дней. Они говорили о Джулии (Лукреция поддерживала с ней отношения и переписывалась вплоть до 1518 года) и вспоминали Рим. За четырнадцать лет произошли серьезные изменения, отразившиеся в том числе и на людях, но, казалось, стоит закрыть глаза, и услышишь голос Александра VI, обращающегося к своему кардиналу-казначею.
Еще остались в живых кое-кто из мира Александра VI, но самой энергичной оказалась Ванноцца Катанеи. Креп-ко цепляясь за жизнь, она осела в Риме и с недавнего времени целиком посвятила себя благотворительной деятельности. Она помогала церквям, но благодаря материнскому инстинкту больше внимания уделяла больницам, особенно больнице Консолационе. Она установила там массивный серебряный бюст Валентинуа, словно стараясь оградить его от забвения (хотя, по всей видимости, он стал добычей одного из ландскнехтов Фрунсберга, разграбивших Рим в 1527 году). Ванноцца очень любила украшения, но теперь они не имели для нее никакого значения, и по ее просьбе ювелир превратил эти золотые и серебряные украшения в церковную утварь. Она заказала Андреа Бреджо мраморную скинию, точную копию Сан-Джиакомо-дели-Спагнуоли, с канделябрами, фризами и арабесками, последовавшими за витиеватым стилем ломбардских декораторов, и удовлетворявшие вкус женщин древности. Для церкви Святого Джона Лютеранского Ванноцца сделала серебряную скинию, украшенную жемчугом, бриллиантами и бирюзой, которые во времена Александра VI оттеняли белизну ее кожи. Она поссорилась с ювелиром Нардо Антониаццо, который заявил, что она должна заплатить ему больше за изготовление серебряного креста. Ванноцца ничуть не изменилась, несмотря на падение Борджиа, и даже такие историки, как Джовио, узнавший ее только в последние годы жизни, отзывался о ней очень хорошо.
Ванноцца правильно оценивала свои возможности, и свидетельство тому переписка с Лукрецией, где она никогда не позволяла себе каких-либо неуважительных слов. Только несколько писем было обнаружено в архиве д'Эсте, датированных 1515 годом, и, вероятно, они не представляют особого интереса. Самая откровенная фраза в этих письмах «ваша счастливая и несчастная мать» непосредственно перед подписью. Письма Ванноццы содержат советы и просьбы (редко для себя, чаще для своих протеже). В числе прочих просьб есть та, что касается непосредственно семьи. Джофре, живущий тихой провинциальной жизнью владельца небольшого поместья в Скуиллаче, отправил своего десятилетнего незаконнорожденного сына к матери в Рим. Ванноцца приняла мальчика с распростертыми объятиями, но, понимая, что ее жизнь подходит к концу, написала Лукреции и кардиналу Ипполито, спрашивая, не могли бы они взять ребенка в Феррару после ее смерти, где «его могли бы вырастить для того, чтобы он мог служить вашему прославленному дому». Мы не знаем, что на это ответила Лукреция. В 1517 году Джофре умер в Скуиллаче в возрасте тридцати шести лет, о чем Лукрецию известил старший сын брата, дон Франческо. Не прошло и года после смерти Джофре, как умирает Ванноцца. 24 ноября 1518 года Рим узнает о ее смерти.
«Мессир Паоло, – выкрикивал герольд, – сообщает, что Ванноцца, мать герцога Гандийского, скончалась; покойная принадлежала к братству Джонфалоне».
Услышав сообщение, в котором не упоминались ни Валентинуа, ни Лукреция, члены братства занялись подготовкой похорон. Ванноццу похоронили в церкви Санта-Мария-ин-Пополо. Ей оказали почести не только потому, что она была матерью герцога Валентинуа, герцога Гандийского, принца Скуиллаче и герцогини Феррарской, но и потому, что была набожной, доброй, умной и дожила до преклонных лет. В соответствии с волеизъявлением Ванноццы следовало в течение двухсот лет служить мессы в Санта-Мария-ин-Пополо. По окончании указанного срока убрали даже могильную плиту; память о женщине Александра VI была передана историкам.
Лукреция укрылась в Сан Бернардино и распорядилась, чтобы никто не заговаривал с ней о постигшей ее утрате. Не имело никакого смысла говорить с людьми, которые даже не представляли, что значила для нее мать. Это был удачный момент для того, чтобы забрать сына Джофре, но в архиве Феррары я не нашла никаких упоминаний о мальчике. Правда, в бухгалтерских книгах Лукреции за 1518 год есть упоминание о «Джеронимо Борджиа», паже. Но в последующих документах о нем говорится как о сыне Чезаре Борджиа. Маленький Джеронимо был веселым мальчиком, которого нежно любила не только Лукреция, но и Ал ьфонсо «за его богатство». Он осел в Ферраре, построил дом, женился, прожил жизнь и умер. Наследники династии, предназначение которой Александр VI видел в завоевании Европы, были немногочисленны и разделены. Луиза Борджиа воспитывалась во Франции, Хуан Борджиа, третий герцог Гандийский, ставший отцом святого Франциска Борджиа, одного из создателей ордена иезуитов, тоже жил в Париже, а дети Джофре в Южной Италии. Младший сын Александра VI, Родриго, был скромным священником в Кампании, а в Ферраре, кроме Лукреции, жили дочь Валентинуа, ставшая монахиней, Джеронимо и римский инфант.
Читатели должны помнить сложные обстоятельства, связанные с рождением инфанта, неоднозначность его происхождения и вопрос в отношении двух папских булл, касающихся римского инфанта. Интерес к личности Джованни Борджиа начинается и заканчивается его рождением. В чем же кроется причина трагически сложившейся жизни Джованни? Следует ли отнести его ослабленную психику за счет непонятного происхождения или неправильного воспитания, повлиявшего на умственную отсталость Джованни? Историки, не обнаружив следов мальчика в период между смертью Александра VI и 1518 годом, предположили, что он жил с одним из кардиналов Борджиа в Риме или Неаполе. Вновь обнаруженные документы, относящиеся к 1506 и 1508 годам, свидетельствуют, что в 1505 году он появился в Ферраре и затем был отдан на попечение Альберто Пио, на Капри. В октябре 1506 года приближенный герцогини «отправился на Капри, чтобы забрать Джованни Борджиа с вещами». Так записано в бухгалтерской книге Лукреции.
В это время был раскрыт заговор дона Джулио, и, хотя Пио остался в стороне, он намекал на свое враждебное отношение к семейству д'Эсте. Инфанта перевезли в Феррару и поселили в замке. У него был свой двор, выдающийся учитель – гуманист Бартоломео Гротто, доверенное лицо, грум и даже шут, которого Лукреция одевала за собственный счет. Из бухгалтерских книг Лукреции можно проследить каждый день жизни инфанта. Он ужасающе быстро изнашивал чулки, рубашки и головные уборы. Как-то он попросил у Лукреции разрешения отдать кое-что из одежды бедному испанцу, и она, естественно, разрешила это сделать. Был случай, когда учителю понадобились книги, Вергилий и латинская грамматика, чернильница и разные канцелярские принадлежности, и этот вопрос тоже был решен положительно. Д'Эсте согласились, чтобы мальчик жил в Ферраре, что, безусловно, благотворным образом сказалось на его развитии. Хочу напомнить, что две папские буллы в отношении его рождения ограждали герцогиню Феррарскую от неуместных догадок в ее адрес. Кстати, следует учитывать, что Альфонсо, а за ним и его дети с трудом переносили инфанта, можно сказать, ненавидели его. Другими словами, Лукреции позволили оставить мальчика в Ферраре, но наложили запрет на его имя, причем это касалось даже невероятно охочих до сплетен информаторов маркизы Мантуанской. Проспери, не считая двух случаев, никогда не упоминал о маленьком сыне герцога Валентинуа даже в связи со смертью Чезаре, который, согласно первой булле, был отцом мальчика.
Установленное в отношении инфанта правило было сродни закону, запрещающему упоминать имена дона Ферранте и дона Джулио после трагической истории с их заключением в тюрьму. А вот Джованни Борджиа был в большой обиде на судьбу, не обеспечившей ему такую известность, и любовь Лукреции не могла компенсировать эту потерю. Со временем к ее любви все больше примешивалось чувство жалости и тревоги, когда она видела, как обида и разочарование Джованни, связанные с его социальным и экономическим положением, пробуждают в нем высокомерие и дерзость Борджиа. Никто никогда не узнает, что она испытывала, вглядываясь в его лицо. Искала чьи-то черты? Испытывала раскаяние?
К двадцати годам Джованни начал вызывать серьезное беспокойство Лукреции. Его часто замечали на улицах Феррары, и было бессмысленно наказывать его. Он поощрял грубость своих слуг и подстрекал их на драки с другими, особенно со слугами маленького Эрколе д'Эсте. В результате одной из драк на Пьяцца-дель-Дуомо был убит человек. Участников драки арестовали, и Лукреция могла сама, не дожидаясь приезда Альфонсо из Венеции, способствовать отъезду инфанта из Феррары. Герцог наверняка наказал бы всех участников, включая и инфанта. Требовалось срочно определить статус ребенка и обеспечить его средствами к существованию.
В ход были пущены все средства. Лукреция написала в Рим, чтобы заручиться поддержкой Агостино Чиджи, известного банкира, который покровительствовал Рафаэлю, римским гуманистам и художникам. Ее письмо было не совсем понятно банкиру; как он мог «дать или ссудить двести дукатов с возвратом по пятьдесят дукатов в месяц неизвестно кому, и он просит герцогиню уточнить, что она имеет в виду». Судя по всему, вопрос был решен к обоюдному удовольствию, поскольку Лукреция послала банкиру к следующему карнавалу двадцать шесть масок с бородами и без, изготовленных знаменитым мастером Джованни из Бреста. Ссуда, тем не менее, не решала всех проблем. Лукреция посылает в Неаполь Джероламо Насселло Червия (похоже, безрезультатно). Тогда, воспользовавшись благожелательным и сердечным отношением женщин французской королевской фамилии, Лукреция решает отправить инфанта во Францию. Альфонсо собирался отправиться ко двору Франциска I в конце 1518 года и согласился взять с собой инфанта, только бы увезти его из Феррары. Теперь у Лукреции появилась надежда, что вопрос решен. Она снабдила молодого человека рекомендательными письмами, выбрала в качестве сопровождающих двух наиболее известных аристократов Феррары, дель Сакрато и Тротти, и вручила золотые браслеты и баночки с ароматичными кремами для королевы Шарлотты (Франциск I как-то отметил, что от королевы исходит очень приятный запах). Альфонсо тоже вез подарки королю, королеве и сестре королевы; французский двор, похоже, с нетерпением ждал приезда римского инфанта.
Джованни Борджиа прибыл в Париж в свите Альфонсо и был должным образом представлен королю, королеве и придворным дамам. Когда наступал момент проявить хоть чуточку остроумия, учтивости или обходительности, он становился косноязычным. Феррарский посол и придворные тщетно пытались привести его в чувство; он не хотел постараться даже ради Лукреции, пытавшейся обеспечить ему достойное будущее. Более того, на вопрос феррарского посла, не желает ли Джованни добавить несколько строк в его письмо герцогине, инфант ответил, что ему нечего ей сказать. Посол зашел так далеко, что сам написал в Испанию, пытаясь занять деньги для инфанта, и ему действительно удалось достать небольшую сумму (он не сказал у кого, но, вероятно, у молодого герцога Гандийского, Хуана II). Кроме того, он делал попытки расшевелить молодого человека, чтобы тот мог продемонстрировать хоть какой-то интеллект и веселость: король и придворные дамы уже задавались вопросом, с какой стати они должны заниматься таким неловким и грубым юношей. В конце концов у всех заинтересованных лиц лопнуло терпение. Следом за Альфонсо д'Эсте в Феррару вернулись дель Сакрато и Тротти, оставившие инфанта на попечение посла, который чуть не обезумел от свалившегося на него бремени. Неизвестно, что ответила Лукреция на просьбу посла каким-то образом решить проблему инфанта, но в скором времени Джованни ни с чем вернулся из Франции. Он прожигал жизнь в Италии и после смерти Лукреции никогда не бывал в Ферраре. В какой-то момент у него возникли притязания на герцогство Кемерино на том основании, что еще Александр VI наделил его этой собственностью. Началось судебное разбирательство в отношении правопреемника Джулии Ванаро, пока не вмешался папа и не положил конец незаконным притязаниям Джованни. Последнее упоминание о римском инфанте встречается в 1548 году, во время судебного процесса с женщиной-кредитором о незначительной денежной сумме. К тому моменту он занимал должность папского функционера. Это был самый странный персонаж в жизни Лукреции, считавшийся страшным порождением инцеста, не понимавший, что ему следует делать со своей жизнью, и добивавшийся защиты у церкви, слишком возвышенной, чтобы запятнать себя страшными ошибками, совершенными людьми.
К концу жизни Лукреция обнаруживает в себе присущие молодости страсти, отодвигающие смерть. Она пытается восстановить дружбу с Бембо, которая, по сути, никогда и не прекращалась. У нее по-прежнему остается Франческо Гонзага, но он настолько плох, что их отношения сводятся на уровень молитв. Лукреции требуется нечто большее и для сердца, и для ума. «Я все больше думаю о том средстве от отчаяния, предложенном вашим другом, оно все больше нравится мне и кажется вполне подходящим», – завуалированно, как в былые времена, пишет (дата письма не установлена) Лукреция Бембо. А вот другое письмо, датированное 7 августа 1517 года, аффектированное и манерное. «Дражайший мессир Пьетро, – принимая знакомый нам доверительный тон, начинает письмо Лукреция, – я знаю, что предвкушение ожидаемого события приносит наибольшее наслаждение, поскольку надежда разжигает наше желание и заставляет его [это событие] казаться более значимым. Я хотела несколько задержаться с ответом на ваши прекрасные письма, чтобы доставить вам наслаждение». Куда уж любезнее! Она намекает, что «прекрасные» письма Бембо не должны приходить так часто. Прошло много лет, но он не забыл ее, хотя время, власть и окружавшие его льстецы изменили его – он стал чужим Лукреции. Мессир Пьетро был все еще очень красив, хотя изящество его ума превратилось в некую позу, правда идеально приспособленную к новым условиям существования. Он был весьма красноречив, а поскольку любил поговорить на занимающие его темы, то иногда зацикливался на собственных мыслях; временами казалось, что он, испытывая интеллектуальный взлет, забывает об окружающем мире. Это не мешало ему быть остроумным и, по словам Кастиглионе, когда Эмилия Пио услышала его рассуждения относительно платонической любви и, поняв, что он пребывает в состоянии экстаза, потянула его за рукав и язвительно прошептала: «Осторожнее, мессир Пьетро, с такими мыслями ваша душа не сможет полностью покинуть тело!» На что Бембо немедленно отреагировал: «Мадам, это не явилось бы первым чудом, которое явила мне любовь!»
Бембо наслаждался властью вице-короля в Риме, и семейство д'Эсте считало необходимым при каждом удобном случае направлять к нему посланников и друзей, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Как-то Бембо признался Ариосто, что сохранил самые яркие воспоминания о Ферраре. Узнав об этом, герцог Альфонсо прислал ему приглашение в любое удобное для него времяпосетить Феррару и остановиться в доме, который он особенно любил, в Остеллато. Возможно, Бембо вспомнил осень 1503 года, когда ему в связи с приездом двора Альфонсо пришлось покинуть Остеллато, и грустно улыбнулся. А вот когда Лукреция прислала вслед за мужем приглашение, Бембо ответил благодарственным письмом. Лукреция, читая между строк, должно быть, поняла, что уже никогда не увидит его. Бембо было бы невыносимо увидеть постаревшей женщину, некогда увенчанную его любовью. Ее красота со временем потускнела (она несколько раздалась после многочисленных родов), но не это смущало Бембо. Он боялся обнаружить, что изменилось что-то в нем самом. «Его» герцогиня была той женщиной, которая неожиданно появилась у его постели, когда он болел, сияя любовью, и он хотел запомнить ее такой. На самом деле Лукреция, вероятно, тоже не стремилась увидеть Бембо и писала только из чувства уважения, отдавая дань любезности, посылая письма и подарки. Дружбу с могущественным секретарем Льва X стоило поддерживать.
Теперь Альфонсо д'Эсте понял, что у него нет больше причины опасаться, что жена может его бросить; постоянные беременности связали ее физически и духовно. Он подчинил ее, не нарушив семейной гармонии. Альфонсо никогда не любил жену всем сердцем, но уважал ее и, несмотря на то что никогда не выражал благодарности за детей, которых она ему родила, ее положение матери детей д'Эсте придавало ей достоинства не только в глазах окружающих, но и в его собственных.
Альфонсо отличался крепким здоровьем, здравомыслием и своеобразным чувством юмора. Вероятно, сочетание этих качеств способствовало своего рода душевной глухоте, что никак нельзя отнести к недостатку данной натуры, а является скорее естественным следствием качеств, присущих данному индивидууму. Если согласиться с данным предположением, то несложно понять историю их взаимоотношений с Лукрецией. Она была навязана ему в жены, но стоило им познакомиться, как он с удивлением осознал, что она оказалась более послушной и восприимчивой, чем он ожидал. Позже он понял, что она не столь уж управляема, как ему этого хотелось бы, и он настроился на борьбу с женской покорностью и гибкостью, отравляющими жизнь сильных мужчин. Он протестовал против засилья испанцев при дворе, против заискивающих поэтов, против всего, что делало его жену иностранкой в Ферраре. С помощью кардинала Ипполито он в некоторой степени смог навести порядок. Альфонсо, безусловно, сросся с женой. И дело тут не в верности (вспомните, с одобрения тестя он в первые недели после свадьбы искал утешения у проституток), просто он полагал, что обязан соблюдать супружеские отношения. У Лукреция беременности следовали одна за другой, не считая перерыва во время войны с Юлием II. Вам не кажется странным, что Альфонсо, понявшему, что жена отличается слабым здоровьем, не приходило в голову оставить ее. Вероятно, он так никогда и не понял, что она под любым предлогом старалась ускользнуть от него; то она удалялась в монастырь, то путешествовала по стране или проходила курс лечения. В характере Альфонсо д'Эсте имелась определенная странность, не свойственная принцу крови: он не задумывался о происхождении наследников. Ничуть не меньше, чем дети от законной жены, его интересовали дети от любовницы низкого происхождения вроде Лауры Дьяньти, которая впоследствии стала его любовницей. Он прозвал Лауру «Евстохия», или «Инкубатор», хотя она подарила ему всего двоих детей, в то время как Лукреция (в общей сложности мертвых и живых) по крайней мере семерых. Да, в то время к бастардам относились как к законнорожденным детям, но пример дона Джулио показал Альфонсо, какие проблемы могут возникнуть в семье, и, вероятно, он не захотел экспериментировать.
В начале 1519 года у Лукреции очередная беременность, которая обещает быть очень тяжелой. Она настолько слаба, что с трудом переставляет ноги. Несмотря на это, она терпеливо сносит свое положение и делает все, чтобы беременность удачно разрешилась. Она продолжает заниматься государственными делами (в это время Альфонсо находился во Франции), одновременно с тревогой наблюдая за положением римского инфанта, находящегося в Париже, и продолжая переписываться с Гонзага, чья жизнь стремительно близится к концу. 24 января 1519 года она пишет маркизу нежное письмо со словами утешения. Маркиз умер 29 марта, изъеденный сифилисом. Лукреция пишет Изабелле д'Эсте вежливое письмо с выражениями соболезнования, только единственной фразой выразив свои эмоции: «Я тоже нуждаюсь в утешении». Но Изабелла не испытывала никакой симпатии к невестке и не нуждалась в утешении. Теперь она – хозяйка. Она тут же отказалась от услуг советников мужа (в первую очередь от ненавистного Толомео Спагнуоли) и утешилась, взяв бразды правления в свои руки. Ей было не дано понять, что в скором времени ее сын Федерико, новый герцог Мантуанский, захочет единолично управлять государством.
За эти годы Лукреция сильно изменилась. Страсти поулеглись, она стала спокойнее, и знакомые вещи предстают перед ней в новом свете. Теперь она определилась с моральными ценностями, и сделанный выбор не вызывает ни малейших сомнений.
Как странно, что она не сумела понять этого раньше – следует обратиться к Богу. Она становится набожной: кается, соблюдает пост, истово молится. Ее не покидает надежда на лучшее будущее. Вера в бессмертие души равносильна для нее вере в жизнь. В 1518 году Лукреция вступает в орден францисканцев (третий орден под руководством Фра Людовико делла Торре). Теперь она ежедневно посещает церкви Феррары и, идя на богослужение, надевает под расшитые рубашки власяницу. Она всегда любила обсудить свои слабости с доверенным лицом и теперь часто ходит к причастию. И вот когда ей казалось, что удалось достигнуть долгожданного равновесия, все неожиданно рухнуло.
Вероятно, в начале 1519 года, когда Лукреция поняла, что в очередной раз забеременела, у нее появилось нехорошее предчувствие. В мае ей становится совсем плохо. Уже не хватает поддержки духовников и монахинь. Хочется чего-то большего, более мощной поддержки. Возможно, кто-то посоветовал ей (если это не было собственной идеей, возвращавшей ее извилистым путем к истоку) обратиться к папе за специальным благословением, которое послужило бы охранной грамотой в предстоящие тяжелые дни. В конце мая Лукреция послала за Никколо Мария д'Эсте, кардиналом Адрии, и с его помощью написала письмо, в котором за благочестивыми фразами скрывалось беспокойство. «Его [письмо] переполняют чувства, доказывающие ее [Лукреции] смирение и преданность» папе и «святую обязанность, которую она чувствует ежедневно» в отношении понтифика, – так комментирует это письмо посол в Риме. Курьер доставляет письмо из Феррары в Рим, и имя Лукреции, как в былые времена, перед троном понтифика произносит феррарский посол, но уже не Костабили, а Альфонсо Паулуччи.
«Ваше Святейшество, – обращается посол к Льву X, – герцогиня беременна, очень плоха и просит прощения, что не смогла собственноручно написать Вашему Святейшеству». Посол объясняет, с чем связаны проблемы здоровья герцогини, в то время как мысли папы блуждают по неким скрытым сторонам истории семьи Борджиа. Наконец, придав веселому (как отметил Паулуччи) лицу озабоченное выражение, папа говорит: «Мы довольны, Господь, возможно, сохранит ее».
Беременность протекала настолько тяжело, что доктора, маэстро Пальмарино и маэстро Людовико Боначчьоло, боясь осложнений, решили прибегнуть к стимуляции. Наконец вечером 15 июня родилась девочка, показавшаяся нежизнеспособной. Решили срочно, несмотря на позднее время, окрестить новорожденную. Лукреция находится в состоянии полной апатии. Утомленные люди ходят взад и вперед, поднося необходимые для проведения церемонии предметы. Элеонора Пико (как раз было ее дежурство) стала крестной матерью, а первые, кто оказался рядом с апартаментами герцогини, Алессандро Феррубино и Мазино дель Форно – крестными отцами. Ребенка окрестили, дав имя Изабелла-Мария.
У Лукреции начинается родильная горячка. Впоследствии скажут, что духовная жизнь подготовила ее к смерти. Но это еще как сказать, слишком сильно она боролась за жизнь. У нее ужасно болела голова, и, поскольку тяжелые волосы причиняли лишние страдания, пришлось их обрезать. Пока занимались стрижкой волос, у Лукреции пошла носом кровь. Она все-таки продержалась еще неделю, и только вечером 22 июня стало ясно, что она умирает; Лукреция перестала видеть и слышать. Но она умудрилась перешагнуть через эту бездну, вернув зрение и слух, и уже совершенно измученная и истощенная цеплялась за жизнь. А снаружи стояла великолепная погода и светило солнце. Одно слово, июнь. Почему Альфонсо выглядел таким расстроенным, таким напуганным? Она созналась в грехах и получила полное отпущение. Она составила завещание, согласно которому значительная часть ее состояния отходила монастырям, и, вероятно, знала, что придворный, написавший в Ватикан, просил обеспечить ей вечное спасение. Несмотря на все это, она не могла расстаться с жизнью. Придворные заметили, что герцогиня, такая нежная мать, не предприняла никакой попытки повидаться с детьми. Она только просила еще день, час, минуту отсрочки. Вечером 22 июня она выпила немного бульона и была так спокойна, что все решили: кризис миновал. Но уже на следующий день начался кошмар. «Несчастная женщина, как трудно она уходит», – говорят придворные.
23 июня. Никаких изменений. 24 июня. Лукреция, похоже, в бессознательном состоянии. Хотя в глубинах сознания перед ней проходят какие-то образы. Яркое небо Субиако, шум реки Аньене, грудной смех Ванноццы и материнский поцелуй, пурпур кардиналов и белоснежный наряд понтифика, крупное лицо Александра VI, потолки в Ватикане, освеженные кистью Пинтуриккьо, маленькие серебряные колокольчики герцога Гандийского, зловещий взгляд Чезаре, Рим, утонувший в розовом сумраке, колокольный перезвон. Вероятно, с этой волшебной музыкой, исходящей из далекого прошлого, на нее снизошло спокойствие. Страх отошел, уступив место бесконечной усталости, сродни успокоению. Лукреция вгляделась в лицо отца, как тогда, в то снежное утро 6 января 1502 года, в день расставания. Затем вздохнула, и этот вздох означал, что пришло время уходить…
Комментарии
1
Симония – практика продажи и купли церковных должностей в католической и других церквях.
2
«Она изменилась до неузнаваемости», «уверенно заявив нам, что не желает привозить Джулию сюда против воли Орсино»
3
«…выходящий за всякие рамки приличий, оскорбительный и скандальный для нас самих и для всего народа».
4
«Внемлите этому слову, находящиеся на горе Самарийской».
5
«Она была передана его [Джованни] семейству более трех лет назад и до сих пор не имела никаких сексуальных и брачных отношений и половых сношений и готова поклясться и подвергнуться освидетельствованию акушерок».
6
«Не познал Лукрецию».
7
«У Петра была красавица дочь Петронила; у Александра есть Лукреция, блистающая красотой и добродетелями. Неисповедимы пути Господни! Блаженны люди…»
8
Эминенция (лат. eminentia – превосходство) – титул католических епископов и кардиналов.
9
«Он заснул со своими отцами, и они захоронили его в городе Давида»
10
«Огромная жалость терзает меня, я убит, тяжесть убийства…»




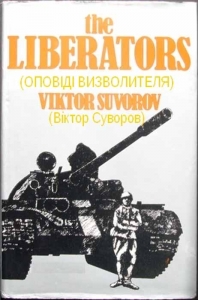



Комментарии к книге «Лукреция Борджиа. Эпоха и жизнь блестящей обольстительницы», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев