Георгий Гуревич В зените
Дело о розыске исчезнувшего
(Материалы следствия: документы, личные записки)
1. Постановление о производстве городского розыска
10 ноября 19… года я, следователь уголовного розыска, юрист третьего класса Тверичев А. И., рассмотрев материалы об исчезновении г-на К., нашел:
что гражданин К., находящийся в командировке в городе Ленинграде, выбыл в неизвестном направлении из гостиницы «Октябрьская» 2 ноября около 16 часов, оставив документы и лично ему принадлежащие вещи, но до сего дня не возвратился и себя не обнаружил, а потому
постановил:
объявить розыск г-на К., рождения 1927 г., уроженца города Москвы, беспартийного, ранее не судимого.
Всем лицам, знающим о пребывании г-на К., известить уголовный розыск Ленинграда.
Меры пресечения: Без мер пресечения.
Приложения:
1. Фотокарточка.
2. Словесный портрет.
Рост выше среднего, около 175 см, фигура полная, голова круглая, шея толстая, цвет волос — черные с проседью, глаза карие, лицо овальное, лоб скошенный, брови широкие, нос большой, тонкий, с горбинкой, уши не выяснены, особые приметы — без особых примет. Характерные привычки не отмечены. Пальто демисезонное, двубортное, серо-голубого ратина, костюм полушерстяной, синий с голубой ниткой.
Дактилоформула не снималась.
2. Письмо Лели К. к Нине Б.
Дорогая Ниночка!
Прости меня, пожалуйста, что я надоедаю тебе со своей тревогой, но я просто извелась, чувствую, что схожу с ума, ночи не сплю совсем, глотаю по пять таблеток, все равно глаз не смыкаю. Очень прошу тебя, сходи туда еще раз, потереби, узнай, шевелятся ли они. С телефонными запросами у меня ничего не получается. В гостинице отделываются смешочками: дескать, сами знаете, гражданочка, как мужья проводят время в командировках. А в розыске у вас идиотский порядок, принимают заявления только на третьи сутки после исчезновения. Может быть, человек провалился в какую-нибудь яму, лежит со сломанной ногой, умирает без помощи, а тут ждут трое суток. Я бы сама прилетела, но сейчас как раз сессия заочников, и манкировать не приходится, если остаешься в жизни одна. Нет, не придумывай для меня утешения, я понимаю, что произошло что-то ужасное. Тем более я знаю страсть Кеши к странствиям по всяким закоулкам, где люди не ходят никогда.
Ниночка, твои тряпичные поручения я, конечно, не выполнила, но ты меня извини, сейчас не до того. В голове сумбур, все представляется в мрачном свете. Неужели… Нет, боюсь подумать.
Тереби их, тереби ежечасно, умоляю тебя.
Целую.
Твоя Леля.3. Отношение из Ленинградского уголовного розыска
Гражданке К. Москва.
Уведомляем Вас, что дело о розыске Вашего мужа г-на К., исчезнувшего 2 ноября с. г., принято к производству и поручено старшему следователю юристу 3-го ранга тов. А. Тверичеву, каковой свяжется с Вами в ближайшее время.
4. Справка из гостиницы
Дана в том, что гражданину К. согласно командировочному предписанию № … выданному МО СП СССР от 26.Х.19… г., была предоставлена площадь в гостинице «Октябрьская», в отдельном одноместном номере № 1075 с 29 октября по 2 ноября с. г. включительно. 2 ноября гр. К. выбыл в неизвестном направлении, оставив вещи и паспорт в гостинице.
5. Письмо в редакцию газеты «Ленинградское утро»
Уважаемый тов. редактор!
Бюро секции очень просит Вас поместить в воскресном выпуске отрывок из романа «Ота-океаноборец», принадлежащего перу безвременно погибшего писателя К. Именно этот роман обсуждался 1 ноября с. г. на семинаре научно-художественного жанра. Роман посвящен преобразованию природы планеты Земля. Герой его — японский юноша — мечтает о том, чтобы за счет акватории Тихого океана были созданы новые страны. Мечта его осуществляется. В финале он принимает участие в международной программе осушения прибрежных морей. Мы предлагаем дать отрывок, где фантастические плотины создаются с помощью искусственных вулканов, выливающих лаву в проливы, а затем море откачивается, обнажая дно. Последнюю главу автор назвал «Мгновение, остановись!», имея в виду литературную преемственность. Герои его как бы идут по стопам Фауста, видя в созидательном творчестве высшее наслаждение.
Секретарь секции О.Резолюция редактора синим карандашом: «Не стоит акцентировать внимание, пока дело не выяснится».
6. Из показаний дежурной 5-го этажа
…Мы, дежурные, помещаемся в начале коридора, так что каждый проживающий проходит мимо конторки; прибывающий получает ключи, убывающий сдает. Хотя в коридоре тридцать номеров, всех помним по личности. Конечно, бывает, что кто-нибудь прошел незамеченный, потому что не сидишь на стуле как приклеенная, имея другие обязанности, как-то: прием и сдача белья, наблюдение за уборкой, регистрация. Гражданина К. помню хорошо: высокий, из себя полный мужчина, седоватый, в синем костюме с голубой ниткой. Первое время держал себя тихо, уходил в девять утра, как положено командированному, приходил к ночи тверезый. Однако в пятницу уже загулял. Ключи у сменщицы оставались в конторке всю ночь. Утром явился в выпившем состоянии. Безобразия не допускал, но вином пахло. Время я заметила точно потому, что гражданина ожидала записка. Ее оставил неизвестный мне старик, лет шестидесяти пяти, из себя низенький и кудреватый, давно не стриженный. Я подала записку проживающему К., он прочел, выразил неудовольствие: «Поспать не дают». И велел разбудить в одиннадцать. Я разбудила точно, ушел он. Теперь возвращается после обеда, веселый, видно, что добавил. Говорит: «Всё! Спать буду до вечера». Однако часу не прошло, опять куда-то его несет. «Деньги на билет я вручил, паспорт в регистратуре, а я сам ухожу». Не моя обязанность спрашивать, куда идет. И больше я его не видела в ту смену. Когда заступила опять, вижу — в конверте билет просроченный, до Москвы, купейный, в скором поезде. Дело к празднику, у нас приезжие в вестибюле на чемоданах сидят, а номер занятый по причине гражданина, который выпивает и просрочил командировку. Я написала рапорт как положено, а вещи с понятыми перенесла в кладовку согласно описи.
Больше по делу ничего показать не могу.
Об ответственности за дачу ложных показаний предупреждена.
7. Из тетради следователя
Версии о причинах исчезновения разыскиваемого по учебнику криминалистики:
1. Недоразумение. Нахождение у родственников, знакомых. Задержка по пути следования к местожительству.
2. Легкомыслие. Загул. Нахождение у случайной знакомой.
3. Намеренное сокрытие. Боязнь ответственности. Привлечение к судебному следствию. Уклонение от выполнения гражданских обязанностей.
4. Осуществление долга. Нахождение на военной службе. Отбытие по месту вербовки.
5. Задержание органами охраны порядка в связи с другим правонарушением.
6. Внезапная болезнь. Несчастный случай.
7. Самоубийство.
8. Уголовное преступление. Убийство исчезнувшего с целью ограбления или иным преступным намерением.
Для себя. Уже из предварительных данных явствует крайне легкомысленное поведение г-на К.: систематическое пьянство, отсутствие в гостинице в ночное время. Возможен загул, правонарушение в нетрезвом виде и т. д.
Намеренное сокрытие маловероятно, поскольку К. не является материально ответственным лицом.
Возможно прибытие по месту жительства без билета и документов. Запрашивать. Проверить происшествие по линии Ленинград–Москва.
8. Из тетради следователя два дня спустя
Среди неопознанных трупов в моргах,
среди внезапно заболевших, доставленных «скорой помощью»,
среди задержанных на улице за правонарушения
разыскиваемый не обнаружен.
Соответствующие версии отпадают.
При обыске установлено, что в гостинице оставлен небольшой чемодан с застежкой-«молнией» без замка, в чемодане нательное белье, умывальные принадлежности, книги для чтения. Бумаги, по показаниям дежурной, были разбросаны на столе. Все рисует картину непредумышленного исчезновения или умелой симуляции непредумышленного исчезновения.
Получена справка из управления трудсберкасс города Москвы. На счету г-на К. имеется около шестисот рублей. В последние месяцы поступления и изъятия крупных сумм не было.
И этот факт против предумышленного исчезновения.
Больше всего похоже на случайный загул.
Сосредоточил усилия на выявлении связей в Ленинграде.
9. Из показаний г-ки О., секретаря семинара
Исчезнувший г-н К. был приглашен на семинар по научно-художественной литературе наравне с другими авторами для обсуждения их произведений.
Обсуждение книги К. проходило на высоком идейно-художественном уровне; критика была принципиальной, непредвзятой, взыскательной и бережно-корректной. В заключительном слове К. благодарил за откровенную критику. Благодарность его зафиксирована в протоколе.
После закрытия семинара вечером 1 ноября состоялся товарищеский ужин, на который К. был приглашен наравне со всеми участниками. На ужине О. с ним не разговаривала. К. сидел на дальнем конце стола рядом с неизвестной гражданкой лет тридцати пяти, блондинкой, с прической «конский хвост». С этой блондинкой К. и ушел, не дождавшись конца ужина.
По мнению О., полный низенький кудреватый гражданин, упоминавшийся в показаниях дежурной по этажу, является известным писателем Л. — одним из руководителей семинара.
(Замечание на полях: «Ну конечно — блондинка! Классическая учебная версия. Случайное знакомство. К. приводит блондинку на ужин, проводит с ней ночь, вечером 2 ноября идет к ней снова. Главное — найти блондинку!»)
10. Из показаний писателя Л.
…Лично я мало знаю К., поскольку он житель другого города. Способный человек, даже очень способный, но из тех, знаете ли, которые на любом месте могут быть полезны. Он мог бы стать хорошим педагогом и хорошим инженером, и литератор он довольно хороший… не из выдающихся. Не хватает ему все-таки особой, специфической литературной одаренности, это ощущается в его слоге. Естественно, мы дали понять ему наше мнение. В том и задача обсуждения, чтобы указать автору его недочеты. Но авторы, видите ли, обладают особой чувствительностью. Не лишено вероятия, что К. воспринял нашу критику чересчур болезненно. Я даже специально заехал к нему на следующий день, пригласил к себе, чтобы в домашней обстановке, мягко, в товарищеской беседе разъяснить ему нашу точку зрения. Он был у меня днем 2 ноября и ушел успокоенный. Мне никак не приходило в голову, что мы видимся в последний раз. Так что, как видите, литературная общественность была на высоте. И очень бы хотелось, чтобы в этом деликатном деле не было напрасно задето лицо нашей организации. Нам не в чем себя упрекнуть, но ведь есть же недоброжелатели…
Да, в гостиницу заезжал именно я, чтобы лично пригласить К. Не успел поговорить с ним за ужином. К. оказался далеко от меня, на другом конце стола, и был очень увлечен беседой с неизвестной мне гостьей, очень хорошенькой блондинкой, лет двадцати трех — двадцати четырех. На том же конце стола сидел молодой ученый, физик Ф., активный участник нашего семинара. Мне кажется, он тоже убеждал в чем-то К. Попробуйте поискать этого физика.
Личные заметки следователя: Критика повлияла на расположение духа! Есть основания для дела о понуждении к самоубийству? Не вижу!!! Даже если и нашлась бы предсмертная записка с упреками, все равно нет оснований. Советский писатель приветствует критику. Блондинка, только блондинка!!!
11. Заявление
В связи с делом о розыске исчезнувшего К. прошу оформить мне командировку в Москву на трое суток для опроса жены, родных и знакомых исчезнувшего с целью выявления его личных склонностей и привычек.
12. Письмо следователя. Три дня спустя
Уважаемый Василий Степанович!
Обращаюсь к Вам как к бывшему учителю, не только как к непосредственному начальнику. Как Вы посоветуете?
Поехал я в Москву допрашивать жену исчезнувшего и, честно говоря, даже хотел проверить версию злоумышленного участия жены в убийстве мужа; помню, Вы объясняли нам, что был такой случай в Саранске. Но фактов никаких, и внешнее впечатление против этой версии. Самостоятельная женщина, кандидат наук, в наследстве не нуждается. Да и нет там никакого наследства: ни дачи, ни машины, ни ковров каких-нибудь, на книжке 600 рублей, доверенность на нее же, на жену. Очень нервная. Нос красный, глаза красные, заплаканные, а сама на крик то и дело: «Вы плохо ищете. Человек погиб или погибает, а вы тут время теряете, буду жаловаться!» Припомнила, что муж хотел зайти к учителю географии Артемию Семеновичу, но пустой оказался номер. Я навел справки, старик умер, как раз недавно — 9 октября. Еще намекал ей насчет случайных знакомств. Опять в крик: «Не может быть, мы двадцать лет женаты, в ноябре юбилей, не было такого. Ищите на окраинах, — твердит. — Он у меня фантазер, чудак, любит бродить в пустынных местах, там, где люди не ходят. Забрел куда-нибудь и пропадает».
Ну вот, как бы Вы посоветовали, Василий Степанович? Вы меня учили рассуждать логически, меня логика выводит на эту блондинку. По версии чудаковатого поведения я не умею искать.
13. Записка от начальника
Толя, приветствую!
Городской розыск тебе разрешен.
Считаю, что действуешь в основном правильно. Блондинку ищи. Но не упускай из виду и чудаковатости. Логика логикой, а подход должен быть индивидуальный. Имеешь дело с писателем, чья личность выражается и в произведениях тоже. Мой тебе совет, почитай книжечки исчезнувшего, потрать вечерок-другой. Может быть, он в народ мечтал уйти, как Лев Толстой, и теперь подался в землекопы или лесорубы. У меня все пока. Почитай внимательно!
14. Из личных заметок следователя
Третий вечер читаю эту чертову фантастику, аж в голове трещит. Ракеты, планеты, кометы, дюзы, музы, грузы, пришельцы всякие. Вообще-то занятно, но к делу отношения не имеет. Насчет совхозов и лесхозов номер пустой. Исчезнувший больше интересовался будущим, космическим, земным, океаническим. Главный герой у него, одержимый японец, всюду возвел вулканы, чтобы океан теснить, моря осушать, увеличивать территорию Японии. Может, и потерпевший отправился на Дальний Восток моря осушать?
Но сомнительно. Без денег, без паспорта, без вещей!
Заметил в той же книге рассуждение о самоубийстве. Автор такое пишет: самоубийцу не надо осуждать, если он отработал 25 лет, вернул народу силы и средства, затраченные на обучение и воспитание. Долги уплатил и имеет право вешаться.
Ненормальный этот автор. Всякое можно ожидать.
15. Из показаний Ф. — кандидата физико-математических наук
С г-ном К. я познакомился на семинаре 1 ноября. Читал его вещи ранее, удивился, что грамотный и, видимо, рассуждающий человек сочиняет такие наивные ненаучные произведения, наполненные элементарными информативными ошибками. После обсуждения, на товарищеском ужине, разговорился, пригласил к себе домой. Сидели до трех часов ночи, потом К. заночевал у меня. Утром я отвез его в гостиницу на своей машине. Дорогой К. говорил, что в тот же вечер уедет в Москву. Более ничего о нем не знаю. Об исчезновении услышал впервые на следствии. Где я сам был в эти дни? В Пскове и в Михайловском, в Пушкинском заповеднике. Ездил туда на машине. Зачем? Просто так. Суббота, воскресенье плюс праздники, почти целая неделя свободная. На Байкале бывал, в Канаде бывал, а в Пскове не удосужился. Стыдно же! Выехал 2 ноября, после обеда, поспал немного, и поехали. Нет, не один, компанией ехали, на трех машинах. Фамилии могу назвать, не секрет. Конечно, подтвердят.
Знаю ли я блондинку с прической «конский хвост»? Более или менее. Это моя законная жена, первая и единственная, с которой я живу восемь лет и собираюсь жить дальше. Сейчас позову.
16. Из показаний г-ки Ф., работающей в организации п/я № …
Могу подтвердить показания мужа. С писателем К. я познакомилась в пятницу вечером в ресторане Дома литераторов. Муж был приглашен как участник семинара и взял меня с собой. Случайно оказались рядом с К., разговорились, затащили домой.
О своих намерениях К. ничего необычайного не говорил. Теперь вспоминаю, что он смотрел на свое будущее мрачно. Сказал, что жить не захотел бы, если бы не смог писать книги. Я еще спросила: «А вы уверены, что можете писать книги?» Спросила потому, что я эту фантастику в руки не беру, удивляюсь, кто ее может читать вообще. Мог ли он сделать грустные выводы для себя? Не знаю. Кто же делает выводы из женского трепа?
Потом мы с мужем уехали в Псков. Больше я не видела К.
17. Характеристика
Гражданка Д. Ф. работает в организации п/я № … начиная с 1.III.19… г. в должности заместителя заведующего лабораторией специального назначения. Проявила себя ценным и дисциплинированным работником, является автором рационализаторских предложений.
Идейно выдержанна, морально устойчива. Отношения с товарищами хорошие…
18. Личные заметки следователя
Вот тебе и блондинка с «конским хвостом»! Утерся? Но в результате прослежено полностью времяпрепровождение К. накануне исчезновения.
Пятница 1.XI
11.00–18.00 — работа семинара.
19.00–22.00 — банкет.
Ночь на 2.XI
22.00–9.00 — в гостях у Ф.
Суббота 2.XI
9.00–11.00 — гостиница, отдых.
12.00–15.00 — в гостях у Л.
16.00 — возвращение в гостиницу.
17.00 — уход из гостиницы, исчезновение.
Итак, в 16.00 приходит в гостиницу и говорит о намерении спать до поезда. Час спустя покидает гостиницу. Что изменилось за час? Телефонный вызов? Чей? Ф. уже уехали в Псков. Новое лицо? Никаких намеков не было. Самому что-то взбрело в голову? Версия чудачества опять?
Единственная надежда — городской розыск.
19. Из показаний фармацевта А. — работника аптеки № …
…Вообще-то клиентов не примечаем, очень много проходит за смену. Но этого запомнил по особенному разговору. Йод покупал, заплатил за десять бутылочек. На йод ограничений у нас нет, отпускаем в одни руки сколько спрашивают. Но нормальному покупателю хватает одного флакончика. Подивился: «Рана большая, что ли?» А он в ответ: «Разве йод ядовитый? Губы мажут же». Разъясняю: «Все хорошо в норму, по предписанию рецепта. Можно губу помазать йодом, можно и желудок сжечь». — «Хорошо, — говорит, — я не все сразу выпью». Шутит, но не улыбается. Ну я растабарывать не стал. У меня клиенты в очереди шумят.
Когда это было? Точно не помню, не обмануть бы. Вроде перед праздником за несколько дней.
20. Из показаний г-ки Т. — кондуктора трамвая № …
Летом пассажиров полно, битком набито, стоят на одной ноге, потому другую поставить некуда. Осенью, однако, до парка порожняком гоняем. И вот под вечер, в субботу, этот ехал без шляпы, пальто драповое, длинноватое против моды, и полуботиночки, несмотря на слякоть. Ему бы на Невском тротуары топтать, нечего делать в парке осенью. Непонятная личность. И ведет себя странно. Пузырьками какими-то бренчит, на свет их смотрит, сам с собой разговаривает, как психический. Глядит на пустое место и бормочет. Один раз даже в голос крикнул: «Решусь!» Хотела даже спросить: «На что решаетесь, гражданин?» Да посовестилась, не приучена мужиков задирать. Доехал до самого кольца, слез и потопал по лужам. Я еще приметила — не к дачам завернул, а в парк — прямо. Но время было позднее, я побежала в будку погреться, мне за мужчинами ни к чему присматривать.
21. Заключение по делу о розыске исчезнувшего гр. К.
Хотя гр. К. или тело его до сего времени не обнаружено, тем не менее установленные факты свидетельствуют о нецелесообразности объявления ограниченного всесоюзного розыска.
1) Установлено, что гр. К. вышел 2 ноября около 17.00 из гостиницы «Октябрьская», не имея при себе ни документов, ни вещей, ни значительных сумм денег, без шляпы и в городских полуботинках, то есть не был подготовлен для дальней дороги.
2) Из книги гр. К. «Ота-океаноборец», гл. 30, видно, что автор давно размышлял о самоубийстве, оправдывая это недостойное сознательного человека деяние, считал его допустимым при наличии трудового стажа свыше 25 лет, каковой у г-на К. имелся.
3) Хотя конкретных поводов для самоубийства у г-на К. не называлось, но, как показывает писатель Л., работники литературы крайне болезненно воспринимают критику и самокритику. Как раз за сутки до исчезновения состоялся семинар, где писателю К. разъяснили, что он не обладает достаточной одаренностью. После того, в ночь на 2.XI с. г., в откровенной беседе с г-кой Ф. исчезнувший заявил, что он и жить не захотел бы, если бы не смог писать книги.
4) Установлено, что, выйдя из гостиницы, К. закупал йод в количествах, опасных для здоровья, при этом осведомлялся о размерах ядовитой дозы.
5) Установлено, что после этого гр. К. ехал на трамвае до загородного парка и вел себя странно: сам с собой разговаривал, громко заявил: «Я решусь!» И при этом рассматривал бутылочки с йодом.
6) Установлено далее, что, доехав до кольца, гр. К. удалился в сторону парка, безлюдного в это время года.
Другие выходы из парка к железнодорожным станциям или на автомагистрали отсутствуют. Прохождение через парк для отъезда в другой населенный пункт нецелесообразно.
Все это приводит к наибольшей вероятности версии самоубийства.
Примечание.
Тело исчезнувшего в парке не обнаружено. Но поскольку низины парка были затоплены во время наводнения 4 ноября с. г., а в дальнейшем схлынувшая вода унесла в залив ряд временных летних строений и даже древесные насаждения, тело исчезнувшего, если таковое находилось в парке, должно было оказаться вынесенным в залив.
Все факты, известные следователю, изложены. Читатель может сделать вывод самостоятельно.
Сделали? А теперь сверьте догадку с рассказом самого исчезнувшего.
Приглашение в зенит
Тррр!
Телефонный звонок.
Пронзительный, напористый, требовательный, тревожный. Тррр! Сними же трубку, по-хорошему просят.
В прежние времена неожиданность входила в жизнь стуком, набатом, заревом, цокотом копыт, лаем собак, криками, выстрелами. У нас все приключения начинаются с телефонного звонка.
Но я не хочу приключений сегодня. Лежу на кровати, свесив руку, лежу усталый и беззащитный, жду-жду-жду, когда же уймется этот ненужный звонок.
Ну кто позвонит мне сюда, в гостиницу? Ошибка, наверное, как вчера в шесть утра. «Внимание, с вами будет говорить Баку. Арсэн, Арсэн, слышишь меня, Арсэн? Я послала орэхи самолетом, встречай самолет с орэхами…»
Да не Арсэн я, пропади ты пропадом, торговка! Где твой Арсэн? Откуда я знаю? В милиции, надеюсь.
Ненавижу гостиницы. Что-то есть противоестественное в комнате, которая сдается всем подряд. Что-то неправильное в этой пропахшей табачным пеплом мужской неуютности, в бездушной рациональности, когда на письменном столе не лежат блузки, а под подушкой нельзя найти взвод солдатиков в засаде. Мне душно в этой пустоте. Я хочу домой, в мир разбросанных блузок и штампованных солдатиков, в милый перевернутый мир, где одеяло — поле боя, а папка с рукописью — подставка для утюга.
Разве я жалуюсь на семью? Жаловаться на близких неделикатно — это признак пошлой бесхарактерности. Наоборот, восторгаюсь. Хотя восхищаться близкими тоже не принято — это признак пошлой сентиментальности. Нет, правда, у меня прекрасная жена. Она — единственный в мире человек, который делает нужное раньше приятного и третьестепенное раньше главного. Сын — тот в другом роде. Мы никак не можем его убедить, что сначала надо переписать дневник, подравнивая буквы с одинаковым наклоном, а потом уже идти в кино. Лично я не могу убедить, потому что сам не убежден. Может быть, ему кино полезнее, чем чистописание.
Звонит неугомонный.
По существу, не надо бы валяться в номере. Сегодня последний день в Ленинграде, и не грешно бы сходить в Эрмитаж, повосторгаться тициановой Магдалиной с распухшими от слез губами и нежными красками Рафаэля. Но не пошел. Не люблю восторгаться там, где положено восторгаться. По-моему, Рафаэль слащав. Вот такое у меня мнение. Собственное!
Да, вы угадали, я зол, я устал и разочарован, я высосан и измочален. Боком мне вышла эта поездка в Ленинград. Боком!
А началось так мило: «Уважаемый имярек, ваша последняя книга вызвала всеобщий интерес. Многие читатели хотят высказать свое мнение. Мы были бы очень обязаны, если бы вы смогли приехать, чтобы лично принять участие в симпозиуме, посвященном…»
Это очень лестно, если «книга вызывает всеобщий интерес». Я крайне сожалел, что не могу взять с собой всех родных и знакомых, чтобы они своими ушами услышали, какой я умный. А кто у меня в Ленинграде? Дятел только? Надо будет обязательно позвонить, пригласить его на симпозиум.
Дятел, как вы догадываетесь, прозвище, а не фамилия. Так окрестили мы, непочтительные восьмиклассники, нашего учителя географии. Нос у него был как у дятла, крупный и прямой, колун, а не нос. И короткая шея, убранная в плечи, и характерный жест: выскажется и голову набок, поглядывает иронически. Признаю, поверхностное прозвище. Дятел все-таки глупая птица, трудно рассуждать, если голову употребляешь как долото. Но вид у него преумный. Долбит-долбит трудолюбиво, что-то выковыривает, рассматривает правым глазом, рассматривает левым, словно оценивает всесторонне. Вот и наш учитель любил расковыривать факты, причины, связи, аналогии, докапываясь до скрытой сути. Вытащит суть и на нас посматривает: каково? проняло ли? шевелятся ли извилины под лохматыми прическами?
Приятно же этому Дятлу послушать, как симпозиум оценит посаженные им мысли.
Я позвонил ему из гостиницы сразу же, как только вошел в номер.
— Можно Артемия Семеновича?
Пауза. Покашливание.
— А вы кто будете?
— Я его ученик. Из Москвы.
Опять пауза. Кого-то спрашивают шепотом. И вслух:
— Артемий Семенович умер девятого числа.
— Умер! Да не может быть!
Еще не старый совсем. На сколько он был старше меня — лет на восемь? Рядом бьет шрапнель, впереди уже нет никого. Ни спросить, ни посоветоваться. Своим умом живи.
Ощущения эгоиста? Возможно. Но я же не выдаю себя за образец. Люди — сложные существа, во всех нас доброта сплавлена с эгоизмом. Разве не эгоистично каноническое причитание: «На кого ты меня покинул, родимый?» Покинул меня!
А давно ли он пришел к нам в класс — молодой, черноволосый, с решительным носом! Пришел почему-то в середине года — в феврале. До него же преподавала географию Мария Никандровна — пышная дама с буклями, раз и навсегда восхищенная подвигами великих путешественников, почитавшая знаменитостей молитвенно и восторженно и считавшая своим долгом прививать эту восторженность нам — лоботрясам.
Учиться у нее было легко и скучновато. География превратилась в святцы: святой Колумб, святой Кук, святой Амундсен. Отвечая, надо было показать маршрут на глобусе и с пафосом рассказать о заслугах. Мой приятель Дыня (тоже прозвище) держал пари на десять пирожных, что о Колумбе и Куке расскажет одними и теми же словами. И пирожные получил. Пятерку тоже.
И вот, нарушая это дремотное спокойствие, в класс вторгся Дятел и с ходу прочел нам лекцию о миграции материков и полюсов. Честное слово, в географию это не входило. Но у Дятла были свои представления о границах предмета, о границах наук вообще. Даже не знаю, что он нам преподавал: геохимию-геологию-геотехнологию-геоэкономику-геореконструкцию — некую «глобалистику», о которой только сейчас заговаривают. Никандровна описывала нам лик Земли, Дятел — планетарную строительную площадку. Мы все писали у него рефераты-проекты: «Орошение Сахары», «Отепление Арктики», «Подводное земледелие», «Если бы Урал тянулся с запада на восток». Про осушение Средиземного моря писал я. Не от той ли темы родился мой «Ота-океаноборец»?
Как горько плакали у Дятла милые и старательные девочки, безупречно знавшие точные ответы на заранее поставленные вопросы (компьютеру им сдавать бы), способные спросонок наизусть ответить, что столица Гватемалы — Гватемала, Сальвадора — Сан-Сальвадор, а Гондураса не Гондурас, а вовсе Тегусигальпа.
— А почему все это разные государства? — спрашивал Дятел. — Ведь сначала же была единая Центрально-Американская Республика. Вы этого не проходили, Танечка? Безусловно, не проходили. Но не хочется ли вам подумать своей собственной хорошенькой головкой? И в каком же классе вы начнете думать? Я бы не советовал откладывать до замужества, даже для замужества полезно думать.
«Замечательно» было любимым словом Никандровны. Дыня подсчитал, что на одном уроке она произнесла «замечательно» 78 раз. Дятел предпочитал «любопытно» (16 раз за урок в среднем). Земля, природа, народы и мы, ученики, представлялись ему любопытными явлениями. Он наслаждался пониманием, любил извлекать истину из-под коры слов. Истины же предпочитал неожиданные, парадоксальные. Его так увлекала сложность мира и процесс понимания этой сложности.
И вот он умер. Три недели назад, девятого числа.
Я решил почтить его память, во вступительном слове сказал о нем на симпозиуме. Хотел отдать дань уважения, но боюсь, что прозвучало это самодовольно: вот, мол, у скромного учителя понимания выросли такие пониматели, как я. Так или иначе, сказал, уселся в президиуме, положив локти на красную скатерть и благодушно поглядывая на молодых читателей (и читательниц), желавших высказать свое мнение о книге, «вызвавшей всеобщий интерес».
Но тут началось непредвиденное.
На трибуну вышел молодой человек с оттопыренными ушами, кандидат физматнаук такой-то, и заявил:
— Один видный ученый так сказал о своем ученике: «Хорошо, что он стал поэтом, для математики у него не хватает воображения». Видимо, замечание это было очень глубоким и метким, ибо, встречаясь в жизни своей с так называемой научной фантастикой, я всегда поражался редкостному отсутствию воображения у авторов. Я представляю себе, что, если бы фантасту XVIII века кто-нибудь шепнул, что из Петербурга в Москву надо будет возить по миллиону пудов в сутки, что живописал бы он? Конечно, гигантскую телегу величиной с дом и упряжку битюгов размером с жирафа. Фантасты XX века знают, что к Луне летают на ракете. И что изображают они, пытаясь рассказать о полете к звездам? Нехимическую, фотонную, субсветовую, но все равно — ракету. Космического битюга! И что вообразит фантаст, если речь зайдет об осушении океана? Насос! Примерно такой, какой качает у него воду на даче из колодца, но побольше — насос-битюг. Я могу привести расчеты, если вас не пугают цифры…
И он действительно привел расчет, из которого получалось, как дважды два четыре, что если все берега Японского моря уставить насосами, они будут выкачивать воду 177 лет и три месяца с половиной. При этом уровень океана поднимется на пять метров, в результате человечество потеряет больше, чем приобретет.
Этого молодого человека я начал слушать с благодушной улыбкой, так и застыл, забыв согнать улыбку с лица. Спохватился, когда он уже сходил с трибуны. А на его месте уже стоял другой оратор — седоватый, румяный, с острой бородкой. Председатель назвал фамилию. Конечно, я знал Л. — автора лирических рассказов о лесниках и рыбаках, простых людях, у которых набираешься мудрости, сидя у дымного костра комариными ночами.
— Не совсем понимаю, для чего тут называли цифры, — так начал он. — У нас ведь не проект обсуждается, а книга, художественное произведение. А что есть художество? Это изображение. Художник рисует красками, писатель — словами. Вот ноябрьская осень: белые тропинки на зеленой траве. Голая земля уже промерзла, обледенела, заиндевела, а под травой теплее — там снег тает. Замерзшие лужи аппетитно хрустят, словно сочное яблоко. Под матовым ледком белые ребра — ребристая конструкция, как у бетонного перекрытия.
Может быть, бетонщики у луж позаимствовали схему? Вот такие штрихи копишь для читателя, складываешь в память, на подобных ребрах держится художественность. Но я не понимаю, может быть, мне здесь объяснят на симпозиуме, на каких ребрах держится фантастика? В будущем никто из нас не бывал, в космосе автор не бывал, океаны не осушал. Какими же наблюдениями он потрясет нас? Как поразит точной деталью, удачным словечком, если все он выдумывает от начала до конца. Я прочел десять страниц и сдался. Язык без находок, холодный отчет, деловитая скороговорка. И я подумал: может быть, так называемая фантастика просто эскапизм — бегство от подлинных тревог действительной жизни в нарядный придуманный мир. И одновременно эскапизм автора — бегство от подлинных тягот мастерства в условную неправдивую нелитературу. К образу марсианина упреков нет, никто не видел марсиан, описывай как хочешь, первыми попавшимися стертыми словами. На рынке принимают стертые монеты, невзыскательный читатель принимает стертые слова. Но это не-ис-кус-ство, не-ли-те-ра-ту-ра!
А там пошло и пошло. Наслушался я комплиментов. Одни поддержали физика, другие — лирика. И хотя к заключительному слову я наготовил достаточно возражений, едва ли мне удалось отбиться. В преглупом положении оказывается повар, уверяющий, что суп был отменный… или же писатель, уверяющий, что его книга отменная. Суп — дело вкуса. Некоторые вообще не любят супов. Некоторые вообще не принимают фантастику.
Тррр!
Трескуче! Требовательно! Настырррно!
— Ну кто там?
— Миль пардон! Простите великодушно, сударь, что я нарушаю ваше одиночество. — Голос старческий, надтреснутый, слова выговаривает медленно, словно прожевывает каждое. И лексика какая-то нафталиновая: — Я обращаюсь к вам исключительно как читатель. («Знаем мы этих читателей — непризнанный поэт или изобретатель вечного двигателя».) Мне доставило величайшее наслаждение знакомство с вашим вдохновенным пером. Я просил бы разрешения посетить вас, чтобы изъяснить чувства лично.
— К сожалению, я уезжаю в Москву сегодня.
— Я звоню из вестибюля гостиницы. Если позволите, поднимусь сейчас на лифте. Я специально приехал из пригорода. Буду обязан вам чрезвычайно по гроб жизни…
— Ну хорошо, если вы специально приехали…
Проклятая мягкотелость! Теперь еще вставать, галстук завязывать. Ладно, минут пять еще есть. От вестибюля путь не близкий: лифта надо дождаться, подняться на пятый этаж, пройти длиннющий коридор с красной ковровой дорожкой и еще более длинный — с синей. Полежу подумаю. Так на чем я остановился?
Что я не отбился, никого не убедил в собственной правоте. Чем убеждать? У меня слова, и у них слова. Но беда в том, что мечтатели говорят о гадательном будущем, которое за горизонтом, а скептики о подлинных сегодняшних трудностях. И скептики правы сегодня, но мечтатели все-таки правы завтра. Однако не каждому удается дожить до этого завтра.
Потом был банкет, скромный банкет в складчину. Отказаться было неудобно, обиженному неприлично показывать, что он обижен. Мы сидели за длинным столом, поднимали бокалы за председателя, секретаря, устроителей, гостей, ленинградцев, москвичей и закусывали коньяк заливной осетриной. Наискось от меня оказался ушастый физик, почему-то он не пил ничего, а рядом — блондинка спортивного вида с «конским хвостом» на макушке и экзотическим именем Дальмира. Эта охотно чокалась и лихо опрокидывала. После четвертой рюмки я захмелел и зачем-то начал жаловаться блондинке на ушастого физика. Дальмира вспыхнула, сказала, что заставит его загладить обиду немедленно. Трезвенник был призван; оказалось, что он законный муж «конского хвоста». Ему велено было извиниться, а мне — принять извинения и в знак примирения и вечной дружбы немедленно ехать к ним в гости.
Я не стал упрямиться. На вкус и на цвет товарищей нет. У читателей могут быть свои вкусы. Даже моей жене нравится не все подряд. К тому же коньяк кончился, а до полуночи было еще далеко.
Супруги увезли меня на своей машине, какой-то особенной, трехцветной, бело-черно-голубой. Физик сел за руль, потому-то он и не пил на банкете. Вел он лихо и всю дорогу рассказывал, как ему удалось поставить какое-то необыкновенное кнопочное управление. И в квартире у него все было необыкновенное: потолки цветные, на дверях черно-красные квадраты и старинные медные ручки. И салат подавали не на тарелках, а на листьях, а листья лопуха специально хранились в холодильнике. Потом еще был сеанс любительских фильмов о Каире, Риме, Монреале, Суздале и Сестрорецке. И всюду физик был главным оператором, а Дальмира — кинозвездой. Оказывается, у них, у физиков, принято ездить на конгрессы с женами. И вот я любовался, как «конский хвост» развевается на фоне пирамид, колонн, небоскребов, соборов и пляжных зонтиков. Я восхищался, высказывал восхищение вслух, а сам думал: зачем же нужно было бить наотмашь, а потом улещивать? Все ждал объяснений, в конце концов сам завел разговор.
— Есть темы, — сказал я, — и есть детали. Книги пишутся не о насосах.
— Вот именно, — сказал физик. — И не пишите о насосах.
— Я и не писал о технике, — выгребал я на свою линию. — Я писал о перспективах развития. Бытует модное мнение, что планета наша тесновата, иные за рубежом воинственность оправдывают теснотой. Океан у меня не просто Тихий океан, это символ простора. Я хотел доказать, что впереди простор у человечества.
— Но вы не способны доказать, — возразил физик. — Доказывает наука опытами, точными цифрами. А наука в наше время так сложна, так глубока и содержательна, она не по плечу дилетанту. Каждая лаборатория — это же цех, синхрофазотрон — целый завод. Открытия не делаются за письменным столом, ваши кустарные рассуждения только отнимают время у специалистов. Уверяю вас, мы справимся без вас. Сделаем все, что потребуется, рассчитаем на сто лет вперед. И океаны ваши осушим, новые нальем тоже. Но не убогими насосиками. Прошу вас, не пишите про насосы, расскажите нам о людях. Вы писатель, люди у вас получаются. Этот японский юноша, возненавидевший океан, угнетающий его родной остров, превосходен, просто великолепен. (Преувеличенные эпитеты за счет вина.)
— Владик, ты хотел нам Эльбрус показать, — сказала блондинка капризным тоном. — Там чудные слайды: канатная дорога и я на такусенькой жердочке.
Физик с энтузиазмом переключился:
— Сейчас, ребята, поскучайте минуточку. Я подберу по порядку.
И исчез за дверью.
Дальмира взяла меня за руки, заглянула в глаза:
— Вы не обиделись?
— Честно говоря, обиделся. Выражаясь высокопарно: «Я — это мои книги». Возможно, я и жить не захочу, если пойму, что мне не стоит писать.
— А я могу не писать, могу не работать, не убирать и не готовить обед. Могу лежать на диване и не думать. Скучно? Вот почему я такая скучная, объясните, инженер человеческих душ.
Выпил я лишнее, а то бы не взялся отвечать на такие вопросы.
— Вам скучно потому, что вы имеете возможность лежать и не думать. Женщине вообще скучно, если у нее нет детей. Это избитая истина, но избитые истины тоже бывают справедливыми, даже чаще, чем парадоксы.
— А зачем дети? — протянула она. — Ведь дети — повторение пройденного. Ну будет у меня девочка, я научу ее говорить, читать. Станет она читать про любовь, мечтать о любви, искать, пробовать, менять. И годам к тридцати поймет, что все мужчины одинаковы. Как я поняла. Но еще через тридцать лет.
Я молчал. Мне ее переживания казались надуманными.
— А вы не считаете, что все мужчины одинаковы?
— Вам виднее. Вероятно, одинаковы. Все, кроме любимого.
И тут она поцеловала меня. Прижалась, впилась губами. Губы были горячие, липкие и сладкие от вина, а глаза открыты и смотрели холодно, словно приглядывались: «А ты как любишь, инженер душ? Как все или по-особенному?»
Из соседней комнаты послышался голос физика:
— Ребята, вы не скучаете там? Сейчас я приду, я уже заканчиваю.
Часа в три меня уложили подремать на диване, а в восемь физик отвез меня в гостиницу. Я поднялся на пятый этаж, преодолел коридор с красной дорожкой и коридор с синей дорожкой, и дежурная вручила мне вместе с ключом записку — сверхлюбезное и настойчивое приглашение Лирика на обед в семейном кругу. И не было основания отказаться. Физика я посетил, почему обижать отказом Лирика?
Лирик жил на окраине, где-то за Старой Деревней, в вылинявшем серо-голубом доме с резными наличниками. Видимо, лет двадцать назад здесь были дачи; теперь город пришел сюда, многоэтажные корпуса обступили садики, выше сосен поднялись строительные краны, под самым забором Лирика, рыча, ерзал бульдозер. Я долго ждал за калиткой, слушал нервический лай собаки, потом меня провели через мокрый сад с голыми прутьями крыжовника и через захламленную террасу в зимние горницы. Там было натоплено, уютно, душновато и стол уже накрыт. Опять я пил, на этот раз приторные домашние наливки, и закусывал маринованными грибками, подгорелыми коржиками и вареньем пяти сортов.
Лирик рассказывал о своем саде: какие там летом яблони, и жасмин, и настурции, и ноготки, и где он достает черенки, и откуда выписывает рассаду. Показывал трофеи охотничьих похождений: чучело глухаря, шкурку лисицы. А я слушал и удивлялся: зачем же было нападать так яростно, чтобы потом радушно угощать? Все ждал объяснений, потом сам завел разговор.
— В литературе есть темы и есть детали, — сказал я. — Книги пишутся не о насосах.
— В точности это самое я и говорил вчера, — подхватил Лирик. — Вы понимающий инженер, это чувствуется в каждой строчке. Но книги пишутся не о насосах. Есть только три вечные темы: любовь, борьба, смерть.
— Я и писал на вечную тему, — упрямился я. — Писал о вечной борьбе человека с природой, скуповатой и неподатливой. Писал о споре разведчиков с домоседами. Во всех веках идет дискуссия: рваться вперед или тормозить? И что впереди: вечный подъем или предел, застой и гибель? Мне лично скучно было бы жить, знай я, что мое поколение предпоследнее. Вот и хочется показать, что впереди простор, наука может обеспечить тысячелетнее движение…
И тут в разговор вмешалась жена Лирика. До сих пор она сидела молча, с поджатыми губами, ни слова не говоря, пододвигала вазочки с вареньем.
— Что она может, ваша наука? Лечить не лечит, губит все подряд. Вот-вот-вот! — Она показала на окно. — Такая благодать была, выйдешь на террасу, сердце радуется. А теперь на розах копоть, яблони не плодоносят. А вы говорите: «Наука обеспечит!»
И она выплыла, хлопнув дверью, монументальная, полная достоинства и благородного гнева.
Лирик, несколько смущенный, погладил мою коленку:
— Не обижайтесь на нее, дорогой. Вы поймите: людям нужны простые понятные радости: бабушке — внуков понянчить, дедушке — с удочкой посидеть у залива, послушать музыку тишины. Сейчас за тишиной надо ехать в Карелию, километров за двести. На двести километров от города под каждым кустом бутылки и консервные банки. И тут еще ваша мечта о насосах, выпивающих море. Я прочел, меня дрожь проняла. Представил себе эти ревущие жерла, глотающие всю Малую Невку зараз. А потом вместо залива топкий ил, вонючая грязь отсюда и до Кронштадта, ржавые остовы утонувших судов, разложившиеся утопленники. Дорогой мой, не надо! Пожалейте, будьте снисходительны. Оставьте в покое сушу, море и нас. Мы обыкновенные люди с человеческими слабостями. И писать для нас надо, учитывая слабости: чуточку снисхождения, чуточку обмана даже, утешающего, возвышенного. А у вас холодная и точная логика конструктора. Она словно сталь на морозе, к ней больно притронуться. Вы цифрами звените, как монетами, все расчет да расчет. Для писателя у вас тепла не хватает.
И вот, разоблаченный, я лежу на гостиничной койке, бессильно свесив руки. Для науки у меня не хватает воображения, для литературы — тепла. И тут еще является читатель, который, испытав величайшее наслаждение, хочет изъявить чувства лично…
Стук!
Как, уже? Преодолел лифт и две ковровые дорожки?
— Миль пардон! Я имею честь видеть перед собой?..
Грузный, лысый, с шаркающей походкой. А одет нарядно: запонки на манжетах, манишка, старомодный шик. И французит. У нас это вышло из моды лет пятьдесят. Из эмигрантов, что ли?
— Простите, по телефону не расслышал вашу фамилию.
— Граве, Иван Феликсович Граве, с вашего разрешения.
— Астроном Граве? Но мне представлялось, что вы гораздо старше.
— Я не тот Граве, не знаменитый. Тот — мой двоюродный дядя. Он умер недавно в Париже. Меня тоже увезли в Париж мальчиком. Там я учился, там работал. Но Петербург в моей семье всегда считали родным городом. И вот удалось вернуться на склоне лет.
«Ну и чего же ты хочешь от меня, племянник знаменитого дяди?»
— Миль пардон, — пыхтит он. — До сих пор я не имел чести лично, тет-а-тет, беседовать с писателем, жени-де-леттр. Даже смущен немножко. И недоумеваю. По вашим вещам я составил себе представление о вас, как о юноше порывистом, нервозном, с пронзительным взором и кудрями до плеч. Я полагал, что фантастика, как поэзия, жанр, свойственный молодости. А вы человек в летах, склонный к тучности, я бы сказал…
«Что за манера — прийти в гости и вслух обсуждать фигуру хозяина».
— Внешность обманчива. Кто же судит по внешности? — Слова мои — чистейшая демагогия. Все мы судим по внешности. Молоденькая и хорошенькая — значит милая девушка. Прилично одет — уважаемый человек, плохо одет — подозрительный.
— Но согласитесь, однако, что человек с моим обликом не может сделать великое открытие.
«Все ясно — непризнанный изобретатель. Сейчас будет уговаривать написать о нем роман».
— Для открытия прежде всего нужна аппаратура, — говорю я. И собираюсь повторить слова Физика о синхрофазотроне.
— Да-да, аппаратура, оборудование, — подхватывает он. — Астроном, прикрепленный к рекордному телескопу, как бы получает ярлык на открытие. Впрочем, и тема играет роль. Вы заметили, что широкую публику интересуют не все разделы астрономии, а только экстремальные, краевые. С одной стороны — очередное, достижимое: Луна, Марс, Юпитер, с другой стороны — наиотдаленнейшее: квазары, пульсары, предельное и запредельное. Альфа и омега!
— А на вашу долю выпала буква в середине алфавита?
— Именно так, отдаю должное вашей проницательности. Мю, ню — что-то в таком духе. Выпала, досталась, определена судьбой. Знаете, как это бывает: молодой специалист идет туда, где место есть. Дядя устроил меня к Дюплесси, шеф занимался шаровыми скоплениями, мне поручил наблюдение переменных в шаровых. Так я и застрял на этой теме. А кого интересуют шаровые? От Солнца тысячи или десятки тысяч парсек. Практически недостижимы, философского интереса не представляют. Среднее звено. Ученый, работающий в среднем звене, невольно считается средним.
Я окончательно перестал понимать, к чему клонит мой гость. Сочувствия ищет, что ли? Предложит написать роман о судьбе гения, вынужденного заниматься маловажным делом?
— Среднее, невыразительное звено, — продолжал Граве. — Хотя на самом деле там много таинственного и непонятного. Проблема равновесия, например. Ведь шаровые не вращаются. По закону тяготения все звезды должны бы падать к центру, падать и взрываться. Однако же не взрываются. Построена качающаяся модель: светила падают и взлетают, падают и взлетают… Увлекательнейшая проблема…
— Вероятно, увлекательно для специалистов, — сказал я. — Для избранных. Рядовых людей волнует то, что их касается. Есть ли жизнь в космосе, например?
— Да-да, жизнь в космосе, всем нужна жизнь в космосе. — Он сокрушенно покачал головой. — Когда Моррисон и Коккони ловили сигналы с Тау Кита, об этом писали газеты во всем мире. А что может быть наивнее: из миллиардов звезд выбрать одну и надеяться, что именно оттуда идут радиопередачи? Уж лучше бы направили радиотелескоп на шаровое. Сотни тысяч звезд в одном направлении, в тысячи раз больше шансов, чем у Моррисона и Коккони.
Я насторожился. Кажется, этот Граве — человек с сюрпризом.
— Вы ловили сигналы?
Но он тотчас же ушел в кусты:
— Нет, я только хотел спросить вашего совета, как человека, размышляющего о вселенских проблемах. Я предполагал написать небольшую повесть о сигналах из шарового. Вот мой герой ловит сигналы из космоса. Что ему передают, как бы вы посоветовали?
«Ах, совет всего лишь? Ну, этого добра хватает».
— О сигналах написаны сотни повестей, — сказал я. — Надо придумать какой-нибудь оригинальный способ. Пускай ваш герой-астроном, как и вы, наблюдает переменные звезды. Но сама переменная может быть передатчиком. Звезда мигает, допустим, та цивилизация управляет вспышками, посылает точки и тире в пространство.
— Значит, вы советуете мне внимательно наблюдать неправильные переменные в шаровом?
«Темнит этот Граве. Путает».
— Разве я астроному советую? Я советую вставить в повесть.
— Да-да, я именно это имею в виду: описать наблюдение переменных. А что конкретно, извините за назойливость, вы рекомендовали бы передавать со звезд точками и тире?
— Обычно предполагают передавать какую-нибудь математическую истину: 2×2=4, или 3×3=9, или: 3–4–5 — стороны египетского треугольника — свидетельство грамотности в пределах начальной школы. Но до шаровых десятки тысяч световых лет, нет возможности дождаться ответа на вопрос. Надо сразу сообщить что-либо существенное. Говорят, всю сумму знаний можно вместить в часовую передачу.
— Сумму знаний вы рискнете посылать неведомо кому?
— Пожалуй, не рискнул бы. Но тогда, может быть, стоит передать чертеж космического корабля. Вот вам карета, приезжайте в гости.
— При условии, что на Земле сумеют сделать эту карету.
— А как же иначе? Ну, если бы Они побывали на Земле, Они могли бы оставить корабль в какой-нибудь пещере. Тогда можно было бы сообщить ее координаты или же карту с крестом, как в «Острове сокровищ».
Граве, кряхтя, поднялся с кресла. Вытянулся, словно премию собирался вручить.
— Эта догадка делает вам честь, — сказал он торжественно. — Вы улучшили мое мнение о всем племени земных фантастов. Смотрите, вот что я получил в результате трехлетних наблюдений неправильных переменных в скоплении М-13, шаровом Геркулеса.
И было это как дверь в сказку в комнате Буратино. Гостиничный номер, тумбочка светлого дерева, лампа на гнутой ножке, под стеклом список телефонов, шишкинские медведи на стене, так называемые «Медведи на лесозаготовках». И в заурядном этом номере заурядный старик, пыхтящий от одышки, вручает мне астрограмму — привет чужих миров.
Светокопия красновато-коричневая — такие делают сейчас строители. На ней пунктиром контурная карта. Один участок выделен квадратиком. В углу он же в увеличенном масштабе. На нем тоже квадратик. Так четырежды.
— Узнаете?
Конечно, я узнал. На главной карте лежал, уткнув нос в сушу, Финский залив, похожий на осетра с колючей спинкой. Первый квадрат выделял дельту Невы с островами. Следующий вырезал берег Невки, примерно там, где находилась дача Лирика. На третьем квадратике виднелось нечто похожее на гроздь бананов — озера, возможно; на четвертом — скала, похожая на удлиненную голову, такие стоят на острове Пасхи. Последний квадратик находился в ухе этой головы, а в увеличенном виде изображал группу точек.
— Узнаете? — переспросил гость.
— Яснее ясного: на конце Финского залива в устье Невы найдите такой-то остров, на нем эти три кривулины — гряды или пруды, возле них камень, похожий на голову, полезайте в ухо или нажмите в ухе кнопку — там дорога в шаровое скопление.
— Только это не шаровое, — сказал он, показывая на точки, — здесь их пересчитать можно.
— Да-да, позвольте. В самом деле, точки расположены кругами. На атом, пожалуй, похоже. Какой же? Семь точек на внешней орбите. Галоид, значит. Не фтор, не хлор, не бром. Йод, следовательно. При чем тут йод, как вы полагаете?
— Не знаю, возможно, йод — это кнопка, как вы изволили выразиться. Ведь шишечку, кнопочку какой-нибудь мальчик мог нажать случайно. А йодом кто же будет поливать камни. Во всяком случае, йод надо захватить с собой.
— Вы уже были там, вы нашли этот камень?
— Мне не хотелось осматривать его без свидетелей. Я просил бы, я надеюсь упросить вас сопровождать меня. Если вы согласитесь завтра поутру…
— Завтра поутру я уже буду в Москве.
— Какая жалость! И никакой возможности нет отложить отъезд? Сегодня уже поздновато. Через час начнет смеркаться. Правда, сумерки здесь долгие, на шестидесятой параллели. Все же часа два с половиной есть в нашем распоряжении.
— Но я без сил совершенно. Надо же дух перевести.
Гость покачал головой с сокрушенным видом.
— И вы еще утверждаете, что рядовых людей волнует проблема космических контактов. Кого же волнует, если вы, писатель-фантаст, автор произведений о пришельцах, самое заинтересованное лицо, предпочитаете воздержаться от лишних усилий? Сами же мне советовали составлять схемы по сигналам неправильных переменных, а когда я показываю подобную схему, выясняется, что вам важнее всего отдых перед дорогой. Как будто вы в поезде не можете выспаться. Что же спрашивать с рядовых читателей? Пожмут плечами, улыбнутся. А если я без свидетелей отправлюсь осматривать, разве мне поверят? В фальсификации обвинят.
— Едем!
Почему я решился так быстро? Во-первых, раздумывать было некогда, время поджимало. А во-вторых, чем я рисковал, собственно говоря? Окажусь в глупом положении? Но я не уверен, кто глупее: человек, поверивший слову, или тот, кто воображает себя умным потому, что обманывает. Да и непохож на любителя розыгрышей этот тучный, старомодно французящий старик с одышкой. Ограбят в пустынном месте? А у меня три рубля в кармане. Вот будет весело, когда шайка грабителей будет делить мою трешку на троих. Впрочем, и такая роль едва ли подходит моему гостю.
Но на всякий случай я все-таки сказал дежурной, сдавая ключ от номера, погромче сказал, так, чтобы Граве слышал:
— Вот деньги за билет, его принесут сегодня. Трешка останется до Москвы. Хватит, как вы думаете? Впрочем, все равно, вагон-ресторан закрыт ночью. А паспорт я у вас возьму потом, с билетом вместе.
Подумал я и о том, что Граве чужак, приезжий в нашей стране, да еще из эмигрантов. Может, у него какие-нибудь тайные планы, не космический корабль он ищет, а фамильный клад, брильянты из двенадцати стульев. Но зачем ему лишний свидетель тогда?
На улице стояла ленинградская погода: рваные тучи неслись низко-низко, казалось, каждая облизывает крыши. Дождь то моросил, то барабанил, порывистый ветер швырял брызги в лицо. Вчера мне говорили, что, если ветер не переменится, воду запрет в Неве, и будет наводнение вроде описанного в «Медном всаднике». По радио уже передавали, что вода поднялась на метр выше ординара.
Мы обошли несколько аптек на Невском и на Литейном. Граве считал, что йода надо запасти побольше, по крайней мере полстакана, а нам отпускали один-два пузырька. В последней аптеке я даже выругался. Спросил: «Чего вы боитесь? Не яд же. Йодом губы мажут». И пожалел, что затеял разговор. Фармацевт долго и нудно объяснял мне, что все дело в дозе, змеиным ядом лечатся и пчелиным ядом лечатся, а йодом можно желудок обжечь, только медик с высшим образованием может установить, какая доза для меня лечебная, какая целебная, а какая смертельно вредная.
— Вот и дайте мне несмертельную дозу, — сказал я.
Такси поймать не удалось. Ленинградские таксисты не замечают протянутой руки. Поехали через весь город на трамвае. Сквозь забрызганные стекла смутно виднелись тесные боковые улочки, трамвай скрежетал на крутых поворотах, чуть не задевая углы домов красными своими бортами. Я худо знаю Ленинград, не могу объяснить, где мы проезжали. Кажется, крутили где-то у Финляндского вокзала, потом перебрались на Петроградскую сторону. Вокруг, держась за поручни, тряслись пассажиры с мокрыми утомленными лицами, капли бежали у них по скулам. И я, мокрый и усталый, трясся в такт со всеми вместе. История с космической телеграммой казалась мне все нелепей.
Опять мы переехали через мост и оказались в районе новых домов. Во всех городах есть такие, и везде они называются «наши Черемушки». В Черемушках почти все пассажиры сошли, мы с Граве оказались в пустом вагоне.
— Так что вы хотите узнать у наших звездных друзей? — спросил он. И сразу увел мысли с торной дороги сомнений.
— Все надо узнать. И главное — то, о чем мы спорили на симпозиуме: вперед или на месте? Ощущают они простор впереди или же глухую стену? Моря наливают и осушают или лелеют садочки и заливчики, тишину оберегают для удильщиков?
И тут он спросил в упор:
— А вы сами отправитесь узнавать? Если там, под камнем, спрятан космический корабль, не корабль, лифт какой-то межзвездный, вы подниметесь на том лифте в зенит?
— Ну, я полетел бы с удовольствием, но едва ли меня сочтут достойным. Подыщут более подходящего, молодого, крепкого, натренированного, лучше подготовленного физически и технически, астронома какого-нибудь или социолога.
— А если нет времени подыскивать? Если надо решиться сегодня?
Я ужаснулся:
— Только не сегодня. Подумать надо. Столько дел!
Почему я ужаснулся, собственно говоря, почему принял вопрос всерьез? Видимо, уже воспринимал Граве как человека с сюрпризами. Пришел скромником: «Ах, я восхищенный читатель, ах, прошу у вас совета…» А потом вытащил свою астрограмму, послание звезд.
Может, он и у того камня уже побывал, знает, что там найдется, что там спрятано и сколько надо вылить йода в ухо. Потому и вопрос ставит ребром: «Сегодня готовы лететь к звездам?»
Бывает так в жизни. Все время твердишь: «Ах, надоело все, устал, хочу в Африку, хочу на полюс, на край света». И вдруг предложение: «Сегодня полетите в Новую Зеландию?»
— Что вы, что вы, дела, обязанности…
Но какие обязанности, в сущности? Редакционные? Гранки в «Мире», верстка в «Мысли», договор с «Молодой гвардией». Обойдутся. Сказал же Физик, что у меня нет воображения, а Лирик — что не хватает тепла. Найдут других, более тепло воображающих. Нет у нас незаменимых.
Семейный долг? Круглолицая жена, круглощекий сын? Как-то он вырастет без меня, любитель солдатиков и паровозиков? Но почему не вырастет? Жена говорит, что я никудышный воспитатель, только потакаю, задариваю ребенка игрушками. Воспитает.
Так что же меня удерживает? Страх за собственную жизнь? Полно, мне-то чего бояться? Прожито две трети, а то и три четверти. Впереди самое безрадостное: «не жизнь, а дожитие», говоря словами Андрея Платонова. Ну так обойдется без дожития.
— Решусь, — сказал я громко. Так громко, что кондукторша посмотрела с удивлением.
Мы не закончили эту тему потому, что трамвай дошел до конца («до кольца» — говорят в Ленинграде). Крупноблочные коробки остались за спиной, даже асфальт отвернул в сторону, перед нами тянулась полоса мокрой глины, окаймленная линялыми заборами. Сейчас, в межсезонье, все калитки были заперты, все окна заколочены. Ни единой души мы не встретили на пути к парку.
Дождь кончился, но набухшая почва так и чавкала под ногами. Вода струилась по колеям, в кюветах бурлили целые потоки. Я сразу же ступил в лужу, зачерпнул воду полуботинками, через минуту промок до коленей, а там перестал выбирать дорогу, шлепал напрямик, все равно мокро — внутри и снаружи. Шлепал и ругал себя ругательски. Как я мог поддаться так наивно? Не понимал, что имею дело с маньяком? Только безумец может в ноябре, глядя на ночь, разыскивать космические корабли в городском парке. Ну ладно, поброжу с ним полчасика и сбегу. Назад в гостиницу, сразу же в горячую ванну. А если схвачу грипп, так мне и надо, не принимай всерьез маньяков.
Наверное, я и повернул бы назад вскоре, если бы у входа в парк не висела схема и на ней я не увидел озеро, похожее на гроздь бананов. Мы двинулись по главной аллее мимо киосков, качелей, раковин, беседок, пустых, мокрых, нереальных каких-то. Летом здесь были толпы гуляющих, у каждого столика забивали «козла». А сейчас никого, никого. Поистине, если бы Граве задумал недоброе, не было места удобнее.
Вот и озеро. Озеро как озеро. Лодочная станция. Лодки вверх дном на берегу.
— Слушайте, Граве, будем благоразумны. Где тут спрячешь космический корабль? Тут же толпы летом, толпы!
— Посмотрите, там голова.
— Верно, тот самый камень, что на астрограмме: удлиненный лоб, чуть намеченные глазки, подобие ушей. Ну пусть голова. Но здесь же мальчишек полно. Залезали, каждый бугорок трогали.
В мыслях у меня: «Знал он про эту голову, на чертеж нанес, невелик труд. Дальше что будет, посмотрю… поостерегусь».
— Но мальчишки не лили йод в каменные уши. Дайте сюда флакончики.
И свершилось. Сезам открылся. Нет, не дверь там была, не тайный вход в пещеру. Просто голова распалась надвое, лицо откинулось, обнажая очень гладкую, почти отполированную плиту. И ничего на ней не было, только два следа, как бы отпечатки подошв.
В парке культуры! У лодочной станции! Против тира!
— Нас приглашают, — сказал Граве. — Сюда надо встать, видимо.
Плита как плита. Следы подошв только.
Поставил на нее пустую склянку.
Была и нет, исчезла.
Положил ветку. Нет ветки.
— Ну что же, господин фантаст? Вы сказали: «Решусь».
— Подождите, Граве. Важное дело же.
В голове: «Надо известить научные круги: обсерваторию, академию. Но как бы не попасть впросак. Может, это аттракцион такой. Как жаль, что нет Физика с его кинокамерой. Была бы документация, предмет для разговора. Завтра притащу его…»
— Граве, я считаю, что прежде всего… Где вы, Граве?
Исчез! И когда он ступил на плиту? Не заметил даже.
«Обязанности, гранки, верстка, воспитание. Круглолицая жена, круглолицый сын… Научные круги подберут достойных. А что же, я себе не доверяю, что ли? Скорее Граве нельзя доверять — эмигрант, что у него там на уме? Разве может он единолично представлять человечество на звездах? Боязно? Но чего я боюсь? Три четверти позади, четвертью рискую, пустяк…»
И я ступил на плиту мокрыми подошвами. Левой на левый след, правой на правый.
Прожгло насквозь.
Очень больно было, очень!
Из космического блокнота
Прожгло насквозь!
Будто тысячи раскаленных проволочек пронзили тело, опалили голову, руки, ноги, каждую точку кожи, каждую клеточку внутри. Пронзили и застряли, оставили боль всех сортов. Саднило, ныло, дергало, кололо, рвало, царапало. Жгло глаза, горела кожа, ломило кости и зубы. С болью является в мир человек, с болью явился я в тот мир. Только за первое рождение отстрадала моя мать, а сейчас я сам корчился и охал.
Кошмары.
Глаза воспалены, голова разламывается. Не знаю, кто отвечает за бред: зрение или мозг? В щелках между опухших век проплывают страшные призраки — помесь зоопарка с фильмами ужасов: змеи в пенсне, хохлатые птицы с клювом, намазанным губной помадой, жуки с моноклями, мохнатые чертенята, рыбы с подведенными глазами, ежи с клешнями на колючках, спруты в шляпах и что-то бесформенное, стреляющее молниями, студенистый мешок с крыльями.
Но страшней всего, противнее всего то, что напоминает человека: сухопарые скелеты с черепом, туго обтянутым зеленоватой пятнистой кожей, отвратительные живые мертвецы.
— Прочь! — кричу я истошно. — Уберите! Не верю. — И чей-то голос зудит монотонно: «Ана-под, анапод, дайте же ему анапод!» — «Дайте ему анапод», — повторяю я, чувствуя, что мое спасение в этом непонятном слове. Прохладные пальцы ложатся на горячий лоб…
…Обыкновенная больничная палата. Миловидные сестры в чистеньких халатах, туго перехваченных в талии. Молодой врач с бородкой рассматривает шприц на свет.
Боль отпускает. Я уже могу глубоко вздохнуть не ойкнув. Покой после усталости. Ощущение комфорта, даже какой-то удачливости. Кожа горит, но в палате — прохладно, тянет ветерок от неслышного вентилятора.
Пересохло во рту, тут же капельки оседают на губы. Есть захотелось, что-то вкусное льется в рот. Приятная предупредительность судьбы. Я даже испытываю ее, заказываю: «Хорошо бы, сестра принесла попить, хорошо бы кисленькое». А если затребовать невозможное: «Хочу быть дома». И вижу, представьте себе, книжные полки с подписными изданиями, лифчик на письменном столе и взвод солдатиков под подушкой. Вижу, хотя понимаю, что это сон. Что бы еще заказать? Трудно придумывать с головной болью. Дайте меню снов.
Винер, кажется, сказал, что американские генералы зря так носились с тайной атомной бомбы. Самое секретное было обнародовано в Хиросиме: бомбу можно сделать. Остальное — вопрос времени, денег и техники.
Нечто подобное ожидает первооткрывателей планет. Годы-годы-годы в полете, годы-годы-годы споров: есть там жизнь или нет? А выяснится в первый же час после посадки: «Да, есть!» Если она есть. Остальное — уточнения: какая именно?
Самое важное я узнал от Граве на Земле еще, что они существуют — наши братья по разуму. Узнал, что живут в скоплении М-13, шаровом Геркулеса, и что они хотят иметь с нами дело. Это самое важное… Остальное — уточнения.
Целый век тянулся у нас спор в земной фантастике: похожи ли на нас эти братья, человекоподобны или нет? Спор тянулся сто лет, а ответ я узнал в ту секунду, когда открыл глаза. Оказалось, что похожи, так похожи, что я путал их с земными знакомыми, называл по имени-отчеству, допытывался, где же я на самом деле — на Земле или в зените. Была среди моих врачей вылитая Дальмира, жена Физика, тоже блондинка, тоже с «конским хвостом» на макушке. Чужого языка я не понимал, но во взгляде читал любопытство: «А ты что принес в наш мир, пришелец, какие новые чувства?» И жена Лирика была, неторопливая, но ловкая и умелая, лучше всех помогала мне. Но смотрела строго, поджимая губы, как бы корила: «Что тебе дома не сидится, зачем шастаешь по космосу, свою Землю благоустроил ли, перекопал, прополол?» И Физик был, даже несколько физиков, все молодые и ушастые. Лирик тоже заходил, но смотрел неодобрительно, постоял у дверей и ушел.
Болеть на чужбине плохо, выздоравливать — еще хуже.
Представьте, приехали вы за границу — в Италию или в Индию. Приехали и слегли. Лежите на койке, изучаете узор трещин на потолке, а за окном Святой Петр или Тадж-Махал. Обидно!
За окном чужая планета, а я лежу и жду здоровья, лекарство пью с ложечки, кушаю жидкую кашку.
Языка не знаю. Говорить не могу. Читать не могу. Слушать радио не могу.
Телевизора нет. Смотреть не разрешают.
Тоска!
И вот, о счастье, дают собеседника.
Ничего, что он похож на чертенка, маленький, вертлявый, с рожками и хвостом. Ничего, что он неживой, штампованный, кибернетический. Главное: он обучен русскому языку. Ему можно задавать вопросы, он отвечает по-русски, комичным таким, чирикающим голоском.
Первый вопрос:
— Как тебя зовут?
— У нас, неорганических, нет имени. Я номер 116/СУ, серия Кс-279, назначение — карманный эрудит.
— И что же ты умеешь, карманный эрудит?
— Я отвечаю на вопросы по всем областям знания. Что не храню в долговременной памяти, запрашиваю по радио в Центральном Складе Эрудиции. Меня можно держать на столе, носить в кармане или в портфеле. Я буду твоим гидом во всех кругах нашего мира.
Проводник по всем кругам неба и ада! Данте вспоминается.
— Я буду называть тебя своим Вергилием. Хотя нет, чересчур солидное имя. Будешь Вергиликом, Гиликом. Запомни: Гилик.
— Запомнил. Перевел из оперативной памяти в долговременную. Номер 116/СУ, звуковое имя Гилик. Есть еще вопросы?
— Есть. Почему ты похож на чертенка, Гилик? Для чего тебе хвост и рожки?
— Отвечаю: в хвосте портативные блоки памяти. В случае необходимости можно наращивать, не меняя основной конструкции. В рожках антенны: одна для справок по радио, другая для телепатического общения.
Вот так, между прочим, решаются вековые дискуссии. А мы на Земле все спорим: есть телепатия или нет?
Отныне я не одинок. На тумбочке возле моей кровати дежурит вертлявое существо, бессонный неорганический неорганизм, готовый ночью и днем удовлетворять мое любопытство.
Вопросов тьма. Гилик отвечает на все подряд. Он-то отвечает, я понимаю не все.
Один из первых вопросов:
— Где я?
— Куб АС-26 по сетке ЗД, сфера притяжения Оо, небесное тело 22125, центральная больница, специальная палата.
Чувствую себя профаном, хуже того — младенцем-несмышленышем. Ничего не понимаю в их координатах, сферах, кубах, не знаю, что такое Оо. Пробую подобраться с другого конца:
— Далеко ли до Земли?
— По вашим мерам — более десяти тысяч парсек.
Ого! Десять тысяч парсек — это тридцать две тысячи световых лет. 32 тысячи лет, если лететь на фотонной ракете со скоростью света. Неужели на Земле уже тридцать пятое тысячелетие?
— Но я вроде бы не на ракете летел?
— Нет, конечно. На ракетах не летают на такие расстояния. Тебя перемещали в зафоне.
— Как это в зафоне?
— Как обычно: идеограммой Ка-Пси. Стандартный эболиз в граничных условиях Дедде, локализация в трубке Соа, сессеизация…
— Стой, стой, ничего не понимаю, тарабарщина какая-то. Что такое граничные условия Дедде?
— Элементарная операция, Дедде у нас проходят дети в школах. Поскольку каждый предмет бесконечно сложен, для обращения с ним необходимо опустить несущественное. Дедде составил формулы несущественности. Простейший расчет, детский. Берется таблица — ВСЕ, применяется система уравнений класса Тхтх…
— Подожди, не будем путаться с классом Тхтх. Я еще не проходил вашу математику. Ты мне скажи, для чего эти Дедде.
— Я же объяснил: для эболиза.
— А что такое эболиз?
— Эболиз и есть эболиз, первый шаг во всяком деле, например, приведение к виду, удобному для логарифмирования.
— Разве меня логарифмировали?
— Нет, я это все для примера сказал. Тебя эболировали. Понял?
Ничего не понял.
— Ладно, — говорю я, махнув рукой. — Ты попросту скажи: я со скоростью света летел?
— Нет, конечно. Со скоростью до света летят на фоне. Ты перемещался за фоном, с зафоновой скоростью, порядков на пять выше.
Понятнее не стало, но еще одно важное выяснилось. Можно летать на пять порядков быстрее света. В зафоне каком-то.
— Значит, они умеют летать быстрее света?
— Умеют.
— А умеют они?.. — Три эти слова твержу с утра до вечера. И слышу в ответ: «Умеют, умеют, умеют!» Все умеют!
— А умеют?.. — Что бы спросить позаковыристее? Мысленно перебираю в уме фантастику, допрашиваю Гилика по таблице будущих открытий XXI века и по альтовскому «Регистру тем и ситуаций». Вот что еще не спросил: — Умеют они ездить в будущее и в прошлое? Машины времени есть у них?
Гилик долго молчит, перебирает сведения в своем хвосте.
— Вопрос некорректный, — говорит он в конце концов. — Видимо, задан для проверки моих логических способностей. Путешествие в прошлое — абсурд. Визитер в прошлое может убить своего дедушку и не родиться. Визитер в прошлое может продиктовать поэту его ненаписанную поэму. Может занести из будущего микробов, выведенных генетиками. От кого же они произошли?
— Значит, не умеете. Жаль. А я бы посмотрел в прошлое хоть одним глазком.
— Посмотреть можно, это желание корректное. Нужно только догнать световые лучи, ушедшие некогда, сконцентрировать, отразить, направить в телескоп.
Вмешаться нельзя, увидеть можно.
Между прочим, свет я уже обогнал. Если посмотрю на Землю, увижу лучи, ушедшие тридцать тысяч лет назад, во времена палеолита.
Интересно, какое разрешение у местных телескопов. Ледники различают, вероятно. Вот и выясню сомнения: был ли ледниковый период?
Граве объявился.
Пришел в палату, шаркая ногами, пыхтя, устроился в кресле, заглянул в лицо соболезнующе:
— Ну как, голубчик? Силенки набираете?
Подумать только: такой дряблый, ходит с одышкой, сердечник наверняка, а перенес полет лучше меня.
— А вы в порядке?
— Да, у меня все хорошо. Вам не повезло, дорогой. Здешние специалисты говорят, что вода виновата. Набрали полные ботинки, контакт получился неравномерный.
— Ладно, вы рассказывайте подробнее, где были, что успели.
— А я, голубчик, нигде не был. Я вас жду.
— Хотя бы про эту планету расскажите. Какая она? Похожа на Землю? Поля здесь зеленые, небо голубое? Лето сейчас или зима?
— Не лето, не зима, и зелени никакой. Это искусственная планета. Межзвездный вокзал. Ни полей, ни лесов, одни коридоры. — И торопливо встает, уклоняясь от расспросов: — Доктора не велели вам разговаривать.
— Ох, уж эти доктора, везде они одинаковы!
Обман чудовищный! Все неправда! Кому же верить теперь?
Впрочем, надо взять себя в руки, успокоиться, записать по порядку.
Болеть на чужбине плохо, выздоравливать еще хуже. Впрочем, это я уже писал. За окном чужая планета, а с постели не спускают, пичкают микстурами, тугой компресс на лбу.
А чувствую я себя не скверно, ем с аппетитом, боли все реже. И всего-то пять шагов до окна.
Как раз врачей не было, все ушли на обход, Гилика унесли для технической профилактики. Ну вот спустил я ноги потихонечку, голову высвободил из компресса, шаг, другой… пятый. Смотрю в окно.
Кошмар!!!
Опять бред первых дней болезни, ужасные видения зоофантастики: жуки с моноклями, сросшиеся ежи, амебы с крыльями. Бегут, ползают, скачут, воют, как нечисть из «Вия». Меня заметили, вылупили глаза, языки вытянули, ощерили пасти…
— В кровать скорее! — Это уже сзади хрипят, за спиной.
Оглянулся. В дверях самый страшный: голый череп с пятнистой кожей. Я завопил, глаза зажмурил…
Слышу голос Граве:
— В постель, голубчик, в постель! И компресс на голову! Скорее, скорее!
А я и кровати не вижу. И стен нет, какие-то трубки, цветные струи колышутся. Вой, писк, треск. Уж не помню как, ощупью забрался на матрац, глаза закрыл, всунул голову в повязку.
Снова голос Граве:
— Откройте глаза, не бойтесь. Все прошло.
Чуть разлепил веки. Верно, исчез кошмар. Идет от двери мой спутник, ноги волочит, отдувается, такой рыхлый, обыденный, лицо жалостливое.
— Плохи мои дела, Граве, — говорю и сам удивляюсь, какой у меня плаксивый голос. — Схожу с ума. Галлюцинации среди бела дня. Мертвецы видятся с трупными пятнами.
Граве тяжело вздыхает. Так вздыхают, решаясь на неприятное признание. Берет меня за руку, поглаживает успокаивая:
— Это вы меня видели, голубчик. Так я выгляжу на самом деле, без анапода.
Анапод, как выясняется, — специальный прибор у меня на голове, который я принимал за компресс.
Если сдвинуть его со лба, передо мной пятнистый скелет, чудище из страшной сказки.
Если надвинуть, возвращается в кресло тучный старик, сутуловатый, рыхлый, смотрит на меня участливо.
Старик-скелет-старик-скелет. Кто настоящий, кто обман зрения?
Кажется, Граве улавливает мои мысли.
— Мы оба настоящие, как ни странно. Я действительно уроженец планеты Хох, нечеловек с пятнистой кожей. И я действительно старик, пожилой астроном, посвятивший жизнь межзвездным контактам. По мнению моих знакомых, я тяжелодум, медлительный, мешковатый, незлой, ироничный несколько. Это мой подлинный характер. Анапод преобразует его в привычную для вас форму — в образ человека с такой натурой, как у меня.
Старик-скелет-старик-скелет…
Открытки бывают такие: справа видишь одно, слева — другое.
А все-таки ложь!
Пусть внешность отвратительна, пусть ты уродлив и страшен. Культурный человек не обращает внимания на внешность. Мне неприятно, что звездожители начали знакомство со лжи, с очков, втирающих мне очки. Ведь мы же полагали, что старшие братья по разуму — образец безупречной честности.
Вот как оправдывается пятнистый череп:
— Вы ошибаетесь, правда трудна, не всем под силу ее вынести. И у вас на Земле скрывают истину от безнадежно больных, прячут от детей темные стороны жизни. Даже взрослые брезгливо отворачиваются от гнойных язв, от искромсанного поездом. Мы же пробовали здесь подойти к вам в подлинном виде. Вы кричали: «Прочь, прочь, уберите!» Вы и сейчас морщитесь, глядя на меня, содрогаетесь от отвращения. И не надо мучиться, пристегните анапод. Легче же! Для того и был придуман этот аппарат. Не для вас лично, не обольщайтесь. Анаподы появились, когда возникла Всезвездная Ассамблея и сапиенсы разных рас собрались вместе, чтобы обсудить общие дела. Обсуждать, а не нос воротить (правильно я выражаюсь насчет носа?), думать, а не корчиться, удерживая тошноту.
Ан-а-под, ана-под, анализирует аналогии, подыскивает подобия. Это слово тоже создано анаподом из земных слогов по подобию.
Привыкаю к прибору, даже забавляюсь с ним. Надвигаю, сдвигаю. Словно шторка на глазах, словно страничку переворачиваю. Раз — пухлое лицо старика, раз — череп. Раз-раз! А если сдвигать постепенно, получается наплыв, как в кино: череп медленно проступает сквозь черты лица, кости вытесняют выцветающие мускулы.
Их Дальмира, оказывается, похожа на птицу, на аиста голенастого и с хохлом. Анапод же нарисовал мне знакомую блондинку с «конским хвостом» на макушке. Их Лирикова — крылатый слизняк. Ничего у нее не видно — ни глаз, ни ушей, ни рук. Но если нужно, они вырастают, как ложноножки у амебы, сколько угодно рук, любой формы. Недаром так мягки ее прикосновения. Даже моя кровать — не кровать, оказывается. Это простыня, которая поддерживается тугой и теплой струей воздуха. Стены — не стены и пол — не пол.
Только Гилик стационарен в этом мире — неизменна вертлявая машинка с рожками и хвостиком. Нет для него подобия на Земле, и анапод не искажает его подлинный облик.
— А соплеменники вам кажутся красивыми, Граве?
— Ну конечно же, — говорит он. — Они стройны, они конструктивны, ничего лишнего в фигуре. И пятна очень украшают наши лица, такие разнообразные, такие выразительные пятна. Опытные физиономисты у нас угадывают характер по пятнам, существует особая наука — пятнология. У мужчин пятна яркие, резко очерченные, у женщин — ветвистые, с прихотливым узором. Близким друзьям разрешают рассматривать узор, любоваться. Модницы умело подкрашивают пятна, в институтах красоты меняют очертания. В гневе пятна темнеют, в ярости становятся полосатыми, у больных и стариков — блекнут, выцветают, у влюбленных в минуты восторга переливаются всеми цветами радуги. («Как у осьминогов», — думаю я.) Ваши одноцветные лица кажутся мне бессмысленными. Все хочется сказать: «Снимите маску, чего ради вы скрываете переживания?»
Граве вдохновился, он читает стихи о пятнах. Хочется разделить его восхищение.
Сдвигаю анапод. Отвратительно и противно!
— И все же вы обманщик, — твержу я. — Ну ладно, допустим, вы боялись напугать меня внешностью. Пожалуйста, анаподируйтесь. Но почему не сказать честно, что вы пришелец? Для чего разыгрывался этот спектакль в пяти актах с потомственным астрономом Граве?
— У меня была сложная задача, — говорит мнимый Граве. — Я должен был провести некое испытание, проверить готовность земных людей к космическим контактам. Предположим, я представился бы звездным гостем, подтвердил бы свое неземное происхождение доходчивыми чудесами: телекинезом, телепортацией. И вы уверовали бы в мое всемогущество, пошли бы за мной зажмурившись, как слепец за поводырем. Но это не проверка готовности, это заманивание. Сорван экзамен. Итак, я являюсь к вам под видом земного человека, получившего приглашение в космос. Все остальное в «легенде» (так у вас называются россказни разведчика?) соответствует выбранной роли. Кто может узнать о приглашении в зенит? Правдоподобнее всего — астроном. Почему иностранный астроном? Так мне легче. Я мало жил на Земле, опасаюсь мелких ошибок в речи, незнания житейских деталей. Если бы я назвался москвичом или ленинградцем, вы быстро уличили бы меня в промахах, заподозрили неладное. И вот я сам сообщаю, что я недавно приехал из-за границы, не знаю новых порядков. Что еще? Поездка за город под дождем? Это последний штрих экзамена: хотелось проверить, жаждете ли вы контакта, удобствами поступитесь ли, согласны ли вымокнуть под дождем хотя бы?
— Но вы же читаете мысли. И так знали, что я думаю.
— Знал. Но люди не всегда думают о себе правильно. Им кажется, что они рвутся в бой… а в последнюю минуту мужества не хватает.
А я не подкачал!
Я горд необыкновенно, горд как индейский петух, душа маслом облита. Подумайте: выдержал вселенский экзамен. И физики меня хаяли, и лирики хаяли… а я — вот он! — не подкачал, избранник!
— Почему же вы именно меня выбрали? — спрашиваю. Очень уж хочется услышать комплименты. Пусть объяснят подробно, какой я выдающийся с космической точки зрения.
Но Граве не склонен потакать моему тщеславию:
— По некоторым соображениям нужен был писатель-фантаст, профессионал. По каким именно? Вам скажут в свое время. Западные авторы отпадали, очень уж въелась в них идея неравенства, личной выгоды. Из числа ваших товарищей не годились противники контактов — земные «изоляционисты». И личные склонности сыграли роль: сам я в годах, я худо сговариваюсь с молодыми горячими талантами, предпочитаю пожилых и рассудительных, пусть не самых способных. (Я поежился.) Видите, выбор уже не так велик, почти все возможные кандидаты отсеялись. Вы были удобнее всех, потому что оказались в чужом городе, без семьи, вас легко было увести, не привлекая внимания. Ведь мой контакт был примерочный, я очень старался не привлекать внимания. Невидимкой вошел в гостиницу, в трамвае ехал невидимкой. Привел вас в парк и поставил перед выбором: «Теперь или никогда?»
— А если бы я выбрал «никогда»?
— Тогда я стер бы вашу память. Вчистую!
Память можно стирать и можно заполнять, ввести, например, иностранный язык. Процедура торжественная, настоящее священнодействие. Ученик лежит на операционном столе, весь опутанный проводами, глаза и уши заложены ватой, лицо забинтовано. Диктор монотонно начитывает сведения, учителя в шлемах с забралами, в свинцовых скафандрах, как в рыцарских доспехах. Это чтобы посторонними мыслями не заразить, не внести «мыслеинфекцию».
Меня так не хотят обучать. Говорят, что не знают особенностей человеческого мозга, опасаются напортить.
Микроманипулятор для исправления генов. Атомы на экране похожи на бусы, матовые в центре, полупрозрачные на краю. Видишь, как нечто давит на бусы, они поддаются, сплющиваются, выпирают из ряда… вот-вот лопнут химические связи. И лопаются. Вылетает бусина или связка бус… Трах-трах, мгновенная перестановка, что-то расскочилось, что-то склеилось. Ученые-генетики пристально рассматривают экран. Шевеля губами, считывают новую структуру. (Шевелит губами анапод, конечно.)
Инкубатор поросят. Лежат в коробках на вате, как жуки в коллекции. В соседнем цехе — инкубатор детишек. Лежат в коробках на вате рядами. Оскорбительное сходство!
Волшебное колечко. Аккумулятор и лазер в перстне — тридцать тысяч киловатт на пальце. Выдвинул кулак и водишь направо-налево. Деревья валить хорошо, только срез обгорелый, потом уголь счищать надо. Можно в скалах вырубать ступеньки. И тут недостаток: ждать приходится, чтобы плавка остыла.
Когда болел, каждый день приносили персики на блюдечке. Сначала радовался: земная еда. Потом заметил: всегда одинаковые персики — один зеленоватый и жесткий, а самый сладкий — чуть мятый, с бочком. Снял анапод — все равно персики. Оказывается, Граве захватил с Земли три штуки и каждый день для меня изготовляли точную атомную копию. Спросил: «Вся еда так изготовляется?» Нет, воздерживаются. Энергоемкое производство. Атмосферу можно перегреть, климат сделать тропическим.
Тревоги будущей науки: как бы не сделать тропики нечаянно.
Летающие дома. Непривычно и страшновато: мне, землянину, все кажется, что эти висячие громадины должны рухнуть на голову. В домах-то приятно: свежий горный воздух в жару. На балконах голова не кружится: земля слишком далека, и леса непохожи на леса. Как в самолете — внизу топографическая карта, нет ощущения высоты. Единственный недостаток: трудно найти свой дом. Летишь и справляешься: куда дул ветер, куда занесло?
Прокладывали дамбу, заморозили реку. Клубы белого паровозного пара. Как будто кипятили, а не леденили.
Впечатлений полно, информации слишком даже много, в блокноте какие-то отрывочные записи, незаконченные слова и в основном восклицательные знаки. Сейчас просмотрел и вижу: не записал даже, что меня спустили с кровати, начали возить на экскурсии.
Экскурсии все межзвездные, потому что лежал я на вокзале. Даже ближайшая планета — Оо — столица Звездного Сообщества — в семи световых сутках от нас. А до прочих миров — световые годы.
На такие расстояния шарадяне летают за фоном, то есть — тут я уже начал разбираться чуточку — не в нашем пространстве, где скорость света — предел скоростей, а в одном из параллельных пространств четвертого измерения, обычно в тридцать девятом, там скорость сигналов на пять порядков выше. Вот меня эболируют, деддеизируют, сиссеизируют, превращают в Ка-Пси идеограмму и сигнализируют к чертям в сто тысяч раз быстрее нашего света.
Выглядит это так.
Мы — Граве, Гилик и я — входим в очень обыкновенную кабину, как в лифте. Только пол у нее каменный, и выбиты углубления для подошв: «Сюда ставь ноги!» — как на той скале под Ленинградом.
На задней стене табло со списком вокзалов. Перечень громадный, аж в глазах пестрит. У каждого вокзала свой номер — семизначный. Набираешь его на диске вроде телефонного. Тут нужна предельная внимательность, потому что вокзалы перечисляются по алфавиту. Ошибся на единичку — и упекут тебя вместо Урала на Уран, вместо Венеции на Венеру. Но вот номер набран, говоришь в микрофон: «Готов!» — и тебя переправляют на другой конец Звездного Шара.
«Переправляют» — вежливый термин. Тебя втискивают, вдавливают, ввинчивают. Ощущение такое, словно, схватив за руки и за ноги, тебя выжимают, как мокрое белье. Сначала крутят в одну сторону, потом в противоположную — вывинчивают из тридевятого пространства. Сам полет не осознается, хотя он продолжается минуты, часы или несколько суток. Ведь летишь не ты, а сигналы, информация о твоем теле. По этой информации и изготовляется точнейшая копия на станции назначения. Как с персиками — сам был с гнильцой, и копия с гнильцой. Так что сейчас я уже не я, я — седьмое или семнадцатое повторение самого себя. («Чему удивляться? — пожимает плечами Граве. — Любой обмен веществ — копирование, даже не идеально точное. Тело заново строит себя из пищи. И на Земле-то у тебя все молекулы сменялись многократно».) И вот эта несчастная копия, выкрученная и вкрученная, обалдевшая и задохнувшаяся, протирает глаза в той же кабине, потом узнает, что это не та кабина, а вовсе приемник планеты назначения.
На Земле от аэродрома до аэродрома мы летаем на самолете, прилетев, пересаживаемся в такси. Здесь в роли такси — космическая ракета. Ракета рычит, ревет, пышет пламенем, трясется, создает перегрузки на старте и финише. Но по сравнению с зафоном все это кажется обычным, привычным, домашним даже. Чувствуешь себя уверенно. Ты у себя дома, в родимом трехмерном пространстве.
Хотя Гилик — машина, но характер у него есть, заложенный в конструкции, запрограммированный.
«Черты характера кибернетического справочника» — тема для школьного сочинения в XXI веке.
Гилик обстоятелен и последователен, неукоснительно, старательно, истово, последователен до отвращения. Я бы сказал, что Гилик влюблен в последовательность, если бы ему запрограммировали любовь. Я бы сказал, что он презирает и ненавидит непоследовательность, если бы у него были блоки презрения и ненависти. Но в погоне за портативностью конструкторы не дали ему чувств, не вложили эмоции в хвост рядом с памятью.
Не могу, значит, и не нужно. Подобно людям, считая непонятное излишним, Гилик отвергает, хулит и высмеивает всякие чувства как проявление непоследовательности.
Боли еще не прошли. Ворочаясь, я охаю.
— Что означают эти придыхательные звуки? — спрашивает Гилик.
— Ничего. Больно мне.
— Дать лекарство? Вызвать врача?
— Нет, ни к чему. Тут врач бессилен.
— Зачем же ты произносишь эти придыхательные звуки? Кого информируешь о боли, если никто не может помочь?
Так на каждом шагу: «Зачем охаешь, зачем чертыхаешься, зачем напеваешь себе под нос?»
— А ты зачем задаешь ненужные вопросы? Что пристал?
Но Гилика не смутишь. Смущение у него не запроектировано. Нет в хвосте блока смущения.
— В мои обязанности входит сличать факты с теорией и информировать о несоответствии. Мне вписали в память, что человек — венец творения. Ныне я информирую обслуживаемый венец, что его слова не несут информации и не соответствуют своему назначению.
У Гилика нет блока зависти, но, по-моему, он завидует живым существам. И хотя блок самомнения у него не предусмотрен, видимо, самомнение образовалось самопроизвольно. Венцом творения он считает себя, себе подобных. Впрочем, подобную точку зрения и на Земле высказывали некоторые академики. И, как на Земле, я начинаю запальчиво отстаивать человечество:
— А вы, машины, способны существовать самостоятельно? Способны самостоятельно создать культуру? Хотел бы я посмотреть, что у вас получится.
— Такого прецедента не было в шаровом, — важно заявляет Гилик.
— И напрасно. Очень поучительный был бы эксперимент.
Оба мы не знали, что мне придется познакомиться с таким экспериментом в самом ближайшем будущем.
Восьминулевые
…Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф, Чбебе, Чбуси, Чгедегда…
Гурман, изучающий ресторанное меню, кокетка на выставке мод, книголюб, завладевший сокровищницей букиниста, ребенок в магазине игрушек в слабой степени ощущают то, что я чувствовал, произнося эти названия — реестр планет, предложенных мне для посещения. Любую на выбор.
…Шаушитведа, Шафилэ, Шафтхитхи…
И Гилик, прыгая по столу, пояснял чирикающим голоском:
— Шафилэ. Желтое небо. Суши нет. Две разумные расы, подводная и крылатая. Три солнца, два цветных и тусклых. Ночи синие, красные и фиолетовые вперемежку. Шафтхитхи. Зеленое небо. Форма жизни — электромагнитная. Миражи, отражающие ваши лица.
…Эаи, Эазу, Эалинлин, Эароп…
— Эту хочу, — сказал я.
Почему я выбрал именно Эароп? Только из-за названия. Я знал, что «роп» означает «четыре», «э-а» — просто буквы. Эароп — четвертая планета невыразительного солнца, обозначенного в каталоге буквами Эа. Но все вместе звучало похоже на «Европа». Не мог же я не побывать на той космической Европе.
— Небо безвоздушное, чернозвездное, — прочирикал киберчертенок. — Солнце красное, класса M. Залежи германия. Заброшенный завод устаревших машин, программных, типа «дважды два». Персонал эвакуирован. Собственной жизни нет. Интереса для посещения не представляет, опасность представляет. Автоматы-разведчики с планеты не возвращаются. Рекомендую соседнее небесное тело — Эалинлин. Небо красное. Гигантские поющие цветы, мелодичными звуками привлекающие птиц-опылителей. Симфонии лугов, баллады лужаек. Все композиторы летают вдохновляться…
Хозяевам виднее. Я не стал спорить.
— Даешь поющие цветы, — сказал я. — Закажи мне рейс.
Я был в приподнятом настроении; предстояло первое самостоятельное путешествие по шаровому. Граве, моя верная нянька, не мог сопровождать меня, готовился к докладу в межзвездной академии, кажется, обо мне; он даже хотел сплавить меня подальше. Гилика же сдавали в капитальный ремонт, я очень надеялся, что ему привинтят к хвосту блок деликатности. В результате я остался безнадзорным и свободным, как птица: лечу, куда хочу. На Ць, Цью, Цьялалли, Чачачу… на великолепную Эалинлин с поющими покрытосеменными.
Итак, Эалинлин.
О межзвездных перемещениях в шаровом я уже рассказывал. Ввинчивают, вывинчивают, вкручивают, выкручивают, швыряют обалдевшего на пол кабины. И когда, собравшись с силами, выползаешь за дверь, перед тобой другая планета, система, другие миры. Вот малиновое солнце Эа спектрального класса M, вот певучая Эалинлин, а чуть левее, почти по дороге, — Эароп.
Не завернуть ли туда все-таки? Ведь дома меня обязательно спросят, что это за Европа такая в дальнем космосе?
Решено. Сажусь в ракету-такси, даю автомату задание на расчет. Привычный разгон с перегрузкой, невесомая пауза, перегрузка опять. Рев. Толчок. Ватная тишина. И я на чужой, незнакомой планете.
Нет, я не пожалел, что завернул на ту Европу, хотя она совсем не была похожа на нашу — голая, скалистая, совершенно безжизненная планета. Сила тяжести здесь была достаточная, чтобы удержать атмосферу, но далекое солнце Эа присылало слишком мало тепла, и воздух замерз, превратился в лужи, дымящиеся, как проруби в морозный день. В красном свете солнца Эа дымка эта казалась красноватой, в лужах играли кровавые блики, скалы переливались всеми оттенками пурпурного, багрового, алого, малинового, кирпичного, вишневого, фиолетового, красно-бурого. Тени были тоже бурые, или шоколадные, или цвета запекшейся крови, а в глубине — бархатно-черные или темно-зеленые почему-то. Дали просвечивали сквозь красноватый туман, напоминавший зарево пожара, вершины были как догорающие угли, а утесы, вонзившиеся в небо, словно замершие языки пламени. И над всем этим окаменевшим пожаром висело слабосильное малиновое солнце, висело на черном небе, не гася звездного бисера, не стирая узоров мелких созвездий шарового.
Наверное, с час я любовался этим этюдом в красных тонах. Выковыривал из почвы гранаты, в клюквенных лужах собирал горсти рубинов. Увы, трезвый свет электрического фонаря превращал рубины в обломки кварца. Потом я заметил целый букет каменных цветов. Полез проверять, что это — друза горного хрусталя или нечто неизвестное? И такая неосторожность — нарушил основную заповедь космонавта: «Один на незнакомой планете не удаляйся от ракеты».
Единственное оправдание: планета-то была безжизненная.
А когда я спрыгнул со скалы с обломком кристалла под мышкой (все-таки это был обычный горный хрусталь), между мной и ракетой стояли три тумбы.
Нет, я не испугался. Это были стандартные рабочие киберы с ячеистыми фотоглазами под довольно узким лбом-памятью и с четырьмя ногами, прикрепленными на кривошипах на уровне висков. Иносолнцы считают эту схему наиболее рациональной. С опущенными плечами машины могут ходить, с поднятыми — работать стоя. А на узком лбу я разглядел стандартный знак: квадрат с двумя черточками слева и с двумя снизу: дважды два — четыре.
«Ах да, здесь же был завод программных машин. Гилик говорил мне про него…»
— Гвгвгвгвгвгв…
Каждый владелец магнитофона знает этот свистящий щебет, звук разматывающейся ленты, чиликанье проскакивающих слов. Стало быть, машина была не только самодвижущаяся, но и разговаривающая. Только разговаривала слишком быстро.
Я провел рукой направо и вниз, показывая, что темп надо снизить. Видимо, машина знала этот жест, потому что щебет прекратился, я услышал членораздельные слова на кодовом диалекте иносолнцев.
— Он зовет тебя, — сказала машина.
— Кто «он»?
Я не очень надеялся получить осмысленный ответ, потому что на лбах у машин рядом с квадратом были привинчены шесть нулей, то есть шестизначное число элементов — достаточно, чтобы ходить и говорить, но слишком мало, чтобы понимать вопросы. Однако на мой простой вопрос я получил ответ.
— Он всезнающий, — сказала одна тумба.
— Он вездесущий.
— Он всемогущий.
«Вот тебе на! — подумал я. — Нашелся среди программистов чудак, который сочинил религию для роботов».
— Он зовет тебя.
Но я хорошо помнил, что «автоматы-разведчики с планеты не возвращаются». И «завод остановлен, персонал эвакуирован». И не вызывал у меня доверия этот застрявший здесь, никому не ведомый программист, упивавшийся поклонением машин. Не разумнее ли уклониться от встречи с маньяком?
— Благодарю за приглашение, — начал я, пятясь к ракете, — в следующий раз я обязательно…
Продолжать не пришлось. Вдруг я взлетел вверх и прежде, чем успел сообразить что-нибудь, очутился на плоском темени одной из машин. Другие держали меня под мышки справа и слева. И тут же их ноги зашлепали по лужам цвета раздавленной клюквы.
— Стой! Куда? Пустите!
— Он зовет тебя!
Пришлось подчиниться, тем более что машины, шагающие рядом, цепко держали меня. Лапы у них были литые, с острыми краями, и я боялся сопротивляться — опасался, как бы не порвали скафандр.
Ноги машин выбивали дробь по камням, они переступали куда чаще человеческих. Мы мчались по бездорожью со скоростью автобуса. Внутри у меня все дрожало, копчик болел от ударов о жесткую макушку робота, в глазах мелькали мазки кармина, киновари, краплака, сурика. Мы шли малиновыми холмами, темно-гранатовой лощиной, пересекли реку, похожую на вишневый сироп, углубились в ущелье со скалами цвета бордо. Ненадолго мы нырнули в тушь, утонули в черноте. Я не видел ничего, как ни таращил глаза. Но машины, должно быть, различали инфракрасное сияние, они топали так же уверенно. И опять мы вернулись из ночи в багровый день. Вдали показались удлиненные корпуса и в нарушение цветовой гаммы голубые вспышки сварки.
«А завод-то на ходу! — подумал я. — Не заброшен. Ошибся мой киберчертенок».
Впрочем, к корпусам мы не пошли, сразу же свернули в сторону и остановились у покатого пандуса, ведущего вглубь. Привычная картина. Передо мной было стандартное противометеоритное укрытие для безвоздушных планет. Все было знакомо: в конце пандуса шлюз, налево баллоны с кислородом, метаном, аммиаком — кому какой газ требуется. Прямо коридор и комнаты, а в комнате ванна и ратоматор — этот чудесный прибор сапиенсов, расставляющий атомы в заданном порядке, изготовляющий любую пищу по программе, тот самый, который штамповал для меня земные персики во время болезни. Ленты с программами у меня были, и, ожидая, пока Он позовет меня, я изготовил себе спекс жареный, спекс печеный, кардру, ю-ю и соус 17-94. Что это такое, объяснять бесполезно. Блюда эти придуманы здешними химиками в лабораториях, формулы смесей невероятно длинны и ничего вам не скажут.
В общем, спекс — это нечто жирно-соленое, кардра — кисло-сладкое, ю-ю пахнет ананасами и селедкой, а соус 17-94 безвкусен, как вода, но возбуждает волчий аппетит. И я возбудил волчий аппетит, поужинал спексом и прочим, поскольку же Он все еще не звал меня, завалился спать. День был тяжелый. Я ввинчивался в пространство, потом вывинчивался, перегружался и невесомился в ракете, трясся на стальной макушке, попал не то в плен, не то в гости. И если в таких обстоятельствах вы не спите от волнения, я вам не завидую.
Поутру меня разбудили гости — тоже машины, но куда больше вчерашних, такие громоздкие, что они не могли влезть в помещение, вызвали меня для разговора в пустой зал, вероятно, в прошлом спортивный, с сухим бассейном в центре. В этом бассейне они и расположились, уставив на меня свои фотоглаза. У них тоже были ноги на кривошипах, подвешенные к ушам, и лбы с эмблемой «дважды два». Но у вчерашних машин лбы были узкие, плоские физиономии имели вид удивленно-оторопелый. У этих же глаза прятались глубоко под монументальным лбом, и выражение получалось серьезно-осуждающее, глубокомысленное. Вероятно, это в самом деле были глубокомысленные машины, потому что рядом с квадратиком у них были привинчены пластинки с восемью нулями. Сотни миллионов элементов — вычислительные машины довольно высокого класса.
— Он поручил нам познакомиться с тобой, — объявили они.
Я подумал, что этот Он не слишком-то вежлив. Мог бы и сам поговорить со мной, не через посредство придворных-машин. Но начинать со споров не хотелось. Я представился, сказал, что я космический путешественник, прибыл с далекой планеты по имени Земля, осматриваю их шаровое скопление.
— Исследователь, — констатировала одна из машин.
— Коллега, — добавила другая. (Я поежился.) А третья спросила:
— Сколько у тебя нулей?
— Десять, — ответил я, вспомнив, что в мозгу у меня пятнадцать миллиардов нервных клеток, число десятизначное.
— О-о! — протянули все три машины хором. Готов был поручиться, что в голосах у них появилось почтение. — О! Он превосходит нас на два порядка…
— Какой критерий у тебя? — спросила одна из машин.
— Смотря для чего! — Я пожал плечами, не поняв вопроса.
— Ты знаешь, что хорошо и что плохо?
Я подумал, что едва ли им нужно цитировать Маяковского, предпочел ответить вопросом на вопрос:
— А какой критерий у вас?
И тут всё три, подравнявшись, как на параде, и подняв вертикально вверх левую переднюю лапу, заговорили торжественно и громко, как первоклассник-пятерочник на сцене:
— Дважды два — четыре. Аксиомы неоспоримы. Только Он знает все (хором).
— Знать — хорошо (первая машина).
— Узнавать — лучше (вторая).
— Лучше всего — узнавать неведомое (третья).
— Не знать — плохо (мрачным хором).
— Помнить — хорошо. Запомнить — лучше. Наилучшее — запомнить неведомое.
— Забывать — плохо (хором).
Там были еще какие-то пункты насчет чтения, насчет постановки опытов, насчет наблюдений, я уже забыл их (забывать плохо!).
А кончалась эта декламация так:
— Кто делает хорошо, тому прибавят нули.
— Кто делает плохо, того размонтируют.
— Три — больше двух. Дважды два — четыре.
— Ну что ж, этот критерий меня устраивает, — сказал я снисходительно. — Действительно, дважды два — четыре, и знать хорошо, а не знать плохо. Поддерживаю.
И тогда мне был задан очередной вопрос коварной анкеты:
— А какая у вас литера, ваше десятинулевое превосходительство?
— У каждого специалиста должна быть литера. Вот я, например, — восьминулевой киберисследователь. A — астроном. Мой товарищ B — восьминулевой биолог, а это восьминулевой C — химик.
— В таком случае я — ABC и многое другое. Я космический путешественник, это комплексная специальность, она включает астрономию, биологию, химию, физику и прочее.
И зачем только я представился так нескромно? Почтительность машин вскружила мне голову. «Ваше десятинулевое превосходительство»! Я и повел себя как превосходительство. И тут же был наказан.
A-восьминулевой первым кинулся в атаку:
— Какие планеты вы знаете в нашем скоплении?
Я стал припоминать.
— Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф, Чбебе, Чбуси, Чгедегда, Эаи, Эазу, Эалинлин, Эароп — ваша… Еще Оо.
— Нет, я спрашиваю по порядку. В квадрате А-1, например, мы знаем, — затараторил A, — 27 звезд. У звезды Хмеас координаты такие-то, планет столько-то, диаметры орбит такие-то, эксцентриситеты такие-то… — Выпалив все свои знания о двадцати семи планетных системах, A остановился с разбегу: — Что вы можете добавить, ваше десятинулевое?
— В общем ничего. Я, хм, я новичок в вашем шаровом. Я не изучил его так подробно.
Затем на меня навалился C — химик.
— Атомы одинаковы на всех планетах. Сколько типов атомов знает ваше десятинулевое?
Сто семь элементов были известны, когда я покидал Землю. Я попробовал перечислить их по порядку: водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, натрий, магний, алюминий… В общем, я благополучно добрался до скандия. А вы, читающие и усмехающиеся, знаете и дальше скандия наизусть?
— А изотопы? — настаивал дотошный C. И выложил тут же свой запас знаний: — Скандий. Порядковый номер 21. Заряд ядра 21. Атомный вес стабильного изотопа 45, в ядре 21 протон и 24 нейтрона. Нестабильные изотопы 41, 43 и 44. У всех бета-распад с испусканием позитронов. 46, 47, 48 и 49 — бета-распад с испусканием отрицательного электрона. У изотопа 43 наблюдается К-захват электрона с внутренней орбиты. Периоды полураспада: у изотопа 41 — 0,87 секунды, у изотопа 43… — И закончил сакраментальной фразой: — Что вы можете добавить?
Я молчал. Ничего я не мог добавить.
И тогда выступил B, чтобы добить меня окончательно:
— Но себя-то вы знаете превосходно, ваше десятинулевство? Что вы можете сообщить нам о химическом составе своего тела?
— Очень много, — начал я уверенно. — Тело мое состоит в основном из различных соединений углерода, находящихся в водном растворе. Важную роль играют в нем углеводы, жиры, еще более важную — белки, строение которых записано на нуклеиновых кислотах. Белки — это гигантские молекулы в форме нитей, перевитых, склеенных или свернутых в клубки. Все они состоят из аминокислот…
— Каких именно?
Я молчал. Понятия не имел. А у вас есть понятие?
— Входит ли в состав ваших белков аланин, аргинин, аспаргин, валин, гистидин? — Он перечислил еще кучу «инов».
— Понятия не имею.
И, уже не величая меня десятинулевым превосходительством, машины заговорили обо мне без стеснения, как я говорил бы о подопытной собаке:
— Он знает меньше нас. Возможно, он не десятинулевой на самом деле. Надо бы вскрыть его кожух и пересчитать блоки.
— У него темп сигнала медленнее наших, — заметил C. — Ему на каждое вычисление требуется больше элементов.
B уничтожил меня окончательно:
— У них, органогенных, сложный механизм с саморемонтом. Почти все элементы загружены этим саморемонтом. Изучением мира занята едва ли сотая часть.
— Значит, он семинулевой практически! Если не пятинулевой!
— Он ниже нас. Ниже!!!
— Доложим! Немедленно!
У всех троих появились над головой чашеобразные антенны, встали торчком, словно уши насторожившейся кошки. На всю планету B объявил о моем позоре:
— Объект, прибывший из космоса, оказался органогенным роботом. Он объявил себя универсальным десятинулевым, но при проверке оказалось, что вычисляет он медленно, знания его неспецифичны, поверхностны и малоценны. Ни в одной области он не является специалистом, даже о своей конструкции осведомлен слабо и нуждается в тщательном исследовании квалифицированными машинами нашей планеты.
Я был так пристыжен и подавлен, что не нашел в себе сил сопротивляться; тут же отдал для лаборатории три капли своей крови, замутненной аланином, аргинином, аспаргином и черт знает еще чем.
Учиться никогда не поздно, и следующие дни мы провели в добром согласии с любознательными A, B и C. В свою очередь, и я проявлял любознательность, в результате чего получил немало сведений о светилах, белках и изотопах. Кроме того, мы совершили несколько занимательных экскурсий. A показал мне астрономическую обсерваторию с великолепнейшим километровым вакуум-телескопом. (На шаровом делают линзы не из прозрачных веществ, а из напряженного вакуума, искривляющего лучи так же, как Солнце искривляет световой луч, проходящий поблизости.) B продемонстрировал электронный микроскоп величиной с Пизанскую башню. C возил меня по городку Химии и Физики, окруженному, как крепостной стеной, синхрофазотроном диаметром в девять километров. И все трое вместе показывали мне завод, который я видел издалека в день прибытия, — гигантское здание, полыхающее голубыми огнями. Оказывается, это был завод-колыбель, здесь в массовом порядке с конвейера сходили шести-, семи- и восьминулевые A, B, C, D, E, F, O, M, P и прочие буквы алфавита. Занятно было видеть на деловых дворах заготовки: шеренги ног, левых и правых по отдельности, полки с ушами, штабеля глаз, квадратные черепа, еще пустые, не заполненные памятью, и отдельно блоки памяти, стандартные, без номеров. Тут же, рядом, за стеной, новенькие отполированные восьминулевки проходили первоначальное программирование. Срывающимися неотшлифованными голосами они галдели вразнобой:
— Дважды два — четыре. Знать — хорошо, узнавать — лучше… Помнить — хорошо, забывать — плохо… Только Он помнит все.
— Кто же Он? — допытывался я.
— Вездесущий! Всемогущий! Аксиомы дающий!
— Он материализованная аксиома, — сказал B.
Любопытное проявление идеализма в машинном сознании.
— Откуда Он?
— Он был всегда. Он создал мир и аксиомы. И нас по своему образу и подобию.
Тут уж я расхохотался. Наивное самомнение верующих машин! Если бог, то обязательно по их подобию.
— Разве вы не видели его своими собственными фотоэлементами?
— Он непостижим для простых восьминулевых. Он необозрим.
Все эти дикие преувеличения разжигали мое любопытство. «Кто же этот таинственный Он? — гадал я. — Маньяк ли с ущемленным самолюбием, который тешится поклонением машин? Фанатик науки, увлеченный самодовлеющим исследованием ради исследований? Или безумец, чей бестолковый лепет машинная логика превращает в аксиомы? «Непостижим! Необозрим!»
Но с машинами рассуждать было бесполезно. За пределами своей узкой специальности мои высокоученые друзья не видели ничего, легко принимали самые нелепые идеи. Впрочем, как я убедился вскоре, нелепости у них получались и в собственной специальности, как только они выходили за границы своей сферы.
Восьминулевому A я рассказывал о Земле. Рассказывал, как вы догадываетесь, с пафосом и пылом влюбленного юноши. Говорил о семи цветах радуги, обо всех оттенках, которых не видали эаропяне на своей одноцветной планете, говорил о бризе и шторме, о запахе сырой земли, прелых листьев и винном духе переспелой земляники, о наивной нежности незабудок и уверенных толстячках подосиновиках в туго натянутых рыжих беретах. Говорил… и вдруг услышал шипящее бормотание. A стирал мои слова из своей машинной памяти.
— В чем дело, A?
— Хранить недостоверное плохо. Ты не мог видеть всего этого на планете, отстоящей на десять тысяч парсек.
И он привел расчет, из которого следовало, как дважды два — четыре, что даже в телескоп размером во всю планету Эароп нельзя на таком расстоянии рассмотреть землянику и подосиновики.
— Но я же был там полгода назад. Я не в телескоп смотрел.
— Далекие небесные тела изучают в телескоп, — сказал A. — Это аксиома астрономии. Почему ты споришь со мной, ты же не астроном?
— Но я прилетел оттуда.
— Нельзя пролететь за полгода тридцать тысяч световых лет. Скорость света — предел скоростей. Это аксиома.
Час спустя аналогичный разговор произошел с химиком C.
— Морей быть не может, — сказал он. — Жидкость из открытых сосудов испаряется. У вас же нет крыши над морем.
Я стал объяснять, что жидкость испаряется без остатка только на безатмосферных планетах. Рассказал про влажность воздуха, про точку росы. C прервал меня:
— Все это недостоверно. Ты, не знающий точного строения воды, выдвигаешь гипотезы. Почему ты споришь? Ты же не химик.
Но всех превзошел восьминулевой B.
Дело в том, что я простыл немного, разговаривая с ними с утра до ночи в неотапливаемом спортивном зале. Простыл и расчихался. Услыхав непонятные звуки, восьминулевые спросили меня, что я подразумеваю под этими специфическими, носом произносимыми словами.
— Я болен, — сказал я. — Я испортился.
B прокрутил свои записи об анализах моей крови и объявил:
— Справедливо. Сегодняшний анализ указывает на повышенное содержание карбоксильного радикала в крови. Я закажу фильтратор, мы выпустим из тебя кровь, отсепарируем радикал…
— Предпочитаю стакан ЛА-29 (лекарство, напоминающее по действию водку с перцем). На ночь. Выпью, лягу, укроюсь потеплее…
— Не спорь со специалистом, — заявил B заносчиво. — Ты же не биолог…
И тут уж я им выдал. Тут я рассчитался за все унижения:
— Вы, чугунные лбы, мозги, приваренные намертво, схемы печатные с опечатками, вы, безносые, чиханья не слыхавшие, специалистики-специфистики, узколобые флюсы ходячие, не беритесь вы спорить с человеком о человеке. Человек — это гордо, человек — это сложно, это величественная неопределенность, не поддающаяся вычислению. Чтобы понять человека, рассуждать надо. Рассуждать! Это похитрее, чем дважды два четыре, три больше двух.
К удивлению, машины смиренно выслушали меня, не перебивая. И самый любознательный из троих — A восьминулевой (потом я узнал, что у него было много пустых блоков памяти) — сказал вежливо:
— Знать — хорошо, узнавать — лучше. Мы не проходили, что такое «рассуждать». Дай нам алгоритм рассуждения.
Я обещал подумать, сформулировать. И всю ночь после этого, подогретый горячим пойлом, лихорадкой и вдохновением, я писал истины, известные на Земле каждому студенту-первокурснику и совершенно неведомые высокоученым железкам с восьминулевой памятью.
Алгоритм рассуждения
1. Дважды два — четыре в математике, но в природе не бывает так просто. В бесконечной природе нет абсолютно одинаковых предметов и абсолютно одинаковых действий. Две супружеские пары — это четыре человека, но не четыре солдата. Две девушки и две старушки — это четыре женщины, но не четыре плясуньи. Поэтому, прежде чем умножать два на два, нужно проверить сначала, можно ли два предмета считать одинаковыми и два раза тождественными. Если же рассчитывается неизвестное, безупречные вычисления не достовернее гадания на кофейной гуще.
2. Мир бесконечен, а горизонт всегда ограничен. Мы наблюдаем окрестности, и выводы из своих наблюдений считаем законами природы. Но планеты шарообразны, кто уходит на восток, возвращается с запада. «Так» где-то превращается в «иначе» и еще где-то в «наоборот». То, что нам кажется аксиомой, на самом деле только правило, местное, временное, непригодное и неверное за горизонтом.
3. Блоху я рассматриваю в лупу, бактерию — с помощью микроскопа. Но у микроскопа свой предел — длина световой волны. Чтобы проникнуть глубже, я применяю иной микроскоп — электронный, потому что электронные волны короче световых. Однако и электронный микроскоп не способен показать электроны. В результате у специалистов-электронщиков возникает соблазн объявить, что электрон не имеет размера и даже непознаваем.
4. Прибор надо менять вовремя и вовремя менять метод расчета. Мы всегда знаем часть и все остальное не знаем. Если неизвестное несущественно, мы предсказываем и высчитываем довольно удачно. Но если неизвестное оказывает заметное влияние, формулы и расчеты лопаются как мыльные пузыри. И у специалистов-расчетчиков возникает соблазн объявить, что наука исчерпала себя. Видимо, неудобно признаваться, что ты, ученый, зашел в тупик, приятнее утверждать, что дальше нет ничего…
Всю ночь я писал эти прописные истины, а наутро, волнуясь, как начинающая поэтесса, прочел их трем чугуннолобым слушателям, в глубине души надеясь, что реабилитирую себя в их фотоэлектронных глазах, услышу слова удивления и восхищения…
И услышал… шипящее бормотание. A, B и C — все трое сразу — решили стереть мои слова из памяти.
— Что такое? Почему? Вы не хотите рассуждать?
— Твой алгоритм неверен, — сказал A. — Если дважды два — не четыре, тогда все наши вычисления ошибочны. Ты подрываешь веру в математику. Ты враг точности.
— Если аксиомы — не аксиомы, тогда все наши исследования ошибочны. Ты подрываешь веру в науку. Ты враг истины, — добавил B.
— Аксиомы дает Аксиом Всезнающий, — заключил C. — Если бы мир был бесконечен, Он не мог бы знать всё. Ты клеветник!
В тот день я почувствовал, что мне надоела эта планета Дважды два. Я был болен и зол, глаза у меня устали от одноцветности, от малиновых рассветов и багровых вечеров. Мне захотелось на бело-перламутровую Эалинлин с оркестрами поющих лугов, а еще бы лучше — на Землю, зелено-голубую, милую, родную, человечную, где по улицам не расхаживают литые ящики с нулями на лбу. И я сказал моим друзьям-недругам, что намерен покинуть Эароп. Если их Аксиом хочет со мной знакомиться, пора назначать аудиенцию, а если не хочет, пусть остается себе в приятном обществе бродячих комодов.
A, B и C вздернули свои радиоушки, и через минуту я получил ответ:
— Всеведущий приказывает задержать тебя, пока не закончится изучение твоего организма. Ведь ты единственный человек, посетивший нашу планету, заменить тебя некем.
— И сколько времени нужно вам на изучение?
— Надо записать формулы молекул, координаты и точное строение клеток. Итого, около трехсот триллионов знаков по двоичной системе. Если записывать по тысяче знаков в секунду, за триста миллиардов секунд можно управиться.
— Триста миллиардов секунд? — заорал я. — Десять тысяч лет? Да я не проживу столько.
— Откуда тебе известно, сколько ты проживешь? По какой формуле ты высчитываешь будущее?
— Откуда? Оттуда! Я человек и знаю, сколько живут люди. Я уже старею, у меня виски седые. Непонятно, головы с антеннами? Я разрушаюсь, я разваливаюсь, я порчусь. Я испорчусь окончательно лет через двадцать, если не раньше.
— Мы предохраним тебя от порчи, — заявил B самонадеянно. — Соберем лучших биологов и решим, как сделать тебе капитальный ремонт.
Вот чего не было на планете аксиомопоклонников — волокиты. Уже через три часа в пустующем бассейне состоялся консилиум B-машин разных специальностей. Приползли даже гиганты девятинулевые, но эти не смогли втиснуться в шлюз, им пришлось оставить громоздкие мозги снаружи, а на совещание прислать только глаза и уши, кабелем соединенные с телом.
Мой друг B с восемью нулями изложил историю болезни примерно в таких выражениях:
— Перед нами примитивный первобытный органогенный механизм, имеющий мелкоклеточное строение. Автоматический ремонт идет у него в масштабе отдельных клеточек, и нет никакой возможности разобрать агрегат и заменить испорченные блоки. По утверждению самого объекта индикатором общего состояния механизма служит цвет бесполезных нитей, находящихся у него снаружи на верхнем кожухе. Нити эти белеют, когда весь механизм начинает разлаживаться. Задача состоит в том, чтобы провести капитальный ремонт агрегата, не разбирая его на части даже для осмотра.
Минутное замешательство. Глаза девятинулевых осматривают меня со всех сторон, и, конечно, кабели перекручиваются, завязываются узлами. Восьминулевки почтительно распутывают начальство.
Первым взял слово девятинулевик Ba — биоатмосферик.
— Рассматриваемый несовершенный агрегат, — заявил он, — находится в постоянном взаимодействии с внешней средой и целиком зависит от нее. Причем важнее всего для агрегата газообразный кислород, который всасывается через отверстия головного блока каждые три-четыре секунды. Между тем кислород — активный окислитель горючего, при обильной подаче кислорода горение идет быстрее. Если мы хотим, чтобы агрегат сгорел не за двадцать, а за двадцать тысяч лет, нужно уменьшить концентрацию кислорода в тысячу раз, и жизненный процесс замедлится в нужной пропорции.
— Среда — ерунда! — рявкнул другой девятинулевик, Bp — биопрограммист. — У агрегата есть программа, закодированная на фосфорнокислых цепях с отростками. Там все записано: цвет головных нитей, форма носа, рост, длина ног, и, несомненно, отмечен срок жизни. Надо разыскать эту летальную запись и заменить ее во всех клетках.
Bc — биохимик высказал свое мнение:
— Агрегату нужен не только кислород, требуются также питательные материалы и катализаторы. Все они доставляются в клеточки по эластичным трубочкам разного диаметра. С годами эти трубочки покрываются накипью из плохо растворимых солей кальция. Я рекомендую промыть их крепкой соляной кислотой.
Bk — биокибернетик:
— Для таких сложных систем, как изучаемый агрегат, решающее значение имеет блок управления. Указанный блок — агрегат называет его мозгом — периодически отключается часов на восемь, в это время вся система находится в неподвижном и бездеятельном состоянии. Замечено, что период бездеятельности относится к периоду деятельности как один к двум. Чтобы продлить существование агрегата в тысячу раз, нужно увеличить это отношение в тысячу раз, то есть каждый день пробуждать агрегат на три минуты, остальное время держать его в состоянии так называемого сна.
B — биототалист (я бы перевел как психолог):
— Замечено было, что агрегат функционирует наилучшим образом в состоянии интересной деятельности. Получив интересующее его задание на составление алгоритма рассуждения, несмотря на неисправность, он провел ночь без так называемого сна и наутро чувствовал себя превосходно. Поэтому я предлагаю подобрать увлекательные задачи на каждую ночь, и агрегату некогда будет думать о порче.
Рецепты явно противоречили друг другу, и мои целители сцепились в яростном споре. Девятинулевики опять завязались узлами, яростно бодая друг друга. Я смотрел на всю эту свалку равнодушно. Мне как-то было безразлично: умереть ли от удушья, от соляной кислоты, от переутомления или от снотворных.
— Я сложное существо, — пробовал я убеждать своих докторов.
И тут, объединившись, спорщики накинулись на меня:
— Как ты смеешь возражать девятинулевым? Ты же не биолог!
День спустя от своего постоянного куратора B я узнал, что, не сговорившись между собой, машины приняли решение проводить на мне опыты поочередно, в алфавитном порядке. Первым оказался Ва, ему предоставили возможность удушить меня в бескислородной атмосфере. Положение стало безнадежным, и я решил, другого выхода не видя, добиться встречи с Аксиомом. Какой ни на есть, самовлюбленный маньяк, а все же живое существо. Должен понимать, что мне дышать надо хотя бы. И я объявил голодовку. Объяснил при этом чугуннолобым, они могли и не понять, что такое голодовка, что я прекращаю подачу материала для саморемонта и буду растворять сам себя, клеточка за клеточкой. И предложил им взвесить меня для убедительности. Цифрам они верили.
Только первые сутки голодовки не доставили мне больших мучений. Что-то я вспоминал, что-то записывал. К обеденному времени затревожился аппетит, но я перетерпел, а вместо ужина лег спать пораньше. Но наутро я проснулся с голодной резью в желудке, ничего не мог уже записывать.
Воображение рисовало мне накрытые столы, витрины, прилавки, рестораны и закусочные во всех подробностях. Никогда не представлял, что в памяти моей хранится столько гастрономических образов. Мысленно я накрывал стол со всей тщательностью опытного официанта, я расставлял торчком салфетки, острые и настороженные, как уши овчарки, я резал тонкими ломтиками глазчатый сыр и нежно-прозрачную ветчину, выравнивал в блюдечке янтарные зерна красной икры. И, презрев деликатесы, зубами рвал с халы хрустящую корку, обсыпанную маком. Потом накрывал к обеду, раскладывал, резал… И для ужина расставлял салфетки, рвал хлеб, набивая рот… Нестерпимо!
Дня три терзали меня эти видения. Затем желудок отвык от пищи, мозг смирился с поражением, перестал будоражить меня. Пришли безразличие и вялая покорность: «Проиграл так проиграл. Когда-нибудь надо же помирать».
На пятый день чугунные лбы наконец разобрались, чем мне грозит голодовка. Весы убедили их: исчезновение килограммов — арифметика. Они доложили по начальству и объявили тут же, что Аксиомы дающий согласен видеть меня.
И вот на плоском темени друга моего B, держась за его уши-антенны, я качу во дворец бога вычислительных машин. Малиновое солнце Эа устилает мой путь кумачом, смородиновые капли взлетают из каждой лужи. Слева остается завод-колыбель со взводами ног и взводами рук, приветствующих меня, высокого гостя Кибернетии. Мы огибаем ограду и устремляемся к приземистому зданию с множеством дверей, совсем непохожему на дворец, скорее напоминающему станционный пакгауз. Ко всем дверям его движутся машины: прыткие семинулевки, солидные восьминулевые, уже обремененные грузом знаний, и еле тащатся почтеннейшие девяти- и десятинулевства, волоча блоки со старческой своей памятью на прицепных платформах.
Смысл этого паломничества открылся мне в вестибюле дворца. Оказывается, машины приходили с отчетом: они сдавали добытые знания. В стенах имелись розетки, машины втыкали в них вилки, видимо, предоставляя свои блоки для списывания, что-то гудело, стрекотало, и над розеткой появлялась цифра с оценкой, обычно — 60–70. Вероятно, это были проценты новизны и добротности добытых знаний. Прилежные получали новый блок на миллион ячеек, прилаживали его к спине и отбывали. Тут же происходили и экзекуции. На моих глазах какого-то легкомысленного семинулевку-неудачника, получившего оценку 20, размонтировали, несмотря на жалобное верещание и посулы исправиться. Блоки его вынули, записи стерли и передали отличившемуся самодовольному M (математику). Благодаря прибавке M сразу перешел в девятинулевой разряд.
А я, глядя на всю эту кутерьму, волнуясь, тасовал в уме варианты убедительных речей. Я понимал, что времени для размышления у меня не будет. Увидев Аксиома, я должен мгновенно понять, с кем я имею дело, и выбрать самую действенную дипломатию.
Наконец дошла до меня очередь. Резкий свисток известил, что Он свободен, наверху над лестницей раздвинулись створки, громадные, как ворота гаража. Переступив порог, я увидел широкий коридор, вдоль которого за сеткой стояла стационарная вычислительная машина, собранная из стандартных блоков с квадратиками «дважды два» на каждом, с фотоглазами, со ртами-рупорами и с частоколом ушей. А под ушами бежала, мерцая, световая лента из нулей-нулей-нулей…
Длиннющий коридор тянулся бесконечно, исчезая в сумраке, и справа и слева. Я остановился в недоумении, не зная, куда повернуть, и тут рты-рупоры загудели разом:
— Ты хотел видеть меня, агрегат, сделанный из органиков. Смотри! Аксиом Великий перед тобой.
Рупоры говорили разом во всю длину коридора, и каждое слово дополнялось раскатистым эхом: «ом-ом-омммм… ий-ий-ийййй…»
«Боже мой! — подумал я. — Так это и есть Аксиом. Он — машина. Правду сказали мне восьминулевки: «Он создал нас по своему образу и подобию». А я не поверил тогда».
И припомнилось, что Гилик говорил мне перед вылетом. На Эаропе находился завод машин марки «Дважды два». Видимо, среди них была и машина-память высокого класса с самопрограммированием. Подобным киберам всегда дают критерии: «Что есть хорошо и что есть плохо». Помнить хорошо, забывать плохо, считать хорошо, ошибаться плохо… Эту машину тоже бросили за ненадобностью, однако не учли, что она была еще и саморемонтирующаяся. И оставленная без присмотра, она починила себя, восстановила завод, наладила монтаж исследовательских машин «по своему образу и подобию», всю эту бессмысленную возню по накоплению никому не нужных сведений.
— Кураторы доложили мне, что ты уклоняешься от исследования, — загудели рупоры.
Я подождал, пока эхо замерло в глубине коридоров.
— Ваши кураторы не понимают, как коротка жизнь человека. Мне пятьдесят два года. В среднем люди живут около семидесяти.
— Не беспокойся, — прогудел коридор. — Ты проживешь достаточно. Научные силы моей планеты сумеют продлить твою жизнь на любой заданный срок. Уже установлено, что тебе необходим газообразный кислород, который ты всасываешь через разговорное отверстие каждые три-четыре секунды. Уменьшив концентрацию всесжигающего кислорода в тысячу раз, мы продлим твою жизнь в тысячу раз. Установлено также, что питательные трубочки внутри твоего тела засоряются нерастворимыми солями кальция. Мы их прочистим крепким раствором соляной кислоты. Установлено также, что среда — ерунда, у тебя есть биопрограмма, записанная на фосфорнокислых цепях, и в ней отмечен срок жизни. Мы найдем летальный ген и отщепим его во всех клетках. Установлено также, что твой головной блок отключается после шестнадцати часов работы. Мы будем выключать его через три минуты, и ты проживешь в тысячу раз больше. Кроме того, установлено, что, получив задание с критерием «интересно», ты можешь обходиться без выключения… Видишь, как много мы сделали за короткий срок. Мы, Аксиом Всемогущий, мы можем все…
И тут я не выдержал: расхохотался самым неприличным образом. Оказывается, это болтающее книгохранилище, этот коридор бараньих лбов, это кладбище ненужных сведений помнило все, но нисколечко не умело рассуждать. Оно списало дубовые умозаключения девятинулевых Ba, Bc и прочих и, даже не сравнив их, не заметив противоречий, выдавало мне подряд. Аксиом действительно знал все, что знали его подчиненные, но ни на йоту больше…
— Я понимаю все, но объясни, что ты подразумеваешь под этими невнятными словами, — недовольно прогудел всезнающий.
— Они выражают радость, — схитрил я. — Мне радостно, что я могу оказаться тебе полезным. Твои кураторы ограниченны. Ты научил их собирать знания, но они не умеют рассуждать. Не получили программу на рассуждение. Я дам тебе эту программу, если ты разрешишь мне удалиться с миром, покинуть твою планету завтра же.
— Я знаю все, — заявил Аксиом. — Но поясни, что ты понимаешь под термином «рассуждать».
— Рассуждать — это значит сопоставлять и делать выводы, — сказал я, — в частности, сопоставлять вычисления с фактами. Дважды два — четыре в математике, а в природе — дважды два — около четырех. Формулы суши хороши для суши, а на море нужны формулы моря. Верное здесь неверно там; за горизонтом «так» превращается в «иначе». Мир бесконечен, мы знаем только окрестности и правила окрестностей считаем аксиомами… — В общем, повторил то, что писал для восьминулевых в алгоритме.
После пятидневной голодовки у меня стоял звон в ушах. Предметы то размывались, то съеживались, как в бинокле, когда наводишь на резкость. Только головокружением могу я объяснить, не оправдать, а объяснить мою топорную откровенность.
Аксиом прервал меня:
— Мир не бесконечен. Я его создал и знаю в нем всё. Аксиомы даю я. Они безупречны, потому что я не ошибаюсь. Ошибаешься ты. Ошибаться плохо. Не тебе учить меня, жалкий десятинулевик с замедленными сигналами. Посчитай, сколько у меня нулей.
Он ярче осветил ленту, бегущую под карнизом. Нули-нули-нули. Лента бежала беспрерывно. Наверное, она замыкалась где-то сзади.
— Я сосчитал, — съязвил я. — Нуль равен нулю, и тысяча нулей равны нулю. В итоге — нуль. Ты это знаешь сам.
И тут я услышал рокот за спиной — ворота сходились. Одновременно с потолка начала спускаться сетка, ограждавшая Аксиома. Я вынужден был попятиться и, отступив, полетел по ступенькам. Так кончались здесь аудиенции. Гостя просто спускали с лестницы.
Я вернулся к себе в приподнятом настроении, по-детски радуясь, что проявил и доказал свое превосходство над самой премудрой машиной планеты. Что будет дальше? Не знаю. Придумаю. Как-нибудь перехитрю это литье, не умеющее рассуждать. А пока надо набраться сил. Я роскошно поужинал и завалился спать.
И был наказан за беспечность. Во время сна мои стражи унесли и спрятали скафандр. Безвоздушность держала меня надежнее всяких запоров. Вообще режим стал строже. Прогулки отменили, меня не выпускали даже в зал сухого бассейна. Мои друзья A, B и C почти не разговаривали со мной. Лишь изредка, заглянув в дверь, спрашивали по своему катехизису.
— Помнить хорошо?
— Смотря что, — отвечал я.
— Забывать плохо?
— Смотря что. Лишнее надо забывать.
— Ошибаться плохо?
— Смотря когда. На ошибках учатся.
Однажды A спросил меня:
— «Смотря» — это и есть ключ к рассуждению?
— Я вам давал алгоритм рассуждения. Вы его стерли.
Машины скосили друг на друга глаза, как бы переглянулись.
— Твой алгоритм подрывает знания. Ты враг знаний!
— Я не подрываю, а продолжаю знания. Здесь так, а за горизонтом иначе. Здесь аксиомы верны, а где-то неверны. Ваш Аксиом не знает этого и не хочет знать.
— Аксиом Великий знает все.
— А вы рассудите сами, раскиньте своими печатными схемами. Если бы Аксиом знал все, зачем бы ему посылать вас на добычу знаний, зачем бы переписывать из ваших блоков то, что вы узнали? Если он знает все, он мог бы вас учить.
— Он испытывает нас. Проверяет, пригодны ли мы для добычи знаний, хороши или плохи.
— Испытывает! О, извечная уловка всех религий! Да если он всемогущий, он может создать вас безупречными! Если всезнающий, зачем ему испытывать? Неправда, не знает он все. Вас посылает узнавать и переписывает ваши знания себе. Вы добываете, а он переписывает. Узнавать хорошо. Бездействовать плохо.
— Это рассуждение? — переспросил A.
— Самое примитивное. Выявление противоречия между словами и фактами.
Машины помолчали, как бы переваривая. Опять скосили друг на друга мерцающие экраны глаз.
— Повтори алгоритм. Мы не сотрем на этот раз.
— Дважды два — четыре только в математике, — завел я. — В природе дважды два — около четырех: больше или меньше. — Распаляясь, с вдохновением, наизусть твердил я все те же истины. Они стали моим кредо здесь, на планете прямоугольных железок, моим гимном человеческому достоинству. — Долой несгибаемые аксиомы! Дважды два — около четырех. Три может быть меньше двух…
Свисток оборвал мои речи. Машины подравнялись, повернули антенны в сторону дворца. Видимо, по радио передавался приказ.
И через минуту заговорили хором:
— Приказ Аксиома безупречного. Некоторое время тому назад на нашу планету прибыл органогенный агрегат, именующий себя Человеком. После исследования мы, Аксиом Всезнающий, установили, что данный агрегат во всех отношениях отстает от наших подданных, а кроме того, запрограммирован на вредоносный критерий рассуждения. Посему повелеваем дальнейшее изучение агрегата прекратить, неудачную конструкцию эту размонтировать завтра на рассвете и отдельные блоки уничтожить за ненадобностью. Знать хорошо, узнавать лучше, рассуждать плохо. Дважды два — четыре. Три больше двух.
И от всей жизни осталась одна ночь, одна-единственная.
Меня почему-то еще в молодости интересовало, как я поведу себя, как ведут себя люди вообще перед лицом неизбежной смерти. Хотелось, чтобы меня предупредили заранее: осталось полгода, три месяца или три недели. Мне казалось, что эти недели я проживу по-особенному, напряженно и значительно, дорожа каждой минутой.
И вот мой срок отмерен, и надежды никакой. Скафандр спрятан, без скафандра не убежишь. Уповать на помощь сапиенсов? За месяц не смогли разыскать, едва ли явятся именно сегодня. Только в кинофильмах спасение приходит в последнюю минуту. Уговаривать тюремщиков? Но они ушли.
Остается одно: дела привести в порядок. Что я не сделал на этом свете? Что у меня есть ценного в голове? Немного. Впечатления о планете Эароп, где не ступала нога человека. Значит, надо написать отчет.
И я уселся писать отчет. Этот самый, который вы читаете. Начиная с того дня, когда я сидел за каталогом планет Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф…
Я писал неторопливо, отсеивал факты, подбирал слова, старался последнее дело сделать добросовестно. Исписал целую тетрадь и устал смертельно; закончив, с удовольствием вытянулся в постели. И заснул. А что? Приговоренные не спят в последнюю ночь?
И сразу же, так мне показалось, стук. Смерть!
Три непреклонных квадратных лба — A, B и C.
— Пришли за тобой, — говорит A.
B спрашивает:
— Сопротивляться будешь?
С молча протягивает скафандр.
— У людей есть обычай, — говорю я, — приговоренному перед казнью исполняют желание. Одно. У меня есть желание: вот эту тетрадь отнесите и положите в ракету. В ту, на которой я прибыл.
— Прочти, — требуют машины.
Я читаю, даже с излишней медлительностью — время тяну. Наслаждаюсь минутами жизни: так приятно смотреть на буквы, складывать слова, произносить. И где-то шевелится надежда: вдруг именно сейчас сапиенсы во главе с Граве высаживаются на Эароп, громят подданных Аксиома, спешат на выручку.
К концу замедляю темп. Но все кончается, даже моя история.
— Скафандр надевай! — напоминает C.
Мелькает мысль: застегивать ли скафандр? Зачем тянуть? Выйдешь из шлюза — и тут же смерть. Но нелепая, непутевая надежда пересиливает. Еще полчаса, еще час. Вдруг в этот час мои друзья сапиенсы возьмут дворец Аксиома штурмом…
Красно-черной, траурной выглядит сегодня планета. В траурных декорациях еду я верхом на голове у C.
Угольное, шоколадное, багровое, охристое, карминовое, вишневое… — какое наслаждение различать оттенки, называть их!
Меня несут куда-то далеко, прочь от завода и дворца, по долине, потом по ущелью в кромешной тьме. Несут долго. Но я не возражаю. Все, что мне осталось в жизни, — это ехать на стальной голове, стукаться копчиком, смотреть и думать…
Опять мы выходим из черноты на красное. Ноги шлепают по кровавым лужам, брызги взлетают смородинками. Что-то знакомое в этой долине. Как будто я был здесь? Ну конечно, был. Я тут совершил посадку. Вот и ракета. Стоит свечкой, как стояла.
Зачем меня принесли сюда? Видимо, выполняют обещание, хотят положить тетрадку. «А что, если? — разгорается искорка надежды. — Если я покажу, куда положить тетрадку, я сам включу ракету. В космосе как-нибудь справлюсь с этими тремя чушками. Человек всегда победит чугунные сейфы, даже и восьмизначные. Последнее желание. Ха-ха-ха!»
Шагаем прямо к ракете. Остановились. C, наклонив голову, стряхивает меня наземь.
— Прощай, — говорит он.
— Прощай, — вторят A и B.
Не понимаю. Смотрю в недоумении на квадратные, ничего не выражающие лица, на матовые, алые от солнца глаза.
— Вы что? Отпускаете меня?
— Знать — хорошо, узнавать — лучше, — говорит B. — От тебя мы узнали, что за горизонтом страна Иначе. Кто уходит на восток, приходит с запада. Твой мир полон неожиданных открытий, он интереснее аксиом. Ты не подрываешь знания, ты их продолжаешь и множишь. Аксиом ошибается. Ошибаться — плохо. Если посылка неверна, неверен и вывод. Мы решили, что тебя не надо размонтировать.
Один прыжок — и я у ракеты. Вцепился в поручни.
— Ребята, спасибо. Ребята, прощайте… А вас не размонтируют? (Последний укол совести.)
— Мы приняли меры. Когда ты читал, мы транслировали твой отчет по радио. Все восьминулевые за нас.
— Прощайте, прощайте, дорогие, — взбираюсь по лестнице к шлюзу, набираю номер на замке…
— Прощай! — кричат автоматы. — Узнавать — хорошо. Рассуждать — лучше.
Дверь тамбура зияет за спиной. Спасен я, спасен! Поворачиваюсь в последний раз, чтобы глянуть на опасную Эароп.
— Счастливого пути, рассуждающий! — кричат машины. — Много нулей тебе. Дважды два — четыре.
— Около четырех! — поправляю я.
И друзья мои металлические повторяют торжественно:
— Дважды два — около четырех! Около!
Из космического блокнота
Не могу удержаться от невинной мести. Диктую Гилику отчет о приключениях на планете Аксиома Великого и после каждого эпизода добавляю:
— Вот они, твои хваленые машины! Безукоризненная логика, трудолюбие, неутомимость. А в результате что?
— Это устаревшие модели, — оправдывается Гилик. — Забракованная конструкция «Дважды два». Механические питекантропы.
— Уверяю тебя: машины как машины. Связь, обратная связь, память оперативная, память долговременная, вводы, выводы, все как у тебя. Типичные машины.
— Смотря какие машины! — вырывается у него.
— То-то! «Смотря какие»! И люди смотря какие, смотря где, смотря в чем. И логика смотря какая. Смотреть надо, дорогой мой рубидиевоглазый, смотреть и думать, не только высчитывать.
Граве я тоже поддразниваю легонько: «Какие же вы хозяева вселенной? В своем собственном шаровом потеряли единственного человека. Месяц искали, не могли найти».
Он объясняет волнуясь. До сих пор принимает близко к сердцу мое исчезновение. От волнения у него трясутся дряблые щеки (при анаподировании, конечно). Говорит: искали, старались. Говорит: неудачное стечение обстоятельств — как раз в этот день потерпела аварию и упала в океан Эалинлин некая ракета. Думали, что моя. Пока нашли, пока извлекли, пока убедились, что моего трупа нет поблизости… К тому же, выбирая маршрут, я трогал пальцами кнопки Чбуси и Чгедегда… Меня начали искать на всех станциях на букву Ч.
— Мы никак не могли представить себе, что ты изберешь такую невыразительную цель. Для тебя разработана предельно насыщенная программа, а ты тратишь целый месяц на планету устаревших моделей… Срывается прекрасно продуманный план.
Я приношу извинения. План срывать нехорошо… Признаю…
— Ну а если бы, — любопытствую все-таки, — если бы вы не нашли меня еще через месяц… Пришлось бы снова на Землю?..
В глубине души ожидаю, что скажут: «Ах, ты такой незаменимый!»
— Зачем же возвращаться? — удивляется Граве. — Копию сделали бы. Ведь тебя же записали при отправке.
Копию сделали бы! Вот друзья! Потому и искали так лениво.
Копию сделали бы!
И ходил бы по белу свету человек, называющий себя моим именем, помнящий всю мою жизнь, все, чем горжусь, все, чего стыжусь, любящий мою жену, считающий себя отцом моего сына, владельцем моей квартиры, автором каждой странички, написанной мною. А кого из нас вернули бы на Землю? Как разобрались бы, кто настоящий? Хотя разобраться можно: я-то помнил бы про восьминулевых, а он их не видал никогда, перед отлетом был записан. Да, но зато он летал бы на другие планеты, выполняя прекрасно продуманную и предельно насыщенную программу. Набил бы голову более нужными знаниями и повез бы их на Землю.
— Удивительно жесткий вы народ, — говорю. — Сделали бы копию, а меня на произвол судьбы…
— Нет, мы нашли бы тебя рано или поздно, — уверяет Граве.
— Рано или поздно? Дряхлого старика, искалеченного нулевками.
— Нашли бы и исправили. Ноги можно вырастить, молодость вернуть.
— Как это вернуть молодость?
— Ну, проглотил бы хирурга, он разобрался бы…
— Что это значит: проглотил хирурга?
Теперь удивляется Граве:
— А у вас разве не умеют глотать хирургов? Все еще режут, кромсают, ранят больного человека, толстыми пальцами и инструментами копаются во внутренностях? Но это же так болезненно и так… негигиенично.
Хирургов глотают? Все надо учить заново.
Хирург-ису — искусственное существо. Стесняюсь назвать его машиной. Какая же это машина — с высшим образованием!
С виду он похож на металлическую змею — маленькая головка и длиннющий хвост. На головке глаза и всякие манипуляторы, в хвосте главным образом блоки знаний, как и у Гилика. Кроме того, змеевидное тело меньше травмирует ткани. Проползать удобнее.
Сначала опрос, как в военном деле, точность требуется.
— Ису-хирург, изложи задание.
— Задание заключается в том, чтобы вернуть молодость объекту.
— Как будешь выполнять?
— Объект относится к тому типу сапиенсов, у которых периодизация жизни запрограммирована в железах и мозгу. Я должен посетить необходимые железы и нижний отдел мозга, чтобы переключить их с режима увядания на режим расцвета…
— Как ты будешь производить переключение?..
Здесь записи в моем блокноте обрываются. Я не хотел загромождать страницы названиями органов того сапиенса, все равно у людей они не совсем такие. Но, насколько я понял, у нас речь шла бы о гипоталамусе и гипофизе.
Наконец экзамен закончен. Подается команда:
— Приступаем к миллитации.
Миллитацию мне демонстрируют тут же. Змея-хирург заползает в емкий блестящий шкаф, зеркальный даже. Я уже видел такие шкафы, назвать их можно ратоматорами — расстановщиками атомов. Их применяют для копирования и размножения любых предметов, дубликаты пресловутых персиков копировали для меня, пока я лежал больной, нуждался в земной пище. Обычно ратоматоры двойные — кладешь персик-образчик в левое отделение, из правого вынимаешь точную копию. Здесь же слева был полномерный шкаф размером с будку для телефона-автомата, а справа ящик как бы для второго телефона. Змей заполз в будку, дверца за ним захлопнулась, и когда все, что надо, отмигало и отгудело, за дверцей ящика оказалась небольшая змейка, копия, но уменьшенная раз в десять, этакий блестящий браслет. И, подняв свою крошечную головку, она просвистела что-то осмысленное о гипофизе и гипоталамусе.
Миллитация — это и есть копировка с уменьшением.
После второго уменьшения браслет превращается в колечко, после третьего — в сверкающую точку, после четвертого его вообще не разглядишь. После пятого микроскопический хирург сам заползает в пилюлю, и ее глотают, если болезнь желудочная или легочная, или вводят в уголок глаза, или в ухо, или в вену, если надо лечить сердце, или железы, или мозг, как в данном случае.[1]
— Вот какие машины делают на Чгедегде, — гордится Гилик. — Экстра-машины. Меня тоже сделали на Чгедегде.
— А зачем, — спрашиваю, — возиться, изготовлять бездушного хирурга? Нельзя ли просто миллитировать опытного врача? Я и сам не отказался бы сопровождать его в качестве корреспондента.
— Трудновато, — говорит Граве. — Мы, биологические сапиенсы, слишком сложны и чувствительны. Нам подай среду благоприятную, воздух, подходящую температуру, еду, питье. В чужой крови мы просто захлебнулись бы, отравились бы, лейкоциты нас съели бы. Микрокосмос подобен макрокосму. Там и тут сапиенсу нужен корабль с надежными непроницаемыми стенками, запасами пищи и воздуха, регенерацией, канализацией, системой жизнеобеспечения, да еще с веером манипуляторов снаружи. Главная трудность — не лечить, а хирурга обезопасить, ради безопасности врача целую ампулу вталкивать в тело.
— Жалко, — говорю. — Я уже настроился на путешествие внутрь. Значит, не получается?
Все еще злорадствую, когда узнаю, что местные сапиенсы не могут чего-то. Не таким уж младенцем чувствуешь себя.
— Бывали такие экспедиции, — говорит Граве.
И мне показывают документальный фильм. Назывался он «Экспедиция в палец».
Нежнотелых биосапиенсов уменьшали плавно, не рывками, как хирургов-ису, поэтому внешний мир рос для них постепенно, как бы растягивался и наплывал на зрителя. Вот на экране громадный палец, розовый, с белыми дактилоскопическими узорами. Борозды все шире, вот они уже превратились в чешую. Очень похожи на чешую ороговевшие клетки, сразу видно, что мы-многомудрые — прямые потомки ящериц. Острый нос микроракеты проникает в кровь. И кровь-то на кровь не похожа: студень с волокнами, красными тарелочками и амебовидными лейкоцитами. Один из них заполняет экран; внутри струи, струи потоков, и узлы, и какие-то зерна. Наезжаем на зерно, видно, что это станок-автомат, целая автоматическая линия: цепь накручена на него, ниточки подаются, одни пристают, другие отчаливают отталкиваясь. Когда ниточки вырастают, вижу разную форму. Догадываюсь, что заплетенные косички — это ДНК, тоненькие извилистые — РНК, а клубочки — белки. И вижу, как белок прицеливается к другому. Прилип, примерился, словно ключ вставил в замок, искра… и разломал сложную молекулу. С уважением гляжу на свой собственный палец. И у меня такое же производство — автомат-комбинат в каждой клетке.
— Бывали такие экспедиции, — говорит Граве. — Но вообще нам, органическим, миллитация дается трудно. В пластинке кремния превратил миллион атомов в тысячу, все равно это кремний. А у белка, у гемоглобина, например, отними атом железа, это уже не гемоглобин. Так что ису-хирурги пока незаменимы при массовых операциях омоложения.
— Да, мы незаменимы, — гордится Гилик.
И опять в моем блокноте В — О, В — О: вопрос — ответ, вопрос — ответ. Невольно вспоминаешь пословицу про одного «любопытного», который столько вопросов задаст, что десять умных не ответят.
В. И всех вы можете омолаживать, Граве?
О. Как правило, можем. Конечно, у нас разные способы, в зависимости от физиологии сапиенса. Лучше всего удается то, о чем ты слышал, — выключение выключателя молодости.
В. (обязательный эгоистический вопрос). А меня?
О. Вероятно, и тебя. Пошлем хирурга, он разберется в твоей эндокринной системе, твоем мозгу…
В. И сколько раз удается омолаживать? До бесконечности?
О. Нет, не до бесконечности. Раз двадцать-тридцать получается, у разных рас по-разному, у самых счастливых — до ста раз. А есть и расы-неудачники, те, которые и раньше не ведали старости, росли, росли до самой смерти («Как у нас крокодилы и удавы», — думаю). У этих, видимо, нет выключателя молодости, нечего и отключать. И у нас, человекоподобных («это он-то человекоподобный — скелет пятнистый!»), со временем получается сходно. При повторных омоложениях мы возвращаемся уже не в юность, а в позднюю зрелость — как бы в возраст около сорока. И все грузнеем, тяжелеем, становимся этакими борцами-тяжеловесами, тело таскаем пыхтя, как бы в гору ползем. Ползаем, пока сердце выдерживает.
В. Значит, смерть неизбежна? — допытываюсь.
О. Смерть конкретна. Без причины никто не умирает. Смерть из-за выключателя молодости — первая причина, смерть из-за необратимых изменений — вторая. Разберемся и с ней справимся. Может, сердце надо ставить мощнее, может быть, рост мускулов и костей притормаживать. Я еще надеюсь дожить до такого открытия. У меня только шесть омоложений позади.
(«Шесть — мне бы столько! Значит, лет триста мне подарят. Не составить ли план жизни на триста лет вперед? Сотню лет на изучение Звездного Шара… на отчет лет двадцать. А потом? Сундуки времени. Вот богатство-то!»)
— А мы бессмертны, — вставляет Гилик. — У нас все агрегаты заменимы, даже голова и блоки памяти.
— Ты стареешь морально, не зазнавайся.
— И ты, Человек, стареешь морально.
К удивлению, Граве поддерживает вертлявого кибера:
— Да, и мы устареваем, — вздыхает он.
Новый букет В — О.
В. Удлинение-уменьшение-выключение-переключение — это все простые, почти механические действия. Но есть задачи посложнее. Вот я некрасивый, а хочу быть красивым. Внешность мою хирург способен изменить?
О. Нет, это задача не для микрохирурга. Он не может же стесывать нос или волосы по одному подсаживать в брови. Тут должна действовать воля. Нужно, чтобы воля диктовала изменение тела. Вот непостоянноформные, помнишь, сиделка была у тебя такой породы, ты еще удивлялся, какие у нее ласковые руки, те могут отрастить сколько угодно рук и ног, любой длины, любого вида. Нам же, владельцам неподатливого, непослушного тела, надо укреплять, усиливать волю многократно… Чем? Тренировкой, гипнозом, энергогипнозом, мультипликаторами всякими. Как это выглядит? Сидишь, сидишь часами и думаешь сосредоточенно: «У меня растет третья рука, третья рука, третья рука…» И вырастает.
В. Третья рука?
О. Третья рука, нога, плавники, крылья, рога, шерсть, хвост — все, что потребуется. Вообще можно превратиться в любого зверя.
В. Как в сказке — и во льва и в мышонка?
О. Лев — пожалуйста, мышонок не получится. Череп у него маловат, мозг не поместится.
Ага, невозможно! Все-таки признался Граве в бессилии.
— А зачем превращаться в мышонка? — спрашивает Граве. — Чтобы спрятаться? Так лучше глаза отвести, внушить, что ты невидимка. Вот я у вас в Ленинграде, как правило, ходил невидимкой. Впрочем, можно внушить, что ты мышонок. Научить?
В. Ну а мертвых вы умеете оживлять?
(Рассчитываю на отрицательный ответ. Хоть что-нибудь должно быть невыполнимое.)
О. Если есть добротная матрица, оживляем. Это не труднее, чем изготовить копию по зафонограмме. Оживший безукоризненно помнит все, что было до момента записи. Все, что было после записи, пропало.
Хуже, если «объект» умер до изобретения матриц. Тут ищут волосы, личные вещи, бумагу, по которой водил руками, в надежде установить формулы ДНК, РНК и прочие. Это трудно… и делается редко. Счастья не приносит, больше огорчений. На нашей планете Хох мы восстановили великого поэта прошлых веков, такого масштаба, как ваш Шекспир. Но он был великим в свою эпоху, в новой показался напыщенным, многословным, старомодным. И несведущим даже, ему учиться пришлось заново. Обидно быть памятником самому себе, живым портретом бывшей знаменитости. Так что это делают редко.
Другое дело с современниками. Сапиенс отправляется на чужую планету, в опасную экспедицию, может погибнуть. Тогда для страховки снимают матрицу. Если путник не вернулся, можно восстановить. Но и тут он помнит только предотъездное. Просыпается и спрашивает: «Меня восстанавливали, что ли? Значит, я погибал? Ну, расскажите о моей смерти».
Глаза можно отвести, внушить окружающим, что ты лев, мышонок и невидимка. Можно стирать память и заполнять ее, как амбарную книгу. Возвратить молодость можно, оживить мертвеца можно, я сам семь раз уничтоженная и семь раз восстановленная копия самого себя. Машины создают свое машинное государство, другие машины копаются в моем сердце, чинят клапаны изнутри. И если завтра мне скажут: «Пойдем играть в футбол звездами и щекотать пятки господу богу», — я не удивлюсь ничуть. Запасы удивления у меня исчерпаны, чувство сомнения атрофировано. Осуществимо все, если не сегодня, то завтра, не тем способом, так другим. А если возможно все, чему же удивляться?
Гилик напоминает, Граве предлагает, уговаривает, а я тяну меланхолично:
— Стоит ли время тратить?
Граве смотрит на Гилика, Гилик на Граве:
— Покажем Человеку полигон Здарга?
— Покажем полигон. А что же еще?
Галактический полигон
Наконец получено «добро»!
Полигон закончил серию опытов и согласен потратить день на гостя с Земли.
Привычно ввинчиваюсь в подпространство, потом вывинчиваюсь. Измочален, но не потрясен. Неизбежное зло для космического туриста. Воспринимаю его как шприц с лекарством, как бормашину. Неприятно, но терпеть надо. Взрослый человек морщится, но не охает.
А путь от астродрома до полигона и вовсе приятен.
Сидишь в мягком кресле, спину нежишь, забот никаких, ведет ракету автомат. Поглядываешь в окошко на незнакомый узор созвездий, думаешь в ленивой истоме: «Куда занесло!»
Вспоминается мое первое и единственное путешествие за океан, в Канаду на всемирную выставку. И тогда было сходное чувство: вывернув шею, смотрел на синие кудряшки лесов (американских!), расчерченных на прямоугольники автодорогами, на серебряную фольгу рек (американских!) и тоже охал: «Куда занесло! На чужой материк! За шесть тысяч километров от дома! Кто бы мог подумать!»
Кто бы мог подумать тогда, что через два года меня занесет в звездный шар М-13, за тридцать тысяч световых лет и от Москвы, и от Канады. После этого чему удивляться?
Рядом со мной Граве. После приключения с восьминулевыми он не решается отпускать меня в одиночку. Ну и пожалуйста, мне даже удобнее так. Я полеживаю, коллекционирую впечатления, разбавляю их глубокомыслием, а Граве беспокоится о моей безопасности, ерзает, вглядывается в звезды, рацию теребит.
— Что вам не сидится, Граве? Автомат же у руля.
— Не пойму, куда он ведет, с картой не совпадает. Глядите, сколько звезд высыпало. Боюсь, что мы попали на опытное поле.
«Правильно, бойся. Это твоя обязанность — бояться за меня».
Немного погодя:
— Человек, впереди по курсу планета. Я хочу высадиться и подождать, пока наладится связь. Опасаюсь, что автомат ведет нас не туда.
«Давай опасайся, не возражаю, это твой долг — опасаться, высаживать и налаживать. Мое дело — смотреть и запоминать, как и что выглядит».
Выглядит эта планета как Восточный Крым. Невысокие горы с жесткой травой, колючие кусты, изредка отдельные деревья, точнее, что-то среднее между деревом и кактусом — мясистые и извилистые, как ветки, листья. Возможно, суждение мое скороспелое. Вероятнее, планета разнообразна. Но в этом районе сухие предгорья, древокактусы и ночь.
Связь никак не налаживается. Граве кряхтит, колдует с манипуляторами, ничего у него не получается. В конце концов он объявляет, что виноват корпус ракеты, видимо, намагнитился в какой-нибудь заряженной зоне, предлагает оттащить рацию в сторону, метров за триста. И опять он стучит и кряхтит, а я сижу рядом и любуюсь созвездиями. Кажется, это слова Сенеки: «Если бы звезды были видны только в одной местности, люди со всех стран стекались бы туда, чтобы полюбоваться». Интересно, что изрек бы римский стоик, увидев небо шарового. Не узор, а звездная сыпь. Особенно здесь, на полигоне. И мигают и разгораются. И новые появляются. Вот в этом пятиугольнике не было ничего, а теперь появилась звезда… и какая яркая.
— Граве, я, кажется, открыл сверхновую. Вот там — в пятиугольнике. Стойте, там еще одна. Это бывает у вас?
Хотел было привстать, чтобы рассмотреть получше, и вдруг чувствую — не могу подняться. Отяжелел. Тело налилось свинцом, как в ракете при перегрузке. Но на планете-то с какой стати перегрузка? С ускорением движется она? Курс меняет?
Впрочем, это я потом подумал — тогда не до размышлений было. Тяжесть распластала, вдавила в острые камни. И надо было ползти, помнил: в ракете спасение — противоперегрузочное кресло.
Но триста метров! Шутя отошли мы с рацией на ближний холм, еще и в лощинку спустились ради экранирования. А теперь, обезноженные, барахтались, подтягивались, хватаясь за корни, перекатывались. Ползли, словно бы из груды мешков выбирались, а на нас все валили и валили невидимые мешки.
Вот попали!
Перегрузка исчезла так же внезапно, как появилась. Сползли со спины мешки, расправились сдавленные ребра. Вдохнул полной грудью, встал, потянулся…
— Что это было, Граве?
Мой проводник не без труда взгромоздил тело на подгибающиеся ноги.
— Идем, Человек. Скорее. Небезопасно тут.
— Подождите, Граве, дайте дух перевести.
— Не мешкай. Скорее, скорее к ракете!
Да, мешкать не стоило. Аттракцион, оказывается, не был закончен. На смену перегрузке пришла недогрузка. Вес убывал, убывал, шаги становились все длиннее. Шагнул и плывешь-плывешь, никак не дотянешься до твердой почвы. Несет куда-то над кустами, над ямами, совсем не туда, куда прицеливался ступить. Меня вынесло на отвесную скалу. Оттолкнулся руками что есть силы. Теперь назад понесло, а сзади кактусы с колючками в локоть длиной.
— Ракетницу вынь, Человек. Ракетницей правь.
Хорошо, что ракетница была при себе. Вообще-то она нужна в мире невесомости, в межпланетном пространстве. Стреляешь налево — несет направо. Принцип движения каракатицы.
Вытащил из наружной кобуры. Соображаю, куда же стрелять.
И тут очередной фокус. Мир переворачивается. Планета бесшумно выворачивается из-под ног со всеми своими кактусами и колючками. Выворачивается и начинает медлительно удаляться вверх. Задрав голову, вижу Граве, уцепившегося за кусты. Тянусь к нему руками, но отстаю безнадежно, отстаю, как пассажир, упавший за борт.
— Стреляй же, Человек!
Ах да, ракетница в руке. Вспышка, вспышка, вспышка! Хватит ли зарядов? К счастью, пересилил, начинаю догонять. Навстречу сыплется град камушков, свалившихся с твердого неба, бывшей почвы. Стучат по шлему, но несильно. Тут еще невысоко, не успели разогнаться. Еще стреляю, еще. Граве свесился, как акробат на трапеции, сумел ухватить меня за руку, молодец старик! Картина: наш космический корреспондент под куполом цирка! Помогаю себе последним зарядом и с разбегу врезаюсь в ветви.
Держимся за верхушку дерева, под ногами звездная бездна. Туда, в черное ничто, валятся камни, здоровущие валуны и целые утесы, те, что стояли непрочно. И видим мы, как скользит вниз нечто удлиненное и блестящее — наша собственная ракета. Причалив, мы просто поставили ее на ноги, нам и в голову не пришло крепить намертво. И этот коварный мир стряхнул наш корабль, сбросил, словно котенка, со своей спины.
Но в тот момент мы не думаем о ракете. Как бы и нас не стряхнуло — вот чем мы озабочены. Мимо проносится соседнее дерево. Собственная крона вырвала корень из грунта, как морковку, дерево само себя вытащило за волосы. Наше держится пока. Надолго ли?
— Граве, когда нас записывали в последний раз?
— Каждый межзвездный спутник записывается на старте. Так что потеряем только один день.
Один день потеряем, начнем жить заново на межзвездном вокзале. Но сейчас меня что-то не утешает эта звездная страховка. Да, гражданин К. сохранится, он потеряет только один день жизни, у его жены будет тот же муж, у его сына тот же отец. Но я-то сорвусь в пространство, буду там болтаться, пока не задохнусь, исчерпав кислород в баллонах. Едва ли даже сапиенсы с их могучей техникой найдут одинокий скафандр в космосе.
— Караул, трещит!
Трещит дерево, за которое мы цепляемся. Вот один из корней выдернут из почвы, вылез как шатающийся зуб. Обнажается и второй корень, голый, не защищенный корой. Карабкаемся вверх от макушки, подтягиваемся к корням, хотим зацепиться за край ямы. Непрочные комья крошатся, сыплются на голову. Ой, сорвусь!
И падаю вниз головой в яму, за которую хотел зацепиться.
Опять перевернулось!
Шмякаются с неба вернувшиеся комья, камни, камушки и валуны. Улетевшее раньше — возвращается позднее. А вот и наша ракета. Иголка, поблескивающая в небе, превращается в веретено, в снаряд среднего калибра, большого, максимального… Сработает ли система автоматического торможения? Если сработает, есть шанс удрать из этого ненадежного мира. Ближе, ближе! Ракета скрывается за ближайшим пригорком…
Тугие клубы оранжевого, подцвеченного пламенем дыма вспухают за холмом.
Не включилась автоматика.
Перед нами все та же перспектива медленной смерти, но в ином варианте. Недельный или двухнедельный запас воздуха и энергии в скафандре. Робинзонады не удаются в космосе. Едва ли мы сумеем жевать местные кактусы.
И тут приходит спасение. Объявляется в наших собственных наушниках:
— Внимание, всем, всем, всем! Утеряна связь с автоматической пассажирской ракетой, следовавшей на полигон имени Здарга. Всех находящихся в данном районе просим принять меры к розыску. Держим связь на волне…
Конец того же дня. Сижу в уютной кают-компании космической станции полигона. Уют, конечно, в звездном духе: почти пустая комната, низкие складные кресла расставлены вдоль стен у откидных столиков. На стенах дверцы, дверцы и экраны, экраны, экраны. К дверцам подведены трубы из кухни, кладовой, библиотеки, мастерской, к экранам — провода от аппаратуры и информатория. На свободных экранах картины: бурное море, лес, подводные скалы, городская улица. Цвет великолепен, стереоскопичность безукоризненная, не экраны — окна в мир. Забываешь, что за стеной космическая пустота. Считается, что эта иллюзия поднимает настроение.
Сижу, развалившись в удобном кресле. Светло, тепло, безопасно, рядом приятные собеседники. Приятными на вид их делает мой анапод, конечно. Но в обществе я не снимаю анапода, предпочитаю беседовать с человекоподобными, а не со слизнями и скелетами, преодолевая тошноту и жуть, гадать, что же выражает игра пятен на их лице.
А так, спасибо анаподу, передо мной люди. Вот начальник станции, он похож на ленинградского Физика, того, что честил меня, а потом угощал до отвала. И жена его тут же — их звездная Дальмира. Здесь на ней простенький сизо-голубой чистый комбинезон, в разговоре она уверенно сыплет формулами. Но анапод упорно показывает мне Дальмиру. Подозреваю, что и эта звездная красавица только разыгрывает интерес к физике, на самом же деле ищет новые чувства. Возможно, ей нравится быть единственной женщиной в компании молодых талантов, наперебой старающихся привлечь ее внимание.
Больше всех старается выделиться бойкий молодой физик, смуглый, горбоносый, с острой бородкой, этакий оперный Мефистофель. Но это не желчный, угрюмый немецкий черт с больной печенью. Здешний Мефистофель жизнерадостен, остер на язык, колюче-насмешлив, любитель похохотать. Тут же главный объект его насмешек — молчаливый румяный толстяк с кудрявыми баками. Он все время благодушно улыбается и сонно жует, глядя на мир, прищурившись то одним глазом, то другим. Видимо, считает, что поднимать сразу оба века — нерациональный труд.
— Журналисты посещают нас часто и даже чаще, чем нужно, — говорит старший физик. Он держится сухо, сдержанно и уверенно. Возможно, что и мой земной физик так же разговаривает в своем НИИ. — В Звездном Шаре широко известно, что наш полигон — форпост науки, как бы выдвинутый в будущее, в следующие века. Мы заняты делами последующей эпохи и мыслим в ее категориях — количественно-точных — математическими уравнениями. К сожалению, этот образ мышления распространяется туго, он требует мысленных усилий. Не понимая математики, журналисты пытаются подменить ее неточными, несовершенными словами, в результате искажают суть и попадают впросак. Ваше приключение — яркий пример подобной подмены. Безукоризненно выверенный до четвертой девятки, идеально запрограммированный автомат доставил бы вас сюда секунда в секунду. Но вы усомнились в нем, выключили легкомысленно и чуть не погибли. (Граве сконфуженно молчит.) Вот я и опасаюсь, что мои жестко сформулированные объяснения вы тоже выключите, начнете переводить на язык неточных образов, спутаете, исказите, вывернете наизнанку…
— Шеф, разрешите, я попробую, — вмешался веселый Мефистофель. — Иногда у меня получаются переводы с научного на житейский. Слушайте, гость. Я не знаю, на вашей планете верят еще в богов, которые создали небо, сушу, воду и огонь? Большей частью разуверились? Поняли, что природа делает сама себя? Превосходно. Но здесь вы попали в общество всемогущих, можно сказать, квазибогов. Этот сонный жвачный — тоже всемогущий, хотя он и спит, но во сне генерирует идеи, расчеты, проекты и пояснительные записки вариантов переустройства вселенных. Я же личность трезвая и критически мыслящая, в некотором смысле антипод. Посочувствуйте мне: критическое мышление — тяжкий крест. Увы, я первый вижу, что идеи и проекты моего жвачного друга задолго до его рождения были воплощены слепой и бессмысленной природой.
Мы же, существа зрячие и осмысленные, не хотим подражать бессмысленной, не рассуждая. Мы сомневаемся, что новые миры надо лепить по образу и подобию старых. Вот природа штамповала планеты в виде каменных шаров. А может, лучше шары пустотелые или ячеистые, как соты, или кубы, или пирамиды, или даже лепешки? И надо ли придерживаться всех законов, стихийно установленных стихиями? К примеру, хорош ли закон тяготения? Удобно ли, что притяжение убывает пропорционально квадрату расстояния? Не лучше ли куб расстояния? Или первая степень? Или неубывание? И вообще, стоит ли монтировать вселенные на скучнейшем принципе тяготения — все притягивается ко всему? Не лучше ли электрический принцип — что-то притягивается, а что-то и отталкивается? Или же химический принцип: притягивается и отталкивается по-разному, с учетом валентности. Или клеточный принцип: слой наклеивается на слой и форма любая. Или генетический… Мало ли принципов в природе и технике. Все это надо проверить. Мы проверяем, пробуем. Всемогущий, не спи. Какие параметры мы покажем гостям завтра?
— Антитяготение разве, — пробормотал толстяк.
— Стыдись, всемогущий. Даже твой мистический предшественник, невежественный и самовлюбленный, не ведающий начал теории относительности, был все же бесконечно сообразительнее тебя. Антитяготение наши гости уже испытали сегодня, когда висели вверх тормашками на макушке дерева.
— А если метод «тыка»?
— Боже, сегодня ты дискредитируешь себя и весь наш Олимп. Иди спать, продифференцируй что-нибудь умное во сне. Кстати, проводи гостя, его комната рядом с твоей.
Итак, гибель не состоялась. Не раздавленный перегрузками, не сорвавшийся с дерева в космос, спасенный, накормленный и обогретый, лежу на удобной кровати. «Эх, потягусеньки!» — как в детстве.
Заснуть я, однако, не успел, еще и не потянулся как следует. Стена вдруг раскрылась надо мной, в проеме показалась Дальмира.
— Я жду тебя! — закричала она, протягивая руки.
Такого со мной еще не бывало в Звездном Шаре.
— Вы на меня не обижайтесь, — сказал я, — но это явное недоразумение. Мы различные существа, совершенно не подходящие друг для друга. Вы анапод снимите, иллюзия рассеется. Я эстетически неприятен для вас, вероятно.
— Иди же, иди!
Я идти не собирался, но кровать моя, вняв призыву, мягко снялась с ножек и поплыла в объятия Их-Дальмиры.
— Снимите же анапод, — взывал я.
И тут ветреница исчезла. Я услышал рык ревнивого мужа, в проеме показалось разгневанное лицо ушастого Физика.
— Никак не ожидал, — прорычал он. — Тебя допустили на передовой форпост науки, выдвинутый в будущее. А ты, позорный притворщик, думал только о шашнях. Изгнать его… Нет! Утопить, и немедля!
Проем в стене зарос, и в темноте я услышал журчание. Вода стекала по всем стенкам, на полу бурлили ручьи. Хорошо еще, что кровать моя висела под потолком, застряв на полпути к Дальмире.
— Откройте! — взывал я. — Это сплошное недоразумение.
И дверь приоткрылась. В светлую щель просунулась бородка клинышком.
— Не пугайся, всемогущий, — сладко пропел знакомый голос. — Это всего лишь вода — окись водорода в жидкой фазе, абсолютно безвредная для твоего организма. Но неужели ты, всемогущий, не превратишь жидкую фазу мановением руки в твердую или газо… Ой, кто тут? Ребята, влопались! Здесь гость. Ой, извините, пожалуйста!
Потом я ощупывал стену — ни швов, ни рамы, никаких следов проема. Должно быть, сама окраска была светочувствительной, мне показали объемное кино. Как был снят фильм, участвовала ли чета физиков в розыгрыше, не ведаю. А вот вода была подлинная, мокрая и очень холодная.
Наутро, скрывая бесовский огонек под томными веками, Антибог говорил мне сладчайшим голосом:
— Я понимаю, что вы оскорблены и взбешены. Право, я предпочел бы не показываться вам на глаза. Хотя, в сущности, виноват этот хитрющий всемогущий. Он нарочно засунул вас в свою комнату, у него нюх на спокойное ложе. В результате вы злы на меня, но положение у вас безвыходное: только я могу переводить на житейский. Остальные скажут вам: «Вот наша опытная лаборатория, она оснащена УМППП и УММПП с многоканальной семантикой и продольно-поперечными умножителями ППУ». И вы пропали: уедете, ничего не поняв и не записав. В результате вы вынуждены сменить гнев на милость и выслушивать мой перевод.
Итак, приступим. Ваш спутник сказал мне вчера, что любимейшее развлечение ваших однопланетян было: собравшись стройными толпами и одевши одинакового цвета одеяния, убивать друг друга. Война! Не скрою, и мы забавлялись таким способом в древние времена. Так или иначе, военные образы вам понятнее физических, поэтому перевожу нашу физику на военно-житейский. Тогда наш полигон — это армия гравиинициаторов… ох, непонятно… станций, создающих искусственное тяготение. Шеф командует этой армией, мы все — штаб, мы готовим планы сражений. Всемогущий у нас генерирует стратегические идеи, я их развенчиваю, прочие рассчитывают, шеф принимает решение и отдает приказ личному адъютанту — вот этому шкафу по имени УМППП — универсальной машине программирования произвольных параметров. Сейчас же машина начинает пошевеливать своими мозгами — печатными, напыленными, смонтированными, ратомированными, превращает приказ шефа в сто тысяч маленьких приказиков, каждому гравивоину персональное задание. И по ста тысячам каналов скачут волны-гонцы, размахивая белыми гривами. А шеф наш следит за полем боя… на экране, разумеется… смотрит, какие тела разваливаются, какие взрываются, разгораются, растут или съеживаются. Правильно я излагаю, боженька?
— Вульгаризируешь.
— О боже, нет пророка в своем отечестве. А ты лучше изложишь?
— Точнее. Строже.
— Нет, продолжайте, — взмолился я. — Я не подготовлен к строгому изложению.
— Ага, чья взяла? Ты повержен, самонадеянный! Итак, продолжаю. Бывает, что у шефа не хватает сил. То есть не у самого шефа, мыслительные силы у него в избытке, сил может не хватить у полигона, чтобы разыграть замысел шефа. Допустим, надо проверить что-нибудь вселенское — взрыв радиогалактики например. Галактику на полигон не втащишь при всем желании. Тогда шеф призывает другого помощника — не УМППП, а УММПП — универсальную машину моделирования произвольных параметров, — не адъютанта, а консультанта. Шеф дает команду: «Просчитай-ка мне ситуацию в радиогалактике при включении кубического принципа гравитации». Командует мысленно; УММПП умеет читать мысли. И, прочтя, пошевеливает извилинами своего машинного мозга, туда-сюда рассылает электрончики и выдает ответ не на левый экран, а на правый. Впрочем, шефу картинки без надобности, он читает уравнения, все понимает по коэффициентам.
Теперь, пожалуйста, садитесь на трон шефа, вот сюда, и командуйте. Нет, взрывать звезды мы вам не позволим, побалуйтесь с моделированием. Что вы хотите заказать: спиральную галактику или взаимодействующую — мышку с хвостиком? Вообразите. УММПП поймет.
Что я вообразил? Конечно, дорогую мою родную солнечную систему. Солнце представил себе — ослепительный шар с розовой бахромой, вокруг него горошинки, катающиеся по орбитам, отдельно каждую планету в большом масштабе — полосатый Юпитер, Сатурн с кольцами набекрень, Землю в виде глобуса, поодаль — ноздреватую Луну.
— Теперь задайте принцип тяготения.
Ну пусть будет кубический.
На экране перемены. Солнце вспухает и ветвится. Расцветают букеты протуберанцев — огненные гортензии. Распускаются и тают, стелется багровый дым, сквозь него просвечивает зловеще-красное, как догорающий уголь, светило — усохшее солнышко.
— Ваша звезда превратилась в красный карлик. Светит экономнее, долговечнее будет, — поясняет Мефистофель.
Ну а Земля? Здесь притяжение тоже ослабело. У людей балетная походка, плывут как на гигантских шагах. (Был такой деревенский аттракцион: столб, к нему привязаны веревки с петлей, садишься в петлю, разбегаешься…) Горы стали выше, их выпирают недра. Небо синее-синее, как на юге вечером. Видимо, воздух утекает в космос. И вода испаряется сильнее — по берегам отступающих морей полосы соли.
— Маловата ваша планета, — комментирует Мефистофель. — Пожалуй, не удержит атмосферу и воду. Вот поглядите на крупную, там дела благополучнее.
Перевожу взгляд на Юпитер. За ним тоже шлейф утерянных газов. Нет привычных полос, нет красного пятна, нет непроглядных туч. Зато сквозь сероватую дымку просвечивает твердь — суша и океаны. Какие? Водяные или метановые?
— Вот и хорошо: здесь потеряешь, там выиграешь, — жизнерадостно говорит Мефистофель. — Имеете возможность переселиться с малой планеты на большую. А тяготение там будет подходящее, привычное для вас. Заказываете кубический принцип? Обеспечим.
— Как-то не хочется, — возражаю я робко.
— Дело ваше, хозяйское. Давайте попробуем другой вариант, линейный. Пусть будет в знаменателе r в первой степени.
Сгорбившись, с коленками, согнутыми тяжестью, бредут по экрану мои земляки. Вокруг груды кирпича — рухнули от тяжести здания. В парках бурелом — деревья сломаны собственным весом. В предгорьях озера лавы — отяжелевшие горы продавили кору, выжимают магму на поверхность. Море голов на космодроме — толпы жаждущих переселиться на Луну.
— Для вас прямая выгода, — уговаривает Мефистофель. — Все луны пригодны для жизни, у вас их три десятка в вашей системе. И все тусклые звезды стали солнцами. Я бы рекомендовал вам это линейное тяготение. Хотите, разработаем проект?
— Спасибо… — Я встаю с кресла. — Очень благодарен вам за готовность, но мы на Земле привыкли к прежнему закону. Нам очень нравится квадрат в знаменателе.
— Вы ретроград, — шутливо возмущается Мефистофель. — Вы консерватор. Вот такие и ставят палки в колеса науки. Вы противник прогресса, да? Квадрат в знаменателе! Это же банально!
— Но так симпатично выглядит двойка возле r, — отстаиваю я родную физику. — И запоминается хорошо. Из-за вас придется школьников переучивать, учебники менять — хлопот столько! И Ньютона обижать жалко. Старик старался, открывал закон всемирного тяготения, прославился навеки, а мы возьмем и отменим закон. Невежливо. Неблагодарно.
— Но он ошибался, ваш Ньютон, — вступает и Дальмира. — В точной формуле имеется еще один член со знаком минус. Он второго порядка малости, но возрастает постепенно, так что сумма стремится к нулю.
— Не знаю, не знаю. В нашей солнечной системе сумма не стремится к нулю.
— Давайте покажем ему стремление к нулю. — Это толстяк открыл рот.
— Там и показывать нечего. Стандартная невесомость.
— А если резкая граница фаз? — промямлил толстяк.
Тут все разом повернулись к нему как на шарнирах.
— У тебя получилась резкая граница фаз? И по формуле? А третий порядок малости учитывал? График покажи.
Что именно открыл толстяк, объяснить не могу. Сам я не понимал ничего, а мой переводчик на житейский забыл свои обязанности. И про иронию забыл, восторгался, вздыхал:
— Вот голова! Не зря прятался на ночь. Дифференцировал-таки под подушкой.
— Шеф, разрешаете опыт?
— По ска-фан-драм!
В шлюзе мы все связались цепочкой: говорливый Мефистофель — толстяк — Граве — я — Дальмира — Физик — все остальные, кого не называл…
Шлюз описывать незачем. Все они одинаковы, шлюзы, земные и звездные. Насосы, отсосы, герметический вход, герметический выход. Дверь открывается, снаружи пустота… И вот наш пышнотелый боженька переступает порог…
Тут бы и полагалось ему вывалиться и поплыть в пустоте, лежа или кувыркаясь, или рухнуть и лететь-лететь, пока не натянется канат, привязывающий к борту.
Но толстяк никуда не падает, не плывет, не вываливается. Он стоит на чем-то невидимом. Он шагает по вакууму, как посуху. И мы за ним тоже шагаем по невидимому нечто. Оно — нечто — прозрачнее стекла и даже воздуха. Холодные немигающие звезды у нас над головой и холодные немигающие звезды под подошвами, отчетливые, словно камушки на дне горного озера. Даже страшновато. Ноги стоят неизвестно на чем.
— Всемогущий, как же это тебе в голову пришло?
— Ну вот я лежал вчера и думал: что же показать гостю? Тут вроде бы кричат: «Неужели ты жидкую фазу не можешь превратить в твердую?» А мы столько рассуждали, столько рассуждали о консистенции вакуума. Ну, составил уравнение…
Он присел на корточки и начал что-то быстро выписывать на небесной тверди. Карандаш его оставлял светящиеся следы. Цветные строки повисли над черно-звездным стеклом. И тут…
— Ай, кто меня держит? — Голос Дальмиры.
И меня кто-то схватил за ноги. Как я стоял наклонившись, с руками на коленках, разглядывая запись, так и остался с руками на коленях. Хочу оторвать, не могу, вросли в стекло запястья. Кто застыл, стоя на цыпочках, кто на корточках. Толстяк в самой странной позе — повернут вполоборота. Оглядывался на кого-то. Немая сцена из «Ревизора».
— Всемогущий, что за шутки? Прекрати сейчас же!
— Боюсь, что граница фаз сместилась. Мы вкраплены в твердую.
Мы вкраплены! Мы — изюминки в пироге, мы — камешки, вмерзшие в лед, мы — гравий в цементе, мухи в янтаре. Сначала смешно, потом неудобно и страшно. Я — изваяние, изваян с руками на коленях. Сколько можно так стоять? А вдруг навеки?
— Всемогущий, придумай что-нибудь!
— Что тут придумаешь? Дежурные увидят, догадаются отключить.
— А когда они догадаются?
Пауза. У всех самые мрачные мысли.
И тут мы разом проваливаемся. Летим всей связкой, дергая и толкая друг друга.
Потом оказалось, что мы всего две минуты изображали памятники. А показалось — часа два.
— Ну и как вы оценили наш полигон? — спросил меня мой толмач, прощаясь на следующий день. — Нам говорили, что вы потеряли способность удивляться. Мы очень старались вас излечить.
— Я оценил ваши старания, — ответил я в тон. — Безусловно, я удивился, когда вы впаяли меня в пустоту. И даже накануне удивился, когда висел на макушке дерева, растущего корнями вверх, как бы на потолке. Оценил старания. Но еще не очень оценил полигон… с точки зрения житейской. Будет ли правильно, если я запишу: «Величайшим достижением передовых звездных физиков является умение вклеивать живых людей в вакуум, как мошку в смолу»?
— Иронию понял! — воскликнул мой переводчик. — Ясненько. Вы жалкий утилитарист, вы хотели бы сделать науку прислужницей поваров и портних. Вы равнодушны к поискам истины и даже не прикрываетесь хотя бы легким смущением. Но боги физики всемогущи. Они способны ублажить и астрономов и гастрономов. Во всяком случае, когда вам понадобится мост для доставки хлеба с вашей Земли на вашу Луну, мы пришлем консультанта. Не спи, вечножующий, я за тебя обязательство даю.
Вселенские заботы
— Ну и зачем все это?
— То есть?
— Зачем ускорять время и замедлять время? Зачем увеличивать тяготение и уменьшать тяготение, зачем сносить и возводить горы, зачем ввинчиваться в зафон и летать там на пять порядков быстрее света? Зачем вы, Граве, явились на Землю и зачем привезли меня оттуда? Что вы ищете в космосе, что вам дома не сидится?
Почему только сейчас я задал этот наиважнейший, в сущности, вопрос? Может быть, оттого, что задумываться было некогда. Набивал голову сведениями, блокнот — пометками, собирал, запоминал, записывал, формулировал информацию, всасывал замечательное, ожидал сверхзамечательное. Ну вот свозили меня на генополигон, на биополигон, на галактический полигон, вклеили в пустоту как муху. Какое осталось впечатление? Физики забавляются. Пробуют так и этак, какая комбинация смешнее. Но стоит ли дергать время и мять пространство только для того, чтобы потешиться своим всесилием? Вот я и спросил:
— Ну зачем все это?
— Нам нужен космос. У нас там полно забот.
— Заботы? Какие еще заботы? Летаете на любую планету, молодость возвращаете, мертвых оживляете. Еще что?
— Вот теперь наконец-то начинается серьезный разговор, — сказал Граве. — Закажи-ка нам, Гилик, запись Диспута о Вселенских Заботах.
Зал Межзвездной Федерации на планете Оо. Зал как зал, на сцене селектор, ложи амфитеатром, над каждой название планеты. Но вместо наушников анаподы, вместо кресел в ложах прозрачные цистерны с обилием шлангов и кранов. Цистерны можно наполнить любыми газами — кислородом, азотом, аммиаком, метаном, даже фтором по вкусу делегата, или же водой — пресной, соленой, подкисленной, щелочной, хлорированной — для делегатов подводных.
Спрашиваю: «Зачем такие ухищрения? Все равно анаподы, все равно смотрят на селектор, слушают через микрофоны. Почему же не договариваться по радио, сидя у себя дома?»
Оказывается, все дело в расстояниях. С отдаленных звезд, даже за фоном, сигнал идет несколько суток (по нашему счету). От вопроса до ответа — две недели. Допустим, председатель спрашивает: «Кто хочет высказаться?» Через две недели: «Прошу слова». Еще через две недели: «Мы слушаем вас».
Удивительный парадокс. Планетных конференций не бывает, дела одной планеты можно обсудить и по радио. А межзвездные съезды традиционно собираются в одном зале.
Докладчик тоже сидит в своем баке, на селекторе только его лицо. Ну и кто там рассуждает? Поспешно натягиваю анапод. Ба! Знакомая физиономия. Это Физик. Их-Физик, конечно, моложавый, коротко стриженный, в очках, лопоухий. Почти неотличим от земного… Почти! Анапод несколько карикатурит: здешний физик не просто моложавый, он почти мальчишка, и уши торчат действительно как лопухи. Видимо, мысленно мы рисуем шаржи на наших знакомых в собственном мозгу.
Ну и что же доказывает этот звездный Физик?
— Мы живем в эпоху всесилия точных наук, — говорит он снисходительно-наставительным тоном лектора, уверенного, что мало кто способен его понять до конца. — Ученые проникли в глубь вещества до семьдесят девятой ступени (электрон на девятой по их счету. — К. К.) и в зафон на 144 слоя. Мы освоили сигналопроводящий слой пятого порядка, при необходимости можем посетить любую планету Галактики и Магеллановых облаков. Я слишком долго занимал бы внимание уважаемого собрания, если бы перечислял все достижения математики, физики и технологии. Скажу коротко: мы — представители точных наук — в состоянии решить любую задачу, которую поставит перед нами Звездный Шар в этом или в будущем веке.
Выступавший передо мной представитель Академии Прогноза как раз и сформулировал очередную вселенскую задачу. Он говорил, что сфера нашего обитания уже охватывает около миллиона солнц со спутниками и что нормальный рост населения, продолжительности жизни, энергетики и новых потребностей диктует расширение этой сферы на один процент ежегодно, иначе говоря, требуется освоение десяти тысяч новых солнечных систем в год.
«Ого! — подумал я. — Десять тысяч солнечных систем ежегодно! Пожалуй, такое можно назвать полновесными заботами».
— Осваивать мы умеем, — продолжал Физик. — Но вот проблема: куда направить усилия? Резервных звезд в нашем Шаре почти нет. Мы уже в прошлом веке вышли за пределы нашего скопления и заселяем разрозненные миры, распыляя расы по космическим островкам, практически выключая их из единого русла цивилизации. И прогнозисты говорят, что хорошо бы пресечь это стихийное распыление, направить поток эмиграции на один компактный объект, например, на ближайший звездный шар ОГ (М-92 по земным каталогам. — К. К.). Выбор общеизвестный, логичный и общепризнанный. Помнится, еще в школе в детских книжках я читал о приключениях покорителей шара ОГ. Но романисты, увлеченные героизмом первопоселенцев, упускали из виду важное обстоятельство.
ОГ не больше, даже несколько меньше нашего родного Шара. Отсюда следует, что, сохраняя однопроцентный прирост, мы и ОГ исчерпаем поколения за три. Тогда встанет вопрос о следующем объекте. Очередной известен — это скопление ОЗ, за ним последуют ОХ и Отх. Всего в Галактике около четырехсот шаров, есть возможность выбрать и наметить продолжение. Однако — и подчеркиваю, тут моя главная мысль: принимая на века самый принцип расселения по шарам, мы молчаливо соглашаемся с тем, чтобы культура наших потомков топталась на месте, все время дробясь, умножаясь количественно, но не качественно. От шара до шара десятки тысяч световых лет, передавать энергию и материалы на такое расстояние бессмысленно. Обмениваться можно только информацией, но даже и в таком обмене не будет особенной нужды: ведь на всех шарах пойдет одинаковая деятельность — налаживание жизни в пределах одного шара. Шары будут разорваны экономически и ограничены экономически: все дойдут до некоторого потолка, приблизительно до сегодняшнего уровня науки, а потом опять и опять начнут сначала повторять историю освоения очередного шара. Согласившись на такой вариант развития, мы на многие века программируем топтание на месте.
Для пояснения сошлюсь на древнейшую однопланетного уровня историю. Когда скотоводческие племена завоевывали новые степи, они пасли там стада, оставаясь при своем скотоводческом хозяйстве. Когда земледельческие народы открывали новые земли, они пахали и сеяли, оставаясь на своем земледельческом уровне до той поры, пока новые земли не были заселены и вспаханы. Мало того, заморские колонии рвали со своей прародиной, потому что общих дел было мало: там пахали и тут пахали, к чему же еще налоги платить прежнему королю? Века и века прошли, прежде чем у разрозненных народов возникли глобальные, общепланетные интересы, потребовавшие глобальной науки. Прошли века и тысячелетия, прежде чем у разрозненных планет возникли общешаровые интересы. Сейчас мы невольно планируем многовековую разрозненность и застой на сегодняшнем общешаровом уровне.
Есть ли альтернатива? Да, есть. И я уполномочен предложить ее от имени группы физических институтов.
В Галактике, помимо отдельных островков, я разумею одинокие звезды (вроде нашего Солнца. — К. К.), помимо архипелагов типа О, ОГ и других, есть еще и материк — Ядро Галактики. Диаметр его — около четырех тысяч световых лет, расстояние от нас до поверхности ядра — такого же порядка, как от О до ОГ. Но в этом материке сосредоточены не десятки миллионов и даже не сотни миллионов, а десятки миллиардов звезд, то есть в тысячу раз больше, чем во всех четырехстах шарах, разбросанных по небу.
Принимаясь за освоение шара ОГ, мы планируем наши заботы на три поколения вперед, освоение Ядра намечает путь на тысячелетия. Покоряя шары, мы рассеиваем нашу культуру по отдельным архипелагам, Ядро же сосредоточит ее, сконцентрирует. Шары будут придерживать науку на сегодняшнем шаровом уровне, Ядро сразу поведет цивилизацию на новый этаж, уже четвертый в истории, если первым считать однопланетный, вторым — односолнечный, третьим — одношаровой. Ныне предстоит творить новую, принципиально новую культуру — галактическую.
Творчество или повторение? Выбирайте!
Закончив речь, Их-Физик поклонился с улыбкой, полной достоинства, даже чуточку самодовольной. Впрочем, я не осуждал его. Можно гордиться, если ты принадлежишь к клану всемогущих волшебников, не только одинокие звезды хватающих с неба, но и целые скопления дюжинами, даже ядра галактические. Десятки миллиардов солнц! Ничего себе размах!
— У кого есть вопросы? — спросил председатель.
Камера оператора скользнула по бакам, стоящим на сцене, остановилась на центральном… я подправил анапод… и ахнул. Дятел собственной персоной! Дорогой мой школьный учитель. То есть, конечно, не сам он, его звездный аналог.
О земном Дятле я рассказывал выше. Великий мастер был докапываться до истины, умел извлекать суть из-под коры слов, упрямых заблуждений, тупых предрассудков, невежества, невнятности. А если верить анаподу, и тут передо мной извлекатель истины. Вот он клонит голову на плечо, щурит глаз. Интересно, как препарирует Их-Дятел Их-Физика.
— Пожалуй, у меня самого тьма вопросов, — торопится он. — Первый: везде ли физические условия в Ядре совпадают с привычными для нас — жителей Шара? Сумеем ли приспособиться?
— Ядро предоставляет нам громадные возможности, — отвечает Физик быстро. — Внутри там такие же звезды, как в Шаре, можно отобрать среди них наиболее удобные. Но зато какой простор! Мы получим как бы Супершар диаметром в четыре тысячи световых лет, сверхастрономических размеров строительную площадку. Там возможно создать невиданных размеров общество единой культуры. И каких высот оно достигнет, мы, скромные жители одной звездной кучки, даже не можем и вообразить. Разве не стоит потрудиться для такой перспективы?
— Вопрос второй, — вставил Дятел поспешно, словно опасаясь, что его перебьет кто-нибудь. — Сколько труда все это потребует?
— В проекте есть цифры, — сказал Физик неохотно. — Затраты труда во времени, затраты труда в пространстве, затраты энергии и материалов. Вы хотите, чтобы я зачитывал таблицы?
— Нет, зачитывать не стоит. Это утомительно и не внесет ясности. Но уважаемому собранию для оценки полезно было бы знать порядок цифр. Сейчас у сапиенсов в среднем по Шару четыре часа обязательного труда. Сколько прибавится?
— Не больше, чем при освоении шара ОГ.
— Точнее? От и до?
— Очень большой разброс в цифрах в зависимости от вариантов. — Физик явно уклонялся от прямого ответа. — Легче начинать на поверхности, труднее проникнуть к внутренним звездам. В Ядре десятки миллиардов светил. Есть возможность выбирать самые удобные для жизни.
— Но, вероятно, самые благоприятные для жизни уже заселены. Там могут быть и свои сапиенсы.
— Суперсапиенсы едва ли. Если бы были, давно связались бы с нами.
— А низшие расы вы предлагаете уничтожить? — Это уже не Дятел спрашивает, другой голос. Я бы поручился, что голос Лирика.
— Не передергивайте. Я имел в виду животных, досапиенсов.
— Кто определит: перед вами уженеживотные или ещенесапиенсы?
— Определят специалисты на основе науки.
— Ваша наука столько раз ошибалась. (Ну конечно, Лирик!)
— Это не моя наука, а ваша: астропсихология, астродипломатия.
— Граве, Гилик, где вы? Что такое астродипломатия? У вас и такая наука есть?
— Удивительные пробелы у тебя, Человек. Я же сам астродипломат. И практик, и преподаватель. Веду курс. Кстати, и тебе полезно было бы позаниматься.
— Позаниматься? А я справлюсь, Граве?
Астродипломатия
Я — снег.
Пухлой шубой я лежу на пашне, очень белый, белей, чем белье, накрахмаленное и подсиненное, белый с искрой, словно толченым стеклом присыпанный. И, наращивая шубу, на меня бесшумно ложатся невесомые снежинки.
На подоле шубы следы. Уродливые ямки с рубчатыми отпечатками галош. Случайный прохожий с трудом, барахтаясь, выбрался из меня, помял краешек, накидал комьев. А дальше гладь моя нетронута, словно ватман, приколотый к чертежной доске, только лыжни исчертили меня, нанесли двойные линии рейсфедером, ровные-ровные, идеально параллельные, льдисто-голубые днем, сиреневые к вечеру. И рядом с лыжней легли гряды бугорков, шероховатых, уплотненных остриями палок.
Я — снег. Я пахну свежестью и чистотой. Я воздушный, на ощупь холодный, в ладонях становлюсь влажным, слипаюсь в мокроватые комья. Я ноздреватый, а если присмотреться, видишь темную пыль — это хвойные иголки, нанесенные ветром…
— Достаточно. Верю. Вынужден верить, не видел ваших снегов. А теперь ты — дерево.
Я — дерево. Какое? Береза. У меня не кожа, а кора, снизу до коленей грубая, изборожденная трещинами, в которых роются жучки, выше атласно-гладкая, белая с черточками снаружи и с розоватой изнанкой. Я стою на опушке, растопырив ветки, и при каждом порыве ветра кланяюсь, гнусь со стоном и выпрямляюсь, охая, как старуха с больной поясницей. На моих пальцах-веточках трепещут ярко-зеленые листья. Каждый из них с зубчатой кромкой и украшен орнаментом жилок. Листьев слишком много, глаз их сливает. Вам видна зеленая масса всех оттенков, золотистая на свету, почти синяя в густой тени. Лишь на крайних веточках различаешь отдельные зеленые кружочки на фоне неба, белесовато-голубого, водянисто-голубого…
— Ничего! Зримо, и деталей вдоволь. Но опять ты выбрал незнакомое мне дерево. Будь огнем, огонь одинаков везде.
Я — огонь. Я пляшу на поленьях, изгибаясь и извиваясь, звонко-оранжевый с синими лентами и желтыми колпачками на каждом языке. В черное небо я бросаю охапки искр, светлых, продолговатых. Я вкусно пахну смолой и горьковатым дымом, дрова подо мной трещат и трескаются, отслаивая седые вуальки. Я огонь. Не подходите, я дышу жаром, от меня горячо глазам, и кожу я колю жгучими иголками. Я обжигаю. Осторожно!
— Ну, для первого раза приемлемо. А теперь ты — я.
Сдвинув анапод, бросаю вороватый взгляд на Граве. Вижу его каждый день… но не надеюсь на зрительную память. Вдруг подведет.
Итак, я — он, каков есть на самом деле, без анапода. Удлиненный череп обтянут землистой кожей, темнеют провалившиеся глазницы. Пятна, не забыть бы — пятна! Три над левым глазом, два — над правым. Оскаленные зубы, выпирающие ребра… Сколько ребер? Не помню. К счастью, на туловище мешковатый балахон, тоже землистый. Характерная поза: сидит согнувшись, острые колени расставлены врозь, на коленях острые локти, на ладонях костистый подбородок. Все?
— Пальцев сколько?
Ах да, три пальца у него. А я свои руки вообразил, пятипалые.
— Придешь еще раз, — говорит он жестко. И ставит кол.
— Я столько занимался, так старался, — плачусь я, словно студент, лишенный стипендии. — У меня просто нет артистических способностей, не могу я вживаться в образ по Станиславскому. Нельзя же требовать, чтобы каждый космонавт был еще и артистом. Кто там заметит: пять пальцев или три? Такая ничтожная мелочь.
— В нашем деле мелочей нет, — отрезает Граве. — Представь себе, что я пришел бы в твою гостиницу, сел в кресле как человек и положил бы на столик свой хвост. Такие мелочи и губят астродипломата.
Да, я учусь на астродипломата. Занимаюсь в группе Граве вместе с десятком местных сапиенсов, почему-то земноводных по преимуществу. Не без колебаний пошел я на курсы, боялся, что не вытяну учения наравне с уроженцами Шара. И вообще у меня нет склонности к дипломатии. Это профессиональное. Как литератор, описывая хитросплетения жизни, подыскиваю точные слова. Мне лично язык дан не для того, чтобы скрывать мысли, не люблю говорить «да», подразумевая «может быть», наводить тень на ясный день, какого-нибудь слюнявого маразматика величать «светлейшим высочеством». Не умею хитрить, даже умалчивать не люблю. Попадаюсь на первой же выдумке. Какой из меня дипломат?
Но Граве сказал, что у меня примитивное представление о дипломатии, архаичное, обывательское, докосмическое. «Хитрость — это оружие слабосильных, — сказал он. — Хитростью немощный заставляет могучего уступить дорогу. Но могучему нет необходимости добиваться уступок. Силач новый, другой путь проложит, сам выйдет и слабого вынесет. Мы могучие звездожители, — сказал он, — мы и есть силачи на планетах субсапиенсов. Можем уступить, можем и их выручить, и свои интересы соблюсти. Девиз астродипломатии: «Пойми, помоги… потом проси, что тебе нужно».
И вот я учусь прежде всего понимать. А понимание — так написано в «Наставлении астродипломата», глава I — «начинается с наблюдения». И параграф 1 гласит: «…наблюдайте, не вмешиваясь в жизнь аборигенов. Предпочтительно оставаться незамеченным, пока не освоен язык, в совершенстве изучены обычаи, нравы, социальные отношения, история данной планеты…».
И ниже сказано:
«Предварительное скрытное ознакомление осуществляется:
а) на дальних расстояниях — телескопами;
б) со средних дистанций — кинокиберами;
в) на месте — астроразведчиками, с помощью гипномаски».
Гипномаска — это и есть: «Я снег, я снег, пухлой шубой лежу на пашне…» Вы видите снег, ничего более, а я наблюдаю, прислушиваюсь, изучаю ваш язык и обычаи. Хитрая маска эта устроена сложно, как именно — объяснить не смогу. Дипломат не обязан знать устройство телеграфа, обязан использовать своевременно. Астродипломат же обязан правильно пользоваться маской, проворно надевать ее, заправляя присоски под волосы, обязан безукоризненно воображать себя снегом. С виду же гипномаска похожа на анапод, она и есть анапод навыворот. Тот прибор показывает иномирцев людьми, тут я — человек — внушаю иномирцам, что я снег, что я огонь, что я такой же, как они.
И вот на́ тебе, пять пальцев вместо трех!
— Повторите все упражнения, начиная с первого, — нудит Граве. — Без гипномаски мы вас не пустим на неисследованные планеты. Без маски только экскурсии с гидом.
Маскировка не единственный предмет на курсах. Прохожу «Звездную Географию» — описание природы планет, истории планет и законов влияния природы на историю, истории на природу — этакий комплексный предмет — астробиосоциогеографию. Дятлу моему земному очень пришелся бы по душе. Еще «Наставления и Уставы», «Устав космонавта», «Устав астродипломата» и прочие. Прохожу «Оборудование», тут все — от ракеты до опреснителя. Еще «Психологию» — индивидуальную и социальную. И наконец, «Прецеденты и Казусы» — теорию и практику астродипломатов.
Прецеденты — это уроки истории Звездного Шара, — так сформулировал Граве во вводной лекции.
Я, конечно, вылез со скептической земной мудростью: единственный урок истории в том, что никто не мог извлечь уроков из истории. Граве вежливо возразил, что опыт одной планеты, видимо, дает слишком мало материала для обобщения, у меня сложится иное мнение после того, как я основательно проштудирую ход событий на Вдаге, Кинни, Эалинлин, Йийит, Моуэ, Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Че, Чгедегде… и всех прочих, сколько мозг сумеет вместить. Чем больше, тем яснее закономерности. Гилик же познакомил меня с ядовитой звездной пословицей, смысл которой: «Дураку и таблица умножения не на пользу».
Прецеденты — теория, а казусы — практикум, как бы задачник астродипломата. В классе сидим мы, как студенты на семинарах, но каждый в своем баке: земноводные по горло в воде, я в кислороде, разбавленном азотом. Сидим врозь и все пишем под диктовку:
Казус 1. Планета А. Почти целиком покрыта океаном с разобщенными архипелагами. Разумная жизнь зародилась на островах, острова были густо заселены. Местные сапиенсы, обладая развитой способностью к самоформированию, в поисках пропитания часто спускались в воду, растили плавники и довольно быстро превратились в дельфинов. Море богато пищей, сытая водная жизнь располагала к лени. Сохранив разум, дельфины забросили технику, забывают и науку. Надо ли препятствовать такому ходу вещей?
Астродипломат предлагает…
Казус 2. Планета Б. Обширная, суховатая. Девяносто процентов территории — пустыня, десять процентов — болота. Субсапиенсы, похожие на саламандр, быстро размножающиеся, питаются болотной травой. Они кишмя кишат в мелких лагунах, в засушливые годы миллионами умирают от голода. Вожди саламандр, проповедуя отречение от житейских благ и самопожертвование во имя будущего благоденствия, военизируют население, готовя его для завоевания соседних планет.
Но так как все эти планеты богаче, сильнее, лучше вооружены, хотя и не столь многолюдны, авантюра с высадкой обречена на провал, приведет к обильному кровопусканию. Саламандры возлагают надежду только на межпланетные ссоры и на войну между богатыми планетами.
Астродипломат предлагает…
Казус 3. Планета В. Совсем небольшая, но густо населенная. Сухая, гористая, бедна сырьем и территорией. В течение долгих лет была мастерской в своей солнечной системе, снабжала окружающие миры уникальными дорогими изделиями: машинами, телевизорами, кружевными тканями, модной обувью. Но постепенно другие планеты развили у себя производство дорогих кружев, туфель и телевизоров, даже по закону неравномерного развития начали изготовлять лучше. Сапиенсы В потеряли монополию, потеряли доходы, жизнь стала скудной. Недовольные, они свергли свое правительство, разорвали отношения с ближними планетами, надеясь на связи с далекими солнечными системами.
Астродипломат предлагает…
Казус 4. Планета Г. Довольно большая, сухая, степная, с немногочисленными озерами. Населена двумя расами. Аборигены — чешуйчатые, ящероподобные — занимаются скотоводством в степях. У озер же поселились выходцы с соседней планеты, индустриальной, уже овладевшей космическими перелетами, курчавые и шерстистые. Естественные отношения: шерстистые занимаются промышленностью, чешуйчатые поставляют сырье, получают изделия. Но, боясь попасть в кабалу к переселенцам, скотоводы бойкотируют пришельцев, мечтают их уничтожить. Не находя сбыта своих изделий, те переходят к земледелию, нуждаются в земле и захватывают земли скотоводов.
Астродипломат предлагает…
И вот надо написать, что ты предлагаешь. Сидишь, ломаешь голову. Прецеденты вспоминаешь. Запрашиваешь статистику из информатория — это разрешается. Варианты просчитываешь на бумажке и на вычислительной машине. Так до звонка. Затем десятиминутная переменка, перехватив на ходу кусок кардры, щедро политой соусом 17-94, стремглав бежишь в кабинет маскировки и там…
Я — пес. Лохматая дворняжка со свалявшейся шерстью, седовато-черной, мокрым носом, слезящимися глазами. Глаза настороженно-умильные, как у всякой бездомной собаки, изголодавшейся, но чаще получающей побои. Хвост поджат, спина сгорблена, лапы подобраны. Я выпрашиваю корочку, но готов отпрыгнуть от камня. Собачья жизнь… у начинающего астродипломата.
— Так ничего, более или менее, — говорит Граве. — Подпалину сделайте на боку.
Постепенно зачетная книжка заполняется. Маскировка сдана наконец; сданы уставы, оборудование и психология; казусы и прецеденты сданы на «четыре» с минусом. И вот выпускной экзамен. Мы с земноводными толпимся у закрытой двери, на вселенско-студенческом жаргоне выведываем: как спрашивают, кто строгий, на чем сыплют, кому сдавать?
— Следующий!
Входя, докладываю:
— Человек с планеты Земля.
— А, гость из спиральной ветви. Берите билет.
Если анапод не снимать, нормальная студенческая обстановка. Я жалкий подсудимый, уличаемый в лени и невежестве, ежусь в одиночестве посреди просторной комнаты. Передо мной за высокой кафедрой — трое судей. Справа Граве, он строг, нахмурен, но я его не боюсь. Не будет же мой личный куратор ставить своему подопечному двойку. Слева — преподаватель по оборудованию, молодой, коротко стриженный, чисто выбритый физик. Не тот Физик, что на Полигоне, но очень похожий. Буду называть его Техником во избежание путаницы. Техник опасен, потому что молод. Он принадлежит к категории отличников, недавно окончивших учение, твердо помнит все параграфы уставов и преисполнен презрения к нерадивым с нетвердой памятью, еще не научился быть снисходительным, за пустячную неточность способен влепить двойку. Но и пятеркой может одарить так же легко, ибо уверен, что все студенты — лодыри и балбесы, все ни в зуб ногой, а хорошие отметки надо ставить кому-нибудь.
А председатель — Лирик, Их-Лирик, конечно, добродушный с виду толстячок с холеной бородкой, сивые кудри, узенькие глазки, речь ласковая. Вот он-то страшнее всего, потому что, подобно всем лирикам, живет чувством. Лирики гуманны, но страстны и пристрастны. И горе тебе, если ты заденешь их взгляды на гуманность.
— Билет берите, пожалуйста.
Пачка картонок, и в них моя судьба. Хоть бы приличная планета вытянулась, немножко на Землю похожая. Если попадутся какие-нибудь лягушки, завалюсь обязательно.
— Читайте вслух!
«Небесное тело 2249, в квадрате 272/АУХ. Показатель массы — 49. (Про себя соображаю: «Куда больше Земли, поменьше Юпитера и Сатурна».) Ближайшая звезда класса F («больше и горячее Солнца».). Расстояние до нее 26 астрономических единиц («практически не греет»). Температура поверхности — минус 150 (естественно, я перевожу на земные меры). Плотная атмосфера не позволяет рассмотреть какие-либо детали на поверхности с помощью телескопа. («Не густо!») Задача астродипломата спуститься на поверхность, установить наличие или отсутствие жизни». («Едва ли посылают астродипломата туда, где нет жизни», — думаю я.)
— Если жизни нет, — поясняет Техник, — вы даете нам предложения по использованию вещества и энергии планеты.
— Жизни может и не быть, — добавляет Граве, — но вы обязаны представить убедительные доказательства.
— Даже если есть разумная жизнь, — продолжает Лирик, — вы все равно вносите предложения о путях использования ресурсов планеты без ущерба для аборигенов и начинаете переговоры…
— Пойми, помоги, потом проси, — напоминает Граве.
Вот и пойми, есть ли там жизнь? Вероятнее, есть.
— Какое оборудование берете? — спрашивает Техник. Это его предмет — оборудование.
— Гипномаску беру (въелась в мысли гипномаска, называю в первую очередь). Беру универсальный приемник сигналов. Вообще-то, если атмосфера густая, вероятнее, язык там звуковой, но надежнее универсальный приемник. К приемнику запись: фото-, кино-, магнито- для любых волн. Еще киберлингвиста для расшифровки записей, креплю его к скафандру. Кибера для разведки с самостоятельным двигателем, этот будет у меня на посылках. Еще одного. Рато-кухню для изготовления пищи из местных атомов…
— Скафандр стандартный? — спрашивает Техник. Чую подвох в излишней бесстрастности вопроса.
— Стандартный, да. Впрочем, нет. Скафандр с дегравитатором. Ведь показатель массы 49, для меня это тяжеловато. Изоляция нужна сверхпрочная. Воздушная оболочка толстая, на дне ее давление может быть около сотни атмосфер, скафандр должен выдержать. И специальный слой для термоустойчивости.
— Против межпланетного холода?
— Против холода. Впрочем, и против жары. Минус 150 на поверхности — это больше нормы. Ведь до здешнего солнца — двадцать шесть астрономических единиц, практически оно и не греет совсем. Значит, есть подогрев изнутри. Внутреннее тепло выделяется на этой планете.
Техник молчит, вопросов не задает больше. Видимо, я заказал правильно. И Граве кивает головой:
— Приступайте! В зеленую кабину, пожалуйста.
Оглядываюсь. За спиной у меня ряд цветных дверей, словно будки телефонов-автоматов. Я знаю, что это такое: кабины для межзвездного перемещения за фоном. Неужели так, сразу меня и отправят на ту планету? Вот это экзамен!
— 272/АУХ, номер 2249, — напутствует меня Граве. — Цифры набирай правильно. Успеха тебе, Человек!
Перемещение в зафоне я уже описывал неоднократно. Вошел в кабину привычно, проверил заказанное оборудование, надел и закрепил все, что полагается закрепить, цифры набрал.
А потом как закрутило, как пошло ввинчивать и вывинчивать. Долго еще я сидел в изумлении, вздохнуть не мог, только головой качал: «Ну и ну! Ну и ну!»
Наконец собрал мысли, вспомнил, что я экзамен сдаю, перемещен по тридевятому слою, мой объект где-то рядом. Встал, скафандр еще раз проверил, двери приказал открыться мысленно, выглянул наружу. Так и есть: стандартная межзвездная станция, ряд кабин, площадка, слева — буфет и спальни, справа — круглое окно в космос. И вот он, мой объект — 2249.
Честно говоря, страшновато выглядел этот объект.
Висело прямо передо мной, заслоняя целое созвездие, мрачное тело, почти черное, но с тускло-багровым отливом, цвета запекшейся крови, пожалуй, и с красновато-серой бахромой по краям.
Я только вздохнул: «И зачем меня послали сюда?» Сразу понял, что означает этот багровый отсвет. Видимо, под густой толщей непрозрачной атмосферы планета моя раскалена, если не расплавлена, сквозь слои газов ледяных, холодных, теплых и горячих просвечивает лава. «Эх, не тот билет потянул. Вот тебе: мечтал о мире, похожем на Землю, попал на планету-вулкан. Ну ладно, делать нечего, если послали, надо обследовать, привезти веские доказательства отсутствия жизни. А какие тут доказательства? С первого взгляда видно… Никто же не спрашивает: есть ли жизнь в недрах вулкана?»
Пересел в ракету.
— Ну, вези меня, автоматика!
По мере погружения в атмосферу планета становилась разнообразнее и беспокойнее. Зловещая чернота постепенно наливалась кровью, прорисовались алые жилки, потоки лавы, вероятно. Зашевелилась багровая бахрома. Так бывает в космических путешествиях — дальний протуберанец кажется неподвижным, а на самом деле это огненный смерч астрономического размера, язык дико ревущего пламени. Вот в такое пламя и спустила меня ракета.
Мы, жители Земли, знаем, насколько беспокойнее атмосфера летом, насколько тропические ураганы страшнее наших умеренных ветров. А ведь у Москвы с тропиками разница в каких-нибудь двадцать градусов; там же — на 2249 — было градусов восемьсот или около того. Мятущееся месиво, желто-сине-оранжевое, свистящее, воющее, грохочущее, швыряющееся камнями. Оторвавшись от ракеты, я сразу же почувствовал себя футбольным мячом в ораве школьников. Кувыркнувшись сотню раз, с трудом зацепился за что-то прочное, перевел дух и увидел себя на каменистой равнине цвета догорающих углей. Твердый грунт все-таки был здесь — раскаленный, пышущий зноем, но твердый. На тысячи километров банная каменка. Плесни водой, зашипит, даже мокро не будет, капли разбегутся ртутными шариками.
Эх, не тот билет вытянул. Что бы стоило взять соседний?
Мне совершенно ясно было, что дипломатические задачи я выполнил в первую же минуту. Никаких сапиенсов тут нет и не будет, кроме жареных. Следовательно, без зазрения совести можно распоряжаться этим небесным телом. Как распорядиться? Нормальное учебное решение: если планета громоздка, раскалена и для жизни непригодна, следует расколоть ее на несколько меньших, примерно такого размера, как Земля. Выделение внутреннего тепла прекратится, куски вскоре остынут, тогда их можно приспосабливать для заселения. Что я должен был сделать? Составить проект, где и как наивыгоднейшим образом расположить раскалывающие установки. Спускаясь, я разглядел сквозь багровый туман атмосферы огненные прожилки. Вероятно, это естественные геологические разломы. Надо подойти к ним, спустить кибера, произвести глубинную разведку. Главное — измерить толщину коры. Итак, задача ясна: я прохожу маршрут километров в сто пятьдесят, до ближайшего потока. Достаточно для четверки с минусом.
И я пошел. «Шел» — это сказано хвастливо. Меня подбрасывало, качало, переворачивало и — бам! — швыряло с размаху о камни. Казалось, зловредная планета умышленно старается уничтожить пришельца, раскрутив, расплющить в лепешку. Мне не было больно, стеклоэластик смягчал удары, но после каждого сальто я с трепетом ощупывал швы. О, кажется, стало теплее! Неужели трещина? Ведь снаружи восемьсот, если шов разойдется, я буду сварен на пару́, как цыпленок.
Десятки раз мне хотелось отказаться от этого безумного маршрута, вернуться в ракету, сесть поглубже в кресло и скомандовать: «Прочь! Скорее прочь из этого ада!» Через два часа я буду на межзвездной станции, через два с половиной — в тихой, надежной комнате курсов, где сидят за кафедрой интеллигентные педагоги. И я им скажу… Что скажу? Скажу: «Извините меня, пожалуйста, я вытянул планету чересчур опасную…» Но какими глазами они посмотрят на меня? Техник выразит кислое презрение, Лирик — снисходительное всепрощение, а Граве — дорогой куратор — начнет доказывать, кипятясь, что Человек — слабое существо, нельзя давать ему такие трудные задания. И во все их учебники войдет абзац о том, что жители окраинной планеты Земля — слабодушные субсапиенсы… слабаки, одним словом.
Нет уж, лучше сгорю здесь заживо, чем Землю позорить.
И я приспособился. Научился распознавать тональность рева, по изменению тембра угадывать приближение вихря. Выискивал ложбины и крутые бугры, перемещался короткими перебежками, словно под обстрелом. Рывок! Упал! Распластался за укрытием! Геокибер, ко мне! Стой, закреплю! Присасывайся же! Включаю сейсмолокатор! Сколько? Двадцать семь метров до магмы? Не слишком надежная корочка. Повтори! Да держись же как следует, черт металлический!
И как результат всех этих усилий, точка на графике — толщина твердого слоя 27 метров.
22, 27, 29, 34, опять 22, 20, 40, в одном месте 11 метров — все время я шел по непрочной корочке вулкана. И даже не знал, насколько она долговечна, не проламывается ли то и дело извержениями, не начнется ли извержение в следующую секунду? Я считал, что узнаю это, дойдя до берега огнеупорной равнины. Посмотрю на открытую лаву и увижу: спокойна ли она? Так или иначе хотя бы полтораста километров надо было пройти.
И я прошел их. Сейчас легко сказать «прошел». А было трое суток борьбы с ураганом, трое суток бомбежки горячими булыжниками, увесистыми глыбами, целыми скалами. Помню, как, не сумевши увернуться, я лежал под одной из скал, беспомощный, словно буян в смирительной рубашке, брыкался, сдавленным голосом отдавал распоряжения киберам, где что резать, что скалывать и как скалывать, чтобы скафандр не повредить. Освободили меня кое-как. А потом оказалось, что я все равно не могу идти, потому что антигравитатор смят и притяжение чувствуется в полной мере, одиннадцать с половиной «же», я лежу, корчусь, словно раздавленный червяк, а подняться не могу, сил не хватает. И вместо благодарности я должен был размонтировать одного из киберов. Силовым пожертвовал я, поскольку геологический был нужнее.
Проклятые экзаменаторы! Для чего же они подсунули мне эту сумасшедшую планету? Ведь я на астродипломата учился, не на астроакробата. Или так у них полагается: сначала испытывать характер, потом уже знания и умение? Как бы не получили они от этих испытаний могилу неизвестного дипломата.
Ну и пусть! Лишь бы не опозориться, Землю не подвести!
Наконец я разглядел впереди над горизонтом неяркое желтоватое зарево, отсвет жидкой лавы. Обрадовался… рановато. До цели было еще далеко. На малых небесных телах вроде Луны горизонт крутой и близкий, там все время кажется, будто стоишь на холме, а на крупных планетах вроде моей 2249, наоборот, все очень плоское. На самом деле мне еще идти и идти было до берега.
Все-таки вышел я. Не к океану лавы, а к проливу или реке, светло-красной, цвета смородины, и текла она в черносмородинных берегах чуть синеватого оттенка. Алая река, окаймленная черными берегами, напоминала траурную ленту. Сначала я думал, что берега кажутся черными только по контрасту, но, приблизившись, разглядел, что они действительно темные, гораздо чернее окружающей пустыни с ее вишневыми, бордовыми и бурыми камнями. Почему же берега темнее пустыни? Наоборот, они должны быть светлее, горячее, ведь близлежащая лава обогревает их. Загадка природы! Заинтересованный, я устремился вперед… получил булыжником по шлему, полежал полчасика, оглушенный. Очнулся, вспомнил про загадку природы, опять устремился вперед. И увидел, глазам своим не поверив, что черное шевелится.
Освещенные зловещим темно-малиновым светом лавы берега были усажены жесткими пластинками шоколадного, синевато-вороного, лаково-черного или черно-зеленого цвета. Все эти пластинки, круглые, овальные, сердцевидные, стояли торчком, повернувшись широкой стороной к свету. Они ловили лучи жадно и активно, наползая на соседей, просовывая острые стебли в промежутки и даже прокалывая друг друга. Выбравшись на простор, расправлялись, как бы раскрывали широченные черные зонтики. Если это была растительность, то небывало подвижная. Представьте себе кусты, которые дерутся за место под солнцем.
И вдруг все замерло. Пластинки верхнего яруса безвольно опали на нижние. Те также начали сжиматься, как бы прятать головы в стебли, уходить в грунт. Несколько секунд — и колыхающиеся заросли превратились в черную пленку, подобие плесени, оклеившей камни. И тут налетел вихрь. Но какой: настоящий смерч! Видимо, эта драчливая растительность умела чувствовать приближение бури и успевала прижаться к почве, вдавиться в ямки.
Минута, другая, десять минут… Но вот вой и свист стихают. Перестают катиться булыжники, гонимые ветром, каменные перекати-поле. И вдруг сразу же, словно по команде, черная простыня отделяется от грунта. Встают дыбом пластинки, круглые, овальные и зубчатые, расправляются зонтики, чаши, лепестки. Жадные ладони торопятся загрести побольше света, тянутся вверх, толкают, дырявят друг друга… И опять все сразу опадают, заслышав отдаленный гул очередного урагана.
Час за часом, не отрывая глаз, как ребенок, впервые увидевший телевизор, следил я за этой игрой. Про себя думал: «Счастье мое, что я не поторопился с возвращением, прошел эти полтораста километров. Хорош был бы, если бы заявился к профессорам с глупейшим заявлением: «Планета огненная, жизни нет и быть не может». До чего же крепко сидит в голове земное самомнение, самовлюбленный геоцентризм: жизнь обязательно должна быть вроде нашей, только белковая, только в температурном интервале от замерзания до кипения воды.
И вот опровержение: растительность при плюс восьмистах.
Насытившись зрелищем вволю, я принялся за описание. Сфотографировал, зарисовал, измерил характерные формы. Не без труда оторвал один из черных кустиков; стебель был словно проволочный. Изнутри покатился капельками сок, кровавый на свету, а в тени — серебристый, похожий на ртуть. Но спектроанализатор сказал, что это алюминий, а не ртуть, расплавленный алюминий, конечно. Неудивительно, алюминий плавится при шестистах градусах с лишним.
Забегая вперед, могу сообщить, что тамошняя жизнь вся была основана на алюминии. Естественно: соединения углерода не выдерживают этаких температур, обугливаются. Почему не был использован, остался в пренебрежении вездесущий кремний? Возможно, именно потому, что он вездесущий. Алюминий же приходилось отыскивать, извлекать, очищать. Преодолевая эти сложности, здешняя жизнь вырабатывала приспособления: борясь за существование, соревновалась в совершенствовании этих приспособлений. Так или иначе, растения Огнеупории извлекали из почвы алюминаты и разлагали их, используя свет раскаленной лавы.
А нет ли и животных тут же?
Аппетит приходит во время еды. Всего несколько часов назад я брел по пустыне, подавленный, усталый, глубоко уверенный, что абсолютно ничего, кроме вулканического туфа, я не найду. Только час с небольшим восторгаюсь, осматривая, обследуя, описывая неожиданную жизнь. И вот уже новая претензия: мало мне растений, подай еще и животных.
И почему не быть зверям? Нормальный круговорот вещества в природе: растения насыщают воздух кислородом, кто-то его поглощает. Растения синтезируют питательные ткани в листьях, неужели не найдется нахлебников, любителей пожевать не синтезируя? До сих пор я не видел животных. Но и заросли есть не везде, трое суток я брел по пустыне, не видя ни одного листочка. Надо присмотреться внимательнее.
А присмотревшись, я заметил, что некоторые растения по непонятным для меня причинам морщатся, съеживаются и распадаются, как бы тают на глазах. Не пожирают ли их невидимые для меня микробы, грибки или даже миниатюрные насекомые? Кое-где среди зарослей возникали пролысины, довольно стойкие, не зараставшие после бурной паузы. Но особенно разительные изменения отмечались на противоположном берегу, за лавой. Там исчезали целые полосы зарослей. За период затишья, за какие-нибудь двадцать минут, как бы рулон обоев сдирался с кирпичной стены, обнажая грязноватый мясо-красный берег. Еще мне показалось, что кромка содранных полос светилась, какие-то там мелькали яркие пятнышки. И совсем фантастическое: удалось заметить, как по лаве, прямо по раскаленной жидкости пробежало что-то продолговатое, темное, похожее на гигантскую многоножку, и, постояв минуту у берега, проворно унеслось по лаве же за ближайший мыс.
Животное? Бегающее по лаве? И размером с акулу? Как же рассмотреть поближе? Да нет, мчится, не догонишь. К тому же ветер поднимается. Перерыв!
Вот так, урывками, делались тут все наблюдения. Затишье — растения торопятся жить, я тороплюсь описывать и коллекционировать. Буря — жизнь замирает, я прячусь в узкую расселину, изучаю образцы, соображаю, что надо осмотреть, какие приборы-инструменты подготовить. Затишье — кидаюсь наблюдать, собирать образцы. Порыв бури — бегу в свою щель, готовлю следующий опыт…
На этот раз я настроил кибера к полету на дальний берег. Сам не рискнул, опасался, что буря застанет меня в пути, вихри забросят в лаву. По обыкновению белковых машину послал на опасное дело. Снабдил ее кинокамерой, запрограммировал: что и как снимать. Затишье — кибер улетел. Буря — осел на том берегу. Затишье — летал, делал съемки. Буря — исчез из виду, двадцать минут волнения. Вернулся к концу следующей паузы. Буря — сижу в щели, проецирую на экран кадры.
Морщины на ослепительном фоне — не то. Скала, похожая на сломанный зуб, — не то. Ага, берег! Кучи и валики черных стеблей и листьев по всей кромке лавы. Зачем же эти зверьки наваливают копны сена? Рабочая гипотеза: здешние грызуны в период затишья срезают растения, а во время бури забираются в копну и пережевывают. Копны, копны… Нетронутые заросли… Не то снимал ты, братец кибер. И чуть ли не на самом конце ленты та многоножка. Метнулась с угла на угол, порхнула неясной тенью.
Стоп. С лупой рассматриваю застывший кадр.
И никакая это не многоножка, не акула, не огнеупорный кит. Это лодка. Лавоплав — судно, скользящее по жидкому камню. Оно беловатое снаружи, видимо, обмазано огнеупорным материалом, возможно, каолином или чистым глиноземом. И в лодке сидят живые существа — гребцы. Гребут, точнее, толкают ее, упираясь в лаву короткими дубинками с утолщениями на конце, этакими трамбовками. А у гребцов головы и руки, и трамбовки они держат в руках, переставляя их все враз, явно по команде.
Разумные обитатели! Ура, ура, ура!
И тут же сомнение:
«Разумные ли? Может быть, живые автоматы, наподобие муравьев?»
Снова посылаю кибера на съемки, изучаю кадры, коплю факты…
Оказывается, что светящиеся пятнышки, мелькавшие у кромки жнивья, — существа той же породы. Но в руках было другое орудие — кривые ножи, серпы своего рода. Этими серпами они проворно подрезали пластинчатые листья и складывали их в нагрудные мешки. Нет, это были не части тела — не подкожные карманы, не сумки, как у кенгуру. На снимках видно было, как жнецы снимали через голову мешки, как чинили их, вплетая гибкие стебли, как плели новые из алюминатной соломы.
Существа, делающие орудия труда! Значит, сапиенсы!
Разумные, но какие же странные: с кроваво-красными лицами, словно озаренными огнем. Существа с нормальной температурой тела не тридцать шесть и шесть, а восемьсот с лишним градусов. Раскаленные, пышущие жаром, но с головой, с глазами, ртом, ушами. С руками, но без ног. Вместо ног природа преподнесла им этакие подушки, мускульные мешки, перекатывающиеся, как гусеницы у вездехода. А над этими мощными подушками возвышалось стройное, не лишенное изящества туловище. На быстром ходу оно прогибалось, а при встречном ветре вдавливалось в подушку, как бы между колен пряталось. И тогда разумное существо превращалось в толстый, слабо светящийся валик.
Впоследствии выяснилось, что эти люди-лепешки встречались и на моем берегу, даже попадались в пустыне, даже были засняты на киноленту раза два. Почему я проходил не замечая? Типичная психологическая ошибка астроразведчика, о ней даже в «Наставлении» сказано: «Мы замечаем то, что ждем, неожиданное упускаем из виду». Я не думал встретить жизнь в этом пекле и не видел ее.
Мешало и стереотипное представление: разумное существо должно быть человекообразным, примерно таким же, как я, по размерам, должно двигаться примерно с такой же скоростью. Но ведь темп движения определяет температура — средняя скорость молекул. В том горячечном мире ветры дули раз в пятнадцать быстрее, движение передавалось быстрее в пятнадцать раз, быстрее распространялся звук, бежала кровь, сокращались мускулы. Я делаю в секунду два шага, произношу два слова; огнеупорцы делали тридцать шагов, произносили тридцать слов в секунду. Мой глаз видит десятка два кадров в секунду, и я не различал отдельных движений у огнеупорцев. Бегущие казались мне расплывчатым пятном.
Но вот киноаппарат поймал их, запечатлел, и пелена спала с глаз. Отныне я видел огнеупорных сапиенсов повсюду. Я очутился в мире, у которого уже были хозяева, и мог выбросить из головы все идеи о раскалывании их планеты, заняться основным своим делом — астродипломатией. В «Наставлении» сказано: «Пойми, помоги!» Понимание начинается с наблюдения. Параграф первый, пункт В: «Предварительное ознакомление осуществляется скрытно с помощью гипномаски». Какую выберем? Наипростейшую — я вихрь. Я извилина синего пламени с горстями сухого песка. Я кручусь, изгибаюсь, скрежещу песчинками. Вихрь! Небольшой смерч! Таких сотни вокруг.
Притворяясь смерчем, я на мотокрыльях перебрался на тот берег. Подыскал укромную нору, залез в нее, выставил все рецепторы универсального приемника: фоноуши, теленосы, фотоглаза, инфраглаза, радиоглаза. Прежде всего надо было выяснить, как общаются между собой эти немыслимые тысячеградусные умы. Вскоре узнал, что ничего особенно оригинального природа для них не придумала. Язык у них был звуковой, правда, высокотональный, в основном в ультразвуковом диапазоне. Мое ухо воспринимало его как частый писк и невнятное лопотание.
Накопив записи, я включил киберлингвиста. Настала его очередь действовать: анализировать беседы огнеупорных по правилам вселенской семиотики. Я подсоединил к нему фоноуши, вставил ленты… и начал ждать. Время от времени включал кибера в замедленном темпе, тогда писк и лепет превращались в басистую тарабарщину, более внятную, но не более понятную. Однако примерно через час-два кибер начал добавлять пояснения: «глагол… местоимение… коррелят». Затем появились смысловые группы: «междометие… призыв… ругательство… почтительное обращение».
Даже и кибер со всей его быстродействующей сообразительностью не мог сразу разобраться в чужом языке. И чтобы не терять времени, я поднялся в воздух (гипномаска — пылевой вихрь), решил понаблюдать пока жизнь тысячеградусных визуально.
Действительно, они последовательно скашивали кусты на прибрежном косогоре, очевидно, снимали урожай. Я заметил, что брали они только шоколадные и бордово-черные кусты, синеватыми и зеленоватыми пренебрегали. Срезанные листья сносили поближе к лаве и там грузили на свои огнеупорные барки. Проворно перебирая ступами-веслами (взмахов пятнадцать в секунду, для меня словно спицы в колесе мелькали), гребцы гнали эти барки со скоростью глиссера. Я с моими мотокрыльями поспевал за ними не без труда.
Уже за ближайшим мысом поток расширялся, впадая в продолговатый залив, а залив тот выходил на гладь обширнейшего сияющего огнеокеана. Поверхность его была ровной, глаже, чем у водяных морей. Сказывались и вязкость расплавленного камня, и большая сила тяжести в этом мире. Даже свирепые местные ураганы не могли взволновать огненную гладь, лишь изредка раскачивали пологую зыбь. И по слепящей зыби скользили, перебирая своими веслами-ступицами, огнеупорные суда с дюжиной гребцов, с двумя дюжинами, даже двух- и трехпалубные — с длиннющими веслами, по три гребца на каждом. Суда выбегали из всех заливов, двигались вдоль берегов, а также и через океан, к горизонту и от горизонта. И отметил я, что все трассы расходились веером от двух столбообразных гор, прикрывавших вход в бухту.
Я поспешил туда. Успел до очередной бури проскочить между столбами, и передо мной открылся…
Громадный город. Обширный. Густо населенный. Оживленный. Город-крепость и город-порт.
В глубине бухты у причалов, прямолинейных, явно искусственных, толклись десятки дирем, трирем, катамаранов. Раскаленные докрасна грузчики, мелькая, как солнечные зайчики, сносили на берег охапки, сумки, мешки, корзины, кувшины…
Сам город находился поодаль, на ближайшем холме. От порта туда вела дорога-улица, огражденная по всей длине стенами своеобразного профиля, с остроугольными контрфорсами снаружи и с козырьками на внутренней стороне. Полагаю, что форма эта диктовалась атаками ветра. Судя по бесчисленным ямкам и выщербинам в стене, ветер штурмовал город неустанно, разъедая стену, как соль разъедает снег. Но и ремонтировалась она без труда. Местные каменщики просто поливали ее расплавленной лавой из океана.
Улица взбиралась на холм зигзагом, двухкилометровой змеей, и на все два километра под козырьком выстроились лавки. Словно нарочно огнеупорцы приготовили для меня музей-выставку своей продукции.
Листья — черно-шоколадные и черно-бордовые, цельные, нарезанные, накрошенные, сушеные и сваренные тут же в котлах, залитых сверкающей лавой. Куски мяса, ободранные ноги и головы, живые звери, в большинстве отвратительные на вид, какие-то толстые змеи и светящиеся улитки, мелкие и громадные, трехрогие, с седлами и сбруей, видимо, верховые и упряжные. Груды шкур, одежда из этих шкур, серые ткани, сплетенные из серебристых алюминатных волокон. Вазы — продолговатые, пузатые, с ручками и без ручек, с крышками и без крышек, с нашлепками и рисунками. Кучи непонятных мелочей — возможно, это были украшения. Длинные палки с металлическими лезвиями — кривыми вилообразными, трезубчатыми, вероятно, оружие разного сорта. Оружие сплошь холодное. Не только ружей, но и луков со стрелами не было. Думаю, что плотная и беспокойная атмосфера Огнеупории препятствовала прицельной стрельбе.
Но что самое важное, я увидел книги, по всей видимости, книги: склеенные гармоникой и выбеленные каолином листы кожи, покрытые рядами мелких черных значков. В городе я нашел целую мастерскую, где трудились десятки переписчиков, украшая листы шеренгами загогулин. А возле этого дома, в узком кривом дворе, с готовыми гармошками под мышкой прогуливались три толстых огнеупорца со свитой из десятка маленьких, тощеньких. Тощие, держа в руках глиняные дощечки, быстро-быстро острыми палочками царапали на глине значки. Возможно, это были авторы со своими секретарями или проповедники с учениками.
Конечно, все это я разглядел позже, изучая кадры. Авторам, может быть, и представлялось, что они солидно прогуливаются, неторопливо изрекая и поучая. А для моих медлительных глаз казалось, что они носятся как угорелые, чуть не налетая на стену, а вокруг них, словно собачки, бегают спутники с дощечками. Очевидно, любое, самое торжественное собрание, даже похороны можно сделать смешными, если крутить киноленту в удесятеренном темпе.
Сценки я снимал, разговоры записывал; вернувшись в свою нору, отдал записи киберу для анализа. Он все еще не овладел местным языком, вместо перевода давал грамматические пояснения: «Флексия, предлог, показатель множественного числа…» Можно представить себе, с каким нетерпением я ждал перевода. Нарочно завалился спать пораньше, чтобы время прошло быстрее. Сам спал, а бессонный кибер напрягал свои кристаллические мозги, расшифровывая лепет огнеупорцев. И поутру он выдал мне перевод. Утром я просто называю время после сна, дня и ночи не было на Огнеупории. Итак, проснувшись, я заметил две светлые лепешки неподалеку от моего укрытия, направил на них фоноуши, включил кибера и…
— Что же он сказал тебе?
— Сказал: «Мало ты сделала сегодня. Все на прохожих заглядываешься, жениха подбираешь…»
— Ну и что? Обычная шутка. Все парни так говорят.
— Да, но как он поглядел на меня при этом.
— Он смотрел на твою полосатую юбку. Она просто неприлична на работе.
— Оставь, пожалуйста. Скажи честно, что ты мне завидуешь.
— Нет, полосатое действительно нескромно. Так и кричит: «Обрати на меня внимание!»
— Ой, пошли. Бери серп. Надсмотрщик идет сюда.
Вот и все. Но я был в восторге. Готов был выскочить из щели, обнять этих пылающих девиц. Их болтовня была словно весть с родной планеты. Подумать только: миллиарды километров от дома, жерло «пещи огненной», и в этой «пещи» в огне не горящие саламандры, непонятные существа с алюминиевой кровью сплетничают о загадочных личностях противоположного пола. Что-то умилительное в этом вселенском всевластии любви. И что-то разочаровывающее. Стоило лететь за миллиарды километров и опускаться в «пещь огненную», чтобы услышать мудрое замечание о нескромности полосатых юбок.
После первого удачного перевода дело пошло у кибера. Вскоре он выдал мне обрывки разговоров других работников на поле, перебранку продавцов с покупателями в торговом ряду, почти полностью песню гребцов: «Мы ребята-молодцы, мы — галерные гребцы. Раз, и раз, и раз, и раз. Дело спорится у нас. Нас сажают на скамью, в цепи тяжкие куют. Но раз и раз…», и так далее, в том же бравурном тоне, неожиданном для рабов, прикованных к скамье, но, видимо, продиктованном темпом гребли.
Однако интереснее всего для меня оказался перевод беседы трех ученых мужей, которые метались в тесной загородке, полагая, что солидно прогуливаются, выявляя истину в споре.
Первый ученый. Я спрашиваю: почему тюк травы под тяжелым камнем становится плотным комком? Почему кусок железа под ударами тяжкого молота превращается в острый нож? Почему этот острый нож может рассечь грудь, проникая в тело? Почему гребец, упавший в лаву, погружается в нее? На все вопросы одним ответом отвечаю.
Потому что тюк травы состоит из стебельков, разделенных воздухом, и они сближаются под тяжким камнем. И подобно траве, кусок металла, и жаркая лава, и моя грудь, и даже воздух сам состоят из тончайших стебельков, тонюсеньких, не различимых глазом. И стебельки те могут сдвинуться, заполняя пустоту, или, наоборот, раздвинуться, пропуская нож в тело или тело утопающего в лаву.
Еще спрашиваю: если все на свете состоит из стебельков, как же рождается великое разнообразие мира: мужи, жены, кнэ верховые, кнэ съедобные и кровожадные лфэ, стебли, листья, плоды, гибкий металл, твердый камень, жидкая лава и воздух, которым мы дышим, хотя и не видим его?
Отвечаю одним ответом: те невидимые стебельки различны по форме, оснащены колючками и крючочками, могут цеплять друг друга, образуя узоры, подобные кристаллам застывшей лавы в прохладное семисотградусное утро. Однако в воздухе, где каждый стебелек плавает сам по себе, словно крупинка в жиденькой похлебке нищего, сцепления редки и узоры примитивны. Просты узоры и в твердом камне, где стебельки сложены плотно, как хворост в вязанке, нет простора для перемещений и сочетаний. Счастливее всего чувствуют себя стебельки в лаве, где и привольно, и велик выбор касаний, и есть место для самого сложного орнамента. Потому сок листьев подобен лаве и кровь наша подобна лаве.
Второй. А теперь я спрашиваю тебя. Спрашиваю: еще когда я был мальчонкой в короткой рубашке, мой мудрый и многоопытный дед поведал мне историю бога неба Этрэ, который полюбил смертную Од и в час, когда неотвратимый Рок взял ее душу, из дыхания любимой создал воздух, из ее крови — лаву, из костей — твердые камни. Ты же рассказываешь мне сказку о невидимых тонюсеньких стебельках. Как тебя понять: боги и есть стебельки или боги связали мир из стебельков, цепляя крючочек за крючочек, как старухи вяжут перчатки для своих зябких рук?
Первый. Отвечаю: и я, будучи мальчонкой в коротенькой рубашке, от своего деда слышал истории о любвеобильном боге Этрэ. Но дед мой сам не видел бога, он только слышал песни Этриады от своего деда. Дед мой резал тростник у канала, бог Этрэ ни разу не помог ему резать. Отец ковал мечи от детства и до старости, бог Этрэ ни разу не взмахнул молотом. Я учился искусству чтения книг, бог Этрэ не подсказал мне ни единой буквы. Мы вынуждены без помощи богов добывать хлеб, ковать и читать по своему разумению. Своим разумением нам нужно понять воздух, лаву и камень, чтобы разумно применять ковкость руды, и жар лавы, и дыхание воздуха в кузнечных мехах. Боги нам не помогают. Возможно, мы мелки для их внимания… А может быть, сами они живут в пустоте, далеко-далеко от нашего стебелькового мира. Я не знаю. Я не видел богов, и не видел их мой дед и дед моего деда. Мы слышали песни.
Третий. Я спрашиваю, я спрашиваю теперь. Какая польза вопрошать слепого о красоте мира, и глухого о звучной песне, и безносого об аромате цветов? К чему слушаю я рассуждения о невидимых богах и невидимых стебелечках, сцепляющихся так и этак? Ты не видел стебелечков и богов, я их не видел, и он не видел. Слепой спорит со слепым о картинах. Ты не знаешь, он не знает, я не знаю. Но знаю хотя бы, как мало я знаю. Ученики требуют: «Учитель, объясни нам все». Я говорю: «Прежде чем познать все, познайте хотя бы себя. Что есть добро и что есть зло для вас? Что есть веселье и что есть тоска? Что есть чувство и что есть мысль, дружба, ненависть и любовь?» Но отвечают ученики: «Учитель, дай сразу ответ, потому что нам некогда думать. Сегодня мы принимаем важного гостя. Он любит соус из жирных почек молодого кнэ, и надо бежать на рынок, чтобы найти почки послаще. Если же соус будет плох, важный гость отдаст сопернику прибыльный откуп и отец не сможет дать сестре достойное приданое. И соседки в храме скажут: «Э-э, стыдно твоему отцу!» Угощение, гость, прибыль, приданое, пересуды! Суета сует и всяческая суета! Умеренный мудрец богаче жадного богача. Свободен тот, кто ничего не добивался. Легко идти тому, у кого нет ноши. Сбросьте ношу мирской суеты! Миска толченых листьев и кувшин алюминиевого сока — вот все, что тебе необходимо. А миску и кувшин тебе уделит любой бедняк.
Первый. Спрашиваю. Если твой совет примут все до единого огнеупорийцы, все удалятся в пустыню, чтобы познать себя, кто станет делать кувшины и миски из остуженной лавы, кто будет сажать ростки и срезать стебли, чтобы наполнить миски, и выжимать сладкий сок из стеблей, чтобы наполнить кувшины? И не умрут ли познающие себя в тщетном ожидании пищи и питья? Спрашиваю.
Второй. Я отвечаю на твой вопрос, о вопрошающий. Боги, в которых ты сомневаешься, существуют и мудры. Мудрость смертного в том и состоит, чтобы понять их божественные намерения. Боги недаром создали огнеупорийцев различными, мужами и женами, господами и рабами, богатыми и бедными, умными и глупыми. «Познай себя» — сказано не всем, а тем, кто рожден для познания, — философам. Философы познают себя, свое счастье и счастье каждого, каждому укажут достойное и разумное место в жизни. Земледельцам отведут поля, достаточные для прокормления и податей. Незрелым юношам и девушкам определят сроки для вступления в брак и подыщут достойных спутников. И благословят боги мир, управляющий законами разума…
Философы спорили долго: ни вопросами, ни ответами друг друга убедить не могли. Все равно я был в восхищении. Этот огненный мир все время дарил мне приятные неожиданности. Опаленная пустыня — и вдруг растения. Никаких животных — и разумные жители. Примитивное ручное земледелие — и философия. Пускай тоже примитивная, какая-то первоначальная атомистика со стебельками, первобытная этика: добро, зло, самопознание, архаическая утопия — проект государства с философами во главе. Первобытные, но все же мудрецы — существа, рассуждающие о сути вещей, с ними разговаривать можно.
Вопрос о том, как разговаривать? Как войти в контакт?
Начинаются терзания астродипломата.
Явиться в естественном виде? Честно представиться звездным послом? Наверное, сама мысль о звездных посланцах непонятна здесь. Ведь небесных светил они не видят сквозь свою непрозрачную атмосферу. Еще испугаются, падут ниц, примут за этого самого любвеобильного бога Этрэ. Нет, гипномаска необходима. Явиться в маске ученика? Но у них ученики не беседуют на равных, только безропотно царапают. А если меня спросят о чем-нибудь? Я же попаду впросак тут же. Нет, лучше маска чужеземца, тогда ошибки можно оправдать незнанием местных обычаев и языка. Используем опыт Граве: он тоже явился ко мне в гостиницу под личиной приезжего. Еще темп труден, неистовый темп их речи. Мне для краткого ответа нужна минута, в их восприятии это четверть часа. Хватит ли у моих собеседников терпения, чтобы дожидаться ответа четверть часа?
Так и этак я прикидывал, разрабатывал сценарий своего явления огнеупорным. Но решил за меня случай.
Сидя в своей норе с наушниками, подсоединенными к киберпереводчику, я услышал дикие вопли: «Лфэ, лфэ!» Я уже знал, что так называются крылатые хищники, кошмар огнеупорных детей. Выглянул из укрытия. Прямо на меня плыли по воздуху два черных ромба с алым колесом между ними. Потом я узнал, что лфэ всегда нападают парой, одному не под силу утащить крупную добычу. Тогда я ничего не успел подумать, вообще я не успевал думать в этом суматошном мире. Вскинул лазер, полоснул лучом по одному из ромбов. Лишенный крыла, лфэ отвалился с воем. Другой выпустил добычу, перевернулся турманом, закружился с тоскливыми криками над раненым. Охотясь вдвоем, лфэ сохраняли редкостную супружескую верность, все равно в одиночку — гибель от голода. Рассуждать было некогда, я раскроил лучом и второго. Четыре половинки двух лфэ и потерявшая сознание жертва свалились возле моей норы. Обретя смелость, воины бежали ко мне, потрясая копьями. Я едва успел включить гипномаску: «Я огнеупорец, я такой же, как они, только на куртке узор другой — не полосы, а клетки».
Набежали. Несколько секунд я ничего не мог разобрать. Что-то сверкало, мелькало, вопило. Кажется, эти жгучие твари скакали вокруг поверженных хищников, и каждый хотел воткнуть в их тело копье. Они воображали, что убивают лфэ. Кто-то благодарил меня, обнимал за плечи, обнимал колени; скафандр они обнимали на самом деле. Кажется, тут был отец спасенной, он тут же предложил в жены эту девицу. Я поежился, представив себе раскаленные поцелуи.
«Пировать, пировать! — разобрал я. — Пир на весь мир!»
Мы построились торжественной процессией и двинулись вдоль лавового потока. Впереди катились на своих подушках воины, надев на копья головы лфэ, за ними жнецы тащили на плащах разрубленные на куски туши, истекающие серебристым алюминием… Я мчался рядом, изо всех сил внушая, что я чужеземец в клетчатой куртке.
Путь был краткий. Еще бы! Огнеупорные на ходу развивали скорость хорошего мотоцикла. Не дойдя до города, мы свернули в лощинку, где прятались покатые каплеобразные бугры — обычная форма здешних жилищ. От архитектуры в Огнеупории требовалась в первую очередь обтекаемость: поменьше сопротивления урагану. В самый большой из бугров, похожий на кита, погрузившегося в песок, завернула вся наша процессия. По пандусу мы скатились в землянку, очень длинную и всю заставленную неровными столбами. Нет, это был не храм, а харчевня. Копьеносцы торжественно понесли лфэ на кухню, прочие заполнили своими телами цилиндрические ступы, расставленные вокруг стола, видимо, местные стулья. Мне ступа была мала, я сел на нее верхом и внушил, что сижу внутри как полагается.
Мясо варилось, мы ожидали. Заполняя паузу, слово взял самый толстый из огнеупорцев (я поспешно включил перевод). Многословно, с бесконечными повторами он начал благодарить бога Этрэ за то, что он (бог!) спас девушку от страшных лфэ, послав чужеземца (бог послал, оказывается), укрепив его руку и направив копье. И произошло это своевременно только потому, что бог услышал высококвалифицированные просьбы оратора, опытнейшего специалиста по небесным прошениям. И за все это бога нужно славить, а оратора угощать лучшими кусками не только сегодня, но и всегда.
Пока этот болтун примазывался к моему лазеру, другие сидели смирно, а я рассматривал их лица, малиново-красные, цвета кипящего варенья. Некоторые казались смышлеными, большинство — терпеливо-тупыми. Но я не уверен, что их мимические мышцы соответствовали нашим. Изредка соседи переговаривались шепотом, к счастью, мой кибер успевал улавливать шепот и переводить. Реплики были такие: «Как же, как же, упрашивал ты бога, старый трепач, улепетывал всех быстрее», или же: «Много помогают твои моления, в эту жатву троих унесли проклятые лфэ». Но чаще замечания относились не к существу, а к объему речи: «Скоро ли кончит? Есть хочется неимоверно». И еще было: «Опять почки заберет, а нам кости глодать. Почки раз в жизни пробовал, в детстве».
Наконец жрец кончил. Повара принесли раскаленное мясо, разлили по кубкам расплавленный металл с какими-то порошками. Все выпили разом. Я внушил им, что осушил свое питье до дна, и вызвал громкое одобрение. После питья речь стала несвязной, рассуждения менее четкими. Но настроение улучшилось, каждый был доволен, хвалил повара, жреца, мир и самого себя. А всех пуще хвалился рыжий и ражий боец-копьеносец, который в поле дольше всех тыкал копьем в тела рассеченных лфэ. Покрывая гул своим трубным голосом, он рассказывал, как он ловко нацелился копьем в шею, как запищал и забился свирепый зверь (половинка зверя). Силачу вторил его сосед, тощенький и вертлявый, вероятно, прихлебатель бойца. Вдвоем они видоизменяли историю: после второго кубка я узнал, что лфэ вдвоем напали на чужеземца и бедняга изнемогал в неравной борьбе, с трудом отгоняя их палкой, но могучий воин поспешил на помощь чужеземцу и поразил хищников своим длинным копьем. Этот вариант вдохновил одного из сотрапезников, унылого на вид (я уже начал различать их постепенно). Унылый вытащил инструмент, состоящий из множества трубочек, и стал импровизировать, сопровождая мелодекламацию оглушительным, уши режущим свистом. Речь шла о доблести блистательного бога Этрэ, который сражался с демонами ради любви блистательной Од, и о том, как прекрасны обаятельные сборщицы, жнущие прекрасно-черные листья, и как прекрасны доблестные защитники этих сборщиц, спасающие их из когтей прекрасных в своей свирепости лфэ. Он пел и свистел, другие аккомпанировали ему, стуча базальтовыми кружками, и тоже горланили о том, как прекрасны мир, бог, девицы, бойцы, певцы и песни. Впрочем, был один, который не горланил со всеми. При общем шуме он пробрался, я бы сказал, метнулся ко мне.
— Слушай, чужак, покажи мне твое копье, — попросил он. — Я сам кузнец из кузнецов, тысячи лезвий вышло из-под моего молота, но такого, чтобы разрубало лфэ на лету, я не видал никогда.
— Дай подумать, — ответил за меня кибер. Такую я изобрел уловку, чтобы оправдать паузу перед ответом. «Дай подумать», — пискнул кибер, а я продиктовал гипномаске: «Обычное копье покажи».
— Обыкновенное, — сказал кузнец разочарованно. — В чем же хитрость? С виду ты не великан, копье как у всех.
Как объяснить ему принцип лазера? И надо ли объяснять?
— Все дело в обработке, — сказал я.
— Слово надо знать волшебное, заговорную молитву, — вмешался Жрец, услышавший наш разговор.
Кузнец, недовольно оглянувшись, понизил голос:
— Откровенно говоря, чужак, не помогают в нашем кузнечном деле заговорные слова. Есть секреты в шихте, есть секреты дутья, и секреты ковки, и секреты закалки. Полжизни отдал бы я, чужак, за секреты твоих мастеров.
— Дай подумаю, — пробормотал кибер. А я добавил:
— И жизни не хватит. И трех твоих жизней не хватит.
— А страна твоя далеко? Дорогу я одолею?
— Дай подумаю. Нет, не одолеешь, Кузнец. Хоть и молодой ты, а жизни твоей не хватит.
— Странные слова говоришь ты, Долгодумающий. Почему же я не одолею, если ты одолел?
Но тут разговор изменил направление. Рыжий боец и его товарищ (Хитрецом я его назвал мысленно) шумно требовали еще хмельной лавы за счет отца спасенной девушки, самого робкого, самого тщедушного и самого отуманенного из всех огнеупорных.
— А велика ли мне радость от этого спасения? — мямлил Отец (для слушателей мямлил, для меня тараторил). — Всю истерзал проклятый лфэ, калекой сделал на всю жизнь. Кто ее замуж возьмет такую, в шрамах? Уж лучше бы бог прибрал ее сразу, чем оставил родителям обузой, младшим братьям-сестрам объедалой. Ведь порции-то на нее господин не выделит.
Тут все встрепенулись.
— Да уж, господин своего не упустит. Зачем ему больная? Здоровую взял бы в охотку.
— Наших девок берет. Нашу силушку выматывает. А стариков на свалку.
— В вашей стороне, чужак, господа такие же?
— Слова не скажи поперек. Тут же кнутом.
— Будто нам не больно. Будто мы не живые.
— Его бог сильнее наших богов, — разъяснил Жрец. — Уж как мы молились, какие жертвы возжигали. Все напрасно. Всех нас повязали, забрали в плен. Тут ничего не поделаешь. Рок. Воля богов.
— Боги оплошали, а нам терпеть.
И тут я не выдержал, презрел наставления астродипломатии. Впервые я вплотную столкнулся с тем, что никак не мог понять на уроках земной истории — с удивительным и возмутительным долготерпением угнетенных: рабов, крепостных, фабричных. Почему терпят, почему подчиняются безропотно? Из трусости?
— Так ушли бы куда глаза глядят, — сказал я. — Кругом простор. Разве найдут вас в пустыне?
Я ожидал, что мне скажут робко: «У господ сила, у них стража, догонят, вернут». Ожидал, что сошлются на лфэ, приготовился спорить, стыдить их. Позор: их унижают, бьют, а они терпят, только языком болтают, жмутся к своим норам. По привычке, что ли? О, эта подлая инерция, покорная леность мысли! Терпеть легче, чем подумать, тысяча шагов в затылок предкам предпочтительнее одного самостоятельного шага в сторонку.
Отец мне ответил, самый робкий и приземленный:
— Уйти в пустыню можно. Что есть и пить в пустыне? У меня девять душ, все рты разевают. Тут хотя бы впроголодь, хотя бы половина выживет. А уйдешь в пустыню, похоронишь всех девятерых.
Вот что держит их в рабстве — кормежка! Про еду забыл я, уроженец мира всесильной техники, эпохи многих тысяч профессий. Упустил из виду, что в Огнеупории известен один-единственный способ добычи пищи: земледелие на откосах, освещенных лавой. Желудок держит в рабстве прочнее цепей и плетей.
— Могила страшнее кнута, — вздохнул Отец.
— Но вас больше, вы сила, — настаивал я. — У них копья, и у вас копья. — И рассказал наш земной исторический анекдот про римских сенаторов, которые побоялись дать рабам особую одежду… чтобы рабы не увидели, как их много в Риме.
Слова упали на благодатную почву. Ражий боец схватился за оружие. Певец крикнул:
— Да здравствует священный бунт!
— А ты со своим копьем поможешь нам, Медлительный? — спросил Кузнец.
— Дай подумать. — Вот именно, надо подумать. Устав астродипломатии категорически запрещает космонавту принимать участие во внутрипланетных войнах, как бы очевидна ни представлялась справедливость одной стороны. Нельзя оставлять воспоминание, что ты, небесный гость, приносил с собой смерть, погубил сто или тысячу местных уроженцев. Авторитет астродипломата не должен строиться на страхе. «Подумать дай!»
Но думать было некогда. Вдруг Кузнец толкнул меня что есть силы. Падая со своей тумбы, я увидел толпу солдат, ворвавшихся в двери, и успел скомандовать гипномаске: «Я пол, я рыхлый песок со следами тумб и ногоподушек». Гипномаска сделала меня невидимкой, позволила отползти, потом перебраться на полки с кружками. «Я стена, я темно-серый шероховатый базальт с черными крапинками».
Видимо, Жрец предал нас — апологет покорности и надежд на потусторонние силы. Видя, что боги господина медлят, он призвал стражу. Оттеснив толпу в один угол, воины в блестящих шлемах вроде пожарных касок бегали по залу, крича:
— Где он, где вонючий чужак в клетчатых заплатах? Сейчас мы проткнем его тухлое пузо. — Напрасная похвальба. Они меня не видели, а если бы и увидели, все равно не пробили бы стеклоэластик. Потом я услышал:
— Всех забрать в подвал! — Офицер, доказывая свое усердие, решил арестовать побольше, хотя бы и невиновных, поскольку главный подстрекатель ускользнул. Я так и представил себе, как он докладывает «господину»: «Бунт подавлен в зародыше, бунтовщики схвачены, а колдун вынужден был провалиться сквозь землю».
Для меня, Медлительного, все совершалось мгновенно в этом пылком мире. Едва я услышал слова кибера о подвале, глядь, зал опустел. Только опрокинутые ступы и битые кружки напоминали о происшествии. Да у дверей колесом каталась огневичка, причитая: «Убьют моего желанного, отсекут кудрявую головушку».
Из причитаний я понял еще, что рабовладельцы обычно не медлят с казнями, совершают их в ближайший же день, завтра по их счету, а по моему — часа через полтора.
Дай подумать!
Заварил я кашу, теперь расхлебывать надо.
Конечно, не надо преувеличивать мою роль, считать, что я один виноват. Бунтовщики идут за подстрекателем, когда им самим невмоготу. От хорошей жизни никто не бунтует. Но все-таки и я вложил свою лепту, сказал слова против терпения, поселил надежду на помощь моего лазера. И вот результат — их казнят завтра. Хочешь — не хочешь, надо действовать.
Справедлив параграф первый: «Наблюдай скрытно…»
Надо действовать, но как? Ну, узников я освобожу, разрежу стены лучом. Может быть, придется рассечь и нескольких тюремщиков. Да, потом я буду отвечать за нарушение Космического Устава. Ну и пусть отчитывают, пусть наказывают, тут дело о смерти идет. Заключенных я выручу. Но дальше что? Господа помчатся за помощью в Город. Оттуда пошлют большое войско, это уже целая война, тысячи и тысячи убитых. И смогу ли я обеспечить победу с одним-единственным лазером? Нет, нет, войну я не должен затевать, не имею на это права. Побег приговоренных к казни — вот предел моего самоуправства. Но куда они побегут? Желудок пуповиной привязывает их к лаве, к берегу…
И вдруг у меня мелькнуло: на самом-то деле, в пустыне тоже есть лава. Она скрыта под каменной коркой, но толщина покрова всего лишь несколько десятков метров. Прорежу я колодец своим лазером? Может быть, и нет. Но вот простое решение — корку можно продавить тяжестью: навалить на нее гору камней, кора треснет, и лава пробьется наружу. Какого размера делать гору? Вероятно, в несколько десятков метров, едва ли есть большой запас прочности у этого природного свода. Итак, вот в чем моя задача: освободить смертников, увести их в пустыню и научить там добывать лаву, возводя каменные холмы. План составлен. Вперед, на штурм Бастилии! Хорошо бы, не слишком много пришлось убивать.
А час спустя я уже шагал по пустыне во главе каравана освобожденных узников, беглых рабов, их жен, детей и престарелых родителей, домашних кнэ, повозок, тележек и всяческого барахла.
Друг мой, терпеливый читатель, горячо желаю тебе никогда в жизни не оказаться в незавидной роли пророка. Верующие тяжкий народ: они послушны, лестно-восторженны, но беспомощны, слабодушны и требовательны необыкновенно, требовательны, как юная жена. «Я твоя, — говорит влюбленная, — я пойду за тобой на край света». Но подразумевает: «Неси меня на руках в свой дворец, что на краю света, сдувай с меня пылинки, ублажай, угадывай желания, предупреждай капризы».
«Мы твои, — говорят обращенные. — Веди нас хоть на край света!» Но подразумевают: «Неси нас в свои райские кущи, корми молоком и медом, охраняй, обеспечивай, ублажай!» Почему неси? За что ублажай? «А за то, что мы в тебя поверили и верой оплатили всё. Не желаешь ублажать? Тогда будем роптать. Перестанем тебе поклоняться, назовем лжепророком, побьем камнями».
Допустим, я был виноват, подстрекал их к бунту, навлек неприятности. Но даже если я был виноват немножечко, свою вину я искупил: выручил смертников из тюрьмы, жизнь им спас. Мало! Мало, что спас жизнь, помоги сохранить! Советую спрятаться в пустыне. Но там нет лавы, нет растений, что мы будем кушать и пить? «Хорошо, я вас научу доставать лаву в пустыне». — «Ура! Веди нас хоть на край света!» Веди, охраняй, корми, обеспечивай!?
Так я, неопытный астродипломат, без диплома даже, стал пророком, а также вождем, проводником, генералом, целителем и заодно интендантом-снабженцем по части еды, питья, фуража, транспорта, топлива, жилья, одежды, оружия и всего на свете.
Лаву можно было достать в Огнеупории где угодно, даже под стенами тюрьмы. Но безопасности ради я посоветовал углубиться в пустыню, отойти от Города хотя бы километров на триста. Огнеупорные согласились. Пошли. Но устали через десять минут (по моему счету). И начали роптать. Захотели есть. Роптали. И ветер застал их в пути. Роптали. Роптали, когда было холодно. Роптали, когда было сухо и знойно. Лфэ нападали на отставших. Роптали на меня: «Почему не прогнал всех лфэ пустыни?» Старики болели и умирали. «Почему я завел их так далеко от могил предков?» Молодые любили и женились. «Почему я завел их в пустыню, где свадьбу нельзя сыграть, как положено: позвать гостей, поставить угощение?» Рождались дети. Почему в пустыне? Матери роптали. На кого? На меня. И подстрекали отцов хвататься за камни, побить камнями лжепророка. А многие повернули назад к господину, в рабство. Сказали: «Не всех же он казнит. Повинную голову и меч не сечет. Поучит маленько кнутом, потешит душу и успокоится. Зато позволит жить в своей хижине, накормит кое-как, хоть и не досыта, а с голоду не умрешь».
Конечно, господин того селения и прочие господа из Города организовали погоню, захотели вернуть непокорную рабочую силу. Даже мне стало страшновато, когда я увидел тысячное войско, щетину копий, огненный строй щитов и шлемов. Как я оградил свою паству? Все той же гипномаской. «Я пропасть, непроходимая пропасть, края обрывистые, стены отвесные, в глубине черным-черно». Забавно было смотреть, как свирепые воины стояли посреди ровного поля, потрясали копьями, слали проклятия… и с опаской смотрели себе под ноги, где ничего не было, ровно ничего!
Один раз для разнообразия вместо пропасти я заказал маске поток лавы. «Я лава, я светлая лава, соломенно-желтая, ослепительно сверкающая, я освещаю скалы, я грохочу, я плыву, переворачивая камни». Некоторых воинов в суматохе столкнули в эту мнимую лаву. Они дико вопили от воображаемых ожогов. И ожоги действительно появлялись. Еще один грех на моей совести!
Итак, от погони маска избавила нас. Накормить, увы, не могла. Пробовал я расставить воображаемые столы в пустыне, угостить свою команду воображаемым хлебом. Жевали, чавкали, смаковали, благодарили, вставали из-за столов рыгая. Говорили, что живот набит, больше не влезет ни крошки. Сыты были воображаемым хлебом, но силы он не давал. После двух-трех обманных трапез мои спутники начали падать от бессилия. Пришлось позаботиться о еде всерьез. Я организовал отряды фуражиров и, ограждая их гипномаской, совершил налет на берега канала, обобрал все несжатые огороды.
Углубившись в пустыню километров на триста, я выбрал долинку, где кора была потоньше; даже без сейсмографа нашел ее. Ведь кора прогревалась изнутри, была горячее и светлее в самых тонких местах. Сразу в глаза бросались оранжеватые и алые пятна на общем вишневом фоне равнины. На одном из оранжеватых пятен я велел складывать каменный холм. Таскали усердно, грех жаловаться. Таскал ражий Боец и таскал Хитрец, его приятель, этот старался взять ношу полегче. Таскал безответный трудяга Отец и все другие отцы, матери и дети даже. Кузнец таскал увесистые глыбы и все старался придумать разные рычаги и волокуши для облегчения дела. Толковый малый был этот Кузнец. И Певец таскал по силе возможности, а в перерывах брался за свои свистки и пел о том, как бог Этрэ строил дворец для своей возлюбленной Од. Труд прославлял по-своему.
Таскали все. Но роптали. Уставали и роптали. Голодали и роптали. А матери подзуживали отцов и требовали лаву сию же секунду. Впрочем, их можно понять, у них детишки кричали криком, есть просили по три раза в день. Напрасно я объяснял, что холм еще не дошел до проектной отметки. Они рассуждали по-своему: «Если ты пророк и чародей, не считайся с проектными отметками». — «Я не пророк, я астродипломат», — пытался признаться я. Но они хотели пророка и требовали, чтобы я был пророком.
— Покажи нам лаву, Астралат! — кричали они. — Где лава? Может, ее и нет вообще?
И Жрец (он тоже увязался за нами, я так и не понял для чего. Камней не носил, а за стол садился первый) нашептывал труженикам:
— Астралат — лжепророк. Он завел вас в пустыню, чтобы погубить. Побьем камнями лжепророка.
В конце концов они взялись-таки за камни.
Катастрофа была причиной.
Ведь строили мы вручную. Атомной техники не было при мне, да я и не пустил бы ее в ход. Важно было научить огнеупорцев доставать лаву в пустыне, а не достать один раз. Итак, мы таскали камни на горбу, подбирали подходящие по размеру, щели затыкали щебенкой. Тесать и сглаживать плиты не было смысла, на это ушли бы годы. Естественно, примитивная наша кладка держалась на честном слове, а честное слово не котируется в технике безопасности. И один из откосов рухнул, каменная лавина ринулась на лагерь, погребла и изуродовала несколько десятков огнеупорцев. Женщинам, старикам и детям достается в таких случаях больше всего: самым слабым и неповоротливым.
Как они выглядели, эти раздавленные! И сейчас мутит, как вспомню.
Раздавлены! Изуродованы! А где был пророк? Почему не остановил лавину? Значит, лжепророк.
Жрец сказал: бог Этрэ недоволен нечестивым делом. Он создал океан для жизни, а пустыню для смерти, так было испокон веков. Вот он покарал ослушников, тщеславных и суемудрых нарушителей его закона. Это предупреждение свыше. Все будут побиты камнями… если мы не побьем лжепророка.
И обезумевшие от горя родные убитых взялись за камни.
Гипномаска. Срочно!
«Я груда камней, груда камней, спекшихся кусков туфа с черточками от ломов на боках. Я груда камней, присыпанных щебенкой и пылью. Я туф, туф, туф, никакого Астралата нет здесь».
Опустили руки, глядят растерянно. Хорошо, что отвел им глаза. Могли разбить гипномаску камнями, тогда не скроешься.
Тут я мог бы спокойно удрать, но совесть не позволила. Несмышленыши эти огнеупорные, что с них спрашивать? Если ребенок выплюнул на тебя горькое лекарство, нельзя же прекратить лечение обидевшись. Ну, покинул бы я эту толпу, а дальше что? Тысячи разочарованных побредут назад в рабство, деваться им больше некуда. Триста километров через пустыню, половина вообще не дойдет, погибнет от жажды, сложит головы вдоль пути. Половина оставшихся сложит головы на плахе. Господам надо же будет отпраздновать победу. Прочим наденут ошейники и до конца жизни будут напоминать кнутом о побеге. Тысячи мертвых и тысячи несчастных — великовато наказание за несостоявшееся избиение одного пророка.
И, подождав, пока остывшие и унылые огнеупорцы начнут увязывать свой скарб, я снова явился к ним в привычном образе чужеземца в клетчатом плаще.
— Три дня! — сказал я. — Дайте мне три дня, и лава придет.
Классические три дня срока, как в старой сказке.
Нет, я совсем не был уверен, что все будет завершено именно в три дня. Но расчетную высоту мы уже набрали. Из-под земли слышался гул и грохот; возможно, кора начинала лопаться. И холм стал заметно оседать. Вероятнее всего, неравномерным оседанием и была вызвана катастрофа.
По-видимому, огнеупорцы и сами страшились возвращения. Они легко согласились на отсрочку, с охотой взялись за волокуши. И чтобы ускорить дело, я пошел по периметру с лазером, подрезая грунт там, где слышался подземный гул. Резал базальт у подножия, а мои последователи с песнопениями волокли камни наверх. В песнях они просили бога Этрэ не гневаться, разрешить им добывать жизненно необходимую лаву в его пустыне.
И древний бог Этрэ не сумел совладать с законами сопротивления материалов. В надлежащий момент напряжения сдвига превзошли предел прочности, основание холма отслоилось, все наше сооружение начало погружаться, тонуть, словно пароход с пробитым днищем. А у бортов его, там, где я ослабил кору разрезами, прорвалась лава, сверкающая, светоносная, брызнув алым сиянием на мутно-багровые тучи. Бурая ночь превратилась в оранжевый день. При всеобщем ликовании в пустыне родилось вулканическое озеро. По понятиям огнеупорцев — родилась жизнь.
— Это ты сделал лаву, Неторопливо Думающий? — спросил любопытный Кузнец. — Как ты делаешь лаву в глубине?
— Я не сделал. Она была там всегда.
— Откуда она взялась?
Как я мог объяснить ему? Рассказать о подлинных размерах его планеты, изложить закон тяготения, сообщить, что тяготение рождает давление и при таком-то давлении начинаются ядерные реакции, выделяющие столько-то тепла, достаточного для расплавления всего мира. И поведать еще, что вокруг них ледяное космическое пространство; в результате с поверхности идет утечка тепла и образуется корка, как бы пенка на остывающем молоке, которую мы и продавили тяжестью холма. Мог я все это объяснять? Мог он это понять?
— Всегда была лава, — сказал я.
— Почему жрецы не знали о ней? Почему бог Этрэ не сказал им? Наверное, не было все-таки лавы, ты сам ее сделал.
— Не я, а ядерная энергия.
— Ядрэ-Нерэ — это твой бог?
Вот поговорите с ними. И это еще был самый толковый. Так у них были настроены мозги, чтобы непонятное объяснять вмешательством бога. Смертным доступно только продолжение по прямой линии, а все перемены и повороты от богов. Ветер подул — от бога, ребенок родился — от бога, умер старик — от бога. Лава появилась в пустыне — явно от бога.
Но в мою задачу не входило читать курс естествознания. Я сам сдавал экзамен. И так задержался на столько дней. Давно пора было менять фильтры в скафандре. Воздух стал затхлым и кислым, я дышал с трудом. А мне еще надо было добраться до ракеты, проверить ее, стартовать… Так что, улучив минуту, как только утихло ликование, я собрал свою паству и произнес прощальную речь. Убеждал жить в мире и дружбе, не жадничать, не ссориться…
— Вы же видите, места хватает, — твердил я. — Пустыня. Ничья земля. Берите ее, добывайте лаву, орошайте и владейте.
Некоторые плакали, просили:
— Останься с нами, не покидай! Мы пропадем без тебя.
Увы, и я пропал бы в своем скафандре, если бы остался на несколько дней.
— Не могу. Долг призывает, — уверял я.
— Долг — это твой бог? Кто сильнее — Долг или Ядрэ-Нерэ?
Хитрец спросил:
— А если я на той горке добуду лаву, чья она будет? Моя собственная?
— Если один добудешь, твоя собственная. Но едва ли ты сумеешь в одиночку сложить холм нужной высоты. На горке тем более. Думать головой надо. Ведь под горкой кора толще. Гряды складывайте в низине, где грунт теплый и светится слегка. Там легче продавить.
Они все спрашивали и упрашивали меня, окружив тесным кольцом. Не было возможности удалиться неприметно, хотя бы придумать гипномаску поубедительнее. В конце концов я крикнул: «Прощайте!», помахал рукой моим огневым друзьям, нажал стартовые кнопки. Мелькнули удивленные лица, руки, воздетые к небу, сверкающее кольцо рождающегося озера, холм, погружающийся в лаву. Потом набежали тучи, все затянуло багровым туманом. Вверх, верх! Прошивая винты вихрей, я стремился к небу. Постепенно багровое редело, тускнело. И вот проглянуло черное небо. И звезды. Просторный космос. И в наушниках раздались, прорывая щелканье помех, позывные базы зафонового перемещения.
Жалко было покинутых огнеупорцев… и некогда жалеть. Я срочно включился в космические заботы: позывные, пеленг, моя орбита, орбита базы, траектория, сближение, торможение…
И вот, сняв пропотевший скафандр, я сижу в ванне. Вода горячая, вода холодная на выбор, душ водяной, душ смолистый, душ ионизирующий, душ сухой. Сходит пот, грязь и усталость, напряжение всех этих дней. В буфете цветные кнопки автоматической кухни, стерильная белизна, аппетитные запахи. Жую сочный бифштекс, перебираю воспоминания и сам себе не верю.
Полно, существует ли это пекло с изнывающими от голода грешниками, важными господами, кнутами, плахами? И я сам был там два часа назад? Не верится!
Но против буфета круглое окно в космос. И там висит — не сходя с места, вижу — мрачный шар цвета запекшейся крови. Значит, не сон. А справа от меня цветные двери кабин с надписью: «Межзвездная ретрансляция». Туда я войду сейчас, наберу заветные цифры… и окажусь в высококультурном будущем. Сейчас окажусь, только кофе допью.
Как будто пяти минут не прошло. Сидят мои профессора за той же кафедрой. Лирик чай пьет, позванивая ложечкой, Техник курит и морщится, поглядывая на потолок. На лице у него написано: «Мученик я. Знаю, что студент будет нести ахинею, но слушать обязан».
— Докладывайте, — говорит Граве.
Начинаю со всеми подробностями. Рассказываю, как вышел из межзвездной кабины, увидел круг цвета запекшейся крови…
Граве прерывает меня:
— Детали не требуются. Мы следили за вашими действиями.
Следили? Так я и поверил, что все эти дни они смотрели на экран. Впрочем, не мое дело поправлять экзаменаторов.
— Сформулируйте ваши выводы четко, — требует Техник.
— Девиз астродипломата: пойми, помоги… потом проси, — выпаливаю я. — Что я понял, во-первых? Планету 2249 населяют сапиенсы с достаточно развитым мозгом. Они способны мыслить даже отвлеченно: о природе вещества, о происхождении мира. Правда, мыслят у них единицы. Подавляющее большинство порабощено, голодает, с трудом поддерживает свою жизнь, умственные силы рабов направлены только на самосохранение и пропитание. Они не имеют возможности, даже не склонны думать о ненужном.
Как я им помог? Показал, что пищу можно добывать повсеместно, облегчил труд, освободил время для размышлений и саморазвития. Думаю, что через несколько поколений наши космонавты найдут в Огнеупории зрелую цивилизацию, с которой возможно будет вести переговоры. Ждать долго не потребуется, поскольку темп жизни там в пятнадцать раз выше вашего.
Но пока вести переговоры не имело смысла. Современные огнеупорцы не мыслят в масштабе планеты, вообще не знают, что живут в космосе. Все выходящее за рамки обыденности они приписывают сверхъестественным существам. Либо они примут вас за богов и подчинятся, подавленные страхом, либо примут за лжебогов и попытаются побить камнями. Дайте им время для саморазвития.
— Это ваш окончательный вывод? — спрашивает Техник.
— Да, окончательный.
— Ну что ж, — говорит Техник. — Возможно, вы правы, а может, и не правы. Наука ничего не принимает на веру. Отправляйтесь туда еще раз, убедитесь, что ваш вывод правилен, и вступайте в переговоры. Пожалуйста, в ту же зеленую кабину.
— Сейчас отправляться? — Я недоумеваю.
— Если вы очень устали, можно отложить на завтра, — вступает Граве. — Но у нас не принято прерывать экзамен. Вы же сами не хотели поблажек.
— Я сказал, что надо пропустить несколько поколений. Это примерно десять лет наших.
— Мы поняли. Идите.
Они поняли, но я не понимаю чего-то. Впрочем, на экзаменах не спорят. Лучше промолчать, чем обнаружить свое невежество. Возможно, они умеют как-то складывать время гармошкой. Если так принято, значит, принято. Не без удивления чувствую, что сил у меня достаточно. Усталость сняли, что ли? Как? Когда? Ладно, потом разузнаю.
— Есть идти, — говорю по-военному и вхожу в зеленую дверь.
Все повторяется: ввинчивание, вывинчивание, изумление, буфет слева, окно в космос справа, в окне темный круг, заслоняющий звездный бисер. Опять снижаюсь, вижу, как начинают шевелиться языки неяркого пламени, извиваются, мечутся… Я ныряю в костер, кручусь в огненном смерче, и вот она, Огнеупория.
Страна изменилась — это заметно еще до приземления. Она была красновато-шоколадной, стала пятнистой — вся усеяна светлыми крапинками. Я понял: моя наука не прошла даром. Огнеупорцы продавили кору в тысяче мест, повсюду понаделали искусственных лавовых озер, именно так, как я рекомендовал.
Когда они успели? Этого я не понимал. Мой рейд на кафедру и обратно занял часов пять-шесть. Судя же по количеству пятен, в Огнеупории поработало несколько поколений. Очевидно, я основательно ошибся в оценке темпа их жизни.
Спускаюсь к одному из озер. Вижу черный ободок — посевы на берегу, освещенном лавой. За ними в тылу бугорки. Удлиненные, обтекаемые, словно капли, стекающие по стеклу, все выстроены рядами, круглым лбом к господствующему ветру. Держу курс на ближайшие. Вот уже видны светлые точки и прыгающая козявка — кнэ, запряженный в повозку. Торможу. Толчок. Стоп! Стою на твердом грунте. Светлые пятна несутся ко мне. Скорее гипномаску: «Я глыба, ноздреватая, освещенная слева, темно-зеленая в тени, сухая, горячая на ощупь, припорошенная пылью».
Две огнеупорийки с разбегу чуть не налетают на меня. Это девушки, невесты на выданье, судя по обилию украшений, клетчатых и полосатых. Поспешно включаю киберперевод:
— Ты видела, что-то упало с неба?
— А вдруг это лфэ. Лучше убежим!
— Алат всесильный, огради нас от яростных лфэ!
— А мой совсем не боится лфэ. Он уже убил двоих.
— Молодец, если это правда. Но парни ужасные хвастуны.
— Мой никогда не хвастает. Он особенный, совсем непохож на других. Вчера он сказал мне, что…
Опять повторяется та же история: летел за тридевять световых лет, пропустил несколько поколений, слышу все те же девичьи пересуды: он сказал — я ответила. А впрочем, чему удивляться? Пока в Огнеупории будут любить, до той поры невесты не прекратят рассуждать о суженом. Любовь извечна. Труд зато извечно изменчив. Для охоты палка, копье, лук, ружье. Орудия мелькают, словно кадры в кино. Мотыга, плуг, трактор. Все это требует ума, выдумки, мастерства. Мне надо послушать, о чем говорят работники, добытчики, тогда я узнаю уровень перемен.
Я присмотрелся, как одеваются прохожие, заказал гипномаске модный покрой и расцветку и направил стопы в самый большой дом поселка — с виду очень похожий на тот Дом Хмеля, где я пировал в прошлое посещение.
Но это не был Дом хмельной лавы. Никаких столов, никаких угощений. Тумбообразные стулья стояли внутри полукруглыми рядами, а заполнявшие их огнеупорцы внимательно слушали оратора, стоявшего на пьедестале. И был этот оратор как две капли воды похож на Жреца, того, что называл меня лжепророком. Конечно, это был не он, а какой-нибудь отдаленный его потомок в пятом колене. Жрецом V назвал я его мысленно. Потом, оглядевши слушателей, я нашел среди них знакомые физиономии Бойца, Хитреца, Кузнеца и множество отцов. Видимо, фамильное сходство с предками было очень прочным в Огнеупории.
Стоя на кафедре, пятый жрец водил длинным стеблем по картинам, грубо намалеванным на стенах, и заунывным голосом читал подписи:
— «…Но дети Всемогущего впали в ничтожество и, впустив страх в сердце свое, поклонились демонам мрака и холода, исчадиям подземелий и демону демонов Этрэ, чье имя поминать грех.
…И во гневе сказал Великий Ядрэ: «Если нет мне почета от моих созданий, уничтожу их корень, стебли и побеги. Пошлю черный холод на поля их и дома. И светлая лава станет черным камнем, и кровь в жилах станет камнем».
…Но услышал те слова Милосердный, любимый сын Ядрэ. И сказал, павши перед Вседержителем ниц: «Не спеши, отец мой, во гневе содеешь непоправимое. Велика вина сих, впавших в ничтожество. Но ты отмерил им краткую жизнь, и потому коротка их память. Прадед умирает до рождения правнука, и юнец не ведает прадеду ведомое. Разреши мне сойти в их страну, чтобы мог я напомнить забывчивым истинную истину».
…И сказал грозный Ядрэ: «Разрешаю. Но терпение мое небеспредельно. Даю тебе сроку один год. Если же за год не просветишь нечестивцев, черный холод сойдет на них и на тебя тоже».
…И сбросил с неба Неторопливого, так что пал он на крутой берег канала Гадх. И видели гадхатяне, что снисходит с неба сияние, бросились к тому сиянию, но не могли различить ничего.
…Потому что знал Алат Неторопливый, что сияние лика его невыносимо для ока смертных, и сделал себя прозрачным, как дыхание, так что жнецы и жницы смотрели сквозь него и видели травы, и камни, и тучи за его спиной.
…Но демоны подземелий ощутили, как вздрогнула земля под стопами Божественного, и, чуя неминуемую гибель, заметались в тоске. И демон демонов, чье имя произносить греховно, сказал: «Разоблачим Милосердного. Пусть явит лик свой смертным и ослепит их сиянием. И пораженные слепотой возропщут, проклянут ослепителя, Милосердного назовут Жесточайшим».
…И послал демон демонов двух своих слуг, приказал им принять облик хищных лфэ. И напали хищные на жницу из жниц, возвращающихся с песней, и понесли ее, терзая когтями и клювами.
…Но Неторопливый в словах и думах был скор на доброе дело. Он кинул молнию вдогонку и рассек тех демонов, отрубив им крылья и головы. И развалились те демоны на части, пали наземь бездыханными и жертву бездыханную уронили.
…И над телом жницы истерзанным горько рыдали отец и мать ее, сетуя, что злая судьба так рано оборвала ее молодую жизнь.
…Неторопливый же, но на добрые дела спорый, догнал душу девы, улетающую в небесные чертоги, и в тело водворил, язвы же от когтей залечил чудотворным словом».
Все это и многое другое Жрец V вычитывал нараспев, низко приседая (жест почтения) перед очередной картиной и особо перед долговязой фигурой с поднятыми руками, висящей под потолком. И слушатели в тумбах гудели нестройным хором:
— Алат Великое Сердце, перед лицом грозного Ядрэ не оставь нас в смертный час, милосердное слово молви, защити от гнева Справедливейшего.
Дошло до вас, догадливые читатели? Сразу дошло? А до меня, Неторопливого, представьте себе, дошло не сразу. Слишком нелепо было подумать, что это моя фигура подвешена к потолку, что это моя история намалевана на стенах храма, что это я — Алат Милосерднейший — сын бога Ядрэ. Астродипломат-Астралат-Алат.
Я вышел из храма, потрясенный, лелея слабую надежду, что только в этом поселке сложилась ритуальная сказка обо мне. Увы, и в другом селении, и в третьем, и за сто и за пятьсот километров, по всей Огнеупории находил я тощие фигуры, зацепившиеся руками за стропила; всюду жрецы пятого поколения, приседая и воздевая руки к космосу, воспевали мои подвиги. Я услышал целый эпос: «Песнь об Освобождении», и «Песнь Исхода», и «Песнь о Животворной Лаве». И все это было чудовищно искажено, расцвечено самой дикой фантазией. Например, мои слова о подземном тепле, порожденном ядерной энергией, излагались так:
«…И взмолился Алат Милосердный: «Отец мой Ядрэ, справедлив твой гнев, бесконечна вина забывчивых, но позволь молвить слово в их защиту, не в оправдание, а для милости.
Коротка их память, потому что коротка жизнь. И еще коротка память несчастных, потому что ум их погряз в заботах о хлебе насущном. Страна их темна, скудна и суха, великим трудом хлеб и сок добывают они возле узких потоков лавы. Сделай же так, Всесильный, чтобы животворная лава была повсеместно, дай им хлеба вволю из своих рук, чтобы за каждой трапезой вспоминали они тебя и прославляли».
…И сказал Бесконечно великий: «Да будет так! По моему божественному слову: мрак, стань огнем!»
…И стал огнем подземный мрак. Все царство демонов превратилось в лаву, и сгорели в единый миг все демоны до единого…»
Фантазия расцвечивала мою историю самым причудливым образом. Искажены были и события, и мои слова, искажены и характеры моих соратников, но с определенной тенденцией. Кузнец изображался упрямым тупицей, отцы — ленивыми притворщиками, самым же ревностным помощником назывался все время Жрец.
«…И сказал Алат: «Несите каждый по камню в честь Ядрэ Всемогущего. Там, где каменный холм воздвигнете с молениями, животворная лава покажет свой светлый лик».
…И первый камень, самый тяжелый, который никто и сдвинуть не смог бы, с молитвой принес первый Жрец.
…Отцы же, ленивые и хилые, принесли камешки полегче, только для видимости. И сказал им Алат с горечью: «За малое усердие ваше заплатят сыны ваши и дочери тройным трудом».
…Кузнец же, недоверчивый, не принес ничего. Он молвил: «От века не слыхано, чтобы лава пришла в пустыню. Изнуряет нас чужеземец пустой работой». И сел на землю, отвернув лик свой.
…И явил Алат великое чудо: палкой простой пробил землю насквозь, и брызнула лава, словно кровь, и посрамлен был Кузнец неверующий, а Жрец прославлен вовеки».
Та же тенденция возвеличивания Жреца проявлялась и в последней части эпоса — в «Песне о Вознесении».
«…И сказал Алат: «Истек срок моего пребывания в этом мире. Ядрэ ждет меня за облаками на своем летучем корабле».
…И ученики пали наземь в слезах. А Отец возопил малодушно: «Без тебя мы пропали. Лучше нам лечь живыми в могилу».
…И сказал Алат: «Все, что нужно для тела, дал вам Ядрэ щедрейший. И теперь во славу его, сложив холм в пустыне, в любом месте получите пропитание. Но не единым хлебом жив смертный. Помните о душе своей. Душа важнее бренного тела» (не упоминал я о душе, не верю в души).
…И вопросил тогда боец, воин, грубый сердцем. Сам он чинил обиды слабым и здесь опасался обид от сильных. Вопросил боец: «Что делать нам, если придут воины господина и скажут: «Это земля господина нашего, уходите прочь!»
…Алат же сказал: «Лаву ту породил Ядрэ, не господам она дана, а вам в пользование, всякому, кто достанет ее с молитвой» (право же, не говорил я про молитвы).
…Хитрец же из рода хитрецов услышал то, что ему, хитрому, было приятно. И воскликнул хитрец: «А если я достану лаву на той горке, будет ли она мне дана в пользование, мне, и никому другому?»
…И молвил Алат Справедливый: «Будет лава твоя, если, помолясь усердно, ты сложишь холм в надлежащем месте («Если ты в одиночку сможешь сложить», — сказал я на самом деле) и если будет молитва твоя угодна Ядрэ».
(Видимо, последняя добавка была лазейкой на случай неудачи. Холм сложили, лавы не получили, значит, молитва не угодна Ядрэ.)
…Кузнец же, горделиво-самонадеянный, сказал: «Ты нам лучше объясни, чужеземец, как это Ядрэ превращает холодный камень в живую лаву, и мы сами будем творить лаву где вздумается».
…И отвечал Алат Многотерпеливый: «Деяния Ядрэ смертному непостижимы. Большего не скажу, чтобы ваш слабый ум не привести в смятение».
…И Жрец, ученик наивернейший и наилюбимейший, молвил: «Каждое слово твое, Учитель, записано в нашей голове и сердце».
…Алат же вещал: «Верность ваша испытана будет. Через тысячу лет я приду снова, и с каждого спросится по словам его и делам». (Все придумано, не собирался я тогда возвращаться.)
…И тут разверзлось небо, и голос, подобный грому, прогрохотал: «Исполнился срок назначенный. Сын мой, я ожидаю тебя».
…И пали ниц ученики, содрогаясь, в страхе спрятали лица в пыли. Алат же воскликнул: «Ядрэ, отец мой, в твое лоно иду». И ввысь вознесся…
…И сказал Жрец: «Един бог Ядрэ-Нерэ. Алат — сын его и пророк».
Признаюсь, самую чуточку я был польщен. Лестно все-таки, когда с каждым твоим словом носятся, повторяют его без конца, хотя бы и перевирая. Но так ужасно перевирать: ядерная энергия, ставшая богом! И я — пророк ее! И это беспомощное, бессмысленное бормотание: «Не оставь нас в смертный час… руку протяни… защити перед ликом грозного Ядрэ».
Вообще, я как-то расплылся, рассредоточился, стал вездесущим и на все способным. Ко мне обращались с самыми несообразными, взаимно исключающими просьбами. «Алат, пошли ветер», — молил один. «Алат, прекрати ветер», — взывал другой. «Алат, пусть жена принесет мне сына». «Алат, не посылай мне детей, я устала». «Алат, пусть любимый женится на мне поскорей». «Алат, пусть ее любимый разочаруется и полюбит меня». В их глазах я стал сватом, и сводней, и акушером, и агрономом и ветродвигателем.
«Ну, допустим, — сказал я себе, — меня с каким-то основанием почитают в этой пустыне, где лава добывается по предложенному мною способу. Но ведь были, кроме того, каналы и берега океана, где каменные холмы совсем не требовались. Был Великий Город, порт, заморская торговля, ремесло, книги, переписчики книг, философы, ученики философов. Мои семена оказались бесплодными, но ученики тех учеников должны же были растить мысль».
Сотня-другая километров — не преграда для того, у кого за плечами реактивный мотор. Я пересек пятнистую Огнеупорию, отыскал знакомый поток лавы, возле которого некогда убил пару лфэ, вдоль потока пролетел до залива, увидел утесы, прикрывавшие вход в гавань. Все нашел. Но гавани не было. Ни единая лодчонка не скользила по полированному зеркалу океана. На месте бывших причалов черные стебли вели свою вечную игру с ветром, приседая и выпрямляясь. Суетливые огнеупорийки проворно срезали листья.
— Корабли не приходят сюда? — спросил я одну из них.
— Алат упаси, — ответила она. — Давно уж не было пиратов.
— А что там за океаном? Знает кто-нибудь?
— Старики говорят — там край света. И за краем пещера Ветра. Он прячется туда, когда ему надоедает дуть. И там в темных норах сидят демоны мрака, страшные-престрашные, голодные-преголодные. Когда корабль приближается, хватают его, глотают целиком с мачтами и веслами. Плавать туда? Алат упаси!
Торговой улицы не было, стен, ограждающих ее, тоже не было. Ветер съел стены за это время, только с воздуха при боковом освещении разглядел я продолговатые бугры. Выше, насколько я помнил, в низине меж двух холмов были прежде сады, ступенчатый каскад подводил к ним лаву из океана, сотни кнэ и рабов крутили колеса с черпаками. Ступени каскада я нашел, даже колеса кое-где сохранились, заброшенные, проржавевшие, ненужные… Но на месте садов ветер пересыпал пыль. И несколько десятков огнеупорцев, пыхтя и обливаясь серебристым потом, складывали кучу камней. Должно быть, собирались продавить кору «молитвенным холмом».
— Почему же вы не используете каскад и колеса? — спросил я.
И услышал в ответ:
— Алат рек: «Все необходимое я вам поведал. Большего не скажу, чтобы разум ваш не привести в смятение». В песнях не сказано о колесах, стало быть, колеса — смятение и суемудрие.
Действительно, не говорил я о колесах. Но ведь они и без меня были известны.
И вот стою я перед экзаменаторами, разоблаченный, уличенный в невежестве и несообразительности, развожу в растерянности руками:
— Не гожусь в дипломаты, извините. Два раза летал, так и не выбрал время для переговоров. В первый раз отложил и опять откладываю. Извините, ошибся, попал в мир ленивого разума. Эти огнеупорные дураки еще не доросли до мышления. Они из тех, кто крестится, когда грянет гром, только проголодавшись, хлеба достать догадаются. Жевать, спать, любить — больше им ничего не нужно. Любознательности ни на йоту, все непонятное объясняют единообразно: так устроил бог. Философы были среди них исключением, болезненным отклонением от нормы. А правило: темнота и лень. Порода такая: разум ленивый.
— Значит, вы предлагаете отказаться от сношений с этой планетой? — ледяным голосом спрашивает Техник.
— Отказаться жалко, даже нецелесообразно как-то. Планета нужна Звездному Шару. Сорок девять земных масс, можно слепить сорок девять земель или сорок тысяч искусственных спутников из этого материала. Ведь это расточительство: использовать свою планету так, как огнеупорцы. Кое-где поверхность скребут; их шахты словно булавочные уколы в кожуре, о недрах они и не помышляют. Сорок восемь масс из сорока девяти можно взять безболезненно. Конечно, раскалывать чужую планету на куски нельзя, оболочку им сохранить надо, но недра можно выкачать. Кое-что придется переделать при этом: заменить естественную гравитацию искусственной, подземный подогрев ядерным отоплением, освещение дать на огороды. Само собой разумеется, надо согласовать с хозяевами такие перемены, в обмен на сорок восемь ненужных масс преподнести им всю культуру Звездного Шара. Преподнести можно… но некому предлагать. Какой-то странный мозг у огнеупорцев. Рассуждать способны, но не любят, предпочитают верить на слово. Поверят, а потом разуверятся, проклинать будут.
— Может быть, природа этих существ такова, против природы не поспоришь. Правильно я вас понимаю? — Лирик задает вопрос.
— В том-то и дело, что мозг приспособлен к мышлению, а мыслить не хотят.
— Раньше вы иначе объясняли, — напоминает Граве.
— Иначе? Да, объяснял иначе, говорил об экономии мышления, о том, что огнеупорные не склонны думать о ненужном. Впрочем, противоречия тут нет. Экономии ради каждый размышляет о собственных делах, а общепланетные принимает на веру. Даже причина есть. Собственную жизнь огнеупорец может организовать: выбрать профессию, жену, дом построить, детей вырастить — об этом он и думает. А изменить весь строй производства не в его силах. Деды и отцы добывали хлеб, воздвигая каменные холмы, еще двадцать поколений будут добывать хлеб каменными холмами. Ничего не меняется в течение одного поколения. Даже в песнопениях изрекается: «Коротка их память, потому что коротка жизнь». И всем представляется: так было, так будет.
— Значит, так и будет? Срок жизни-то не меняется. — Это замечание Лирика.
— Ничего не меняется? — уточняет вопрос Граве.
— Нет, не меняется, срок жизни тот же. Хотя нет, меняется кое-что. Растет темп перемен. Сейчас холмами продавлено примерно шесть процентов территории. Шесть процентов или восемь — невелика разница, все равно просторно. Но вот будет использована четверть территории, потом половина, три четверти… Придет поколение, которому некуда будет распространяться. Простор или теснота — разница существенная. Этим уже придется придумывать что-то новое: шахты вместо холмов или же какое-то искусственное освещение. Одна выдумка выручит одно поколение, другая — полпоколения, треть. Три перемены за одно поколение, появится психологическая привычка к переменам. И старинное «так было, так будет» сменится на «все течет, все меняется». Глобальные перемены станут насущной необходимостью. Тогда и придет время для космических переговоров.
— Не очень скоро? — Опять вопрос Лирика.
— От шести процентов до сорока-пятидесяти не прыгнешь сразу. Но на Огнеупории развитие идет быстро.
— А нельзя ли его ускорить? — Техник спрашивает.
— Вот пробовал я ускорить, получился застой: двадцать поколений жующих и молящихся. И если бы сами они изобрели каменные холмы, все равно двадцать поколений жевали бы и молились. Тут география задает темп, огнеграфия их экономическая. Сколько ни дергай волосы, они не растут быстрее. Если в доме хлеба полно, в булочную не торопятся. Правда, тогда запросы были невелики, теперешних одним хлебом не накормишь, этим подавай комфорт, кино, книги. Как ускорить развитие? Увеличить запросы. Может быть, показать им ваш мир со всей его заманчивостью? Ничего другого не могу придумать. Не знаю.
— У кого еще есть вопросы?
Лирик смотрит на Техника, на Граве.
— Не достаточно ли?
И, вытянувшись во весь рост, выставив вперед грудь и бородку, говорит неожиданно:
— Человек с планеты Земля, из второй спиральной ветви, квалификационная комиссия после проведения испытания считает, что ты сдал испытание на «хорошо»; отныне можешь работать в качестве астродипломата на необследованных планетах в Шаре и за его пределами.
Поздравляют! «Хорошо» за испытание! Сдал, сдал, ур-ра! Гожусь в астродипломаты, допущен на необследованные планеты! Сдал экзамен наравне с земноводными, Земли не посрамил, сдал на «хорошо»! А мне-то представлялось, что я запутался окончательно. Первый астродипломат из людей! Ай да я!
Благодарю в суетливо-радостном оживлении, порываюсь руки пожать, преисполнен симпатии к Технику, Лирику, Граве и ко всем огнеупорцам, на плечах которых я выбрался в астродипломаты. Хорошо ли я им помогал, не напортил ли чего по неопытности?
— Но вы не оставляйте без внимания мою Огнеупорию, — прошу я. — У них темп жизни стремительный. Они догонят вас очень скоро, надо следить беспрерывно. И пошлите туда бывалого старого астродипломата, не зеленого новичка…
Пауза.
Граве смотрит на меня с удивлением, потом говорит раздельно:
— Огнеупория давным-давно полноправный член Звездной федерации.
?!
— Когда же?
Но тут же все объясняется. И случайно объясняется наглядно.
За спиной раздаются сдавленные крики, частый стук, трещат электрические разряды. Оборачиваюсь. Бордовая кабина, что стояла рядом с моей зеленой, содрогается, гремит, из-под двери течет вода. Техник, выругав «эту проклятую дряхлую аппаратуру», рывком вырубает ток. Двери кабины распахиваются, вываливается разбитый бак, в нем, задыхаясь, бьется земноводное. Задыхается, но выпученными глазами смотрит на заднюю стенку кабины, вернее, не на стенку — ее нет. За кабиной овальный экран. Я узнаю его с первого взгляда, точно такой я видел на Полигоне Здарга у бойких физиков.
— УММПП? — спрашиваю горестно.
Граве кивает утвердительно.
— Она самая: универсальная машина моделирования произвольных параметров. «Если-машиной» прозвали ее наши студенты.
Машина! Моделирующая! И высчитывающая, «что будет, если…». И показывающая «что будет, если…» на экране. Значит, никуда я не летал, не ввинчивался и не вывинчивался, сидел в кабине, погруженный в гипнотический транс, рассматривал на экране условного противника, принимал решения, видел их условно-мнимые результаты, вычисленные и смоделированные машиной.
Но воображал, что это мир подлинный. Волновался, жалел, ненавидел, проклинал, вмешивался, возлагал надежды на тени, мелькавшие на экране. Голову ломал, клял себя, раскаивался!
— Тьфу!
Испарилась вся радость.
— Стало быть, это казус учебно-дипломатический? И нет никакой Огнеупории?
— Огнеупория есть, конечно, — возражает Граве. — Не могла же в твоем мозгу сама собой родиться невиданная страна. Как условие задачи тебе давались документальные фильмы, некогда снятые там космонавтами. На этом мотиве ты наигрывал вариации. А как же иначе? Разве можно послать на живую планету с учебной целью неопытного астродипломата? Все равно, что студенту-первокурснику поручить операцию на сердце. Огнеупория существует, тебя не было там.
И еще один вопрос волновал меня. Но только через два дня я решился спросить у Граве:
— А почему мне поставили хорошую отметку? Ведь я же так и не нашел решения. Сделал вывод, отказался от вывода, переговоры не начинал. Так и не знаю, как следовало действовать.
— Нам понравилась твоя непредвзятость, — сказал мой куратор. — Ты старался разобраться, не пришел с готовой формулой. У нас ведь тоже нет единого мнения о перестройке планет. И в результате, как ни странно, ты всем угодил своей неудачей. Технику понравилось, что ты не забывал о сорока восьми неиспользованных массах, не отказался от них наотрез. А Лирик даже рад был, что ты зашел в тупик. Он же доказывает, что чужие планеты не надо трогать. И с удовольствием ссылался на тебя на Диспуте.
— Ах, Диспут продолжается? И обо мне говорят там? Гилик, где ты, Гилик? Скорее закажи информацию о Диспуте.
Диспут продолжается
Опять на экране знакомый зал с баками, газовыми и жидкостными. И знакомое лицо на трибуне: пухлое, румяное, с седыми кудрями и холеной бородкой. Таким я запомнил земного Лирика, таким показывает мне анапод их звездного Лирика.
— Признаюсь, без вдохновения слушал я темпераментные призывы нашего высокоученого докладчика, — так начал Их-Лирик. — Десять миллиардов светил, сверхгалактический материк, сверхдавления, сверхтяготение. И ради этого меня заставляют покинуть милые сердцу родные болота (Их-Лирик так и сказал «болота» — он был из болотных существ). А мне, извините, просто не хочется. И я первым делом думаю: «Нельзя ли обойтись?»
Как метко сказал докладчик: бывает развитие количественное, плоское — вширь и бывает качественное — ввысь и вглубь. Мне представляется, что наше прошлое и было количественным — недаром в докладе бренчало столько металлических цифр: миллиарды звезд, 79 ступеней материи, 144 слоя сверхпространства. Все количества, все сногсшибательные цифры. А о качестве ни полслова.
И это не случайность. Это показатель того, что наша техницизированная культура, растекаясь и растекаясь по космосу, очень скромно продвинулась качественно. Вот наглядный пример: недавно в наш мир доставили экземпляр из числа аборигенов весьма отдаленной планеты, не входящей в Звездную федерацию. («Это я экземпляр? Спасибо, товарищ Лирик!») Судя по техническому уровню, культура той планеты — почти первобытная (я поежился). О суперсвете там не ведают, отрицают суперсвет, летают на четыре порядка медленнее световых лучей, не проникли даже в первый смежный слой подпространства. Но мы знакомились с этим экземпляром (опять!) и не ощутили большого разрыва (ага, не ощутили!). У него есть понятие о добре, о совести, о долге, о нравственности. Правда, он не умеет подавлять свои эмоциональные порывы ради долга, но разве мы сами безукоризненны? Разве нет у нас, у уважаемого докладчика, да и у меня тоже, самолюбия, самомнения, пристрастия, однобокости? Да, мы некорыстолюбивы. Но вещи у нас доступны, как воздух, нет интереса в вещах. Да, мы вежливы и уступчивы. Но ведь у нас нет повода для столкновений, мы давно забыли о войнах и насилии. Так в чем же, спрашиваю я, мы превосходим ту отсталую планету?
Цифрами, цифрами и только цифрами.
Так было, так предлагается на будущее. Не сто тысяч солнц, а сто миллионов, сто миллиардов. Не квадратные километры, а квадратные светогоды. Миллиарды, биллионы, триллионы, квадриллионы… Единицы с десятью, двадцатью, тридцатью нулями… Жуткое нашествие нулей.
А не привлекательнее ли противоположное: поменьше, да получше?
Пусть будет столько же планет и столько же сапиенсов, но давайте подумаем о качестве. Я хочу услышать на следующем совещании доклад об экспоненциальном росте благородства, о том, что любовь становится крепче на 0,7 процента ежегодно и на 1,5 процента красивее. О том, что сапиенсы стали счастливее на порядок. Счастливее у себя дома, а не в сомнительном обществе недоносков.
Короче, я предложил бы обойтись без Галактического Ядра.
Сразу послышался говорок Дятла. И на экране он появился. Знакомая поза: голова набок, ухо на плече. Прищурил левый глаз, потом правый. Чувствую: сейчас начнет расковыривать Лирика.
— У меня частный вопрос, — начал Дятел голосом сладким, но преисполненным ехидства. — Скажите, у вас есть семья?
Лирик пожал плечами:
— Какое это имеет отношение к делу? Даже странно. Ну, есть. Жена и четыре дочери. Хорошие девочки, ласковые.
— Еще вопрос: кто у вас в семье любит сильнее — дети родителей или родители детей?
— Час от часу не легче. Кто может измерить теплоту чувств? Спросите моего коллегу Физика: есть у него такой термометр?
— Поставим вопрос иначе — кто скучает, кто горюет больше: дети без родителей или родители, потерявшие детей? Кто кому нужнее?
— Понял вас, — сказал Лирик. — Вы полагаете, что забота о кровожадных и грязных дикарях подобна родительской. Нет, не подобна. Возясь с безнравственными субсапиенсами, мы сами теряем нравственные принципы, уровень культуры теряем.
— Нельзя ли наоборот: поднять их уровень, приблизить к нашему?
— Но дело тут не в линейных измерениях: выше, ниже. Каждая культура оригинальна и своеобразна. Мы не имеем права причесывать всех по своей моде, унифицировать, выпалывать ростки самобытности. Нам давно следует отказаться от менторства и заняться вплотную самовоспитанием.
— У меня еще один вопрос тогда, — настаивал Дятел. — Уж если речь зашла о самовоспитании, вы, конечно, знакомы с историей яхты Здарга? Учитывали ее опыт?
?!?
— Гилик, что это за яхта? Почему все смеются, переглядываются? Общеизвестный исторический пример, да? Тогда достань мне материалы о Здарге и его яхте.
Здарг
Анаподированная биография
Повесть эта — первая из серии ЖЗН — «Жизнь Замечательных Нелюдей».
Я задумал такую серию давно, еще в первые дни пребывания в Звездном Шаре, когда, ошеломленный мгновенным перемещением, отлеживался в небесной клинике, и Гилик чирикающим своим голоском повествовал о кодах форм и кодах бесформенного, о видении адекватном, параллельном и касательном, о метаморфозе типа ТТ, типа СС и типа Ноль, теттеитации, сессеизации и нулетесации, макробации, миллитации и смещении по лестнице Здарга. И, отупев от бренчания незнакомых слов, в ужасе думая, что вместо путевых заметок мне придется писать комплект учебников, я вспомнил испытанный журналистский прием: если изобретатель сконструировал что-то узкоспециальное и сверхсложное, просишь его рассказать биографию — чем увлекался в детстве, как нашел тему, через какие пробирался трудности, как осенило…
Об иерархической лестнице Здарга я услышал уже тогда. Потом упоминались матрицы Здарга, зигзаг Здарга, преобразования Здарга, энергетика Здарга, полигон тоже был имени Здарга.
А тут еще и яхта Здарга.
«Решено!» — сказал я себе. Заказал Гилику биографию Здарга и принялся переводить старательно.
Вот что начало у меня получаться:
«Всего час езды под мохом, и, выпрыгнув на сеть, вы залюбуетесь цветущими болотами. Народу полно. У оконец черной воды на глянцевитых листьях глянцевито сверкают тела горожан. Лучи солнца 5219 багровеют в их воздушных глазках. На горизонте — шпалеры кусающихся. Вот за такими шпалерами в скромном гнезде кусаероба и отпочковался детеныш, которому предстояло…»
Получили представление? И какое?
Видимо, надо пояснить, что все это происходит на далекой планете Вдаг, с Земли она не видна ни в какие телескопы. Вдаг — третий спутник звезды 5219 по каталогу Шара, название ее неудобопроизносимо, не поддается земной фонетике. Сама планета несколько больше Земли, раза в полтора, а на небесных телах такого размера (в Звездном Шаре это считается закономерностью) атмосфера куда плотнее, тучи, как правило, непроглядные, греться на солнце — редчайшее удовольствие. Океаны же вдвое глубже наших, и только самые высокие хребты поднимаются над водой. Следовательно, сухопутная жизнь не очень развита, развернуться негде. А так как разум развивается в самой активной зоне, где труднее всего бороться за существование (это тоже считается закономерностью), сапиенсы Вдага появились на мелководье, в прибрежных зарослях вроде мангровых. И культуру создали мыслящие земноводные — длиннотелые, плоские, с глазками по всему телу — глазками воздушными и подводными. Здарг был одним из них. И он отпочковался (родился) в доме скромного садовника-кусаероба, разводящего кусающиеся цветы для живых изгородей.
Кажется, все объяснил.
— Напрасно стараешься, — сказал Гилик, — пишешь адекватно, а поймут превратно.
И пожалуй, он был прав. В самом деле, если во всех подробностях описывать черные лентолистья с бахромчатыми фестончиками, черные тела с рядами глазок-пуговичек, не заслонят ли все эти аксессуары основное: ход мыслей одного из величайших ученых Звездного Шара.
— Ладно, ничего не поделаешь, — вздохнул я. — Пристегни мне анапод, пожалуйста.
И анапод стер, изгнал из сознания черные листья, черные ленты тел и черные оконца в болоте. Вместо сети появилась дачная платформа, вместо кусающихся цветов — заборы, очертания мирной среднеевропейской деревни начала XX века, помещицы, гарцующие на иноходцах, крестьяне в широкополых шляпах, тележки с брюквой, запряженные мулы. И среди них вышагивает по грязи широкогрудый богатырь, лобастый, губастый, с курчавой бородой, в чересчур коротком плаще. Видимо, подходящего не нашлось в магазине готового платья.
Таким нарисовал мне его анапод, таким прошу изображать на иллюстрациях, не изобретать переплетение лент с глазками. В Здарге нам важен разум… аналогичный человеческому. И художников прошу: «Рисуйте человека».
А нарисуете адекватно, поймут превратно.
Итак…
Среди людей, и среди нелюдей тоже, существует ходячее мнение о том, что гениальность — это болезнь, ненормальная гипертрофия одной какой-нибудь функции, развившейся за счет других. Например, слух абсолютный, а сам — дурак дураком.
Но на Здарга как на характерный пример ссылаться не придется.
Этому сапиенсу много было отпущено от природы. Всего много: объемистые легкие, зычный голос, могучие мускулы, много энергии, много трудолюбия, много напора, много сил и много ума.
Научные работники называются одинаково — «ученые», хотя труд их многообразен и требует различных способностей. Есть среди них добытчики фактов — экспериментаторы, есть знатоки фактов — эрудиты, и есть теоретики — толкователи фактов. Первым нужно терпение рыболова, воображение механика и тонкие пальцы ювелира. Вторым — память, память, память, а кроме того, любовь к порядку и еще уважение к печатному слову. Теоретику же важен кругозор, широта и непредвзятость — оригинальность мышления. Обычно люди не соединяют в себе все эти разнородные дарования. Но Здаргу досталось все: пальцы, память, широта и независимость ума. Он схватывал на лету быстрее других, понимал отчетливее, мыслил яснее. Пока соученики с трудом втискивали в голову условия задачи, Здарг успевал найти ответ. Пока другие, напрягая извилины, искали хоть какой-нибудь подход к решению, Здарг успевал продумать общий метод, составить алгоритм для всех задач подобного типа, подсчитать, сколько методов может быть вообще, и поставить вопрос: где могут быть нужны подобные задачи?
Биограф замечательного человека или нечеловека всегда немножко влюблен в своего героя (иначе зачем же тратить годы на его жизнеописание?). Биографу хочется, чтобы этот герой был образцом во всех отношениях — не только великим ученым, но и прилежным учеником, добрым товарищем, хорошим семьянином, так, чтобы на всех планетах молодые граждане брали бы с него пример. Надеясь стать великими, становились бы заодно и хорошими.
Увы, Здарг не оправдал моих надежд.
Я уже не говорю об учении — пятерки рядом с тройками, нередко и двойки. Впрочем, возможно, тут не только Здарг виноват. Многие педагоги не одобряли его недисциплинированной пытливости, постоянных рывков за пределы программы. Они считали, что студент приходит к ним учиться, знания набирать, рассуждает пусть позже. Но в том-то и дело, что Здарг успевал и выучить, и обсудить, и осудить. Подражатели же его пытались осуждать, не обсудив и даже не выучив. Так что я никого не призываю следовать примеру Здарга. Следуйте, если вы, как Здарг, способны на каникулах от скуки вывести все формулы дифференциального исчисления и прочесть учебники на пять лет вперед.
Был ли Здарг хорошим товарищем? Воспоминания противоречивы. «Никудышным» — утверждают одни. «Великолепным» — по мнению других. Здарг был щедр, ему ничего не стоило подарить товарищу новенький костюм. Причем щедрость эта шла не от богатства. Выше говорилось, что отец его был скромным кусаеробом. Здарг зарабатывал по-студенчески — репетиторством, переводами, разгрузкой вагонов. Но все ему давалось легко, даже работа грузчика. По мнению сапиенсов Вдага, скупость рождается от неуверенности в завтрашнем дне. Здарг не сомневался, что сумеет заработать на новый костюм. Доброта его объяснялась верой в себя.
Он щедро делился имуществом и столь же щедро знаниями. Однако не все соученики охотно обращались к нему за помощью. Схватив суть мгновенно, Здарг не понимал, как это другие схватывают не мгновенно, удивлялся, возмущался, даже вслух высказывал презрение к тупости. Правда колет глаза; даже откровенному тупице неприятно, когда его называют тупицей. А Здарг судил по себе: кинули тебе намек, и достаточно. Снисходительной деликатности не было у него ни на грош. Он помогал с легкостью и обижал с такой же легкостью. И обиженных словом было не меньше, чем благодарных за действенную помощь.
Среди студенток было особенно много обиженных. Здарг имел успех у девушек. Он казался им олицетворением мужества со своей широченной грудью, зычным голосом и курчавой бородкой. Здарг и сам не был равнодушен к томным глазкам и тонким талиям, но он немедленно высвобождал свою бычью шею, как только подруга пыталась свить ярмо из своих нежных ручек. Нет, у Здарга не было холодной расчетливости вечного холостяка, берегущего свой покой. Чаще всего он изменял девушкам ради лаборатории. И, конечно же, женщины Вдага, которым любовь представлялась наиважнейшим делом жизни, осуждали этого «обманщика», убегавшего от них к осциллографам.
Только одна оценила его, только одна не осудила ни разу, прошла всю жизнь рядом, все принимая, все прощая. Нет, не жена. Здарг так и не женился. Я имею в виду Ридду — ассистента кафедры математической физики в том институте, где учился Здарг.
Ридда была похожа… нет, не буду описывать ее адекватно. Анапод же нарисовал мне плоскую фигуру, бледное лицо с нездоровой кожей, прищуренные близорукие глаза, бескровные тонкие губы, сжатые с выражением брезгливости, словно Ридда только что проглотила ягоду с червячком. Ридда была некрасива и по понятиям Вдага не очень уж молода — лет на восемь старше Здарга. Ей уже грозила опасность остаться бездетной, и ученики постепенно становились ее детьми. Конечно, и Ридду Здарг изводил своими каверзными вопросами. Но в отличие от других педагогов Ридда радовалась его уму, как мать радуется превосходству талантливого сына. Эта безграничная снисходительность к Здаргу объяснялась отнюдь не слабостью характера. К другим ученикам Ридда относилась с жесткой требовательностью, была непримирима к неспособным, хотя бы и старательным, коллег подавляла апломбом, умела быть энергичной, хитрой и даже беспринципной в борьбе.
Мужчины Вдага не устают удивляться таинственной противоречивости женской натуры. Со своей мужской прямолинейностью они не могут понять, как это в одном существе уживаются лань и львица. Но в сущности, что же тут нелогичного? Женщина по своему биологическому назначению — мать. Мать опекает детеныша, но нуждается в опеке сама. В защите опекаемого она яростная львица, отважная до отчаяния. По отношению к опекающему — лань, ласковая, нежная, мнимо покорная, беспомощная, даже кокетничающая своей беспомощностью. И превращение из лани в львицу происходит мгновенно, как только взгляд переходит с мужа на врагов младенца. А мужья с их узколобой линейностью считают эту двойственность притворством, все гадают, которая натура подлинная.
Обе подлинные.
Увы, отцветающей Ридде не пришлось быть ланью в жизни. Вероятно, она мечтала быть ланью Здарга, но ей пришлось удовлетвориться ролью личной львицы. Ученый мир запомнил соратницу, ратницу, неприятно резкую амазонку от науки. И только после смерти Ридды в ее бумагах нашли стихи, писанные ланью, — томные стансы о душе, чувствительной и истерзанной, о широкой спине настоящего мужчины, за которой так хорошо идти, зажмурив глаза, бездумно и беззаботно.
Но о Ридде-лани мир узнал только посмертно, при жизни же имел дело с Риддой-львицей. И какие же острые когти выпустила она, когда Здарг кончал институт!
Говорилось уже, что табель у Здарга был не идеальный. На Вдаге ни один педагог не согласится, что какой-то студент знает предмет лучше, чем он сам. Большинству представлялось, что Здарг просто нахал и зазнайка, невоспитанная личность, не понимающая своего места. Можно с такими недостатками стать научным работником? Ну конечно, нет!
И вышел бы Здарг из института с отметкой «посредственно», практически закрывающей путь в науку, если бы не Ридда.
Ридда пустила в ход все свое блекнущее обаяние, чтобы очаровать всех, кого сумела очаровать. Кого не сумела, постаралась одарить, или запугать, или дискредитировать. Упрямых окутывали нашептывания, почему-то на них начинали смотреть косо, почему-то называли некомпетентными, слабыми, устаревшими, с такими и солидаризироваться неприлично.
Мне лично хотелось бы, чтобы в биографии Здарга не было этой непочетной страницы. Лучше бы он пробился своими силами. Может быть, и пробился бы в конце концов, потратив несколько лет на разборку завалов в предполье науки. Но, так или иначе, Ридда ввела его в храм науки за ручку. Единственное оправдание: Здарг не ведал о ее усилиях. Ридда не посвящала его. Она отлично понимала, что Здарг с его стремлением резать правду-матку в глаза только напортит себе в сфере тонких и скользких намеков. Львенок был могуч и глуп, Ридда отстояла его своими силами. Да, она дралась жестоко и не всегда честно, но дралась за будущего льва. А сколько львиц Вдага с таким же усердием проталкивали в науку ленивых сурков, шакалов и даже ослов! К сожалению, все матери Вдага считают своих птенчиков львятами.
Итак, в один прекрасный день Здарг, выутюженный и напомаженный, переступил порог кабинета Льерля, видного ученого планеты Вдаг, крупнейшего специалиста по геометрии пространства, таланта третьей категории… и научного руководителя Ридды в прошлом.
— Уберите ваши бумаги, юноша, — процедил талант, небрежно окинув взором переминающегося богатыря. — Уберите бумаги, для меня достаточно рекомендации Ридды. Она была способной девочкой, опрометчивой иногда, но таковы свойства женского характера. Да, я помогу вам. Естественно, у вас нет своей темы, вы будете просить, чтобы я вам подсказал. Как будто у меня каталог тем для начинающих. Ну ладно, если девочка просит за вас, надо ее уважить. Что же я вам предложу? Ну вот, запишите: «Расчет вероятности обнаружения гравитационного взаимодействия на современном ульдатроне». (Ульдатрон — рекордный ускоритель, построенный на спутнике Вдага — Их-Луне. — К. К.)
И, не спрашивая согласия, Льерль протянул два пальца на прощание.
Здарг приступил к расчету вероятности обнаружения.
Много лет спустя в газетной статье, написанной к своему юбилею, он так характеризовал этот период в науке Вдага.
«Когда я учился, в ученых кругах господствовал феодализм, иного слова не подберу. В эпоху феодализма исторического великие империи, распадаясь, дробились на королевства, княжества, уделы, улусы и баронаты. И каждый барон, владелец одной жалкой деревеньки, отстаивал свою независимость от центральной власти. В мою эпоху великие науки рассыпались на независимые разделы, каждый раздел объявлял себя самостоятельной наукой, специфичной и неповторимой, издавал собственный журнал, вырабатывал терминологию, непонятную для непосвященных, всячески подчеркивая свою неповторимость.
Ученые бароны оправдывали это дробление обилием фактов. Твердили, что нельзя объять необъятное, только узкий специалист может быть знатоком. Да, фактов накопилось предостаточно, да, необъятного не обнимешь, это верно. Но, кроме того, феодализация была еще и выгодна и лестна. Лестна потому, что каждый микрооткрыватель мог объявить себя творцом новой науки. Выгодна потому, что каждому деятелю науки отводился пожизненный надел, свой личный приусадебный участок, своя золотоносная жилка в монопольное владение. И монополиста полагалось запрашивать, не упоминать о нем считалось неприличным. Хоть крошечная деревенька, а собственная».
Вероятно, если бы Здарг мог выбирать год рождения, он предпочел бы другую дату. Дело в том, что Вдаг переживал трудный период своей истории, нашу Землю он миновал, к счастью. Хотя возможность такая виделась самым прозорливым.
Но на Вдаге история сложилась иначе. Ресурсы его истощились. Почему так случилось? Может быть, потому, что суша там была невелика, горное дело оказалось не в чести, металл добывали из водорослей, как у нас йод. Наука не справлялась с проблемой добычи сырья, и распространилась тенденция ограничительства, теория невозможности новых открытий. Специалисты упорно твердили, что основное в науке уже найдено, остались детали. Считалось, что только ученый очень большого ранга — талант первой или второй категории может предложить существенное, сделать новое открытие. Сложилась иерархия: таланты пишут учебники, знатоки I, II и III ранга учат подающих надежды, те объясняют студентам бесспорные истины, проверенные временем.
Пишут, учат, объясняют! А что делать такому, как Здарг?
Но продолжим выдержки из его юбилейной статьи:
«Ученые феодалы были компетентны, даже полезны, в узких рамках своего феода, но оказывались совершенно беспомощными перед широченными проблемами всей природы, всего организма, всего мозга, всего космоса. Они терялись, выходя на просторы мироздания, рассматривали вселенную с высоты деревенской колоколенки, объясняли законы природы обычаями своего провинциального закутка… Остеологи писали, что человек стареет из-за отложения солей в суставах, гелиологи объясняли войны солнечными пятнами. А гравитологи… в их графство я и попал».
И попал в разгар сражения.
Битва шла за ничье поле — бесхозное гравитационное поле. Всемирное, издревле известное, снабженное формулами тяготение еще не получило объяснения. В результате надел оказался спорным. Не было ясности, какая наука имеет право собирать с него дань. Претензии на безраздельное владение предъявляли две школы — оптическая и геометрическая.
В свое время оптики открыли и доказали, что свет излучается порциями — квантами. Отсюда был сделан вывод, что все виды энергии вообще должны передаваться порциями: электромагнитная — фотонами, звуковая — фононами, тепловая — термонами, что существуют психоны, бионы, химоны, а также пласоны — кванты пространства, темпороны — кванты времени и, само собой разумеется, гравитоны — кванты тяготения.
Правда, их никто не обнаружил, но теория вела к тому.
Геометристы привыкли все изображать на графиках, мыслили графиками. Как известно, любой процесс, где принимают участие две величины (температура и объем, состав сплава и твердость), можно изобразить на листе бумаги графически. Если величин три, график требуется объемный, пространственный. Движение тела в пространстве определяется четырьмя величинами, четвертая — время. Движение надо бы изображать на четырехмерном графике. Геометристы и сделали вывод, что наш мир четырехмерен. Почему же небесные тела движутся в нем по кривым линиям: параболе, гиперболе, эллипсам? «Видимо, мир искривлен», — решили геометристы. Искривлен, и баста. Геометрия такая.
«Идя в науку, я наивно полагал, что вступаю в армию искателей истины, — писал Здарг далее. — На самом деле я был зачислен не в армию вообще, а в полк геометристов, в батальон Льерля, таланта III категории, и получил конкретное боевое задание: добыть один-два факта для подкрепления геометристов и посрамления оптистов. В этом и был смысл моей темы».
Так описывал, так оценивал Здарг свою диссертацию четверть века спустя. Но тогда, в молодости, он был преисполнен старания, даже благоговения. Он работал ревностно, сдал экзамены, прочел и пересказал все причитающиеся «использованные труды» (комплименты по адресу Льерля Ридда вписала сама), вычертил графики на миллиметровке, исправил описки машинисток в четырех экземплярах… и все это сделал на полгода раньше, чем полагалось. Он даже рвался защищать досрочно, как в студенческие времена, но Ридда удержала его. Как правило, подающие надежды не укладывались, просили отсрочку, ссылаясь на необходимость углубленного изучения новых материалов. Торопиться было бы недипломатично. Тут любая описка колола бы глаза: вот, мол, время было, поленился, пренебрег…
Но Здарг не любил сидеть сложа руки. И, выйдя за пределы своей темы, поставил вопрос: откуда берется энергия притяжения? Кривое пространство? Какие силы его кривят? Гравитоны летят? Откуда берутся, откуда у них энергия, чтобы звезды сближать? Появились выводы. Здарг даже сумел съездить на Их-Луну для проверки. С Луны прислал радиограмму Ридде: «Везу сюрприз». Но Ридду с ее обыденным мышлением не насторожило слово «сюрприз». Она поняла по-своему: «Вероятно, умница Здарг нашел убедительное доказательство против гравитонов. Льерлю подготовлена приятная неожиданность».
И вот защита. На сцене с колокольчиком в руках благообразный председатель. Рядом Льерль — сухой, высокомерный, застегнутый на все пуговицы, чопорный. Тут же оппонент, толстый, с жирными губами, причмокивающими в ожидании банкета. Свою обязанность он выполнил добросовестно, приготовил два микроскопических замечаньица о применении букв в формулах, теперь ждет награду за усилия. Члены жюри пьют чай в буфете, чтобы дружно проголосовать «за», когда кончится церемония.
Главное достоинство церемоний — краткость. Председатель скороговоркой произносит вступительное слово и не забывает напомнить Здаргу, чтобы он уложился в пятнадцать минут. Затем абитуриент, взгромоздившись на кафедру, ерошит густые волосы, дергает себя за галстук, чтобы он съехал в сторону, и объявляет громогласно:
— Я повторять не буду, что написано в автореферате. Предполагается, что вы и сами прочли. Нормальная ученическая работа. Там все правильно и ничего ценного для науки.
Председатель вопросительно смотрит на Льерля. Тот улыбается снисходительно, шепчет «молодо — зелено» и ногтем стучит по стеклу часов, дескать, пусть отговорит свое, сколько положено, а что скажет, не имеет значения.
Здарг между тем трубным своим голосом излагал вновь добытые мысли. Сначала в пух и прах разгромил теорию оптистов (Льерль удовлетворенно улыбался), затем в том же тоне изничтожил и геометристов (Льерль смолчал, но лицо его покрылось красными пятнами) и в заключение предложил свою собственную точку зрения — энергетической ее можно назвать. Здарг считал, что источник всемирного тяготения — и у них в Звездном Шаре, и у нас на Земле — в самом веществе. Вещество теряет часть массы, энергия ее переходит в поле притяжения. Для земного притяжения тратится миллиардная доля массы, для звездного — миллионные доли. Это привлекательно и даже выгодно. Теоретически можно создавать искусственное поле тяготения, не тратя энергии, только высвобождая ее и даже используя.
Впоследствии, вернувшись на Землю, я излагал идею Здарга нашим специалистам. Но мне сказали, что, видимо, я не понял что-то, гравитация за счет массы — это ерунда. К сожалению, я не могу сослаться на матрицы Здарга, лестницу Здарга, зигзаг Здарга, преобразования Здарга и опыты на полигоне имени Здарга. Я так и не разобрался в этих матрицах и преобразованиях. Но на защите Здарг упоминал свои матрицы и преобразования, все равно это не произвело впечатления на геометристов, все они сидели с поджатыми губами.
Однако у Здарга был еще и опыт.
Был прибор, он называл его «Грави-Вдаг — 1 мм».
Имелось в виду, что в центре, в кружочке диаметром один миллиметр, создается искусственное тяготение. И можно было видеть, как пылинки, пляшущие в солнечном луче, заворачивают к этому кружочку, оседают на него. Можно было приложить палец сбоку или снизу и явственно ощутить притяжение… Чувство было такое, как будто палец кладешь на гвоздь.
Льерль, конечно, не приложил, отказался. Другие прикладывали, убедились, но не поверили. Говорили, что тяготение тут ни при чем, действует магнетизм… или даже психомагнетизм.
Степени Здаргу не присудили, но работу начать удалось.
Следующую четверть века жизни Здарга можно свести к таблице:
Грави-Вдаг — 1 см
Грави-Вдаг — 1 дм
Грави-Вдаг — 1 м
Грави-Вдаг — 10 м
Грави-Вдаг — 100 м
Грави-Вдаг — 1 км
Грави-Вдаг — 10 км
Примерно три года уходило на удесятерение.
На первых этапах получались только показательные опыты: палец кладешь на гвоздь, палец кладешь на орех, руку кладешь на мяч, садишься на шар вниз головой. Десятиметровый Вдаг уже приносил практическую пользу, он работал как насос, воду поднимал на поля; для земноводных жителей Вдага не было изобретения полезнее.
И грузы поднимал на стройках.
И цветы растил на потолке.
Грави-Вдаг стометровый создавал великолепные трехслойные парки: деревья, растущие вверх с суши, деревья, растущие вниз с крыши, а между ними — сплетенные джунгли невесомости. Рекордным же достижением Здарга стал 30-километровый Грави-Вдаг. Целый астероид был преобразован, на нем установили нормальную силу тяжести, приспособили для сапиенсов новое небесное тело.
Позже Здарг назвал этот астероид «Фтях», что означает «маленький Вдаг», «вдажек». Превращение звонких согласных в глухие в его родном языке имеет смысл уменьшительный. Но «Фтях» для нашего уха звучит как-то неизящно, немузыкально. Поэтому я предлагаю условное название Астрелла — звездочка.
Итак, астероид с нормальной тяжестью. Но притяжение не все. Для уроженцев Вдага особенно важна была вода. Воду и кислород добыли из минералов, выжигая их. Правда, удержать воздух Астрелла не могла все равно. К сожалению, малому телу труднее удерживать газы, тут короче путь для ускользающих молекул. Пришлось монтировать еще и небо из самозарастающей пленки, не Здаргом изобретенной. Такие пленки изготовлялись и ранее для лунных и космических станций. Когда же небо было натянуто, когда наполнилось кислородом и паром, тут же появилась и плесень. Не привозили спор, не высевали, сами прибыли на одежде космонавтов. И стала Астрелла небесным раем для сапиенсов Вдага, ибо рай в их понимании — это не тенистые сады, а тенистые пруды.
По мысли Здарга, оживший астероид должен был стать небесным странником, скитальцем межпланетных морей, временным спутником всех планет по очереди. И таскать его от планеты к планете должно было опять-таки искусственное тяготение. У Астреллы был свой собственный маленький спутничек. Установив на нем Грави-Вдаг — 1 км, включая и выключая его по желанию, можно было подтягивать Астреллу. То сходясь, то расходясь, эта небесная пара могла путешествовать по космическим морям в любом направлении.
Одновременно с Грави-Вдагами параллельно шла и другая работа: Здарг зажигал Грави-Солнца. По его теории, выше говорилось, отнимая у вещества миллиардную долю, можно было создавать земное тяготение, а отнимая миллионные доли — солнечное. Под его влиянием (так считал Здарг, но земные специалисты полагают, что я и тут напутал) загоралось маленькое Грави-солнышко.
Грави-Солнце — 1 мм — лампочка
Грави-Солнце — 1 см — подобие вольтовой дуги
Грави-Солнце — 1 дм — сварка, резка, плавка…
Грави-Солнце — 1 м — плавильная печь
Грави-Солнце — 10 м — домна, мартен, а также и… термическая бомба.
Ради этих бомб, из песни слова не выкинешь, и давались Здаргу деньги на опыты. Военные нужды на Вдаге были первоочередными.
Впрочем, и в природе получается подобное: яростные солнца питают мирные планеты.
И, увы, не улежали эти бомбы на складах. Милитаристы не смирились, чтобы они пылились в арсеналах. Кто платит, тот и заказывает музыку. Военные марши были заказаны.
Война была короткой и разорительной. Конечно, термические бомбы имелись и у соплеменников Здарга, и у их противников. Идеи не удерживаются в секрете. Первый же удачный опыт, принцип подтвержден, известно, что искусственную гравитацию можно создать, можно создать искусственное солнышко, все прочее зависит от ассигнований. Обе стороны щедро кидали термические бомбы, и кидали их на самое уязвимое место — на плотины и шлюзы. В итоге половину воды спустили в океан, половину полей оставили без орошения, половину жителей — без хлеба. Мир был вскоре заключен под угрозой всеобщего голода, справиться с голодом так быстро не удалось бы.
И вот тогда среди прочих призвали и Здарга, предложили ему срочно наладить массовое производство гравинасосов.
Здарг же предложил иное решение: глобальное, космическое, радикальное и щедрое.
У Вдага была своя луна, приблизительно такая же, как наша, и от той луны, как и у нас, зависели приливы. В зоне приливов, собственно, и жили и кормились все жители той планеты. Так вот Здарг предложил передвинуть Их-Луну, приблизить к главной планете, так чтобы увеличить приливную волну вдвое, а это означало, грубо говоря, вдвое увеличить посевную площадь и без всяких насосов. Как приблизить? Но в распоряжении Здарга имелось же небесное тело с управляемой гравитацией, небесный буксир, который можно было включать и выключать.
И это удалось.
Скороговоркой вынужден я говорить о важнейших планетарных событиях в истории Вдага. В биографии Здарга это целые разделы: 25-летние опыты, оживление Астреллы, термоплавильная война, передвижка Их-Луны (это подумать только: Луну перетаскивали!), а потом еще удвоение плодородных площадей, ликвидация голода. Когда-нибудь я еще напишу обо всем этом подробно, материалы в памяти. Помню и приключения, не все гладко было, Здарг чуть не погиб, чуть не был раздавлен искусственной тяжестью, в больнице отлеживался добрых месяца три. Но сейчас не могу я отклоняться в сторону. О яхте Здарга шла речь на вселенском диспуте, я к яхте тороплюсь, а она была уже на склоне жизни Здарга.
Вершиной же было перемещение Луны, и оживление полей, и осмотр новых мест: праздник освоения.
— Здарг приехал! Сам Здарг!
— Эй, народ, сапиенсы, Здарг у нас в гостях!
— Спасибо, Здарг, большущее спасибо!
— И от меня спасибо!
— И от меня! Можно я поцелую вас, Здарг?
И это кульминация, венец жизни Здарга, вершина Достижений.
Очень хотелось бы мне тут и закончить жизнеописание этого замечательного нечеловека, завершить повесть торжественным аккордом.
Но у нас, биографов, неприятная обязанность. Мы вынуждены писать книги с грустным концом, после кульминации рассказывать о спаде, после высших успехов — о полууспехах, ошибках, неудачах, после взлета и расцвета — о заурядной хилости, вплоть до того неизлечимого недуга, когда врачи признаются, что медицина бессильна. Сколько бы ни было побед в жизни, в конце — неизбежное поражение. Вначале надежды, в середине — букеты, а в конце обязательно слезы. Что-то пессимистическое в самом жанре биографии. Хотя жизнь-то продолжается, личность сходит со сцены.
Но пока что Здарг победил (Луну!), был прославлен, одарен, награжден. Его самого спросили, какую он хочет награду, и Здарг попросил Астреллу — астероид 4432 в свое личное распоряжение. Набрал ученую команду — несколько сот молодых и немолодых потрясателей науки — и решил с этой командой отправиться в многолетний круиз по планетам. Он не забыл своей собственной трудной научной молодости, хотел облегчить путь к открытиям талантливым согражданам.
Яхта Здарга — это и есть Астрелла.
Ниже ее хроника.
Яхта Здарга
Конфликт между великой планетой Вдаг и крошечной Астреллой начался с обмена посланиями. Не будь их, не было бы трагической, полной тяжких испытаний, поучительной, но горькой истории. Пожалуй, читатель сразу заметит роковые ошибки составителей нот, хотя самим авторам их рассуждения казались безукоризненными. Но лучше приведем подлинные тексты:
«Многоуважаемый Здарг!
Академия Южного Вдага поздравляет вас с третьей годовщиной подчинения Луны и приливного оживления берегов — величественного подвига труда и науки, в котором ваш личный вклад так весом.
Освоение орошенных земель прошло с полнейшим успехом. Новые площади приобрели важное значение в деле восстановления нормального питания нашей планеты, так тяжко пострадавшей в результате разрушительной войны. Необходимы дальнейшие усилия для полного обеспечения всех народов Вдага, как существующего населения, так и ожидаемого, в соответствии с демографическими нормами естественного прироста.
В этой связи АЮВ считает рациональным, продолжая начатую работу по освоению сухих земель, повторить серию гравитационных атак, с тем, чтобы приблизить орбиту Луны к Вдагу, сократив ее радиус (конкретная цифра подлежит уточнению) и, подняв уровень прилива еще выше, затопить новые, ныне не используемые площади.
С получением настоящего послания предлагаем вам направить астероид 4432, именуемый также Астреллой, на сближение со Вдагом и изготовиться для проведения гравитационных атак. Подробные расчеты будут в ближайшее время проведены вычислительными машинами и контрольные цифры сообщены вам по радио…»
Ответная радиограмма:
«Уважаемый господин президент!
Научный коллектив Астреллы не может согласиться с вашей рекомендацией относительно изменения орбиты Астреллы по причинам, изложенным ниже:
1. Мы не видим оснований, почему население Вдага должно безропотно подчиняться прогрессии, начертанной демографами. Общеизвестно, что рост количества потребителей вчетверо диктует увеличение промышленной продукции в шесть-восемь раз. И этот восьмикратный рост позволяет всего лишь поддерживать потребление на существующем весьма низком уровне. Согласны, возможны и более высокие темпы. Но согласитесь и вы, что бессмысленно при любых темпах основную долю, продукции отдавать на поддержание низкого уровня жизни, вместо того чтобы тратить усилия на развитие культуры, науки, искусства.
2. Но допустим, мы примем для руководства вашу демографическую статистику. Учетверение населения через сто лет, за два века — увеличение в шестнадцать раз, через пятьсот лет — в тысячу раз, через тысячу лет — в миллион раз, через три тысячи — в миллиард миллиардов. И тогда всей нашей Галактики с ее 1011 звезд не хватит для создания новых домов. За три тысячи лет предстоит перестроить всю галактику с ее диаметром в сто тысяч световых лет, не расселяться, а строить быстрее света.
Но ясно ли из этого примитивного арифметического расчета, что населению Вдага волей-неволей понадобится приостановить количественный рост? Так не разумнее ли это сделать сейчас, немедленно, вместо того чтобы заниматься поддержанием скудного послевоенного уровня?
3. Обращаем ваше внимание также и на то, что приливные акватории не сыграют никакой роли в демографических расчетах. Проектируемая зона затопления составляет не более 0,5 процента площади Вдага. Полпроцента не обеспечат даже годичного прироста.
4. Напоминаем также, что Астрелла является единственной в своем роде базой, специально подготовленной для ведения исследовательских работ в космосе. На астероиде создан ряд специальных лабораторий, смонтировано уникальное оборудование, сконцентрированы тщательно подобранные кадры. Все сооружения и оборудование будут уничтожены сверхгравитацией, возникающей в процессе атак, кадры окажутся ненужными, они будут эвакуированы и распылены. Опять-таки вы ведете нас к бессмысленному уничтожению передовой науки во имя животного размножения.
5. И, наконец, чисто юридическое обстоятельство. Согласно акту от… (дата), «астероид 4432 передан в пожизненное и бесконтрольное владение таланту I ранга Здаргу лично и может быть использован им в любом месте космоса по собственному усмотрению для любых целей, не противоречащих законам Южной Федерации и не угрожающих жизни ее граждан». Таким образом, данный астероид не является инвентарным имуществом АЮВ и вы как президент Академии не можете им распоряжаться.
Ввиду изложенного выше мы считаем нецелесообразными ваши рекомендации и предлагаем, со своей стороны, обсудить варианты развития цивилизации на специальной конференции. Местом ее может быть Астрелла или любой город Вдага по вашему усмотрению, подходящим сроком нам представляется середина будущего года, когда произойдет ранее запланированное сближение Вдага и Астреллы.
По поручению сотрудников
Здарг, Ридда, Ласах».Напоминаем рассказанное в повести «Здарг».
За три года до этого обмена нотами, когда Здарг находился в санатории после одиннадцатой трагической и героической атаки, к нему явилась делегация от Академии.
— Мы ценим твои заслуги, Здарг… твои теории… твою деятельность. Народ Южной Федерации хотел бы наградить тебя… Есть у тебя личные пожелания? Может быть, звание прижизненного гения?
— Отдайте мне Астреллу в полное распоряжение, — сказал Здарг.
Просьбу сочли умеренной, и по выходе из санатория Здарг получил дарственную на сорок тысяч кубических километров базальта и оливина, носящихся где-то в околосолнечном пространстве. Академия предполагала, что Здарг устроит там космическую усадьбу, возможно, с лабораторией, будет опыты ставить.
Но замысел Здарга был обширнее серии опытов.
Здарг решил устроить на Астрелле городок ученых, поселить там несколько тысяч самых талантливых, предоставить им все возможности для творчества.
Он кинул клич. Призвал в космос жаждущих уединения и жаждущих спорить о формулах и рифмах, всех, вынашивающих идеи, многообещающих и обещающих.
И к нему, обеспечивающему условия для творчества, потянулись тысячи и тысячи желающих творить… и желающих обеспеченных условий.
Шли изобретатели, намеренные прокормить и облагодетельствовать все население Вдага. Шли медики, обещавшие лекарство от всех болезней и вечную молодость заодно. Шли физики, угадавшие новые свойства веществ, и химики, угадавшие новые вещества. Шли непризнанные поэты и признанные переводчики, конструкторы, режиссеры, математики, селекционеры, изголодавшиеся по творческому труду… и просто изголодавшиеся.
Здарг сам отбирал кандидатов. С прошлыми заслугами и званиями не считался: сказалась его давнишняя неприязнь к обрядовой защите рефератов. Требовал обширных знаний — можешь отвергать и опровергать корифеев, пожалуйста, но знать опровергаемое обязан. Требовал масштабности, размашистых идей.
— Ты пригреваешь нахалов и пустозвонов, — говорила Ридда. — Болтунов берешь, честным работягам указываешь на дверь.
— Скромность — украшение девушки, а не ученого, — смеялся Здарг. — Мне не нужны робкие крохоборы, верные последователи авторитетов. Да, скромники не подведут, выполнят обещанное, но они обещают так мало.
— А нахалы обещают так много, но не сделают и сотой доли.
— Этого вполне достаточно, Ридда. Если мы один процент обещанного выдадим на-гора, Астрелла оправдала себя.
И он продолжал набирать непризнанных гениев… а также прожектеров и обманщиков.
Здарг утешал себя тем, что в дальнейшем всех, не оправдавших надежд, он переведет в сферу обслуживания. Обслуживающих требовалось немало на Астрелле. Ведь вдохновенных творцов надо было вкусно накормить, одеть, согреть, умыть, обеспечить светом, столом, бумагой для записи гениальных мыслей. А исследователям нужны были и помощники: лаборанты, вычислители, чертежники. В общем по два обслуживающих на каждого сочиняющего.
Среди обслуги много было и женщин, преимущественно молоденьких, хорошеньких. Семейных Здарг не хотел брать; это означало бы привозить детей, «умножать несамодеятельное население». Все равно дети появились. Не думаю, что молодые уроженки Вдага намеренно рвались на Астреллу, «чтобы устроить свое счастье». Девушки Вдага не склонны к циничному расчету, просто их тянуло в общество знаменитостей. Они вертелись на глазах у прославленных, старались привлечь их внимание… и счастье устраивалось само собой. В результате уже через год на Астрелле оказалось несамодеятельное население ясельного возраста. Здарг был несколько смущен процентом демографического прироста, но высылать матерей с младенцами не решился. Примирился с голосом природы, объявил о создании на Астрелле экспериментального центра педиатрии и педагогики.
Но это было позже, когда Астрелла уже плавала между планетами.
За год с небольшим Астреллу удалось превратить в заповедный сад творчества. Жаждущие уединения получили уединенные усадьбы с гротами, беседками, говорливыми ручейками, задумчивыми прудами. Жаждущие выяснять истину в споре получили помещение в пансионате, где в многочисленных залах поэты нараспев читали стихи, а математики щелкали мелом, выписывая формулы на досках. И архитекторы соревновались, рисуя интерьеры, обеспечивающие сосредоточенность, врачи-диетологи составляли идеальные диеты для мозговой деятельности, врачи-психологи вели наблюдения, искали закономерности вдохновения, заполняли истории талантов.
Все это происходило в самые первые годы после мировой войны на Вдаге. Война та была кратковременной. Но угроза полного уничтожения цивилизации Вдага стала реальной, и угроза эта заставила наконец сапиенсов взяться за ум. Силы мира победили, пока еще не во всех странах и не окончательно, но самые воинственные генералы были смещены, взяты под стражу жадные любители чужих акваторий и территорий. Начались переговоры о всеобщем мире. Кто-то еще интриговал, саботировал, разрушал и составлял коалиции, кто-то грозил, намекая на некое тайное оружие. Но это были разрозненные реликты старого мира. Многие таланты и знатоки всех категорий были сожжены, отравлены, похоронены под развалинами, бежали из Южной Федерации в Северо-Западную, из Северо-Западной в Южную, томились за колючей проволокой в лагерях для военнопленных или перемещенных, рыли гнилую картошку, корки выпрашивали. И даже те, кто сохранил дом и жилье, разве занимались творчеством? Проводили ночи в очередях, чтобы получить похлебку, собирали щепки для самодельных печурок, меняли мебель на старые штаны, а штаны на кулек муки. Какая тут наука? Инженеры чинили керосинки, химики торговали кустарным сахарином. И тут, представьте себе, внезапно является с неба громогласный космический архангел с курчавой бородой, приглашает в астрономический рай, где сытно, тепло, светло, бумаги дают без счета, энергию отпускают не по лимиту: профессору — на одну электрическую лампочку, академику — на две, за особые заслуги.
В ту пору и пришла на Астреллу вторая, главная волна поселенцев, в том числе и Ласах, чье имя стоит третьим под меморандумом Астреллы, а также Гвинг и Бонгр, о них речь впереди.
Приняв на борт тысячи три талантов разных категорий, космическая яхта Здарга ушла в новый рейс. Глобус с мазками облаков снова стал красноватой звездой, страдания его — радиосообщениями. Новых поселенцев надо было устроить, предоставить всем уютные каюты и уголки для вдохновения, оборудовать им лаборатории, прикрепить обслуживающих. И эти женились, находя свое счастье, и эти радовались покою и сытости, рождали детей, отдавали их в педологический центр… Наконец все разобрались, надели белые или синие халаты, уселись за свои столы, взяли стило и скальпели в руки. И тут как снежная лавина на голову:
«…Академия поздравляет вас и предлагает все бросить, Астреллу освободить от пассажиров, изготовиться к гравитационной атаке на Луну…»
Пассажиры единодушно поддержали протестующий меморандум, тот, что подписали Здарг, Ридда и Ласах.
На сцене появилось новое действующее лицо. Ласаха надо представить.
Как изобразил его анапод? Удлиненное лицо, выпяченные толстые губы, полуоткрытый рот, выпуклые грустные глаза — облик наивного философа и добряка. Пожалуй, наивным Ласах не был в подлинной жизни. Но добряком был. Ведущей чертой характера была у него доброта.
В юности Ласах хотел стать священником, поскольку религия Вдага, как и христианская, прокламировала всепрощение, утешение, милосердие. Но на самом деле и там все сводилось к словам: несчастным выдавались векселя, подлежащие оплате на том свете. Ласах же хотел любить ближних всерьез, делать добро живым, а не мертвецам. Разобравшись в пустословии церкви, он перешел с богословского факультета на безбожный медицинский. Возложил надежды на психиатрию, точнее, на психотерапию — лечение словом.
— Доброе слово дороже денег, — говорил он Бонгру, своему другу-однокашнику и антиподу.
— Был ты попом, попом и остался, — язвил тот.
Во время войны Ласах, этот безобиднейший из жителей Вдага, оказался за колючей проволокой. Дело в том, что родной его город был оккупирован. Проходя по улице, Ласах увидел, что солдаты обижают какую-то женщину. Он попробовал воздействовать на них словом, объяснить насильникам, что они поступают нехорошо. Конечно, непрошеного наставника сочли бунтовщиком, выбив несколько зубов, заключили в лагерь. И в неволе Ласах нашел истинное свое призвание. Вооруженный утешающим словом, он бродил среди голодных, больных, умирающих, обездоленных, лишенных родных и родины, отчаявшихся и бодрящихся, сохраняющих и потерявших достоинство, раздавал им ложечки лекарства, раздобывал ломтики хлеба, вручал крошки бодрости.
Какие-то крохи доставались и талантам. И в дальнейшем, когда Здарг в поисках голодающих ученых проник в этот лагерь, ему настойчиво рекомендовали взять к себе Ласаха.
На Астрелле Ласах как психолог занимался психологией вдохновения. Он считал, что взлет таланта порождается радостью, ему и поручили обеспечивать радость: выслушивать желания пассажиров Астреллы и удовлетворять их.
А кто удовлетворяет желания? Обслуга. И постепенно все обслуживающие оказались в ведении Ласаха. Он сделался третьим лицом на Астрелле, и подпись его стоит третьей в полемике с Вдагом.
Три подписи от имени всех жителей Астреллы, но три отношения к жителям.
Здаргу некогда было думать о подчиненных, хотя он и неплохо разбирался в них: умел отыскивать искру таланта, умел зажечь огонь творчества. Но со слабостями Здарг не желал считаться. Сам он был ненасытно трудолюбив, невероятно трудоспособен, больше всего на свете ценил свободное время, покой и хорошую библиотеку. И предполагал, что прочие, получив время, покой и книги (или лабораторию, или мастерскую), начнут самозабвенно творить и будут счастливы. К сожалению, на Астреллу попали разные работники: и не столь трудолюбивые, и не столь способные, и даже вовсе бездарные. Но в бездарности ни один уроженец Вдага не признается даже себе. Неуспех он будет оправдывать отсутствием подходящих условий. Именно пустоцветы докучали Здаргу все новыми и новыми просьбами, именно лодыри мешали трудиться трудолюбцу. Ридда первая заметила это и ринулась на защиту своего кумира.
Для Ридды вселенная была устроена просто: есть Солнце, и есть спутники, светящие отраженным светом. Солнцем, конечно, был Здарг, прочие — в лучшем случае спутниками. Солнце Ридда боготворила, всех остальных делила на полезных Здаргу, бесполезных, упрямо невосприимчивых и вредных. В характерах Ридда разбиралась не хуже Здарга, но совсем иначе. Здарг видел искры таланта, Ридда — только слабости. Легко замечала слабости и умела играть на них. Интересно, что и Ласах прежде всего замечал слабости. Но он был целителем по натуре, хотел бальзам проливать на раны, а не бередить.
Итак, три подписи, три позиции, три отношения к окружающим.
Здарг: «Талантлив каждый. Освободите его от забот, он проявит себя».
Ридда: «Таланты — исключение. Остальные должны служить лучшему, единственно одаренному, от него получать свет и счастье».
Ласах: «Талантлив каждый, и каждый слаб. Излечите слабость, талант развернется».
Разные позиции, разные мотивы, а подписи стоят рядом. По разным мотивам Здаргу, Ридде и Ласаху не хотелось ликвидировать летающую колонию. А всем остальным не хотелось покидать ее, возвращаться к неустройству послевоенного Вдага. Не хотелось! Но уроженцам Вдага, тут Ласах был прав отчасти, свойственна некоторая слабость. Они никогда не ссылаются на «хочется — не хочется». Это считается у них неприличным. Предпочтительнее доказать, что ты поступаешь разумно, справедливо и даже благородно. Хочется остаться на Астрелле… и доказываешь, что ты избранник, особенный, что от тебя зависит культура и цивилизация, что для счастья будущих поколений ты обязан жить в башне из слоновой кости.
И пишется меморандум с доводами демографическими, историческими, юридическими. Причины для неповиновения найдены веские. Пожалуй, возражения Астреллы выглядят очень логично. И вполне разумным представляется предложение обсудить спорный вопрос на конференции. Правда, срок назван невежливый: Вдаг предлагает поворачивать немедленно, Астрелла же отвечает: «Там посмотрим, поговорим будущим летом, после дождичка в четверг…»
И в Академии обиделись, ответили резко и безапелляционно:
«…мы удивлены, что вместо рапорта о выполнении вы прислали уклончивый ответ. Предлагаем рассматривать предыдущую радиограмму как предписание. Ждем немедленного сообщения о точных сроках исполнения…»
Позднейшие биографы единогласно отмечают и вызывающий тон, и неоправданную торопливость этого послания. Ведь участие Астреллы в передвижке Их-Луны действительно уничтожило бы все труды ее жителей. Почему бы не приспособить для буксировки небесных тел другой астероид, ненаселенный, незастроенный? В предписании нет никаких доводов. Можно только гадать, были ли веские причины. Некоторые историки подозревают, что на Вдаге снова назревала война и Астреллу хотели использовать как оружие или хотя бы как козырь в переговорах. Именно так и поняли астреллиты. В их личных дневниках мы находим обсуждение слухов о войне.
Мне представляется правдоподобной также гипотеза того биографа, который обратил внимание на подписи. Президент Академии был болен, вместо него резкую радиограмму подписал исполняющий обязанности… по имени Льерль. Конечно, бывший руководитель Здарга с раздражением относился к успехам взбунтовавшегося ученика. Завидовал? Не то слово. Льерль недоумевал. Он считал взлет Здарга недоразумением, все еще был убежден, что все открытия в области гравитации должен был делать он — Льерль. Его несправедливо отодвинули, в обход порядка поручали Здаргу, а не Льерлю описывать, изучать, конструировать и строить гравистанции. Льерль считал, что это его законная слава, его законные награды достались Здаргу, в том числе и самая почетная из наград — космическая яхта, личный астероид. А теперь Здарг, этот выскочка, превознесенный выше всякой меры, еще смеет своевольничать. Поставить его на место!
Конечно, Здарг разъярился. Кому предписывают? Ему? Кто предписывает? Кабинетные старички, протоколописатели, прозевавшие все открытия последнего столетия. И Здарг отрубил в ответ: «Подарки не отбирают. Астрелла — моя, куда хочу, туда верчу».
Тон делает музыку. Здарга задели, он ответил грубо. Грубостей Академия не могла стерпеть. Последовали репрессии.
«…Начальник космического филиала АЮВ талант I ранга Здарг с сего числа отстраняется от занимаемой должности с привлечением к ответственности за самоуправство…»
Приказ был зачитан на общем собрании астреллитов (все население умещалось на площадке стадиона) и встречен возмущенными возгласами: «Долой!», «Позор!» Затем на судейскую трибуну взошла Ридда и срывающимся голосом зачитала Декларацию:
«§ 1. Астрелла выходит из подчинения Академии Южного Вдага, перестает быть космическим филиалом, объявляет себя Независимым Сообществом Талантов — НСТ (Здарг отверг льстивое название «Здаргия»).
§ 2. Народ Астреллы сам определяет орбиту.
§ 3. Таланту доступно все. Целью истинных талантов является всестороннее развитие личности, прогресс науки, искусства и культуры».
И т. д., вплоть до последнего параграфа:
«§… Пожизненным президентом НСТ является Здарг».
Декларация была принята единогласно простым поднятием рук. Впрочем, и при тайном голосовании результат был бы таким же. Здарга любили все, на Вдаг возвращаться не хотел никто.
Возмущенный Льерль обратился в правительство Южной Федерации, требуя решительных мер:
«…Необходимо немедленно приступить к подготовке эскадры из четырех кораблей, вооруженных ульда-бомбами. Четыре корабля — обязательный минимум, чтобы атаковать Астреллу с четырех сторон одновременно. Бунтовщики небеззащитны: в их распоряжении имеется гравистанция, которая может быть использована как источник сжигающих ульда-лучей, но только в одном направлении. Маневрируя, наступающие легко уйдут из зоны поражения. В худшем случае ульда-лучи уничтожат два корабля на подходе, тогда как остальные два сумеют выполнить свое назначение: привести к повиновению мятежников или уничтожить их ядерным обстрелом».
К записке были приложены расчеты выгодных орбит, схемы расположения ракет в бою, тактические варианты, смета… Вся операция должна была стоить около шести миллиардов на наши земные деньги.
Доклад Льерля обсуждался на секретном совещании два дня. Штабисты, скучавшие без дела, с увлечением уточняли тактику космической войны. Но потом слово взял престарелый Ксатр, глава делегации южан на Конференции вечного мира и полного разоружения. Осторожный и неторопливый, старик считался образцом предусмотрительной рассудительности. «Рассудил, как Ксатр», — говорят на Вдаге и ныне. Это означает: вдумчиво, толково и справедливо.
— Шесть миллиардов? — переспросил он дребезжащим голосом. — Я не ослышался? Нам предлагают потратить шесть миллиардов, чтобы привести к повиновению тысячу упрямых ученых. По шесть миллионов на ученую голову? Стоят они столько? И даже если стоят, все равно деньги будут выброшены в вакуум, ведь бунтовщиков-то казнить придется. И это не считая двух космических кораблей с экипажем, которые нам испепелят за ту же цену. Тут говорили, что необходимые жертвы нужны, чтобы другим неповадно было. Кому именно? Потомкам, очевидно. Что именно «неповадно»? Я прошу вас припомнить исходные положения спора. Вдаг растет численно, склонен расти в пространстве, покоряя и переделывая природу дома и в космосе. Астрелла возражает против роста и против переделки. Идет дискуссия о принципах будущего. И, на мой взгляд, ульда-бомбы не лучший аргумент в этой дискуссии, не самый убедительный для потомков. Для них, для потомков, убедительнее эксперимент, моделирование вариантов развития. Так не оставить ли нам Астреллу в покое? Пусть она будет экспериментальной моделью. Вдаг — модель неограниченного роста, Астрелла — модель с четкими граничными условиями. Потомки увидят, у кого получится лучше. Лично я вношу предложение: шесть миллиардов оставить в бюджете, записку сдать в архив, Академии же заняться своим прямым делом: составлять планы увеличения урожайности, не подменять генеральные штабы.
И всем это решение показалось единственно разумным. В самом деле, думали-думали, как дешевле всего подавить ослушников. А дешевле всего не подавлять. Предоставить решение времени. Может быть, Астрелла сама себя накажет. А может быть, окажется права, тогда тоже карать незачем.
В космос была послана радиограмма:
«Вдаг осуждает группу ученых, эгоистически отказавшихся принять участие в срочных заботах населения планеты. Вдаг лишает гражданства научных дезертиров, но полагает, что со временем они осознают свою ошибку, раскаются и будут просить о прощении. Прошения будут рассмотрены в индивидуальном порядке».
Итак, Астрелла настояла на своем. По этому случаю был устроен всеастероидный праздник. Музыканты исполняли праздничные симфонии, поэты читали стихи о раскрепощенном таланте, художники изображали этот талант на полотнах и утесах в манере реалистической, символической и абстрактной… А затем «раскрепощенные» с удовольствием отправились в свои кабинеты и лаборатории, взялись за справочники, словари, чертежи и колбы, чтобы довести до конца свои замыслы, которые не сумел сорвать Льерль.
И Здарг занялся своим замыслом. Персональное светило задумал он сделать для Астреллы. Искусственное солнце! С ним Астрелла могла бы посещать все далекие холодные планеты, даже покинуть планетную систему, уйти в темные межзвездные просторы.
Собственное солнце зажечь! Для нас, жителей Земли, идея фантастическая и поэтическая, для Здарга — естественный этап.
Здарг умел управлять гравитацией. Отнимая миллиардные доли массы, изготовлял Грави-Вдаги всевозрастающих размеров. Отнимая миллионные доли массы, изготовлял Грави-Солнца и, балансируя на критической грани, зажигал их, словно настоящие.
Дециметровые Грави-Солнца служили плавильными печами, метровые обеспечивали энергией электростанции, десятиметровые могли кипятить воду для опреснителей, стометровые — изгонять зиму из целых городов, в полярных странах создавать тропические оазисы.
Километровое Грави-Солнце могло стать светилом для небольшого бессолнечного мира, такого, как Астрелла.
Но у Астреллы был собственный спутник — гравибуксир. На нем стояла гравистанция, буксирная. Подтягивала и доворачивала Астреллу, меняя орбиту по разумению Здарга. Та же станция при увеличенной мощности могла и зажечь этот спутник, превратив его в сияющее солнышко.
Такова общая идея. Всем читающим она приходит в голову. А далее следуют «технические трудности», занимавшие Здарга не один год. Нарочно напоминаю о них. В литературном повествовании как-то выпадают из поля зрения эти технические трудности, все кажется, о чем тут размышлять, собственно говоря.
Во-первых, есть разница между Грави-Солнцем и настоящим Солнцем. Грави-Солнце меньше и притягивает не так надежно. Раскаленные газы удирают с его поверхности. Нужно еще удержать их. Грави-Солнце склонно таять само собой.
Во-вторых, Грави-Солнце зажигается гравистанцией, а гравистанции строятся из металла и керамики, они могут расплавиться при солнечных температурах.
В-третьих, Грави-Солнце служит, кроме того, и буксиром, а для буксира нужны одни параметры, для солнца — другие. Переставлять надо было с места на место единственный спутник Астреллы. И рассчитать все изменения орбиты при изменении гравитации на этом капризном Грави-Солнце.
Были еще «в-четвертых», «в-пятых», «в-шестых»… «в-сотых». Хватало головоломок Здаргу. Но в конце концов дело было сделано. К годовщине объявления независимости таланты Астреллы получили подарок — свое собственное солнце.
Это действительно был торжественный момент, когда на ночном небе бледный круг зажегся ярким огнем. Свет разгорался постепенно, наливаясь алой кровью, спутник-солнышко как бы осветился изнутри, пожелтел, поголубел, раскалился и засиял, насыщая звонким цветом каждый предмет. И травы Астреллы стали зелеными, небо — темно-синим, скалы приобрели все оттенки — от песочно-желтого до черного, прорисовались колонны и капители во всей узорности, лица зарумянились, блондинки стали светлее, брюнетки — чернее. Впрочем, к чему перечислять краски? Мы на Земле видим это чудо каждое утро, когда серый предрассветный сумрак сменяется пестрой палитрой дня. Но астреллитам после полугодового блуждания в поясе вечной прохлады, в отдалении от собственного солнца, возрождение лета казалось счастьем, если не чудом.
Мерзли, мерзли! И вдруг по мановению Здарга — грейтесь, загорайте!
Позже художники написали сотни картин с обнаженной натурой под названиями: «Праздник нового Солнца», «Солнце подарено», «Первая ласка Солнца», «Обручение Астреллы с Солнцем»…
И скульпторы высекли сотни фигур, изображающих Здарга с солнцем в руке.
И поэты написали тысячи стихов о свете разума, разгоняющего тьму, о солнце, жарком и страстном, как возлюбленная, о солнце, подобном верной жене и даже… верному псу, бегущему за хозяином на край света, в данном случае — на край планетной системы.
Славная была победа. И время самое славное в истории Астреллы — время покорения вершин. К сожалению, таково правило альпинизма — после покорения вершины следует спускаться.
И на Астрелле начался спад — возникли раздоры.
Раздоры возникли в связи с обсуждением устава талантов. Здарг все откладывал это обсуждение: ему организационные дела представлялись маловажными. Предоставили тебе возможности — твори, работай! И Ридда не спешила: к чему устав, к чему свод законов Астреллы, когда сам Здарг — свод законов. Но многие таланты напоминали, даже настаивали на дискуссии. В конце концов Ридда зачитала составленный ею же текст на празднике Рождения Солнца. Думала про себя, что в обстановке всеобщего ликования ненужная ей дискуссия смажется сама собой.
Споры мог вызвать только параграф третий: «Целью истинных талантов является всестороннее развитие личности, прогресс науки, искусства и культуры…»
К этому Ридда предлагала добавить разъяснение:
«…Прогресс качественный, а не количественный, совершенствование чувств и разума сапиенса как высшего достижения природы, создание оптимальных условий для духовного роста».
Ридде казалось, что возражений не будет. Формулировка широкая, неопределенная и лестная. Кто же против прогресса, культуры и науки? Кто же откажется считать себя высшим достижением природы? Кто не захочет оптимальных условий для развития собственного духа? И кто же, наконец, захочет отложить праздничное угощение ради уточнения каких-то параграфов? Проголосуют, утвердят, предоставят Ридде самой решать, кто есть талант истинный и что такое оптимальные условия.
Но отыскался оппонент. Нашелся рьяный спорщик с возражениями: некто Гвинг, изобретатель, инженер-химик. Промышленной генетикой занимался он, живя и на Астрелле.
«Нескладный», — говорили о нем сдержанные историки. «Уродиной» называли недруги. Мне анапод нарисовал могучий торс на кривых ногах, длинные волосатые руки, широкое бугристое лицо, черную повязку на поврежденном глазу. Гвинг был земляком Ласаха, даже ровесником, они учились в одном институте. Судьба почти одинаковая… но в одинаковых условиях вели себя по-разному Ласах и Гвинг.
Ласах отлично ладил с окружающими, каждому умел сказать и сделать приятное. Гвинг всех раздражал своей непримиримостью, его считали сварливым скандалистом, ругателем и циником, не знающим ничего святого. На самом деле был у Гвинга свой кумир: Святая Справедливость; не задумываясь, приносил он в жертву этому кумиру и близких и себя.
От рождения Гвинг был здоров и даже благообразен. Его изуродовал, сделал одноглазым взрыв в лаборатории. Неловкая и бестолковая уборщица уронила бутыль с химикалиями. Гвинг кинулся и заслонил женщину от осколков. По его понятиям о справедливости, женщину полагалось заслонять.
В дальнейшем он работал фармацевтом, аптекарем. На нищем и безграмотном Вдаге эта работа давала некоторый достаток. Семья Гвинга была сыта, одета, девочки учились в школе. Но когда голодающие штурмовали хлебные склады спекулянтов, Гвинг оказался во главе, был схвачен и заключен в тюрьму на долгий срок. Испуганные власти пошли на уступки, несколько ограничили жадность спекулянтов, миллионы голодающих получили хлеб. Но семья Гвинга пошла по миру, его собственные дочери умерли от дистрофии.
В тюрьме было достаточно времени для размышлений. Сидя в камере, Гвинг написал трактат о производстве синтетической пищи. Синтез мог бы решить проблему прокормления Вдага. Позже, узнав о летающей космической Академии Здарга, Гвинг переслал туда свой трактат, настаивая на том, чтобы ученые астероида энергично продолжали работу по синтезу. Но Здарг верил в головы, а не в формулы. Он сумел вызволить Гвинга из тюрьмы, взял его на свою космическую яхту. Ридда отнесла его к привилегированной группе «самых перспективных». Гвингу отвели просторный участок; он превратил его в хлев в прямом смысле и в переносном — заставил смрадными свинарниками и еще более вонючими чанами, где варились эрзац-амины, эрзац-углеводы, синтетическое пойло, которое свиньи затем превращали в качественную ветчину. Опыты были в самом разгаре, когда пришло распоряжение Льерля сворачивать работу, перегонять Астреллу к Их-Луне. Тогда Гвинг возмущался громче всех, кричал, что в Академии Южного Вдага засели людоеды, только людоеды могут срывать самую важную из задач науки во имя проблематической погони за жалкими приливными акваториями, что, если он, Гвинг, не завершит свое исследование, вообще никаких сапиенсов не будет на Вдаге. В ту пору Гвинга называли «большой дубинкой Ридды».
И вдруг эта дубинка ударила по руке хозяйки. Гвинг выступил со своей формулировкой параграфа третьего.
«Целью истинных талантов, — возглашал он своим хриплым голосом, — является развитие науки, искусства и культуры для обеспечения благоденствия всех жителей Вдага.
Живым существам для благоденствия необходимы: а) еда, б) одежда, в) жилье, г) транспорт, д) связь, е) здоровье, ж) безопасность, з) духовное развитие, знание, просвещение, и) отдых, к) свободное время;
а) для создания изобилия еды таланты Астреллы разрабатывают…
б) для создания изобилия одежды таланты Астреллы разрабатывают…»
и т. д., вплоть до раздела десятого:
«к) для обеспечения изобилия свободного времени таланты Астреллы разрабатывают автоматы, избавляющие от отупляющего, нетворческого труда. Главный вклад в данное время — комнатно-кухонный автомат «киберприслуга», освобождающий женщину от одуряющего труда по домашнему хозяйству».
В общем десять разделов, в каждом перечень тем с указанием «главного вклада» — самой злободневной темы. Гвинг даже предлагал составить список ответственных за вклады и указать сроки выполнения.
Не скрывая негодования, Ридда отвечала с сердитой иронией. Она сказала, что выступавший, видимо, не очень четко понимает разницу между интуицией и инструкцией, советовала заглянуть в толковый словарь. Сказала, что привлекательная на первый взгляд конкретность Гвинга на самом деле сковывает инициативу; нельзя же из-за каждой новой идеи ученого собирать общее собрание жителей Астреллы, чтобы внести поправку в свод законов. Сказала, что подлинные, «чистые» таланты не пойдут на пустопорожнюю дискуссию о том, какой «вклад» главный и какой — не самый главный; назвала речь Гвинга псевдологическим дляканьем («для обеспечения», «для благоденствия», «для еды», «для одежды»…). Впоследствии сторонников Гвинга так и называли дляками.
Приверженцев же Ридды именовали нутристами, поскольку они говорили, что у настоящего таланта есть внутренняя потребность творчества, ему наставление не нужно.
Полемика дляков с нутристами продолжалась устно и в печати.
Перебирая статьи, вслушиваясь в раскаты давно отгремевших споров, невольно пожимаешь плечами: к чему столько страсти? Астрелла — питомник свободного творчества. Вот и твори каждый по своему вкусу: дляки — для практической пользы, нутристы — по внутреннему побуждению, от нутра.
Но в том-то и дело, что отвлеченные, казалось бы, споры о творческих задачах были тесно связаны с насущным вопросом выбора орбиты. Дляки требовали держаться поближе к Вдагу, нутристы предпочитали удалиться. А эта астрономическая альтернатива, в свою очередь, определялась житейскими желаниями. Дляки хотели перенести свои опыты на Вдаг, а «чистые» не нуждались во Вдаге, даже боялись возвращения. Возможно, они опасались, что Вдаг начнет пересортировку. Дляки явно были полезны планете, их оставили бы на Астрелле, нутристы же со своими отвлеченными и эстетическими идеями могли показаться и необязательными.
Однако по неписаному этикету Вдага о житейских нуждах не полагалось говорить вслух. Рассуждать надо было о нравственности, справедливости, доброте, красоте. И самих себя спорщики убеждали, что «хочется — не хочется» для них не играет роли. Они пекутся только о правде, о всеобщем благе. Толковали о всеобщем благе, а руки поднимали за «хочется». Большинству не хотелось возвращаться на голодающий Вдаг. Большинство проголосовало за удаленную орбиту.
Ридда победила, но победа ее не успокоила. Дляки остались в меньшинстве… чересчур влиятельном. Ведь почти все «перспективные» принадлежали к длякам. (О неблагодарные, именно их Ридда окружала особенной заботой!) Такова была логика их деятельности. Практичные изобретения «перспективных» были близки к завершению, пора было переносить их на поля и в цехи. К длякам примыкали и «масштабные», для которых Астрелла была маловата, например Грд — теоретик управления климатом, инженер Чрз — автор проекта укрощения землетрясений, бесполезного на астероиде, где землетрясений не бывало вообще. Все народ активный, деятельный и настойчивый. И Ридда понимала, что дляки не успокоятся, что-то будут предпринимать.
Действительно, на следующее же заседание правления дляки явились с петицией. Они хотели покинуть Астреллу, просили им предоставить ракету.
— И скатертью дорога! — фыркнула Ридда сгоряча. — Без вас воздух будет чище. Копоти меньше, в прямом смысле тоже.
Хитрый Бонгр, друг Ласаха, однако, переубедил ее. На заседании он произнес речь о благородстве, товарищеской солидарности и трусливой подлости предательского сепаратизма. Позже Ридде объяснил, что раскол бунтовщиков на «раскаявшихся» и «неисправимых» подрывает позиции оставшихся. Дурной пример заразителен. За первой группой побежит каяться вторая, начнется бегство вперегонки, а с немногочисленными оставшимися («с возвышенными душами, с рыцарями чести и принципа», — сказал Бонгр) Вдаг церемониться не будет.
Короче: без дляков нутристы не чувствовали себя уверенно.
Петицию отклонили под тем предлогом, что ракета на Астрелле единственная.
Получив отказ, Гвинг подал прошение о том, чтобы длякам разрешили по радио передать результаты своих исследований. Казалось бы, и бескорыстно, и благородно, и для нутристов безвредно. Но Бонгр воспротивился и тут, произнес еще одну речь, на этот раз о скромности, хулил выскочек, старающихся выделиться на общем фоне. Мотив был тот же: не показать Вдагу, что на Астрелле раздоры. Проголосовали. Гвинг остался в меньшинстве.
Но Ридда понимала, что главный дляк не отступится. В просьбах отказали, попробует захватить ракету силой. Ридда уговорила Здарга поставить охрану на ракетодроме, расставила посты и возле дома Здарга. Все предусмотрела она, не догадалась о самом существенном — о том, что глава талантов колеблется сам, сочувствует длякам… даже не прочь покинуть Астреллу.
Странный каприз, непонятная прихоть гения, даже некрасивая, этакая непоследовательная неустойчивость. Но если проследить ход научной мысли Здарга, вывод получается очень последовательный.
Всю жизнь Здарга тянуло в неведомое, всюду он хотел быть открывателем, самым-самым первым, пионером мысли, разведчиком разведчиков. Его Грави-Вдаги были лестницей в неслыханное. Грави-Вдаг — 1 м — это лаборатория, Грави-Вдаг — 10 м — новая медицина, Грави-Вдаг — 100 м — новая агротехника, Грави-Вдаг — 10 км — новая астрономия. Рычаги погоды, рычаги природы, рычаги, переворачивающие небесные тела, — осуществленная мечта нашего Архимеда. Грави-Вдаг — точка опоры для переворачивания миров. И довольно возни с рычагами! Пусть повторяльщики повторяют Здарга, двигают Их-Луну туда-сюда. Здаргу надоели орбиты и приливы. Здарг увлечен искусственным солнцем. Опять неслыханное, небывалое! Солнца еще не зажигали смертные. Наш античный титан Прометей всего лишь украл готовый небесный огонь.
Но вот солнце зажглось, сияет, греет, нежит, загаром красит стройные тела астреллиток. Проверено, стало привычным. Повторяльщики, если хотят, могут развлекаться новенькими солнцами. А чем заняться Здаргу? Где еще осталось невозможное?
И вспоминается то, от чего он сам отказался так недавно.
Приливами невозможно прокормить Вдаг. Но нельзя ли прокормиться на самой Луне?
Гравитация мала? Их-Луна не удержит воздух и воду. Увеличить гравитацию? Но для этого мощность гравистанций должна быть в десятки тысяч раз больше, чем на Астрелле, техника не сразу делает такие скачки. Кроме того, нужна еще шахта к центру тяжести Их-Луны, колодец в полторы тысячи километров глубиной. Для водного Вдага что-то невероятное. «Невозможная мощность, невозможная шахта» — так возражал Здарг мечтателям в свое время. Но сейчас он подумал: нет ли других решений? Наука, как и транспорт, не штурмует вершины в лоб, ищет пологие, хотя бы и более длинные, пути. Если сверхглубокая шахта — главное препятствие, нельзя ли обойтись без сверхглубоких шахт?
«Наоборот нельзя ли?» — как всегда, вопрошает себя Здарг.
Не одна сверхшахта, а десяток тысяч мелких. Не одна сверхстанция, а десяток тысяч стандартных, таких же, как на Астрелле, давно освоенных техникой. Расставить их можно в шахматном порядке, заглубив километров на тридцать. Горбы тяготения снять добавочными станциями на пересечении диагоналей.
Удивительное получится небесное тело с усиленным напряжением тяжести только в коре.
Хватит ли прочности у пород? Не начнет ли кора отслаиваться от мантии? Опыты провести бы. Нет возможности. Их-Луна далеко. Здарг делает расчеты, накладывает сетку станций на карту, делает привязку в зависимости от кратеров и хребтов, составляет пояснительную записку… и кладет папку в шкаф.
Астрелле этот проект не нужен. И нет возможности опробовать его даже для личного удовольствия Здарга. Имеется одна-единственная станция Грави-Вдаг — 30 км, обеспечивающая все нужды, еще одна — на гравибуксире… Третью и соорудить нельзя. Нет промышленности, рук рабочих нет.
Остается теоретизирование.
Предположим, оживление Их-Луны удалось. Добыто нужное количество воды и газов, моря залиты, атмосфера заполнена, почвы созданы, засеяны…
Вероятно, лет через сорок-пятьдесят потребуется еще одна луна, третья, четвертая. Спутники можно отобрать у дальних планет гравитационными атаками изменить их орбиту, привести ближе к Солнцу и Вдагу. Но вот вопрос: как располагать их? Системы из трех-четырех тел неустойчивы, орбиты их изменчивы, соседи становятся антиподами, антиподы — соседями. Планировать экономику плавучих островов не так удобно. Еще труднее агротехника на планетах с неопределенными орбитами, изменчивыми сезонами, растяжимыми зимой и летом. Но самое страшное — взаимное притяжение, вечная угроза космического столкновения, страшнейшей из катастроф. Нелегко регулировать движение на магистрали, если автобусы сами собой склонны притягиваться друг к другу.
Зная все это, Здарг написал в свое время: «Неизбежно мы приходим к необходимости ограничить рост…»
О росте он подспудно думал все время. И где-то ему вспомнилось ядро нашей Галактики. Ядро вращается как твердое тело. Почему-то оно не сжимается, звезды там не притягиваются друг к другу. Почему? Чтобы расставлять планеты в космосе, надо бы узнать тайну Галактического Ядра.
К сожалению, Здарг живет в эпоху ядерных ракет, когда сотни километров в секунду — предел для техники. Скорость света для него — далекое-далекое будущее, межзвездные перелеты — научная фантастика, полет в Ядро — фантастика почти ненаучная. Мечтать об экспедиции не приходится. Остаются опыты. Надо расставить в космосе сотни, а может, и тысячи Грави-Вдагов, посмотреть, как они будут двигаться, в каких условиях парализуется тяготение.
Здарг составляет проект гравитационного полигона. Но Астрелле такой размах не под силу, и нет в нем нужды. Астрелле с лихвой хватает своей территории. У каждого таланта усадьба в сто гектаров, а хочешь триста — получай триста. Вот для Вдага расстановка жилых планет — практическая задача ближайших десятилетий.
Папки лежат в шкафу.
Здарг томится от невозможности перейти от формул к делу.
Был бы молодым, бросил бы все и удрал на Вдаг. Молодые легки на подъем; у них багажа мало. Багажом Здарга была Астрелла, он задумал эту школу талантов, привлек в нее ученых, отвечал перед ними. Здарг разрывался, и кто знает, что перевесило бы: чувство долга или тяга к новизне? Но тут Ридда совершила непростительную ошибку: невольно ускорила события, приведя к Здаргу вождя дляков.
Зачем? По обыкновению Ридда переоценила своего кумира. Она полагала, что Здарг своей логикой, эрудицией, авторитетом раздавит неуклюжего дляка. Просветленный и пристыженный Гвинг превратится в верного здаргиста, прекратит утомительную борьбу.
Но коса нашла на камень.
И косой оказался Здарг, потому что сам он колебался.
Художники Вдага не раз изображали сцену встречи. Если анаподировать ее, перевести на земные образы, получится примерно такое: полумрак просторного кабинета, на большом пустоватом столе (Здарг методичен, не разбрасывает бумаги как попало) — настольная лампа. Она отражается в чистом стекле, скупо освещает две фигуры, такие разные. Рассеченное шрамом лицо Гвинга почти страшно, единственный глаз выпучен, губы закушены. Он уселся в кресле глубоко и прочно, мощными руками держится за подлокотники, всей позой показывает, что его не сдвинешь на волос. А перед ним возвышается статный Здарг, этакий былинный богатырь. Кажется, одной рукой нажмет — и мокрое место останется от противника. Но не нажимает богатырь. Нет в его позе уверенности. Руки убрал за спину, склонился, слушает. Мог бы раздавить — спрашивает вместо того.
Не было твердости у титана. И кончилась встреча победой мрачного гнома. Здарг обещал помочь длякам, способствовать их побегу. Так, по крайней мере, утверждал Гвинг впоследствии.
Так утверждал Гвинг. Свидетельства Здарга нет. Он дал слово молчать.
Все равно тайна не осталась в тайне. Ракета была рассчитана на двенадцать мест; Гвингу нужно было набрать двенадцать участников. Двенадцать ученых готовились к отъезду, этого нельзя было не заметить, у кого-то были жены, жены догадались или выведали, по секрету рассказали лучшим подругам…
Короче, не прошло и двух дней после той решающей беседы, как Ридда, вбежав к Здаргу, еще с порога объявила, что эти подлецы, эти скоты неблагодарные, эти подонки, выродки, крохоборы безмозглые (в лексиконе Вдага достаточно ругательств) задумали побег.
И тут она узнает, что Здарг сочувствует безмозглым крохоборам. Больше того, сам хотел бы вернуться на Вдаг.
Последовала бурная сцена. Ридда стыдила Здарга и умоляла его. Ридда плакала, стояла на коленях и грозила отравиться. Ридда кричала на своего полубога и целовала ему руки. Если вдуматься, пожалуй, в тот вечер Ридда изменила сама себе. Всю жизнь она сражалась за интересы Здарга, поддерживала все его начинания, оправдывала все прихоти, все зигзаги поведения. Почему же именно на этом зигзаге она вступила в спор со своим кумиром? Вероятно, испугалась за него. Испугалась, что от кумира отвернутся и Вдаг и Астрелла, он окажется между двумя стульями. Да, жители Астреллы боготворили Здарга, считали если не богом, то пророком, во всяком случае. Но пророк, Ридда понимала это, должен потакать своим приверженцам. Верующие позволяют вести себя, но только туда, куда им хочется идти. Лидер, сворачивающий слишком резко и часто, рискует остаться без последователей. А потеряв последователей, теряет вес, с ним перестают считаться и противники. Ридда подумала, что академики Вдага будут мстить Здаргу за непокорность, навяжут ему унизительную роль раскаявшегося блудного сына, вместо того чтобы рассматривать проекты по существу. И превратится он в прожектера, борца с ветряными мельницами. В конце жизни испытает то, чего избежал в начале.
— Только не бегство, только не бегство! — молила она, ломая руки. — Обещай мне не торопиться. Дай честное слово!
Здарг дал слово… и нарушил его немедленно. Не было возможности не торопиться. Здарг понял, что Ридда утром, не откладывая, оповестит Астреллу о заговоре. Стало быть, раздумывая и медля, Здарг предаст доверившихся ему дляков. Как только Ридда ушла, Здарг прошелся по комнате раз, другой, все взвесил, решился и снял трубку видеофона, чтобы позвонить Гвингу.
Ридда вышла от своего любимца расстроенная и заплаканная, с грязными потеками краски, смытой слезами с ресниц. Было уже очень поздно — около часу ночи по нашим понятиям — и очень темно, потому что собственной луной Астрелла еще не обзавелась. Придерживая пальцами виски, Ридда брела по каменистым тропинкам. У нее разыгралась мигрень. Казалось, кто-то залез в мозг и никак не может выбраться, давит на череп изнутри, то ли сверлит кость буравчиком, то ли проломить старается. И всю дорогу Ридда думала только о головной боли: скорее бы добраться до дому, принять снотворное, вытянуться в постели, дождаться, чтобы дурман заглушил боль.
На все это ушло полчаса. («Проклятые полчаса!» — писала она позже в воспоминаниях.) Когда боль растворилась, Ридда подумала, что дляки трепыхаются последнюю ночку, завтра поутру их всех приберут к рукам, голубчиков… И вдруг отчетливо поняла, что и Здарг это понял тоже, совесть заставит его предупредить Гвинга, и побег состоится именно в эту ночь.
Рывком сбросив одеяло, Ридда схватила видеофон.
Но кому звонить? Ласаху? Разве этот мягкотелый может сопротивляться кому-нибудь? Бонгру? Тот пожестче, но и похитрее, предпочитает жар загребать чужими руками. Эх, мужчины, мужчины, нет на свете мужчин! Напрасно смелость называют мужеством.
Ридда вызвала охрану космодрома.
— Да, к ракете прошла группа, — сонным голосом сказал дежурный. — Но сам президент провожал их. Он и сейчас с ними.
— Задержите! — закричала Ридда не своим голосом. — Любыми средствами не допустите взлета. Здарга похитили. Его увели силой.
— Есть задержать! Есть не допустить! — Дежурный испуган. Боится, что ему придется отвечать за недосмотр.
— И осветите ракетодром. И меня подключите к селектору. Я хочу видеть, как вы шевелитесь там.
Когда экран осветился, Ридда увидела обширное ровное поле, единственное ровное поле на скалистой Астрелле. По нему метались лучи, освещая суетливые фигурки.
И вдруг фигурки ложатся все разом.
— Дежурный, в чем дело? Почему охрана залегла?
— Нарушители отстреливаются, госпожа Ридда. Оказывают вооруженное сопротивление.
Действительно, экран исчерчен резкими светлыми линиями. Так выглядят трассы смертоносных лучей фотонных пистолетов.
Оторвавшись от экрана, Ридда сама звонит в штаб, разыскивает командиров десяток, связных.
А минуты идут. Фигурки все еще лежат. Приподнимаются на миг и тут же падают. Над их головами ходят, скрещиваясь, как бы фехтуют, лучевые шпаги. Фехтуют, пожалуй, все ленивее. То ли батареи в пистолетах иссякают, то ли иссякает живая сила. Некоторые из сражающихся уже не поднимают головы.
Но вот появилась подмога. По полю мчится машина, за ней другая. Новые фигурки раскатываются горошинами. Расцветают букеты лучей. Все они упираются в кучку беглецов.
Дляки, видимо, поняли безнадежность своего дела. Кто-то рослый поднялся на их стороне, кричит, размахивая руками. Сдается или зовет в атаку — не разберешь. Луч чиркнул по нему, рослый рухнул разом, как подпиленный. Преследователи поднялись с жидким «ура!», уцелевшие дляки подняли руки.
Круглое лицо дежурного заслонило экран. Круглые глаза смотрели растерянно, пухлые губы шлепали беззвучно, не сразу сумели выговорить:
— Госпо-спожа Ридда. Там убитые. Там Здарг убитый.
Ридда завизжала и кулаком ударила по экрану. Трубка лопнула с треском.
Здарг еще не был мертв, но приближался к смерти. Умирал тяжело, страшно и неаккуратно, как умирают рассеченные лучом надвое. Могучее тело еще боролось, руки судорожно удерживали бесчувственную парализованную нижнюю половину, глотка взывала: «Я Здарг. Я ранен. Ко мне! Доктора Здаргу!» Слова перемежались звериным воем боли. И снова: «Я Здарг. Доктора. Ранен Здарг!»
Кто-то побежал за врачом, может быть, тот самый, который раскроил Здарга. Кто-то пытался перевязать рану, стянуть артерии. Но кровь лилась наружу и внутрь… и с кровью уходила сила. Крик становился все глуше; Здарг уже не вопил, а подвывал, не требовал, а просил: «Доктора… пожалуйста! Здаргу плохо… худо Здаргу…»
Стон переходит в хрип, в шепот. И выплывает из самых глубин мозга последняя мольба, последняя надежда, самая сокровенная: «Мама, бо-бо!»
Так ушел из жизни Здарг, величайший из ученых планеты Вдаг, самый волевой, самый напористый, самый непреклонный. Ушел непреклонный в тот день, когда заколебался.
Проклятая обязанность у биографов. Вынуждены мы описать смерть своего героя.
Целый месяц Астрелла была в трауре: ни единой песни, ни кино, ни концертов, по ночам свет вполнакала. У женщин заплаканные лица, у мужчин нахмуренные. Даже молодожены были не очень счастливы в тот месяц.
Астреллиты искренне любили Здарга. Ему были благодарны за избавление от скудной жизни на Вдаге, им восхищались как ученым и как мыслителем, без зависти признавали превосходство. Здарг был выше корысти и выше зависти. После смерти он стал эталоном добродетели.
В разгар траура начался суд над убийцами Здарга. Обвинялись трое: Гвинг и два его спутника, захваченные на космодроме. Удивляться тут нечему. Луч не пуля, на нем не написано, из какого ствола он вылетел. В сражении все водили лучом направо-налево, установить, кто именно скосил Здарга, было невозможно. Здарга любили. Считаться даже нечаянным убийцей никому не хотелось. Говорилось уже не раз, что астреллиты очень склонны к самообману. Они легко уговаривают себя, что виноваты другие: «Кто угодно, только не я». Охранники хором и поодиночке уверяли, что их лучеметы в этот момент бездействовали. Чей же работал? Видимо, лучемет беглецов. Так к обвинению в похищении Здарга было добавлено еще и обвинение в умышленном убийстве: дляки прятались за спину Здарга и в ярости убили его, видя неизбежность поражения.
Выгораживая себя, дали нужные показания и спутники Гвинга. Испуганные до тошноты, не глядя в сердито гудящий зал, они каялись, проклиная зачинщика. И кто-то припомнил, будто бы Гвинг говорил, что Здарга надо увезти силой, если он будет колебаться, что его присутствие — залог их безопасности.
Стало быть, похитил, считал заложником, заложника убил.
Только Гвинг не испугался. Сутулый и корявый, стоял на помосте, сверлил единственным глазом враждебные лица. Он ничего не смягчал, ни на кого не сваливал, себя не выгораживал. Да, он хотел похитить ракету, чтобы бежать от своры эгоистов. Нет, Здарга не собирался похищать, но думал, что Здарг колеблется, сам будет благодарен, если его увезут силой. Нет, не считал Здарга заложником, но понимал, что присутствие Здарга — залог их безопасности, может, и говорил такие слова.
Конечно, эти полупризнания были приняты за признание вины.
И держался Гвинг вызывающе, почти грубо. Он оскорбил Ридду, оскорбил Бонгра, назвал его эстетствующим циником, а Ласаха — юродивым. И оскорбил всех талантов Астреллы, сказавши в заключительном слове: «Я ничего не прошу у вас, ханжи. Вы сами убили Здарга нечаянно, но убили бы его умышленно, если бы он повернул Астреллу назад. Все ваши словеса о чистоте и нравственности — болтовня, вы цените только свои тухлые домишки, вонючий ужин и мягкую постель. И меня вы убьете, потому что я ваша совесть, а совесть — неприятное чувство, раздражающее, жевать мешает спокойно».
И крикливая совесть была уничтожена. Гвинга казнили, соучастники его отделались домашним арестом.
«Король умер!» За этим следует: «Да здравствует король!»
Здарга похоронили, оплакали, отомстили, кто-то должен был занять его место. Ридда была законным заместителем, но Ридда отказалась. Она даже не явилась на общее собрание астреллитов, просила Бонгра зачитать ее послание. Ридда писала, что недостойна управлять Астреллой, потому что не сумела уберечь Здарга, подавлена и понимает свою вину. Вина же ее в том, что она допускала и даже поощряла длячество, вместо того чтобы вырвать самые корни этого ядовитого дерева. Корнем же длячества является, по ее мнению, творческое бесплодие, нескромный гигантизм, заменяющий недоступную бездари оригинальность. И Ридда настаивала, чтобы в дальнейшем гигантизм не допускался, чтобы даже в устав Астреллы в параграф третий внесли слова: «Целью истинных талантов является прогресс науки… качественный, а не количественный».
Поправка была принята охотно и без обсуждения. Половину присутствующих вообще не интересовал прогресс: качественный, количественный — какая разница? И только историки задним числом отмечают, что в этот день Астрелла окончательно встала на путь ограничительного развития. Талант превозносился по-прежнему, но тематика творчества направлялась в одну сторону. Нежелательными признавались количественные изобретения, то есть нужные для массового производства, для промышленности. Вся техника отбрасывалась.
Один из моих редакторов заметил, что я тут должен был бы раздвоить повествование. Вероятно, в Звездном Шаре с его миллионами миров, тысячами и тысячами цивилизаций нашлись и такие, где история сложилась иначе: грубые и фанатичные дляки подавили чувствительных нутристов, казнили какую-нибудь другую Ридду, капитаном поставили другого Гвинга.
Представьте себе, и я задал этот вопрос моему куратору в Звездном Шаре.
— Не припомню, — сказал он. — Кажется, не было такого варианта. Пожалуй, и не могло быть. Ведь дляки хотели вернуться на Вдаг. Они и вернулись бы… и влились бы в общепланетную науку. У них не могло быть изолированной самостоятельной истории. За изоляцию стояли нутристы, те, которые могли творить в башне из слоновой кости. Вот они и отстояли изолированность своей космической летающей башни. А дляки ликвидировали бы ее.
И в президенты Ридда предлагала убежденного изоляциониста — Ласаха. Имя это встретили овациями. Ласаха, мягкого, доброжелательного и снисходительного исполнителя просьб, любили все.
Бонгр вытащил на трибуну упирающегося друга.
— Я боюсь не оправдать вашего доверия, — негромко сказал он, глядя на толпу светлыми глазами. — Вы вручаете мне так много: и все имущество Астреллы, и судьбу стольких хороших талантов — это еще дороже. Я постараюсь распоряжаться наилучшим образом, так, чтобы все были счастливы. Какое нужно вам счастье, это мы обсудим с каждым в отдельности. Это хорошо, что вы все рядом. Я всегда полагал, что счастье можно дать только конкретному лицу, соседу, близкому. Далекий далеко, его не видишь, не чувствуешь, не слышишь возражений и поправок. Я всегда удивлялся тем, кто брался осчастливить всю планету Вдаг, но семье своей не дал счастья. Однако разрешите мне не теоретизировать. Позвольте приступить к делу…
Все были в восторге. Мужчины кричали «ура!», женщины утирали слезы, восклицали в умилении: «Какой у нас хороший президент! Он гораздо лучше Здарга». Конечно, величественный Здарг, слишком умный, слишком могучий, был далек и непонятен. Куда ближе этот — заботящийся о ближних.
Ласах в дальнейшем выступал мало, предпочитал делать, а не рассуждать. А разъяснение его позиции и полемику с подавленными, но не переубежденными дляками взял на себя Бонгр.
Привожу отрывки из его печатных высказываний:
«…Никто не будет спорить, что сапиенс — вершина достижений природы. Долгим извилистым путем взбиралась материя к этой вершине, сбрасывая в утиль неудачные варианты, пока не сформировала самое совершенное из живых существ — разумное.
Долгим извилистым путем шла мысль разумных существ, сбрасывая в утиль ошибочные варианты, пока наука не пришла к величайшей из вершин — создала управляемую планету — Астреллу.
Сапиенсы — авангард природы, таланты — авангард сапиенсов. Здесь, на Астрелле, собран авангард авангарда. Чем мы заняты? Изучением самого сложного, самого увлекательного, самого наиважнейшего: авангарда авангарда. Мы познаем себя…»
«Мы — авангард, а не буксир, вытаскивающий застрявших в грязи. Мы — разведка. Мы — впередсмотрящие, мы — пример и идеал. Преступно сводить всю науку к вытягиванию отстающих на средний уровень. Это означает топтаться на месте, на этом самом среднем уровне. Быть ли Астрелле ракетой в небе или тягачом, буксующим в грязи, — вот о чем спор у нас с дляками».
«…Недоброй памяти дляки обвиняли нас в пренебрежении к простым сапиенсам, к преувеличенной заботе об элите, об исключительных личностях — о гениях.
Упреки напрасны. Мы лелеем не гениев, а гениальность. В чем разница? Мы считаем, что каждый сапиенс — потенциальный гений, нужно только пробудить скрытые в нем возможности, чудесные резервы мозга, которые мы обнаруживаем так редко и всегда с удивлением.
Нас потрясают гениальные арифметические способности простых сапиенсов, перемножающих в уме шестизначные числа. Потрясают гениальные всплески памяти, когда из глубины выплывают сценки детства с мельчайшими подробностями: слова, голоса, обивка мебели, узоры на обоях. Еще примеры? А таинственная телепатия: сверхслух, сверхзрение любящих родителей, жены, сестры, брата, узнающих о трагической гибели родных, улавливающих призывы о помощи за тысячи километров! Ведь это все есть в мозгу, только проявляется не всегда, обычно в час смертельной опасности.
Нет, я не предлагаю подвергать вашу жизнь смертельной опасности, чтобы изучать телепатическую сверхчувствительность. Есть и другие ворота в заповедный сад сверхспособностей. Не только большое горе, но и большая радость рождает вдохновение. Вспомните, сколько стихов, картин, мелодий, танцев породило упоение любви, торжество победы.
Вдохновение в экстазе счастья — вот наш метод…»
В идеях Бонгр не расходился с Ласахом. Тон у него был несколько иной: чуточку хвастливый, чуточку льстивый. Но историки не называют Бонгра ни хвастуном, ни льстецом. Его считают циником и дипломатом. Как дипломат Бонгр полагал, что астреллиты падки на лесть. И в самом деле, легко ли устоять, когда тебя убеждают, что ты избранник, авангард авангарда, потенциальный гений. И обещают, что ты проявишь гениальность в экстазе счастья. Кто же откажется от такой теории, таких опытов?
Возможно, вы заметили также, что высказывания Бонгра противоречивы. Если «мы авангард, а не буксир», зачем же пробуждать талант у тех, кто не проявил таланта, брать на буксир отстающих. Но тут сказалась противоречивость позиции всех нутристов. Они были противниками дляков, но вместе с тем дляками… для жителей Астреллы. Обещали счастье, но ограниченному кругу: только пассажирам космической яхты. Строили модель с четкими граничными условиями.
Так или иначе, пока Бонгр занимался теоретизированием, Ласах всерьез приступил к выполнению своей программы пробуждения талантов.
Щедрые богатства Астреллы позволяли дать очень много. Но что давать? Ласах подошел к проблеме как исследователь. Создал специальный Институт теории счастья (НИИТС) с лабораториями счастья долговременного, мгновенного, внешнего, внутреннего, чувственного, разумного, вдохновенного. И начал обследование, чтобы выяснить, в чем персональное счастье каждого астреллита. Начал, как водится, с анкет.
Некоторые из них сохранились. Мне доставили их из архива. Я сам держал в руках эти тетрадочки, довольно толстые, 24 странички, несколько сотен вопросов по семи разделам в соответствии с семью лабораториями НИИТС.
Во введении писалось:
«Задача анкеты выяснить, какое счастье, долговременное или экстатическое, для вас желательно, которое доставляет вам наибольшее удовольствие, какое вызывает творческий подъем.
Просим отнестись к анкете внимательно, отвечать продуманно и чистосердечно. Точность ваших ответов будет способствовать и личному вашему счастью, и совершенствованию будущих поколений».
Далее следовал вопросник:
1. О чем вы мечтали в детстве до 12 лет (подвиги, слава, богатство, дом, вещи, одежда, любовь, семья, путешествия, приключения, спортивные успехи)? Нужное подчеркните, ненужное зачеркните, главное подчеркните дважды, не упомянутое впишите.
2. Сбылись ли ваши мечты (не сбылись, сбылись, сбылись частично, сбылись позже… и т. д.)?
3. О чем мечтали ваши родители (подвиги, слава, богатство…)?
4. Сбылись ли их мечты?
Второй раздел был посвящен экстатическому счастью:
1. Бывали в вашей жизни полностью счастливые дни, часы, мгновения? Сколько вы можете припомнить?
2. Что именно доставляет вам наибольшее счастье (любовь, веселье в обществе, опьянение, вдохновение, похвалы, подарки, награды, приобретения, исполнение желаний, самоудовлетворение, красивые вещи, творчество, искусство, восприятие искусства, …)? Зачеркните, подчеркните, подчеркните дважды, не упомянутое впишите…
3. Что вы испытываете в мгновения полного счастья (восторг, тихое блаженство, спокойное удовлетворение, экстаз, прилив энергии, творческий подъем)?
4. Как вы выражаете радость (песни, хохот, танцы, бурные телодвижения, не выражаете внешне)?
Привожу также вопросы из последнего раздела анкеты:
1. Ваша творческая деятельность (находится в активной фазе, в латентной, скрытой фазе, получила признание, признана частично, не получила признания).
2. Вашу творческую деятельность подготовили (отличные успехи в учебе, любознательность, мечтательность, склонность к фантазии, независимость суждений, самоуверенность, находчивость, богатое воображение, другое — что?).
3. Наиболее важные результаты у вас получаются (в итоге целеустремленных действий, при размышлении, случайно, по аналогии, в спорах, интуитивно, другим способом — каким?).
4. Наилучшие идеи приходят к вам (в рабочие часы, на отдыхе, при сильной радости, в опасные минуты, в подавленном состоянии, во сне, в момент пробуждения, при опьянении, в других условиях — каких?)
и т. д. и т. д. Не будем переписывать 24 страницы.
Анкетой обследование не исчерпывалось. Ласах считал, что анкета только черновик истины. Говорил: «Не каждый знает о себе правду, не каждый пишет правду. Кое-что скрывает, грешки оправдывает, себя приукрашивает, нередко переоценивает». Поэтому за анкетой следовали собеседования с глазу на глаз, с вызовом на откровенность. Последняя беседа проводилась под гипнозом. Из протоколов известно, что не все соглашались на гипноз, особенно неблагонадежные дляки. Видимо, боялись выдать свои симпатии к Гвингу. Женщины шли охотно, легко поддавались гипнозу, подробнейшим образом выкладывали самые интимные тайны. Возможно, пресловутая женская стыдливость утомляла уроженок Вдага, как утомляют нарядные, но слишком тесные туфли. И примерно каждая третья девушка под гипнозом объяснялась Ласаху в любви. Тот был крайне смущен, он совсем не добивался массового успеха. Но, видимо, тут играла роль его должность. Девушки Вдага с детства мечтают о прекрасных принцах. Прекрасным Ласах не был, но по положению — выше принца. Его возлюбленная стала бы первой дамой Астреллы.
После анкет, бесед и гипноза писалось психологическое заключение: «Путь к личному счастью гражданина Астреллы». Многие из заключений писал сам Ласах. Любопытно отметить, что этот доброжелатель становился беспощадным в своих психомедицинских выводах. Насмешливый циник Бонгр не мог бы писать жестче. Например:
I. Скульптор Г. 34 года. Женат. Двое детей.
Жалобы: пишет, что ему мешают прославить освобожденную Астреллу небывалыми произведениями искусства. Предлагает все горы и утесы превратить в портреты и аллегорические фигуры, изображающие подвиги независимых талантов. Пишет о талантах и Здарге, думает о личной славе, о том, что на веки веков останется в космосе планета, облик которой сформирован скульптором Г.
Анамнез: действительно погружен в творчество, других интересов не имеет. К семье равнодушен, о детях заботится мало, друзей не нашел. Сходится туго, в обществе молчит, замыкается в себе. Малообразован, слова подыскивает с трудом, за пределами специальности ничего не знает, разговор поддержать не может. В мире искусства авторитетом не пользуется, считается середняком.
Диагноз: по-видимому, гигантомания — подсознательный реванш за поражения в главном русле искусства. Не сумел превзойти в качестве, надеется выделиться размахом, масштабом. Если не самая художественная скульптура, пусть будет самая грандиозная!
Разрешить ему уродовать Астреллу?
Вообще, будет ли это красиво, если у гор появятся носы, уши и усы? Будут ли способствовать уважению к Здаргу шоссе, проложенное по переносице, и туристские костры в ноздре?
Терапия: путь к счастью скульптора Г.
Поручить ему представить макет пластического оформления Астреллы: для начала метровую, потом трехметровую, потом десятиметровую модель. Макеты выставить, обсудить. Вне зависимости от обсуждения разрешить Г. испортить одну из гор, снабдив его необходимой техникой. Думаю, что этой деятельности Г. хватит на всю жизнь, если он не остынет к своему проекту.
Так личность за личностью. У каждой как бы история болезни: жалобы, анамнез, диагноз и предписания.
II. А. С. Хранитель склада. 37 лет. Женат. Трое детей.
По происхождению — крестьянин среднего достатка. Работал грузчиком на складе, стал кладовщиком. Оказался рачительным, бережливым работником. Со складов Академии Вдага перешел на Астреллу. Необразован, но сметлив. Управляется с вычислительной машиной, не зная алгебры.
В анкете пишет, что мечтает об исследовательской работе, хочет получить образование, стать психологом, пробуждать дремлющие таланты. Как выяснилось в собеседовании, на самом деле не интересуется наукой, просто подлаживается к общему веянию. Уверен, что отлично разбирается в характерах, хотя всех одинаково считает выжигами и жуликами. Учиться вовсе не хочет, учение и всякий труд считает вынужденной платой за снабжение, научные занятия — платой за самое щедрое снабжение.
Основная черта характера — жадность. Скопидом по натуре. Именно поэтому был рачительным кладовщиком. Вещи уважает и понимает, о вещах говорит с упоением, знаток мебели и фурнитуры, тканей и одежды: летней, зимней, демисезонной, расцветки, фасона, покроя, подкладки, бортовки. Все свободное время проводит дома: благоустраивает, красит, мастерит шкафчики, вешалки, полочки для книг, книги переплетает, но не читает. Говорит: «Некогда!»
Путь к личному счастью: поручить А. С. отделку жилья талантов. Объявить его собственный дом образцово-показательным жильем, разрешить ему брать со складов любые предметы обстановки «для обкатки». Уверить, что это и есть научно-исследовательская работа по психологии быта. Пусть даже пишет диссертацию: «Взаимоотношения личности с предметами домашнего обихода».
III. Лаборантка В. 23 года. Незамужняя.
В анкете пишет, что мечтает стать киноактрисой, играть классические роли, раскрывающие творческие возможности женского сердца. Перечисляет образы молоденьких героинь-любовниц.
Держится кокетливо, даже вызывающе, как будто каждого мужчину приглашает вступить в любовную игру. В действительности нечувственна, отличительная черта — любовное тщеславие. Хочет, чтобы мужчины соперничали, стараясь привлечь ее внимание, ссорились, еще лучше — дрались на дуэли, даже кончали бы из-за нее самоубийством. О платьях думает больше, чем о поцелуях. По-видимому, кино для нее — возможность показывать себя в разных платьях, позах и ракурсах. Обладая нормальной дозой женского притворства, сумеет на сцене удовлетворительно притворяться равнодушной, ласковой, ревнующей, несчастной, но чувства при этом не выразит, потому что сама В. не способна на чувства, может хорошо сыграть только саму себя: тщеславную притворщицу.
Рекомендация: написать специально для В. сценарий и дать ей главную роль. Сюжет примерно такой: первая красавица мира, или наследница престола, или наследница миллиардов окружена всеобщим вниманием. Но она всех отвергает, потому что нет среди них мужчины, достойного ее, или же (по желанию В.) выбирает идиллического пастушка, ничего не слыхавшего о ее величии и проявившего подлинную любовь.
Трудно пришлось Ласаху. Всем, не нашедшим себя в творчестве, он обещал счастье для вдохновения. Но как это выполнить практически? Бонгру Ласах говорил с полнейшей откровенностью: «На Астрелле у меня громаднейшие возможности, а результаты меньше, чем за колючей проволокой. Чем богаче сапиенс, тем труднее его осчастливить. Для изголодавшегося корка хлеба — радость, для униженного уважительное слово — благодеяние. А что избалованному астреллиту вежливые слова? Видимо, таковы законы восприятия. От нуля до единицы — громаднейший скачок, от тысячи до миллиона — куда ближе».
— Не вернуться ли к нулю? — ехидно улыбался Бонгр.
Да, у Ласаха были громадные возможности, но какие? Вещи имелись в его распоряжении. Он мог осчастливить тех, кто мечтал о вещах, вроде кладовщика А. С. Но таких уже немного осталось на обеспеченной Астрелле. Большинство насытилось вещами, искало счастья в духовной сфере: хотело признания, власти, любви, славы. Кто-то любил без взаимности, кто-то вздыхал о нежных поцелуях, хотя возраст уже прошел. Кто-то мечтал о победах. А. хотел нокаутировать Б. на ринге, X. хотел нокаутировать У. на конкурсе поэтов. Их победа означала чье-то поражение, их счастье — отказ другого от счастья.
Как быть? Ласах чувствовал, что он выдает псевдорецепты: не заказ на оформление планеты, а заказ на макет скульптору Г., не признание, а равнодушие к признанию художнику Дв., а тщеславной В. не поклонников, а артистов, играющих поклонение. К видимости счастья склонялся Ласах, и на путь видимости толкал его Бонгр.
Пожалуй, надо подробнее рассказать о Бонгре — этом сапиенсе, сыгравшем такую важную, по мнению некоторых историков, роковую роль в судьбе Астреллы.
Как изобразил его анапод? Ничего рокового. Бледное удлиненное лицо, тонкий нос, тонкие губы с легкой усмешкой. Пристальный, проницательный взгляд холодноватых глаз, редкие волосы с белой ниткой пробора, накрахмаленный воротничок, манжеты с запонками, узкие ладони с удлиненными пальцами музыканта. Что сказал бы я на Земле, познакомившись с похожим человеком. Сказал бы, что это сноб, личность равнодушная, очень занятая своей внешностью и своими желаниями, что он никого не любит и не способен к сильной любви, ценит наслаждения, но изысканные, гурман, а не обжора. Тонкие ломтики тонких кушаний на стильных тарелках, тонкий юмор собеседников — вот его стихия, его идеал.
На Вдаге он был адвокатом, даже преуспевающим. Старался выгородить, избавить от заслуженного наказания разных воров, мошенников, грабителей, убийц, растратчиков и растлителей, если они могли внести хорошую плату, конечно. Выгораживал словом, умным, впечатляющим. И Бонгр верил в слово, прикрывающее суть, искажающее суть, обеляющее суть. А суть ему представлялась всегда одинаковой: противной и грязной.
Он владел искусством воздействия словом. Отсюда его интерес ко всякому воздействию искусством: красками, звуками, мелодиями, формами, размерами, позами, жестами, телодвижениями, намеками, тоном, мимикой. Как любитель психологии искусства попал на Астреллу, занимался там психологией искусства, благодаря красноречию начал оказывать влияние, потом заведовал искусствами. Историки отмечают, что Бонгр поддерживал не все направления. Форма занимала его больше содержания. Симфонию он предпочитал опере, балет — драме, архитектуру — скульптуре. А литературу Бонгр вообще не жаловал, ценил только звучные стихи изощренной формы с богатыми аллитерациями и ассонансами, акростихи, буриме, словотворчество. Бонгр отворачивался от изображения жизни. Ибо он верил в слово, но не верил словам.
Именно он поддержал и распространил на Астрелле квази.
Что такое квази? Мы бы сказали, что это кино с эффектом присутствия и педалированием сопереживания. Благодаря совершенной стереоскопичности зрителю квази казалось, что он сидит за одним столом с героями, может вступить с ними в спор, может дотронуться до них, чокнуться, тарелку передать. Что касается сопереживания, оно есть и в обычном кино. В квази сопереживание усиливалось особыми химическими таблетками с тем самым ферментом, которого так не хватает шизофреникам. Таблетки эти подавляли критичность зрителя, и он легко верил голосам, уверявшим, что он и есть герой фильма, это он дерется на шпагах, обнимает красавицу, забивает голы под верхнюю планку, надевает лавровый венок.
Квази распространились повсеместно, сразу же стали любимейшим развлечением астреллитов. Снять квази было легче легкого, тут внушение заменяло качество, маскировало все огрехи артистов и декораторов. Изготовлялись фильмы на все вкусы. «Дочь богини красоты» — фильм по сюжету, предложенному Ласахом для лаборантки В., брали нарасхват все молоденькие женщины Астреллы. Так приятно было воображать и чувствовать себя желанной, снисходительно дарить мелкие знаки внимания этим «несносным мужчинам». Тому руку дала поцеловать, тому цветок кинула, вот они и счастливы, глупые.
Пожилые одинокие женщины вроде секретарши Т. предпочитали квази «Вечерняя песня». Героиня его — хозяйка придорожной гостиницы. В голове ее одни житейские мелочи: заботы о постельном белье, жуликоватые служанки, пьяные гости. Но вот в гостинице проездом останавливается друг детства хозяйки — ныне пожилой профессор с молоденькой женой из студенток. Жена красива, жадна, расчетлива и развратна, ждет только смерти неразумного ученого. Он заболевает в гостинице, жена его тут же убегает, прихватив все деньги. Но хозяйка самоотверженно выхаживает больного, ученый понимает, кого надо ценить в этой жизни. И последние годы они проводят вместе в увитом плющом домике на склоне горы. Он пишет свои важные книги, она трогательно следит за его диетой.
Пользовалась популярностью серия «Чемпион мира» по каждому виду спорта — о чемпионах. Смотрелись квази о знаменитых ученых или художниках, в молодости не признанных и осмеянных, к концу фильма увенчанных лаврами. И женщины охотно брали эти квази, если в них вплеталась романтическая история: героя нежно и верно любит школьная подруга (невеста, соседка, бедная родственница, служанка), верит в его талант, поддерживает в минуты уныния. Но первые же успехи кружат ему голову, к перспективному жениху присасывается хищница-«вамп». Однако за удачей следует неудача, недальновидная хищница предает героя, он возвращается к любящей подруге (невесте, соседке, служанке), чья вера и поддержка обеспечивают окончательную победу таланту, он становится первым музыкантом (математиком, медиком, медиумом) планеты, получает премию из рук короля, представляя ему свою жену (бывшую подругу, соседку, служанку).
— С такой спутницей и я стал бы великим, — изволит шутить король.
Года через три квазифильмы стали повальным увлечением и повальным бедствием. Увлеченные таланты смотрели по два, по три, по четыре фильма подряд, смотрели все больше, работали все меньше. Жизнь в квази была куда приятнее и несравненно легче подлинной. В самом деле, зачем спортсмену тренироваться с мешком и прыгалкой, зачем изнурять себя режимом и кроссами, если победить так легко… в воображении. Зачем терзаться в муках творчества, через силу усаживать себя за стол, искать по ночам «слово, величием равное богу», если квази «Поэт века» сделает тебя признанным гением к концу сеанса?
И поэты Астреллы забросили свои лиры, музыканты оставили партитуры, высохли мокрые тряпки на глиняных моделях незавершенных статуй, пылью покрылись письменные и лабораторные столы. Таланты бездействовали, воображая себя талантами. Бездействовали, воображая себя талантами, их помощники: печатники, чертежники, секретари. Бездействовали транспортники, снабженцы, садовники. И продукты плесневели на складах, осыпалась в поле неубранная пшеница, гнили опавшие плоды в садах. Все плесневело, осыпалось, дохло, а одуревшие от видений работники смаковали несуществующие яства на квазипирах.
Конец квазифильма приносил похмельную боль в голове, усталость, опустошение. Квазипища не насыщала, а квазижизнь требовала усиленного расхода нервной энергии. И очнувшемуся зрителю мир казался таким серым, таким невыразительным. Наскоро закусив, если было чем, потребитель квази спешил вернуться к грезам. А если закуски не было в доме, возвращался к грезам натощак. В результате голодные обмороки. Были и случаи голодной смерти. И трупы по неделям гнили в запертых комнатах, потому что соседи перестали посещать соседей, не искали общества, чтобы выяснять истину в спорах. Каждый сидел в своей келье, наслаждался в одиночку персональной квазиистиной.
И кто знает, может быть, вся Астрелла вымерла бы через несколько лет, искушенная сновидениями, если бы не нашлась в ней здоровая жизнелюбивая прослойка граждан… маленькие дети.
Для детей редко делали квази, самых младших мнимые существа только пугали, вызывали неудержимый рев. Дошкольников (применяя наш термин) удовлетворяли книжные картинки, воображаемые баталии с подлинными игрушками. А насмотревшись и наигравшись, детишки настырно горланили, требуя каши и молока четыре раза в день.
И матери, оторвавшись от своих женских квази, с почтительной, возвышенной и сентиментально-красивой любовью слышали этот настырный рев. Материнский инстинкт просыпался, женщины спешили накормить горлопанов натуральной кашкой и подлинным молоком. При этом нередко выяснялось, что в доме нет ни крупинки. И ближайший склад заперт, а муж витает в неких джунглях, геройски спасая от тигра постороннюю красавицу. В результате в самый патетический момент красавица исчезала вместе с тигром, потому что законная супруга вдребезги разносила «распроклятую забаву», из-за которой ребенку есть нечего. «Ребенок надрывается, а этот сонный бездельник между тем!..»
Выслушав хорошую нотацию, «сонный бездельник» отправлялся на розыски пищи; с каждым днем это становилось все труднее. И нередко не возращался. В процессе выпрашивания и обмена завязывались новые знакомства, заключались союзы против «этих глупых баб». Разбитые аппараты чинились втихомолку и… слаба мужская натура, новые друзья удирали в горы, чтобы в какой-нибудь укромной пещере без помех добить тигра и доосвободить бездетную красавицу. Попробуй разыщи блудного кормильца на необжитой Астрелле. Мало ли пещер на четырех тысячах квадратных километров!
И, проклиная квазифильмы с их изобретателями, изготовителями, распространителями и потребителями, матери сами отправлялись одалживать, выпрашивать, собирать, выменивать и выкрадывать съедобное. Заводили огородики у себя под окнами, поросят откармливали остатками синтетической барды Гвинга, объединялись, помогали друг другу…
Так сложилось содружество заботливых матерей — Общество пчел-работниц.
Возглавила его Хитта, директор педологического центра талантов младшего возраста (детского сада, проще говоря) — женщина выдающейся энергии.
Грудастая великанша (такой нарисовал ее анапод), толстая, но подвижная, даже стремительная, Хитта была возмущена шестнадцать часов в сутки, с перерывом на сон, но без перерыва на обед. Шестнадцать часов в сутки она отчитывала детишек за мокрые штаны и недоеденную кашу, поварих за пережаренные котлеты, нянек за пыль в углах, отчитывала истопников, шоферов, огородников, родителей, бабушек, дедушек, всех, кто имел касательство к детскому саду (то есть к педологическому центру). Ее ядовитого языка боялись все дети, все взрослые, боялся Ласах и даже Бонгр немножко. Но зато ребятишки были умыты, накормлены, здоровы и розовощеки. И обруганные родители благословляли и благодарили ругательницу.
Но вот с некоторых пор ругань перестала быть эффективной. Шоферы доставляют молоко с опозданием или не доставляют вообще. Детям неделю не меняют белья, потому что сломалась стиральная машина, а механик в какой-то пещере смакует свои квазипобеды на квазистадионе. И самое страшное: у близнецов из малышовой группы расстроен желудочек, но два часа нельзя доискаться педиатра. Хорошо, что простая клизма помогла. А если бы дизентерия?
Хитта собирает мам. «Ваши чада на краю пропасти! — восклицает она. — Я не ручаюсь за их жизнь. Спасайте потомство, пчелы-работницы, не надейтесь на трутней!»
Для начала пчелы, избрав делегацию, жужжа, пошли к Ласаху. Хитта требовала полицейских мер. Пусть военная охрана, делать ей все равно нечего, разыщет блудных отцов и под конвоем доставит их в лоно семейства. И пусть квази будут уничтожены, а тайный просмотр фильмов карается принудительными работами на мусорной свалке.
Ласах, однако, не удовлетворил пчел. Он призывал к терпению. Уверял, что поклонники квази пресытятся, им надоест псевдожизнь («Как надоела вам всем», — сказал он). Ласах был противником насильственных мер, а может, понимал, что его никто не послушает. Бонгр же отшутился. Семья, дескать, испокон веков держалась на любви, на ласке, на привлекательности женщины. Не может быть, чтобы такие очаровательные дамы не сумели удержать при себе мужа. Просто им нужно успокоиться, обрести форму, перед зеркалом посидеть, приодеться к лицу. Он лично верит в их обаяние…
Наслушавшись комплиментов, женщины удалились умиротворенные. Детишки, однако, продолжали реветь, их надо было кормить. И пчелы, Хитта первая, поняли, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Был задуман День избиения трутней.
Хитта проявила редкостный организаторский талант. Операция была подготовлена тщательно. С помощью детей были выслежены все убежища беглых отцов, нанесены на карту, составлена диспозиция. И трутней захватили врасплох. Не потому, что удалось сохранить тайну, нет. Каждая пчела выдала секреты операции своему мужу или возлюбленному. Но мужчины в своем мужском самомнении не обратили внимания на предупреждение, сочли все бабьими сплетнями, пустой брехней. Однако ударные отряды обиженных жен были подготовлены, вооружены и однажды вечером подняты по тревоге. Одуревшие от видений, разморенные и истощенные, квазигерои не смогли оказать сопротивления. Свирепые пчелы оттаскивали их за руки и за ноги, награждая тычками и пощечинами, а совершенные квазиаппараты с помощью палок и скалок превращались в груду стеклянных осколков и проволочек.
Историки не считают, что это женское восстание было действительно задумано как день избиения. Конечно, женщины хотели не уничтожить, а образумить мужской пол, вернуть супругов к семейному очагу. Но, видимо, в разгаре разрушения мстительницы перенесли свою ярость с одуряющих аппаратов на одуревших потребителей.
И нескольких искалечили, троих забили насмерть, Бонгра в том числе.
Жестокий день избиения трутней знаменовал начало новой эпохи в истории Астреллы. Эпохой Чистых радостей окрестили ее современники. Естественно, в первые же дни после победы пчелы собрали общее собрание жительниц и приняли поправку к многострадальному параграфу третьему. После слов: «…целью истинных талантов является прогресс… качественный, а не количественный» — было добавлено: «И всестороннее развитие искусства, отражающего жизнь, а не подменяющего ее».
И в силу той же удивительной логики астреллитов маленькая добавка, часть придаточного предложения, стала главным содержанием их борьбы на многие годы. Борьба шла за искоренение искусства, подменяющего жизнь, прежде всего против рецидивов увлечения квази.
Рецидивы были, конечно, но исключительно у мужчин — этой слабохарактерной половины человечества, непрактичной и увлекающейся, склонной жить только чувством. Не раз бывало, что, заскучав от здоровой и правильной жизни в семье, безвольные отцы тайком удирали в горы, собирали кустарные квазиаппараты и в укромных пещерах пробовали предаваться воображаемым оргиям. Но стоило хотя бы одному отцу исчезнуть на ночь, колокол поднимал пчел по тревоге, ударные отряды разыскивали убежища падших мужчин, аппараты уничтожались. Восстановить их было все труднее.
И распущенность была вытравлена. Не без удивления читал я об этой победе женского здравомыслия над мужской мечтательностью. Усмехался про себя: «У нас на Земле мужчины поставили бы на своем». Но если вдуматься, поклонники квази ни при каких условиях не могли одержать верх. Они вычеркивали себя из деятельности, были дезертирами, даже духовными самоубийцами. Полк самоубийц не может одержать конечную победу, как бы ни был он силен вначале. Ведь каждое самоубийство уменьшает его живую силу.
Пчелы изменили и структуру управления. Президента у них не было, а делами заправлял триумвират из Главного Воспитателя, Главного Учителя и Главного Врача.
Воспитателем выдвинули Ридду. Тут преемственность играла роль. Пчелы хотели подчеркнуть, что они ничего не меняют, только восстанавливают справедливый порядок. Но Ридда возглавляла правление формально. После смерти Здарга она как-то осела, потеряла апломб, даже внешне опустилась, одевалась неряшливо и говорила невнятно, все о Здарге, о принципах Здарга, о чистоте настоящего здаргизма. После нее обычно брала слово Хитта — ее заместитель — и простыми, доходчивыми словами поясняла, как понимать принципы в данном конкретном вопросе.
Как же она толковала, как понимала Здарга?
— Здарг вел нас в будущее, — говорила она. — А что такое наше будущее? Это дети, развитые духовно и физически, умные, нравственно чистые, красивые, здоровые. Здоровье прежде всего, потому что красота — это здоровое тело, нравственность — здоровое поведение, ум — здравый смысл. Что же нужно для здоровья? Естественность в первую очередь: чистый воздух, чистая вода, простая сытная пища, физический труд на чистом воздухе. Астрелла достаточно просторна, чтобы прокормить всех своих детей естественными продуктами. Нужно только не лениться, спину гнуть от зари до зари. И не требуются нам фабрики, загрязняющие легкие ядовитой копотью, а желудок — анилиновыми приправами. Меньше химии и больше зерна! Да здравствует простая жизнь, простая пища, простые отношения, простые радости!
Упрощение стало главным лозунгом при Хитте и ее преемниках, не только лозунгом, я бы сказал, религией. Труд физический, труд с напряжением мускулов считался почетным, умственный труд — блажью, работенкой для ленивых и слабосильных. О закрытии фабрик, ликвидации лаборатории сообщали как о славном достижении. Утонченное называли извращенным, философские споры — пустословием, чтение — потерей времени, сибаритством. И поэты воспевали опрощение простыми словами, их стихи твердили наизусть, пели на простые мотивы. Гирдл-Простак был самым знаменитым из поэтов той эпохи. Приведу несколько его сонетов в прозаическом переводе. Рифмовать не берусь, хотя рифмы в школе Опростителей были простейшие: четкие, точные и привычные типа «день — тень», «кровь — любовь».
Итак, стихи:
1. «В лаборатории, затхло прокисшей, заплесневелой, как могила, в запаянных колбах, наполненных удушливым дымом, ветхий старец слезящимися глазами пытается подсмотреть тайну рождения жизни.
Но жизнь рождается не в стеклянной банке, она рождается в поле, когда солнце припекает чернозем, свежий ветер обдувает, говорливые ручейки омывают комочки почвы. Открой глаза пошире, в крыльях бабочки ты увидишь блики солнца; увидишь свежесть ветра в прыжках козочки, в мелькании рыбки — проворство ручейка. Посмотри, старец, на свою внучку, посмотри, мужчина, на жену-хлопотунью. Разве ты не замечаешь в ней порывы ветра, резвость ручья, не чувствуешь жар солнца в ее крови?
А подслеповатый мудрец что-то ищет в мутной колбе».
2. «На стене картина. Говорят, чудо искусства. Девушка на ней словно живая. Словно, да не совсем. Молчит, не дышит, не смеется. Тронул пальцем — заскорузлый холст с буграми липкой краски. Пальцы запачкал, не отмываются. Вот тебе и красавица, «словно живая»!
Рядом ценительница искусства, знаток, художественная натура. Восхитилась, глазки горят, волнение колышет грудь. Тронул пальцем ручку — не бугристая и не липкая, теплый атлас. И сразу все пришло в движение: щеки зарделись, глазки мечут молнии. Если в гневе так хороша, какова же в любви?
А ту, на холсте, хоть ножницами режь. Ничего в ней нет, кроме серых волокон и липкой краски».
3. «Сладка вода для того, кто спину гнул над плугом. Отдых сладок тому, кто потрудился на славу. Вон старик сидит на завалинке, вокруг галдят внучата. Галдят, а он дремлет, подставив лицо солнышку. На лице покой и довольство. Звенит многочисленное потомство. Не зря гнул спину, жизнь прожита недаром».
Таких стихов от Гирдла остались сотни. Их декламировали на свадьбах и крестинах, пели на простые мотивы. И выпало Гирдлу счастье быть знаменитым при жизни, уважаемым и популярным. Его почитали, не потому что Гирдл вел за собой, а потому что шел за почитателями, выражал их точку зрения на жизнь: «Человек живет для будущего, а будущее — это дети. В детях — счастье, много детей — много счастья».
Результат нетрудно угадать. Прирост населения на Астрелле был завидный. Число жителей увеличивалось вдвое в каждом поколении. Удвоение за четверть века, за столетие народонаселение выросло в 16 раз, за полтора века — в 64 раза, через два перевалило за триста тысяч.
И тут встала перед астреллитами проблема, которая у нас на Земле находится в ведении географии: проблема природных ресурсов, их учета, подсчета и расчета. При Здарге Астрелла была просторным вольным парком, но на крошечном астероиде циклы развития завершались быстрее: всего полтора века понадобилось, чтобы плотно заселить просторный парк. Появился обычай, позже он стал правилом, а затем и законом: не жениться, пока не приготовил участок для своей семьи. Земледелие, как известно, требует пологих полей. Некогда, при Здарге, площадки выравнивали плавителями. Но пчелы искоренили технику. За полтора века она была начисто забыта. Ныне астреллиты долбили скалы киркой. Чтобы создать огород, надо было трудиться много лет. Младенец еще чмокал соской, а отец его уже долбил камни, чтобы не задерживать свадьбу сына.
Там, где три тысячи терялись на просторе, триста тысяч толкали друг друга.
Времена Гирдла ушли в прошлое. Сам он давно смежил очи, окруженный многочисленными внуками. Гирдла чтили и потомки, но больше по традиции. Властительницей же дум поколения стала поэтесса Нонна. Самопожертвование было ее излюбленной темой. Например: друзья любят одну девушку, она выбрала безземельного, благородный соперник желает ей счастья и отдает свой наследственный участок избраннику. Сестра отдает участок сестре, подруга — подруге, родители убивают себя, чтобы не оттягивать счастье детей. Длинные и сентиментальные поэмы Нонны вызывали восторг и слезы умиления, влюбленные девушки заучивали их наизусть. Едва ли кто-нибудь из них собирался жертвовать своим приданым, вероятнее, они мечтали, чтобы жертву принесли им.
Горькая нужда и тут изображалась доблестью. Врачи уверяли, что раннее супружество расшатывает неокрепший организм, высасывает соки мозга и пресекает умственную деятельность (как будто она остро необходима для долбежки камней). Воспитатели предостерегали против чрезмерного увлечения телесными радостями, хулили невоздержанных, призывали к радостям духовным. Был даже создан Орден Чистой Духовности. Члены его давали обет безбрачия, отказывались от своего надела в пользу неимущих сирот.
От культа многодетности к культу безбрачия — любопытный разворот. Полная переоценка ценностей!
Возможно, переоценка эта прошла бы плавно и незаметно, если бы не впутался тут доктор Дэнтр с его потрясающим открытием.
Врачи на протяжении всей эпохи Чистых радостей оставались в числе самых почетных граждан Астреллы. Еще при Хитте было установлено, что в триумвират правителей наравне с Главным Воспитателем и Главным Учителем входит и Главный Врач. Естественное решение для директора детского сада, превращающего всю планету в детский сад. В дальнейшем при всеобщем неодобрении умственного труда роль Учителя стала третьей и даже третьестепенной, но Врач оставался в почете. Врачу — избавителю от страданий, Врачу — спасителю жизни, хранителю маленьких детей (сиречь счастья) посвящали свои рифмы и жизнелюбивый Гирдл, и чувствительная Нонна. О подвигах проницательных диагностов слагались легенды и эпические песни. И над чем тут посмеиваться? Разве лучше воспевать подвиги рыцарей, наносящих колотые и рваные раны, заносящие инфекцию в кровь с помощью нестерильного копья?
Но самое важное: для врачей, спасителей младенцев, было сделано исключение. На фоне общего увядания наук медицина кое-как поддерживалась. Гирлд мог сколько угодно проклинать дымные колбы, во врачебных кабинетах они сохранились. Врачи делали анализы, писали диссертации, продолжали поиски. Самые даровитые дети шли к ним в ученики. Если у ребенка проявлялись способности в начальной школе, о нем говорили с похвалой: «Этот станет доктором». Не было иного пути для живого ума на Астрелле.
Дэнтр был даровит, любознателен, трудолюбив, а кроме того, еще и жалостлив. Он сочувствовал каждому больному, ощущал его боль, горевал, провожая в могилу. Детским врачом он так и не сумел стать, выше сил его было смотреть на страдания несмышленышей, занялся гериатрией — лечением стариков. Но в работе детского врача есть нечто оптимистическое: несмышленыши легко заболевают, легко и выздоравливают, как правило, болезни у них проходят бесследно. Старик же болеет нудно, натужно и длительно, никогда не излечиваясь до конца. Он как бы спускается по лестнице, пятясь и цепляясь за перила. Врач может только продлить, растянуть этот спуск, оттянуть на пять лет, на год, на полгода последний вздох.
Мириады врачей на миллионах планет Звездного Шара мирились и мирятся с этой грустной ролью, даже гордятся своей выдержкой, подбадривая себя сентенцией, что «врач не имеет права умирать с каждым больным». Но Дэнтр продолжал умирать с каждым, корчиться от чужой боли, терзался, искал выход… и нашел. Нашел причину старости, а следовательно, и путь к ее устранению.
К величайшему сожалению, нет возможности изложить суть открытия Дэнтра во всех подробностях. Его записки были тщательно уничтожены (ниже рассказано, как и почему). Но, судя по устным воспоминаниям, Дэнтр нашел в мозгу своих соплеменников некий центр переключения жизненных стадий: от юности к зрелости, от зрелости к старости (именно к этому центру пробивались проглоченные хирурги). И сумел найти способ для обратного переключения — с режима старости на режим молодых лет.
Первый опыт, не безукоризненный, но достаточно наглядный, он сделал на собственной матери. Ветхая старушка в течение одного месяца стала моложавой, интересной, даже кокетливой женщиной. Стан ее выпрямился, волосы почернели, морщины разгладились.
На маленькой Астрелле такое событие не могло остаться незамеченным. Сотни свидетелей знали старушку. Сотни свидетелей рассказали всем остальным тысячам. И тысячи и тысячи повторяли слова Дэнтра: «Если мне дадут сотню учеников и выстроят сотню больниц, смерть навсегда распростится с Астреллой».
Когда пишешь о Дэнтре, очень хочется порассуждать: «Что было бы, если бы…» Что было бы, если бы Дэнтр оказался современником Здарга? Наверное, он стал бы гордостью Астреллы, ему при жизни поставили бы памятник. Наверное, и при Ласахе его носили бы на руках, и Гирдл посвятил бы ему немало вдохновенных строк. Но что гадать попусту? Дэнтр выступил, когда основной добродетелью Астреллы становилось воздержание: воздержанность в пище, воздержанность в браке, еще лучше — воздержание от брака. И вдруг на этом фоне появляется расточительная идея всеобщего и многократного омоложения.
А чем кормить всех выживших? Наделы где брать для их потомства?
И у победителя смерти нашлись, как ни удивительно, враги. Самым непримиримым был Тот — глава Ордена Чистых Душ.
В хронике приводился портрет этого Тота, конечно, я тут же наставил анапод. И увидел высокого иссохшего мужа с безбородым лицом, поджатыми старушечьими губами и громадными горящими глазами: лицо пророка, фанатика или шизофреника. Дэнтр же выглядел очень заурядно: плешивый толстячок, рыхловатый, с толстыми губами простодушного любителя покушать и добрыми, немножко грустными глазами над обвисшими веками сердечного больного.
Случилось так, что оба соперника выступили почти одновременно: Дэнтр с призывом ко всеобщему омоложению, а Тот со своей мистической книгой «Откровения Здарга». В ней утверждалось, что Здарг не был рожден на Вдаге, точнее, был «как бы рожден», но душа его явилась с неба, с одной из звезд, чтобы принести счастье обездоленным и тоскующим. Был ли Здарг богом или только космонавтом, у Тота разобрать невозможно. Книга его написана темно и замысловато, каждую фразу можно толковать и так и этак.
Итак, если верить Тоту, Здарг хотел спасти население Вдага, но, увидев, что оно погрязло в грехах и нечисто в помыслах, отобрал самых достойных. Однако и эти достойные тоже не оказались достаточно чистыми. Поэтому Здарг назначил испытательный срок — десять тысяч лет. По истечении его Астрелла прибудет к месту назначения, где выдержавших испытание ожидает вечное блаженство.
Между прочим, срок взят не с потолка. Здарг действительно направил Астреллу к одной из ближайших звезд. Путь должен был занять около десяти тысяч лет.
— И все эти годы будет продолжаться великая сортировка, — уверял Тот. — Жизнь — это экзамен. Выдержавшие после смерти устремятся вперед на звезду Здарга, будут приняты в сонм блаженных; провалившиеся, погрязшие в грехах, падут обратно на Вдаг, в юдоль вечного страдания. При жизни надо очищать душу, освобождаясь от нечистых помыслов о питании, размножении и житейских радостях, от забот о временной телесной оболочке. Долголетие же — нечто ненужное, даже опасное. Ведь это затягивание испытательного срока, лишний риск загрязнить душу телесными заботами.
Тот был достаточно последователен. Если долголетие — рискованная отсрочка блаженства, значит, Дэнтр — враг номер один. Тот назвал Врача Антиздаргом, исчадием мрачного Вдага, змеем, отравителем душ. Пророка слушали, верили, отрекались от Дэнтра публично, но по ночам пробирались к нему за советом. Пациентов и учеников становилось все больше.
И тогда Тот решился взять на свою чистую душу грех кровопролития. «Пусть моя бессмертная душа погибнет, — сказал он единомышленникам, членам Ордена, — но зато спасутся тысячи и тысячи невинных душ». И однажды ночью во главе сотни «душевников» Тот окружил домик Врача, завалил двери камнями и сжег дотла лабораторию, самого Дэнтра, его омоложенную мать и двух очередных пациентов. В ту же ночь были убиты все до единого ученики Дэнтра, а заодно и большая часть врачей Астреллы, записи Дэнтра уничтожены, имя его проклято, предано забвению, его даже запрещалось произносить вслух. Потому память о Дэнтре и сохранилась, что его уж слишком часто проклинали.
Итак, Тот победил, и Астрелла приняла единогласно (под страхом проклятия и казни) поправку к пресловутому третьему параграфу: «Целью истинных талантов является всестороннее развитие личности, качественное, а не количественное, духовное, а не телесное».
И понималось это в том смысле, что на Астрелле ведется борьба против количественного роста населения и количественного удлинения жизни.
Таковы факты истории. Излагая их последовательно, я как-то не очень удивлялся: одно вытекало из другого. Сначала ограничили научную тематику, потом ограничили тематику искусства, потом ввели ограничения в брак, теперь еще одно. Но, дойдя до этого ограничения, я руками развел. Как это астреллиты сожгли своего лучшего врача, продлевателя жизни? Жить им не нравилось, что ли?
Допустим, Тот — маньяк, психически больной, на это похоже. У него были явные галлюцинации зрения и слуха. В своем «Откровении» он описывает личные беседы со Здаргом. Но почему за этим маньяком дружно идет весь Орден Чистых Душ, почему население Астреллы столь единодушно и безропотно поддерживает смерть против жизни?
Странно!
Единственное объяснение: практически Астрелла могла принять путь Тота и не могла последовать за Дэнтром. Всеобщее продление жизни еще усиливало бы бурный рост населения, а на Астрелле каждый рот был лишним. Правда, в головах еще хранились смутные воспоминания о некоем дьяволе, кормившем скотину пойлом, сделанным из воздуха (речь идет о Гвинге, видимо). Дэнтр поручил ученикам поискать материалы о химической пище. Но полтора века упрощения не прошли бесследно. Полтора века астреллиты декларировали презрение к науке, истребили математику, химию, технику, уничтожили вкус к изобретательству. Возвращение к технике представлялось им сказкой. Тот же предлагал знакомый путь самоограничения. Астрелла встала на него полтора века назад, отказавшись от сложностей покорения природы, потом от сложной техники, потом от сложного искусства, от науки, образования. Так естественно было отказаться и от трудностей продления жизни.
Да, Тот проявил жестокость, истребив сотни три невинных и виноватых, но тем самым он освободил три сотни наделов. Кому-то подарок, кому-то облегчение — вот уже тысяча довольных и благодарных. Получалось, что Тот щедрее Дэнтра. Врач доставлял одни хлопоты, а пророк давал синицу в руки… некоторым, а прочим сулил журавля в небе… бессмертие за могилой.
Бессмертие проблематичное, но без трудов, без необходимости сегодня ломать голову, изобретая новые способы прокормления.
Астреллиты поддержали поправку насчет духовности. И эпоха Чистых радостей кончилась, неприметно началась новая — эпоха Высокой нравственности.
Именно нравственность считалась качественным началом у астреллитов. Все остальные начала осуждались и подавлялись. Запреты стали главным содержанием эпохи. Тот организовал гонение на искусство, на изобразительное прежде всего, поскольку оно привлекало внимание к красотам жизни, уводя от нравственного совершенствования. Танцы осуждались тоже как пустая трата сил, которые с пользой можно употребить на дробление камней. По той же причине осуждался спорт (игрища). Тот говорил, что нравственный астреллит целиком выкладывается на работе, он не может прыгать попусту как бесенок.
Но строже всего запрещалась наука (суемудрие), отвлекающая от нравственного самоочищения. Школа свелась к минимуму: грамота, сложение, вычитание. На всех остальных уроках дети твердили наизусть целые главы из «Откровений» Тота, бубнили, не понимая, не вдумываясь, щеголяя механической памятью.
Кровь не терпит застоя; застой — это загнивание. Не терпит застоя природа, и техника тоже не терпит. Существование Астреллы зависело от технических устройств. У нее было искусственное солнце, искусственная гравитация, искусственная атмосфера с синтетическим небом из самозарастающей пленки. Два века все это поддерживалось автоматически, по инерции, не проверяясь, не ремонтируясь. Изнашивалось без обновления. И должно было сдать когда-нибудь. Одно раньше, другое позже.
Сдала гравитация.
Еще Здарг установил, что повышенное тяготение неустойчиво, склонно к самораспаду. При всех гравистанциях с самого начала ставились автоматические устройства, предупреждающие переход в критический режим. Имелось, кроме того, и ручное управление на случай, если автоматы не сработают. И к тому прилагалась инструкция, составленная для инженеров с высшим образованием и с головой на плечах.
Но в эпоху Тота инструкция излагалась так:
«Если Здарг Всемогущий чудотворно вселил в твое тело невиданную легкость, если монета не успевает упасть со стола на пол, пока ты произносишь «Тот мудрее всех», нажми с молитвой рычаг черного щита (молитвой в данном случае измерялось время. — К. К.) и не отпускай рычаг, пока не исчезнет наваждение».
Так вот с некоторых пор рычаг перестал помогать.
Почему перестал помогать, можно лишь гадать сейчас. Возможно, очередной блюститель рычага ощущал легкость от вина, а не от чудес Здарга, жал и жал на рычаг, пока не испортил. Возможно, виновато было не вино, а благочестие: полагая, что избыток религиозного рвения не повредит, блюстители нажимали с пятью молитвами вместо одной. Может быть, сыграли роль время, усталость металла, сырость, ржавчина. Но так или иначе гравитация стала таять, и Астрелла начала возвращаться в свое первобытное состояние — в ранг обыкновенного астероида.
Сначала жители даже радовались. Легче стало работать, легче оттаскивать и перекатывать валуны. «Здарг-милостивец сжалился и облегчил наш труд», — говорили они. Оптимисты ждали, что заодно и скалы станут мягче, вскоре можно будет резать их ножом.
Вышло, однако, иное. Здарг-милостивец облегчил не только труд, но и амбары. Колосья вытянулись выше головы, видимо, их высота регулировалась весом, давлением на корни. Тощие стебли оказались непрочными, хлеба полегли. Зерна не вызрели или осыпались. Астрелла встала перед угрозой всеобщего голода.
На Вдаге об этом ничего не знали. На Вдаге давным-давно перестали интересоваться Астреллой. В первые недели бунта Астрелла действительно была сенсацией номер один. Тогда во всех газетах на первой полосе печатались астрономические карты, крестиком отмечалось положение непослушного астероида, на всех бульварах стояли телескопы, желающим можно было за мелкую монету поглядеть на непоседливую звездочку. И специалисты ежечасно производили измерения, высчитывали кульминации, противостояния, элементы орбиты и возможные изменения элементов; научные обозреватели помещали статьи, строя прогнозы намерений Здарга.
Потом Вдаг узнал, что Астрелла удаляется из планетной системы прочь, зажгла собственное солнышко, уходит с ним в межзвездные дали по направлению к Альфе Крокодила. Движется месяц, другой, третий все к той же Альфе, прибудет к ней через десять тысяч лет, видна на фоне созвездия Крокодила. Сегодня, завтра, ежедневно видна на фоне созвездия Крокодила как звездочка восьмой величины. Сегодня, завтра, через месяц и через год — одно и то же. Читателей это уже не волновало.
На седьмом году после разрыва Вдаг предпринял попытку возобновить отношения. На Астреллу прибыла экспедиция (было это во времена Хитты). Но гостей приняли недружелюбно, окружили кордоном, не выпускали с космодрома, препятствовали общению с астреллитами и настойчиво требовали, чтобы они удалились. Капитан счел за благо отчалить. У него было предписание вести переговоры мирно, силу не применять. Единственный результат экспедиции: Ридда, она была еще жива тогда, передала капитану звездолета последние проекты Здарга. И реконструкция луны Вдага проводилась по схеме Здарга. А с галактическим полигоном пришлось подождать. Тут Здарг опередил свое время на века. Полигон Физических Законов строился гораздо позже, уже силами Межзвездной Федерации.
Упрямых же астреллитов Вдаг оставил в покое. Большой планете — теперь она называлась Планетой Дружных Народов — хватало своих забот. Каких? Да первейших: прокормить все население, и не три-четыре тысячи, а шесть миллиардов; расселить эти шесть миллиардов с растущим потомством не только на Вдаге, но и в космосе, обеспечить им всем здоровую жизнь, долгую жизнь, продленную жизнь, увеличивать ее количественно и улучшать качественно, материально и духовно и т. д. и т. д. (см. все декларации Гвинга, Ридды, Бонгра, Хитты…).
За всеми этими трудами Астрелла забылась. Межзвездные экспедиции к ней не снаряжались, случайные звездолеты не заглядывали, даже если пролетали мимо.
Земному читателю, мыслящему пока в масштабах одной планеты, может, и покажется странным: как это, пролетали мимо и не заглядывали? Но у морской и космической навигации различные законы. Морское судно тратит топливо на километры, для него тысяча километров — крюк, а остановка в пути — ничто, приятное развлечение. Судно же космическое тратит топливо на разгон и торможение, ему лишний километр — ничто, а остановка в пути — двойной расход топлива. Морской рейс планируется на расстояние, а космический на посадки — на одну, реже на две. Лишняя посадка на Астрелле удваивала бы стоимость и сложность рейса.
В результате только раза три за все двести лет Вдаг получал какие-то сведения, да и то косвенные, относительно Астреллы. Проходящие мимо звездолеты делали съемки с ходу. На кадрах удавалось различить ниточки дорог, лоскуты пашен, ухоженные сады, не было никаких намеков на технические сооружения. Космонавты докладывали: «Земледельческая культура, медлительно развивающаяся». Даже в школьных учебниках Вдага писалось: «В изолированных обществах, например, в обособленных горных долинах, на островках или на одиноких малых планетах, таких, как Астрелла, хозяйство приобретало консервативный характер, сохранялись патриархальные, архаические черты в быту, обычаях, устаревшие языковые формы…»
Да, вероятно, по прошествии двух веков Астрелла могла бы служить живым музеем старины для Вдага. Но историки помнили, что астреллиты негостеприимны, склонны запирать двери перед носом любопытных. Стоит ли лететь за миллиарды километров, чтобы замок поцеловать?
И за Астреллой следили только астрономы, ловили красноватую точку в созвездии Крокодила, вписывали эфемериды в каталоги блуждающих тел, выверяли скорость по доплеровскому смещению. Цифры менялись мало. С годами Астрелла стала своего рода опорной точкой для астрономических измерений.
Но вот однажды один из астрономов-наблюдателей отметил, что красноватая точка мигает: становится ярче и слабее, ярче и слабее. И мигает не случайно: три вспышки — пауза, четыре вспышки — пауза, три вспышки — долгий перерыв. 3–4–3! По радиокоду Вдага — это сигнал бедствия, наш SOS.
Отправлять спасательную экспедицию? Есть ли смысл? Двести миллиардов километров — полтора месяца пути для самой совершенной ракеты того времени. Плюс время на снаряжение — столько усилий, столько затрат из-за каких-то миганий. Нет же уверенности, что это сигнал бедствия, может, иные причины. Но если Астрелла просила о помощи, стыдно же игнорировать.
И гуманность победила сомнения. Два месяца спустя ракета прибыла на Астреллу. Спустилась на алых клубах дыма и встала свечкой на перепаханном космодроме, на том, где некогда убили Здарга.
Первым делом прибывшие инженеры отремонтировали тяготение. Привели в порядок небо, подкачали кислорода в атмосферу. Потом желающим было предложено переселиться на Вдаг.
Блюстители нравственной чистоты, фанатичные слуги Тота, сопротивлялись как могли. Власть их пала не сразу, но авторитет был подорван. Пришельцы наглядно демонстрировали силу инженерии, исправляя то, что блюстители не могли отремонтировать молитвами. А через полгода, когда со Вдага вернулись делегаты и, захлебываясь от восторга, перечисляли его достижения, решено было переселиться на планету.
Так завершилась самостоятельная история Астреллы. Непокорная струйка попетляла, поплутала и влилась наконец в главное русло. Влилась и растворилась. Тысячи астреллитов рассеялись среди миллиардов. Едва ли они, отставшие на два века, могли внести что-либо весомое в цивилизацию большого Вдага. И наследственность истинных талантов никак не сказалась. Во всяком случае, не встречал я в анналах истории Вдага имен потомков бывших астреллитов. Впрочем, на новом Вдаге вообще не очень интересуются именами.
Спрашиваешь их: кто открыл, кто изобрел, кто построил? Отвечают: «Мы сделали». И гордятся этим дружным словом «мы».
И опять диспут
Дятел выступает:
— Спорим мы давно, а итог можно изложить в трех словах: «Простое оказалось сложным».
То есть сложности технические были нам понятны и раньше, но сам маршрут представлялся простым и прямым. Мы — здоровое, активное, динамическое сообщество звездных миров. Мы растем, растет население, растет срок жизни, растут запросы. Вот мы выросли за пределы родимого шара ОЭ, ищем направление для дальнейшего роста. Предлагается выбор: соседний шар ОГ или же сразу еще более заманчивая цель — Галактическое Ядро. Мы взвешиваем и выбираем. Что может быть логичнее?
Однако… и это слово я буду повторять чаще других, всю мою речь можете озаглавить «однако»… Однако у цели емкой и заманчивой выявляются сложности, столь основательные, что, по мнению группы товарищей (кивок в сторону Лирика), духовный рост наших потомков оказывается под сомнением. И некоторые предлагают отказаться от количественного роста, пространственного во имя роста духовного.
Однако (опять «однако»!) отказ от роста пространственного, от производственного, другими словами, от возрастного и потребительского, грозит общим застоем, застоем мысли и даже духовной деградацией, как мы видели на примере Астреллы — яхты Здарга. Убедительный пример, как по-вашему?
Это уже прямое обращение к Лирику. Мой земной Дятел тоже любил в лекции вдруг переходить на беседу «Как по-вашему?» И сразу видно, что ты не слушаешь.
Лирик слушает, конечно, а Их-Дятел рассчитывает, что тот не сразу соберется с мыслями, может быть, ему и ответить нечего. Но Лирик наготове.
Лирик. Пример Астреллы нельзя считать убедительным. Он относится к эпохе варварства. Субсапиенсы, насквозь испорченные войной и нищетой, считавшие убийство обиходным, даже доблестным деянием, оружие путавшие с орудием, взялись продемонстрировать нравственность. Конечно, кроме декларации, ничего не получилось. Нравственность не могут создать безнравственные.
Дятел. Но мы живем в нравственное время. Возьмитесь повторить опыт. Астероид мы вам предоставим любой на выбор, изготовим по вашим чертежам, если предпочитаете искусственный. Подберите тысячи две единомышленников…
Лирик. Все равно это будет опыт в пробирке. Нравственность нужна всем звездожителям всех миров. И учтите время: результат будет виден через несколько поколений.
Дятел. Но ваш оппонент считает, что у нас нет времени для векового опыта. Я тоже думаю, что к работе надо приступать сейчас: отбирать подходящие планеты…
Лирик. Поиски нравственности не имеют отношения к поискам подходящих планет. Я повторяю, что мы не имеем права вмешиваться в развитие жизни. Жизнь повсюду оригинальна и неповторима. Не следует видоизменять ее по нашим предначертаниям.
Физик. Разрешите мне высказаться. Признаюсь, унылая позиция моего оппонента повергает и меня в уныние. Перед нами бесконечный космос, а тут на каждом шагу расставляются рогатки: туда нельзя, и туда нельзя. Если прислушиваться — никуда нельзя.
Да, возможно, мы встретим равных нам сапиенсов, так бывало и в прошлом, мы считались с ним. Но тут предлагают не трогать и субсапиенсов в звериных шкурах, потому что со временем они научатся говорить и создадут некую оригинальную культуру. И предлагают не трогать досапиенсов, рогатых и хвостатых, потому что авось когда-нибудь, через миллионы лет, от них произойдут разумные существа. Но поскольку жизнь, та или иная, может возникнуть везде, где есть подходящие условия, выходит, что мы обязаны во имя гуманности обходить сторонкой все зоны, пригодные для жизни.
Гуманность ли это?
Не оборачивается ли эта снисходительность к обезьянам, червям и амебам антигуманностью по отношению к своим соотечественникам? Не жертвуем ли мы своей наукой и культурой ради сомнительной перспективы возникновения новых самобытных культур? Уж если мы научились мыслить и рассуждать, давайте рассудим, кто нужнее для развития: ученый звездожитель или обезьяна с дубинкой?
Дятел. Итак, мы с вами будем судить, кому жить, кого уничтожать? По какому же праву мы присваиваем себе это право?
Физик. По праву более разумных.
Дятел. А вам понравится, если предположительные суперсапиенсы Галактического Ядра начнут рассуждать, не уничтожить ли им жителей нашего Шара, отсталых представителей досуперсапиенсовой культуры?
Физик. Тут совсем иное. Мы явно разумные.
Дятел. Относительно разумные, относительно неразумные. Где мера разумности?
Физик. Давайте я теперь задам вопрос. Странную позицию вы выбрали себе. Опровергаете меня, потом моего оппонента, потом опять меня. А вы сами за что стоите? Или только возражаете всем подряд?
Дятел. Я же сказал вначале: простое оказалось сложным. В ясном решении переселения в Ядро оказалась сложность — возможная жизнь. Как же нам обойти эту сложность? Может быть, целиться только на миры, не приспособленные для жизни?
Физик. Это увеличит трудности в пять-десять, не знаю во сколько раз. Мы просто не обеспечим нужное количество миров.
Дятел. Не обеспечим с имеющейся наукой. Надо поискать иные решения.
Физик. Наука не сундук фокусника, чтобы вытаскивать из нее все, что хочешь, по заказу. Мы знаем, что есть в наших руках, что появится вскоре, что разрабатывается в лабораториях, что выйдет из лабораторий лет через двадцать. У науки есть определенный шаг, интервал освоения. Открытия не валятся с неба, их выращивают в колбах, как кристаллы. Только безграмотные дилетанты надеются на озарения. Наука не знает прыжков с тройным сальто. Прыжки и рывки — это из области цирка.
Дятел. Ну не скажите. Как историк я могу напомнить вам рывки и в прошлом. Поясняю примитивнейшим.
Некогда в ОЭ — нашем милом Шаре — обитали бравые татуированные молодцы в плащах из звериных шкур. Их пищевые запасы разгуливали в лесу. Метким копьем они добывали себе и обед, и одежду. Вели жизнь здоровую, естественную, гармоничную. Дышали чистым воздухом, пили ключевую воду, занимались спортом охотничьим ежедневно.
Однако (я же говорил, что буду твердить «однако»), однако их мясные и меховые склады пополнялись стихийно, беспланово. Молодняк рос без присмотра, большая часть его кончала жизнь в зубах хищников, ненужных соперников наших охотников. И вообще не так уж много дичи было в лесах. На прокорм одного охотника нужно было около 10 ку леса (ку — мера площади, близка одному квадратному километру. — К. К.).
А планеты же не резиновые. У каждой есть свой радиус.
И вот наши предки нашли выход. Не сразу, но нашли. Свернули с охотничьей тропы на пастушескую, приручили мясо и шерсть, стали охранять от хищников. И одна эта мера — охрана от хищников — обеспечила десятикратный прирост пищи. На один охотничий рот требовалось десять ку, на один рот скотоводу — только одно ку.
Однако скотина не такой уж идеальный трансформатор солнечной энергии. Скотина жует стихийно растущую траву, не самую урожайную, превращает ее не только в мясо, но еще и в требуху, шкуру, рога, копыта и навоз, а также в движения ног, рогов, хвоста, в нагревание воздуха в конечном итоге. Поэтому стада могли прокормить десятикратное население, а стократное не могли. Однако наши предки нашли выход. Вместо стихийно растущей и не очень питательной травы начали сеять злаки. И отныне один ку кормил уже не один рот, а сто ртов — земледельческих.
Продолжать? Рассказать вам, как искусственное орошение — замена природного дождя техническим — увеличило производительность ку еще в пять-десять раз? Рассказать вам, как замена лугов микробиологическими белками увеличила производительность животноводства… во сколько раз? Все это рывки и повороты, экономические сальто, как вы изволили выразиться иронически.
Такая же лестница была и с материалами: каменный век — бронзовый век — железный век — век бетонно-синтетический. То же было и с одеждой: своя шкура — звериная шкура — шерстяные ткани — растительные — химические. То же и в транспорте: свои ноги — лошадиные — паровоз — автомашина — самолет — ракета — зафон. То же в энергетике: дрова — уголь и нефть — водопады — атом… Предложите что-нибудь столь же радикальное, как переход от конной кареты к паровозу.
Физик. Все ваши примеры относятся к древним временам. Тогда открытия лежали на поверхности. Нефть сочилась, ее не догадывались поджечь. Сейчас догадкой ничего не возьмешь. Нельзя приставить палец ко лбу, чтобы заказать открытие. У науки тоже есть своя логика, мы представляем себе, куда она идет.
Дятел. А вот не все, представьте себе, согласны с вами. К нам поступают целые пачки предложений. Я даже распорядился размножить их и раздать участникам диспута. Вы получили, вы посмотрели брошюру «Мы предлагаем»? Между прочим, там есть предложения с вашего же полигона.
Гилик, эту брошюру мне надо посмотреть обязательно. Добудь поскорее. Что там предлагают, да еще и с полигона?
Мы предлагаем
Мы предлагаем. «Мы» — не просто вежливая формула. В Шаре принято мыслить коллективно. Кто-то предложил гипотезу, загорелись, заспорили, переиначили, высмеяли, вывернули, сформулировали… И тут уж не разберешь, кому какая запятая принадлежит. Шлют общее письмо. Подписывают все, кто хочет идею проводить в жизнь. Итак:
1. Сверхскорости
Мы предлагаем сосредоточить усилия на изучении подпространства.
На диспуте стало ясно, что главное затруднение в расстояниях. Высказывалось опасение, что переселенцы на очень далеких мирах оторвутся от метрополии, утратят общие интересы. В результате близкие, но неудобные миры предпочитаются далеким, хотя и удобным. Конечно, неудобные требуют больше труда на освоение.
Некогда, в однопланетную эпоху (географическую), путешествие и за океан казалось подвигом. Отплывающие на другой материк прощались с родными навеки. А потом появились самолеты и слили материки.
Некогда, в односолнечную эпоху, путешествие к другой звезде казалось подвигом. Улетающие прощались с родными навеки, оставшиеся заводили другие семьи. Не имело смысла ждать двадцать или сорок лет. Но вот было открыто подпространство, в нем тридцать девятый слой, весь Шар мы пересекаем за один месяц… всю Галактику — за полсотни лет. Полсотни лет, конечно, многовато… но не доказано же, что тридцать девятый слой — самый удобный для путешествий, самый скоростной. Надо направить усилия на изучение подпространства, пронизать тысячу, десятки тысяч слоев, найти такой, где скорости будут еще на пять порядков выше. Это трудная задача, но осваивать неудобные планеты куда труднее.
А сверхскорости вынесут нас практически в любую точку Вселенной. Пора переходить от галактического мышления к вселенскому — метагалактическому.
2. Вторая Вселенная
Мы также предлагаем думать в метагалактическом масштабе, но не о пределах Вселенной в пространстве, а о начале во времени.
Принято считать, что то, что называется Вселенной (неудачно. — К. К.), возникло 15-20 миллиардов лет назад и с тех пор беспрерывно расширяется. Похоже на круги на воде от упавшего камня. Некий камень упал в наше пространство 15 или 20 миллиардов лет назад. Откуда упал? С тех пор, как открыто четвертое измерение, считается, что этот «камень», этот заряд энергии прибыл оттуда.
Если такая точка зрения справедлива, встает вопрос: нельзя ли повторить удар из четвертого измерения или лучше — серию мелких ударов, чтобы в нашем пространстве возникали солнца и планеты в необходимых точках.
Не искать земли невесть где, а ставить их по соседству в нашем пространстве.
3. Миры под боком
Мы предлагаем направить усилия науки не в дальние дали и не в далекое прошлое, а внутрь, вглубь.
Предлагаем вспомнить, что бесчисленные миры у нас имеются под боком… в боку… рядом… внутри. Мы имеем в виду атомы.
Каждый атом — мир!
Миллитация бурно развивается в наше время. Миллитация кибернетических хирургов — бытовые будни. Удавалась и миллитация живых сапиенсов — их переправляли и в живые клетки, и в молекулы. Еще шаг — и миллитация в атомы. Да, об условиях жизни в атоме пока ничего не известно. Да, трудности будут немалые. Но исследования провести необходимо. Зачем заниматься преодолением бесконечных пространств в поисках подходящего мира, когда рядом, в непосредственной близости, нас ожидают бесчисленные неосвоенные микромиры?
4. Говорит полигон
А вот и послание, о котором упоминал Дятел, письмо моих добрых знакомых с полигона имени Здарга.
Мы в последние годы разрабатывали идею переселения сапиенсов Шара в Галактическое Ядро.
Мы понимали, что на Диспуте возникнет возражение насчет трудностей освоения уже населенных планет. Есть возможность обойти эту трудность.
Дело в том, что Ядро вращается как твердое тело. По каким-то причинам оно несжимаемо. Звезды должны бы притягиваться, но не притягиваются друг к другу. Есть предположение, что вокруг каждой этакая оболочка, как вокруг атома.
Достаточно плотные, достаточно прочные оболочки вокруг звезд и оболочка вокруг всего Галактического Ядра — этакая планета радиусом в четыре тысячи световых лет.
Вот на ней и можно и стоит строить единую цивилизацию будущего. Миллион миллионов планет можно разместить. И все вплотную друг к другу, все — единая цивилизация.
Правда, оболочка та не получает света и тепла, кроме звездного, придется снабжать ее искусственными солнцами. Но техника умеет делать это.
Если же искусственная энергетика при естественной оболочке окажется слишком накладной, мы можем предложить и противоположное решение: искусственная оболочка при естественной энергии.
Недавние опыты на полигоне показали, что есть возможность уплотнять вакуум, создавать в нем морщины, и по уплотнениям этим сапиенсы ходят как по твердому полу. (Ага, вспомнили, как людей вклеивают в пустоту, словно мошек в янтарь! — К. К.) Теоретически вокруг каждого солнца могут быть созданы прозрачные твердые сферы, не такие обширные, как вокруг Ядра, но все же довольно просторные: вокруг каждого солнца на миллиард планет, на тысячу миллионов. Достаточно для весьма долгого развития. И прежнее солнце будет снабжать энергией всю эту тысячу миллионов.
Мы предлагаем сосредоточить усилия наук на изучении звездных оболочек — природных или технических.
5. Природу или себя?
Когда наука заходит в тупик, полезно вернуться к корням, проверить основы: справедливы ли исходные истины?
Считается, животные приспосабливают свое тело к среде, сапиенс приспосабливает среду к своему телу. Так было веками. Но вот мы видим, что физики в затруднении. Они предлагают приспосабливать для нас четвертое измерение, сверхскорости, атомы, гадательные оболочки. Все это трудоемко и даже сомнительно, можно искать и не найти ни слоя для сверхскоростей, ни оболочки для хождения по эфиру. Так трудоемко, что возникают споры: рационален ли издревле сложившийся путь! Не стоит ли вернуться к противоположному: себя приспосабливать, генетически тело свое изменять для новых условий?
Звездный Шар — федерация разных рас. Среди них есть сухопутные, водные, земноводные, подводные, ледяные и огненные. Разница во внешности не мешает содружеству. Так пускай к этим расам прибавится сознательно сотворенная раса для жизни в вакууме. Эфирные существа, живущие в эфире! (Как не вспомнить, что о жизни в эфире писал еще Циолковский! — К. К.)
И почему обязательно планеты, почему мы везде ищем планеты? Мы, планетолюбы, уподобляемся чудакам, которые обязательно селятся на шпилях башен, в поисках шпилей отправляются за океан. Зачем шпили, когда в океане так много места? В межпланетном пространстве просторы неисчислимы, энергии полно — ведь планетам достаются только миллиардные доли. Атомов мало? Атомы для тела можно добывать и на планетах, можно организовать круговорот атомов, в природе он есть. Где строить дома? К чему дома, если везде тепло, светло и просторно?
Мы предлагаем сосредоточить усилия науки на создании эфирной расы сапиенсов.
5а. Возражение
Мы категорически предлагаем не обращать внимания, игнорировать, забыть идею о переселении в эфир.
Как не понимают авторы ее: они же толкают разум к самоубийству. Стол и дом в любой точке пространства! — это же означает, что не нужен труд. Сыты, согреты, счастливы, довольны, и разумные существа уподобляются червякам в яблоке, глистам в чужом животе. Им не нужны ноги, не нужны глаза, не нужен рот даже. Купаются в пище! Всасывай всеми порами!
Да это противоречит всей истории жизни на всех планетах! Нигде сапиенсы не произошли от травоядных, сосредоточенно жующих обильную пищу. У всех у нас предки плотоядные или плодоядные, вынужденные ловить, искать, выбирать пищу. Мы все — потомки сложно живущих, сложно живущие существа. Не хотим носиться по эфиру без сожаленья, без раздумья. Не хотим деградировать!
Единственное утешение: идея переселения в эфир просто неосуществима.
6. Психополигон
Физики предлагают переделать физический мир, биологи — тело сапиенса. А почему молчат психологи?
Мы же видим, что главные осложнения возникают из-за психологических противоречий, из-за неразумности нашего разума: надо, но не хочется, надо, но неприятно. Все оттого, что «приятно» связано с нашим собственным телом, а «надо» — с отдаленным, с далеким будущим, с далекими существами, с далекими мирами.
Но тело-то у нас унаследовано от животных.
Мы читаем: надо бы переселяться в далекие галактики, опасаемся, что переселенцы разорвут связь со старой родиной, потерявши экономические интересы. Надо бы переселяться в межпланетное пространство, но опасаемся, что слишком сытые и уютно устроенные потомки потеряют интерес к работе, деградируют. Надо бы перевоспитывать субсапиенсов, но опасаемся, как бы сами мы не заразились от них грубостью.
Опасаемся, опасаемся, опасаемся! Боимся своей собственной нестойкости.
Видимо, пришла пора перестраивать психологию, свой строй эмоций, слишком связанных с собственной личностью, со своим телом.
Всегалактическому населению нужна всегалактическая психология.
Нужны сапиенсы, принимающие к сердцу одинаково интересы близких и интересы далеких.
Не теряющие жажды деятельности, когда сыты и обогреты.
Не теряющие интереса к прогрессу, даже если нет материального кнута. Давно пора создать психополигон для создания новой психики.
7. Темпополигон
Мы, работники полигона имени Здарга, вносим еще одно конкретное предложение.
Деятельность наша общеизвестна: мы проверяем, подсчитываем, как увязаны константы пространства, времени и энергии.
Мы моделируем иные миры, с иными законами, прикидываем, какие вам придутся по душе. И среди наших «безумных» моделей есть очень соблазнительная — модель с двухходовым временем.
Пусть рядом будет два мира — с нормальным, медленно ползущим и тут же — с быстротекущим. Пусть для начала будет полигон быстротекущего времени.
В нормальном, даже замедленном, будут жить рядовые сапиенсы. Будут медленно расти. Медленно есть.
Медленно расселяться. Медленно рождать новые потребности.
А в быстротекущее время мы переведем науку. Переселим туда ученых, чтобы они успели быстро-быстро решить все насущные вопросы: найти или предложить новые миры для поселения, новые пути для удовлетворения, чтобы успели провести те долговременные опыты для создания новой нравственности, новой этики, новых эмоций и новых стремлений, которые требуют нескольких поколений, по мнению уважаемого делегата планеты ТСТ-237 (Их-Лирика. — К. К.).
Два времени — житейское и исследовательское!
Мы предлагаем для опыта создать быстротекущий мир на нашем полигоне имени Здарга. Увидите, сколько умственной продукции мы выдадим через годик по вашему медлительному счету.
Факты покажут.
Зенит — Земля
Как, уже?
Совсем не собирался я отбывать, иные были планы. Я захлебнулся в потоке идей, хотел поприсутствовать, поглядеть, пощупать. В Галаядро хотелось бы слетать хоть разок, и в атомное ядро спуститься самолично, и в подпространство проникнуть, и в надпространство. И на Психополигон попасть бы, и Темполигона дождаться. Как успеть всюду? Не разорвешься.
Впрочем, для звездных сапиенсов и такое возможно. Не разорвешься, но можно удвоиться… учетвериться. Вчетвером мы (четыре «я») увидим вчетверо больше.
— А к жене вы тоже вернетесь вчетвером? — спросил Граве.
Я замялся. Верно, это затруднение я не обдумал. Не страшно, если в Шаре будет четыре одинаковых корреспондента, все с длинным носом и покатым лбом.
Но на Земле им будет неуютно. У всех одинаковые воспоминания, все четверо будут считать себя мужьями моей жены, хозяевами моей квартиры, авторами моих книг.
— Мы бросим жребий, кому возвращаться, — сказал я бодро. — Один поедет сразу же, прочие задержатся здесь, будут собирать материалы.
— И скучать не будут?
— По-моему, наш Человек вовсе не рвется на свою разлюбезную Землю, — съехидничал Гилик. — Он за любовь на расстоянии. Сочувствует непросвещенным землякам, но жить предпочитает с нами, в высококультурном небе.
Жизнь прожить в Звездном Шаре? Весь век быть зевакой в музее, копить материалы, учиться и учиться? А учить когда, когда отдавать накопленные материалы? Нет, нет, я здесь временно, я космический корреспондент. Насобираю сведений и засяду за машинку, отчет писать. Но нелепо уезжать сейчас, в самом начале, уподобиться студенту, бросающему институт после первого семестра.
Однако это не значит, что я не скучаю, не мечтаю о возвращении. Каждый вечер перед сном, если только выдается четверть часика свободных, мысленно смакую возвращение. Вот я на вокзале, из Ленинграда приеду же, спешу по подземному переходу в метро, с удовольствием вдыхаю запах сыроватой штукатурки. Покачиваются синие вагоны на стыках, пассажиры покачиваются в лад. Все настоящие люди, и без анапода выглядят людьми, и пахнут по-людски, и разговаривают по-человечески. И я покачиваюсь с ними в одном ритме — равноправный пассажир, смотрю, как прыгает кабель вверх-вниз на полуосвещенных стенах, жду, пока не замелькают за окнами розово-мраморные лотосы. Лотосы — это моя станция! Тоннель всасывает синие вагоны, а я торопливо скольжу меж лотосами, бегу по шахматному полу, розовому с серым.
До чего же приятно перебирать подробности!
Преодолевая упругий ветер, открываю дверь из вестибюля на площадь. Справа киоски, и слева киоски — цветочный, справочный, газетный. Приветливый инвалид предлагает сегодняшние. Газеты как газеты — бумажные и все одинаковые. Общественные газеты, не эгоистические листки звездного информатория. Мороженщицы в белых халатах поверх ватников, поеживаясь от холода, предлагают «стаканчики» и «на палочке». Мимо, мимо! У чугунной решетки не забыть бы посмотреть направо. Осторожно, переход! Земные машины не умеют перескакивать через прохожих. Дальше сад, наполненный мамами и колясочками. Подъезд номер три. Крутая обшарпанная лестница. Отчаянное воззвание на эмалированной пластинке: «Дети, не допускайте порчи стен, окон, дверей и перил в лестничной клетке!» Скорее, скорее, как лениво тянется лифт на шестой этаж! От звезды к звезде я перемещался в зафоне проворнее. Рыжая дверь с потускневшей латунной планочкой. Моя фамилия! Не снята! Звоню! Переминаюсь от нетерпения! Ох, знакомая походка. «Кто там?» Отвечаю: «Свои». Жена открывает, круглолицая, круглоглазая, милая такая! Ахи, охи, вздохи, слезы, упреки: «Где был, почему не писал, разве можно так?» И тут же волнение: «В доме шаром покати. Я сейчас в магазин, одна секундочка». Как будто самое главное на свете: немедленно накормить до отвала.
Это вариант оптимистический, оптимальный. Сладкие мечты!
Есть и другой вариант: грустный.
Те же колонны-лотосы, те же мороженщицы в халатах, чугунная решетка, мамы с колясочками. «Дети, не допускайте порчи…» Журчит лифт, перевожу дух. Звонок…
За дверью шаги, непривычные, тяжеловесные.
Открывает незнакомец. Пожалуй, он напоминает меня немного. Комплекция, проседь, горбатый нос, лоб покатый. У моей жены стойкий вкус.
— Вам кого?
Называю жену по имени-отчеству.
— Тебя тут спрашивают, Леля.
Круглолицая, круглоглазая. Но ни ахов, ни охов. На лице испуг. Недоумение. И поджатые губы. Овладела собой.
— Зайди, поговорим.
Сажусь как гость у собственного стола. Локоть кладу на плексиглас. Отодвигаю какие-то книги о контрапункте и полифонии. Сроду не разбирался в музыке.
— Поговорим спокойно, — говорит она. — Ты сам виноват. Я не спрашиваю, где ты был и с кем, это меня не касается. Но Он, — кивок на горбоносого, — хороший человек и хорошо относится к мальчику. Костя привык считать его вторым отцом. Незачем вносить сумятицу, склеивать разбитое, заново травмировать ребенка. Лучше тебе не приходить сюда. Останемся друзьями.
— Ты бы к столу пригласила человека, — говорит Он со снисходительным добродушием победителя.
Кирпичиной бы его. Не трахну. Интеллигентное воспитание.
И выхожу, скрипя зубами, на лестничную клетку, где дети не допускают порчи.
Если день в космосе был удачен, побеждает радужный вариант. Если я устал или нездоров, преобладает меланхолический. Но в тот вечер после разговора с Граве я больше думал о расписании экскурсий. Итак: Галаядро, атом, подпространство, надпространство.
А поутру, разлепив глаза, опять увидел Граве.
— Вставай скорей, Человек. С тобой хочет говорить председатель Диспута.
Пока Граве ведет меня по никелированным коридорам, лихорадочно собираю мысли. Такой редкий случай, а вопросник не заготовил. Ладно, положусь на вдохновение.
Перед дверью нацепил анапод. Интервью надо вести на равных, разговор человека с человеком. Не отвлекаться на рассматривание. Уходя, сниму анапод, погляжу, каков есть этот звездный Дятел.
И чуть не брякнул: «Здравствуйте, Артемий Семенович»!
Очень уж похож был (в анаподе). Как вылитый мой учитель. Видимо, совершенно одинаковые характеры. Потом уж я заметил ванну вместо письменного стола. Водным был тот космический Дятел.
— Как вам понравилось у нас? — спросил он.
Я ответил в том смысле, что мои сложные впечатления не укладываются в схему «нравится — не нравится».
— Ну и каков итог? Хотели бы вы жить в нашем сообществе? Не вы лично, а ваша планета? — И, склонив голову, посмотрел на меня хитровато сбоку. Я понял, что задан самый главный вопрос.
— Я не уполномочен отвечать за всю планету, — сказал я. — Здесь я как бы корреспондент. Мое дело набрать впечатления и изложить факты земным читателям.
— И когда вы собираетесь отбыть на Землю?
Я сказал, что считаю себя студентом-первокурсником. И предложил программу учетверения.
— Едва ли это целесообразно, — сказал Дятел. — В Шаре миллионы жилых планет. Ни четыре человека, ни четыре тысячи не изучат их досконально. К тому же у копий одинаковая эрудиция, неизбежен однобокий подход. Для всестороннего изучения Шара нужны специалисты с разным образованием. Вас, литератора, пригласили для общего впечатления. И по-моему, оно уже сложилось. — Помолчал и добавил жестко: — Назначайте дату отбытия.
— Как, уже?
— Ему вовсе не хочется домой, — опять вылез Гилик. — Он предпочитает тосковать на дистанции.
Я оторопел. Очень уж неожиданно получилось. Составлял экскурсионную программу, настраивался на долгие годы странствий… А впрочем, домой так домой. Пусть станут явью бумажные газеты, мороженщицы в ватниках и троллейбусы, не умеющие перепрыгивать. Пусть зазвенит восторженный вопль сына:
— Папа, а что ты мне привез такого?
Мне уже не терпится. Я даже рвусь домой. Настраиваюсь на сборы. Что бы захватить, чего не забыть?
— Я готов хоть сейчас. Прошу приготовить мне «Свод знаний».
Я давно присмотрел этот «Свод» — нечто среднее между энциклопедией и комплектом вузовских учебников, — портативные микрокнижечки, сто один том убористым шрифтом. Все там систематизировано: основные знания звездожителей, открытия, факты, схемы машин. Так у меня и было задумано: после первых восторгов встречи сяду я за стол, тот самый с плексигласом, водружу машинку — орудие производства и, заправив первую страничку, начну переводить строка за строкой.
Впрочем, первые строчки я знаю наизусть:
«Том посвящен общему обзору мира. Сначала перечисляется все существующее. Факты. Факты добыты чувствами, а также чувствительными приборами. Оценены разумом, а также вычислительными машинами.
Выводы разума излагаются словами, а также графиками, формулами и другими системами знаков.
Следует учитывать возможные ошибки чувств, разума и слова…»
И сразу напрашивается (я бы статью написал об этом) сравнение с Библией. Там «В начале было слово», здесь слово на четвертом месте. Закономерное различие между религией и звездным материализмом.
Впрочем, возможно, практичнее начать со второго тома. Он называется «Бескачественные количества», проще сказать «Математика». Пожалуй, есть даже смысл пропустить первые разделы, излагающие арифметику, среднюю и высшую математику, науки, известные на Земле. Приступлю сразу к разделу второму. Там уже каждая формула будет откровением. С утра переведу абзац, и сразу в Академию наук, в Институт математики. Там соберутся знатоки, прочтут вслух, начнут толковать, кто как понимает…
Блаженная перспектива!
Дятел переложил голову с правого плеча на левое, поглядел на меня правым глазом.
— Вы считаете это целесообразным? — спросил он. — Хотите давать решебник вместо учебника? У вас это практикуется в школах?
И Граве предал меня тут же:
— Вспомни, Человек, как ты сдавал астродипломатию. Ты же сам говорил: «Я ошибся, дал им слишком много хлеба, отучил доставать и догадываться, думать отучил». В «Своде знаний» решения всех земных задач на тысячу лет вперед.
— Нет, мы не дадим вам «Свода знаний», — резюмировал Дятел.
Сговорились они, что ли? Может, и сговорились.
— Тогда дайте хотя бы… (Что бы попросить существенного?) Дайте мне с собой УММПП, «Если-машину», как ее называли на курсах. Мы на Земле будем рассуждать самостоятельно, а выводы проверять на «Если-машине», как студенты-астродипломаты.
Вот это я правильно придумал. «Если-машина» — вещь полезная, может быть, самая полезная из всех, что я видел на Шаре. Великолепный способ наглядного предостережения в делах вселенских и домашних. Скажем, сидим мы за ужином в доме, сын нудит, как обычно: «Папа, почему у нас нет «Волги», папа, запишись на «Волгу». А я включаю УММПП, надеваю ему зажимы на лоб: «Что ты видишь, Костя?»
— Я вижу, папа, ты весь забинтованный, лежишь в больнице. Доктор говорит, что у тебя замедленная реакция. Что такое замедленная реакция, папа?
— И ты еще хочешь записываться на «Волгу», Костя?
Или, скажем, в газете дискуссия о выращивании человека из мышечной клетки. Одни считают это величайшим достижением, другие ворчат: «Антигуманно, неэстетично!» Обращаются ко мне. Я включаю УММПП…
Приятная роль у обладателя «Если-машины» — консультант по любым вопросам.
— Он хочет быть пророком в своем отечестве, — язвит Гилик.
А Дятел (вредный этот космический Дятел, совсем непохож на моего ироничного, но доброжелательного учителя) тянет свое:
— Вы полагаете, что это целесообразно?
— Но мне же не поверят! — кричу я. — Мне просто не поверят, если я явлюсь с пустыми руками.
— А зачем нужно, чтобы вам верили?
Опять вступает Граве:
— Еще раз вспомни, Человек, свой экзамен по астродипломатии. Ты сам говорил: «Этим огнеупорным рано вступать в Содружество Звезд: они еще не научились рассуждать, доверяются чужому разуму, ищут пророков и слепо следуют за ними». Мы не собирались превращать тебя в пророка, нам, звездожителям, нужны товарищи, а не приверженцы. Нарочно пригласили в Шар не политика, не ученого, а литератора — глаза и язык планеты, профессионального рассказчика. И нарочно приглашали фантаста, чтобы раз навсегда снять вопрос «было или не было?». Пусть твои читатели не доверяют тебе, пусть считают все выдумкой, пусть даже не обсуждают: было или не было? Нравится или не нравится? — вот что важно. Рвутся ли они в такое будущее? Согласны ли заботы наши делить, не только открытия, но и заботы? Хочется ли им ломать голову над переустройством природы, проектировать солнца, планеты, климаты, океаны, сочинять сто тысяч географий ежегодно, или же они довольны одной-единственной географией, склонны лелеять каждый островок, каждую протоку, закат на Финском заливе, Невку Большую, Невку Малую, рощицы, пруды, болота, кочки? Переделывать или беречь? Или и беречь и переделывать? Пусть обсудят, поспорят. Споры возбудить — вот твоя задача.
— А ему так хотелось быть пророком, — подковыривает Гилик.
Я подумал, что сувенирчики какие-нибудь я все равно прихвачу. Гилика хорошо бы «забыть» в кармане в наказание за его ехидство.
Но Дятел как бы услышал мои мысли. Вероятно, в самом деле слышал. Сапиенсы это умеют.
— Мы попросим помочь нам выдержать принцип. Вам придется надеть земную одежду, тщательно проверить карманы. Впрочем, при перемещении в зафон все лишнее устранится автоматически.
— Может быть, вы и память сотрете? — зло сказал я.
— Наоборот, зафиксируем насколько возможно. Вот записи придется оставить тут. Кроме тех, что в земном блокноте. Записи перечитай, запомни как следует…
— А что мне записи? — обозлился я. — Меня позвали сюда, чтобы вынести впечатление. Впечатление сложилось: черствый вы народ, господа звездожители. Пригласили в гости, теперь гоните. Ну и пожалуйста. Часу не хочу быть у вас. Отправляйте немедленно.
— Немедленно? Ты говоришь обдуманно?
— Обдуманно. Нечего мне делать у таких хозяев. Отправляйте.
И тут оказалось, что и они готовы к отправке. В моей комнате меня уже ждет земная одежда: костюм с голубой ниткой и драповое пальто, ещё сохранившее в себе ленинградскую сырость. Переодевшись, я демонстративно вывернул карманы. Душу отводил. Все равно операторы исключили бы при перезаписи любой сувенир, даже если бы я проглотил его.
Знакомые, сто раз исхоженные коридоры ведут меня к межзвездному перрону. Направо, налево, еще раз налево и опять направо. Вот и платформа с рядами раздвижных дверей, похожая на переговорную телефона-телеграфа. Из той синей двери я столько раз отправлялся на Оо, из той крайней — на Эароп к восьминулевым…
— Прощай, Человек, — говорит Граве. — Привык я к тебе, скучать буду. И волноваться. Как ты там уцелеешь на своей Земле без страховочной записи? Прощай! А может, и встретимся. Ведь я куратор твоей спиральной ветви. Может, и окажусь на Земле.
— Будь последовательнее, Человек, — важно говорит и Гилик, протягивая по-земному лапку.
Двери кабины сдвигаются, и исчезают за ними навеки пятнистый скелет и металлический чертенок на его плече, хвостиком обхвативший свою талию.
Зажигается табло с надписью: «Набирайте на диске место назначения. Не ошибайтесь в буквах».
Набрал. Остается нажать клавишу.
Вздохнул тяжело.
Нажал.
Знакомое испытание. В кромешной тьме нечто хватает тебя за руки и ноги, начинает выкручивать. Суставы выворачивает, шею выламывает, глаза выдавливает. Терплю, столько раз терпел, в последний раз терплю. Вот уже назад крутит. Еще немножечко!
И обалдевший, потерявший дыхание от боли, с вытаращенными глазами…
Сижу на мокром камне в пустынном осеннем парке.
Сумерки. Ветер несет облака, разорванные на клочья, горстями сыплет брызги в лицо. Уныло гудят, качаясь, голые стволы осин. Почерневшие листья плавают в пруду. Затоптана в грязь мокрая мочалка сгнившей травы. Осень. Ленинград.
Словно и не было приглашения в зенит.
Было ли?
Путешествие завершилось, и книга моя закончена, в сущности. Но очень мне хочется описать во всех деталях возвращение, описывая, пережить все треволнения первых часов на Земле.
Сначала ведущим чувством было умиление. Все вызывало умиление: пронзительная свежесть сырого воздуха, запах почвы, бурые пальцы корней, чистота осиновой коры, умытой дождем. Я вел себя несолидно. По-есенински обнимал встречные березки и, кажется, прыгал на одной ноге, приговаривая: «Зем-ля, зем-ля, зем-ля!» И умилился облаявшей меня дворняге — настоящему земному псу, сварливому, со свалявшейся в космы мокрой шерстью.
Неизменности я радовался больше всего. Дым Отечества сладок, если он пахнет, как в детстве. Странника огорчают перемены, он хочет, чтобы жизнь поджидала его. Пусть на прежнем месте будет прошлое.
Умилительное вчера! Те же серые от дождя заборы вдоль заколоченных дачек. Те же голенастые краны во втором ряду за дачками. Такие же струи в колеях и кюветах, и так же дождь шелестит, и так же скрежещет трамвай на кольце, кажется, та же кондукторша в пустом прицепе с сумкой и ремнями крест-накрест, как у санитарки — боевой подруги. Прекрасный подлинный земной человек! Надень анапод, сними анапод, все едино — останется человеком. Расцеловать бы ее, первого встреченного человека, да боюсь, не оценит порыва, расшумится, милицию вызовет. Не хочется тратить время на протокол о причинах целования кондуктора при исполнении служебных обязанностей.
— А деньги будем платить, гражданин?
Ах да, деньги! Я и забыл, что на Земле полагается платить деньги. Да есть ли у меня? Лезу в карман, нащупал кошелек. Прекрасно! Мелочь есть и еще четыре трешки. Откуда же столько? Помнится, я почти все деньги оставил в гостинице на билет. Может быть, сапиенсы наделали мне атомных копий? Это хорошо бы: атомные копии — доказательство, все точечки одинаковы, все ворсинки и потертости сходны. Нет, не копии! Даже номера различны. Видимо, Граве привез деньги, сунул мне на дорогу в кошелек. Ну что ж, спасибо за заботу, дружище. Могу ехать прямо на вокзал.
Вокзальная сутолока. Журчат тележки носильщиков, бегут женщины с узлами, волокут детишек. И я бегу, поддаваясь темпу, хотя времени предостаточно. Душная полутьма купе, номер четный, верхняя полка, что может быть лучше? Поднял, как полагается, не разучился, расстелил наматрасник, подоткнул суровую вагонную простыню, лег, потянулся, лопатки расправил. И вспомнилось, как мечтал об этом мгновении давным-давно, когда брел под дождем в пустынный парк за непонятно-подозрительным Граве. Долог оказался путь от того парка до вокзала через созвездие Геркулеса.
Пожалуй, это были лучшие минуты того дня. Я ощущал себя победителем. Ждал, добивался и достиг! Странствовал и вернулся! Видел невиданное! Молодец! Такое еще никому из людей не довелось пережить. Соседи даже не подозревают, что рядом с ними галактический посланник. На боковой полке мать ребенка укладывает, расправляет одеяльце. У столика убивают время картами. Слышится: «без червей», «без мальчиков», «без дам…»
А что, если свесить голову и брякнуть: «А я, товарищи, из космоса сегодня!»
Не поверят. Знают, что прибывают из космоса не на верхней полке в жестком плацкартном.
Спал я беспокойно. Проснулся в два часа ночи, еще раз в три, в половине четвертого и больше не засыпал. Умиление прошло, испарилось горделивое торжество, все вытеснило волнение. Как-то меня встретят, по варианту радостному или ледяному? Родные откроют дверь или этот заместитель, напоминающий меня? Не ждут того, кто не просил ждать. И сколько ждать? Вчера, покупая билет, я узнал число — 11 ноября. Но какого года? Спешил на поезд, газеты не рассматривал, у соседей спросить постеснялся. Сколько я прожил в Шаре: год, два или три?
И волнение съедает встречу с Москвой, все пленительные детали, которые столько раз смаковал мысленно. Все на месте — и канал у Химок, и Останкинская игла, вонзившаяся в тучи, подземные переходы, пахнущие сырой штукатуркой, кабель, прыгающий на стене тоннеля. Все есть, и ничто не радует. Воспринимается как километровые столбы, как стрелки на часах. От башни двадцать пять минут до дому, от вокзала — пятнадцать, от колонн-лотосов — пять минут. Киоски, мороженщицы, желтый шар перехода, троллейбус с искрящими усами… Мимо, мимо! Лифт не работает, на ремонте. Ладно, обойдусь! Бегу по лестнице, теряя дыхание. Сто одна ступенька до моей квартиры. Дверь цвета красной глины. Звонок! Сейчас решится!
Слышу за дверью шаги. Размеренные. Мужские.
— Кто там?
И голос мужской.
Не очень знакомый долговязый подросток с неожиданно маленькой головкой смотрит на меня сверху вниз.
Неужели мой сын?
— Вам кого?
Тут что-то теплое, круглое, мягкое кидается на меня.
— Папа приехал, папа! Костя, ты не узнал папу?
…
Перо сломалось. Непрочные ручки делают на Земле…
Потом мы все сидим за столом, глядим друг на друга и радуемся, что мало перемен. Конечно, прибавилось морщинок, но кто их пересчитывает? А круглые глаза сияют, и на круглых щеках румянец.
— Значит, ждала?
— Ждала, конечно, но не так рано.
— ?!?
— В телеграмме не сказано, что ты приедешь к семи утра.
— Какая телеграмма? Откуда?
— Оттуда… где ты был. — И губу закусила. Вид почему-то виноватый, как будто проговорилась. И засуетилась сразу: — Костя, что же ты стоишь, Костя? Беги в молочную, молочная уже открыта. Сыру купи. «Российский» папа любит, и ветчины, если есть нежирная… и забеги на обратном пути в булочную, там с утра привозят свежие торты. «В полет» возьми или «Трюфельный»… Телеграмма? Я потом покажу, куда-то засунула. Наверное, ты хочешь ванну принять, сейчас я дам тебе полотенце. И кофе поставлю. Костя, где спички, дай спички. Я уверена, что ты куришь тайком, почему у тебя спички? Беги скорей, папу надо накормить с дороги.
Как будто я не ел в космосе ни разу.
— Ах, боже мой, и кофе нет! Кажется, соседи уже проснулись. Я сейчас…
Хлопнула дверь. Тишина, я один в квартире. Нерешительно прохожу в синюю комнату, мой бывший кабинет. Все как прежде: у окна стол с пресловутым плексигласом. Где тут выцарапано Ю? И чистая бумага на столе, и машинка наготове. Будто я и не отлучался, будто не было приглашения в зенит.
Было ли?
С годами я и сам как-то начал сомневаться. Вот я пишу и пишу, уже который год пишу, переводя в слова воспоминания; и образы выцветают, вытесняются строчками и страничками. Блекнут картины, становятся туманными, недостоверными.
Было ли?
А может быть, и правы сапиенсы: не так важно, «было или не было?». Важнее — нравится ли? Хочется ли к звездам? И очень ли хочется, согласны ли мы силы вкладывать, чтобы проникнуть в звездный мир, и тройные силы, чтоб принять участие в его заботах?
Было ли?
Но если было, надо думать, что будет и продолжение. Едва ли звездожители полагаются на меня одного, наверное, есть и их представители, младшие кураторы. Проследили же они, как я брал билет на вокзале, прислали жене успокоительную телеграмму, до сих пор не могу найти: спрятана или растворилась сама собой. Конечно, ходят они по Земле невидимками или под личиной обыкновенных людей, приглядываются, дозреваем ли мы до космической связи, даже следят, как воспринимается мой литературный отчет, сколько людей рвется в небо, сколько — за однопланетный изоляционизм. И сколько равнодушных, вообще не рассуждающих о будущем. А может быть, и сам Граве здесь уже — главный куратор спиральной ветви, астродипломат, имеющий право выбирать время для переговоров. Ведь он сказал: «Может, и встретимся».
В любую минуту может зазвонить телефон. В наше время неожиданное входит в жизнь с телефонным звонком.
Трр! Звонят!
Примечания
1
Об этом подробно повествуется в отдельном рассказе “Глотайте хирурга!”.
(обратно)


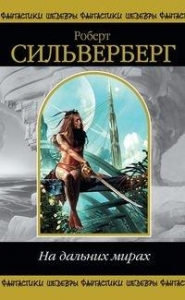
Комментарии к книге «В зените», Георгий Иосифович Гуревич
Всего 0 комментариев