Уильям Батлер ЙЕЙТС Ястребиный источник
ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К МОИМ СОЧИНЕНИЯМ[1]
Поэт всегда пишет о личном, а в лучших своих проявлениях — о своей трагедии, что бы там ни было: раскаяние, утраченная любовь или просто одиночество; он никогда не говорит прямо, не опускается до застольной болтовни; всегда присутствует некая фантасмагория. У Данте и Мильтона были мифы, у Шекспира — персонажи английской истории или старинных былей; даже когда поэт, кажется, представляет только сам себя, как Рэли,[2] обличающий во лжи сильных мира сего, или как Шелли, чувствующий себя «обнаженным нервом, по которому проходят невидимые миру обиды», или как Байрон, чье «сердце раздирает грудь, как меч свои ножны», — поэт никогда не бывает безвольной игрушкой случая и обстоятельств; он перерождается в некую идею, определенную и законченную. Романист может описывать бессвязные случайности, а поэт не имеет на это права; он — скорее человеческий тип, нежели человек, более страсть, нежели тип. Он — Лир, Ромео, Эдип, Тиресий… персонаж, вышедший из пьесы; даже женщина, которую он любит, это — Розалинда или Клеопатра, а не какая-то «темная леди».
Вся ирландская история свершается на фоне огромного таинственного гобелена; даже христианству пришлось принять это и найти себе место на той же картине. Глядя на эти темные складки, невозможно сказать, где начинается и кончается друидизм и начинается вера в Христа. Во времена святого Патрика и позже между ними не было противоречия. Человек, только что вернувшийся с друидского камлания, мог перенять у своего соседа обычай креститься, не почувствовав никакой несовместимости этих обрядов. Клановый порядок не допускал наложения на него церковной власти, он мог принять монахов, но не епископов.
Наша мифология, наши легенды отличаются от европейских тем, что до самого конца XVII в. пользовались интересом, а может быть, даже полным доверием равно у знати и у крестьянства. Гомер — достояние ученых домоседов, а сказания о наших древних королевах, воинах и влюбленных до сих пор способны пронять до дрожи сельского коробейника. Я могу вложить свою мысль, свое отчаянье от того, что происходит сегодня, в уста какого-нибудь бродячего поэта XVII в. или даже нынешнего трактирного певца — исполнителя баллад, — и чем глубже моя мысль, тем достоверней и естественней она будет звучать у этого воображаемого певца или бродячего поэта. Некоторые современные поэты утверждают, что народное искусство — это джаз и мюзик-холльные песенки и на них нужно равняться, но мы, ирландские поэты, отвергаем любое популярное искусство, если оно не берет начало на Олимпе.
Ирландцы сохранили свое наследие в долгих войнах, которые в XVI и XVII вв. принимали форму войны на уничтожение. Эта память до сих пор живет в нас, и вряд ли какой другой народ отравлен ненавистью так, как мой. Мне приходится напоминать себе, что, хотя все мои предки были ирландцами, моя душа обязана своим существованием Шекспиру, Спенсеру и Блейку, может быть, Уильяму Моррису, что все, что я люблю, пришло ко мне при посредстве английского языка, на котором я думаю, говорю и пишу. И тогда любовь и ненависть раздирают меня пополам.
Стиль — вещь почти бессознательная. Я знаю, чего я хотел, но слабо понимаю, что получилось. Современные лирические поэмы, даже те, что трогают меня, кажутся слишком длинными; хотя ирландская склонность к энергичной краткости, может быть, проистекает от лени, думаю, Бернс ощущал то же самое, читая Томсона и Каупера. Английский ум раздумчив, богат нюансами, нетороплив, — он напоминает долину Темзы. Я хотел писать короткие лирические стихи или стихотворные драмы так, чтобы каждая фраза была краткой и емкой, заряженной драматическим напряжением. Я попытался приспособить стихотворную дикцию к ритму простой взволнованной речи, к тому естественному языку, которым мы говорим сами с собой, реагируя на события своей жизни или на воображаемый случай. Я иногда сравниваю себя с одной безумной старухой, которая непрерывно что-то вспоминала, бормоча себе под нос. «Да как ты смеешь, — накидывалась она на какого-то несуществующего ухажера, — калека, ни кола ни двора!» Если бы я выразил свои мысли вслух, они, верно, были бы столь же буйными и сумасбродными.
Прошло немало времени, прежде чем я выработал язык под стать задаче, а началось это лет двадцать тому назад, когда я обнаружил, что должен искать не простые повседневные слова, о которых писал Вордсворт, а мощный, страстный синтаксис и стремиться к полному совпадению между строфой и периодом речи. Я намеренно ограничиваю себя традиционными размерами, выработанными вместе с языком. Эзра Паунд, Тернер и Лоуренс писали восхитительные верлибры, но это не по мне. Я бы потерял себя, стал безрадостным, как та безумная старуха. Переводчики Библии, сэр Томас Браун, некоторые переводчики с греческого, всерьез озабоченные ритмом, создали форму посередине между прозой и стихами, которая кажется естественной для надличной медитации; но все, что индивидуально, подвержено скорой порче, и чтобы это сохранить, нужны лед или соль. Однажды, заболев воспалением легких, я в полубреду продиктовал письмо Джорджу Муру, умоляя его есть соль — символ вечности; бред прошел, и я не помнил об этом письме, но, должно быть, я имел в виду именно это. Если бы я написал о своей любви и печали свободным стихом или любым ритмом, оставляющим чувство непреображенным, во всей его случайной невнятице, я бы сам презирал себя за эгоизм и расхлябанность, предвидя скуку читателя. Я должен выбрать традиционную строфу, даже то, что я изменяю, должно выглядеть традиционно.
1937
У. Б. Йейтс
СТИХОТВОРЕНИЯ
Из книги «Перекрестки»
(1889)
ПЛАЩ, КОРАБЛЬ И БАШМАЧКИ
«Кому такой красивый плащ?» «Я сшил его Печали. Чтоб был он виден издали И восхищаться все могли Одеждами Печали». «А парус ладишь для чего?» «Для корабля Печали. Чтоб, крыльев чаячьих белей, Скитался он среди морей Под парусом Печали». «А войлочные башмачки?» «Они для ног Печали. Чтоб были тихи и легки Неуловимые шаги Подкравшейся Печали».ПЕСНЯ СЧАСТЛИВОГО ПАСТУХА
В лесах Аркадских[3] — тишина, Не водят нимфы круг веселый; Мир выбросил игрушки сна, Чтоб забавляться Правдой голой, — Но и она теперь скучна. Увы, пресыщенные дети! Все быстротечно в этом свете: Ужасным вихрем сметены, Летят под дудку Сатаны Державы, скиптры, листья, лики… Уносятся, мелькнув едва; Надежны лишь одни слова. Где ныне древние владыки, Бранелюбивые мужи, Где грозные цари — скажи? Их слава стала только словом, О ней твердят учителя Своим питомцам бестолковым… А может, и сама Земля В звенящей пустоте Вселенной — Лишь слово, лишь внезапный крик, Смутивший на короткий миг Ее покой самозабвенный? Итак, на древность не молись, В пыли лежат ее свершенья; За истиною не гонись — Непрочно это утешенье; Верь только в сердце и в судьбу И звездочетам не завидуй, Следящим в хитрую трубу За ускользающей планидой. Нетрудно звезды перечесть[4] (И в этом утешенье есть), Но звездочетов ты не слушай, Не верь в ученые слова: Холодный, звездный яд их души Разъел, и правда их — мертва. Ступай к рокочущему морю, И там ракушку подбери С изнанкой розовей зари, — И всю свою печаль, все горе Ей шепотом проговори И погоди одно мгновенье: Печальный отклик прозвучит В ответ, и скорбь твою смягчит Жемчужное, живое пенье, Утешит с нежностью сестры: Одни слова еще добры, И только в песне — утешенье. А мне пора; там, где нарцисс, Грустя, склоняет венчик вниз, Могила есть в глуши дубравной; Туда мне надо поспешить, Чтоб песенками рассмешить Хоть на часок беднягу фавна. Давно уже он в землю лег, А все мне чудится: гуляет Он в этих рощах, — на лужок, Промокший от росы, ступает, И распустившийся цветок С ужимкой важной обоняет, И слышит звонкий мой рожок. О снов таинственный исток! И это все — твое владенье. Возьми, я для тебя сберег Из мака сонного венок: Есть и в мечтаньях утешенье.ИНДУС О БОГЕ
Я брел под влажною листвой вдоль берега реки, Закат мне голову кружил, вздыхали тростники, Кружилась голова от грез, и я увидел вдруг Худых и мокрых цапель, собравшихся вокруг Старейшей и мудрейшей, что важно изрекла: «Держащий в клюве этот мир, творец добра и зла — Бог-Цапля всемогущий, его чертог высок: Дождь — брызги от его крыла, луна — его зрачок». Пройдя еще, я услыхал, как лотос толковал: «На длинном стебле тот висит, кто мир наш создавал; Я — лишь подобье Божества, а бурная река — Одна росинка, что с его скользнула лепестка». В потемках маленький олень с мерцаньем звезд в глазах Промолвил тихо: «Наш Господь, Гремящий в Небесах, — Олень прекрасный, ибо где иначе взял бы он Красу, и кротость, и печаль, чтоб я был сотворен?» Пройдя еще, я услыхал, как рассуждал павлин: «Кто создал вкусных червяков и зелень луговин — Павлин есть превеликий, он в томной мгле ночей Колышет в небе пышный хвост с мириадами огней».ПРОПАВШИЙ МАЛЬЧИК
Там, средь лесов зеленых, В болотистой глуши, Где, кроме цапель сонных, Не встретишь ни души, — Там у нас на островке Есть в укромном тайнике Две корзины Красной краденой малины. О дитя, иди скорей В край озер и камышей За прекрасной феей вслед — Ибо в мире столько горя, что другой дороги нет. Там, где под светом лунным Волнуется прибой, По отмелям и дюнам, Где берег голубой, Мы кружимся, танцуя Под музыку ночную Воздушною толпой; Под луною колдовской Мы парим в волнах эфира — В час, когда тревоги мира Отравляют сон людской. О дитя, иди скорей В край озер и камышей За прекрасной феей вслед — Ибо в мире столько горя, что другой дороги нет. Там, где с вершины горной, Звеня, бежит вода И в заводи озерной Купается звезда, Мы дремлющей форели На ушко еле-еле Нашептываем сны, Шатром сплетаем лозы — И с веток бузины Отряхиваем слезы. О дитя, иди скорей В край озер и камышей За прекрасной феей вслед — Ибо в мире столько горя, что другой дороги нет. И он уходит с нами, Счастливый и немой, Прозрачными глазами Вбирая блеск ночной. Он больше не услышит, Как дождь стучит по крыше, Как чайник на плите Бормочет сам с собою, Как мышь скребется в темноте За сундуком с крупою. Он уходит все скорей В край озер и камышей За прекрасной феей вслед — Ибо в мире столько горя, что другой дороги нет.ЛЕГЕНДА
Создатель звезд и неба Уселся жарким днем На площади базарной Под каменным крестом. Вокруг ходили люди, Шатался всякий сброд. Сказал он: «На молитве Стоит небесный свод». Профессор, мимо проходя, Воскликнул: «Что за вздор! Неужто этим басням Люди верят до сих пор?» Мэр от роду был тугоух, Почудился ему Какой-то шум. «Да это бунт! Вот я вас всех в тюрьму!» Епископ шел, держа Псалтырь В морщинистых руках. Он понял: что-то говорят О Божеских делах. «Кощунство! — возмутился он. Молчать, еретики!» И тут же разогнал народ Велением руки. По опустевшей площади Проковылял петух, И отмахнулся конь хвостом От надоевших мух. И улетел Создатель Звезд, Слезинку уронив, И вот, где прежде град стоял, — Лишь озеро средь нив.СТАРЫЙ РЫБАК
Ах, волны, танцуете вы, как стайка детей! — Но шум ваш притих, и прежний задор ваш пропал: Волны были беспечней, и были июли теплей, Когда я мальчишкой был и горя не знал. Давно уж и сельдь от этих ушла берегов, А сколько скрипело тут прежде — кто б рассказал! - Телег, отвозивших в Слайго на рынок улов, Когда я мальчишкой был и горя не знал. И, гордая девушка, ты уж не так хороша, Как те, недоступные, между сетями у скал Бродившие в сумерках, теплою галькой шурша, Когда я мальчишкой был и горя не знал.Из книги «Роза»
(1893)
РОЗЕ, РАСПЯТОЙ НА КРЕСТЕ ВРЕМЕН
Печальный, гордый, алый мой цветок! Приблизься, чтоб, вдохнув, воспеть я мог Кухулина в бою с морской волной, И вещего друида под сосной,[5] Что Фергуса в лохмотья снов облек, И скорбь твою, таинственный цветок, О коей звезды, осыпаясь в прах, Поют в незабываемых ночах. Приблизься, чтобы я, прозрев, обрел Здесь, на земле, среди любвей, и зол, И мелких пузырей людской тщеты, Высокий путь бессмертной красоты. Приблизься — и останься так со мной, Чтоб, задохнувшись розовой волной, Забыть о скучных жителях земли: О червяке, возящемся в пыли, О мыши, пробегающей в траве, О мыслях в глупой смертной голове, — Чтобы вдали от троп людских, в глуши, Найти глагол, который Бог вложил В сердца навеки смолкнувших певцов. Приблизься, чтоб и я в конце концов Пропеть о славе древней Эрин[6] смог: Печальный, гордый, алый мой цветок!ОСТРОВ ИННИШФРИ
Я стряхну этот сон — и уйду в свой озерный приют, Где за тихой волною лежит островок Иннишфри; Там до вечера в травах, жужжа, медуницы снуют И сверчки гомонят до зари. Там из веток и глины я выстрою маленький кров, Девять грядок бобов посажу на делянке своей; Там закат — мельтешение крыльев и крики вьюрков, Ночь — головокруженье огней. Я стряхну этот сон — ибо в сердце моем навсегда, Где б я ни был, средь пыльных холмов или каменных сот, Слышу: в глинистый берег озерная плещет вода, Чую: будит меня и зовет.ФЕРГУС И ДРУИД
Фергус
Весь день я гнался за тобой меж скал, А ты менял обличья, ускользая: То ветхим вороном слетал с уступа, То горностаем прыгал по камням, И наконец, в потемках подступивших Ты предо мной явился стариком Сутулым и седым.Друид
Чего ты хочешь, Король над королями Красной Ветви?[7]Фергус
Сейчас узнаешь, мудрая душа. Когда вершил я суд, со мною рядом Был молодой и мудрый Конхобар. Он говорил разумными словами, И все, что было для меня безмерно Тяжелым бременем, ему казалось Простым и легким. Я свою корону Переложил на голову его, И с ней — свою печаль.Друид
Чего ты хочешь, Король над королями Красной Ветви?Фергус
Да, все еще король — вот в чем беда. Иду ли по лесу иль в колеснице По белой кромке мчусь береговой Вдоль плещущего волнами залива, — Все чувствую на голове корону!Друид
Чего ж ты хочешь?Фергус
Сбросить этот груз И мудрость вещую твою постигнуть.Друид
Взгляни на волосы мои седые, На щеки впалые, на эти руки, Которым не поднять меча, на тело, Дрожащее, как на ветру тростник. Никто из женщин не любил меня, Никто из воинов не звал на битву.Фергус
Король — глупец, который тратит жизнь На то, чтоб возвеличивать свой призрак.Друид
Ну, коли так, возьми мою котомку. Развяжешь — и тебя обступят сны.Фергус
Я чувствую, как жизнь мою несет Неудержимым током превращений. Я был волною в море, бликом света На лезвии меча, сосною горной, Рабом, вертящим мельницу ручную, Владыкою на троне золотом. И все я ощущал так полно, сильно! Теперь же, зная все, я стал ничем. Друид, друид! Какая бездна скорби Скрывается в твоей котомке серой!РОЗА МИРА
Кто скажет, будто красота — лишь сон? За этих губ трагический изгиб (Его в раю забыть вы не смогли б) Вознесся дымом в небо Илион, Сын Уснеха погиб.[8] Под бурей, мчащейся издалека, Все рушится, что человек воздвиг; Народы и века пройдут как миг, И звезды сдует словно облака, Лишь этот вечен лик. Склонитесь молча, ангелы, вокруг: Пока она блуждала без дорог В пустынных безднах, милосердный Бог Узрел скиталицу — и мир, как луг, Ей постелил у ног.ПЕЧАЛЬ ЛЮБВИ
Под старой крышей гомон воробьев, И блеск луны, и млечный небосклон, И шелест листьев, их певучий зов, Земного горя заглушили стон. Восстала дева с горькой складкой рта В великой безутешности своей — Как царь Приам пред гибелью, горда, Обречена, как бурям Одиссей. Восстала, — и раздоры воробьев, Луна, ползущая на небосклон, И ропот листьев, их унылый зов, Слились в один земного горя стон.НА МОТИВ РОНСАРА
Когда ты станешь старой и седой, Припомни, задремав у камелька, Стихи, в которых каждая строка, Как встарь, горька твоею красотой. Слыхала ты немало на веку Безумных клятв, безудержных похвал; Но лишь один любил и понимал Твою бродяжью душу и тоску. И вспоминая отошедший пыл, Шепни, к поленьям тлеющим склонясь, Что та любовь, как искра, унеслась И канула среди ночных светил.БЕЛЫЕ ПТИЦЫ
Зачем мы не белые птицы над пенной зыбью морской! Еще метеор не погас, а уже мы томимся тоской; И пламень звезды голубой, озарившей пустой небоскат, Любовь моя, вещей печалью в глазах твоих вечных распят. Усталость исходит от этих изнеженных лилий и роз; Огонь метеора мгновенный не стоит, любовь моя, слез; И пламень звезды голубой растворится в потемках как дым: Давай в белых птиц превратимся и в темный простор улетим. Я знаю: есть остров за морем, волшебный затерянный брег, Где Время забудет о нас и Печаль не отыщет вовек; Забудем, моя дорогая, про звезды, слезящие взор, И белыми птицами канем в качающий волны простор.КТО ВСЛЕД ЗА ФЕРГУСОМ?
Кто вслед за Фергусом готов Гнать лошадей во тьму лесов И танцевать на берегу? О юноша, смелее глянь, О дева юная, воспрянь, Оставь надежду и тоску. Не прячь глаза и не скорби Над горькой тайною любви, Там Фергус правит в полный рост — Владыка медных колесниц, Холодных волн и белых птиц И кочевых косматых звезд.ЖАЛОБЫ СТАРИКА
Я укрываюсь от дождя Под сломанной ветлой, А был я всюду званый гость И парень удалой, Пока пожар моих кудрей Не сделался золой. Я вижу — снова молодежь Готова в бой и в дым За всяким, кто кричит «долой» Тиранам мировым, А мне лишь Время — супостат, Враждую только с ним. Не привлекает никого Трухлявая ветла. Каких красавиц я любил! Но жизнь прошла дотла. Я времени плюю в лицо За все его дела.ИРЛАНДИИ ГРЯДУЩИХ ВРЕМЕН
Знай, что и я в конце концов Войду в плеяду тех певцов, Кто дух ирландский в трудный час От скорби и бессилья спас. Мой вклад ничуть не меньше их: Недаром вдоль страниц моих Цветет кайма из алых роз — Знак той, что вековечней грез И Божьих ангелов древней! Средь гула бесноватых дней Ее ступней летящий шаг Вернул нам душу древних саг; И мир, подъемля свечи звезд, Восстал во весь свой стройный рост; Пусть так же в стройной тишине Растет Ирландия во мне. Не меньше буду вознесен, Чем Дэвис, Мэнган, Фергюсон;[9] Ведь для способных понимать Могу я больше рассказать О том, что скрыла бездны мгла, Где спят лишь косные тела; Ведь над моим столом снуют Те духи мира, что бегут Нестройной суеты мирской — Быть ветром, бить волной морской; Но тот, в ком жив заветный строй, Расслышит ропот их живой, Уйдет путем правдивых грез Вслед за каймой из алых роз. О танцы фей в сияньи лун! — Земля друидов, снов и струн. И я пишу, чтоб знала ты Мою любовь, мои мечты; Жизнь, утекающая в прах, Мгновенней, чем ресничный взмах; И страсть, что Маятник времен Звездой вознес на небосклон, И весь полночных духов рой, Во тьме снующих надо мной, Уйдет туда, где, может быть, Нельзя мечтать, нельзя любить, Где дует вечности сквозняк И Бога раздается шаг. Я сердце вкладываю в стих, Чтоб ты среди времен иных Узнала, что я в сердце нес — Вслед за каймой из алых роз.Из книги «Ветер в камышах»
(1899)
ВОИНСТВО СИДОВ[10]
Всадники скачут от Нок-на-Рей,[11] Мчат над могилою Клот-на-Бар,[12] Кайлте[13] пылает, словно пожар, И Ниав[14] кличет: Скорей, скорей! Выкинь из сердца смертные сны, Кружатся листья, кони летят, Волосы ветром относит назад, Огненны очи, лица бледны. Призрачной скачки неистов пыл, Кто нас увидел, навек пропал: Он позабудет, о чем мечтал, Все позабудет, чем прежде жил. Скачут и кличут во тьме ночей, И нет страшней и прекрасней чар; Кайлте пылает, словно пожар, И Ниав громко зовет: Скорей!ВЕЧНЫЕ ГОЛОСА
Молчите, вечные голоса! Летите к стражам райских отар: Пускай они, забыв небеса, Блуждают по миру, как племена. Ваш зов для сердца безмерно стар, Поют ли птицы, шумят леса, Гудит ли ветер, поет волна, — Молчите, вечные голоса!НЕУКРОТИМОЕ ПЛЕМЯ
Дети Даны[15] смеются в люльках своих золотых, Жмурятся и лепечут, не закрывают глаз, Ибо северный ветер умчит их с собою в час, Когда стервятник закружит между вершин крутых. Я целую дитя, что с плачем жмется ко мне, И слышу узких могил вкрадчиво-тихий зов; Ветра бездомного крик над перекатом валов, Ветра бездомного дрожь в закатном огне, Ветра бездомного стук в створы небесных врат И адских врат; и духов гонимых жалобы, визг и вой. О сердце, пронзенное ветром! Их неукротимый рой Роднее тебе Марии Святой, мерцанья ее лампад!В СУМЕРКИ
Дряхлое сердце мое, очнись, Вырвись из плена дряхлых дней! В сумерках серых печаль развей, В росы рассветные окунись. Твоя матерь, Эйре, всегда молода, Сумерки мглисты и росы чисты, Хоть любовь твою жгут языки клеветы И надежда сгинула навсегда. Сердце, уйдем к лесистым холмам, Туда, где тайное братство луны, Солнца, и неба, и крутизны Волю свою завещает нам. И Господь трубит на пустынной горе, И вечен полет времен и планет, И любви нежнее — сумерек свет, И дороже надежды — роса на заре.ПЕСНЯ СКИТАЛЬЦА ЭНГУСА[16]
Я вышел в темный лес ночной, Чтоб лоб горящий остудить, Орешниковый срезал прут, Содрал кору, приладил нить. И в час, когда светлела мгла И гасли звезды-мотыльки, Я серебристую форель Поймал на быстрине реки. Я положил ее в траву И стал раскладывать костер, Как вдруг услышал чей-то смех, Невнятный тихий разговор. Предстала дева предо мной, Светясь, как яблоневый цвет,[17] Окликнула — и скрылась прочь, В прозрачный канула рассвет. Пускай я стар, пускай устал От косогоров и холмов, Но чтоб ее поцеловать, Я снова мир пройти готов, И травы мять, и с неба рвать, Плоды земные разлюбив, Серебряный налив луны И солнца золотой налив.ВЛЮБЛЕННЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О РОЗЕ, ЦВЕТУЩЕЙ В ЕГО СЕРДЦЕ
Все, что на свете грустно, убого и безобразно: Ребенка плач у дороги, телеги скрип за мостом, Шаги усталого пахаря и всхлипы осени грязной — Туманит и искажает твой образ в сердце моем. Как много зла и печали! Я заново все перестрою — И на холме одиноко прилягу весенним днем, Чтоб стали земля и небо шкатулкою золотою Для грез о прекрасной розе, цветущей в сердце моем.ОН СКОРБИТ О ПЕРЕМЕНЕ, СЛУЧИВШЕЙСЯ С НИМ И ЕГО ЛЮБИМОЙ, И ЖДЕТ КОНЦА СВЕТА
Белая лань безрогая,[18] слышишь ли ты мой зов? Я превратился в гончую с рваной шерстью на тощих боках, Я был на Тропе Камней и в Чаще Длинных Шипов, Потому что кто-то вложил боль и ярость, желанье и страх В ноги мои, чтоб я гнал тебя ночью и днем. Странник с ореховым посохом взглянул мне в глаза, Взмахнул рукой — и скрылся за темным стволом; И стал мой голос — хриплым лаем гончего пса. И время исчезло, как прежний мой образ исчез; Пускай Кабан Без Щетины[19] с Заката придет скорей, И выкорчует солнце, и месяц, и звезды с небес, И уляжется спать, ворча, во мгле без теней.ОН ПРОСИТ У СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ПОКОЯ
Я слышу Призрачных Коней, они летят как гром — Разметанные гривы и молнии очей; Над ними Север распростер ползучий мрак ночей, Восток занялся бледным, негреющим костром, А Запад плачет в росах, последний пряча свет, А Юг разлил пыланье пунцово-красных роз… О тщетность Сна, Желанья и всех Надежд и Грез! — В густую глину впахан Коней зловещих след. Любимая, закрой глаза, пусть сердце твое стучит Над моим, а волосы — волной мне упадут на грудь, Чтоб хоть на час в них утонуть, их тишины вдохнуть — Вдали от тех косматых грив и грохота копыт.ОН ВСПОМИНАЕТ ЗАБЫТУЮ КРАСОТУ
Обняв тебя, любовь моя, Всю красоту объемлю я, Что канула во тьму времен: Жар ослепительных корон, Схороненных на дне озер; И томных вымыслов узор, Что девы по канве вели, — Для пированья гнусной тли; И нежный, тленный запах роз Средь волн уложенных волос; И лилии — у алтарей, Во мраке длинных галерей, Где так настоен фимиам, Что слезы — на глазах у дам. Как ты бледна и как хрупка! О, ты пришла издалека, Из прежних, призрачных эпох! За каждым поцелуем — вздох… Как будто красота скорбит, Что все погибнет, все сгорит, Лишь в бездне бездн, в огне огней Чертог останется за ней, Где стражи тайн ее сидят В железном облаченьи лат, На меч склонившись головой, В задумчивости вековой.ОН МЕЧТАЕТ О ПАРЧЕ НЕБЕС
Владей небесной я парчой Из золота и серебра, Рассветной и ночной парчой Из дымки, мглы и серебра, Перед тобой бы расстелил, — Но у меня одни мечты. Свои мечты я расстелил; Не растопчи мои мечты.К СВОЕМУ СЕРДЦУ, С МОЛЬБОЙ О МУЖЕСТВЕ
Тише, сердце, тише! Страх успокой; Вспомни мудрости древней урок: Тот, кто страшится волн и огня, И ветров, гудящих вдоль звездных дорог, Будет волей ветра, волн и огня Стерт без следа, ибо он чужой Одинокому мужеству бытия.СКРИПАЧ ИЗ ДУУНИ[20]
Едва поддерну я смычком — Танцуют стар и млад. Кузен мой — поп в Кильварнете, В Макарабви[21] — мой брат. А я скрипач из Дууни, Я больше, чем они, И не потребен требник мне, А песни мне — сродни. Когда мы к Господу придем Стучаться у ворот, Архангел всех пропустит в рай, Но скрипача — вперед. И то сказать — без скрипки Какая благодать? Не спеть, не выпить без нее И не потанцевать. Сбегутся ангелы гурьбой, Едва войду я в сад, И с криками: «Играй, скрипач!» Запляшут стар и млад.БАЙЛЕ И АЙЛЛИН
Поэма
(1901)
Содержание. Байле и Айллин любили друг друга, но Энгус, бог любви, желая сделать их счастливыми в своих владениях в стране мертвых, рассказал каждому из влюбленных о смерти другого, отчего сердца их разбились, и они умерли.
Когда во тьме кричит кулик И с ветром шепчется тростник, Из сна, из темноты ночной Они встают передо мной: Вождь уладов,[22] Месгедры[23] сын, И дева кроткая Айллин, Дочь Лугайда,[24] краса долин. Любви их был заказан путь В заботах поздних утонуть; Их страсть остынуть не могла, Как стынут в старости тела. Отторженные от земли, Они в бессмертии расцвели. В те стародавние года Перед пришествием Христа, Когда еще Куальнгский бык[25] В ирландцах распрю не воздвиг, Собрался в свадебный поход Медоречивый Байле — тот, Кого молва еще зовет Малоземельным Байле; с ним Из Эмайна[26] путем одним Певцов и воинов отряд; Был каждый радостью объят, И все мечтали, как один, О свадьбе Байле и Айллин. Привал устроили в лугах, Как вдруг, вертя листву и прах, Промчался ветер — и возник Пред королем чудной старик: Растрепан, тощ, зеленоглаз, И круглый, как у белки, глаз. О птичьи крики в небесах, Рыданья ветра в камышах! Какую выспреннюю блажь Внушает темный голос ваш! Как жалки наши Нэн иль Кэт Пред теми, чьих страданий след Остался в сагах древних лет И в ропоте твоем, тростник! Хоть все постигший лишь постиг, Что, как судьба нас ни балуй, Смех детский, женский поцелуй — Увы! — дар жизни в этом весь. Так сколь же непомерна спесь В том тростнике среди болот, Где дважды в день проходит скот, И в птичьих маленьких телах, Что ветер треплет в небесах! Старик сказал: «Я с юга мчусь, Поведать Байле тороплюсь, Как покидала край отцов Айллин, и много удальцов Толпилось тут: и стар и млад Ее отговорить хотят; Досадно, что такой красе Не жить меж них, — и ропщут все, Упорство девушки виня. И наконец ее коня Какой-то старец удержал: „Ты не поедешь! — он сказал. — Средь соплеменников твоих Тебе отыщется жених“. Нашелся юноша такой, Что, завладев ее рукой, Взмолился: „Выбери из нас, О госпожа!“ И в этот час Среди разгневанной толпы, Когда на все ее мольбы Не отозвался ни один, Упала, умерла Айллин». Сердца у любящих слабы Перед ударами судьбы; Бросает их то в жар, то в лед, Воображенье наперед Им верить худшему велит. Злой вестью Байле был убит. И вот на свежих ветках он К большому дому отнесен, Где, неподвижен и суров, У бронзовых дверных столбов Пес Уладов[27] тогда сидел; Главу понуря, он скорбел О милой дочери певца[28] И о герое, до конца Ей верном. Минули года, Но в день предательства всегда Об их судьбе он слезы лил. И хоть Медоречивый был Под грудой камня погребен Перед глазами Пса, — но он Уж не нашел для Байле слез, Лишь камень к насыпи принес. Для косной памяти людской Обычай издавна такой: Что с глаз долой, из сердца вон. Но ветра одинокий стон, Но у реки седой тростник, Но с клювом загнутым кулик О Дейрдре помнят до сих пор; Мы слышим ропот и укор, Когда вдоль зарослей озер Гуляем вместе с Кэт иль Нэн. Каких нам жаждать перемен? Ведь, как и Байле, мы уйдем Одним протоптанном путем. Но им — им Дейрдре все жива, Прекрасна и всегда права — Ах, сердце знает, как права! А тощий лгун — чудной старик, — В плащ завернувшись, в тот же миг Умчался к месту, где Айллин Средь пестрых ехала равнин С толпой служанок, юных дев: Они, под солнцем разомлев, Мечтали сонно о руках, Что брачной ночью им впотьмах Распустят платье на груди; Ступали барды впереди Так важно, словно арфы звук Способен исцелить недуг Любви — и поселить покой В сердцах людей (бог весть какой!), Где правит страх, как господин. Старик вскричал: «Еще один Покинул хлад и зной земли; Его в Муртемне погребли. И там, на камне гробовом, Священным Огама письмом, Что память пращуров хранит, Начертано: Тут Байле спит Из рода Рури. Так давно Богами было решено, Что ложа брачного не знать Айллин и Байле, — но летать, Любиться и летать, где пчел Гудящий луг — Цветущий Дол. И потому ничтожна весть, Что я спешил сюда принесть». Умолк — и, видя, что она Упала, насмерть сражена, Смеясь, умчался злобный плут К холму, что пастухи зовут Горой Лигина, ибо встарь Оттуда некий бог иль царь Законами снабдил народ, Вещая с облачных высот. Все выше шел он, все скорей. Темнело. Пара лебедей, Соединенных золотой Цепочкой, с нежной воркотней Спустилась на зеленый склон. А он стоял, преображен,[29] — Румяный, статный, молодой: Крыла парили за спиной, Качалась арфа на ремне, Чьи струны Этайн[30] в тишине Сплела, Мидирова жена, Любви безумием пьяна. Как передать блаженство их? Две рыбки, в бликах золотых Скользящие на дне речном; Или две мыши на одном Снопу, забытом на гумне; Две птицы в яркой вышине, Что с дымкой утренней слились; Иль веки глаз, глядящих ввысь И щурящихся на свету; Две ветви яблони в цвету, Чьи тени обнялись в траве; Иль ставен половинки две; Иль две струны, единый звук Издавшие во воле рук Арфиста, мудрого певца; Так! — ибо счастье без конца Сердца влюбленных обрели, Уйдя от горестей земли. Для них завеса тайн снята, Им настежь — Финдрии врата, И Фалии, и Гурии, И легендарной Мурии;[31] Меж исполинских королей Идут, чей древний мавзолей Разграблен тыщи лет назад, И там, где средь руин стоят Колоссов грозных сторожа, Они целуются дрожа. Для них в бессмертном нет чудес: Где в волнах край земли исчез, Их путь лежит над бездной вод — Туда, где звездный хоровод Ведет в волшебный сад планет, Где каждый плод, как самоцвет, Играет, — и лучи длинны От яблок солнца и луны. Поведать ли еще? Их пир — Покой и первозданный мир. Их средь ночного забытья Несет стеклянная ладья В простор небесный без границ; И стаи Энгусовых птиц, Кругами рея над кормой, Взвивают кудри их порой И над влюбленными струят Поток блуждающих прохлад. И пишут: стройный тис нашли, Где тело Байле погребли; А где Айллин зарыли прах, Вся в белых, нежных лепестках, Дикарка-яблоня взросла. И лишь потом, когда прошла Пора раздоров и войны, В которой были сражены Храбрейшие мужи страны, И бой у брода[32] былью стал, Бард на дощечках записал, В которых намертво срослись, Обнявшись, яблоня и тис, Все саги о любви, что знал. Пусть птицы и тростник всю ночь[33] Певца оплакивают дочь; Любимейшая, что мне в ней! Ты и прекрасней, и мудрей, Ты выше сердцем, чем она, — Хоть и не так закалена Гоненьем, странствием, бедой; Но птицы и тростник седой Пускай забудут тех, других Влюбленных — тщетно молодых, Что в лоно горькое земли Неутоленными легли.Из книги «В семи лесах»
(1903)
НЕ ОТДАВАЙ ЛЮБВИ ВСЕГО СЕБЯ
Не отдавай любви всего себя; Тот, кто всю душу дарит ей, любя, Неинтересен женщине — ведь он Уже разгадан и определен. Любовь занянчить — значит умертвить; Ее очарованье, может быть, В том, что непрочно это волшебство. О, никогда не отдавай всего! Запомни, легче птичьего пера Сердца любимых, страсть для них игра. В игре такой беспомощно нелеп Кто от любви своей и глух, и слеп. Поверь тому, что ведает финал: Он все вложил в игру — и проиграл.ПРОКЛЯТИЕ АДАМА
В тот вечер мы втроем сидели в зале И о стихах негромко рассуждали, Следя, как дотлевал последний луч. «Строку, — заметил я, — хоть месяц мучь, Но если нет в ней вспышки озаренья, Бессмысленны корпенье и терпенье. Уж лучше на коленях пол скоблить На кухне иль кайлом каменья бить В палящий зной, чем сладостные звуки Мирить и сочетать. Нет худшей муки, Чем этот труд, что баловством слывет На фоне плотско-умственных забот Толпы — или, как говорят аскеты, В миру». — И замолчал. В ответ на это Твоя подруга (многих сокрушит Ее лица наивно-кроткий вид И голос вкрадчивый) мне отвечала: «Нам, женщинам, известно изначала, Хоть это в школе не преподают, — Что красота есть каждодневный труд». «Да, — согласился я, — клянусь Адамом, Прекрасное нам не дается даром; Как ни вздыхай усердный ученик, Как ни листай страницы пыльных книг, Выкапывая в них любви примеры — Былых веков высокие химеры, Но если сам влюблен — какой в них толк?» Любви коснувшись, разговор умолк. День умирал, как угольки в камине; Лишь в небесах, в зеленоватой сини, Дрожала утомленная луна, Как раковина хрупкая, бледна, Источенная времени волнами. И я подумал (это между нами), Что я тебя любил, и ты была Еще прекрасней, чем моя хвала; Но годы протекли — и что осталось? Луны ущербной бледная усталость.БЛАЖЕННЫЙ ВЕРТОГРАД
(Скача верхом на деревянной скамейке)
Любой бы фермер зарыдал, Облив слезами грудь, Когда б узрел блаженный край, Куда мы держим путь. Там реки полны эля, Там лето — круглый год, Там пляшут королевы, Чьи взоры — синий лед, И музыканты пляшут, Играя на ходу, Под золотой листвою В серебряном саду. Но рыжий лис протявкал: «Не стоит гнать коня». Тянуло солнце за узду, И месяц вел меня, Но рыжий лис протявкал: «Потише, удалец! Страна, куда ты скачешь, — Отрава для сердец». Когда там жажда битвы Найдет на королей, Они снимают шлемы С серебряных ветвей; Но каждый, кто упал, восстал, И кто убит, воскрес; Как хорошо, что на земле Не знают тех чудес: Не то швырнул бы фермер Лопату за бугор — И ни пахать, ни сеять Не смог бы с этих пор. Но рыжий лис протявкал: «Не стоит гнать коня». Тянуло солнце за узду, И месяц вел меня, Но рыжий лис протявкал: «Потише, удалец! Страна, куда ты скачешь, — Отрава для сердец». Снимает Михаил трубу С серебряной ветлы И звонко подает сигнал Садиться за столы. Выходит Гавриил из вод, Хвостатый, как тритон, С рассказами о чудесах, Какие видел он, И наливает дополна Свой золоченый рог, И пьет, покуда звездный хмель Его не свалит с ног. Но рыжий лис протявкал: «Не стоит гнать коня». Тянуло солнце за узду, И месяц вел меня, Но рыжий лис протявкал: «Потише, удалец! Страна, куда ты скачешь, — Отрава для сердец».Из книги «Зеленый шлем и другие стихотворения»
(1910)
СЛОВА
«Моей любимой невдомек, — Подумалось недавно мне, — Что сделал я и чем помог Своей измученной стране». Померкло солнце предо мной, И ускользающую нить Ловя, припомнил я с тоской, Как трудно это объяснить, Как восклицал я каждый год, Овладевая тайной слов: «Теперь она меня поймет, Я объяснить готов». Но если бы и вышло так, На что сгодился б вьючный вол? Я бы свалил слова в овраг И налегке побрел.НЕТ ДРУГОЙ ТРОИ
За что корить мне ту, что дни мои Отчаяньем поила вдосталь, — ту, Что в гуще толп готовила бои, Мутя доверчивую бедноту И раздувая в ярость их испуг? Могла ли умиротворить она Мощь красоты, натянутой, как лук, Жар благородства, в наши времена Немыслимый, — и, обручась с тоской, Недуг отверженности исцелить? Что было делать ей, родясь такой? Какую Трою новую спалить?МУДРОСТЬ ПРИХОДИТ В СРОК
Не в кроне суть, а в правде корневой; Весною глупой юности моей Хвалился я цветами и листвой; Пора теперь усохнуть до корней.ОДНОМУ ПОЭТУ, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЛ МНЕ ПОХВАЛИТЬ ВЕСЬМА СКВЕРНЫХ ПОЭТОВ, ЕГО И МОИХ ПОДРАЖАТЕЛЕЙ
Ты говоришь: ведь я хвалил других За слово точное, за складный стих. Да, было дело, и совет неплох; Но где тот пес, который хвалит блох?СОБЛАЗНЫ
Что от стихов меня не отрывало? То гордой девы лик, а то, бывало, Мои «страдающие земляки» (Иль правящие ими дураки). Все это сплыло, все прошло. Когда-то При звуках песни, дерзкой и крылатой, Мечтатель, я всегда воображал, Что у певца за поясом кинжал. Теперь томлюсь единственным соблазном — Как рыба, стать холодным и бесстрастным.Из книги «Ответственность»
(1914)
СЕНТЯБРЬ 1913 ГОДА
Вы образумились? Ну что ж! Молитесь богу барыша, Выгадывайте липкий грош, Над выручкой своей дрожа; Вам — звон обедни и монет, Кубышка и колокола… Мечты ирландской больше нет, Она с О’Лири[34] в гроб сошла. Но те — святые имена[35] — Что выгадать они могли, С судьбою расплатясь сполна, Помимо плахи и петли? Как молнии слепящий след — Их жизнь, сгоревшая дотла! Мечты ирландской больше нет, Она с О’Лири в гроб сошла. Затем ли разносился стон Гусиных стай в чужом краю?[36] Затем ли отдал жизнь Вольф Тон[37] И Роберт Эммет[38] — кровь свою? — И все безумцы прежних лет, Что гибли, не склонив чела? Мечты ирландской больше нет, Она с О’Лири в гроб сошла. Но если павших воскресить — Их пыл и горечь, боль и бред, — Вы сразу станете гнусить: «Из-за какой-то рыжей Кэт[39] Напала дурь на молодежь…» Да что им поздняя хула! Мечты ирландской не вернешь, Она с О’Лири в гроб сошла.ДРУГУ, ЧЬИ ТРУДЫ ПОШЛИ ПРАХОМ
Не потому, что кроток, А просто — честней смолчать; Сам знаешь, луженых глоток Тебе не перекричать. Признай свое пораженье Пред наглостью наглеца, Который врет без зазренья, Не напрягая лица. Есть вещи важней победы, Заманчивой со стороны; Блюди же тайну и следуй Примеру шальной струны, Играющей средь развалин, Вдали от ферм и свиней, И будь душой беспечален, — Хоть нет ничего трудней.СКОРЕЙ БЫ НОЧЬ
Средь бури и борьбы Она жила, мечтая О гибельных дарах, С презреньем отвергая Простой товар судьбы: Жила, как тот монарх, Что повелел в день свадьбы Из всех стволов палить, Бить в бубны и горланить, Трубить и барабанить, — Скорей бы день спровадить И ночь поторопить.КАК БРОДЯГА ПЛАКАЛСЯ БРОДЯГЕ
«Довольно мне по свету пыль глотать, Пора бы к месту прочному пристать, — Бродяга спьяну плакался бродяге, — И о душе пора похлопотать». «Найти жену и тихий уголок, Прогнать навек бесенка из сапог, — Бродяга спьяну плакался бродяге, — И злющего бесенка между ног». «Красотки мне, ей-богу, не нужны, Средь них надежной не найти жены, — Бродяга спьяну плакался бродяге, — Ведь зеркало — орудье Сатаны». «Богачки тоже мне не подойдут, Их жадность донимает, словно зуд, — Бродяга спьяну плакался бродяге, — Они и шуток даже не поймут». «Завел бы я семью, родил ребят И по ночам бы слушал, выйдя в сад, — Бродяга спьяну плакался бродяге, — Как в небе гуси дикие кричат».ДОРОГА В РАЙ
Когда прошел я Уинди-Гэп,[40] Полпенни дали мне на хлеб, Ведь я шагаю прямо в рай; Повсюду я как званый гость, Пошарит в миске чья-то горсть И бросит мне селедки хвост: А там что царь, что нищий — все едино. Мой братец Мортин сбился с ног, Подрос грубиян, его сынок, А я шагаю прямо в рай; Несчастный, право, он бедняк, Хоть полон двор его собак, Служанка есть и есть батрак: А там что царь, что нищий — все едино. Разбогатеет нищеброд, Богатый в бедности помрет, А я шагаю прямо в рай; Окончив школу, босяки Засушат чудные мозги, Чтоб набивать деньгой чулки: А там что царь, что нищий — все едино. Хоть ветер стар, но до сих пор Играет он на склонах гор, А я шагаю прямо в рай; Мы с ветром старые друзья, Ведет нас общая стезя, Которой миновать нельзя: А там что царь, что нищий — все едино.ВЕДЬМА
Бейся лбом, ради денег терпя, Наживай капитал, Будто с грязною ведьмой тебя Сатана сочетал; А когда ты иссяк и устал, Свел тебя напослед С той, кого ты с тоскою искал Столько дней, столько лет.МОГИЛА В ГОРАХ
Лелей цветы, коль свеж их аромат, И пей вино, раз кубок твой налит; В ребре скалы дымится водопад, Отец наш Розенкрейц[41] в могиле спит. Танцуй, плясунья! Не смолкай, флейтист! Пусть будет каждый лоб венком увит И каждый взор от нежности лучист, Отец наш Розенкрейц в могиле спит. Вотще, вотще! Терзает темноту Ожог свечи, и водопад гремит; В камеи глаз укрыв свою мечту, Отец наш Розенкрейц в могиле спит.ПЛАЩ
Я сшил из песен плащ, Узорами украсил Из древних саг и басен От плеч до пят. Но дураки украли[42] И красоваться стали На зависть остальным. Оставь им эти песни, О Муза! Интересней Ходить нагим.Из книги «Дикие лебеди в Куле»
(1919)
МРАМОРНЫЙ ТРИТОН
Мечтаньями истомлен, Стою я — немолодой Мраморный мудрый тритон[43] Над текучей водой. Каждый день я гляжу На даму души своей И с каждым днем нахожу Ее милей и милей. Я рад, что сберег глаза, И слух отменный сберег, И мудрым от времени стал, Ведь годы мужчине впрок. И все-таки иногда Мечтаю, старый ворчун: О, если б встретиться нам, Когда я был пылок и юн! И вместе с этой мечтой Старясь, впадаю в сон, Мраморный мудрый тритон Над текучей водой.ЗАЯЧЬЯ КОСТОЧКА
Бросить бы мне этот берег И уплыть далеко — В тот край, где любят беспечно И забывают легко, Где короли под дудочку Танцуют среди дерев — И выбирают на каждый танец Новых себе королев. И там, у кромки прилива, Я нашел бы заячью кость, Дырочку просверлил бы И посмотрел насквозь На мир, где венчают поп и дьячок, На старый, смешной насквозь Мир — далеко, далеко за волной, — Сквозь тонкую заячью кость.СОЛОМОН — ЦАРИЦЕ САВСКОЙ
Так пел Соломон[44] подруге, Любимой Шебе своей, Целуя смуглые руки И тонкие дуги бровей: «Уже рассвело и смерклось, А наши с тобой слова Все кружат и кружат вокруг любви, Как лошадь вокруг столба». Так Шеба царю пропела, Прижавшись к нему тесней: «Когда бы мой повелитель Избрал беседу важней, Еще до исхода ночи Он догадался б, увы, Что привязь ума короче, Чем вольная связь любви». Так пел Соломон царице, Целуя тысячу раз Ее арабские очи: «Нет в мире мудрее нас, Открывших, что, если любишь, Имей хоть алмаз во лбу, Вселенная — только лошадь, Привязанная к столбу».СЛЕД
Красивых я встречал, И умных были две, — Да проку в этом нет. Там до сих пор в траве, Где заяц ночевал, Не распрямился след.ЗНАТОКИ
Хрычи, забыв свои грехи, Плешивцы в сане мудрецов Разжевывают нам стихи, Где бред любви и пыл юнцов. Ночей бессонных маета И — безответная мечта. По шею в шорохе бумаг, В чаду чернильном с головой, Они от буквы — ни на шаг, Они за рамки — ни ногой. Будь столь же мудрым их Катулл, Мы б закричали: «Караул!»ФАЗЫ ЛУНЫ
Старик прислушался, взойдя на мост; Он шел со спутником своим на юг Ухабистой дорогой. Их одежда Была изношена, и башмаки Облипли глиной, но шагали ровно К какому-то далекому ночлегу. Луна взошла… Старик насторожился.Ахерн[45]
Что там плеснуло?Робартис
Выдра в камышах; Иль водяная курочка нырнула С той стороны моста. Ты видишь башню? Там свет в окне. Он все еще читает, Держу пари. До символов охоч, Как все его собратья, это место Не потому ль он выбрал, что отсюда Видна свеча на той старинной башне, Где мильтоновский размышлял философ[46] И грезил принц-мечтатель Атанас,[47] — Свеча полуночная — символ знанья, Добытого трудом. Но тщетно он Сокрытых истин ищет в пыльных книгах, Слепец!Ахерн
Ты знаешь все, так почему бы Тебе не постучаться в эту дверь И походя не обронить намека? — Ведь сам не сможет он найти ни крошки Того, что для тебя — насущный хлеб.Робартис
Он обо мне писал в экстравагантном Эссе — и закруглил рассказ на том, Что, дескать, умер я.[48] Пускай я умер!Ахерн
Спой мне о тайнах лунных перемен: Правдивые слова звучат, как песня.Робартис
Есть ровно двадцать восемь фаз луны;[49] Но только двадцать шесть для человека Уютно-зыбких, словно колыбель; Жизнь человеческая невозможна Во мраке полном и при полнолуньи От первой фазы до средины диска В душе царят мечты — и человек Блажен всецело, словно зверь иль птица. Но чем круглей становится луна, Тем больше в нем причуд честолюбивых Является, и хоть ярится ум, Смиряя плеткой непокорность плоти, Телесная краса все совершенней. Одиннадцатый минул день — и вот Афина тащит за власы Ахилла, Повержен Гектор в прах, родится Ницше: Двенадцатая фаза — жизнь героя. Но прежде чем достигнуть полноты, Он должен, дважды сгинув и вокреснув, Бессильным стать, как червь. Сперва его Тринадцатая фаза увлекает В борьбу с самим собой, и лишь потом, Под чарами четырнадцатой фазы, Душа смиряет свой безумный трепет И замирает в лабиринтах сна!Ахерн
Спой до конца, пропой о той награде, Что этот путь таинственный венчает.Робартис
Мысль переходит в образ, а душа — В телесность формы; слишком совершенны Для колыбели перемен земных, Для скуки жизни слишком одиноки, Душа и тело, слившись, покидают Мир видимостей.Ахерн
Все мечты души Сбываются в одном прекрасном теле.Робартис
Ты это знал всегда, не так ли?Ахерн
В песне Поется дальше о руках любимых, Прошедших боль и смерть, сжимавших посох Судьи, плеть палача и меч солдата. Из колыбели в колыбель Переходила красота, пока Не вырвалась за грань души и тела.Робартис
Кто любит, понимает это сердцем.Ахерн
Быть может, страх у любящих в глазах — Предзнание или воспоминанье О вспышке света, о разверстом небе.Робартис
В ночь полнолунья на холмах безлюдных Встречаются такие существа, Крестьяне их боятся и минуют; То отрешенные от мира бродят Душа и тело, погрузясь в свои Лелеемые образы, — ведь чистый, Законченный и совершенный образ Способен победить отъединенность Прекрасных, но пресытившихся глаз. На этом месте Ахерн рассмеялся Своим надтреснутым, дрожащим смехом, Подумав об упрямом человеке, Сидящем в башне со свечой бессонной.Робартис
Пройдя свой полдень, месяц на ущербе. Душа дрожит, кочуя одиноко Из колыбели в колыбель. Отныне Переменилось все. Служанка мира, Она из всех возможных избирает Труднейший путь. Душа и тело вместе Приемлют ношу.Ахерн
Перед полнолуньем Душа стремится внутрь, а после — в мир.Робартис
Ты одинок и стар и никогда Книг не писал: твой ум остался ясен. Знай, все они — купец, мудрец, политик, Муж преданный и верная жена — Из зыбки в зыбку переходят вечно — Испуг, побег — и вновь перерожденье, Спасающее нас от снов.Ахерн
Пропой О тех, что, круг свершив, освободились.Робартис
Тьма, как и полный свет, их извергает Из мира, и они парят в тумане, Перекликаясь, как нетопыри; Желаний лишены, они не знают Добра и зла, и торжества смиренья; Их речи — только восклицанья ветра В кромешной мгле. Бесформенны и пресны, Как тесто, ждущее печного жара, Они, что миг, меняют вид.Ахерн
А дальше?Робартис
Когда же перемесится квашня Для новой выпечки Природы, — вновь Возникнет тонкий серп — и колесо Опять закружится.Ахерн
Но где же выход? Спой до конца.Робартис
Горбун, Святой и Шут Идут в конце. Горящий лук, способный Стрелу извергнуть из слепого круга — Из яростно кружащей карусели Жестокой красоты и бесполезной, Болтливой мудрости, начертан между Уродством тела и души юродством.Ахерн
Когда б не долгий путь, нам предстоящий, Я постучал бы в дверь, встал у порога Под балками суровой этой башни, Где мудрость он мечтает обрести, — И славную бы с ним сыграл я шутку! Пусть он потом гадал бы, что за пьяный Бродяга заходил, что означало Его бессмысленное бормотанье: «Горбун, Святой и Шут идут в конце, Перед затменьем». Голову скорей Сломает он, но не откроет правды. Он засмеялся над простой разгадкой Задачи, трудной с виду, — нетопырь Взлетел и с писком закружил над ними. Свет в башне вспыхнул ярче и погас.КОТ И ЛУНА
Луна в небесах ночных Вращалась, словно волчок. И поднял голову кот, Сощурил желтый зрачок. Глядит на луну в упор — О, как луна хороша! В холодных ее лучах Дрожит кошачья душа, Миналуш[50] идет по траве На гибких лапах своих. Танцуй, Миналуш, танцуй — Ведь ты сегодня жених! Луна — невеста твоя, На танец ее пригласи, Быть может, она скучать Устала на небеси. Миналуш скользит по траве, Где лунных пятен узор. Луна идет на ущерб, Завесив облаком взор. Знает ли Миналуш, Какое множество фаз, И вспышек, и перемен В ночных зрачках его глаз? Миналуш крадется в траве, Одинокой думой объят, Возводя к неверной луне Свой неверный взгляд.ДВЕ ПЕСЕНКИ ДУРАКА
I
Пятнистая кошка и зайчик ручной[51] У печки спят И бегут за мной — И оба так на меня глядят, Прося защиты и наставленья, Как сам я прошу их у Провиденья. Проснусь и не сплю, как найдет испуг, Что мог я забыть Накормить их, иль вдруг — Стоит лишь на ночь дверь не закрыть — И зайчик сбежит, чтоб попасться во мраке На звонкий рожок — да в лапы собаке. Не мне бы нести этот груз, а тому, Кто знает: что, как, Зачем, почему; А что я могу, несчастный дурак, Как только просить у Господа Бога, Чтоб тяжесть мою облегчил хоть немного?II
Я дремал на скамейке своей у огня, И кошка дремала возле меня, Мы не думали, где наш зайчик теперь И закрыта ли дверь. Как он учуял тот сквознячок — Кто его знает? — ухом повел, Лапками забарабанил ли в пол, Прежде чем сделать прыжок? Если бы я проснулся тогда, Окликнул серого, просто позвал, Он бы, наверное, услыхал — И не пропал никуда. Может, уже он попался во мраке На звонкий рожок — да в лапы собаке.ЕЩЕ ОДНА ПЕСЕНКА ДУРАКА
Этот толстый, важный жук, Что жужжал над юной розой, Из моих дурацких рук На меня глядит с угрозой. Он когда-то был педант И с таким же строгим взглядом Малышам читал диктант И давал заданье на дом. Прятал розгу между книг И терзал брюзжаньем уши… С той поры он и привык Залезать бутонам в души.Из книги «Майкл Робартис и плясунья»
(1921)
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЗНИЦЕ
Нетерпеливая с пелен, она[52] В тюрьме терпенья столько набралась, Что чайка за решеткою окна К ней подлетает, сделав быстрый круг, И, пальцев исхудалых не боясь, Берет еду у пленницы из рук. Коснувшись нелюдимого крыла, Припомнила ль она себя другой — Не той, чью душу ненависть сожгла, Когда, химерою воспламенясь, Слепая, во главе толпы слепой, Она упала, захлебнувшись, в грязь? А я ее запомнил в дымке дня — Там, где Бен-Балбен[53] тень свою простер, — Навстречу ветру гнавшую коня:[54] Как делался пейзаж и дик, и юн! Она казалась птицей среди гор, Свободной чайкой с океанских дюн. Свободной и рожденной для того, Чтоб, из гнезда ступив на край скалы, Почувствовать впервые торжество Огромной жизни в натиске ветров — И услыхать из океанской мглы Родных глубин неутоленный зов.ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
Все шире — круг за кругом[55] — ходит сокол, Не слыша, как его сокольник кличет; Все рушится, основа расшаталась, Мир захлестнули волны беззаконья; Кровавый ширится прилив и топит Стыдливости священные обряды; У добрых сила правоты иссякла, А злые будто бы остервенились. Должно быть, вновь готово откровенье И близится Пришествие Второе. Пришествие Второе! С этим словом Из Мировой Души, Spiritus Mundi,[56] Всплывает образ: средь песков пустыни Зверь, с телом львиным, с ликом человечьим И взором гневным и пустым, как солнце, Влачится медленно, скребя когтями, Под возмущенный крик песчаных соек. Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю, Каким кошмарным скрипом колыбели Разбужен мертвый сон тысячелетий И что за чудище, дождавшись часа, Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме.Из книги «Башня»
(1928)
ПЛАВАНИЕ В ВИЗАНТИЮ
I
Где юным — рай, там старым жить нельзя. Влюбленных вздохи, птичий свист под сенью Крон шелестящих, в небе — клич гуся, Плеск рыбы, прущей вперекор теченью,[57] — Сливаются в восторгах, вознося Хвалу зачатью, смерти и рожденью; Захлестнутый их пылом слеп и глух К тем монументам, что воздвигнул дух.II
Старик в своем нелепом прозябаньи Схож с пугалом вороньим у ворот, Пока душа, прикрыта смертной рванью, Не вострепещет и не воспоет — О чем? Нет знанья выше созерцанья Искусства нескудеющих высот: И вот я пересек миры морские И прибыл в край священный Византии.III
О мудрецы,[58] явившиеся мне, Как в золотой мозаике настенной, В пылающей кругами вышине, Вы, помнящие музыку вселенной! — Спалите сердце мне в своем огне, Исхитьте из дрожащей твари тленной Усталый дух: да будет он храним В той вечности, которую творим.IV
Развоплотясь, я оживу едва ли В телесной форме, кроме, может быть, Подобной той, что в кованом металле Сумел искусный эллин воплотить, Сплетя узоры скани и эмали, — Дабы владыку сонного будить И с древа золотого петь живущим О прошлом, настоящем и грядущем.[59]РАЗМЫШЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
I
Усадьбы предков
Я думал, что в усадьбах богачей Средь пышных клумб и стриженых кустов Жизнь бьет многообразием ключей И, заполняя чашу до краев, Стекает вниз — чтоб в радуге лучей Взметнуться вновь до самых облаков; Но до колес и нудного труда, До рабства — не снисходит никогда. Мечты, неистребимые мечты! Сверкающая гибкая струя, Что у Гомера бьет от полноты Сознанья и избытка бытия, Фонтан неиссякаемый, не ты — Наследье наше тыщи лет спустя, А раковина хрупкая, волной Изверженная на песок морской. Один угрюмый яростный старик Призвал строителя и дал заказ, Чтоб тот угрюмый человек воздвиг Из камня сказку башен и террас — Невиданнее снов, чудесней книг; Но погребли кота, и мыши в пляс. На нынешнего лорда поглядишь: Меж бронз и статуй — серенькая мышь. Что если эти парки, где павлин По гравию волочит пышный хвост И где тритоны, выплыв из глубин, Себя дриадам кажут в полный рост, Где старость отдыхает от кручин, А детство нежится средь райских грозд, Что если эти струи и цветы Нас, укротив, лишают высоты? Что если двери вычурной резьбы, И перспективы пышных анфилад С натертыми полами, и гербы В столовой, и портретов длинный ряд, С которых, зодчие своей судьбы, На нас пристрастно прадеды глядят, Что если эти вещи, теша глаз, Не дарят, а обкрадывают нас?II
Моя крепость
Старинный мост и башня над ручьем, Укрывшийся за ней крестьянский дом, Кусок земли кремнистой; Взрастет ли здесь таинственный цветок? Колючий терн, утесник вдоль дорог, И ветер, проносящийся со свистом; И водяные курочки в пруду, Как маленькие челны, Пересекают волны — У трех коров, жующих на виду. Кружащей, узкой лестницы подъем, Кровать, камин с открытым очагом, Ночник, перо, бумага; В такой же келье время проводя, Отшельник Мильтона под шум дождя Вникал в завет египетского мага И вещих духов вызывал в ночи; Гуляка запоздавший Мог разглядеть на башне Бессонный огонек его свечи. Когда-то здесь воинственный барон С дружиною своей гонял ворон И враждовал с соседом, Пока за годы войн, тревог, осад Не растерял свой маленький отряд И не притих; конец его неведом. A ныне я обосновался тут, Желая внукам в память Высокий знак оставить — Гордыни, торжества, скорбей и смут.III
Мой стол
Столешницы дубовый щит, Меч древний, что на нем лежит, Бумага и перо — Вот все мое добро, Оружье против злобы дня. В кусок цветастого тканья Обернуты ножны; Изогнут, как луны Блестящий серп, полтыщи лет Хранился он, храня от бед, В семействе Сато; но Бессмертье не дано Без смерти; только боль и стыд Искусство вечное родит. Бывали времена, Как полная луна, Когда отцово ремесло Ненарушимо к сыну шло, Когда его, как дар, Художник и гончар В душе лелеял и берег, Как в шелк обернутый клинок; Но те века прошли, И нету той земли. Вот почему наследник их, Вышагивая важный стих И слыша за спиной И смех и глум порой, Смиряя боль, смиряя стыд, Знал: небо низость не простит; И вновь павлиний крик Будил: не спи, старик!IV
Наследство
Приняв в наследство от родни моей Неукрощенный дух, я днесь обязан Взлелеять сны и вырастить детей, Вобравших волю пращуров и разум, Хоть и сдается мне, что раз за разом Цветенье все ущербней, все бледней, По лепестку его развеет лето, И глядь — все пошлой зеленью одето. Сумеют ли потомки, взяв права, Сберечь свое наследье вековое, Не заглушит ли сорная трава Росток, с таким трудом взращенный мною? Пусть эта башня с лестницей крутою Тогда руиной станет — и сова, Гнездясь в какой-нибудь угрюмой нише, Кричит во мраке с разоренной крыши. Тот Перводвигатель, что колесом Пустил кружиться этот мир подлунный, Мне указал грядущее в былом — И, возвращений чувствуя кануны, Я ради старой дружбы выбрал дом И перестроил для хозяйки юной; Пусть и руиной об одной стене Он служит памятником им — и мне.V
Дорога у моей двери
Похожий на Фальстафа ополченец Мне о войне лихие пули льет — Пузатый, краснощекий, как младенец, — И похохатывает подбоченясь, Как будто смерть — веселый анекдот. Какой-то юный лейтенант, с отрядом Пятиминутный делая привал, Окидывает местность цепким взглядом; А я твержу, что луг побило градом, Что ветер ночью яблоню сломал. И я считаю черных, точно уголь, Цыплят болотной курочки в пруду, Внезапно цепенея от испуга; И, полоненный снов холодной вьюгой, Вверх по ступеням каменным бреду.VI
Гнездо скворца под моим окном
Мелькают пчелы и хлопочут птицы У моего окна. На крик птенца С букашкой в клювике мамаша мчится. Стена ветшает… Пчелы-медуницы, Постройте дом в пустом гнезде скворца! Мы как на острове; нас отключили От новостей, а слухам нет конца: Там человек убит, там дом спалили — Но выдумки не отличить от были… Постройте дом в пустом гнезде скворца! Возводят баррикады; брат на брата Встает, и внятен лишь язык свинца. Сегодня по дороге два солдата Труп юноши проволокли куда-то… Постройте дом в пустом гнезде скворца! Мы сами сочиняли небылицы И соблазняли слабые сердца. Но как мы так могли ожесточиться, Начав с любви? О пчелы-медуницы, Постройте дом в пустом гнезде скворца!VII
Передо мной проходят образы ненависти, сердечной полноты и грядущего опустошения
Я всхожу на башню и вниз гляжу со стены: Над долиной, над вязами, над рекой, словно снег, Белые клочья тумана, и свет луны Кажется не зыбким сиянием, а чем-то вовек Неизменным — как меч с заговоренным клинком. Ветер, дунув, сметает туманную шелуху. Странные грезы завладевают умом, Странные образы возникают в мозгу. Слышатся крики: «Возмездие палачам! Смерть убийцам Жака Молэ!»[60] В лохмотьях, в шелках, Яростно колотя друг друга и скрежеща Зубами, они проносятся на лошадях Оскаленных, руки худые воздев к небесам, Словно стараясь что-то схватить в ускользающей мгле; И, опьяненный их бешенством, я уже сам Кричу: «Возмездье убийцам Жака Молэ!» Белые единороги катают прекрасных дам Под деревьями сада. Глаза волшебных зверей Прозрачней аквамарина. Дамы предаются мечтам. Никакие пророчества вавилонских календарей Не тревожат сонных ресниц, мысли их — водоем, Переполненный нежностью и тоской; Всякое бремя и время земное в нем Тонут; остаются тишина и покой. Обрывки снов или кружев, синий ручей Взглядов, дрёмные веки, бледные лбы — Или яростный взгляд одержимых карих очей — Уступают место безразличью толпы, Бронзовым ястребам, для которых равно далеки Грезы, страхи, стремление в высоту, в глубину… Только цепкие очи и ледяные зрачки, Тени крыльев бесчисленных, погасивших луну. Я поворачиваюсь и схожу по лестнице вниз, Размышляя, что мог бы, наверное, преуспеть В чем-то, больше похожем на правду, а не на каприз. О честолюбивое сердце мое, ответь, Разве я не обрел бы соратников, учеников И душевный покой? Но тайная каббала, Полупонятная мудрость демонских снов Влечет и под старость, как в молодости влекла.ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ
I
Погибло много в смене лунных фаз Прекрасных и возвышенных творений — Не тех банальностей, что всякий час Плодятся в этом мире повторений; Где эллин жмурил восхищенный глаз, Лишь крошкой мраморной скрипят ступени; Сад ионических колонн отцвел, И хор умолк златых цикад и пчел.[61] Игрушек было много и у нас В дни нашей молодости: неподкупный Закон, общественного мненья глас И идеал святой и целокупный; Пред ним любой мятеж, как искра, гас И таял всякий умысел преступный. Мы верили так чисто и светло, Что на земле давно издохло зло. Зной обеззубел, и утих раздор, Лишь на парадах армия блистала; Что из того, что пушки до сих пор Не все перековали на орала? Ведь пороху понюхать — не в укор На празднике, одних лишь горнов мало, Чтобы поднять в бойцах гвардейский дух И чтоб их кони не ловили мух. И вдруг — драконы снов средь бела дня Воскресли; бред Гоморры и Содома Вернулся. Может спьяну солдатня Убить чужую мать у двери дома И запросто уйти, оцепеня Округу ужасом. Вот до чего мы Дофилософствовались, вот каков Наш мир — клубок дерущихся хорьков. Кто понимает знаменья судьбы И шарлатанским сказкам верит средне, Прельщающим неразвитые лбы, Кто сознает: чем памятник победней, Тем обреченней слому, сколько бы Сил и души не вбил ты в эти бредни, — Тот в мире одиноче ветра; нет Ему ни поражений, ни побед. Так в чем же утешения залог? Мы любим только то, что эфемерно, — Что к этому добавить? Кто бы мог Подумать, что в округе суеверной Найдется демон или дурачок, Способный в ярости неимоверной Акрополь запалить, разграбить сад, Сбыть по дешевке золотых цикад?II
Когда легкие шарфы, мерцая, взлетали в руках Китайских плясуний, которых Лой Фуллер[62] вела за собой, И быстрым вихрем кружился их хоровод, Казалось: воздушный дракон на мощных крыл; Спустившись с небес, увлек их в пляс круговой, — Вот так и Платонов Год[63] Вышвыривает новое зло и добро за круг И старое втягивает в свой яростный вихрь; Все люди — танцоры, и танец их Идет по кругу под гонга варварский стук.III
Какой-то лирик с лебедем сравнил Свой одинокий дух; не вижу в том Печали никакой; Когда б он мог с последней дрожью жил Узреть на зыбком зеркале речном Пернатый образ свой, — Шутя плеснуть волной, Напыжить гордо грудь, И крыльями взмахнуть, И с гулким ветром кануть в мрак ночной. Всю жизнь мы ходим по чужим путям, И лабиринт, которым мы бредем, Чудовищно извит; Один философ утверждал, что там, Где плоть и скорбь спадут, мы обретем Свой изначальный вид; О, если б смертный мог И след земной стереть — Познав такую смерть, Как он блаженно был бы одинок! Взмывает лебедь в пустоту небес; От этих мыслей — хоть в петлю, хоть в крик; И хочется проклясть Свой труд во умножение словес, Спалить и жизнь, и этот черновик. Да, мы мечтали всласть Избавить мир от бед, Искоренить в нем зло; Что было, то прошло; Рехнуться можно, вспомнив этот бред.IV
Мы, чуравшиеся лжи, Мы, болтавшие о чести, Как хорьки, теперь визжим, Зубы скалим хуже бестий.V
Высмеем гордецов, Строивших башню из грез, Чтобы на веки веков В мире воздвигся Колосс, — Шквал его сгреб и унес. Высмеем мудрецов, Портивших зрение за Чтеньем громоздких томов: Если б не эта гроза, Кто б из них поднял глаза? Высмеем добряков, Тех, кто восславить дерзнул Братство и звал земляков К радости. Ветер подул, Где они все? Караул! Высмеем, так уж и быть, Вечных насмешников зуд[64] — Тех, кто вольны рассмешить, Но никого не спасут; Каждый из нас — только шут.VI
Буйство мчит по дорогам, буйство правит конями, Некоторые — в гирляндах на разметавшихся гривах — Всадниц несут прельстивых, всхрапывают и косят, Мчатся и исчезают, рассеиваясь между холмами, Но зло поднимает голову и вслушивается в перерывах. Дочери Иродиады[65] снова скачут назад. Внезапный вихорь пыли взметнется — и прогрохочет Эхо копыт — и снова клубящимся диким роем В хаосе ветра слепого они пролетают вскачь; И стоит руке безумной коснуться всадницы ночи, Как все разражаются смехом или сердитым воем — Что на кого накатит, ибо сброд их незряч. И вот утихает ветер, и пыль оседает следом, И на скакуне последнем, взгляд бессмысленный вперя Из-под соломенной челки в неразличимую тьму, Проносится Роберт Артисон,[66] прельстивый и наглый демон, Кому влюбленная леди носила павлиньи перья И петушиные гребни крошила в жертву ему.ЛЕДА[67] И ЛЕБЕДЬ
Внезапный гром: сверкающие крылья Сбивают деву с ног — прижата грудь К груди пернатой — тщетны все усилья От лона птичьи лапы оттолкнуть. Как бедрам ослабевшим не поддаться Крылатой буре, их настигшей вдруг? Как телу в тростнике не отозваться На сердца бьющегося гулкий стук? В миг содроганья страстного зачаты Пожар на стогнах, башен сокрушенье И смерть Ахилла. Дивным гостем в плен Захвачена, ужель не поняла ты Дарованного в Мощи Откровенья, — Когда он соскользнул с твоих колен?ЧЕРНЫЙ КЕНТАВР
По картине Эдмунда Дюлака[68]
Ты все мои труды в сырой песок втоптал У кромки черных чащ, где, ветку оседлав, Горланит попугай зеленый. Я устал От жеребячьих игр, убийственных забав. Лишь солнце нам растит здоровый, чистый хлеб; А я, прельщен пером зеленым, сумасброд, Залез в абстрактный мрак, забрался в затхлый склеп И там собрал зерно, оставшееся от Дней фараоновых, — смолол, разжег огонь И выпек свой пирог, подав к нему кларет Из древних погребов, где семь Эфесских сонь[69] Спят молодецким сном вторую тыщу лет. Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон Без пробуждения;[70] ведь я тебя любил, Кто что ни говори, — и сберегу твой сон От сатанинских чар и попугайных крыл.ЮНОСТЬ И СТАРОСТЬ
Мир в юности мне спуску не давал, Встречал меня какой-то ярой злостью, А нынче сыплет пригоршни похвал, Любезно выпроваживая гостя.СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
I
Хожу по школе, слушаю, смотрю. Монахиня дает нам разъясненья; Там учат грамоте по букварю, Там числам и таблице умноженья, Манерам, пенью, кройке и шитью… Затверженно киваю целый день я, Встречая взоры любопытных глаз: Что за дедуля к нам явился в класс?II
Мне грезится — лебяжья белизна[71] Склоненной шеи в отблесках камина, Рассказ, что мне поведала она О девочке, страдавшей неповинно; Внезапного сочувствия волна Нас в этот вечер слила воедино — Или (слегка подправив мудреца) В желток с белком единого яйца.[72]III
И, вспоминая той обиды пыл, Скольжу по детским лицам виновато: Неужто лебедь мой когда-то был Таким, как эти глупые утята, — Так морщил нос, хихикал, говорил, Таким же круглощеким был когда-то? И вдруг — должно быть, я схожу с ума — Не эта ль девочка — она сама?IV
О, как с тех пор она переменилась! Как впали щеки — словно много лун Она пила лишь ветер и кормилась Похлебкою теней! И я был юн; Хоть Леда мне родней не доводилась,[73] Но пыжить перья мог и я… Ворчун, Уймись и улыбайся, дурень жалкий, Будь милым, бодрым чучелом на палке.[74]V
Какая мать, мечась на простыне В бреду и муках в родовой палате Или кормя младенца в тишине Благоухающей, как мед зачатий, — Приснись он ей в морщинах, в седине, Таким, как стал (как, спящей, не вскричать ей!), Признала бы, что дело стоит мук, Бесчисленных трудов, тревог, разлук?VI
Платон учил, что наш убогий взор Лишь тени видит с их игрой мгновенной; Не верил Аристотель в этот вздор И розгой потчевал царя вселенной; Премудрый златобедрый Пифагор Бряцал на струнах, чая сокровенный В них строй найти, небесному под стать: Старье на палке — воробьев пугать.VII
Монахини и матери творят Себе кумиров сходно; но виденья, Что мрамором блестят в дыму лампад, Дарят покой и самоотреченье — Хоть так же губят. О незримый Взгляд, Внушающий нам трепет, и томленье, И все, что в высях звездных мы прочли, — Обман, морочащий детей земли!VIII
Лишь там цветет и дышит жизни гений, Где дух не мучит тело с юных лет, Где мудрость — не дитя бессонных бдений И красота — не горькой муки бред. О брат Каштан, кипящий в белой пене, Ты — корни, крона или новый цвет? О музыки круженье и безумье — Как различить, где танец, где плясунья?ДЕВА, ГЕРОЙ И ДУРАК
Дева
Гляжуся в зеркальце свое с досадой: Так отражение со мной несхоже, Что от твоих похвал насмешкой веет, Как будто хвалишь ты во мне другую; Я просыпаюсь в ужасе: мне страшно Самой себя; что началось с обмана, Продолжится жестокостью; беги же, Слепец влюбленный, — ты меня не знаешь.Герой
Вот так я проклинал свое геройство За то, что не меня — его ты любишь.Дева
Когда твое геройство столь же мнимо, Как красота моя, уйду из мира; Монахинь чтят хотя бы; им не нужно Обманывать и мучить.Герой
Да, их чтят, Я знаю, — но не ради их самих, А за святую жизнь.Дева
Скажи еще, Что только Бог нас любит не за что-то, А просто так. Но если сердце жаждет Мужского обожанья и любви?Дурак на обочине
Когда поток минут, Что в гроб нас волокут, Поворотится вспять И мысли, что дурак Мотал на свой колпак, Придется на начало размотать, — Освободясь от пут И мыслей и минут, Я стану тенью вновь, Тогда средь облачков, Воздушных дурачков, Быть может, встречу верность и любовь.СВЕРСТНИКИ
Я не от старости охрип И голос надсадил, Нет, это я смеялся так, Что выбился из сил. Когда луна, как в кружке эль, Мерцает в небесах, Идет-бредет старуха Медж С репьями в волосах. Она несет в руках чурбак, Закутанный в тряпье, И стонет: «Баюшки-баю, Сокровище мое!» Когда безмозглый старый Джек, Что был делягой встарь, На пень залазит и орет, Мол, я — Павлиний Царь, — Смеясь до колотья в боку, Ухохотавшись весь, Я знаю, в ней поет любовь, А в нем кричит лишь спесь.Из книги «Винтовая лестница»
(1933)
РАЗГОВОР ПОЭТА С ДУШОЙ
I
Душа
Вступи в потемки лестницы крутой,[75] Сосредоточься на кружном подъеме, Отринь все мысли суетные, кроме Стремленья к звездной вышине слепой, К той черной пропасти над головой, Откуда свет раздробленный струится Сквозь древние щербатые бойницы. Как разграничить душу с темнотой?Поэт
Меч рода Сато[76] — на моих коленях; Сверкает зеркалом его клинок, Не затупился он и не поблек, Хранимый, как святыня, в поколеньях. Цветами вышитый старинный шелк, Обернутый вкруг деревянных ножен, Потерся, выцвел — но доныне должен Он красоте служить — и помнит долг.Душа
К чему под старость символом любви И символом войны тревожить память? Воображеньем яви не поправить, Блужданья тщетных помыслов прерви; Знай, только эта ночь без пробужденья, Где все земное канет без следа, Могла б тебя избавить навсегда От преступлений смерти и рожденья.[77]Поэт
Меч, выкованный пять веков назад Рукой Монташиги,[78] и шелк узорный, Обрывок платья барыни придворной, Пурпуровый, как сердце и закат, — Я объявляю символами дня, Наперекор эмблеме башни черной, И жизни требую себе повторной, Как требует поживы солдатня.Душа
В бессрочной тьме, в блаженной той ночи, Такая полнота объемлет разум, Что глохнет, слепнет и немеет разом Сознанье, не умея отличить «Где» от «когда», начало от конца — И в эмпиреи, так сказать, взлетает! Лишь мертвые блаженство обретают; Но мысль об этом тяжелей свинца.II
Поэт
Слеп человек, а жажда жить сильна. И почему б из лужи не напиться? И почему бы мне не воплотиться Еще хоть раз — чтоб испытать сполна Все, с самого начала; детский ужас Беспомощности, едкий вкус обид, Взросленья муки, отроческий стыд, Подростка мнительного неуклюжесть? А взрослый в окружении врагов? — Куда бежать от взоров их брезгливых, Кривых зеркал, холодных и глумливых? Как не уверовать в конце концов, Что это пугало — ты сам и есть В своем убогом истинном обличьи? Как отличить увечье от величья, Сквозь оргию ветров расслышать весть? Согласен пережить все это снова И снова окунуться с головой В ту, полную лягушачьей икрой, Канаву, где слепой гвоздит слепого, И даже в ту, мутнейшую из всех, Канаву расточенья и банкротства, Где молится гордячке сумасбродство, Бог весть каких ища себе утех. Я мог бы до истоков проследить Свои поступки, мысли, заблужденья; Без криводушья и предубежденья Изведать все — чтоб все себе простить! И жалкого раскаянья взамен Такая радость в сердце поселится, Что можно петь, плясать и веселиться; Блаженна жизнь — и мир благословен.КРОВЬ И ЛУНА
I
Священна эта земля И древний над ней дозор; Бурлящей крови напор Поставил башню стоймя Над грудой ветхих лачуг — Как средоточье и связь Дремотных родов. Смеясь, Я символ мощи воздвиг Над вялым гулом молвы И, ставя строфу на строфу, Пою эпоху свою, Гниющую с головы.II
Был в Александрии маяк знаменитый,[79] и был Столп Вавилонский вахтенной книгой плывущих по небу светил; И Шелли башни свои — твердыни раздумий — в мечтах возводил.[80] Я провозглашаю, что эта башня — мой дом, Лестница предков — ступени, кружащие каторжным колесом; Голдсмит и Свифт, Беркли и Бёрк[81] брали тот же подъем. Свифт, в исступленьи пифийском проклявший сей мир, Ибо сердцем истерзанным влекся он к тем, кто унижен и сир, Голдсмит, со вкусом цедивший ума эликсир, И высокомысленный Бёрк, полагавший так, Что государство есть древо, империя листьев и птах, Чуждая мертвой цифири, копающей прах. И благочестивейший Беркли, считавший сном Этот скотский бессмысленный мир с его расплодившимся злом: Отврати от него свою мысль — и растает фантом. Яростное негодованье[82] и рабская кабала — Шпоры творческой воли, движители ремесла, Все, что не Бог, в этом пламени духа сгорает дотла.III
Свет от луны сияющим пятном Лег на пол, накрест рамою расчерчен; Века прошли, но он все так же млечен, И крови жертв не различить на нем. На этом самом месте, хмуря брови, Стоял палач, творящий свой обряд, Злодей наемный и тупой солдат Орудовали. Но ни капли крови Не запятнало светлого луча. Тяжелым смрадом дышат эти стены! И мы стоим здесь, кротки и блаженны, Блаженнейшей луне рукоплеща.IV
На пыльных стеклах[83] — бабочек ночных Узоры: сколько здесь на лунном фоне Восторгов, замираний и агоний! Шуршат в углах сухие крылья их. Ужели нация подобна башне, Гниющей с головы? В конце концов, Что мудрость? Достоянье мертвецов, Ненужное живым, как день вчерашний. Живым лишь силы грешные нужны: Все здесь творится грешными руками; И беспорочен только лик луны, Проглянувшей в разрыв меж облаками.ВИЗАНТИЯ
Отхлынул пестрый сор и гомон дня, Спит пьяная в казармах солдатня, Вслед за соборным гулким гонгом[84] стих И шум гуляк ночных; Горит луна, поднявшись выше стен, Над всей тщетой И яростью людской, Над жаркой слизью человечьих вен. Плывет передо мною чья-то тень, Скорей подобье, чем простая тень, Ведь может и мертвец распутать свой Свивальник гробовой; Ведь может и сухой, сгоревший рот Прошелестеть в ответ, Пройдя сквозь тьму и свет, — Так в смерти жизнь и в жизни смерть живет.[85] И птица, золотое существо, Скорее волшебство, чем существо, Обычным птицам и цветам упрек, Горласта, как Плутонов петушок,[86] И, яркой раздраженная луной, На золотом суку Кричит кукареку Всей лихорадке и тщете земной. В такую пору языки огня, Родившись без кресала и кремня, Горящие без хвороста и дров Под яростью ветров, Скользят по мрамору дворцовых плит: Безумный хоровод, Агония и взлет, Огонь, что рукава не опалит. Вскипает волн серебряный расплав; Они плывут, дельфинов оседлав, Чеканщики и златомастера — За тенью тень! — и ныне, как вчера, Творят мечты и образы плодят; И над тщетой людской, Над горечью морской Удары гонга рвутся и гудят…ТРИ ЭПОХИ
Рыба Шекспира плескалась в бескрайних морях, Рыба романтиков билась в прибрежных волнах. Что за рыбешка корчится здесь на камнях?ВЫБОР
I
Путь человечий — Между двух дорог. Слепящий факел Или жаркий смерч Противоречий Разрывает мрак. Внезапный тот ожог Для тела — смерть, Раскаяньем Его зовет душа. Чем утешаться, если это так?II
Есть дерево,[87] от комля до вершины Наполовину в пламени живом, В росистой зелени наполовину; Бушует древо яростным костром И тень прохладную струит в долину; Но тот, кто меж листвою и огнем Повесил Аттиса изображенье,[88] Преодолел печаль и искушенье.III
Добудь себе сто сундуков добра, Купайся у признанья в резком свете, Гальванизируй дни и вечера, — Но на досуге поразмысль над этим: Прелестных женщин манит мишура, Хотя наличные нужней их детям; А утешенья, сколько ни живи, Не обретешь ни в детях, ни в любви. Так вспомни, что дорога коротка, Пора готовиться к своей кончине И этой мысли после сорока Все подчинить, чем только жив отныне: Да не размечет попусту рука Твоих трудов и дней в летейской тине; Так выстрой жизнь, чтобы в конце пути, Смеясь и торжествуя, в гроб сойти.IV
Полвека — славный перевал;[89] Я в лондонском кафе читал, Поглядывая из угла; Пустая чашка и журнал На гладком мраморе стола. Я на толпу глядел — и вдруг Так озарилось все вокруг, Сошла такая благодать, Что пять каких-нибудь минут Я сам бы мог благословлять.V
Скользит ли солнца теплый луч По облачной листве небес, Или месяц из-за туч Серебрит озерный плёс, — Никакой не в радость вид: Так совесть гнет меня и бременит. Все, что я по дурости сболтнул Или сделал невпопад, Все, что хотел, но не дерзнул Много лет тому назад, — Вспоминаю сквозь года И, как от боли, корчусь от стыда.VI[90]
Внизу синели жилы рек, Плыл над долиной жатвы звон, Когда владыка Джу изрек, Стряхнув с поводьев горный снег: «Да минет это все, как сон!» Какой-то город средь степей Возник — Дамаск иль Вавилон; И, белых придержав коней, Воскликнул грозный царь царей: «Да минет это все, как сон!» Две ветви — солнца и луны — Произрастают испокон Из сердца, где ютятся сны. О чем все песни сложены? «Да минет это все, как сон!»VII[91]
Душа
Оставь мечты, верь в истину простую.Сердце
Но где же тему песен обрету я?Душа
Исайи угль![92] Что может быть желанней?Сердце
Есть девственней огонь и первозданней!Душа
Один есть путь, к спасению пригодный.Сердце
Что пел Гомер — не грех ли первородный?VIII
Неужто нам, фон Гюгель,[93] не по пути — притом Что оба мы святыни чтим и чудо признаем? Святой Терезы[94] телеса, нетленны и чисты, Сочатся амброю густой из-под резной плиты, Целительным бальзамом… Не та ли здесь рука[95] Трудилась, что когда-то фараона облекла В пелены благовоний? Увы, я был бы рад Христианином истым стать, уверовать в догмат, Столь утешительный в гробу; но мой удел иной, Гомера некрещеный дух — вот мой пример честной. Из мощи — сласть,[96] сказал Самсон, на выдумки горазд; Ступай же прочь, фон Гюгель, и Господь тебе воздаст.СОЖАЛЕЮ О СКАЗАННОМ СГОРЯЧА
Я распинался пред толпой,[97] Пред чернью самою тупой; С годами стал умней. Но что поделать мне с душой Неистовой моей? Друзья лечили мой порок, Великодушия урок Я вызубрил уже; Но истребить ничем не смог Фанатика в душе. Мы все — Ирландии сыны, Ее тоской заражены И горечью с пелён. И я — в том нет моей вины — Фанатиком рожден.ТРИУМФ ЖЕНЩИНЫ
Я любила дракона, пока ты ко мне не пришел, Потому что считала любовь неизбежной игрой; Соблюдать ее правила, кажется, труд не тяжел, — Но бывает занятно и даже приятно порой Скуку будней развеять, блеснув загорелым плечом, Скоротать полчаса за одной из невинных забав. Но ты встал средь змеиных колец с обнаженным мечом; Я смеялась, как дура, сперва ничего не поняв. Но ты змея сразил и оковы мои разорвал, Легендарный Персей иль Георгий,[98] отбросивший щит, И в лицо нам, притихшим, ревет налетающий шквал, И волшебная птица над нами в тумане кричит.РАССТАВАНИЕ
Он
Мне пора уходить, Чтоб застичь не успели Сторожа. Эти трели Означают рассвет.Она
Нет, возлюбленный, нет: Соловей умоляет Поцелуи продлить И зарю отгоняет.Он
Вот уж утро, смотри, Поднялось над горою…Она
Это свет от луны!Он
Птичий щебет…Она
Пустое! Ночь над миром. Темны Перевалы мои.Из цикла «Слова, возможно, для музыки»
(1931)
БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН И ЕПИСКОП
В полночь, как филин прокличет беду, К дубу обугленному приду (Все перемесит прах). Мертвого вспомню дружка своего И прокляну пустосвята того, Кто вертопрахом ославил его: Праведник и вертопрах. Чем ему Джек так успел насолить? Праведный отче, к чему эта прыть? (Все перемесит прах.) Ох уж и яро бранил он нас, Книгой своей, как дубиной, тряс, Скотство творите вы напоказ! Праведник и вертопрах. Снова, рукой постаревшей грозя, Сморщенною, как лапка гуся (Все перемесит прах), Он объясняет, что значит грех, Старый епископ — смешной человек. Но, как березка, стоял мой Джек: Праведник и вертопрах. Джеку я девство свое отдала, Ночью под дубом его ждала (Все перемесит прах). А притащился бы этот — на кой Нужен он — тьфу! — со своею тоской, Плюнула бы и махнула рукой: Праведник и вертопрах.БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН О БОГЕ
Тот, кто меня любил, Просто зашел с дороги, Ночку одну побыл, А на рассвете — прощай, И спасибо за чай: Все остается в Боге. Высь от знамен черна, Кони храпят в тревоге, Пешие, как стена Против другой стены, Лучшие — сражены: Все остается в Боге. Дом, стоявший пустым Столько, что на пороге Зазеленели кусты, Вдруг в огнях просиял, Словно там будет бал: Все остается в Боге. Вытоптанная, как тропа, Помнящая все ноги (Их же была толпа), — Радуется плоть моя И ликует, поя: Все остается в Боге.БЕЗУМНАЯ ДЖЕЙН ГОВОРИТ С ЕПИСКОПОМ
Епископ толковал со мной, Внушал и так и сяк: «Твой взор потух, обвисла грудь, В крови огонь иссяк; Брось, — говорит, — свой грязный хлев, Ищи небесных благ». «А грязь и высь — они родня, Без грязи выси нет! Спроси могилу и постель — У них один ответ: Из плоти может выйти смрад, Из сердца — только свет. Бывает женщина в любви И гордой и блажной, Но храм любви стоит, увы, На яме выгребной;[99] О том и речь, что не сберечь Души — другой ценой».КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Спи, любимый, отрешись От трудов и от тревог, Спи, где сон тебя застал; Так с Еленою Парис, В золотой приплыв чертог, На рассвете засыпал. Спи таким блаженным сном, Как с Изольдою Тристан На поляне в летний день; Осмелев, паслись кругом, Вскачь носились по кустам И косуля, и олень. Сном таким, какой сковал Крылья лебедя[100] в тот миг, Как, свершив судьбы закон, Словно белопенный вал, Отбурлил он и затих, Лаской Леды усыплен.В НЕПОГОДУ
Захлопни ставни, дверь запри, Пускай ветра кричат И в стены бьют, как будто там С цепи сорвался ад; Мир за окном сошел с ума, Ослеп, как снегопад. На полке Туллий и Назон[101] Стоят с Гомером в ряд; Платон раскрыт. Подумай, друг, Как много лет назад Мы были парою юнцов, Слепых, как снегопад. Ты что вздохнул, старинный друг, Что вздрогнул невпопад? Я вздрогнул вдруг, вообразив, Что даже сам Сократ Бывал безумным, как метель, Слепым, как снегопад.«Я РОДОМ ИЗ ИРЛАНДИИ»
«Я родом из Ирландии, Святой земли Ирландии, — Звал голос нежный и шальной, — Друг дорогой, пойдем со мной Плясать и петь в Ирландию!» Но лишь единственный из всех В той разношерстной братии, Один угрюмый человек В чудном заморском платье К ней повернулся от окна: «Неблизкий путь, сестра; Часы бегут, а ночь темна, Промозгла и сыра». «Я родом из Ирландии, Святой земли Ирландии, — Звал голос нежный и шальной, — Друг дорогой, пойдем со мной Плясать и петь в Ирландию!» «Там косоруки скрипачи, — Он закричал отчаянно, — И неучи все трубачи, И трубы их распаяны! Пускай колотят в барабан, С размаху струны рвут, — Какой поверит здесь болван, Что лучше там, чем тут?» «Я родом из Ирландии, Святой земли Ирландии, — Звал голос нежный и шальной, — Друг дорогой, пойдем со мной Плясать и петь в Ирландию!»ТОМ-СУМАСШЕДШИЙ
Вот что сказал мне Том-сумасшедший, В роще под дубом дом свой нашедший: «Что меня с толку-разуму сбило,[102] Что замутило зоркий мой взгляд? Что неизменный свет превратило Ясного неба — в горечь и чад? Хаддон, и Даддон, и Дэнил О’Лири[103] Ходят по миру, девок мороча, Все бы им клянчить, пьянствовать или Стих покаянный всласть распевать; Эх, не сморгнули б старые очи — Век бы мне в саване их не видать! Все, что встает из соли и пыли, — Зверь, человек ли, рыба иль птица, Конь, кобылица, волк и волчица, — Взору всевидящему предстает В истинном их полнокровьи и силе; Верю, что Божий зрачок не сморгнет».Из книги «Полнолуние в марте»
(1935)
МОЛИТВА СТАРИКА
Избави боже от стихов, Рожденных лишь умом: Их нужно в трепете зачать И выносить нутром. Тот прав, кто мудростью своей Пожертвовать готов И ради песни превзойти Шутов и дураков. Молюсь — хотя молиться мне Отвычно, может быть, — Чтоб мог я, старый, до конца Буянить и блажить.ГОРА МЕРУ[104]
Мир держится на многих обручах Людских иллюзий, кое-как скреплен В единое. Но мыслям нет препон — Не может ум, превозмогая страх, Не рыть, не рыскать вдоль, и вглубь, и вброд Веков бессчетных, ревностью палим, — Пока в пустыню правды не придет: Прощайте, Греция, Египет, Рим! Монахи на святой горе Меру, В пещере снежной прячась до утра Или дрожа на ледяном ветру, Полунагие, знают, что вчера — Прошло вчера, а завтрашний восход Его и тени в мире не найдет.УШКО ИГЛЫ
Весь этот бурный бытия поток Сперва в ушко игольное протек. Все, что на свет рождается из тьмы, Должно прорваться сквозь ушко иглы.Из «Последних стихотворений»
(1936–1939)
ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ
Гарри Клифтону[105]
Я слышал, нервные дамы злятся, Что, мол, поэты — странный народ: Непонятно, с чего они веселятся, Когда всем понятно, в какой мы год Живем и чем в атмосфере пахнет; От цеппелинов смех не спасет; Дождутся они — налетит, бабахнет И все на кирпичики разнесет. Каждый играет свою трагедию: Вот Гамлет с книгой, с посохом Лир, Это — Офелия, а это Корделия, И пусть к развязке движется мир, И звездный занавес готов опуститься Но если их роль важна и видна, Они не станут хныкать и суетиться, Но доиграют достойно финал. Гамлет и Лир — веселые люди, Потому что смех сильнее, чем страх; Они знают, что хуже уже не будет: Пусть гаснет свет, и гроза впотьмах Полыхает, и буря с безумным воем Налетает, чтоб сокрушить помост, — Переиродить Ирода не дано им, Ибо это — трагедия в полный рост. Приплыли морем, пришли пешком, На верблюдах приехали и на ослах Древние цивилизации, огнем и мечом Истребленные, обращенные в прах, Из статуй, что Каллимах[106] воздвиг, До нас не дошло ни одной, — а грек Смотрел на мраморные складки туник И чувствовал ветер морской и бег. Его светильника бронзовый ствол, И года не простояв, был разбит. Все гибнет — творенье и мастерство, Но мастер весел, пока творит. Гляжу на резную ляпис-лазурь: Два старца к вершине на полпути; Слуга карабкается внизу, Над ними — тощая цапля летит. Слуга несет флягу с вином И лютню китайскую на ремне. Каждое на камне пятно, Каждая трещина на крутизне Мне кажутся пропастью или лавиной, Готовой со скал обрушить снег, — Хотя обязательно веточка сливы Украшает домик, где ждет их ночлег. Они взбираются все выше и выше, И вот наконец осилен путь, И можно с вершины горы, как с крыши, Всю сцену трагическую оглянуть. Чуткие пальцы трогают струны, Печальных требует слух утех. Но в сетке морщин глаза их юны, В зрачках их древних мерцает смех.ТРИ КУСТА
Из «Historia mei Temporis» аббата Мишеля де Бурдей
Сказала госпожа певцу: «Для нас — один исход, Любовь, когда ей пищи нет, Зачахнет и умрет. Коль вы разлюбите меня, Кто песню мне споет? Ангел милый, ангел милый! Не зажигайте в спальне свет, — Сказала госпожа, — Чтоб ровно в полночь я могла Приникнуть к вам, дрожа. Пусть будет мрак, ведь для меня Позор острей ножа». Ангел милый, ангел милый! «Я втайне юношу люблю, Вот вся моя вина, — Так верной горничной своей Поведала она, — Я без него не в силах жить, Без чести — не должна. Ангел милый, ангел милый! Ты ночью ляжешь рядом с ним, Стянув с себя наряд, Ведь разницы меж нами нет, Когда уста молчат, Когда тела обнажены И свечи не горят». Ангел милый, ангел милый! Не скрипнул ключ, не взлаял пес В полночной тишине. Вздохнула леди: «Сбылся сон, Мой милый верен мне». Но горничная целый день Бродила как во сне. Ангел милый, ангел милый! «Пора, друзья! Ни пить, ни петь Я больше не хочу. К своей любимой, — он сказал, — Теперь я поскачу. Я должен в полночь ждать ее Впотьмах, задув свечу». Ангел милый, ангел милый! «Нет, спой еще, — воскликнул друг, — Про жгучий, страстный взор!» О, как он пел! — Такого мир Не слышал до сих пор. О, как он мчался в эту ночь — Летел во весь опор! Ангел милый, ангел милый! Но в яму конь попал ногой От замка в ста шагах, И оземь грянулся певец У милой на глазах. И мертвой пала госпожа, Воскликнув только: «Ах!» Ангел милый, ангел милый! Служанка на могилу к ним Ходила много лет И посадила два куста — Горячий, алый цвет; Так розами сплелись они, Как будто смерти нет. Ангел милый, ангел милый! В последний час к ее одру Священник призван был. Она покаялась во всем, Собрав остаток сил. Все понял добрый человек И грех ей отпустил. Ангел милый, ангел милый! Похоронили верный прах При госпоже, и что ж? — Теперь там три куста растут, В цветущих розах сплошь. Польстишься ветку обломать — Где чья, не разберешь. Ангел милый, ангел милый!ПЕСНЯ ВЛЮБЛЕННОГО
Стремится к небу птица, Ум к новизне стремится, Мужское семя — к лону; Один покой нисходит К уму, и птице сонной, И к чреслам утомленным.КЛОЧОК ЛУЖАЙКИ
Кроме картин и книг Да лужайки в сорок шагов, Что мне оставила жизнь? Тьма изо всех углов Смотрит, и ночь напролет Мышь тишину скребет. Успокоенье — мой враг. Дряхлеет не только плоть, Мечта устает парить, А жернов мозга — молоть Памяти сор и хлам, Будничный свой бедлам. Так дайте же пересоздать Себя на старости лет, Чтоб я, как Тимон[107] и Лир, Сквозь бешенство и сквозь бред, Как Блейк,[108] сквозь обвалы строк, Пробиться к истине мог! Так Микеланджело[109] встарь Прорвал пелену небес И, яростью распалясь, Глубины ада разверз; О, зрящий сквозь облака Орлиный ум старика!ОЛИМПИЙСКОЕ ПЛЕМЯ
Все прекрасное и возвышенное: благородный лик Джона О’Лири;[110] звенящий голос отца, Со сцены Аббатства обращающегося к разъяренной толпе:[111] «Эта страна святых…» — и, когда затихли хлопки: «Гипсовых святых!» — голова насмешливо откинута: так! Стендиш О’Грейди,[112] разглагольствующий в кабаке Пьяницам, не понимавшим в его словах ни аза. Старая леди Грегори[113] за огромным столом С позолоченной бронзой: «Они грозятся меня убить. Я отвечаю, что каждый вечер с шести до семи Пишу письма перед этим окном»; Мод Гонн На маленькой станции[114] в ожидании поезда: величавая стать И взор Афины Паллады, устремленный вперед. Олимпийцы! Горжусь, что я их видел и знал.ПРОКЛЯТИЕ КРОМВЕЛЯ
Вы спросите, что я узнал, и зло меня возьмет: Ублюдки Кромвеля везде, его проклятый сброд. Танцоры и влюбленные железом вбиты в прах, И где теперь их дерзкий пыл, их рыцарский размах? Один остался старый шут, и тем гордится он, Что их отцам его отцы служили испокон. Что говорить, что говорить, Что тут еще сказать? Нет больше щедрости в сердцах, гостеприимства нет, Что делать, если слышен им один лишь звон монет? Кто хочет выбиться наверх, соседа книзу гнет, А песни им не ко двору, какой от них доход? Они все знают наперед, но мало в том добра, Такие, видно, времена, что умирать пора. Что говорить, что говорить, Что тут еще сказать? Но мысль меня иная исподтишка грызет, Как мальчику-спартанцу лисенок грыз живот:[115] Мне кажется порою, что мертвые — живут, Что рыцари и дамы из праха восстают, Заказывают песни мне и вторят шуткам в лад, Что я — слуга их до сих пор, как много лет назад. Что говорить, что говорить, Что тут еще сказать? Я ночью на огромный дом набрел, кружа впотьмах, Я видел в окнах свет — и свет в распахнутых дверях; Там были музыка, и пир, и все мои друзья… Но средь заброшенных руин очнулся утром я. От ветра злого я продрог, и мне пришлось уйти, С собаками и лошадьми беседуя в пути. Что говорить, что говорить, Что тут еще сказать?О’РАХИЛЛИ
Помянем же О’Рахилли,[116] Да будет не забыт Сам написавший о себе: «О’Рахилли убит». Историки рассудят спор, А я скажу одно: Не позабудется вовек, Что кровью крещено. — Как там погода? Помянем же О’Рахилли, Он был такой чудак, Что Конноли и Пирсу Сказал примерно так: «Я земляков отговорил От безрассудных дел. Полночи добирался сам, Но, главное, поспел!» — Как там погода? «Нет, не такой я жалкий трус, Чтоб дома ждать вестей И слух свой слухами питать Проезжих и гостей». И усмехнулся про себя, Докончив свой рассказ: «Часы заведены — теперь Пускай пробьет наш час». — Как там погода? Споем теперь об этом дне, Когда он был убит В последнем уличном бою, В бою на Генри-стрит. Там, где, кончаясь у стены, Сраженный наповал, «Тут был убит О’Рахилли», — Он кровью начертал. — Как там погода?ПЕСНЯ ПАРНЕЛЛИТОВ[117]
Эй, подгребайте, земляки! — О Парнелле[118] споем; Чур, не шататься от вина, Держаться на своем! Еще успеем в землю лечь, Забыться мертвым сном; Итак, бутыль по кругу — Осушим и нальем! На то есть несколько причин, Сейчас их перечту: Во-первых, Парнелл честен был, Стоял за бедноту; Боролся против англичан, Ирландии служил; И есть еще причина: По милой он тужил.[119] И есть причина третья О Парнелле пропеть; Он гордым человеком был (Не гордецом, заметь!). А гордый человек красив, — Что говорить о том; Итак, бутыль по кругу, Осушим и нальем! Политиканы и попы Одни — всему виной, Да муж, который торговал И честью и женой. Но песен не споют о тех, Кого народ забыл; А Парнелл верил землякам И милочку любил.БУЙНЫЙ СТАРЫЙ ГРЕХОВОДНИК
И так говорит ей странник: «Дело мое — труба; Женщины и дороги — Страсть моя и судьба. Час свой последний встретить В нежных твоих руках — Вот все, о чем смиренно прошу У Старика в Облаках. Рассвет и огарок свечи. Глаза твои утешают, Твой голос кроток и тих; Так не утаи, дорогая, Милостей остальных. Поверь, я могу такое, Чего молодым не суметь: Слова мои могут сердца пронзить, А их — разве только задеть». Рассвет и огарок свечи. И так она отвечает Буйному старику: «В сердце своем я не вольна И полюбить не могу. Владеет мной постарше Старик, Безгрешно меня любя; Рукам, в которых четки дрожат, Увы, не обнять тебя!» Рассвет и огарок свечи. «Значит, врозь наши пути, Что ж, прощай, коли так! Пойду я к рыбачкам на берегу, Которым понятен мрак. Соленые байки — старым дедам, Девчонкам — пляс и галдеж; Когда над водой сгущается мрак, Расходится молодежь. Рассвет и огарок свечи. Во мраке — пылкий юноша я, А на свету — старый хрыч, Который может кур насмешить, А может — кровно постичь То, что под спудом сердце таит, И древний исторгнуть клад, Скрытый от этих смуглых парней, Которые с ними лежат. Рассвет и огарок свечи. Известно, хлеб человека — скорбь, Удел человека — тлен, Это знает на свете любой, Спесив он или смирен, — Лодочник, ударяя веслом, Грузчик, тачку катя, Всадник верхом на гордом коне И во чреве дитя. Рассвет и огарок свечи. Речи праведников гласят, Что тот Старик в Облаках Молнией милосердья Скорбь выжигает в сердцах. Но я — греховодник старый, Что б ни было впереди, Я обо всем забываю У женщины на груди». Рассвет и огарок свечи.ВОДОМЕРКА
Чтоб цивилизацию не одолел Варвар — заклятый враг, Подальше на ночь коня привяжи, Угомони собак. Великий Цезарь[120] в своем шатре Скулу кулаком подпер, Блуждает по карте наискосок Его невидящий взор. И как водомерка над глубиной, Скользит его мысль в молчании. Чтобы Троянским башням пылать, Нетленный высветив лик, Хоть в стену врасти, но не смути Шорохом — этот миг. Скорее девочка, чем жена, — Пока никто не войдет, Она шлифует, юбкой шурша, Походку и поворот. И как водомерка над глубиной, Скользит ее мысль в молчании. Чтобы явился первый Адам[121] В купол девичьих снов, Выставь из папской часовни детей, Дверь запри на засов. Там Микеланджело под потолком Небо свое прядет, Кисть его, тише тени ночной, Движется взад-вперед. И как водомерка над глубиной, Скользит его мысль в молчании.ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ
Переворот свершился! Ура! Греми, салют! Стегает конный пешего, и тот и этот плут. Ура, опять победа! опять переворот! Вновь конный хлещет пешего, да конный уж не тот.ШПОРЫ
Вы в ужасе, что похоть, гнев и ярость Меня явились искушать под старость. Я смолоду не знал подобных кар. Но чем еще пришпорить певчий дар?ДЖОН КИНСЕЛЛА ЗА УПОКОЙ МИССИС МЭРИ МОР[122]
Горячка, нож или петля, Пиковый интерес, Но смерть всегда хватает то, Что людям позарез. Могла бы взять сестру, куму, И кончен разговор, Но стерве надо не того — Подай ей Мэри Мор. Кто мог так ублажить мужчин, Поднять и плоть и дух? Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх! Пока не сговоришься с ней, Торгуется как жид, Зато потом — заботы прочь, Напоит, рассмешит. Такие байки завернет, Что все забудешь враз, Любое слово у нее Сверкало, как алмаз. Казалось, что невзгоды — прах, А бремя жизни — пух. Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх! Когда бы не Адамов грех, Попы нам говорят, То был бы уготован всем При жизни райский сад, Там нет ни горя, ни забот, Ни ссор из-за гроша, На ветках — сочные плоды, Погода хороша. Там девы не стареют ввек, Скворцы не ловят мух. Без старой милочки моей Что мне до новых шлюх!ВЫСОКИЙ СЛОГ
Какое шествие — без ходуль, какой без них карнавал?! На двадцатифутовые шесты прадедушка мой вставал. Имелась пара и у меня — пониже футов на пять; Но их украли — не то на дрова, не то забор подлатать. И вот, чтоб сменить надоевших львов, шарманку и балаган, Чтоб детям на радость среди толпы вышагивал великан, Чтоб женщины на втором этаже с недочиненным чулком Пугались, в окне увидав лицо, — я вновь стучу молотком.[123] Я — Джек-на-ходулях, из века в век тянувший лямку свою; Я вижу, мир безумен и глух, и тщетно я вопию. Все это — высокопарный вздор. Трубит гусиный вожак В ночной вышине, и брезжит рассвет, и разрывается мрак; И я ковыляю медленно прочь в безжалостном свете дня; Морские кони бешено ржут и скалятся на меня.ПАРАД-АЛЛЕ
I
Где взять мне тему? В голове — разброд, За целый месяц — ни стихотворенья. А может, хватит удивлять народ? Ведь старость — не предмет для обозренья. И так зверинец мой из года в год Являлся каждый вечер на арене: Шут на ходулях, маг из шапито, Львы, колесницы — и бог знает кто.II
Осталось вспоминать былые темы:[124] Путь Ойсина в туман и буруны К трем заповедным островам поэмы, Тщета любви, сражений, тишины; Вкус горечи и океанской пены, Подмешанный к преданьям старины; Какое мне до них, казалось, дело? Но к бледной деве сердце вожделело. Потом иная правда верх взяла. Графиня Кэтлин начала мне сниться;[125] Она за бедных душу отдала, — Но Небо помешало злу свершиться. Я знал: моя любимая могла Из одержимости на все решиться. Так зародился образ — и возник В моих мечтах моей любви двойник. А там — Кухулин, бившийся с волнами, Пока бродяга набивал мешок;[126] Не тайны сердца в легендарной раме — Сам образ красотой меня увлек: Судьба героя в безрассудной драме, Неслыханного подвига урок. Да, я любил эффект и мизансцену, — Забыв про то, что им давало цену.III
А рассудить, откуда все взялось: Дух и сюжет, комедия и драма? Из мусора, что век на свалку свез, Галош и утюгов, тряпья и хлама, Жестянок, склянок, бормотаний, слез, Как вспомнишь все, не оберешься срама. Пора, пора уж мне огни тушить, Что толку эту рухлядь ворошить!ЧЕЛОВЕК И ЭХО
Человек
Здесь, в тени лобастой кручи, Отступя с тропы сыпучей, В этой впадине сырой Под нависшею скалой Задержусь — и хрипло, глухо Крикну в каменное ухо Тот вопрос, что столько раз, Не смыкая старых глаз, Повторял я до рассвета — И не находил ответа. Я ли пьесою своей[127] В грозный год увлек людей Под огонь английских ружей? Я ли невзначай разрушил Бесполезной прямотой Юной жизни хрупкий строй?[128] Я ль не смог спасти от слома Стены дружеского дома?..[129] И такая боль внутри — Стисни зубы да умри!Эхо
Умри!Человек
Но тщетны все попытки Уйти от справедливой пытки, Неотвратим рассудка суд. Пусть тяжек человечий труд — Отчистить скорбные скрижали, Но нет исхода ни в кинжале, Ни в хвори. Если можно плоть Вином и страстью побороть (Хвала Творцу за глупость плоти!), То, плоть утратив, не найдете Ни в чем ни отдыха, ни сна, Покуда интеллект сполна Всю память не перелопатит, — Единым взором путь охватит И вынесет свой приговор; Потом сметет ненужный сор, Сознанье выключит, как зренье, И погрузится в ночь забвенья.Эхо
Забвенья!Человек
О Пещерный Дух, В ночи, где всякий свет потух, Какую радость мы обрящем? Что знаем мы о предстоящем, Где наши скрещены пути? Но чу! я сбился, погоди… Там ястреб над вершиной горной Рванулся вниз стрелою черной; Крик жертвы долетел до скал — И мысли все мои смешал.КУХУЛИН ПРИМИРЕННЫЙ[130]
В груди шесть ран смертельных унося, Он брел Долиной мертвых. Словно улей, В лесу звенели чьи-то голоса. Меж темных сучьев саваны мелькнули — И скрылись. Привалясь к стволу плечом, Ловил он звуки битвы в дальнем гуле. Тогда к забывшемуся полусном Приблизился, должно быть, Главный Саван И бросил наземь узел с полотном. Тут остальные — слева, сзади, справа — Подкрались ближе, и сказал их вождь: «Жизнь для тебя отрадней станет, право, Как только саван ты себе сошьешь. И примиришься духом ты всецело; Сними доспех — он нас приводит в дрожь. Смотри, как можно ловко и умело В ушко иглы[131] любую нить продеть». Он внял совету и взялся за дело. «Ты — шей, а мы всем хором будем петь. Но для начала выслушай признанье: Мы трусы,[132] осужденные на смерть Роднёй — или погибшие в изгнаньи». И хор запел, пронзителен и чист; Но не слова рождались в их гортани, А лишь один тоскливый птичий свист.ЧЕРНАЯ БАШНЯ
Про Черную башню знаю одно: Пускай супостаты со всех сторон, И съеден припас, и скисло вино, Но клятву дал гарнизон. Напрасно чужие ждут, Знамена их не пройдут. Стоя в могилах, спят мертвецы,[133] Но бури от моря катится рев. Они содрогаются в гуле ветров, Старые кости в трещинах гор. Пришельцы хотят запугать солдат, Купить, хорошую мзду суля: Какого, мол, дурня они стоят За свергнутого короля, Который умер давно? Так не все ли равно? Меркнет в могилах лунный свет, Но бури от моря катится рев. Они содрогаются в гуле ветров, Старые кости в трещинах гор. Повар-пройдоха, ловивший сетью Глупых дроздов, чтобы сунуть их в суп, Клянется, что слышал он на рассвете Сигнал королевских труб. Конечно, врет, старый пес! Но мы не оставим пост. Все непроглядней в могилах тьма, Но бури от моря катится рев. Они содрогаются в гуле ветров, Старые кости в трещинах гор.В ТЕНИ БЕН-БАЛБЕНА
I
То, чего аскет искал Возле Фиваидских скал[134] И Атласская колдунья[135] Бормотала в новолунье, То, о чем, таясь, молчат Тени, что в тумане мчат Конной призрачной ордой Под Бен-Балбенской грядой, Всадники, чей лик отмечен Бледностью сверхчеловечьей, Облеку в свои слова. Суть их знанья такова.II
Человек — в цепи звено, Ибо в нем заключено Два бессмертья: не умрет Ни душа его, ни род. Всяк ирландец испокон Чтил бесстрашия закон, Ибо, встретив меч врага, Знал: разлука недолга. Сколь б дюжий гробокоп Землю заступом ни скреб, Все, кому он яму рыл, Ускользают из могил.III
Тот, кто молвил в старину: «Боже, ниспошли войну!»[136] — Знал, что, если спор велик И слова зашли в тупик, Человек мужает враз, Пелена спадает с глаз. В битву ярую вступив, Он смеется, все забыв, — Ибо даже мудрый впасть Должен в буйственную страсть, Чтоб не искривить свой путь, Выбрать друга, вызнать суть.IV
Помни, скульптор, верь, поэт: В модных школах правды нет. Делай дело — и блюди Божью истину в груди. Знай, откуда что пошло: Измеренье и число, Форм египетских канон, Вольный эллина уклон. Чти превыше всяких вер Микеланджело пример: Ведь не зря его Адам Зажигает кровь у дам, Кружит головы невест. Погляди, как точен жест. Правит творческой рукой Совершенства сон мирской. Есть у мастеров старинных На божественных картинах За фигурами святых Дивный сад, где воздух тих, Где безоблачные выси, Травы, и цветы, и листья — Словно грезы, что подчас Спящих переносят нас На какой-то остров дальний — Чтоб, очнувшись в душной спальне, Знали мы: за явью скрыт Мир иной. Скрипит, кружит Колесо… Едва затмились Вековые сны, явились Калверт, Вильсон, Блейк и Клод[137] Новый возвести оплот В душах; но сменилось круто Время — и настала смута.V
Верьте в ваше ремесло, Барды Эрина! — назло Этим новым горлохватам, В подлой похоти зачатым, С их беспамятным умом, С языком их — помелом. Славьте пахаря за плугом, Девушек, что пляшут кругом, Буйных пьяниц в кабаке И монаха в клобуке; Пойте о беспечных, гордых Дамах прошлых лет и лордах, Живших в снах и вбитых в прах, Пойте щедрость и размах, — Чтобы навеки, как талант свой, Сохранить в душе ирландство!VI
Под Бен-Балбенской горой Йейтс лежит в земле родной. Возле церкви — ряд могил, Прадед здесь попом служил. Место сиротливо, пусто, Нет ни мрамора, ни бюста, Только камень-известняк Да завет, гласящий так: Холодно встреть Жизнь или смерть. Всадник, скачи!ПЬЕСЫ
ГРАФИНЯ КЭТЛИН
(1892–1916)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Шеймас Руа, крестьянин.
Мэри, его жена.
Тейг, его сын.
Айлиль, поэт.
Графиня Кэтлин.
Уна, ее кормилица.
Дворецкий графини Кэтлин.
Привратник графини Кэтлин.
Два демона, переодетых купцами.
Крестьяне, слуги, ангельские существа.
Действие происходит в Ирландии в стародавние времена.
СЦЕНА ПЕРВАЯ
Комната, в которой горит очаг. Голые темные стены. Сквозь открытую дверь виден лес; деревья нарисованы узорчатыми силуэтами на фоне бледно-золотистого неба. В целом сцена должна производить эффект иллюстрации в старинном часослове.
Мэри, женщина около сорока лет, сидит и что-то мелет на ручной мельнице.
Мэри
Что это куры переполошились?Тейг, четырнадцатилетний подросток, входит с кучей торфа, сваливает ее перед очагом.
Тейг
В округе голод; люди говорят, Что мертвецы встают из гроба.Мэри (прислушиваясь)
Ишь ты, Как раскудахтались! С чего бы вдруг?Тейг
А вот еще похуже: в Таберване Замечен лопоухий человек, Махавший, словно нетопырь, ушами.Мэри
Куда же твой отец запропастился?Тейг
А позапрошлой ночью на погосте Близ Кэррик-оруса пастух наткнулся На человека без лица: взамен Глаз, носа, рта — сплошная маска кожи.Мэри
Глянь, не идет ли твой отец.Тейг выглядывает за дверь.
Тейг
Ой, мама!Мэри
Что там такое?Тейг
Там в кустах две птицы — Или не птицы — трудно разглядеть За листьями: как совы, но с рогами, И на меня они глядят с угрозой.Мэри
Спаси нас, Матерь Божья!Тейг
Толку нет Молиться, говорит отец. Господь И Матерь Божья дрыхнут и не слышат, Что целый край, охваченный бедой, Кричит, как кролик на зубах куницы.Мэри
Не богохульствуй, сын. Накличешь горе На всех — и на меня, и на отца. Ах, поскорей бы он домой вернулся!Входит Шеймас.
Ну наконец! Ты что так долго делал В лесу? А я схожу с ума от страха, Все думаю: что там с тобой стряслось, Не приключилась ли беда какая…Шеймас
Ну хватит, хватит, перестань кудахтать! С утра, считай, я исходил весь лес, Но ничего не смог добыть. Должно быть, Все барсуки, сурки и даже крысы От жажды передохли. Только ветер Свистит в листве.Тейг
Так ужина не будет?Шеймас
В конце концов я сел на перекрестке Среди бродяг, с протянутой рукой.Мэри
Ты попрошайничал?Шеймас
Я попытался. Но нищие, боясь за свой доход, Меня прогнали бранью и камнями.Тейг
Ты, значит, ничего нам не принес?Шеймас
Неужто в доме пусто?Тейг
Корка хлеба Заплесневшего.Мэри
Есть чуть-чуть муки На новый каравай.Тейг
А дальше что?Мэри
Есть курочка.Шеймас
Чтоб этим нищим сдохнуть! Проклятые!Тейг
Ни хлеба, ни гроша.Шеймас
А съестся курочка — что будем делать? Питаться щавелем и лебедой, Покуда сами не позеленеем?Мэри
Господь, что нас поил-кормил досель, И впредь накормит нас.Шеймас
Жди-дожидайся. Пять раз сегодня я входил в дома И находил лишь мертвецов на лавках.Мэри
Быть может, Он велит нам умереть, Чтобы не видеть злых гримас от ближних, Не слышать злобных слов!Снаружи доносится музыка.
Кто там играет?Шеймас
Кто там бренчит на струнах, насмехаясь Над нашей скудостью?Тейг
Какой-то малый, Старуха с ним и молодая леди.Шеймас
Что ей страданья бедняков? Приправа Из хрена горького к ее обеду. А ты как думала?Мэри
Помилуй, Боже, Тех, кто богат! Средь пышных светлых зал И жирных блюд на скатертях цветастых Недолго сытой зачерстветь душой. А ведь игольное ушко — не шутка!Шеймас
Черт их возьми!Тейг
Они идут сюда.Шеймас
Скорей садись на лавку, обхвати Двумя руками голову — вот этак, Гляди как можно жальче и скули.Мэри
Вот ведь беда — прибраться не успела!Входят Кэтлин, Уна и Айлиль.
Кэтлин
Спаси нас всех, Господь! Мы ищем дом, Старинный замок с яблоневым садом, И садиком аптечным возле кухни, И клумбами… Он где-то здесь, в лесу.Мэри
Мы знаем этот замок, госпожа. Он спрятан за высокими стенами, Чтобы тревоги мира не могли В него проникнуть.Кэтлин
Мы и есть, наверно, Те самые тревоги — ходим кругом И все не можем отыскать тот замок. А я ведь в нем все детство провела.Мэри
Так вы — графиня Кэтлин?Кэтлин
Да. А это — Моя кормилица и няня, Уна. Но и она дорогу не найдет.Уна
Не то тропинки заросли травой, Не то с глазами у меня неладно…Кэтлин
А этот юноша, что, верно, знает Все уголки в лесу, — сегодня днем Он там бродил среди кустов, беспечно Насвистывая, — ныне погружен Так глубоко в отчаянье, что вряд ли Поможет нам.Мэри
Да тут недалеко! Я покажу дорожку, по которой Прислуга замка ходит на базар. Тут рядом. Но покуда отдохните. Мои отцы служили вашим предкам Так долго, госпожа, что было б странно Вам не найти приют гостеприимный Под этой кровлей.Кэтлин
Мы вам благодарны И отдохнуть бы рады, — но темнеет, И нам пора идти.Шеймас
Уж много дней Нет ни еды, ни денег в этом доме.Кэтлин
Так, значит, голод и сюда добрался — В тот край, где я мечтала отдохнуть От бедствий мира? Тщетная надежда! Змей проползет везде.(Дает Шеймасу деньги.)
Тейг
И мне, и мне! Я только что на этом вот пороге Упал от голода и полчаса Валялся как собака!Кэтлин
Я дала Всё, что осталось у меня. Взгляните — Кошель мой пуст. Повсюду на пути Встречали мы лишь нищих и голодных. Пришлось раздать все деньги. Забери И сам кошель с серебряной застежкой, Продай его, а завтра приходи В мой замок и получишь вдвое больше.Айлиль начинает что-то наигрывать.
Шеймас (бормочет)
Опять брянчанье!Кэтлин
Не хули певца И пальцы, пробуждающие струны; Врачи велели мне скорей бежать От злоб мирских и чем-нибудь развлечься, Чтоб думы не свели меня в могилу.Шеймас
Так что — уж нам и рта раскрыть нельзя, Молчи, и все тут?Уна
О, моя голубка! Печали, вычитанные из книг, Она как будто выстрадала сердцем.Уна, Мэри и Кэтлин уходят.
Айлиль с вызовом глядит на Шеймаса.
Айлиль (поет)
Будь я влюблен, как твой дурак, И зол, подобно дураку, Я знал бы точно, кто мой враг, И знал, кому разбить башку. Поосторожнее, молчун, Безумному не прекословь: Кто ненавидит звуки струн, Тот ненавидит и любовь.(Щелкает пальцами перед носом Шеймаса.)
Поосторожнее, молчун!(Делает несколько шагов к двери и оборачивается.)
Дверь крепко-накрепко за мной заприте. Кто знает, что за бесы там таятся В потемках; нынче я видал в лесу Перекликающихся сов рогатых.Уходит, напевая. Входит Мэри.
Шеймас пересчитывает деньги.
Шеймас
Вот ведь дурак какой.Тейг
Он тоже видел Рогатых сов в лесу. Ох, не к добру! Дай бог, чтоб на него несчастье пало.Мэри
Вы не сказали госпоже спасибо.Шеймас
За что спасибо? За семь медных пенсов?Тейг
За кошелечек без монет?Шеймас
Что толку От этих денег или вдвое больших, Когда все дорожает каждый день, А цены на еду, на хлеб и мясо — Неслыханные?Мэри
Разве утаила Она хоть что-то? Все вам отдала.(Подходит к двери и хочет ее закрыть.)
Шеймас
Оставь открытой дверь.Мэри
Коль господа, Что столько прочитали-повидали, Боятся духов, мчащихся по небу Иль прячущихся в чаще, — беднякам Подавно надо их бояться.Шеймас
Вздор! Оставь засовы. Пусть любой из тех, Кто мчится с воздухе, как клок тумана, Или, как крот, крадется под землей, Заходит в этот дом — я приглашаю.Тейг
И денег пусть прихватит!Шеймас
Я слыхал О белой птице. Чайка или голубь Сидит и чешет перья. Кинешь камень — Раздастся звон, как будто в медь попал, И улетит задумчивая птица; Но если вырыть яму в этом месте, Найдешь горшок с деньгами.Тейг
Если трижды Приснится клад — он, значит, где-то рядом.Шеймас
Скорее сдохнешь, чем его найдешь.Тейг
Покликать разве их — авось что выйдет. Ведь их видали нынче.Мэри
Кликать бесов? Из леса бесов хочешь кликать в дом?Шеймас
Ах, ты учить? Указывать, кого Мне звать или не звать? Ну, получай же!(Ударяет ее.)
Чтоб знала, кто хозяин.Тейг
Позови их.Мэри
Спаси нас Небо!Шеймас
Хныкай, сколько влезет. Тебя не слышат в этом сонном царстве Вверху; а я покличу — отзовутся.Тейг
Они, я слышал, одарили многих.Шеймас (стоя у двери)
Кто б ни были вы, странники ночные! — Когда вы не пришельцы из могил — С людьми, хотя бы даже с мертвецами, Я не хочу якшаться, — приходите! Я вас зову. Присядьте у огня. Не страшно, коли ваши рот и уши На брюхе — или сзади конский хвост — Или все тело перьями покрыто; Коль есть у вас язык и две руки, Придите, угоститесь нашей пищей, Согрейте у огня свои копыта Озябшие; поговорим о том О сем, людишек скверных пересудим И всех их проклянем до одного! Куда ж вы делись-то?(Отворачивается от двери.)
А люди брешут, Что их как листьев на дубу, что скачут Они и у священника по книге…Тейг медленно поднимает руку, указывая на дверь и отступая назад. Шеймас оборачивается, что-то видит и тоже начинает медленно пятиться. Мэри делает то же самое. Человек, одетый как восточный купец, входит, держа в руке маленький коврик. Он разворачивает его и садится, скрестив ноги. Входит еще один человек, одетый сходным образом, и садится с другой стороны. Все это они проделывают с важностью и не спеша. Усевшись, вынимают деньги из расшитых кошельков, висящих возле пояса, и раскладывают их на ковриках.
Тейг
Заговори же с ними.Шеймас
Сам попробуй.Тейг
Не ты ли их позвал?Шеймас (подходя поближе)
Прошу простить. Не надо ли чего — уж вы скажите. Хотя мы люди бедные, но если… Но если что…Первый купец
Нужда у нас проста. Мы — путешествующие по миру Купцы, нам нужен ужин и очаг И тихий уголок, где можно деньги Пересчитать в тепле.Шеймас
А я-то думал… Неважно, что… Я тут жене сказал: Мол, я хозяин и могу позвать, Кого хочу… Но это все — пустое. Ведь вы — купцы, обычные купцы.Первый купец
Мы путешествуем по порученью Хозяина — Главнейшего купца.Шеймас
И ладно. Будь вы те, кого я кликал… А впрочем — как угодно. Отдыхайте И ужинайте. Только цены нынче Такие: было пенни, стало тридцать. Уж вы не обессудьте.Первый купец
Наш хозяин Велит платить столь щедро, чтоб любой, Кто с нами дело заведет, мог вволю Пить, есть и веселиться.Шеймас (Мэри)
Шевелись. Поди зарежь и выпотроши птицу, Пока мы с Тейгом разожжем поярче Очаг и стол накроем для гостей.Мэри
Я им не буду стряпать.Шеймас
Что за шутки! Не злись! — Она мне хочет отплатить За оплеуху, что я ей отвесил. Сейчас, увидите, охолонет. С тех пор как в этот край пришла нужда, Мы цапаемся с ней, как два волчонка.Мэри
Я вам не стану стряпать — потому, Что видела, в каком неладном виде Вы были там, за дверью.Тейг
Вот в чем дело! Из-за того, что брякнул мой отец, Она считает, господа, что вы — Из тех, кто не отбрасывает тени.Шеймас
Я ей сказал, что мог бы пригласить Хоть бесов; вот старуха и струхнула. Но вы — такие ж люди, как и мы.Первый купец
Как странно, что в нас могут заподозрить Лишенных тени духов! Что на свете Вещественней купца, который вас Продаст и купит?Мэри
Если вы не бесы И есть у вас излишек, — помогите Голодным беднякам.Первый купец
Мы помогли бы, Да где найти их?Мэри
Поищите лучше.Первый купец
От неразумной милостыни — зло.Мэри
Примеривать и взвешивать не худо, Да только не в такие времена, Когда беда переполняет чашу И тянет коромысло вниз.Первый купец
Но если Уже мы взвесили и рассудили?Второй купец
Пусть каждый принесет нам свой товар, И он получит цену, о которой И не мечтал.Мэри
Откуда ж ему взяться, Товару?Первый купец
Что-то же у вас осталось.Мэри
Мы все давно продали — скот и птицу, Поля и инвентарь.Первый купец
Не всё, однако. Есть нечто зыбкое — купец рискует, Приобретая это, — вроде тучки, Ненужное, которое зовут Бессмертным в сказках.Шеймас
Тот товар — душа?Тейг
Я уступлю свою — не голодать же Из-за какой-то тучки!Мэри
Тейг и Шеймас…Шеймас
Что толку в этом зыбком — бедняку? Бог от щедрот своих послал нам голод, А бес нам денег даст.Тейг
И гром не грянет.Первый купец
Вот доля каждого.(Шеймас хочет взять деньги.)
Нет, погоди. Сперва исполните нам работенку.Шеймас
И здесь обман! Как кренделем, поманят Посулом выкупить товар ненужный — И тут же запрягут. Известный фокус! А я попался, как молокосос.Первый купец
Тут каждому отдельная цена, Но плата — после сделанной работы.Тейг
Идет.Мэри
О Боже! Что же Ты молчишь?Первый купец
Вы будете кричать у всех дверей, На перекрестках и на перепутьях, Что мы скупаем человечьи души, Давая столько, что любому хватит Прожить в довольстве до тех пор, пока Не стихнет голод. Так по-христиански Мы делаем.Шеймас
Что толковать! Пошли.Тейг
Тут побежишь, когда такие деньги.Второй купец (поднимаясь)
Постойте! Чтобы убедить людей, Слов мало. Вот вам денег на удачу.(Бросает на пол мешок с деньгами.)
Свободно тратьте: наш Хозяин щедр.Тейг останавливается и поднимает деньги.
Они с Шеймасом уходят.
Мэри
О душегубы! Бог накажет вас! Он вас иссушит, как сухие листья, Сметенные Судьбой к его вратам.Второй купец
Ругайся сколько влезет — Он не слышит.Первый купец
Бесчисленных, как листья, нас Хозяин Наслал на мир губить посев людской, Как насылают саранчу. Когда же Он сам придет — когтями раздерет Луну и звезды бледные погасит.Мэри
Бог всемогущ.Второй купец
Надейся на Него. Ты будешь есть щавель и лебеду, Пока не ослабеешь до того, Что за порог переползти не сможешь. Мы поглядим.Мэри падает без чувств. Первый купец поднимает свой коврик, переносит к очагу и смотрит на огнь, потирая руки.
Чуть не вцепилась в нас. Итак, сверните шею этой куре, Пошарьте там, на полках, нет ли хлеба, Муку рассыпьте на пол, наколите На вертел эту птицу и зажарьте. Хвала Хозяину, все превосходно, Поужинаем мы и отдохнем, В золе горячей согревая пятки.СЦЕНА ВТОРАЯ
Перед занавесом: лес с виднеющимся вдалеке замком. Все нарисовано плоскими красками, без светотени, на узорчатом или золотом фоне.
Входит графиня Кэтлин, опираясь на руку Айлиля, следом за ними Уна.
Кэтлин (останавливаясь)
У этой медом пахнущей поляны, Должно быть, тоже есть своя легенда?Уна
Вот наконец и замок!Айлиль
Говорят, Что тыщу лет назад жил человек, Любивший королеву духов Мэв И от любви погибший. До сих пор Она сюда приходит в полнолунье, Покинув хоровод, ложится наземь И стонет, и вздыхает здесь три дня, Росою слезной окропляя щеки.Кэтлин
Так любит до сих пор?Айлиль
Нет, госпожа, Пытается его припомнить имя.Кэтлин
Прискорбно о любви забыть, и все же — Разумней было бы заспать печаль И уж не вспоминать…Уна
Вот дом ваш, леди!Айлиль
Она покоится в гранитном склепе На ледяной вершине Нокнарей,[138] Пока ее подруги чутко дремлют, Качаясь на волнах, — но стоит ей Позвать, как сразу, радостно взбурлив, Они на берег прыгнут и пойдут Плясать под лунным светом до упаду, И юношей любить самозабвенно, Отчаянно — и забывать скорей, Чем полюбили, — и стенать о том, Стенать и горевать в ночь полнолунья.Кэтлин
Не оттого ли жизнь у них долга, Что память коротка? Людская память — Лишь пепел, засыпающий огонь, Когда он гаснет, — а они живут, Бессмертно и безудержно пылая.Уна
Взгляните, вот он, дом ваш, госпожа!Кэтлин
Его мы чуть не минули, болтая.Айлиль
Проклятье! Если бы не этот дом, Явившийся некстати, я узнал бы, О чем мечтает королева Мэв И до сих пор ли бледные плясуньи Так страстно, кратко любят…Уна
Обопритесь Мне на руку; не подобает слушать Такие речи!Айлиль
Я моложе вас. Вам подпирать графиню не по силам.(Вытаскивает из сумки лютню.)
Кэтлин, увлекаемая Уной, оборачивается к нему.
Сей полый ящик помнит до сих пор Плясуний босоногих, клики, клятвы… И все расскажет, стоит попросить.(Поет.)
Выше колени! Думы — долой! Мчитесь резвее В пляс круговой! Но и в безумном Танце кружась, Помните тех, кто Умер за вас.Уна
Друзья-то новые милее старых…Айлиль
Кудри и юбки Взвейте свои, В землю втопчите Горечь любви!Уна
Ах, пустомеля!(Кэтлин.)
Обопритесь крепче Мне на руку: пускай она слаба, Зато честна и, коли что, сумеет Грех оттолкнуть. На этих вот руках Вы засыпали, госпожа моя, — Беспомощным, как червячок, дитятей.Айлиль
Держитесь-ка вы лучше за меня.Кэтлин (садясь)
Дойду сама — лишь отдохну немного.Айлиль
Я думал хоть на пять минут отвлечь Ее от мыслей о несчастьях мира; Тебе же нужно было все испортить.Уна
Трещи, болтун! Что от тебя услышишь, Когда ты нехристь?Айлиль
Глупая старуха! Ее лишила ты пяти минут Отрады. Доживи хоть до ста лет, Мой ноги нищим, лоб отбей в молитве — Тебе не замолить свой грех пред Небом.Уна
Что может знать язычник о грехе?Айлиль
О злая женщина!Уна
Давай похрюкай!Входит дворецкий Кэтлин.
Дворецкий
Я, госпожа, не виноват; я запер Ворота на ночь, — виноват лесник. Там, у стены есть вяз. Они залезли На дерево — и в сад.Кэтлин
Залезли? Кто?Дворецкий
Так вы не знаете? Ну слава богу! Я, значит, первый доложу, как есть, Всю правду. Я боялся, ваша милость, Что слуги все безбожно переврут.Кэтлин
Так что случилось?Дворецкий
Чистое несчастье. А все лесник: не обрубил ветвей, Что так удобно налегли на стену, Вот негодяи и проникли в сад.Кэтлин
И здесь нет мира. Расскажи скорей, Они кого-нибудь убили?Дворецкий
Что вы! Украли только три мешка с капустой.Кэтлин
Зачем?Дворецкий
Чтоб с голоду не помереть. Воруй иль голодай — вот весь их выбор.Кэтлин
Один ученый богослов писал, Что, если взял голодный от избытка, В том нет греха.Уна
Вор без греха! Ну-ну! Посыпать надо битого стекла На стену.Кэтлин
Если даже он и грешен, Но веры не утратил, — Бог простит. Нет в мире схожих душ; нет ни единой, Чтобы, проникнувшись любовью Божьей, Не воспылала ярким светом. Гибель Пусть даже самой грешной на земле Души — для Господа невосполнима.Входят Тейг и Шеймас.
Дворецкий
Куда вы мчитесь так? Снимите шапки. Не видите, кто перед вами?Шеймас
Вижу. Да дело спешное. Такое дело, Что лучшей вести люди не слыхали За тыщу лет.Дворецкий
В чем дело? Молви внятно.Шеймас
Такие новости, что мудрено Не запыхаться.Тейг
За такую весть Нас будут на руках носить.Шеймас
Есть штука, Которую никто не ставит в грош, Хоть всякий держит при себе. Она-то Внезапно стала ходовым товаром.Тейг
Пустая, как пузырь, надутый ветром! Как бледные обрезки от ногтей, Никчемная!Шеймас
Я хохочу при мысли, Что грязный нищеброд, продав ее, Поедет дальше в золотой карете!Тейг (хихикая)
Есть два купца, что покупают души.Кэтлин
О, Боже!Тейг
Может, этих душ и нет.Дворецкий
Они пьяны или сошли с ума.Тейг
Купцы нам дали денег…(Показывает золото.)
Шеймас
И сказали: «Идите в мир и объявите всем: Скупаем души — дорого и спешно!»Кэтлин
Отдайте вдвое, вдесятеро больше, Но возвратите то, что вы отдали. Я заплачу.Шеймас
Ан нет! По мне, душа — Коль правду есть она — лишь сторож плоти. А я желаю петь и веселиться.Тейг
Пошли, отец.(Уходит.)
Кэтлин
Подумай, что грядет!Шеймас
И пусть. Скорее я тому доверюсь, Кто платит, чем тому, кто сыплет голод И горе из небесного мешка.(Уходит враскачку, крича.)
«Скупаем души, денежки даем! Горстями сыплем звонкую монету!»Кэтлин (Айлилю)
Ступай за ними, приведи их силой. Что хочешь делай, умоляй, грози…Айлиль уходит.
Ты, няня, тоже — умоляйте вместе.Уна, которая все время бормотала молитвы, выходит.
Дворецкий, сколько денег у меня?Дворецкий
Бочонков сто есть золота.Кэтлин
А в замках, Коль все продать?Дворецкий
Еще примерно столько.Кэтлин
А в пастбищах?Дворецкий
Не менее того.Кэтлин
А в рощах и лесах?Дворецкий
Еще не меньше.Кэтлин
Оставь лишь этот замок; остальное Продай и закупи на эти деньги — Где хочешь, но скорей — как можно больше Коров, овец и кораблей с зерном.Дворецкий
Благослови Всевышний вашу милость! Народ спасете вы.Кэтлин
Поторопись.Дворецкий уходит. Айлиль и Уна возвращаются.
Кэтлин
Вы возвращаетесь одни. В чем дело?Айлиль
Один из них нам пригрозил ножом, Пообещав убить того, кто станет Его удерживать. Я попытался — И получил вот это… пустяки!Кэтлин
Вас следует перевязать. Отныне Ни радости, ни горя мне не знать Отдельного от мира.Уна
Словно волки, Они на нас зубами скрежетали!Кэтлин
Скорей идемте! Я не успокоюсь, Пока не превращу свой дом в приют Всех старых и больных, всех робких сердцем, Спасающихся от клыка и когтя; Пусть все, все соберутся здесь, пока Не лопнут эти стены от натуги И крыша не обрушится! Отныне Мое принадлежит уже не мне.(Уходит.)
Уна (беря руку Айлиля и перевязывая его рану)
Она сыскала, чем себя занять. Теперь и до тебя, и до меня Ей дела — как до серых мух, жужжащих На подоконнике в осенний день.Уна и Айлиль уходят.
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Зал в доме графини Кэтлин. Слева — молельня, к которой ведут несколько ступеней. Справа — завешенная гобеленом стена и перед ней высокое кресло, зрительно уравновешивающие молельню. В центре две или три арки, сквозь которые смутно видны деревья в саду.
Кэтлин стоит на коленях возле алтаря перед свисающей на цепи лампадой. Входит Айлиль.
Айлиль
Я к вам пришел усердно умолять: Покиньте этот замок и бегите Из этих гиблых мест.Кэтлин
Не то же ль зло Теперь везде — от моря и до моря?Айлиль
Те, что меня послали, знают больше.Кэтлин
Так, значит, правду люди говорят, Что вам открыто то, что нам незримо?Айлиль
Я спал, и вдруг мой сон воспламенился, И я узрел идущего в огне — Над головой его кружились птицы.Кэтлин
Так боги появляются в легендах.Айлиль
Быть может, он был ангельского чина. И он велел мне, леди, вас молить Покинуть этот замок, взяв с собою Лишь няню с горсткой слуг, и поселиться Среди холмов, внимая звону струн И плеску волн, — пока беда не минет. Здесь вам грозит какой-то тайный рок, Какая-то неслыханная гибель, Темь страшная, которой не рассеять Ни солнцу, ни луне…Кэтлин
О, Боже!Айлиль
Замок Доверьте одному из старых слуг, Кто понадежней; пусть он примет столько Голодных и бездомных, сколько станет Здесь места и еды.Кэтлин
Меня он просит Уйти туда, где смертных нет, — лишь лебедь Барахтается в озере, да арфа Бряцает праздно, да вздыхают ивы, — Чтоб там, когда закатится светило, Под шорох трав, при свете бледных свеч, Беседовать в тиши… Нет, нет и нет! Я плачу, но не оттого, что там Могла бы обрести покой и счастье, А здесь — безвыходность, не оттого, Что вижу скорбь свою у вас в глазах, — Нет, просто я молилась и устала.Айлиль (простираясь перед ней)
Пусть тот, кто создал ангелов и бесов, Избыток и нужду, исправит все, Что создал, ибо муки без исхода Ломают сердце.Кэтлин
А покой — что в нем?Айлиль
В нем — исцеленье.Кэтлин
Я уже не плачу. Забудьте слезы, что я здесь лила.Айлиль (запинаясь)
Я думал лишь об исцеленьи. Вестник Был ангельского чина.Кэтлин (отворачиваясь от него)
Нет, скорей Он был из древних тех богов, что бродят И будят неуемные сердца, Что ангелы не могут убаюкать.Она направляется к двери молельни.
Айлиль протягивает к ней сцепленные руки и тут же безнадежно их роняет.
Кэтлин
Не простирай ко мне молящих рук. К земному это сердце не проснется. Я поклялась Мадонне всех печалей Молиться перед этим алтарем, Пока моя мольба не дорастет, Как дерево шумящее, до неба И не умолит лепетом листвяным Спасти моих несчастных земляков.Айлиль (поднявшись на ноги)
Перед таким величием любви Что делать мне, ничтожному, с моею Отвергнутой любовью? Устыдиться Пустых надежд.Направляется к двери.
Графиня Кэтлин делает несколько шагов вслед за ним.
Кэтлин
Когда молва не врет, Женились свинопасы на принцессах И короли — на нищенках. Душа, В которой плещет океан творенья, Превыше королевств. Не вы, а я — Пустой кувшин.Айлиль
Слова мои иссякли. Позвольте мне остаться рядом с вами.Кэтлин
Нет, я сейчас должна побыть одна. Ступайте — пусть рыданье волн и ветра И крики чаек принесут вам мир.Айлиль
Я руку вам хочу поцеловать.Кэтлин
Нет, я сама вас поцелую в лоб. Ступайте. Молча. Много раз бывало, Что женщины, чтоб испытать мужчин, Их отправляли добывать корону Подводного царя или плоды Из сада, охраняемого Змеем, И трепетали, отослав, — так я Вам задаю труднейшую задачу: Уйдите не оглядываясь, молча. Трудней всего мне было бы сейчас Вам поглядеть в глаза.Айлиль уходит.
Я не спросила О раненой руке. И он ушел.(Выглядывает в сад.)
Его не видно. Тьма и тьма снаружи. О, если бы мой дух был так же тверд, Как это неколеблемое пламя!Медленно идет к молельне. В отдалении колокол бьет тревогу. Поспешно входят двое купцов.
Второй купец
Тревога. Не пройдет пяти минут, Как нас застигнут.Первый купец
Вот она, казна. Ты должен был всех усыпить, — в чем дело?Второй купец
Их ангел уберег — или молитвы.Входит в сокровищницу и возвращается, неся мешки с деньгами. Первый купец прислушивается у двери в молельню.
Первый купец
Она уснула.Второй купец проходит в одну из арок в глубине сцены и останавливается, прислушиваясь. Мешки лежат у его ног.
Второй купец
Денежки у нас. Сейчас они спохватятся. Идем же.Первый купец
Я знаю, как ее заполучить.Второй купец
Графиню? Времени у нас хватает, Чтобы убить ее и душу вынуть, Пока молитвой не прогнали нас. Погоня в западном крыле покуда.Первый купец
Нет, не годится; нам не совладать Со всем небесным воинством. Графиня Должна отдать нам душу добровольно. Я, представитель внутреннего Ада, Искусный мастер, знаю лучший план.(Громко.)
Мадам! Есть вопиющее известье!Кэтлин просыпается и подходит к двери молельни.
Кэтлин
Кто здесь?Первый купец
Мы принесли известье.Кэтлин
Кто вы?Первый купец
Купцы; мы изучили книгу мира, Подметками ее перелистав, И кое-что недавно прочитали, До вас касающееся. И вот, Заметя, что ворота не закрыты, Зашли…Кэтлин
Я не велела затворять Ворота, чтобы каждый, кто измучен Нуждой и голодом, мог без опаски Сюда войти и помощь получить. Так в чем известье ваше?Первый купец
Мы видали Слугу, который вами послан был Скупать стада. Он заболел и слег В лачуге на краю Алленской топи. А ваши корабли с зерном застряли У мыса Фер — мы видели в ночи Огни заштиленных судов на рейде.Кэтлин
Еще остались деньги, слава богу, В моей казне, чтобы купить зерно У тех, кто придержал его, надеясь Нажиться на голодных. Расскажите — Ведь вы, купцы, всезнающий народ, — Когда минует голод?Первый купец
Перемены Ждать неоткуда: урожай засох И скот весь передох.Кэтлин
Слыхали вы Про демонов, что покупают души?Первый купец
Слыхали кое-что; одни болтают, Что морды у них волчьи, а тела Иссушены как будто адским жаром, И движутся они, как вихрь; другие — Что это маленькие толстяки, А третьи — что они по виду люди, Высокие и смуглые от странствий — Как мы, к примеру, — но в одном согласны Все видевшие их: у них в глазах Есть нечто властное, что заставляет Робеть и подчиняться, и народ Готов продать им души повсеместно, Коль ваше золото их не спасет.Кэтлин
Хвала Творцу за то, что я богата! Но что их нудит к этой страшной сделке?Первый купец
Входя сюда, мы у ворот видали, Дремавшего слугу, — его душа Не стоит сотни пенсов, а они Сто крон ему отвалят, не торгуясь. А за такую душу, как у вас, Графиня, я слыхал, они готовы Отдать сто тысяч крон и даже больше.Кэтлин
Как можно душу променять на деньги? Ужели так могила их страшит?Первый купец
Одних манит блеск золота; другие Боятся смерти; а иные просто Стремятся от соседей не отстать; А есть такие, что находят радость В отчаяньи, в отказе от борьбы И упований, распахнув объятья Кромешной тьме и вечному огню: Они согласны просто плыть по ветру, Охвачены весельем обреченных; Лишь ваше золото удержит их.Кэтлин
Есть что-то в вашем голосе, купец, Недоброе. Когда вы говорили О душах проданных, у вас в глазах Сверкнуло торжество, когда же вы Сказали, что мое богатство может Спасти людей, мне показалось, оба Вы усмехнулись.Первый купец
Просто мне смешно Представить это сонмище людей, Раскачивающихся на шнурке От дамской туфельки над бездной мрака И негасимого огня!Кэтлин
Есть что-то Пугающее в каждом вашем слове И взгляде, чужеземцы. Кто вы? Кто?Второй купец, прислушивающийся у двери, выходит вперед, и в ту же минуту из-за сцены доносятся приближающиеся голоса и шаги.
Второй купец
Скорей — они уже идут! Не медли! Они узнают нас и приморозят Своими «отче наш» иль обожгут Святой водой нам шкуры.Первый купец
До свиданья. Нам предстоит скакать всю ночь. Стучат Копытами заждавшиеся кони.Уходят.
Через другую дверь входят несколько крестьян.
Первый крестьянин
Простите, госпожа, но мы слыхали Какой-то шум.Второй крестьянин
И голоса чужие.Первый крестьянин
Мы обыскали дом, но никого Чужого не нашли.Кэтлин
Оставьте страхи! С тех пор как вы нашли укрытье в замке, Вам никакое зло уже не страшно.Уна (вбегая)
О горе нам! Ограблена казна. Дверь настежь, и все золото пропало.Крестьяне издают горестный вопль.
Кэтлин
Молчите!Крики стихают.
Ты кого-нибудь видала?Уна
Ой, горе! Мы вконец разорены — Все, все украли!Кэтлин
Те из вас, кто может Сидеть в седле, возьмите лошадей И обыщите тотчас всю округу. Я ферму подарю тому, кто первым Найдет воров.Пока она говорит, входит человек со связкой ключей у пояса. Слышны перешептывания: «Привратник! Привратник!»
Привратник
Здесь побывали бесы. Я у ворот сидел и сторожил, Когда внезапно мимо проскользнули Две странных птицы, вроде серых сов, Шепчась по-нашему.Старый крестьянин
Помилуй, Боже!Кэтлин
Старик, не бойся: Бог не запирает Ворот, что нам однажды отворил. Спокоен будь… Меня томит тоска Из-за проникшей в сердце странной мысли… Но верю: Бог не бросил этот мир; По-прежнему Он лепит эту глину По своему подобью. Век за веком Под пальцами Его она бунтует, Желая возвратиться к прежней, косной, Бесформенной свободе; а порою Вкривь лезет — и тогда родятся бесы.Крестьяне осеняют себя крестным знамением.
Теперь уйдите все — мне тяжело. В душе какой-то дальний темный шепот.(Подходит к дверям молельни.)
Нет, погодите. Я могу забыть… Возьми уже на всякий случай, Уна, Ключи от кладовой и сундуков.(Привратнику.)
А вы возьмите ключик от каморки, Где я сушила травы, — их там много; На верхней полке вы найдете книгу, Где сказано, чем от чего лечить.Привратник
К чему все это, госпожа? Никак Приснился вам свой гроб?Кэтлин
Не в этом дело. Мне странная явилась мысль. Стенанья В бесчисленных жилищах бедняков Терзают сердце. Я должна решиться На что-то… Помолитесь о несчастных, Друзья мои, — о тех, кто обезумел От голода.Крестьяне встают на колени. Графиня Кэтлин поднимается по ступенькам в молельню; на пороге останавливается, несколько секунд стоит неподвижно, затем громко восклицает:
Мария, Свет небесный, И сонмы ангелов святых, прощайте!СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Перед занавесом: лес в окрестностях замка, как и в сцене второй. Входит группа крестьян.
Первый крестьянин
Я видел медь и видел серебро, А золота не видел.Второй крестьянин
Говорят, Оно как жар блестит.Первый крестьянин
Оно прекрасно, Наверное, — прекраснее всего, Что есть на свете.Третий крестьянин
Я его видал Сто раз.Четвертый крестьянин
Не так оно уж и красиво.Первый крестьянин
Оно на солнце яркое похоже, Не правда ли? Так говорил отец, Знававший времена получше этих; Он говорил мне в детстве, что оно — Как круглое, сияющее солнце.Второй крестьянин
Что хочешь можно на него купить.Первый крестьянин
У них его навалом, как навоза.Уходят. Вслед за ними, крадучись, следуют два купца. Затем по сцене, напевая, проходит Айлиль.
Айлиль
Молчи, неуемное сердце, молчи! Пускай заглушит твой отчаянный крик Щемящий напев одинокой струны. Ведь Тот, чья воля вершится в ночи, Свои печали от нас оградил Решеткой звезд и забралом луны.СЦЕНА ПЯТАЯ
Дом Шеймаса Руа. На заднем плане ниша с раздвинутыми занавесками; в нише — кровать, а на кровати — тело Мэри, окруженное свечами. Два купца, разговаривая, кладут на стол большую книгу и раскладывают кучками деньги.
Первый купец
Из-за того что я соврал так ловко Про корабли и пастуха больного, Теперь нас душами так и завалят.Второй купец
А в сундуках графини только мыши.Первый купец
Когда упала ночь, я обернулся Ушастою совой и полетел К скалистому прибрежью Донегала; Там я увидел, как скользят по морю, На полных парусах, раздутых ветром, Суда, везущие зерно голодным. Они в трех днях пути отсюда.Второй купец
Я же, Когда легла роса, в обличьи сходном Помчался на восток и увидал Две тысячи быков, которых гонят Стрекалами сюда. Пути им будет Дня на три.Первый купец
Три денька нам на торговлю.В дом вваливаются крестьяне с Шеймасом и Тейгом
Шеймас
Входите, все входите, не робейте. Вот тут лежит моя жена. Она Смеялась над моими господами И не желала с ними дел иметь. Вот ведь какая дура!Тейг
Не хотела Ни крошки хлеба съесть, что покупался На деньги благодетелей, одною Крапивою и щавелем питалась.Шеймас
Никак не мог втемяшить ей в башку, Что хуже смерти ничего не будет; Тотчас же начинала балаболить О том, что врут священники в церквях. Задерни занавеску.Тейг задвигает занавеску.
Не блажи вот, Когда друзья хотят тебя спасти.Второй купец
С тех пор как засуха убила землю, Они слетаются толпой, как листья, Гонимые сухим, унылым ветром. Ну, подходите.Первый купец
Кто готов начать?Шеймас
Они немного сникли с голодухи, Лишь двое-трое будут побойчей. Но и другие соберутся с духом. Вот первый.Человек средних лет
Я бы вам отдал товар, Коль не обманете.Первый купец (читает по книге)
Так… «Джон Махер, Зажиточный, спокойный, недалекий, Добропорядочный, по мненью церкви, И осторожный по натуре». — Двести. Две сотни крон за душу — за фу-фу!Джон Махер
Две сотни!? Вы же прочитали в книге: Я у Небес не на плохом счету.Первый купец
Здесь кое-что написано еще: «Ночами просыпается от страха Стать нищим — и в уме соображает, Кого б ограбить так, чтоб шито-крыто».Крестьянин
Кто б мог подумать! А ведь я с ним был Наедине однажды ночью.Другой крестьянин
Жуть! Теперь и матери я не доверюсь.Первый купец
Товар-то ваш с изъянцем. Двести крон.Крестьянин
Не много ль плуту?Другой крестьянин
Я б не дал ни пенса.Шеймас
Бери, пока дают, и не торгуйся.Общий ропот.
Джон Махер берет деньги, быстро проскальзывает сквозь толпу и садится где-то на заднем плане.
Первый купец
А нет ли попригляднее души? Не может быть, чтобы во всем приходе… Ну, кто еще?Женщина
А мне дадите сколько?Первый купец (читает по книге)
«Любезна, недурна, еще молодка…» — Навряд ли много. — «Мужу невдомек, Что спрятано у ней в горшке, стоящем Меж теркой и солонкой…»Женщина
Враки! Сплетни!Первый купец
«…и что рука, которая писала То, что там спрятано, пока он будет На конной ярмарке, в окошко ночью Три раза постучится: тук-тук-тук!»Женщина
И что такого? Это не причина, Чтоб меньше цену мне давать, чем всем.Первый купец
Крон пятьдесят, пожалуй, можно дать. Она почти безгрешна.Женщина сердито отворачивается.
Ладно, сто.Шеймас
Ну, не дури, красотка. Торговаться Сейчас не время, забирай монету!Женщина берет деньги и скрывается в толпе.
Первый купец
Ну, подходите! Лишь по доброте Даем мы цену за такие души, Они и без того принадлежат Владыке нашему.Входит Айлиль.
Айлиль
Вот вам моя. Я от нее устал. Берите даром.Шеймас
Как — даром? Даром душу отдавать? Не слушайте — он бредит — он свихнулся Из-за любви к графине. Вот безумец!Айлиль
Печаль, объявшая графиню Кэтлин, Страданье и тоска в ее глазах И впрямь почти свели меня с ума. Но за свои слова я отвечаю: Возьмите душу.Первый купец
Мы не можем взять: Она принадлежит графине Кэтлин.Айлиль
Возьмите же! Она ей не подмога, А я устал от бремени.Первый купец
Прочь, прочь! Я даже не могу к ней прикоснуться.Айлиль
Неужто мне всю жизнь ее носить? Иль ваша сила так слаба? Смеюсь И хохочу над вами!Первый купец
Уберите Безумца, он мешает.Тейг и Шеймас уводят Айлиля вглубь толпы.
Второй купец
Как он глянул, Меня от страха, брат, аж затрясло.Первый купец
Не бойся. Наклонись и поцелуй Венец, к которому наш Господин Губами прикоснулся, посылая Нас в мир, и страх пройдет.Второй купец целует тонкий золотой венчик на голове у Первого купца.
Мне тоже малость Не по себе, но селезенкой чую, Что скоро, скоро то, чего мы ищем Всего усердней, упадет само К нам в руки. — Ну, давайте ваш товар! Скорей, скорей! Вы что, оцепенели? Ну, не задерживайте! Нам пора Обратно, в жаркие края.Второй купец
Кто дальше?Шеймас
Они ворчат, что вы недоплатили Молодке.Первый купец
Вздор! Даю две тыщи крон Старухе, самой нищей и убогой.Старая крестьянка выходит вперед. Купец берет книгу и читает.
Против нее записано немного. «Она могла украсть яйцо иль утку В плохие времена; но после в том Раскаивалась. По воскресным дням Всегда ходила в церковь и платила Оброк, когда могла». — Вот твои деньги.Старуха
Благослови вас Бог!(Вскрикивает.)
Ой, грудь прожгло!Первый купец
То имя — пламя для погибших душ.Среди крестьян раздается ропот.
Они отшатываются от старухи, выходящей наружу.
Крестьянин
Как она вскрикнула!Другой крестьянин
И мы, быть может, Вот так же завопим.Третий крестьянин
Так ада ж нету!Первый купец
Ну полно, полно, что за пустяки… Подумайте о барыше.Человек средних лет
Мне страшно.Первый купец
Раз дело сделано, чего бояться? Товар ушел.Человек средних лет
Верните душу мне.Женщина (подползая на коленях и обнимая ноги купца)
Возьмите деньги, но отдайте душу!Второй купец
Пей, веселись, блажи, рожай ублюдков; А плакать и вздыхать — печаль души, Забудь о ней!(Отталкивает женщину.)
Крестьянин
Скорей уйдем отсюда.Другой крестьянин
Бежим!Третий крестьянин
Когда б она не закричала, Я тоже потерял бы душу.Четвертый крестьянин
Ходу!Направляются к двери, но их останавливают крики: «Графиня Кэтлин! Графиня Кэтлин!»
Кэтлин (входя)
Торгуете?Первый купец
Торгуем помаленьку. А вас что принесло к нам в гости, ангел С сапфирными очами?Кэтлин
Я пришла Вам предложить товар; но он не дешев.Второй купец
Не важно, если стоящий товар.Кэтлин
В округе голод. Гибнущие люди На все готовы. Вопль и стон голодных Звенит в ушах моих бесперерывно; Мне надобно полмиллиона крон, Чтоб накормить их и спасти от мора.Первый купец
Быть может, предлагаемая вещь И стоит этого.Кэтлин
Но вот условье: Все вами прежде купленные души Вернете вы.Первый купец
Одна лишь есть душа, Которая такой цены достойна.Кэтлин
По мне, она бесценна — ведь другой Нет у меня.Второй купец
Так значит, ваш товар…Кэтлин
Я предлагаю собственную душу.Крестьянин
Да что вы, что вы, госпожа, не надо! Пусть наши души пропадут — потеря Невелика, другое дело — ваша; Сгубив ее, вы оскорбите Небо.Другой крестьянин
Смотрите, как сжимаются их когти В перчатках кожаных.Первый купец
Пять тысяч крон — И по рукам. Вот золото. Их души — Уже не в нашей власти, ибо свет, Струящийся от вашего лица, Уже проник в сердца, где правил сумрак. Вам остается только расписаться: Такие сделки нужно совершать По полной форме.Второй купец
Распишитесь этим Пером: оно росло на петухе, Который кукарекнул на рассвете, Когда отрекся Петр. Такая подпись Особо ценится в Аду.Кэтлин наклоняется, чтобы поставить подпись.
Айлиль (бросаясь вперед и выхватывая у ней перо)
Постойте! Есть Зиждитель Небес — ему решать.Кэтлин
Нет больше сил; повсюду крики боли!Айлиль (швыряя перо на землю)
Я задремал в тени кустов терновых, И было мне видение в грядущем — Архангелы, катящие по небу Пустой, звенящий череп Сатаны.Первый купец
Убрать его!Тейг и Шеймас грубо оттаскивают Айлиля, бессильно падающего на пол посреди толпы. Кэтлин берет пергамент и расписывается, затем оборачивается к крестьянам.
Кэтлин
Возьмите эти деньги И прочь уйдем от оскверненных стен; Я оделю вас всех — богатства хватит.Кэтлин уходит, крестьяне устремляются за ней, толпясь и целуя ее одежду. Айлиль и купцы остаются одни.
Второй купец
Уйдем и будем ждать ее кончины Так долго, как придется, — терпеливо, Как две совы на башне, охраняя Свой драгоценный приз, живую душу.Первый купец
Какое там! Лишь несколько минут Над нею покружимся — и готово. Наш договор ей сердце надорвал. Чу! Слышу, как скрипят на медных петлях Ворота Ада, как плывет оттуда Шум кликов и приветствий.Второй купец
Взмоем в воздух И встретим их с ее душой в когтях!Купцы поспешно выбегают. Айлиль ползком перемещается к середине комнаты. Медленно сгущаются сумерки. По мере продолжения действия на сцене все больше темнеет.
Айлиль
Распахнуты огромные ворота, И появляется Балор оттуда В носилках медных; бесы поднимают Тяжелые опущенные веки Глаз, что когда-то превращали в камень Богов могучих; вот предатель Барах И Кайлитина буйное потомство, Сгубившего друидовым заклятьем Мощь сына Суалтима и Декторы, И тот король, что умертвил коварно Возлюбленного Дейрдре безутешной; Их шеи странно вывернуты набок — За то, что жили кривдой и лукавством И с вывертом, с подвохом говорили.Входит Уна.
Куда ты, цапля, в этакую бурю?Уна
Где госпожа графиня? Целый день Она едва удерживала слезы — И вдруг пропала. Где она?Айлиль
Не здесь. Она нашла себе других друзей — Из преисподней. Не боишься, цапля? Тут всюду бесы рыщут.Уна
Боже правый! Спаси ей душу!Айлиль
Только что она Ее весьма удачно обменяла, Забыв и про меня, и про тебя.(Указывая пальцем вниз.)
Там бледная и гордая Оркилла, Бесплотная, как тонкий пар рассветный, Но с сердцем вожделеющим и жарким; Вокруг нее — толпа прозрачных женщин, Манящих демонов зазывным смехом; За нею — греющийся грешной кровью Рой призраков; их розовые ногти Становятся ужасными когтями…Айлиль хватает Уну и, вытащив ее на середину комнаты, показывает вниз, возбужденно жестикулируя. Его слова сопровождает рев ветра.
Они затягивают песню — слышишь? Есть музыка еще в устах бесплотных.Уна (простираясь ничком на полу)
Спаси нас от нечистых, Царь Всевышний, — А если нужно, чтоб душа погибла, Возьми мою, а госпожу помилуй!Айлиль становится на колени рядом с Уной, но как будто не слышит ее слов. Возвращаются крестьяне. Они вносят графиню Кэтлин и кладут ее на землю рядом с Уной и Айлилем. Она лежит как мертвая.
Уна
Что толку в этих глиняных горшках, Когда фарфоровый сосуд расколот?(Целует руки Кэтлин.)
Крестьянин
Под деревом, как раз на повороте, Она вдруг побледнела и упала. Мы понесли ее сюда, а ветер Взметнулся разом, небо почернело, Гром громыхнул, да как! — Мы отродясь Не видели таких ужасных молний! Заприте крепче дверь.Стоящий ближе к двери задвигает засов.
Кэтлин
Не дайте буре Меня умчать с собой! Держите крепче…Уна обнимает ее. Одна из женщин начинает рыдать.
Крестьянин
Молчи!Другие крестьяне
Замолкни! Перестань! Молчи!Кэтлин (приподнимаясь на руке)
Сложите все мешки с деньгами в кучу. Когда я отойду, возьми их, Уна, И раздели, чтоб каждому досталось, Сколь надобно.Крестьянка
А хватит ли детишкам, Чтоб голод пережить?Другая крестьянка
О Матерь Божья И ангелы-заступники святые! Пусть все погибнут, но ее спаси!Кэтлин
Склоните лица, Уна и Айлиль; Гляжу на них, как ласточка глядит, Прощаясь, на свое гнездо под кровлей Пред тем, как улететь. Не плачьте слишком: Есть много свеч пред алтарем небесным, Одна погасла — не велик урон. Айлиль, ты пел мне о лесных плясуньях, Не знающих земных забот, живущих Лишь радостью дыханья и движенья! Ты, Уна, на руках меня носила И развлекала глупое дитя — Блаженное, почти как те плясуньи. Прощайте же! Меня уносит буря.(Умирает.)
Уна
Есть в доме зеркало?Одна из женщин находит в глубине дома и подает ей зеркальце. Уна подносит его к губам Кэтлин. На мгновение все замирают. Затем раздается отчаянный возглас Уны, почти вопль.
Она не дышит!Крестьянин
Осыпался на землю цвет весенний.Другой крестьянин
Она была прекрасней звезд ночных.Старая крестьянка
Любимый розан мой погублен ветром.Айлиль берет зеркальце из рук Уны и швыряет его оземь, разбивая вдребезги.
Айлиль
Разбейся, зеркало! Тебе отныне Не отразить подобной красоты; И ты умри, мятущееся сердце! — Без той, чей скорбный дух тебя живил, Ты просто ком бесчувственного праха. О твердь в короне гор и океан В пернатом шлеме, больше вам не слышать Ее шагов пленительных! Вокруг — Лишь гром сраженья ангельского войска С полками бесов.Он поднимает руки. Все остальные стоят на коленях; но на сцене так темно, что видны только их смутные силуэты.
Проклинаю вас, Рок, Время и Судьба! Пускай я плачу, Но крепко уповаю: час придет И вас низвергнет в пустоту и бездну!Вспыхивает молния, и следом за ней раскаты грома.
Крестьянка
Поставьте на колени дурака — Он навлечет на нас огонь небесный!Айлиль
Схлестнулись в небе ангелы и бесы, Гремят, стучат мечи по медным шлемам.Молния и гром.
Вот пущенное из пращи копье Пронзило глаз Балора, и бегут, Вопя от страха, темные полки, Как встарь бежали в битве при Мойтуре.Все погружается в темноту.
Старик
Господень гнев на нас превысил меру. Он уничтожил все, что сотворил.В темноте забрезжил свет. В этом призрачном свете видно крестьян, стоящих как бы на каменистом склоне горы, и облака зыбкого, изменчивого света, проносящегося над ними и позади.
Наполовину на свету, наполовину в тени стоят вооруженные ангелы. Их доспехи стары и посечены, обнаженные мечи потускнели и иззубрены. Они застыли в воздухе в боевом порядке, глядя вниз сурово и воинственно. Крестьяне в страхе простираются на земле.
Айлиль
От зрелища ворот полузакрытых, Где скрылся враг, оборотите взоры Ко мне, свидетелю высокой битвы, И, ради Всемогущего, скажите О той, что здесь лежит.(Хватает одного из ангелов.)
Пока не скажешь, Не отпущу тебя обратно в вечность.Ангел
Сияет свет. Жемчужные ворота Распахнуты. Ее объемлет мир. И Та, что в сердце носит семь скорбей, Ее целует в губы, накрывая Волной своих волос. Владыка Света Намерения судит, не поступки, В отличие от Князя Тьмы Кромешной.Айлиль отпускает ангела и становится на колени.
Уна
Скажите там, в обители покоя, Что хочу уйти к моей любимой. Года, как черные быки, бредут По миру, подгоняемы стрекалом Всевышнего. Они прошлись жестоко По мне — и сокрушили жизнь мою.Из центра сияния исходят звуки отдаленных труб. Видение постепенно меркнет. Лишь коленопреклоненные фигуры крестьян смутно виднеются в темноте.
КОНЕЦ
НА КОРОЛЕВСКОМ ПОРОГЕ
(1903)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Король Гуаири.
Шонахан.[139]
Его ученики.
Мэр Кинвары.[140]
Двое калек.
Брайан, старый слуга Шонахана.
Дворецкий.
Воин.
Монах.
Придворные дамы.
Две принцессы.
Фидельма.
Лестница королевского дворца Гуаири в Горте.[141] Перед лестницей сбоку — стол с едой и скамья. Шонахан лежит на ступенях. Ученики переминаются внизу. Король стоит на верхней ступени перед занавешенным входом во дворец.
Король
Мы рады видеть вас — людей, искусных В двух видах музыки, что меж собой Несходны, словно женщина с мужчиной. Вы, знающие струнные орудья, Способные сливать слова и звуки Столь сладостно, как будто речь сама Становится мелодией, и вы, Умеющие дуть в витые роги, Чье ремесло без слов, зато без лести Кумирам времени, — благодарю. Мы ждали вас, как ждет любовник ночи В серебряном возке, как одинокий — Рассвета в колеснице золотой. Вы призваны сюда, чтобы спасти Жизнь вашего учителя; сегодня Она как угасающее пламя — То вспыхнет, то поникнет.Старший ученик
Что случилось С великим Шонаханом? Лихорадка — Или иная хворь? Когда он слег?Король
Не лихорадка это и не хворь. Он сам по доброй воле выбрал смерть, Отказываясь от воды и пищи, Чтоб досадить мне; ибо есть обычай — Старинный и нелепый: если кто-то Обижен иль сочтет, что он обижен, И голодом себя заморит сам Под дверью у обидчика, такое Считается бесчестием для дома, Будь это даже царский дом.Старший ученик
Не знаю, Что и сказать. Мой долг — повиноваться, Но как повиноваться я могу, Когда мой самый дорогой учитель Счел для себя достойней умереть, Чем вынести обиду? Кто решится Швыряться жизнью из-за пустяка?Король
Я знал, что вы поддержите его, Пока не убедитесь, как мелка Причина для обид. Три дня назад Я уступил роптанию придворных — Епископов, воителей и судей, — Узревших для себя бесчестье в том, Что вместе с ними на Совете Высших Сидит слагатель песенок. Сперва Я попросил его весьма любезно, Но он сослался на права поэтов, Что якобы от сотворенья дней Утверждены. На это я ответил, Что лишь король — источник всяких прав И только тем мужам, кто правит миром, А не поет о мире, подобает Честь высшая. Придворные мои — Епископы, воители и судьи — Все выразили криком одобренье; Под этот шум он вышел, но с тех пор Отказывался от воды и пищи С надменным вызовом.Старший ученик
Мне стало легче; Вы сняли камень у меня с груди — Обычай старый вряд ли стоит жизни.Король
Уговорите есть и пить упрямца. Сперва я думал: может быть, сам голод И жажда убедят его, но тщетно. Он, видно, хочет уморить себя. На вас отныне вся моя надежда, А также на соседей и друзей, К которым я послал гонцов. Пока Он здесь лежит и губит жизнь свою, Честь моя гибнет. Но и на попятный Пойти нельзя: все сразу обвинят Меня в постыдной слабости, и трон Поколебаться может.Старший ученик
Понимаю — И попытаюсь убедить его. Быть может, пребывая в неких грезах, Он ваших справедливых слов, король, Не слышал вовсе.Король
Пусть поест немного. Тревожусь я не только о себе И добром имени своем, но также О нем самом. Он человек, способный Внушить к себе любовь и мужу битв, И женщине — и всякому, кто судит О человеке лишь по одному Достоинству его. Но я — на троне И должен мерить мерой государства. Своим безумством он превысил меру, Своей гордыней пошатнул устои, Повел себя надменно и мятежно.(Готовится уйти, но вновь оборачивается.)
Сулите ему дом с землей и лугом, Богатые одежды, деньги, жемчуг — Все, кроме права древнего поэтов.(Уходит во дворец.)
Старший ученик
Король несправедливо поступил. Но Шонахан, решивший умереть За отнятое право, судит вздорно. Взгляни на нас, учитель. Отрешись От дум своих и погляди на нас: Всю эту ночь с коней мы не сходили, Скакали от заката до восхода, Чтоб оказаться здесь.Шонахан (опираясь на локоть и говоря как сквозь сон)
Я был сейчас В высоком доме на холме Альвина, Со мною — Финн и Осгар.[142] Щекотал Мне ноздри запах жареного мяса. И вдруг — мой сон унес меня к ручью, Где Грания[143] лосося потрошила…Старший ученик
Заплакать можно, слыша этот бред, Голодный сон про жареное мясо. А все зачем? — Рассказ о журавле, Что голодом себя морил, пугаясь Своей же тени в лунной зыби вод, Не так причудлив и не так нелеп, Как это заблужденье.Шонахан
Заблужденье? Нет, это истина. Как в лунном свете, Я вижу, изменилось все вокруг; Плоть, ослабев, не сдерживает больше Полета мысли, что стремится в мир Снов и фантазий. Показалось даже, Что мне знакомы ваши голоса И даже лица, — но слова настолько Противоречат им, что я не знаю: Кто это упрекать пришел меня?Старший ученик
Я старший ученик твой, Шонахан, Которого учил и наставлял ты Так долго, что на Сретенье однажды Сказал мне, будто я уже постиг Едва ль не все, что нужно знать поэту.Шонахан
Мой старший ученик? Не может быть. Нет, это кто-то из толпы придворных, Роившихся вокруг меня с рассвета. Я заморочен снами — но не сдамся. На Сретенье, сейчас припоминаю, Я спрашивал ученика, за что Поэзия столь чтима; мне хотелось, Чтоб у него всегда был наготове Ответ для диких, варварских племен И тамошних царей. Ну, повтори: Что он ответил мне?Старший ученик
Я отвечал: Поэт рисует образы Эдема И над младенческой кроваткой мира Их вешает, чтоб дети возрастали Для радости и счастья. Но зачем Я должен здесь стоять, твердя зады, Когда ты губишь сам себя, Учитель?Шонахан
Я начинаю узнавать твой голос. Скажи еще, когда умрет искусство, Что будет с миром?Старший ученик
Коль оно умрет, Мир без искусства станет словно мать, Что, глядя на уродливого зайца, Родит ребенка с заячьей губой.Шонахан
И я тебя еще потом спросил (Припомни, коли ты есть ты), как должно Хранить поэзию, — и ты сравнил Ее с ценнейшими из всех вещей, Какими Небо одарило землю.Старший ученик
Я отвечал, как ты меня учил: Ее хранить должны мы беззаветно, Как племя Даны бережет свои Четыре клада, как король Грааля — Святую Чашу, как Единорог — Волшебный камень у себя во лбу, — Чтоб кровь свою пролить без колебанья, Как сладкое вино… А, понимаю! Меня ты хочешь устыдить сейчас Моими же словами. Но, Учитель, Речь только о Совете королевском: Как может этакий пустяк затронуть Достоинство поэзии?Шонахан
В тот раз, На Сретенье, поэзию отнес ты К тем уязвимым Божьим чудесам, Что не выносят унижений.Старший ученик (другим ученикам)
Верно. Что я скажу? В тот раз он называл Двор отраженьем мира, самым первым Его пригожим детищем, и, значит, Все то, что делается при дворе, Тотчас же проникает в мир — благое, Как и дурное. Как ему ответить? Какой нелживый довод подыскать?Младший ученик
Скажи, что музыка его нужна Всем любящим ее.Шонахан
Я и тружусь Для них — тех, что вот-вот должны родиться И, внемля няньке, голос обрести — Чтоб даже гнев звучал, как звуки арфы. Но где им взять величье, если я Не приготовил золотую зыбку?Младший ученик (бросаясь к ногам Шонахана)
Зачем меня увел ты от родных, От пастбища отцовского и поля? Зачем мне в уши музыку вложил? Куда пойду я, дважды обездолен, — В невыносимый крик и шум мирской? Я брошу наземь и трубу, и арфу. Зачем играть и петь с разбитым сердцем, Учительской не слыша похвалы?Шонахан
Чего еще ты от поэтов ждал, Как не печали? Замолчи и слушай. Суровые ступени эти — школа, В которой буду я тебя учить. Запомни: даже на руинах мира Поэзия пребудет петь, ликуя; Она — как расточающая длань, Как треснувший стручок, как радость жертвы В святом огне, как Божий смех во мгле. Но смех умолк в ушах… Мне одиноко, И слезы жгут…Младший ученик
Не умирай, учитель!Старший ученик
Молчи, не беспокой его напрасно Словами жалкими. Одно осталось — Пойти и поклониться королю, Чтоб он вернул отобранное право. Пойдем, дружок, со мной. И будь, что будет.(Поднимает младшего ученика.)
Преклоним перед королем колени. Оставьте здесь лежать рожки и арфы. Отправимся в молчании, ступая Неслышным шагом, головы склонив, Как подобает глубоко скорбящим.Все по очереди слагают на ступени свои инструменты и выходят друг за другом медленно и торжественно. Входят мэр, двое калек и Брайан, старый слуга. Мэр, чье бормотание предшествовало его появлению, пересекает сцену перед Шонаханом и останавливается по другую сторону ступеней. Брайан достает еду из корзинки. Калеки наблюдают за ним. Мэр держит в руке жезл, покрытый огамическим письмом.
Мэр (пересекая сцену). «Величайший поэт, почетный гражданин, пастбищные угодья…» Главное, ничего не перепутать. «Почетный, величайший, угодья…» Тут у меня на жезле все записано чертами и резами. И все-таки надо повторить еще раз: «Почетный, пастбищный… но разумно…» (Продолжает тихонько бормотать себе под нос.)
Первый калека. Так и надо этому королю, если Шонахан навлечет на него несчастье! Что такого в этом короле особенного? Он такой же, как все смертные, и вот надо же — позволяет себе менять старые обычаи, которыми люди жили испокон века.
Второй калека. Если бы я был королем, я бы не стал связываться с человеком, складывающим стихи. Есть в них что-то неладное. Знавал я одного такого, который из года в год складывал стихи, сидя на развилке дорог под кустом боярышника, так что в конце концов весь боярышник на дороге, от Инчи до Килтартана, увял и засох, а ведь он был такой же оборванец, как и мы.
Первый калека. У тех, кто складывает стихи, есть власть не от мира сего.
Мэр. Можно сказать, я наполовину готов.
Первый калека. Не тот ли это, который говорил тебе о благодатном источнике? И о маленькой святой рыбке?
Мэр. Потише, вы!
Второй калека. Ну конечно, это был он.
Первый калека. О рыбке, которая высовывается из воды и исцеляет калек?
Второй калека. Высовывается раз в семь лет.
Мэр. Итак, я почти готов.
Брайан. Я бы никогда не пожелал королю никакого зла, если бы не мой хозяин…
Мэр. И ты тоже тише!
Брайан…который решился умереть, чтобы отомстить ему. Вот, я раскладываю для него пищу, но, если он и в этот раз ее не тронет, я вернусь домой и начну готовить еду для поминок, ибо до этого уже рукой подать.
Мэр. Теперь моя очередь говорить.
Брайан. Пожалуйста, только покороче.
Мэр (подходя к Шонахану). О величайший поэт Ирландии, перед тобой мэр твоего родного города Кинвары. Я пришел сказать тебе, что слухи о твоем споре с королем Горта повергли нас в великую печаль, отчасти из-за тебя, почетный гражданин нашего города, отчасти из-за самого города. (Чешет в затылке, потеряв нить речи.) Что там дальше? Кажется, что-то о короле…
Брайан. Продолжайте. Я разложил перед ним еду; может быть, когда вы закончите, он поест что-нибудь.
Мэр. Не торопи меня.
Первый калека. Дай мне кусочек. Твой хозяин не обидится.
Второй калека. Пусть кто хочет изнуряет свои кости голодом, а мы-то помним, зачем Господь дал человеку желудок.
Мэр. Все замолчите. Я вспомнил. Король, говорят, настроен весьма благосклонно, и у нас есть все основания думать, что он собирается отдать нам пастбищные угодья, в которых мы так нуждаемся. Подумать только, нашим косарям приходится ножом срезать траву между камнями! Мы просим лишь разумного. Мы просим, чтобы ты ради блага города сделал то, чего желает король, и тогда он, вероятно, сделает то, чего желаем мы. Разве это не разумно?
Шонахан. О, разума здесь хоть отбавляй. Но седые волосы твои поредели и зубов во рту осталось совсем немного. Как получилось, что ты прожил на земле так много, а понял так мало?
Брайан (стараясь оттащить мэра в сторону). Что толку в говорении — разве они не уговаривали его весь день? Неудивительно, что он устал от всего этого. Я разложил перед ним пищу.
Мэр (отпихивая Брайана). Не торопи меня. Не много же ты уважения выказываешь своему городу; убирайся! (Шонахану.) Нам не хотелось бы, чтобы ты думал, что эти наши доводы, как бы вески они ни были, перевешивали в наших умах желание, чтобы человек, которого мы так чтим, гордость нашего города, был жив и здоров. Оттого мы просим тебя уступить в том, что, в конце концов, не представляет никакой важности — не бередить себя понапрасну и позволить нам и дальше тобой гордиться. (Довольный своей речью, заканчивает и садится.)
Брайан. Поешь, хозяин, это не королевская еда, состряпанная для всех и никого. Вот овсяные лепешки из нашей домашней печи, вот морской салат из Дураса. Он из красных водорослей, хозяин, очень полезный и приятно пахнет морем. (Берет в одну руку лепешку, в другую — миску с салатом и всовывает в руки Шонахана. Чувствуется, что тот тронут.)
Первый калека. Он взял еду и сейчас все прикончит.
Второй калека. Нет, ему не того нужно. На что кошке — мед, собаке — пшеница, а призраку с погоста — желтое яблочко?
Шонахан (отдавая пищу обратно Брайану). Поешь сам, старик, ты совершил далекий путь и, может быть, ничего не ел в дороге.
Брайан. Как я мог есть, когда мой хозяин умирает с голоду? Это все послал твой отец. Он плакал оттого, что из-за ржавчины в коленях не мог прийти сам, и просил передать тебе, что он стар и нуждается в твоей заботе, что соседи будут показывать на него пальцем и он не сможет поднять голову от стыда, если ты сам отвергнешь милость короля, что он заботился о тебе, когда ты был юн, и будет справедливо, если ты позаботишься о нем теперь.
Шонахан. А что велела передать моя мать?
Брайан. Ничего. Как только ей рассказали, что ты решил уморить себя голодом или вернуть древнее право поэтов, она сказала: «Уговоры не помогут. Мы не переубедим его». Потом она вошла в дом, легла на кровать и отвернула лицо к стене.
Пауза.
Вот голубиные яйца из Дураса, а вот — из-под наших собственных кур.
Шонахан. Значит, она ничего не велела передать. Наши матери знают про нас все. Они знали это прежде, чем мы родились, вот почему они понимают нас лучше, чем возлюбленные, на груди у которых мы засыпаем, Возвращайся и скажи, что моя мать права — права, потому что она меня знает.
Мэр. О чем это он? Вот и пойми этих поэтов; овца проблеет — и то понятнее. (Поднимается и подходит к Шонахану. Тот отворачивается.) Ты, может быть, не слыхал, сколько скотины перемёрло в эту зиму, когда тебя не было дома, а все оттого, что сена не хватило, и люди болели, потому что им пришлось всю зиму есть соленую рыбу.
Брайан. Все выложил? Если больше ничего за пазухой нет, так ступай.
Мэр. Что это значит — меня гонят? Вот как ты со мной разговариваешь! Будто я не мэр? Будто я не власть? Будто я не во дворце короля? А ну отвечай.
Брайан. Тогда объясни народу, как поступает этот король, — искореняет старые обычаи, старые законы, старые права.
Мэр. Святой Кольман, что он такое несет!
Первый калека. Вот что делает король, и ты того же хочешь.
Второй калека. Загадить святой источник.
Первый калека. Зажарить рыбку счастья.
Второй калека. И сунуть ее к себе в карман. А ведь она должна исцелять увечных.
Мэр. Как вы смеете произносить его имя своими мерзкими губами, как вы смеете бранить короля?
Брайан. А как вы смеете хвалить его? Не позволю хвалить того, кто ограбил моего хозяина.
Мэр. А разве у него нет такого права? Мог бы и голову снести твоему хозяину, разве он не король? Его воля — снести башку хоть тебе, хоть мне! То-то. Да здравствует король! За то, что еще не снес нам башки! Кричи: да здравствует король!
Брайан. Кричать за здравье короля?
Следующие пять речей произносятся ритмической прозой, иногда переходящей в пение.
Никто кричать не вздумает: Рыбак закрутит удочку, Закрутит мельник мельницу, Закрутит фермер веялку, Закрутит ведьма пальцами, Пока не треснет он и не развалится!Мэр
Он мог бы, если вздумается, Всех языкастых выпороть, Всех отодрать за волосы, Подвесить на веревочке, Провялить всех на солнышке, По доброте своей он нас жалеет всех.Первый калека
Проклятье голытьбы на нем, Проклятье бедных вдов на нем, Проклятие сирот на нем, Проклятие епископов, Чтобы он сгнил, как старый гриб!Второй калека
Чтобы он весь сморщинился, И лоб его сморщинился, И нос его сморщинился, И рот его сморщинился, И чтоб из каждой складки старый бес глядел!Брайан
Никто не станет петь ему, Никто — зверей стрелять ему, Никто — тунцов ловить ему, Никто — молиться за него, А только лишь хулить и проклинать его! Аминь.Мэр
А я говорю: да здравствует король!Брайан хватает мэра.
На помощь!Брайан
Вот тебе за «да здравствует»!Мэр. Помогите! Помогите! Разве я не на земле короля, разве я не лицо, облеченное властью?
Брайан. Конечно, облеченное. Поэтому я тебя и поколочу.
Первый калека. Поучим короля быть добрее к беднякам.
Мэр. На помощь! Ну погоди, мы с тобой встретимся в Кинваре!
Первый калека (бьет мэра по ногам костылем). Сейчас вашей милости ноги-то пообломаем.
Из дверей выходит дворецкий и спускается по лестнице с криком: «Прекратить! Прекратить!»
Дворецкий
Как! Здесь, у королевского порога, Вы подняли, невежи, столь бесчинный Грачиный крик и поросячий визг? Очистить это место!Первый калека
Сам дворецкий.Калеки уходят.
Дворецкий
Все прибери свое и убирайся! Быстрей! Иль ты не чувствуешь почтенья К ступеням этим и священной двери, Перед которой, преклонив колени, Герои и вассалы замирали? Иль для тебя могущество и слава — Пустое?Брайан
Коль позволите сказать, Скажу: король вернет свою удачу Тогда, когда хозяину вернет Отнятые права.Дворецкий
Вон! Убирайся! Живее! И попридержи язык!Брайан (укладывая еду в корзину)
Какое дело сильному до прав Бессильного?Дворецкий гонит их со сцены посохом.
Мэр
Я, сударь, не из этих. Наоборот, я королю служу.Брайан
А наше право — славить и хулить, Кого проклясть, кого благословить.Мэр кланяется дворецкому, пятясь перед его посохом и стараясь при этом вытолкнуть со сцены Брайана.
Мэр
Мы не смогли его заставить есть.Дворецкий замахивается посохом.
Большая честь(получает посохом)
беседа с вами, сударь. Я приведу сюда его невесту. Она идет, — но я потороплю. Меж нами говоря, мой господин,(снова получает посохом)
Изрядно соблазнительная штучка. Клянусь, она его уговорит. Когда рассудок изменяет, сударь, Надежда лишь на женщину…(получает посохом)
Спасибо! Рад нашей встрече, сударь,(снова получает)
рад стараться!(Выметается со сцены, выталкивая перед собой Брайана.)
В продолжение всей этой сцены, с начала ссоры, Шонахан сидит отвернувшись или плотно закутавшись в плащ. Пока мэр говорил, из дворца вышли воин и монах. Монах останавливается на верхней ступени лестницы с одной стороны, воин — с другой. Придворные дамы выглядывают из-за занавеса. Дворецкий выходит на середину.
Дворецкий
Должно быть, ты доволен, возмутив Простолюдинов против короля И всех властей. Сегодня государство — Как старый и почтенный дом, когда Хозяин строгий умер вдруг, а слуги Грызутся меж собою как собаки И тащат что попало.(Ждет, но Шонахан ничего не отвечает.)
Не пора ли Закончить эту ссору с королем И знатными людьми — со всеми нами, Кто был бы рад считать тебя в друзьях?(Подходит к монаху.)
Со мною он молчит, святой отец. Попробуйте хоть вы свое влиянье. Быть может, из достойных ваших рук Он примет пищу.Монах
И не собираюсь. Я слишком часто в церкви осуждал Беспутные фантазии поэтов, Чтоб ныне льстить ему. Коль ослушанье И гордость безнаказанны, кто станет Повиноваться?Дворецкий (переходит к воину на другую сторону сцены)
Попытайся ты. Заговори, а там само пойдет: Все бесы голода тебе помогут.Воин
Не собираюсь вмешиваться в это. Пускай умрет, раз он такой гордец. Нам что за горе!Дворецкий
Попытайтесь, дамы. Он должен что-то съесть, не то, боюсь, На королевский дом падет несчастье; И всех нас попросту забросят в угол, Как летнюю обувку в зимний день.Первая дама
Любезней было бы задачу эту Взять на себя Петру.Вторая дама
И вправду, Петр, Уговори его поесть. Бедняга Так отощал, что страшно поглядеть.Воин
Я больше в жизни дамам не поверю! Не вы ли возмущались больше всех, Что он сидит в Совете? Видно, ветер Переменился. Что он ни скажи, Как ни взгляни — все было вам обидно, А ныне он вам нравится опять? Пускай! Но я вам в этом не подмога.Вторая дама
За что ты напустился так на нас? Ты знаешь ведь, простонародье ропщет, А он такой несчастный…Первая дама
Музыканты Не щиплют больше струн. И танцев нет.Вторая дама
Мне сон отбило. Так его жалею!Первая дама
А мне так хочется потанцевать!Вторая дама
Вчера — подумать только! — у дороги Старуха камень бросила в меня. Ты хочешь, Петр, чтоб в нас швыряли камни?Первая дама
Ты хочешь, чтобы я не танцевала?Воин
И шагу я не сделаю. Вы сами Обидели его — теперь терпите.Первая дама
Ну, Петр, для меня.Вторая дама
И для меня.Дамы берут воина — одна за правую, другая за левую руку и ласково их поглаживают. Затем, пока первая дама поглаживает, вторая дама отходит и подает ему блюдо.
Воин
Ну хорошо; оставьте.(Шонахану.)
Вот, поешь. По мне, едою с царского стола Кормить упрямцев — слишком много чести; Но дамы заморочили меня. Не хочешь? Уморить себя задумал? Поставлю блюдо рядом. Можешь нюхать. Ну, развернись, упрямый старый еж! Будь я король, пучком горящей пакли Я бы тебя заставил развернуться.Шонахан
Ты правильно назвал меня ежом. Лежу, свернувшись, под кустом терновым На берегу тех необъятных вод, Где исчезает все, — и напоследок Ко мне доносятся обрывки звуков. Жизнь — позади. Но ты не думай, пес, Что этот еж так просто развернется Перед тобой! Беги же к королю — Хозяину, пред ним на брюхе ползай, Виляй хвостом, и он тебя простит. Надеюсь, шрамы от последней порки Уже не ноют.Воин выхватывает меч, но дворецкий отбивает его жезлом.
Дворецкий
Убери свой меч. Тебя простонародье растерзает, Лишь пальцем тронь его.Воин
Раз мы должны С ним этак нянчиться, не проще ль было Его оставить за столом Совета?(Вкладывает меч в ножны и отходит в сторону.)
Шонахан
Еще немного потерпите. Скоро В последний раз я этот сладкий воздух Глотну и стану так же безобиден, Как всякий прах.Дворецкий
О чем ты, Шонахан? Тут все вокруг полны к тебе почтенья; Отведай эти яства — и король Покажет, как тебя он чтит и ценит.(Кланяется и улыбается.)
Кто знал, что примешь ты так близко к сердцу Свою отставку от стола Совета? Спокойно рассуди, и ты поймешь, Что лишь одним начальникам дружин, Законникам и прочим в том же духе Пристало там сидеть.Шонахан
Ты был обманут. Глаза твои, наверное, солгали, Когда тебе почудилось, что я Был изгнан из Совета. Вы изгнали Плясуний, что ведут свой хоровод У четырех ручьев в саду нагорном.Дворецкий
Ты хочешь намекнуть, что мы изгнали Поэзию. Но я не соглашусь. Я, между прочим, сам стихи слагаю, И часто после пира, как сметут Объедки со стола и свеч добавят, Король великодушно мне велит Прочесть свои стихи. Я не равняю Их с вашими, но, если я почтен, Поэзия, в какой-то мере, тоже Уважена.Шонахан
Что ж, если ты поэт, Пропой, что королевская корона И вся его богатая казна Была бы сором, если бы поэты Не освятили золота, а также Болезненного тусклого металла, Рожденного луной; что храбрый витязь Не гарцевал бы среди пик и стрел, А щедрый бы не расточал без счета, Когда б не речи пылкие певцов, Вознесших гибельное благородство. Скажи еще, что бедный свинопас Однажды сочинил, бредя за стадом, Балладу о волшебных королях, Разряженных в алмазы и рубины, Пылавшие как солнце, и сперва Ее доярки напевали в поле, Потом детишки возле очага, И лишь потом услышали портные.Дворецкий
Съешь хоть немного, Шонахан; ты бредишь. От голода, бывает, и не так Заходит ум за разум.Шонахан
Возгласи, Что, сколько б нас ни гнали, мы вернемся — Стремительно, как ветер из пустыни, Сметая кубки со столов, и ляжем Перед порогом короля, пока Он не вернет исконных прав поэтам.Монах
Грози! А я отправлюсь к королю И словом укреплю его решимость; Пускай безумный сам себя заморит До смерти, если свой пустой каприз Ему дороже мира и порядка. Я панихиду петь ему не буду.Первая дама
Не ты ль, монах, затеял эту распрю, Чтобы лишить нас танцев? Почему? Сейчас не пост; а все рожки и арфы Молчат — и, если Шонахан умрет, Уже не заиграют вновь. Того ли Ты добивался?Монах
Что за вздор такой!Первая дама
Не добивался — так заговори с ним, Употреби влиянье, урезонь. Чем дурны наши танцы?Монах
Замолчите! Ступайте к юношам, что на лугу Махают клюшками, или к реке — Смотреть на уточек. А это дело Не женского ума.Первая дама
Идем, подруга. Мы не нужны здесь.Монах
Все сошли с ума. Капризы, танцы, выходки поэтов! А Церковь и король в пренебрежении. Ты обречен на гибель, Шонахан, — Как все, кто призракам пустым поверил И дал им волю над собой. Прощай, Я вряд ли вновь тебя живым увижу.Шонахан
Постой, постой!Монах
Последнее желанье?Шонахан
Позволь я на ушко тебе шепну. Скажи: твой дикий бог, что так ярился, Когда ты деньги брал у короля, Немного присмирел? Стал тише нравом?Монах
Оставь меня в покое!(Старается вырваться.)
Шонахан
Может быть, Он научился звонко щебетать Для короля за трапезой, когда Меняют блюда?Монах
Отпусти мне рясу!Шонахан
И ты его, наверно, научил Чирикать нежно, чтобы не потревожить Приятную дремоту короля, Насытившего чрево? Не спеши!Монах, стараясь вырваться, протаскивает Шонахана на несколько шагов по сцене.
Не ожидал, что высохшие руки Еще способны крепко ухватить? Скажи, он научился у тебя Брать хлеб из рук у короля, сидеть На согнутом крючком монаршьем пальце? Не покладай своих усилий, отче. У короля так много дел. Порой Бывает нужно и развлечься малость. Бог — с крылышками, с бусинками глаз!Монах выдергивает рясу и скрывается во дворце. Шонахан держит палец в воздухе, как будто на нем сидит птичка. Делает вид, что гладит ее.
Первая дама
Нет, видно, больше нам не танцевать, Не слушать нежных скрипок и волынок. Пойдем отсюда, горю не помочь. Посмотрим, как играют в клюшки.Вторая дама
Тише! Ишь, как глазами он сверкнул.Шонахан
Ступайте Туда, на луг, где юноши и клюшки! Ну, подберите юбки — и бегом! Я знаю, что у вас в ушах застряло Немало нежных песен; вижу это По блеску ваших глаз — но все пройдет. Зачем вам песни, если вы — красотки? Вы любите плясать и улыбаться Загадочно — что так влечет мужчин. У ваших матерей был верный вкус — И уши, жаждавшие нежных песен Не меньше вашего. Ступайте к юным! Или румянец щек, грудь колесом И бедра узкие не стоят страсти? Ведь не на этот же мешок костей Вам любоваться! Я вас отсылаю. Я песнями своими вас гоню В объятия беспесенные…Первая дама
Тише! Смотрите, кто выходит из дворца. Принцессы, мы идем смотреть на клюшки. Вы с нами?Первая принцесса
Мы пойдем с тобой, Айллин. Но прежде мы хотели с Шонаханом Поговорить, чтоб он прервал свой пост.Дворецкий
Я подержу для вас поднос и кубок, Покуда вы его не вразумите. Позвольте мне, принцесса?Первая принцесса
Нет, не надо. Мы сами угостить хотим его. Финула поднесет еду, я — кубок.Первая дама
Ах, маленькие милые принцессы! Так царственны и так великодушны!Принцесса протягивает Шонахану руку для поцелуя. Шонахан не двигается.
Она к его губам подносит руку, Что ж он сидит?!Первая принцесса
Король, родитель мой, Велел вам передать, что он не может Вернуть вам место за столом Совета, Но, что бы вы взамен ни попросили, Он даст вам непременно. Для начала Возьмите этот кубок и поднос.Первая дама
Взгляни, взгляни! Он принимает кубок! Принцессы милые! Я так и знала: Ни в чем им невозможно отказать.Шонахан берет кубок одной рукой. Другой рукой несколько мгновений удерживает руку принцессы.
Шонахан
Какая мягкая ладонь, а пальцы — Такие длинные! Они достойны Соединиться с дланью короля. Принцесса, ваши руки совершенны; Но странную в них вижу белизну. И вспомнилось мне вдруг: давно когда-то, До вашего рожденья, видел я, Как ваша мать сидела у дороги В высоком кресле. Мимо проходил Какой-то прокаженный. Королева Путь указала страннику; в ответ Он буркнул и руки ее коснулся. Я это видел сам; и я хочу Внимательней взглянуть на ваши руки: А вдруг они заражены проказой? Король прислал еду; но я не стану Брать ни куска из зараженных рук. А ну-ка протяните мне ладони — И вы, и вы, плясуньи! Может быть, Средь вас нет ни одной незараженной.Принцессы в ужасе отшатываются от него.
Первая принцесса
Он прокаженными нас называет!Воин обнажает меч.
Дворецкий
От голода несчастный обезумел И мелет сам не зная что.Шонахан
Меж вами Нет ни одной незараженной. Вон! Все — вон отсюда! В этих яствах, в блюдах, В объедках с королевского стола — Проказа! Прокаженное вино — Вот вам его обратно, получайте!(Выплескивает вино им в лицо.)
Бегите прочь, пока я вас не проклял! Или вам мало одного клейма? Иль думаете, выйдет хлеб вкусней, Коль в тесто подмешать мое проклятье?Все в испуге разбегаются.
Шонахан, шатаясь, выходит на середину сцены.
Откуда, я сказал, пришла зараза? Ах да! Какой-то прокаженный брел Обочиной дороги… Нет, не то! Он брел не по дороге, а по небу. Вот и сейчас он простирает к нам Свою ладонь, благословляя мир Рукою прокаженной…Первый калека
Это — месяц. Он месяц называет прокаженным. За худобу его и белизну.Шонахан
Бродяга этот простирает руку Над всеми — королем, двором и знатью — И одаряет всех своею хворью.Первый калека (удерживая другого калеку)
Пошли отсюда!Второй калека (указывая на еду)
Если вам не нужно, Позвольте взять немного, господин.Калеки двигаются к еде в обход Шонахана.
Шонахан
Кто говорит? Кто тут?Первый калека
Ну его к черту!Второй калека
Мы — бедные калеки, клянчим хлеба, Бродя по миру, от дверей к дверям, А голод только пуще!Шонахан
Вы — калеки? Должно быть, матери, что вас носили, Наслушались поэтов безобразных И принесли на свет калек.Первый калека
Вот страсти! Он, верно, проклял и еду. Пошли; Ее опасно есть.(Уходят.)
Шонахан
Сколь он могуч! Могуч и терпелив: как поднял руку, Так и не дрогнет ею, не качнет! Мне никогда его не пересилить.(Садится на ступени.)
Входят Мэр и Фидельма.
Мэр
Он бредит, как лунатик.Фидельма
Я сначала Должна его отсюда увести, А уж потом заговорить о пище. Здесь, на пороге, где над ним смеялись, И слушать он не станет.Мэр
Лучше сразу. Попробуй дать ему питье и хлеб, Пока он не опомнился.(Уходит.)
Фидельма
Очнись. Я здесь — с тобою, Шонахан! Ты слышишь?Шонахан
Фидельма! Это — ты, твоя рука? Передо мной маячила другая — Там, в небе.Фидельма
Да, любимый, это — я.Шонахан
Не думал я, что ты придешь, Фидельма.Фидельма
А как же! Я тебе пообещала Прийти и привести тебя домой, Когда настанет жатва, — и пришла. И ты пойдешь со мной — сейчас, не медля.Шонахан
Пойду. Так, значит, жатва наступила? И вправду, пахнет скошенной травой.Фидельма
Вершина года, середина лета — Не лучшее ли время для женитьбы?Шонахан (хватая ее за запястье)
Кто подсказал тебе? Ведь это правда — Хоть я и сам не знал до этой ночи, — Что свадьба, будучи вершиной жизни, Свершиться может высоко и полно Лишь на вершине лета. Прошлой ночью Лежал я, глядя в небо, и увидел, Как звезды вдруг затрепетали нежно И снизились — как будто сочетаться Решили с комьями земли на пашне, Чтобы зачать от них могучий род, Какого прежде не было; но что-то Вдруг прошуршало и спугнуло их.Фидельма
Пойдем скорей, чтоб дотемна успеть. Свет убывает, а идти не близко.Шонахан
Так близко были звезды! Я расслышал Их пенье: то был гимн великой расе — Веселой, светлой, щедрой, горделивой: Смеясь, они осыплют мир дарами И мир в свое владение возьмут.Фидельма
Ты все расскажешь мне о пеньи звезд, Когда придем домой. Покой и отдых — Вот что сейчас тебе необходимо. Доверься мне, и поспешим домой.Шонахан
Я чувствую, здесь как-то беспокойно. Не помню, что со мной произошло. Но я хочу домой. Пойдем, Фидельма!(Пытается встать.)
Где все мои ученики? Покличь их. Ученики помогут мне дойти.Фидельма
Пойдем, а я потом пошлю за ними; Найдется каждому у нас постель; Есть возле дома ровная лужайка, Где можно будет в клюшки поиграть, И сад, чтоб распевать стихи в прохладе.Шонахан
Да, да, под яблоней, я помню место; И ту лужайку, где с мячом и с клюшкой Всегда побегать может молодежь.(Поет.)
Там средь зелёна луга Четыре есть потока, Священные их воды Из одного истока. Там яблоня средь сада; Все птицы поднебесья На ветки к ней садятся И распевают песни.Фидельма в отчаяньи закрывает глаза руками.
Фидельма
Нет, те стихи, что ты сейчас пропел, О райском саде говорят.Шонахан
Да, верно. Я сочинил их много лет назад, Представив сад Эдемский на Востоке И духов ангельских в обличьи птиц, Поющих прародителю Адаму, На яблоне лесной рассевшись. Вижу, Как жадно клювы их долбят плоды, Столь полные пьянящею отрадой, Что перья их слипаются от сока. Скорее уведи меня отсюда, Я отдохнуть хочу.Фидельма (помогая ему подняться)
Иди со мной.Он медленно ковыляет, опираясь на Фидельму, пока они не подходят к столу.
Шонахан
Но почему я так ослаб? Я болен? Скажи, моя родная, что со мной?Фидельма
Я намочу в вине горбушку хлеба, Он подкрепит тебя; и мы пойдем.Шонахан
Да, хлеб с вином — вот, что сейчас мне нужно; Ведь это голод так меня изгрыз.(Берет хлеб у Фидельмы, задумывается, потом бросает его обратно.)
Шонахан
Нет, я не должен есть.Фидельма
Поешь, любимый. Когда теперь ты не поешь — умрешь!Шонахан
Зачем ты мне даешь питье и пищу? Зачем явилась ты? И без тебя Легко ли было мне?Фидельма
Хотя бы корку — Съешь за меня, мой милый, мой родной!Шонахан
Мне есть нельзя — пусть лучше я умру. Как объяснить тебе, дитя простое?Фидельма
Я знаю только — ты меня не любишь. Любил бы — все другое позабыл. Любовь тебе неведома!Шонахан
Девчонка, Видавшая мужчин лишь из окна! — Ты говоришь мне: я любви не знаю И не люблю тебя? Всю эту ночь Передо мною трепетали звезды, Горели и мерцали, как невесты В покоях брачных… Но погасло небо; Все решено — я должен умереть.Фидельма (обвивая его руками)
Я не отдам тебя! Я б отступила, Не упрекнув тебя, пред знатной дамой, Пред королевской дочерью, — но смерти Я не отдам тебя! О, посмотри: Иль эти руки белые мои Не лучше бурой глины?Шонахан (стремясь высвободиться)
Замолчи! В твоих руках и в голосе — измена. Я чую их. Зачем еще ты здесь? Как долго будешь мне глаза мозолить?Фидельма
О Шонахан!Шонахан (поднимаясь)
Уйди куда-нибудь, Лишь бы подальше с глаз и вон из сердца. Тебя отшвыриваю я как хлам — Башмак без пары, ржавый ковш без ручки, Погнутый грош, изодранный колпак.Фидельма (разражаясь слезами)
О, не гони меня!Шонахан (обнимая ее)
Что я сказал, Моя голубка? Чуть тебя не проклял. Я бредил. Я возьму слова назад. Но ты должна уйти.Фидельма
Позволь остаться — Здесь, возле ног твоих. Я буду кроткой, Как верная жена.Шонахан
Приди ко мне.(Целует ее.)
Когда бы я поел, как ты просила, Я обокрал бы будущих влюбленных, Их первый и последний поцелуй.Из дворца выходит король в сопровождении двух принцесс.
Король
Он до сих пор не ел?Фидельма
И есть не станет, Пока поэтам не вернут их право.Король (подходя и становясь напротив Шонахана)
Ты всех отверг, кого я слал к тебе. Придется, Шонахан, мне самому Просить тебя.Фидельма
Король, он так ослаб, Что плохо слышит вас. Скажите громче.Король
Отбрось гордыню, Шонахан, как я Ее отбросил. Долго ты со мною Жил без обид и ссор — и вдруг задумал Посеять ропот на меня средь хижин, Чтобы какой-нибудь безлунной ночью Тот ропот вырос в рев и смел мой трон. Но на попятный мне пойти нельзя: Тогда я возмущу своих придворных И знать мятежную. Так что мне делать?Шонахан
Кто безмятежность обещал тебе — Поэты?Король
Шонахан, возьми мой хлеб И съешь — во имя сказанного мной И той еще не сказанной причины, Что я тебя люблю.Шонахан отталкивает хлеб вместе с Фидельмой.
Ты отказался?Шонахан
Да, отказался.Король
Что ж! Я терпелив, Но я — Король, и у меня есть средства Тебя принудить мне повиноваться, Эй, стража! Привести сюда поэтов!Входят придворные дамы, монах, воины, дворецкий и придворные. Вводят поэтов с веревками на шеях.
Король
Решайте сами за себя. Отныне Добросердечье — прочь. Я вновь Король. Вам у меня не вымолить пощады; Быть может, вас учитель пощадит, Увидев, что висит у вас на шее. Он хочет умереть — да будет так, Но вы умрете вместе с ним.(Поднимается по ступенькам.)
Молите Скорее — времени у вас немного! Ну, начинай же, Старший ученик.Старший ученик (Шонахану)
Умри, но возврати права поэтам.Король
Молчи! Ты столь же глуп, как твой учитель. Пусть молвит этот, самый молодой. Встань на колени, мальчик, и моли Учителя, чтоб он тебя избавил От петли на твоей цыплячьей шее.Младший ученик (Шонахану)
Умри, но возврати права поэтам.Шонахан
Приблизьтесь, чтоб я мог увидеть лица И тронуть каждое своей рукой. Такие разные, но все родные. Вы больше мне, чем дети. Ибо детям Передаем мы только кровь свою И бренность плоти. О птенцы мои, Которых я под крыльями взлелеял И собственной душой вскормил.(Встает и спускается по ступенькам.)
Я сам. Я радостью крылатой вознесен, Как чудным зверем Иезикииля. Кто умирает — выбирает роль; А я желаю вдоволь насмеяться Над этим злым бродягой — там, вверху! — Над месяцем, глазеющим на нас Весь вечер, — я его переглазею! Какое страшно бледное лицо! То белизна проказы — лунной хвори, Что заражает мир. Когда умрем, Пусть нас положат на холме открытом Вверх лицами, чтоб знали все — и тот Бродяга прокаженный в бледном небе, — Что мертвые смеются.(Падает и вновь приподнимается на локте.)
Знай, король, Что мертвые смеются.(Умирает.)
Старший ученик
Король, он умер. Сердце, переполняясь Внезапным торжеством и ликованьем, Не выдержало — и разорвалось. И, глядя на него, мы тоже жаждем Скорей преодолеть желанный путь В обещанную смерть.Король
Возьмите тело И схороните, где хотите — лишь бы Не видеть больше мне его лица И ваших тоже.Младший ученик
Мертвые смеются. Последнее у нас осталось право, И это право — смерть.Подходят к королю, протягивая ему концы своих веревок.
Не надо медлить. Осталось только петли затянуть.Король
Пусть их прогонят вон!(Уходит во дворец.)
Воины преграждают путь ученикам.
Воин
Вам тут не место. Все кончено; бахвалился он зря. Прочь от дворца, пока я не велел Гнать вас пинками.Старший ученик
Поднимите тело И возгласите, что, уйдя от толп, У водопадов и у горных птиц Займет он толику их одиночеств.Они сооружают носилки из плаща и дорожных посохов.
Младший ученик
И возгласите: вместе с древним правом Земля лишается и общих снов. Так пусть он спит в горах, вдали от смертных.Старший ученик
Пусть он почиет там, не замечая, Как мир все глубже увязает в грязь, Пока кулик кричит в речном тумане.Они поднимают носилки на плечи и проходят несколько шагов.
Младший ученик (давая знак остановиться)
Пускай звучит над ним победный гимн: Зане грядущий век благословит, Что он благословил, и проклянет Все, что он проклял.Старший ученик
Нет! Молчите, струны, — Или играйте тихо: гимн победный Его величья тайну умаляет.Младший ученик
Трубите же, серебряные горны! Подайте весть грядущим племенам; Пускай из ваших лебединых горл Свободно, далеко прольются звуки Над волнами времен, будя потомков!Старший ученик (делая знак музыкантам играть тише)
Не то, что он оставил здесь, под солнцем, А то, что он унес с собой во тьму, Воистину возвышенно. Ни гимны, Ни горнов звон не призовут народы От мира, разъедаемого порчей, К войне со злом — и не смутят покой Сошедшей ныне в гроб великой тени.Фидельма и ученики уносят носилки. Звучит траурная музыка.
ЯСТРЕБИНЫЙ ИСТОЧНИК
(1917)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Три музыканта (их лица загримированы под маски).
Хранительница источника (с лицом, загримированным под маску).
Старик (в маске).
Юноша (в маске).
Время — героическая эпоха Ирландии.
Сцена представляет собой пустое пространство, ограниченное стеной; перед ней — раскрашенная ширма, перед ширмой лежат барабан, гонг и цитра. Если угодно, их может внести (после того как публика займет места) первый музыкант, он же может зажигать лампы, если есть специальное освещение. У нас были два столба с фонарями на ближних углах сцены, изготовленные по рисункам мистера Дюлака, но они давали мало света, и мы предпочитали играть при свете большой люстры. Вообще, как показывает мой опыт, удобней всего освещение домашнего типа. Актеры в масках выглядят еще более странно, когда никакая искусственная преграда не отделяет их от зрителей. Первый музыкант вносит с собой черное свернутое покрывало. Он выходит на середину сцены и останавливается неподвижно, дав ткани свободно свеситься из его рук на пол. Два других музыканта входят и, остановившись на несколько секунд по краям сцены, идут к первому и медленно разворачивают покрывало за углы. При этом они поют:
Я вспоминаю родник, Иссякнувший и сухой, Забитый мертвой листвой, И я вспоминаю лик, Послушный бледной мечте, Тяжелый, долгий поход К той ветреной высоте, Где ничего не растет.Они развертывают покрывало, отступая назад, к стене, и образовывая треугольник, передней вершиной которого становится первый музыкант. На черной ткани — золотой узор в виде ястреба. И вот второй и третий музыканты снова складывают ткань, ритмическими шагами приближаясь к первому музыканту. Они поют:
Какой в долголетьи прок? Увидя свое дитя Десятилетья спустя — Морщины увядших щек И пятна трясущихся рук, — Могла бы воскликнуть мать: «Не стоило стольких мук Носить его и рожать!»Трясущиеся руки в пятнах — обычная деталь, изображающая старость в ирландских сагах. В то время как музыканты растягивали покрывало с ястребом, появилась и Хранительница источника, которая теперь сидит скорчившись на земле. Она в черном плаще, рядом с ней лежит квадрат голубой ткани, изображающий источник. Три музыканта занимают места у стены, рядом с инструментами; они будут сопровождать движения актеров звуками гонга, барабана или цитры.
Первый музыкант (поет)
Орешник дрожит на закате, И холод вливается в грудь.Второй музыкант (поет)
А сердце жаждет покоя, А сердце боится уснуть.Они отходят к краю сцены, свертывая покрывало.
Первый музыкант (говорит)
Ложится ночь; Темнеет склон горы; Источника сухое ложе Засыпано увядшею листвой; Хранительница родника Сидит на камне рядом, Она устала очищать родник, Она устала собирать листву. Ее глаза Глядят, не видя, на замшелый камень. Соленый ветер с моря ворошит Большую кучу листьев рядом с нею; Они шуршат и улетают прочь.Второй музыкант
Какое страшное место!Оба музыканта (поют)
«Не спится мне! — сердце стонет. — Над морем соленый ветер Шальное облако гонит; Хочу скитаться, как ветер».Пройдя сквозь публику, входит старик.
Первый музыкант (говорит)
Сюда поднимается старик, Полвека уже он ждет, У родника караулит. Он согнут и скрючен годами, Как скрючены кусты терна Меж скал, где он пробирался.Старик стоит неподвижно, понурясь, на краю сцены. При первых звуках барабана он поднимает голову и идет под ритм барабанных ударов на авансцену. Он садится на корточки и делает движения руками, как бы разжигая костер. Как и другие участники пьесы, он движется наподобие марионетки.
Первый музыкант (говорит)
Он собрал кучку листьев, Сверху прутья сухие кладет он, Он достал палочку-огневицу, Крутит палочку между ладоней, И вот занимаются листья, И вот уже огонь озаряет Орешник и спящий источник.Музыканты (поют)
«О ветер, соленый ветер! — Взывает сердце тревожно. — Зачем скитаться бесцельно, Когда найти невозможно?»Старик (говорит)
Зачем молчишь ты? Почему не спросишь, Устал ли я карабкаться сюда, Озяб ли по дороге? Нет, ни слова! Вчера был день щедрее. Ты сказала: «Родник забит сухой листвой». Потом Сказала: «Ветер с запада». И после: «Дождь эту яму превратит в болото». Три целых фразы! А сегодня ты Нема, как рыба, и глуха, как рыба.(Подходит ближе.)
Твои глаза застыли. Если сидам Был нужен сторож — очищать от листьев Дно родника и отгонять коров, Они могли б найти кого-нибудь Поразговорчивей, по крайней мере. Что ты глядишь так странно? Вот таким Остекленевшим взором ты глядела, Когда случилось это в прошлый раз. Что знаешь ты? Ответь же старику! Свихнуться можно, глядя целый день На эти камни, и кусты в колючках, И этот безучастный, безответный Застывший лик…Юноша (появляется и подходит к старику во время его речи)
Поговори со мной; Хоть юность и не славится терпеньем. Полдня бродил я в скалах, но никак Не мог найти чего ищу.Старик
Но кто ты, Пришедший так нежданно в этот край Бесплодный? Судя по блистанью злата На голове твоей и на одежде, Ты не из тех, кто презирает мир.Юноша
Меня зовут Кухулин, сын Суалтама.[144]Старик
Не слышал про такого.Юноша
Это имя Не вовсе неизвестно. Я живу В высоком древнем доме возле моря.Старик
Какая блажь тебя сюда пригнала? По виду ты из тех, кто вечно жаждет Любви и битв.Юноша
Меня привел сюда Рассказ, услышанный в пиру под утро. Я встал из-за стола, нашел корабль, Поставил парус и, с попутным ветром Проплыв по зачарованным волнам, Вступил на этот берег.Старик
Очень жаль, Но этот берег пуст. Тут нет ни дома, Чтобы его ограбить, ни красотки, Чтоб увезти.Юноша
Ты, видимо, из местных; По крайней мере, речь твоя дика, Как этот дикий край. Ты, может быть, Поможешь мне найти то, что искал я, — Источник, над которым три лещины Сорят листвой увядшей и на страже Среди гранитных валунов сидит Задумчивая дева. Говорят, Вода источника дает бессмертье.Старик
Глянь — разве пред тобой не три лещины И дева на гранитном валуне? Протри глаза получше.Юноша
Я не вижу Источника.Старик
Взгляни туда.Юноша
Но там — Лишь яма, полная сухой листвою.Старик
А ты считал, что столь великий дар Так просто обрести: поставить парус, Влезть на высокий холм — и все? Безумец! С какой же стати ложе родника, Сухое для меня, вдруг увлажнится Для нового пришельца? Я полвека Ждал — но ни разу не застал воды, А только листьев призрачную пляску Под дудку ветра глупого.Юноша
Так, значит, В определенный час вода приходит?Старик
В определенный тайный миг. О нем Знать смертному нельзя, а только духам, Танцующим среди безлюдных гор. Вода едва забьет — и вновь уходит.Юноша
Я буду здесь стоять и ждать. Удача Ужель изменит сыну Суалтама? Досель я ничего не ждал подолгу.Старик
Нет! Уходи из этих мест проклятых! Они принадлежат лишь мне и деве Источника — да духам окаянным, Что пляшут по камням.Юноша
Кто ты таков, Чтобы бранить таинственных плясуний?Старик
Один из тех, кого они надули. Я молод был, как ты, душой и телом, Когда меня сюда занес счастливый, Как думалось мне, ветер. День за днем Над пересохшим ложем родника Сидел и ждал я всплеска дивной влаги. И так прошли года, меня состарив. Я ел траву, я птиц ловил в силки, Я воду дождевую пил из лужи, Боясь вдруг отойти и не расслышать Внезапного прибытья вод. И все же Я был обманут призраками. Трижды, Очнувшись, замечал я влажный след На дне источника.Юноша
Я крепко верю В свою удачу. Пляской колдовскою Не усыпить меня. Чтоб сладить с дремой, Я ногу проколю себе копьем.Старик
Не надо, ибо плоть боится боли; А лучше снова подними свой парус И прочь плыви! Оставь родник для тех, Кто стар и дряхл, как я.Юноша
Нет, я останусь.Хранительница источника испускает крик ястреба.
Вновь эта птица кличет!Старик
Нет, не птица.Юноша
Но я же слышал ястребиный крик; Откуда он? Когда я шел сюда, Огромный серый ястреб налетел Внезапно с неба; много ястребов Спускал я на добычу, но такого Не видывал. Он словно разодрать Меня стремился клювом — иль ударить Крылом. Пришлось мне обнажить свой меч, Чтоб отогнать его. Он полетел Прочь, от скалы к скале. Я вслед за ним, Бросая камни, с добрых полчаса Шел по горам, покуда не набрел На это место. Тут исчез мой ястреб. А жаль — его бы приручить неплохо.Старик
Не птица пред тобой была, а сида — Колдунья с гор, безжалостная ведьма, Она тут часто между скал блуждает, Губя и в грех вводя. Ее завидя, Воинственные женщины с холмов Приносят жертвы ей и точат копья. Тот проклят, кто посмеет заглянуть В ее глаза сухие. Не надейся На поступь гордую и твердый голос: Будь самый ты удачливый из смертных, Остерегись! Для тех, кто полон жизни, Она всего опасней; старики Уж прокляты. Проклятием бывает Любовь, которую не удержать, Иль ненависть, примешанная к страсти, Или она детей у вас убьет, И вы их вдруг найдете у порога — Растерзанных, в крови, — или безумье Заставит вас самих убить дитя Своей рукою.Юноша
Ты сюда приставлен Отпугивать пришельцев? О старик! Ты высох, как сухие эти листья Безжизненные…Хранительница источника вновь испускает крик ястреба.
Снова крик раздался. Он вырвался из горла этой девы; Но почему она кричит, как ястреб?Старик
Вскричала не она — вскричало горло, Вернее, некий дух вскричал из горла; Теперь я понимаю, почему Весь день она так странно цепенела. Взгляни — ее трясет как в лихорадке, В нее вселился кто-то. В этом жутком Беспамятстве она убьет, предаст — И ничего потом не будет помнить, Сгребая тупо сор листвы увядшей; Но листья будут влажны — потому что Вода как раз в то время приходила; Припадок этот — предзнаменованье: Сейчас раздастся плеск. Прочь, прочь отсюда! Оставь меня! Я стар — я ждал всю жизнь; И если не сейчас, то никогда Уж не дождусь. Прихлынет, может быть, Лишь пригоршня воды.Юноша
Я удержу Ее в ладонях, и мы выпьем оба; И крохотную горстку — пополам Разделим.Старик
Поклянись — я выпью первым. Ведь юность алчна — если что пригубит, До капли выпьет. Не гляди туда; Она, почуяв, обращает очи На нас — и страшен взор ее нездешний, В нем кротости девичьей нет следа.Он прикрывает ее лицо. Хранительница источника отбрасывает плащ и встает. Ее одежда под плащом напоминает оперенье ястреба.
Юноша
Что смотришь на меня, как ястреб грозный? Будь ты колдунья, птица или дева, Я не боюсь тебя.(Подходит к засыпанному листьями водоему, возле которого она сидела.)
Что хочешь делай, А я отсюда не уйду, покуда Не сделаюсь и сам, как ты, бессмертным.Он садится на землю, а Хранительница источника начинает танец ястреба. Старик засыпает.
Первый музыкант (напевает или говорит нараспев)
О Боже, оборони От яростного пришельца, Что в нашу кровь проникает.Танец продолжается. Юноша медленно встает.
Первый музыкант (говорит)
Уже безумье овладело им, Он побледнел, он начал спотыкаться.Танец продолжается.
Юноша
Дичись, как хочешь, сумрачная птица — Ты будешь на моей руке сидеть. Иные королевами звались, А сделались ручными.Танец продолжается.
Первый музыкант (говорит)
Там плеснуло! Родник забил. Вода бежит, вода!.. Он тоже слышал плеск и повернулся.Хранительница источника вдруг убегает. Юноша роняет копье и, словно во сне, устремляется за ней.
Музыканты (поют)
Вовеки он не вернет Тот миг, что вернуть нельзя, Жалей или не жалей; А мог бы жить без забот, Лаская старого пса, В кругу родни и друзей.Старик подползает к источнику.
Старик
Они опять ввели меня в обман, Источник пуст, хоть камни потемнели; Вода прихлынула, пока я спал, И вновь ушла. Проклятье вам, плясуньи; Всю жизнь вы лишь морочили меня. Откуда столько зла в тенях бесплотных?Юноша (входя)
Она скользнула между скал и скрылась.Старик
Она тебя хотела увести От родника. Взгляни, как потемнели Каменья там, на дне. Вода ушла — Ни капли не осталось.Музыканты восклицают: «Айфа! Айфа!»[145] — и ударяют в гонг.
Юноша
Чьи там крики? Кто там гремит щитами за горой?Старик
Она на бой с тобою подняла Воительниц с холмов — царицу Айфу С дружиною; отныне до могилы Не знать тебе покоя.Юноша (прислушиваясь)
Звон оружья!Старик
Не уходи. Край этот заколдован. Поверь: мне больше нечего терять, Я правду говорю.Юноша
Я в бой вступлю!Он уходит, ступая не так, как прежде — словно во сне, а твердо — с копьем на плече и воинственным кличем:
Кухулин в бой идет, сын Суалтама!Музыканты встают; один выходит на середину со свернутым покрывалом, другие разворачивают его. Все это сопровождается пением. Под прикрытием покрывала старик покидает сцену. Когда пьеса идет под музыку мистера Дюлака, музыканты не встают и не развертывают покрывала до слов: «Горька у мудрецов судьба».
Песня для развертывания и свертывания покрывала.
Друзья, сойдемся вместе, Продолжим разговор; Я встретил злобный взор В безлюдном диком месте — Безжалостный, бесслезный взор. Мой выбор прост и ясен: Лентяй и пустобрёх, Я только ветра вздох, Исчезнуть я согласен, Я только ветра сладкий вздох. О сумрачные тени, Кромешная борьба! А мне милей тропа В луга блаженной лени; Горька у мудрецов судьба.Теперь они поют, сворачивая покрывало.
«Хвала тому, — Вскричал сухой родник, — Кто жить в дому Наследственном привык, Кто любит свой очаг И гонит прочь бродяг. К чему ему Иссякнувший родник?» «Хвала тому, — Вскричал гнилой орех, — В своем дому Кто слышит детский смех, Кто в нем душой отмяк И балует собак. К чему ему Пустой гнилой орех?»Музыканты уходят.
КОНЕЦ
ЕДИНСТВЕННАЯ РЕВНОСТЬ ЭМЕР
(1919)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Три музыканта (загримированные под маски).
Призрак Кухулина (в маске).
Оборотень, имеющий обличье Кухулина (в маске).
Эмер.[146]
Этна Ингуба (в маске или загримированная под маску).
Сида (в маске).
Входят музыканты, одетые и загримированные как в «Ястребином источнике». При них те же самые музыкальные инструменты, которые или уже находятся на сцене, или могут быть внесены либо первым музыкантом — прежде чем он станет посреди сцены со свернутым покрывалом в руках, — либо другим актером, когда покрывало уже развернуто. Сценой, как и прежде, может служить часть комнаты, задником — стена, а покрывало можно использовать то же, что в «Ястребином источнике».
Песня для развертывания и свертывания покрывала.
Первый музыкант
Женская красота — словно белая птица, Хрупкая птица морская, которой грустится На незнакомой меже среди черных борозд: Шторм, бушевавший всю ночь, ее утром занес К этой меже, от океана далекой, Вот и стоит она там и грустит одиноко Меж незасеянных жирных и черных борозд. Сколько столетий в работе Душа провела, В сложном расчете, В муках угла и числа, Шаря вслепую, Роясь, подобно кроту, — Чтобы такую Вывести в свет красоту! Странная и бесполезная это вещица — Хрупкая раковина, что бледно искрится За полосою прибоя, в ложбине сырой; Волны разбушевались пред самой зарей, На побережье ветер накинулся воя… Вот и лежит она — хрупкое чудо морское, — Валом внезапным выброшенная перед зарей. Кто, терпеливый, Душу пытал на излом, Судеб извивы Смертным свивая узлом, Ранясь, рискуя, Маясь в крови и в поту, — Чтобы такую Миру явить красоту?Покрывало сворачивается, и музыканты занимают свое место у стены. Сбоку сцены обнаруживается ложе или просто груда тряпья, на которой лежит человек в погребальной одежде. На его лице героическая маска. Другой человек в точно такой же одежде и маске съежился на корточках ближе к зрителям. Рядом с ложем сидит Эмер.
Первый музыкант (говорит)
Я вызываю из памяти Хижину рыбака, Сети, висящие На закопченных стропилах, Длинное весло у стены. В углу лежит человек, Он умер или впал в забытье. Это — Кухулин, Страстный, свирепый и славный Кухулин. Возле ложа его — королева Эмер. Всем остальным она повелела уйти. Но вот кто-то входит Нерешительным шагом. Это Этна Ингуба, возлюбленная героя. Она замирает на миг у порога, И тогда за дверью открывается море, Сверкающее и грозно шумящее море…(Поет.)
Белая раковина, белое оперенье! Не пожелал бы я ни себе и ни другу Хрупкую и бесполезную эту мечту; Знает душа, что бесплодно над бездной паренье, Судьбы и волны, бушуя, ходят по кругу, Ветер срывает пену с валов на лету.Эмер (говорит)
Входи, присядь со мною возле ложа, Не бойся, Этна, ибо я сама Послала за тобой.Этна Ингуба
Нет, госпожа, Не смею, ибо вас я оскорбила.Эмер
Из всех живущих только мы с тобой Имеем право тут сидеть, ведь мы Его любили больше всех.Этна Ингуба
Он умер?Эмер
Обряжен в погребальные одежды, Но он не умер. Небеса извергнут Огонь, и вся земля зальется кровью, Как при кончине мира, в день ухода Героя, чтобы и последний раб Почувствовал тогда величье смерти Кухулина.Этна Ингуба
Что с ним произошло?Эмер
Сегодня на совете королей Он встретил юношу,[147] который сразу В нем вызвал необычную приязнь. Но короли все обратили в распрю. Он вызвал юношу на бой и насмерть Сразил его на берегу морском, Там, где могила Байле.[148] Слишком поздно Он осознал, что собственного сына Убил своей рукой, — как говорят, Того, что в ранней юности зачал С какою-то воительницей дикой. От горя обезумев, он схватил Свой меч и щит и бросился к волнам, Клич грозный испустил и стал сражаться С бессмертным морем. Все, кто были там, От ужаса оцепенев, не смели Ни усмирить его, ни образумить. А он с прибоем бился, наступая, Пока его один могучий вал Не потопил с размаху и не бросил Без чувств на берег.Этна Ингуба
Как он страшно бледен!Эмер
Но он не мертв.Этна Ингуба
Ты пробовала в губы Его поцеловать — иль на груди Главу бесчувственную возлелеять? Быть может, это даже и не он, А оборотень, — например, коряга, Которой приданы его черты, Иль кто-нибудь из свиты Мананнана,[149] Владыки моря, — одряхлевший всадник, Не годный больше для седла.Этна Ингуба
Окликни Его по имени. Ведь говорят, Что души, нас покинувшие, бродят Поблизости; он может услыхать — И выгнать оборотня.Эмер
Нелегко Добиться, чтобы он меня услышал — Жену постылую; но если ты Его покличешь голосом любимым, Он возвратится.Этна Ингуба
Я любима им Как новизна, но, новизной пресытясь, Он возвратится к той, что верно ждет И верит в возвращенье.Эмер
Я и вправду Надеюсь, что когда-нибудь мы вместе У очага родного отдохнем, Как прежде.Этна Ингуба
Женщин, вызывавших страсть, Пресытившись, отбрасывают в угол, Как скорлупу разбитого ореха. Кухулин, слушай!Эмер
Погоди, сперва Его лицо я скрою, чтоб не видеть В зрачках застывших этой мертвой зыби, И в очаге огонь разворошу Поярче. Мананнан, Владыка моря, Из бездны шлет своих свирепых слуг На неоседланных конях. Но чары Зыбучих волн боятся чар огня.Она задергивает занавески над ложем так, чтобы актер мог незаметно переменить маску. Потом переходит на другую сторону сцены и показывает жестами, что подкладывает дрова в очаг и ворошит огонь. Музыканты сопровождают эту пантомиму звуками барабана и, может быть, флейты. Окончив пантомиму, Эмер остается возле воображаемого очага, поодаль от Кухулина и Этны Ингубы.
Теперь попробуй позови его.Этна Ингуба
Ты слышишь, я зову тебя?Эмер
Склонись Пониже, прошепчи ему на ухо Все нежности, чтоб сердце в нем взыграло, А если он не здесь, пусть возревнует.Этна Ингуба
Кухулин, где ты?Эмер
Это слишком робко. В такой отчаянный момент страшиться, Что я все слышу, — значит доказать, Какой он сделал жалкий выбор. Помни: Мы заодно, а море — против нас.Этна Ингуба
О мой возлюбленный, прости меня За робость. Я отбрасываю стыд. Ты помнишь: как бы я ни тосковала, Я не звала тебя к себе: ты сам Все чувствовал и приходил. Дай знак, Что это ты: пошевелись, промолви Хоть слово! Ты был так красноречив Со мною. Что сковало твой язык Или замкнуло слух? Во имя страсти, Не гаснувшей, когда мы расставались На берегу, в холодный час рассвета, Ответь! Не слышит…Эмер
Поцелуй его; Быть может, губ твоих прикосновенье Осилит чары.Этна Ингуба (отпрянув)
Это не Кухулин! Я ощутила на губах своих Какой-то злой озноб.Эмер
Он шевельнулся! Уста твои его вернули к жизни Из забытья.Этна Ингуба (отступая еще дальше)
Взгляни, он сухорук! Рука вся, до плеча, как костяная.Эмер (подходя к ложу)
Откуда ты пришел? И для чего?Оборотень
Я прискакал из царства Мананнана На неоседланном коне.Эмер
Кто ты, Посмевший взять Кухулина обличье И лечь на это ложе?Оборотень
Вольный дух Из рода сидов — Брикриу зовусь я, Да, Брикриу — тот самый дух раздора, Известный меж богами и людьми.Эмер
Зачем явился ты?Оборотень (садится на ложе, раздвигая занавески и показывая свое безобразное лицо)
Чтоб устрашить Всех, кто любим Кухулином.Ингуба уходит.
Эмер
Ты лжешь! Исчадья ветра, вы полны обманов И хитростей. Я не боюсь тебя!Оборотень
Тут нет обмана: Ты ведь не любима.Эмер
Да, не любима — и не устрашусь Потребовать, смотря тебе в лицо, Чтоб ты вернул его к живущим.Оборотень
С этим Я и пришел — за выкупом.Эмер
Ах вот что! Давно ли сиды стали торгашами?Оборотень
Когда они освобождают пленных, Они берут взамен иное что-то, И это справедливо. Рыболов, Просящий колдуна о возвращеньи Жены иль дочки, знает, что за них Пойдет в уплату лодка, сеть иль даже Молочная корова; есть такие, Что предлагают жизнь свою взамен. А мне ни жизни, ни богатой вещи Не надо от тебя. Ты говорила, Что, может быть, когда-нибудь опять Он сердце обратит к тебе — под старость, Когда придут недуги. Откажись От всех надежд — и он вернется к жизни.Эмер
Я вижу цель твою: ты сеешь зло Средь тех, кого любил он; но со мной, Чтоб власть упрочить, ты готов на сделку.Оборотень
Власть тешит всех — и женщин, и мужчин, И духов; покорись — и он вернется.Эмер
Нет, ни за что!Оборотень
Боишься осужденья? А он вот не боялся.Эмер
У меня Две радости последние остались: Воспоминанье и надежда.Оборотень
Знай же: Вам не придется стариться вдвоем У очага: он сгибнет на чужбине От многих ран, и женщина чужая Склонится над умершим.Эмер
Ты мечтаешь Отнять мою последнюю надежду, Чтоб ввергнуть в окончательную гибель Всех, кто вокруг него.Оборотень
Не ерепенься! Ты до сих пор не ревновала, зная, Что он пресытится; но разве можно Пресытиться любовью неземной? Встань ближе; я хочу, чтоб ты прозрела.Он касается ее глаз своей левой, невысохшей рукой.
Эмер (увидев призрак Кухулина)
Здесь муж мой!Оборотень
Я рассеял мрак, скрывавший Его от глаз твоих, но этот взор По-прежнему незряч.Эмер
О муж мой, муж мой!Оборотень
Не стоит звать: он так же глух, как слеп, — Фантом, сюда мольбами привлеченный; Не то чтобы он вправду слышал их, Но тот покой, в каком он пребывал, Разрушен грезами, и в этих грезах Облекся он в свой прежний образ: так Случается с тенями, что покуда К своей свободе новой не привыкли. Он ничего не сознает — ни где он, Ни с кем.Входит Сида и останавливается у двери.
Эмер
Кто эта женщина?Оборотень
Рыбачка. Сказать точней, она пришла сюда Из Царства-Под-Водой, приняв обличье, Которое поможет ей поймать Еще одну рыбешку. Эти сиды — Ловцы мужчин, наживка их — мечта.Эмер
Так, значит, этот облик — лишь притворство, Обман?Оборотень
Мечта — не ложь, а воплощенье; Пока способны юноши мечтать, Останется возможность возвращаться У мертвых — и у тех, других, теней, Что вовсе не жили иначе, как В снах и мечтах.Эмер
Я знаю этих дев. Они приходят к спящим и усталым От дел войны, закутывают их В туман своих волос, целуют в губы. Проснувшимся бывает невдомек, Что было с ними; но когда потом Своих мужей мы обнимаем ночью, Они уже не с нами.(Вынимает из-за пояса нож.)
Оборотень
Сталь не может Поранить воздух. Слушай и смотри; Я слух и зренье дал тебе недаром.Сида начинает танцевать, кружа вокруг призрака Кухулина все быстрей и быстрей. Он медленно просыпается. Порой она почти касается его своими волосами. Танец сопровождается звуками струнного инструмента, флейты и барабана. Ее маска отсвечивает золотом или бронзой, медью или серебром, так что она должна казаться скорее идолом, чем человеческим существом. В голосе ее тоже звучат металлические обертоны.
Призрак Кухулина
Кто это предо мной стоит И свет такой вокруг струит, Как будто полная луна, Чья красота завершена, Бросается из круга прочь — В свою пятнадцатую ночь?Сида
Я страстью все еще полна И, значит, не завершена. Скажи, что так тебя гнетет И распрямиться не дает?Призрак Кухулина
Лик той, кому я изменил, Взор юноши, что мною был Убит. Воспоминаний гнет Мне распрямиться не дает.Сида
Любивший столько жен и дев, Способен ты, помолодев, Влюбиться в ту, что у черты Стоит нездешней красоты? Взгляни!Призрак Кухулина
О, я тебя узнал! Давным-давно, у темных скал, Близ высохшего родника, Пришедшему издалека, Ты мне плясала… Я к тебе Стремился, покорясь волшбе. Но ты исчезла в тот же миг, Как ястреба донесся крик.Сида
Вновь устремись ко мне. В тот раз Иначе было, чем сейчас. Теперь я женщина вполне; Все ястребиное во мне Ушло.Призрак Кухулина
Но я уже не тот Юнец. Воспоминаний гнет Мне взоры застит пеленой, Туманя яркий облик твой.Сида
Так поцелуй меня в уста. Пусть торжествует красота Над всем, что противостоит Любви — будь это память, стыд Иль угрызенье.Призрак Кухулина
Значит, я Вкушу отрады забытья И совесть заглушу навек?Сида
Да, время остановит бег, Когда к устам уста прильнут, Все жажды утолятся тут, Замкнется лун круговорот И сердце навсегда замрет.Призрак Кухулина
Целуй!Она наклоняется к нему, но в последний миг он отворачивает голову.
О Эмер, Эмер!Сида
Трус! Так вот каких видений груз Тебя пригнул!Призрак Кухулина
Передо мной Тот день, когда рука с рукой Мы в дом входили в первый раз, Перед родней не пряча глаз.Сида
Припомни, сколько раз потом Тайком ты покидал свой дом.Призрак Кухулина
О Эмер, милая жена!Сида
Как умер, так опять она! А был живой, тянуло прочь. А впрямь, тому любить невмочь Обычных женщин, кто рожден Не для земных любвей и жен, Не для упреков и оков, А для того чтоб со зрачков Смыть памяти земную грязь И вечное узреть, смеясь.Призрак Кухулина
Целуй, целуй меня скорей!(Устремляется вслед за убегающей Сидой.)
Оборотень
Скорее Клянись, что отвергаешь навсегда Его любовь.Эмер
Нет, ни за что!Оборотень
Вот дура! Я враг колдуньи Фанд[150] и для того Явился, чтоб ее расстроить планы; А ты стоишь и упускаешь время. Чу! Слышишь стук копыт на берегу? Она уже садится в колесницу. Кухулин медлит. Есть еще мгновенье. Кричи! Клянись, что ты его отвергла, — И власти Фанд конец. Уже Кухулин Ступил одной ногой на колесницу. Кричи!..Эмер
Я отвергаю навсегда Любовь Кухулина.Оборотень откидывается назад, натягивает на себя покрывало. Входит Этна Ингуба и становится на колени возле ложа.
Этна Ингуба
Приди ко мне, любимый, это я. Я, Этна. Поглядите! Он очнулся. Он шевельнул губами и рукой. Лишь я одна смогла отвоевать Его у моря и вернуть к живым.Эмер
Он жив!Лежащий на постели поворачивается.
На нем опять героическая маска.
Кухулин
Как ласковы твои ладони, Ингуба!.. Мне приснился страшный сон.Музыканты выходят вперед и развертывают черное покрывало, сопровождая действие песней.
Песня для развертывания и свертывания покрывала.
Музыканты
Отчего ты так испуган? Спрашиваешь — отвечаю. Повстречал я в доме друга Статую земной печали. Статуя жила, дышала, Слушала, скользила мимо, Только сердце в ней стучало Громко так, неудержимо. О, загадка роковая Ликований и утрат! — Люди добрые глядят И растерянно молчат, Ничего не понимая. Пусть постель твоя согрета И для грусти нет причины, Пусть во всех пределах света Не отыщется мужчины, Чтобы прелестью твоею В одночасье не прельститься, — Тот, кто был их всех вернее, Статуе устал молиться. О, загадка роковая Ликований и утрат! — Люди добрые глядят И растерянно молчат, Ничего не понимая. Почему так сердце бьется? Кто сейчас с тобою рядом? Если круг луны замкнется, Все мечты пред этим взглядом Умирают, все раздумья; И уже пугаться поздно — В ярком свете полнолунья Гаснут маленькие звезды.Когда покрывало снова свернуто, сцена оказывается пустой.
КОНЕЦ
ЧИСТИЛИЩЕ
(1939)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Юноша.
Старик.
Декорация — разрушенный дом и дерево без листьев на заднем плане.
Юноша
Ну и занятье — обивать пороги, Таскаться по буграм и буеракам С поклажей на горбу, и ко всему — Выслушивать твой бред!Старик
Я вспоминаю, Как жили в этом доме, как шутили; Что там на Пасху сказанул дворецкий Про пьяного лесничего? — Провал. Уж если я забыл, пиши пропало. Куда деваются преданья дома, Когда его отломанный порог Употребляют для починки хлева?Юноша
Так ты бывал здесь?Старик
Лунный свет лежит На травах, а на доме — тень от тучи. И это символично. Видишь вяз? Не кажется ль тебе, что он похож…Юноша
На старого придурка?Старик
Год назад Он был таким же голым и засохшим; Но если вспять вернуться на полвека, Мне помнится — когда еще он не был Расщеплен молнией, — листва на нем Лоснилась и топорщилась, густа, Как масло. Жирная, шальная жизнь Вот так и перла из него!.. Смотри-ка: Я говорю, там в доме кто-то есть.Юноша снимает короб и заглядывает в дверной проем.
Юноша
Да нет там никого.Старик
Взгляни получше.Юноша
Ни пола, ни окон, а вместо крыши Лишь небо. И белеет на пороге Скорлупка от сорочьего яйца.Старик
И все-таки там в доме кто-то есть — Из тех, которые не замечают Ущерба и разора. Это души Чистилища, что вновь и вновь влекутся К родным местам…Юноша
Бред!Старик
…чтобы пережить Свои грехи опять, — и не однажды, А много раз. Смотря на ком следы Их преступлений: если на других, Изгладятся следы — и прекратятся Мытарства; если же на них самих, Надежда лишь на милосердье Божье.Юноша
С меня довольно! Проповедуй дальше Сорокам, если чешется язык.Старик
Ни шагу дальше! Сядь на этот камень. Я здесь родился, в этом доме.Юноша
Как! В хоромах этих, выжженных пожаром?Старик
Мать у меня была богатой дамой, Усадьба эта ей принадлежала, Дом, псарня, и конюшня, и земля. А мой отец был конюхом в Курахе, Где обучают верховой езде. Увидела его — и вышла замуж. Ее родня ей так и не простила — И даже собственная мать…Юноша
Вот на! А дед мой был не промах! Отхватил Единым махом девку и деньжища.Старик
Взглянула только на него — и баста. Все, что она имела, он загреб. До худшего дожить ей, слава богу, Не довелось. Явился я, и мать Скончалась родами. Но мертвецы Все знают, и сейчас ей все известно. Какие люди жили в этом доме! Полковники, шерифы, адвокаты, Парламентарии, майоры, судьи И те, что в давние года сражались При Огриме и Бойне. Джентльмены, Что занимали важные посты В столице или в Индии служили, Откуда возвращались доживать Под кров отеческий — гулять по саду И любоваться, как цветет шиповник. Они любили этот сад и парк, Который он срубил, растратив деньги На карты, шлюх и лошадей, — любили Запутанные лабиринты дома, Где столько именитых поколений Рождались, оперялись, умирали… Сгубить гнездо такое — преступленье.Юноша
Эх, повезло тебе, черт побери! Наряды всякие, а может быть, И собственная лошадь.Старик
Сам невежда, Он так меня и не отправил в школу. Но были те, что видели во мне Часть материнскую — и снисходили; Жена лесничего мне показала, Как буквы складывать в слова, потом Священник выучил меня латыни. В библиотеке были горы книг — В старинной коже и переплетенных По моде восемнадцатого века, Забытых авторов и современных…Юноша
Какое мне ты дал образованье?Старик
Образование под стать ублюдку, Зачатому в канаве побирушкой От коробейника. Но слушай дальше. Когда мне стукнуло шестнадцать лет, Отец, напившись вдрызг, спалил усадьбу.Юноша
Как раз шестнадцать лет и мне сравнялось В Иванов день.Старик
Все обратилось в пепел — Дом, книги… все сгорело.Юноша
Я слыхал Какой-то темный слух. Так это правда, Что ты убил его в горящем доме?Старик
Никто не слышит нас?Юноша
Никто, отец.Старик
Его зарезал я ножом — тем самым, Которым режу хлеб и до сих пор. Когда его достали из огня, Заметил кто-то колотую рану, Но труп так обгорел и почернел, Что трудно было утверждать наверно. Кой-кто из собутыльников отцовых Грозился, что меня отдаст под суд, Упоминались ссоры и угрозы. Я убежал, скитался по дорогам, Батрачил там и тут, пока не стал Разносчиком, — занятье не ахти, Но мне подходит в самый раз, ведь я — Сын своего отца, не больше. Чу! Ты слышишь стук копыт?Юноша
Убей, не слышу!Старик
Стук, стук копыт! Сегодня годовщина Той брачной ночи, той проклятой ночи, Когда я был зачат. Отец мой скачет Из кабака, с бутылкою в кармане.Одно из окон освещается; в нем силуэт девушки.
Смотри; она стоит и ждет, Прислушиваясь; слуги все легли; Она одна до ночи не спала, Пока он пил и хвастался в трактире.Юноша
Нет ничего, один пролом в стене. Ты, видно, бредишь. Ты и впрямь свихнулся. И бред твой все бредовей с каждым часом.Старик
Все громче стук копыт. Он скачет По гравию аллеи, с давних пор Заросшей сорняками. Цокот смолк, Он подскакал к конюшне, что за домом, И ставит лошадь в стойло. Погляди: Она, спустившись, отпирает дверь, От страсти без ума. Ей все равно, Что суженый ее не вяжет лыка. Она ведет его наверх, к себе. Ее постель девичья брачным ложем Сегодня станет. Снова свет в окне. Не дай ему обнять тебя! Неправда, Что пьяные к зачатью неспособны, Коль нынче он тобою овладеет, Ты в чреве понесешь его убийцу. Не слышат! Глухо! Можно бросить камень — Они и не заметят. Может быть, И впрямь рехнулся я. Но вот вопрос: Все заново опять переживая, Испытывает ли она теперь С раскаяньем — былое наслажденье? А если да, то что сильней — Скорбь или сласть? Вопрос не из простых. Я должен заглянуть в Тертуллиана,[151] Быть может, он подскажет мне ответ, Покуда их безумье приближает Миг моего зачатья. Стой! Назад! Ты собирался тихо улизнуть, Пока я отвернулся? Обыскал Мой короб и нашел мешок с деньгами?Свет в окне гаснет.
Юноша
Ты никогда со мною не делился По-честному.Старик
Зачем? Чтоб ты все пропил?Юноша
А это уж моя забота. Хочу — пропью.Старик
Довольно слов. Отдай Мешок!Юноша
Нет!Старик
Я тебе сломаю пальцы.Стараются вырвать друг у друга мешок с деньгами. В конце концов роняют его, и монеты рассыпаются по земле. Старик с трудом удерживается на ногах. Свет в окне снова зажигается. Виден силуэт мужчины, наливающего себе виски в стакан.
Юноша
А что, коль я тебя сейчас прикончу? Ты кончил деда моего, Когда был молод; а теперь я молод, А ты — старик.Старик (глядя на горящее окно)
Еще совсем девчонка…Юноша
Что ты бормочешь?Старик
…Влюблена — и все же Могла бы видеть, что он ей не пара.Юноша
Довольно этих бредней! Замолчи!Старик указывает на окно.
О господи! Окно освещено, И кто-то там стоит, хоть пол сгорел И балки рухнули.Старик
Отец зажег свечу, Чтоб отыскать себе стакан для виски, Он свесил голову, как пес усталый.Юноша
Мертвец! Воскресший неживой мертвец!Старик
«И вещий сон Адамом овладел…» Откуда это?.. Впрочем, там, в окне, Нет никого — лишь образ, сотворенный Воспоминаньем матери. Увы, Она и после смерти одинока В своем раскаяньи.Юноша
Труп, сгнивший труп Воскрес и ходит! Ужас! Ужас!Старик
Он призрак, даже меньше: он никто, А значит, ничего и не услышит, Не вздрогнет, если даже под окном Зарежут человека.(Ударяет сына ножом в спину.)
И сына, и отца — одним ножом. И кончено — вот так! — так! — так!(Наносит удары вновь и вновь.)
Свет в окне гаснет.
«Баю-бай, усни, малец, Храбрый рыцарь — твой отец…» Нет, это я прочел в какой-то книге. О, если б мог я убаюкать мать! — Да где найти слова для колыбельной?Сцена темнеет, лишь на заднем плане дерево озарено серебряным светом.
Как этот вяз прекрасен в лунном свете! Он высится, сияя, как душа, Очищенная от грехов… О матушка, окно опять погасло. Но ты уже перенеслась туда, Где вечный свет, не правда ли? — Ведь я Покончил со следами преступленья. Юнец мог вырасти и приглянуться Какой-то женщине, зачать потомка, И скверна бы распространилась дальше. А я лишь грязный, немощный старик И потому безвреден… В землю нож Воткну, чтоб он, как прежде, засверкал, Вновь соберу рассыпанные деньги И побреду отсюда прочь — Шутить по-старому на новом месте.(Вытирает нож о траву и подбирает монеты.)
Опять стучат копыта. Боже мой! Все повторяется опять — так скоро! Она не в силах усыпить свой сон. Два раза я убил, и все впустую. Ей нужно вновь играть все ту же сцену — За разом раз, за разом раз! О Боже! Очисти память матери моей! Тут человек бессилен. Успокой Тоску живых и угрызенья мертвых.КОНЕЦ
СМЕРТЬ КУХУЛИНА
(1939)
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кухулин.
Этна Ингуба.
Эмер.
Айфа.
Старик.
Слепой.
Слуга.
Морриган, богиня войны.
Певица, волынщик и барабанщик.
Место действия — пустая сцена без каких-либо примет времени.
Глубокий старик, напоминающий что-то из мифологии.
Старик. Меня попросили поставить пьесу под названием «Смерть Кухулина». Это последняя в цикле пьес, посвященных его жизни и смерти. Почему выбрали меня? Видно, потому, что я так же устарел и вышел из моды, как вся эта романтическая чепуха. Да, я настолько стар, что забыл, как звали моих родителей; может быть, я и впрямь сын Тальма,[152] — а уж он был так стар, что его друзья до сих пор перечитывают Вергилия и Гомера. Мне предоставили свободу действий, и я тут записал несколько основных принципов на клочке бумаги. Мне бы хотелось, чтобы в зале было не более пятидесяти или ста человек, а если будет больше, чтобы они не шумели и не шаркали ногами, когда говорят актеры. Я знаю, что ставлю пьесу для людей, которые мне симпатичны, а таковых вряд ли наберется больше, чем было на премьере мильтоновского «Комоса».[153] В данном случае они должны знать древний эпос и пьесы, сочиненные мистером Йейтсом по его мотивам. У таких людей, как бы они ни были бедны, обычно есть собственные библиотеки. Если зрителей будет больше сотни, тут уж никак не избежать полузнаек из книжных клубов и тому подобной публики, всяких дилетантов, карманных воришек и самоуверенных шлюх. Почему карманных воришек? Сейчас объясню…
Барабан и волынка за сценой: начинают и смолкают.
Это музыканты; я просил их дать мне знак, если заболтаюсь. Старикам это свойственно, уж извините. А музыку мы еще сегодня услышим. Там есть певец, волынщик и барабанщик. Я подобрал их на улице и клянусь, что научу их, покуда жив, музыке бродяг и оборванцев, музыке Гомера. Обещаю вам и танец. Танец хорош тем, что в нем нет слов, а слова легче всего опошлить. Танцевать будет Эмер — и тут уж ничего не поделаешь, это мифология! — танцевать она будет перед отрубленными головами. Сперва я хотел, чтобы головы были как настоящие, но это лишнее: если танцовщица знает свое дело, никакие подобия не будут выглядеть так убедительно, как простые черные параллелограммы. Но безумно трудно найти подходящую танцовщицу. Была у меня раньше одна такая,[154] да ушла — комическая плясунья, трагическая плясунья, любовь и презрение, жизнь и смерть — все было в ней одной. Трижды плюю на этих танцовщиц Дега, на их куцые трико, жесткие корсажи и сверх всего — на их лица горничных. О Рамзес великий! Уж лучше абстрактные маски, чем эти тусклые физиономии усталых служанок. Тьфу! Тьфу! Тьфу!
Сцена темнеет, занавес опускается. Волынка и барабан вступают и играют до тех пор, пока занавес не поднимается снова, обнажая пустую сцену. Полминуты спустя появляется Этна Ингуба.
Этна
Кухулин! Эй, Кухулин!Кухулин появляется из глубины сцены.
Я пришла С известием. Меня прислала Эмер, Твоя жена, сказать, чтоб ты не медлил. Мэйв[155] привела из Коннахта свой сброд На Эмайн-Маху,[156] чтобы жечь и грабить; Твой дом в Муртемне превращен в костер. Нет выбора тебе: как ни огромен И ни опасен перевес врага, Ты должен выступить вперед и биться.Кухулин
Весть не нова. Уж я вооружен И человека своего послал Собрать дружину. Что там у тебя?Этна
Нет ничего.Кухулин
Что у тебя в руке?Этна
Ах, это…Кухулин
Кажется, письмо, не так ли?Этна
Не знаю, как оно ко мне попало. Я только что от Эмер. Мы стояли… Она сказала мне…Кухулин
Письмо от Эмер. Тут сказано иначе. Я не должен В бой выступать до завтра, ибо силы Неравны и сразиться нынче — гибель. Наутро же прибудет Конал Кернах С большой дружиной.Этна
Не могу понять, Откуда вдруг письмо…Кухулин
Есть и приписка. Чтобы меня вернее удержать, Ты послана сюда, чтоб до утра Делить со мною ложе. Но не бойся. Тому, что я прочел, предпочитаю То, что услышал. Я готов для битвы, И горстка воинов моих готова; Нам не в диковину неравный бой.Появляется Морриган и становится между ними.
Этна
Мне чудится: тут кто-то есть меж нами. Ты никого не видишь?Кухулин
Никого.Этна
Кто из богов иль духов схож с вороной?Кухулин
У Морриган воронья голова.Этна
Да, это Морриган, богиня битв, Меня коснулась черным опереньем.Морриган исчезает.
Теперь мне ясно: это чары Мэйв. С тех пор, когда с нею спал Кухулин юный, Как изменилась бывшая красотка — Колдунья с глазом посредине лба!Кухулин
Колдунья с глазом посредине лба? Чудовище с вороньей головой? Оставь, тут ни к чему волшба и духи. Все дело в том, что надобен тебе Дружок повеселей и помоложе. И вот, страшась того, что мог бы в гневе Я совершить, ты вздумала послать Меня на смерть, но от волненья Забыла про письмо в руке.Этна
…Очнувшись, Теперь я вижу все коварство Мэйв: Кому же, как не мне, ты мог поверить?Кухулин
Когда, от смерти сына обезумев, Я волны бросился рубить мечом, Унять меня сумела только Эмер.Этна
Да, я ее не стою. Но ко мне Ты потянулся, вспомни.Кухулин
Ты решила, Что за измену я тебя убью; Хоть все изменчиво в подлунном мире, И если я не изменился, значит Я — чудо из чудес.Этна
Нет, ты не тот, Кого любила я. Тот человек Предательств не прощал. Когда ты можешь, Так мысля обо мне, как мыслишь ты, Простить, — ты на пороге смерти!Кухулин
Так громко и так близко к двери… Тише! Не надо здесь кричать про смерть мою Столь яростно и возбужденно. Услышать могут.Этна
Пусть услышат все, В ком сохранилась жажда мести, ярость И страсть, необходимая для жизни. Едва лишь ты уйдешь, я позову Всех поваров твоих и поварят; Псарей, посыльных, сторожей, служанок: Пусть поварешками меня забьют, Проткнут ножом, на вертеле поджарят — Какой угодно смерти предадут, — Чтоб тень моя явилась меж теней И пред твоею тенью оправдалась!Кухулин
Коварство женское красноречиво.Входит слуга.
Слуга
Хозяин, конь готов и люди ждут.Кухулин
Сейчас я выйду, но сперва два слова. Вот эта женщина в затменьи скорби Твердит, что, мол, злокозненною ложью Меня толкала к гибели. Что делать? Как защитить ее от слов безумных?Слуга
Ее признанье — правда?Кухулин
Правда проще. Она лишь вестница моей жены.Слуга
Не дать ли ей настойки сонных маков?Кухулин
Как хочешь; только сохрани ей жизнь Любой ценой. А коль я не вернусь, Пусть Конал Кернах ей владеет: он Умеет возбуждать любовь у женщин.Этна
Скорей уснуть! Я знаю: я права. Ведь Морриган, воронья голова, Не может лгать. Вещунье этой верьте: Увы, Кухулин на пороге смерти!Волынка и барабан. Сцена на некоторое время темнеет. Когда вновь загорается свет, нет никого. Входит раненый Кухулин. Он пытается привязать себя поясом к обломку скалы.
Входит Айфа, седовласая женщина с прямой осанкой.
Айфа
Узнал меня, Кухулин?Кухулин
Помню меч В твоей руке. Казалось, мы убьем Друг друга в схватке. Но сумел я вырвать Оружье из твоей руки усталой.Айфа
Внимательней взгляни, Кухулин! Видишь?Кухулин
Ты вся седая.Айфа
Да. Настал мой час. Знай, я пришла убить тебя, Кухулин.Кухулин
Где я и что со мною?Айфа
Получив Шесть ран смертельных, ты пришел сюда Испить воды из озера.Кухулин
Хотел я Сам привязать себя ремнем к скале, Чтоб стоя умереть. Но я ослаб. Стяни мне узел.Она помогает ему в этом.
Я тебя узнал: Ты — Айфа, матерь сына моего. Мы встретились с тобой неподалеку От Ястребиного источника, в краю Увядших листьев… Я его сразил На Байльском берегу. Вот почему Мэйв повелела расступиться копьям Перед тобой. Убить меня ты вправе.Айфа
Никто не расступался предо мной. Твой конь убитый, серый конь из Махи, Воспрянув из волны озерной, трижды Огромными кругами обскакал Тебя и этот камень — и опять Сокрылся в озере. Враг устрашенный Не смел к тебе приблизиться; лишь я Прошла сюда.Кухулин
Да, у тебя есть право.Айфа
Но я теперь стара, и чтобы вдруг Ты не собрался с силой напоследок, Я этим покрывалом привяжу Тебя покрепче.Кухулин
Не испорть его. Оно ведь шито золотою нитью.Айфа
Старухам красоваться ни к чему.(Обертывает его своим покрывалом.)
Кухулин
Но нет нужды и портить покрывало. Я слишком много крови потерял И ослабел безмерно.Айфа
Я боялась. Теперь, когда ты связан, не боюсь. Ну, отвечай мне: как мой сын сражался?Кухулин
У зрелых опыт, а у юных доблесть.Айфа
Мне рассказали: ты не знал, кто он, И не хотел сражаться, видя сходство Его со мной; но Конхобар велел.Кухулин
Хотя в тот день и был я связан клятвой, Но, пораженный этим чудным сходством, Я б отказался, если бы не толки О колдовстве. Тогда я вышел биться И победил его. Потом… потом Я обезумел и сражался с морем.Айфа
Когда-то я слыла неуязвимой. Ты вырвал меч мой, бросил меня наземь, А сам ушел. В тот день я отыскала Ночлег твой и легла с тобою рядом. Я думала убить тебя во сне Из ненависти — но зачала сына В ту ночь, между двумя кустами терна.Кухулин
Не понимаю…Айфа
Ты сейчас умрешь!.. Сюда идут… Какой-то оборванец. Он ужаснется, увидав тебя В крови — без помощи и без защиты. Покуда скроюсь, ибо я должна Спросить тебя еще о чем-то прежде, Чем умертвить.(Уходит.)
Появляется Слепой из пьесы «На берегу Байле». Он шарит своей палкой, пока не обнаруживает камня, к которому привязан Кухулин. Тогда он откладывает палку, наклоняется и нащупывает его ноги.
Слепой
О! О!Кухулин
Я вижу: ты — слепой старик.Слепой
Убогий и слепой… Как твое имя?Кухулин
Меня зовут Кухулин.Слепой
Мне сказали, Что ты ослаб от ран… Я был тогда На Байльском берегу, когда ты, спятив, Сражался с морем. Чем ты по рукам Так спутан? А! Какой-то женской тряпкой. Все утро брел я наугад и вдруг Услышал голоса. Я начал клянчить. Сказали мне, что я в шатре у Мэйв, И кто-то властный там пообещал мне: За голову Кухулина в мешке Я получу двенадцать пенсов. Дали Мешок мне в руки и растолковали, Как это место отыскать. Я думал, Что до ночи плутать мне; но сегодня, Видать, счастливый день.Кухулин
Двенадцать пенсов!Слепой
Я б не пошел, но королева Мэйв Сама мне повторила обещанье.Кухулин
Двенадцать пенсов! Славная цена За человечью жизнь! Твой нож наточен?Слепой
Мой нож востер: ведь я им режу хлеб.(Кладет мешок на землю и принимается медленно, снизу вверх ощупывать тело Кухулина.)
Кухулин
Ты, верно, знаешь все, Слепой. Мне в детстве Мать или нянька говорили, будто Слепые знают все.Слепой
Нет, но они Умеют мыслить здраво. Как иначе Я мог бы получить двенадцать пенсов, Когда б не здравый смысл?Кухулин
Уже я вижу Тот образ, что приму я после смерти: Пернатый, птичий образ, осенивший Мое рожденье, — странный для души Суровой и воинственной.Слепой
…Плечо, — А вот и горло. Ты готов, Кухулин?Кухулин
Сейчас она и запоет.Сцена темнеет.
Слепой
О! О!Волынка и барабан, занавес падает. Музыка стихает, и снова поднимается занавес над пустой сценой. На ней — никого, кроме женщины с вороньей головой. Это Морриган. Она стоит спиной к залу и держит в руке черный параллелограмм величиной с мужскую голову. Еще шесть параллелограммов укреплены перед задником.
Морриган
Я говорю для мертвых: да услышат. Вот эта голова принадлежала Великому Кухулину; а эти — Шесть нанесли ему смертельных ран. Вот первый: задержавшаяся юность, Любезная для женщин; вот второй, Неукротимый воин, спавший с Мэйв В последний раз; вот сыновья ее, Ударившие третьим и четвертым. Об этих же и говорить не стоит: Увидев изнемогшего от ран, Они подкрались, чтоб еще ударить, Вот этот — пятым, а вот тот — шестым. Им Конал отомстил. Смотрите танец.Входит Эмер. Морриган кладет голову Кухулина на землю и покидает сцену. Эмер начинает танцевать. В ее движениях — ненависть к головам тех, что нанесли Кухулину раны. Может быть, она замахивается, чтобы их ударить, трижды обходя по кругу. Затем она приближается к голове Кухулина, возможно поднятой выше других на какой-то подставке. В ее танце — преклонение и торжество. Она чуть не простирается перед ним, а может быть, и в самом деле простирается ниц, потом поднимается, как бы прислушиваясь к чему-то. Она в нерешительности: уйти ей или остаться; наконец замирает неподвижно. В тишине слышны несколько слабых птичьих трелей.
Сцена медленно темнеет. И вновь раздается громкая музыка, но теперь совершенно другая. Это музыка ирландской ярмарки наших дней. Светлеет. Ни Эмер, ни отрубленных голов на сцене нет. Никого, кроме трех уличных музыкантов в драной одежде. Двое из них наяривают на волынке и барабане. Потом они стихают, и уличная певица начинает петь.
Певица
Так пела девка из пивной Бродяге на углу: Кухулин, Конал, храбрый Финн — Вот те, кого люблю. Каких мужей ласкала Мэйв — Царей, вождей, вояк! Я вижу их, но приласкать Не дотянусь никак. Я слышу въявь их голоса И храп коней лихих — И вспоминаю, сколько лет Уже их нет в живых. К теперешним я жадно льну И тешу плотью плоть; Но отвращенья не могу И в страсти побороть.Волынка и барабан.
Неужто эти мозгляки — Наследие Земли? А с кем же Коннолли и Пирс[157] Тогда на смерть пошли? Кто думал о Кухулине, Пока не грянул шквал И средь руин Почтамта Он внезапно не воспрял? В наш дряхлый век под стать ему Не сыщешь никого; Не зря старик в своей тоске Воображал его — И Шеппард статую воздвиг[158] Герою в похвалу: Так спела девка из пивной Бродяге на углу.Музыка волынки и барабана.
КОНЕЦ
Комментарии
В комментариях для каждого стихотворения указаны дата его написания (если она известна) и первой публикации.
Ссылки на книги Йейтса даны в аббревиатурной форме.
Основные поэтические сборники Йейтса
СО — Странствия Ойсина и другие стихотворения. 1889
ГК — Графиня Кэтлин и другие легенды и стихи. 1892
ВК — Ветер в камышах. 1899
СЛ — В семи лесах. 1903
ЗШ — Зеленый шлем и другие стихотворения. 1910
О — Ответственность. 1914
ДЛК — Дикие лебеди в Куле. 1919
МРП — Майкл Робартис и плясунья. 1921
СС — Семь стихотворений и фрагмент. 1922
КЛ — Кот и луна и некоторые стихи. 1924
ОВ — Осенний вихрь. 1927
Б — Башня. 1927
СМ — Слова, возможно, для музыки и другие стихотворения. 1930
ВЛ — Винтовая лестница и другие стихотворения. 1933
ПМ — Полнолуние в марте. 1935
НС — Новые стихотворения. 1938
ПС — Последние стихи и две пьесы. 1939
ПСС — Полное собрание стихотворений. 1956
СТИХОТВОРЕНИЯ
Из книги «Перекрестки»
Большинство стихотворений этого раздела входило в СО.
Плащ, корабль и башмачки. — Впервые: 1885, под заголовком «Голоса». Из пьесы «Остров статуй».
Песня счастливого пастуха. — 1885. Впервые: 1886, в «Журнале Дублинского университета». Первоначальное название: «Эпилог к „Острову статуй“ и „Искателю“» (названия двух юношеских пьес Йейтса). Подзаголовок: «Говорится Сатиром, несущим морскую раковину». Название в СО — «Песня счастливого аркадца (несущего раковину)». В ПСС за этим стихотворением следует другое — «Печальный пастух».
Индус о Боге. — 1886. Впервые: 1886, в «Журнале Дублинского университета». Первоначальное название: «Из книги индуса Каури. — Раздел V. О природе Бога». Это и два других «индийских» стихотворения в СО, может быть, как-то связаны с лекцией брамина и теософа Мохини М. Чатерджи, посетившего Дублин в 1885 г.
Пропавший мальчик. — Впервые: 1886. Наряду с Аркадией и романтической Индией в СО появляется и третье место действия — романтическая Ирландия. А также очень важный в дальнейшем мотив бегства в волшебную страну.
Легенда. — Это раннее произведение не включено Йейтсом в «Полное собрание стихотворений»; мы поставили его в первый раздел этого собрания условно. Стихотворение появилось в лондонском журнале «Вегетарианец» 4 ноября 1888 г. с рисунками Джека Йейтса.
Старый рыбак. — 1886. Впервые: 1886. Комментарий Йейтса: «Это стихотворение основано на словах одного рыбака, с которым мы выходили ловить в бухте Слайго».
Из книги «Роза»
Стихи этого раздела входили в ГК.
Розе, распятой на Кресте Времен. — Впервые: ГК. С 1891 г. Йейтс начинает использовать символ Розы во все более сложном контекстуальном смысле. Следует учесть, что Роза у католиков — символ Богоматери, что ирландские поэты воспевали под этим именем Ирландию; у Йейтса роза, прежде всего, символ духовной, бессмертной красоты. Позднее, когда он сделался членом розенкрейцерского ордена «Золотой зари», Роза вобрала в себя соответствующий мистический смысл. Ср. с розенкрейцеровскими мотивами у Блока, в частности в пьесе «Роза и крест», а также у Вяч. Иванова.
Остров Иннишфри. — 1890. Впервые: в газете «Нейшнл обсервер» 13 декабря 1890 г. Написано в Бедфорд-Парке. В неопубликованном романе «Джон Шерман» Йейтс дает нам возможность представить, в каких обстоятельствах сочинялось это стихотворение.
«Зажатый уличной толкучкой на Стрэнде, он вдруг услышал легкий звон, как бы от струйки воды; он исходил от окошка какой-то лавки, в котором в качестве рекламы находился фонтанчик, поддерживавший на своей верхушке деревянный шарик. Звук напомнил ему водопад с длинным гэльским названием, который ниспадал по скале возле Ворот ветров в Баллахе… Погруженный в мечты, он брел вдоль берега Темзы, протекавшей в нескольких сотнях ярдов от дома, где он тогда жил, и вдруг загляделся на покрытый ивняком островок на реке. Речка, которая текла через сад у него на родине, брала исток в окруженном лесом и украшенном несколькими островками озере, до которого он не раз доходил в детстве, собирая ежевику. В дальнем конце озера был остров, называвшийся Иннишфри. Его скалистая середина, поросшая кустарником, возвышалась на сорок футов над водой. Когда жизнь и ее тяготы казались ему задачей для более старших школьников, заданной ему по ошибке, приятно было грезить о том, как он уйдет на этот остров, построит там деревянную хижину и проведет несколько лет, удя рыбу с лодки или просто валяясь в траве, ночью — слушая плеск воды у берега и шелест кустов, всегда полных каких-то неведомых обитателей, а утром — разглядывая на берегу следы птичьих лапок».
Фергус и друид. — Король Фергус, один из героев ирландских саг, изображен искателем мудрости, добровольно отказывающимся от власти. В легенде немного иначе: Конхобар хитростью завладел его короной.
Роза мира. — Впервые: 1892, в газете «Нейшнл обсервер», под названием «Roza Mundi».
Печаль любви. — Сильно переработано в 1925 г. Исследователи отмечают достоинства как окончательного варианта, так и первоначального (где отсутствовали Одиссей и Приам, а вместо «Восстала дева» было: «И ты пришла»).
На мотив Ронсара. — 1891. Впервые в ГК. В оригинале стихотворение называется по первым словам: «When You Are Old» («Когда ты состаришься»). Тема взята у французского поэта Возрождения Пьера Ронсара (сонет «Quand vour serez bien vieille…»), но трактована совершенно иначе. У Ронсара в концовке горацианский мотив carpe diem — «лови мгновенье».
Белые птицы. — Навеяно прогулкой с Мод Гонн по скалам в Гоуте. По ее словам, это было на следующий день после того, как Йейтс впервые сделал ей предложение.
Кто вслед за Фергусом? — Вставное стихотворение из пьесы «Графиня Кэтлин». Цитируется Дж. Джойсом в первом эпизоде «Улисса».
Жалобы старика. — Впервые: 1890. Переработано в 1925 г. Йейтс писал, что стихотворение возникло под впечатлением разговора со стариком-крестьянином из Уиклоу, с которым он однажды целый вечер бродил по холмам.
Из книги «Ветер в камышах»
Опубл. отдельным томом в 1899 г. с обширными примечаниями автора. Вершина ранней лирики Йейтса. Мотивы ирландского фольклора, мистический, визионерский символизм и тема любви, за которой угадываются по крайней мере два женских образа — Мод Гонн и Дианы Вернон, причудливо переплетаются в этой книге. Несколько стихотворений сначала связывались — посредством названий — с тремя разными персонажами из книги «Сокровенная Роза»: Айхом, Ханраханом и Майклом Робартисом. «Может быть, лишь знакомые с традициями магии, — пишет Йейтс в примечаниях, — поймут меня, если я скажу, что Майкл Робартис — это пламя, отраженное в воде, Ханрахан — пламя, трепещущее на ветру, и Айх — пламя, горящее само по себе. Иначе говоря, Ханрахан — это простота воображения слишком изменчивого, чтобы стяжать нечто постоянное, или поклонение пастухов; Майкл Робартис — это гордость воображения, размышляющего над величием своих сокровищ, или поклонение волхвов; и Айх — сами ароматы и благовония, которые воображение сжигает перед предметом своей любви». Впоследствии Йейтс исключил эти маски, или самодраматизации, оставив лишь разные настроения одного Влюбленного, или Поэта.
Воинство сидов. — 1893. Впервые: 1893. Первое название: «Воинство фей».
Вечные голоса. — 1895. Впервые: 1896. В рассказе «Смерть Ханрахана» герой слышит перед смертью «слабые радостные голоса» и на вопрос, кто они такие, получает ответ: «Я один из вечного племени, из вечных неукротимых голосов, живущих в гибнущих, умирающих и сходящих с ума, я пришел за тобой, и ты мой до того часа, когда весь мир вспыхнет и сгорит, как свеча».
Неукротимое племя. — Впервые: 1896, как первая часть диптиха, озаглавленного «Два стихотворения о крестьянских суевериях».
В сумерки. — 1893? Впервые: 1893. Первое название: «Кельтские сумерки».
Песня скитальца Энгуса. — 1893? Впервые: 1897. Первое название: «Песня безумца». Сюжет с форелью, обернувшейся девушкой-сидой, характерен для ирландского фольклора.
Влюбленный рассказывает о розе… — Впервые: 1892. Первое название: «Роза в моем сердце». ВК: «Айх рассказывает о розе…»
Он скорбит о перемене… — 1897. Впервые: 1897. Первое название: «Страсть мужчины и женщины». ВК: «Монган оплакивает перемену…» Монган, как объясняет Йейтс в примечаниях, — «древний волшебник и король, помнящий свои прошлые жизни».
Он просит у своей любимой покоя. — 1895. Впервые: 1896. ВК: «Майкл Робартис просит свою любимую не тревожиться». Мотив длинных волос в этом и в следующем стихотворениях — опознавательный признак «цикла Дианы Вернон».
Он вспоминает забытую красоту. — Впервые: 1896. Первое название: «О’Салливан Руа — Мэри Лавелл», ВК: «Майкл Робартис вспоминает забытую красоту».
Он мечтает о парче небес. — Впервые: 1899. Первое название: «Айх мечтает о парче небес».
К своему сердцу, с мольбой о мужестве. — Впервые: 1896. Первое название: «Из древних заветов». Вместе со стихотворением «Он упрекает кулика» и общим заголовком «Windlestraws» — в журнале «Савой».
Скрипач из Дууни. — 1892. Впервые: 1892.
Байле и Айллин. — 1901. Впервые: 1902.
Эта лирико-повествовательная поэма написана на сюжет, взятый Йейтсом из книги леди Грегори «Кухулин из Муртемне». В примечании к поэме Йейтс, в частности, пишет, что птицы, парящие над головой Энгуса, — четыре вещие птицы, которых он сотворил из своих поцелуев, и что влюбленные, обращенные в пару лебедей, соединенных золотой цепочкой, — обычный образ ирландских сказок. Всего загадочней в этой маленькой поэме — ее иносказание для поэта, смысл, который он «применяет к себе». Этот смысл выражен в лирической концовке и подготовлен всеми лирическими отступлениями по ходу рассказа.
Из книги «В семи лесах»
Опубл. в 1903 г. издательством «Дан Эмер пресс», основанным сестрами Йейтса Элизабет и Сьюзан (позднее — «Куала пресс»), где выпускались многие последующие книги Йейтса. Издания «Куала пресс» отличались особой изысканностью. В книгу 1903 г. входили наряду со стихами две поэмы: «Старость королевы Мэйв» и «Байле и Айллин», а также пьеса «На берегу Байле». Семь лесов находились в имении леди Грегори в Кул-Парке, где Йейтс написал некоторые стихотворения из этой книги.
Не отдавай любви всего себя. — Впервые: 1903.
Проклятие Адама. — Впервые: 1902. Обращено к Мод Гонн. Упоминаемая в стихах ее подруга — сестра Мод, Кэтлин.
Блаженный вертоград. — Впервые: 1903. Первое название: «Всадник с Севера». Йейтс собирался включить эти стихи в пьесу «Страна молодости», в которой бедный мальчик, скача верхом на кухонной скамейке вместе с таинственным незнакомцем, должен был перенестись — посредством колдовства — в страну мечты.
Из книги «Зеленый шлем и другие стихотворения»
Опубл. в 1910 г. «Куала пресс» и в расширенном виде в 1912 г. издательством «Макмиллан». Плоды бедного на стихи семилетия, когда в творчестве Йейтса подспудно вызревал новый стиль.
Слова. — 1908. Впервые: ЗШ. Первоначальный прозаический набросок — в дневнике 1908 г.
Нет другой Трои. — 1908. Впервые: ЗШ. Прекрасная Елена — один из прочно связанных с Мод Гонн образов йейтсовских стихов.
Мудрость приходит в срок. — 1909. Впервые: 1910. Первое название: «Молодость и старость».
Одному поэту… — 1909. Впервые: ЗШ. Как показывает дневник, адресовано А. Е. (Джорджу Расселу). Один из членов его литературного кружка, когда речь зашла о влияниях, воскликнул: «Какая дворняга думает о своих предках?»
Соблазны. — 1908. Впервые: 1909, в «Айриш ревью». Английское название: «All Things Can Tempt Me» («Все искушает меня»).
Из книги «Ответственность»
Опубл. в 1914 г. «Куала пресс»; в состав книга входила также пьеса «Песочные часы». Множественное число, которое есть в оригинале, ускользает при переводе названия сборника. Речь идет о разных типах ответственности: перед живыми и мертвыми друзьями, перед любовью и своими согражданами и, конечно, перед поэзией и самим собой.
Сентябрь 1913 года. — 1913. Впервые: 1913, в газете «Айриш таймз». Первоначальное название: «Романтика в Ирландии (Прочитав много писем против Художественной галереи)». Контекстом этого и нескольких других стихотворений послужила полемика в дублинской печати относительно картин Лейна. Сэр Хью Лейн (1875–1915), племянник леди Грегори, основатель Дублинской муниципальной галереи современного искусства, предложил в дар городу свою коллекцию французской живописи (в основном импрессионистов и постимпрессионистов) при условии ее достойного размещения. Был создан проект музея-моста через реку Лиффи, но власти Дублина могли выделить лишь малую часть средств, остальное решено было собрать по подписке. И вот тут-то удручающий материализм дублинских властей и публики проявился во всей красе. Спектр нападок на проект был весьма широк; писали, что Лейн решил увековечиться за счет города, что такие картины, какие писали Моне или Дега, мог бы нарисовать любой начинающий ирландский художник, «если бы только захотел», высчитывали, сколько домов для бедняков можно было бы построить вместо галереи, даже сравнивали картины с Троянским конем, даром коварных данайцев! Кончилось тем, что Лейн завещал свою коллекцию Лондону. После гибели Хью Лейна на корабле «Лузитания», потопленном немецкой подводной лодкой в 1915 г., начались многолетние споры вокруг этих картин, кончившиеся лишь в 1959 г. решением разделить коллекцию надвое и каждые пять лет обмениваться половинами между Дублином и Лондоном.
Другу, чьи труды пошли прахом. — 1913. Впервые: 1913. Это стихотворение тематически связано с предыдущим. Первоначально полагали, что оно обращено с сэру Хью Лейну; как уточнил сам Йейтс в 1922 г., он имел в виду леди Грегори, принимавшую активное участие в истории с коллекцией ее племянника.
Скорей бы ночь. — Впервые: ЗШ (1910).
Как бродяга плакался бродяге. — 1913. Впервые: 1914. Эти стихи можно рассматривать как реакцию Йейтса на вставшую перед ним «панургову проблему» — жениться или не жениться — в связи с одним его запутанным романом. Причем и леди Грегори, и Оливия Шекспир, две его главные конфидентки, советовали жениться. Но видно, Йейтс еще «не созрел» для такого шага.
Дорога в рай. — 1913. Впервые: 1914.
Ведьма. — 1912. Впервые: 1914.
Могила в горах. — Впервые: 1912.
Плащ. — 1912. Впервые — 1914.
Из книги «Дикие лебеди в Куле»
Опубл. в «Куала пресс» в 1917 г. вместе с пьесой «Ястребиный источник». Во втором издании («Макмиллан», 1919) пьеса была опущена, но добавлено 17 новых стихотворений, так что истинной датой сборника следует считать 1919 г. За пять лет между этой книгой и предыдущей произошли важнейшие события в жизни Йейтса, Ирландии и всего мира: Первая мировая война, Дублинское восстание 1916 г., смерть мужа Мод Гонн и ее последний отказ выйти замуж за Йейтса, сватовство к ее дочери Изольде; женитьба на Джорджине Хайд-Лис, начало работы над книгой «Видение», покупка и ремонт Тур-Баллили.
Мраморный тритон. — 1916. Впервые: 1917. Комментаторы связывают это стихотворение с Изольдой Гонн, дочерью Мод Гонн.
Заячья косточка. — 1916. Впервые: 1917. Главный образ стихотворения, по-видимому, навеян ирландским фольклором. В сказке «Сокровище О’Бернов и злые феи» говорится: «Одному крестьянину, жившему по соседству, удалось увидеть сокровище О’Бернов. Он нашел на траве заячью косточку, в ней была маленькая дырочка, через которую посмотрел и увидел груду золота, схороненную под землей. Он сбегал домой за лопатой, но, когда вернулся обратно, не смог найти точного места, сколько ни искал».
Соломон — Царице Савской. — Впервые: 1918. Написано в первый год после женитьбы Йейтса; Соломон и Царица Савская (Шеба в английской традиции), конечно, символизируют здесь самого поэта и его жену Джордж, молодую миссис Йейтс.
След. — Впервые: 1916.
Знатоки. — 1915. Впервые: 1915.
Фазы луны. — 1918. Впервые: ДЛК (1919). Как и предыдущее стихотворение, представляет собой комментарий к мифологической системе Йейтса.
Кот и луна. — 1917. Впервые: 1918. Стихотворение написано в Нормандии, когда Йейтс гостил в семье Мод Гонн.
Две песенки дурака. — 1918. Впервые: ДЛК (1919).
Еще одна песенка дурака. — Впервые: ДЛК (1919).
Из книги «Майкл Робартис и плясунья»
Опубл. в 1921 г.
Политической узнице. — 1919. Впервые: 1920.
Второе пришествие. — 1919. Впервые: 1920. Одно из самых «системных» стихотворений Йейтса и в то же время непосредственно понятных через образ апокалиптического зверя, Антихриста. Его приход Йейтс связывает с концом христианской цивилизации и началом нового исторического цикла, новой спирали.
Из книги «Башня»
Опубл. в 1928 г. В эту книгу вошли стихи, появившиеся ранее в сборниках СС, КЛ и ОВ, выпущенных «Куала пресс». «Перечитывая „Башню“, — писал Йейтс в письме О. Шекспир, — я был удивлен ее горечью… Но эта же горечь придала ей силу, это лучшая моя книга». Чтобы полнее понять символическое значение башни, надо учесть и давнее увлечение Йейтса картами Таро. Многие из 22-х карт Старшего Аркана Таро имеют параллели в системе образов Йейтса (в частности, нулевой — Шут, первый — Маг). Башня (Аркан XVI) всегда изображается окутанной темными тучами, треснувшей под ударом молнии и готовой рухнуть. Она означает крах и гибель, а также очищение души от грехов и страданий.
Плавание в Византию. — 1926. Впервые: ОВ. Византия в поэзии Йейтса — символ гармонического искусства и бессмертия. Источником его идеализированных представлений о византийской культуре были отчасти книги (в том числе «Век Юстиниана и Теодоры» У. Г. Холмса), отчасти — созерцание византийских мозаик в Палермо и Равенне. «В те времена, когда ирландцы рисовали иллюстрации „Книги из Келлса“ (VIII в.), Константинополь был центром европейской цивилизации и источником ее духовной философии, поэтому я и делаю путешествие в этот город символом духовных исканий», — объяснял Йейтс в своем выступлении по Би-би-си в 1931 г.
Размышления во время гражданской войны. — 1922.
Тысяча девятьсот девятнадцатый. — 1919. Впервые: 1921. Поводом к написанию стихотворения послужили ожесточившиеся схватки в Горте и его окрестностях между Ирландской республиканской армией (ИРА), с одной стороны, и британской армией совместно с королевской ирландской полицией — с другой.
Леда и лебедь. — 1923. Впервые: 1924.
Черный кентавр. — 1920. Впервые: 1922. Английское название: «On a Picture of a Black Centaur by Edmund Dulac». По свидетельству вдовы поэта, стихотворение было вдохновлено неизвестной нам картиной Эдмунда Дюлака, а также, возможно, акварелью художницы Сесил Сакельд. Стихотворение не поддается однозначной интерпретации. Ясно лишь, что черный кентавр знаменует для Йейтса некоторую «сверхценность», поглощенность высшей идеей, стремление к которой «втаптывает в песок» земные мечты поэта.
Юность и старость. — Впервые: 1924.
Среди школьников. — 1926. Впервые: 1927. Реальный план стихотворения: пожилой сенатор У. Б. Йейтс посещает с инспекцией одну из монастырских школ для девочек. Философский план: человек в младенчестве, юности и старости, замкнутый круг, который нельзя разорвать сознательными усилиями, из которого можно только «вытанцевать» наружу, вырваться в танец — состояние, в котором осуществляется соединение человека с миром, Единство Бытия.
Дева, герой и дурак. — Впервые: 1922 под названием «Кухулин, дева и дурак».
Сверстники. — 2 июля 1926. Из цикла «Мужчина в юности и старости», вошедшего в сборник «Башня» (1928).
Из книги «Винтовая лестница»
Опубл. в 1929 г. издательством «Фаунтин пресс», Нью-Йорк, без цикла «Слова, возможно, для музыки», написанного позднее. В 1933 г. издано полностью («Макмиллан»).
Разговор поэта с душой. — 1927. Впервые: ВЛ.
Кровь и луна. — 1927. Впервые: 1928.
Византия. — 1930. Впервые: СМ (1932). В прозаическом наброске стихотворения (дневник 1930 г.) говорится: «Описать Византий, каким он был по системе в конце первого христианского тысячелетия. Бредущая мумия. Костры на перекрестках, в которых очищаются от грехов души. Выкованные из золота птицы на золотых деревьях; в гавани [дельфины] предлагающие свои спины стенающим мертвецам, чтобы отвезти их в райскую страну». Переводчик здесь и в «Плавании в Византию» заменил название города на название империи, так как в русской традиции называть Константинополь Византием после VI в. н. э. неверно, это звучит как анахронизм, неизбежно вызывающий языческие, довизантийские ассоциации.
Три эпохи. — 1932.
Выбор. — 1932. Впервые: СМ. В письме к Оливии Шекспир 15 декабря 1931 г. Йейтс упоминает, что взялся за длинное стихотворение под названием «Мудрость», «чтобы как-то отделаться от Безумной Джейн, и я чувствую, что могу удариться в религию, если только ты меня от нее не спасешь».
Сожалею о сказанном сгоряча. — 1931. Впервые: СМ.
Триумф женщины. — 1926. Впервые: 1933. Вошло в цикл «Женщина в молодости и в старости».
Расставание. — 1926. Вошло в цикл «Женщина в молодости и в старости». Восходит по жанру к провансальской alba (песня стража). Ср. с диалогом Ромео и Джульетты (сцена на балконе).
Из цикла «Слова, возможно, для музыки»
Цикл написан в 1929–1931 гг. В письме к Оливии Шекспир 2 марта 1929 г. Йейтс сообщал: «Пишу „Двенадцать стихотворений для музыки“ — не для того чтобы их пели, а просто этим я определяю для себя их эмоциональную окраску». Окончательное название цикла звучит по-английски: «Words for Music Perhaps», что в переводе получается несколько неуклюже: «Слова, может быть, для пения».
Безумная Джейн и епископ. Впервые: 1930. Прототипом Безумной Джейн могла послужить Чокнутая Мэри — юродивая старуха, жившая недалеко от имения друга и покровительницы Йейтса леди Грегори. Вероятно и влияние народных ирландских баллад, а также знаменитого древнеирландского стихотворения «Старуха из Берри», незадолго до этого переведенного Фрэнком О’Коннором на английский.
Безумная Джейн о Боге. Впервые: СМ.
Безумная Джейн говорит с епископом. — 1931. Впервые: ВЛ. В этом и других стихах о Безумной Джейн заметно влияние Вийона («Жалобы старухи»), которого Йейтс знал, в частности, по переводам Дж. Синга.
Колыбельная. — 1929. Впервые: 1931. Фрэнк О’Коннор утверждал, что «Колыбельная» основана на его переводе древнеирландского стихотворения «Грания» (в русском переводе В. Тихомирова — «Сон Диармайда»).
В непогоду. — 1929. Впервые: СМ. В оригинале стихотворение называется «Безумный, как туман и снег» («Mad as the Mist and Snow»).
«Я родом из Ирландии». — 1929. Впервые: СМ. Источником является рукописный фрагмент XIV в. Даем его подстрочный перевод: «Я родом из Ирландии, / святой земли Ирландии, / добрый сэр, прошу вас, / ради всего святого, / пойдемте плясать со мной в Ирландию». Считается, что это одна из старейших сохранившихся английских плясовых песен. Йейтса, по-видимому, привлекло в ней то, что текст вложен в уста ирландской девушки и сочинен, надо думать, каким-нибудь ирландским менестрелем.
Том-сумасшедший. — 1931. Впервые: СМ. Том — традиционное имя для дурака. Можно вспомнить, например, Тома из Бедлама в «Короле Лире», а также анонимную балладу шекспировского времени об этом персонаже, «The Song of Tom o’Bedlam», с которой, по-видимому, спорит Йейтс.
Из книги «Полнолуние в марте»
Молитва старика. — Впервые: 1934. Одно из первых стихотворений, написанных Йейтсом после двухлетнего молчания, последовавшего за смертью его друга и покровительницы леди Грегори.
Гора Меру. — 1934. Впервые: 1934.
Ушко иглы. — Впервые: 1934. Стихотворение Йейтса связано с его увлечением индийской философией, в частности с его впечатлением от книги Шри Пурохит Свами.
Из «Последних стихотворений»
В этот раздел входят стихи как подготовленные к печати самим поэтом и опубликованные при его жизни (Новые стихотворения. 1938), так и опубликованные после его смерти (Последние стихотворения и две пьесы. «Куала пресс», 1939).
Ляпис-лазурь. — 1936. Впервые: 1938.
Три куста. — 1937. Впервые: 1938. Баллада возникла из переписки с другом Йейтса, английской поэтессой Дороти Уэлсли, в процессе литературной игры и перекрестного редактирования. «Ангел милый! Какой был восторг — сознавать, переписывая балладу, что эти стихи ваши. Мы оба были победителями и побежденными, так что мне припомнились Голубка и феникс (стихотворение, приписываемое Шекспиру, в котором воспевается платоническое единение влюбленных. — Г. К.)» (Из письма к Д. Уэлсли 21 июля 1936 г.). Йейтс написал еще шесть небольших стихотворений в дополнение к балладе: три песни Дамы, песню Влюбленного и две песни Служанки.
Песня влюбленного. — 1936. Впервые в НС. Три песенки госпожи и одну песню Влюбленного Йейтс «добавил» к своей балладе «Три куста» в процессе творческой переписки с Дороти Уэлсли.
Клочок лужайки. — 1936. Впервые: 1938. В первой строфе Йейтс описывает дом в Риверсдейле (графство Дублин), куда его семья переехала в 1932 году. «Мы сняли его на 13 лет, — писал он Оливии Шекспир, — хоть мне столько и не протянуть… По крайней мере, дети успеют получить образование и завести друзей, пока этот дом наш».
Олимпийское племя. — Впервые в НС. В оригинале называется «Beautiful Lofty Thing» («Все прекрасное и возвышенное») по первым словам стихотворения.
Проклятие Кромвеля. — 1937. Впервые: 1937. Карательный поход Оливера Кромвеля (1599–1658) в Ирландию в 1650 г. остался в памяти поколений. И столетия спустя ирландские матери пугали детей его именем. Кроме жестокостей и казней, следует отметить и тяжелый удар, нанесенный наследственной ирландской аристократии, — у нее была конфискована большая часть земель. За этим следовали закрытие бардических школ, закат поэтической традиции. В письме к Дороти Уэлсли 8 января 1937 г. Йейтс сообщал, что пишет о Кромвеле, «который был Лениным своего времени»: «Я говорю устами ирландского странствующего барда».
О’Рахилли. — 1937. Впервые: НС.
Песня парнеллитов. — 1936. Впервые: 1937.
Буйный старый греховодник. — 1937. Впервые: 1938. В этой балладе, написанной, по мнению ряда комментаторов, для леди Элизабет Пэлем, Йейтс вновь примеряет маску бродячего певца, состарившегося, но не сломленного временем.
Водомерка. — 1938. Впервые: ПС.
Великий день. — 1937. Впервые: 1938 в цикле, озаглавленном «Фрагменты», со следующим стихотворением и еще двумя другими.
Шпоры. — 7 октября 1936. Впервые: 1938.
Джон Кинселла за упокой миссис Мэри Мор. — 1938. Впервые: 1938. Первое название: «Дюжий фермер обвиняет Смерть».
Высокий слог. — 1938. Впервые: 1938. Йейтс писал о 1890-х гг., что, когда они закончились, «нам всем пришлось слезть с ходуль».
Парад-алле. — 1938. Впервые: 1939.
Человек и Эхо. — 1938. Впервые: 1939.
Кухулин примиренный. — 1939. Впервые: ПС.
Черная башня. — 1939. Впервые: ПС. Последнее стихотворение Йейтса, окончательный текст датируется 21 января.
В тени Бен-Балбена. — 1938. Впервые: 3 февраля 1939 г., одновременно в «Айриш пресс», «Айриш таймз» и «Айриш индепендент».
ПЬЕСЫ
Графиня Кэтлин. — 1892–1916. Первый вариант, написанный в 1892 г., претерпел коренные изменения в 1895 г. и в дальнейшем перерабатывался еще несколько раз.
«Графиня Кэтлин» считается первой законченной и самостоятельной пьесой Йейтса. Но она была не первым его драматургическим опытом. До нее написано еще несколько пьес («Остров статуй», «Искатель», «Время и волшебница Вивьен»), которые обычно не включаются в собрание пьес Йейтса. «Графиня Кэтлин» занимает особое место в его драматическом наследии и потому, что она посвящена Мод Гонн и была первой пьесой, поставленной 8 мая 1889 г. в основанном Йейтсом и его друзьями Литературном театре в Дублине (из которого потом возник Ирландский национальный театр — Театр Аббатства).
Постановка пьесы сопровождалась скандалом: автора обвинили в богохульстве и антипатриотизме; но в конце концов защитники пьесы одержали победу.
Одним из яростных защитников пьесы был молодой студент Джеймс Джойс, который через десять лет в Триесте предпринял попытку перевести пьесу на итальянский язык (в сотрудничестве со своим итальянским другом). Перевод Джойса был послан Йейтсу на одобрение; но к тому времени автор так сильно переработал пьесу, что не мог одобрить публикацию старого варианта.
На королевском пороге. — 1903. Премьера прошла в Театре Аббатства в октябре 1903 г. Способ, которым Шонахан хочет отомстить обидчику, — умереть голодной смертью на его пороге, — действительно существовал в древней Ирландии. Йейтс считал, что его пьеса ввела голодовку в арсенал современной политической борьбы.
Ястребиный источник. — 1917. Премьера состоялась в частном доме — в лондонском особняке леди Кьюнард 2 апреля 1916 г., на ней присутствовал цвет столичной интеллигенции. Постановка первой «пьесы для танцовщиков» была очень важным событием для Йейтса, мечтавшего положить начало новому поэтическому театру. Однако его удовлетворило только оформление Эдмунда Дюлака (выступавшего также в качестве актера-музыканта) и исполнение танцевальной партии Ястреба молодым японским танцовщиком Митио Ито. Это одна из пьес «Кухулинского цикла», однако сюжет целиком принадлежит Йейтсу. Только в самом конце упоминание о королеве-воительнице Айфе и отце Кухулина Суалтаме связывает эпизод у источника с сагами о Кухулине.
Единственная ревность Эмер. — 1919. Пьеса была опубликована в 1919 г. и предназначалась, как и предыдущая, для постановки в частном доме. Однако впервые (1922) ее поставили в театре в Амстердаме, а режиссером был молодой, впоследствии известный актер Альберт Ван Далсум. Йейтс, которому были посланы фотографии сцен из спектакля, остался очень доволен (особенно ему понравились маски), и это побудило его создать вариант пьесы для обычной сцены: он был назван «Битва с волнами» и поставлен в Театре Аббатства в 1929 году. Сюжет пьесы представляет собой вольную обработку саги «Болезнь Кухулина».
Чистилище. — 1939. Пьеса впервые поставлена в Театре Аббатства 10 августа 1938 г. Художником спектакля была Энн Йейтс, дочь поэта. Это последняя пьеса Йейтса, поставленная при его жизни.
Смерть Кухулина. — 1939. Пьеса заключает «Кухулинский цикл», в который входят пять драматических произведений Йейтса: помимо вошедших в настоящее издание — пьесы 1900-х гг. «На берегу Байле» и «Золотой шлем» (второй, переработанный, вариант — «Зеленый шлем»). Из всех пьес цикла «Смерть Кухулина» наиболее близка к первоисточнику — к одноименной саге. В то же время Йейтс стягивает здесь все важнейшие нити, связывающие созданный им цикл, выводит на сцену персонажей из предыдущих пьес. Это во всех отношениях итоговое произведение Йейтса.
Григорий Кружков
1
Отрывки из предисловия к проекту полного собрания сочинений, оставшемуся неосуществленным.
(обратно)2
Рэли Уолтер (1552–1618) — английский поэт, воин и мореплаватель. Автор знаменитого стихотворения «Ложь».
(обратно)3
Аркадия — область в Пелопоннесе, традиционный фон древнегреческих пасторалей и идиллий.
(обратно)4
Нетрудно звезды перечесть… — В книге «Размышления о детстве и юности» Йейтс вспоминает, как еще в школе он возненавидел науку «обезьяньей ненавистью».
(обратно)5
И вещего друида под сосной, / Что Фергуса в лохмотья снов облек… — см. дальше стихотворение «Фергус и друид».
(обратно)6
Эрин — поэтическое имя Ирландии, восходящее к имени богини Солнца у кельтов.
(обратно)7
Король над королями Красной Ветви — это название (по типу рыцарей Круглого стола) связано с пиршественным домом Ульстерских королей в Эмайн-Махе, построенным из красного тиса.
(обратно)8
Сын Уснеха погиб. — Сын Уснеха, погибший из-за любви к Дейрдре, дочери короля Конхобара, — Найси. Сага о Дейрдре стала темой пьесы Йейтса, это имя упоминается во многих его стихах.
(обратно)9
Дэвис Томас (1814–1845) — поэт и журналист патриотического направления, лидер партии «Молодая Ирландия».
Мэнган Джеймс Кларенс (1803–1849) — ирландский поэт-романтик, автор ряда хрестоматийных стихов об Ирландии.
Фергюсон Сэмиел (1810–1886) — поэт, перекладывавший в баллады старинные ирландские легенды.
(обратно)10
Сиды (по-ирландски произносится «ши») — духи, в древних легендах выступавшие как божества одного пантеона и одного рода («дети богини Дану»), в XIX в. низведенные народным воображением до уровня обычной «нечистой силы» — фей, домовых, леших и т. п.
(обратно)11
Нок-на-Рей (Нокнарей) — гора в графстве Слайго (букв. «гора королей»), на вершине которой высится мегалитический каменный памятник (кромлех). Здесь, по преданию, была похоронена легендарная королева Мэйв.
(обратно)12
Клот-на-Бар — «Старуха из Берри», фольклорный образ волшебницы. В примечании к стихотворению Йейтс пишет, что она скиталась повсюду, ища озера достаточно глубокого, чтобы утопиться, и наконец нашла его в графстве Слайго (Лох-Дагей, «Озеро двух гусей»).
(обратно)13
Кайлте (Килти) — воин из дружины легендарного короля Финна. В одной из саг появляется как фигура с пылающими волосами, освещающая отряду путь сквозь ночной лес.
(обратно)14
Ниав (Ниам) — сида, увлекшая Ойсина в страну вечной молодости.
(обратно)15
Дети Даны — племя богини Даны (Туата де Данаан) — клан древних ирландских богов, с течением веков оттесненных в народном сознании в разряд духов — сидов.
(обратно)16
Энгус — ирландский бог любви, а также распространенное имя. Кто герой этого стихотворения, влюбленный бог или простой бродяга, зависит от интерпретации.
(обратно)17
Светясь, как яблоневый цвет — деталь, устойчиво связываемая Йейтсом с Мод Гонн.
(обратно)18
Белая лань безрогая — образ преследуемой женской любви. Мужская любовь изображается (эти персонажи взяты из кельтского фольклора) в виде гончего пса с одним красным ухом; к сожалению, эта последняя деталь выпала из перевода.
(обратно)19
Кабан Без Щетины — эсхатологический образ, связанный с ирландским поверьем о великой битве в Долине Черного Кабана, в которой погибнут все враги Ирландии.
(обратно)20
Деревушка Дууни расположена на берегу озера Лох-Гил в графстве Слайго.
(обратно)21
Кильварнет, Макарабви — деревни в графстве Слайго.
(обратно)22
Улады — жители Ольстера, одной из древних «пятин» Ирландии.
(обратно)23
Месгедра — король уладов, отец Байле; матерью же Байле была богиня Буан.
(обратно)24
Лугайд — король Мунстера, другой ирландской «пятины».
(обратно)25
Куальнгский бык — своего рода яблоко раздора (как в истории Елены Троянской), из-за которого разгорелась война, описанная в величайшей из ирландских саг «Бурый бык из Куальнге».
(обратно)26
Эмайн — Эмайн-Маха — столица Ольстера.
(обратно)27
Пес Уладов — прозвание Кухулина. В юности он случайно убил пса Кулана и решил отслужить хозяину в качестве пса. Отсюда его прозвище: Пес Кулана (Кухулин) и Пес Уладов.
(обратно)28
Дочь певца — Дейрдре, героиня ирландской легенды. Она полюбила Найси и убежала с ним, хотя и была сговорена королем Конхобаром. После долгих странствий они вернулись на родину, поверив обещаниям короля. Найси был предательски убит, а Дейрдре вскоре покончила жизнь самоубийством.
(обратно)29
А он стоял, преображен… — Старик, устроивший козни против влюбленных, оказался богом Энгусом.
(обратно)30
Чьи струны Этайн… — Этайн — жена короля сидов Мидира, похищенная Энгусом.
(обратно)31
Финдрия, Фалия, Гурия и Мурия — согласно комментарию Йейтса, четыре таинственных города, в которых жили дети богини Даны (божественные племена, некогда населявшие Ирландию), города — средоточья высшего знания, где хранились четыре заветных талисмана: копье, камень, котел и меч.
(обратно)32
Бой у брода — бой Кухулина и Фердиада в «Буром быке из Куальнге».
(обратно)33
Пусть птицы и тростник всю ночь… — Здесь лирически противопоставляются утоленная любовь и любовь неутоленная, сбывающаяся лишь в ином, нездешнем мире. Дейрдре — образ любви все же сбывшейся, хотя и трагической; образ Айллин — любви несбывшейся. Оплакивая Дейрдре (вместе с Кухулином), поэт возвеличивает свою недостижимую возлюбленную («ты и прекрасней, и мудрей, / Ты выше сердцем, чем она»), соотнося ее с Айллин, — а себя, соответственно, с Медоречивым Байле. Недостижимая любовь — это, конечно, Мод Гонн, к ней и обращена концовка поэмы.
(обратно)34
О’Лири Джон (1830–1907) — член ирландской тайной организации фениев, арестованный в 1865 г., приговоренный к двадцати годам каторги, из которых он отбыл пять, с заменой оставшегося срока на изгнание из страны. Йейтс познакомился с ним вскоре после возвращения О’Лири на родину в 1885 г. Добавим, что строка, переданная в переводе как «мечты ирландской больше нет», в оригинале читается «романтической Ирландии больше нет», ибо О’Лири олицетворял для Йейтса весь романтизм ирландской души и ирландской истории.
(обратно)35
Но те — святые имена — борцы за свободу Ирландии. Йейтс имеет в виду прежде всего героев восстания 1798 г., которых он называет по именам в следующей строфе.
(обратно)36
Затем ли разносился стон /Гусиных стай в чужом краю? — После введения карательных законов 1691 г. десятки тысяч ирландцев бежали на континент и поступили солдатами в европейские армии. В Ирландии их называли «дикие гуси».
(обратно)37
Тон Теобальд Уолф (1763–1798) — основатель клуба «Объединенные ирландцы». Приговорен к смерти военным судом и покончил самоубийством в тюрьме.
(обратно)38
Эммет Роберт (1778–1803) — пытался поднять мятеж против англичан в 1803 г. Приговорен к смерти и повешен публично в Дублине.
(обратно)39
Из-за какой-то рыжей Кэт — подразумевается Кэтлин Ни Холиэн, т. е. сама Ирландия, в каждом новом поколении находящая своих защитников и мстителей.
(обратно)40
Уинди-Гэп (Ущелье ветров) — топоним, каких много в Ирландии.
(обратно)41
Отец наш Розенкрейц — Кристиан Розенкрейц, по преданию основавший в 1484 г. Орден розенкрейцеров, первое упоминание о котором относится к 1614 г. «Последователи отца Кристиана Розенкрейца, как говорит легенда, обернули его нетленное тело в благородные одежды и положили его под домом Ордена в гробнице, вмещавшей символы всего сущего на небе, и на земле, и под землей, в подземных водах, и зажгли рядом с ним неугасимые светильники, которые горели много поколений подряд, пока другие адепты Ордена случайно не обнаружили эту гробницу…» — Йейтс У. Б. Тело отца Кристиана Розенкрейца. 1901.
(обратно)42
Но дураки украли… — ср. со стихотворением «Одному поэту, который предлагал мне похвалить весьма скверных поэтов, его и моих подражателей».
(обратно)43
Тритон — морской бог, сын Посейдона и Амфитриты, в садовой архитектуре обычно изображается существом с рыбьим хвостом, дующим в раковину.
(обратно)44
Соломон — царь Иудейский (972–932 до н. э.). История о Царице Савской, прослышавшей о мудрости Соломона и пришедшей испытать его загадками, повествуется в 3 Цар. (X: 1). Сава, или Савея, по мнению комментаторов, страна либо в Аравии, либо в Эфиопии. Любовь Соломона и Царицы Савской — популярный фольклорный сюжет.
(обратно)45
Оуэн Ахерн — персонаж, появляющийся в рассказах Йейтса рядом с магом Робартисом, благочестивый католик, которого Робартис старается вовлечь в свой мистический Орден Алхимической Розы. Вдвоем они представляют пару дополнительных масок. Как писал Йейтс в предисловии к книге, «они занимают свое место в фантасмагории, с помощью которой я пытаюсь объяснить свою философию жизни и смерти».
(обратно)46
Где мильтоновский размышлял философ — аллюзия на стихотворение Мильтона «Il Penseroso» и иллюстрацию к нему художника Сэмюела Палмера (1805–1881), названную «Одинокая башня».
(обратно)47
Принц Атанас — герой одноименной поэмы Перси Биши Шелли (1792–1822).
(обратно)48
Что, дескать, умер я… — так в рассказе Йейтса «Rosa Alchemica».
(обратно)49
Есть ровно двадцать восемь фаз луны… — Этот краткий экстракт из «Видения» производит впечатление и сам по себе, без знания его «системной» подоплеки. Например, фраза о том, что «Горбун, Святой и Шут идут в конце, / Перед затменьем», дает названия трех последних фаз Великого колеса, 26-й, 27-й и 28-й, в непосредственно убедительных образах старости, завершения жизненного круга. Читатель может воспринимать Горбуна как усталого человека, согнувшегося под бременем лет, памяти и т. д., Святого — как человека, изжившего свои желания, Шута — сразу в трех планах: 1) как объект насмешек (ср. с идеями Бахтина о карнавальном осмеянии старости), 2) как романтического героя, трагическим смехом реагирующего на «смешную и глупую шутку» жизни и смерти, и 3) как мудреца, готового к началу следующего круга перевоплощений.
(обратно)50
Миналуш — черный персидский кот Гоннов. Переводчик добавил мотив жениха и невесты, что кажется уместным в этом стихотворении, комментирующем (и отчасти пародирующем) все ту же теорию «лунных фаз».
(обратно)51
Пятнистая кошка — миссис Йейтс.
Зайчик ручной — Изольда Гонн. Как пишут комментаторы, после своей женитьбы в 1917 г. Йейтс по-прежнему ощущал тревогу за Изольду, почти отцовскую ответственность за ее судьбу.
(обратно)52
Она — Констанция Гор-Бут (1868–1932), в замужестве графиня Маркевич, принимавшая участие в восстании; была приговорена к смертной казни, замененной на тюремное заключение. Йейтс знал обеих сестер Гор-Бут, Еву и Констанцию, в молодости и бывал в их имении в Лиссаделе.
(обратно)53
Бен-Балбен — гора к северу от Слайго, под которой ныне находится могила Йейтса.
(обратно)54
Навстречу ветру гнавшую коня — Констанция Гор-Бут обожала ездить верхом; про нее даже говорили, что она лучшая наездница во всей Ирландии.
(обратно)55
Все шире — круг за кругом — ходит сокол, / Не слыша, как его сокольник кличет… — Этот образ приводит на память полет змея Гериона, переносящего Данта и Вергилия в восьмой круг ада. Интересно, что тот же самый эпизод привлек внимание О. Мандельштама в его книге «Разговор о Данте»: «Маневры Гериона, замедляющего спуск, уподобляются возвращению неудачно спущенного сокола, который, взмыв понапрасну, медлит вернуться на зов сокольничьего…»
(обратно)56
Spiritus Mundi — Мировая Душа, хранилище образов, не принадлежащих никакой отдельной личности.
(обратно)57
Лососи в горлах рек… — Зрелище лососей, стремящихся вверх по течению на нерест, запомнилось Йейтсу еще по детским годам в Слайго.
(обратно)58
О мудрецы… — великомученики на фризе церкви Св. Аполлинария в Равенне.
(обратно)59
Развоплотясь, я оживу едва ли… о прошлом, настоящем и грядущем… — Комментарий Йейтса: «Я где-то прочел, что во дворце византийского императора было дерево, сделанное из золота и серебра, и на нем пела механическая птичка». Весьма вероятно также, что в этом образе смешались впечатления от сказки Андерсена «Соловей» и «Оды к Соловью» Джона Китса.
(обратно)60
Молэ Жак де (1244–1314) — Великий Магистр могущественного Ордена Храма, сожженный в Париже после семилетнего процесса и проклявший с костра короля Франции и папу римского. Существует предание, что Французская революция — месть тайных сторонников Жака де Молэ.
(обратно)61
И хор умолк златых цикад и пчел. — Здесь имеются в виду брошки и заколки для волос, о которых писал историк Фукидид.
(обратно)62
Лой Фуллер (1862–1928) — американская танцовщица, выступавшая в Фоли-Бержер в 1890-х гг. О ней писал Малларме, и ее рисовал Тулуз-Лотрек.
(обратно)63
Платонов (или Великий) Год — время, за которое все созвездия вернутся к положениям, которые они занимали при начале мира, тем самым воспроизведя первоначальную карту неба. Понятие, основанное на идеях и вычислениях Платона.
(обратно)64
Высмеем, так уж и быть, / Вечных насмешников… — ср. со стихотворением Блейка: «Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau…» («Смейтесь, смейтесь, Вольтер, Руссо…»).
(обратно)65
Дочери Иродиады… — В комментариях к «Воинству сидов» Йейтс писал, что ирландские духи — сиды — скачут верхом на ветре, и в Средние века смерчи пыли на дорогах называли пляской дочерей Иродиады.
(обратно)66
Роберт Артисон (сын Арта) — согласно хроникам XIV в., демон-инкуб, совративший леди Алису Кителер из Килкенни. Среди обвинений, предъявленных ей и другим «колдуньям-еретичкам», значилось: «Они приносили в жертву демонам животных, которых разрубали заживо и разбрасывали на перекрестках дорог для некоего злого духа низшего ранга именем сын Арта».
(обратно)67
Леда — дочь царя Фестия из Этолии, отданная в жены Тиндарею, изгнанному королю Спарты. Детьми Леды были близнецы Диоскуры, Клитемнестра и Елена Прекрасная. Последняя родилась от Зевса, который увидел Леду во время купания и соединился с ней в образе лебедя. Елена Прекрасная стала причиной Троянской войны (и всех последующих трагических событий) — тема, чрезвычайно важная для Йейтса как в историческом, так и в личном плане, ведь Елена ассоциировалась для него с Мод Гонн.
(обратно)68
Эдмунд Дюлак (1882–1953) — английский художник, иллюстрировавший несколько книг Йейтса, а также оформивший постановку его пьесы «Ястребиный источник».
(обратно)69
Семь Эфесских сонь — семеро юношей-христиан из Эфеса, которые спаслись от преследований в дни императора Деция в пещере возле города и проспали там 200 лет, до времени правления императора Феодосия (средневековая легенда).
(обратно)70
Раскинься же вольней и спи, как вещий Крон, / Без пробуждения… — По-видимому, отзвук поэмы Джона Китса «Гиперион», которая начинается с описания спящего Сатурна (Крона), поверженного в борьбе с олимпийскими богами и не желающего просыпаться.
(обратно)71
Мне грезится — лебяжья белизна… В желток с белком единого яйца. — В этой строфе Йейтс вспоминает о Мод Гонн, делившейся с ним когда-то своими детскими обидами.
(обратно)72
…желток с белком единого яйца — иронический намек на известную теорию любви, изложенную в диалоге Платона «Пир».
(обратно)73
Хоть Леда мне родней не доводилась — намек на Мод Гонн, которую Йейтс приравнивал в стихах к Елене Прекрасной (дочери Зевса и Леды).
(обратно)74
Чучело на палке — характерный йейтсовский символ старости. Ср. «Плавание в Византию» и дальше в этом же стихотворении: «Старье на палке — воробьев пугать».
(обратно)75
Вступи в потемки лестницы крутой… — имеется в виду узкая винтовая лестница в стене Тур-Баллили.
(обратно)76
Меч рода Сато — средневековый самурайский меч, подаренный Йейтсу японцем Юнзо Сато во время его лекционного тура в США. Йейтс долго не решался принять наследственный меч и в конце концов принял с условием, чтобы по его завещанию реликвия снова вернулась в семью Сато.
(обратно)77
…от преступлений смерти и рожденья. — Душа Поэта, кажется, исповедует буддистскую доктрину о преступности всякого действия и о выходе из кармического круга как о высшей цели.
(обратно)78
Монташиги Бисю Осафуми (1394–1428) — японский мастер-оружейник, изготовивший меч Сато.
(обратно)79
Был в Александрии маяк знаменитый. — Фаросский маяк, одно из семи чудес света.
(обратно)80
И Шелли башни свои… возводил. — Шелли был с юности одним из любимых поэтов Йейтса.
(обратно)81
Голдсмит и Свифт, Беркли и Бёрк — люди, которых Йейтс считал своими духовными предками. Голдсмит Оливер (1728–1774) — англо-ирландский поэт. Свифт Джонатан (1667–1753) — английский писатель и поэт, настоятель собора Св. Патрика в Дублине. Беркли Джордж (1685–1753) — ирландский философ, епископ Клойнский. Бёрк Эдмунд (1729–1797) — английский парламентарий, публицист.
(обратно)82
Яростное негодованье — по-латыни: saevo indignatio — слова из автоэпитафии Свифта («яростное негодование не терзает больше его сердце…»).
(обратно)83
На пыльных стеклах… — Йейтс описывает верхний этаж башни, так и оставшийся неотремонтированным и нежилым. Ночные бабочки проникали туда сквозь щели-амбразуры и гибли, ударяясь о стекла окон.
(обратно)84
Вслед за соборным гулким гонгом. — Йейтс написал слово «гонг» карандашом на полях книги «Век Юстиниана и Теодоры» напротив текста: «При ударах большого „семантрона“ — звучной доски, висящей у входа во всякий храм, по которой бьет дьякон».
(обратно)85
Так в смерти жизнь и в жизни смерть живет. — Восходит, вероятно, не столько к «Сказанию о старом мореходе» Кольриджа (призрак, зовущийся Смерть-в-жизни), сколько к диалектике Гераклита: «воздух умирает — вода рождается, вода умирает — земля рождается» и т. д.
(обратно)86
Плутонов петушок — здесь и в других местах Йейтс ассоциирует петуха с волшебством и подземным царством мертвых.
(обратно)87
II. Есть дерево… — Дерево, наполовину в пламени, наполовину в свежих зеленых листьях, пришло в стихотворение из свода валлийского эпоса «Мабиногион». Здесь, возможно, символ двойственной (рациональной и экстатической) природы творчества.
(обратно)88
Аттиса изображенье — вероятно, символ самоотречения. Аттис, сын богини земли Кибелы, в припадке священного безумия кастрировал себя.
(обратно)89
IV. Полвека — славный перевал. — Полвека Йейтсу исполнилось в 1915 г. В прозаическом эссе «Anima Mundi» поэт описывает тот же самый эпизод в кафе.
(обратно)90
VI. Владыка, описанный в этом разделе, условный. Некоторые комментаторы думают, что Джу (или Чу) — царь китайской династии Чу (XII в.).
(обратно)91
VII. В письме к О. Шекспир 3 января 1932 г. Йейтс писал: «Я останусь грешным человеком до конца и на смертном одре буду думать о ночах, которые растратил в юности».
(обратно)92
Исайи угль — жар пророка и одновременно символ очищения («угль, пылающий огнем»).
(обратно)93
VIII. Фон Гюгель, барон Фридрих (1852–1925) — автор книги «Мистический элемент в религии», утверждавший, что только христианин обладает истинно художественным видением.
(обратно)94
Св. Тереза (1515–1582) — испанская монахиня-кармелитка. Рассказывают, что, когда ее гробница была открыта, тело святой лежало в сгнившем гробу нетронутое тлением, источая благоухающее масло и запах фиалок. Йейтс прочел несколько книг о ней, включая «Жизнь святой Терезы» леди Ловат (1911).
(обратно)95
Не та ли здесь рука… — Йейтс выдвигает свою версию чуда: почему духи древнеегипетских бальзамировщиков не могли явиться, чтобы совершить ради святой ту же работу, что они совершали ради фараона?
(обратно)96
Из мощи — сласть… — намек на эпизод из Книги Судей, когда Самсон победил льва, а потом задал загадку филистимлянам: «Из ядущего вышло едомое, из сильного вышло сладкое» (мед, который сделали пчелы в трупе льва). Во времена Йейтса некая предприимчивая фирма использовала эту фразу для рекламы своего «Золотого сиропа»: на банках были нарисованы лев и пчелы с надписью «из сильного — сладкое».
(обратно)97
Я распинался пред толпой… — вероятно, воспоминание о своем участии в национально-патриотическом движении в первые годы после знакомства с Мод Гонн.
(обратно)98
Легендарный Персей иль Георгий. — Герой Персей, сын Зевса и Данаи, убил дракона и освободил Андромеду; «Святой Георгий и дракон» — один из наиболее популярных сюжетов христианской живописи.
(обратно)99
Но храм любви стоит, увы, / На яме выгребной. — У Блейка в поэме «Иерусалим» есть слова: «Ибо я сделаю место их любви и радости местом выбросов (экскрементов)».
(обратно)100
Сном таким, какой сковал / Крылья лебедя… — см. примечание к стихотворению «Леда и лебедь».
(обратно)101
Туллий — Марк Туллий Цицерон (106-43 до н. э.), римский оратор и писатель.
Назон — Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.), римский поэт.
(обратно)102
Что меня с толку-разуму сбило… — Том из Бедлама в старинной балладе объясняет, что его «с толку-разуму» сбила любовь. Йейтс полемически предлагает вместо любви — время.
(обратно)103
Хаддон и Даддон и Дэнил О’Лири — имена трикстеров из ирландских сказок, которых Йейтс упоминает в своей книге «Видение».
(обратно)104
Меру — Эверест, величайшая вершина Гималаев, на границе Тибета и Непала. Йейтс написал предисловие к книге индийского монаха-проповедника Шри Пурохит Свами «Священная гора».
(обратно)105
Гарри Клифтон — знакомый Йейтса, приславший ему на день рождения в июле 1935 г. настольное украшение из ляпис-лазури (Китай, XVIII в.), изображающее «гору с храмом на вершине, деревья, тропу и идущих вверх монаха-отшельника с учеником».
(обратно)106
Каллимах (V в. до н. э.) — греческий скульптор, по преданию, изобретатель коринфской капители, о котором Йейтс читал у Павсания в «Описании Греции».
(обратно)107
Тимон — см. трагедию Шекспира «Тимон Афинский».
(обратно)108
Блейк Уильям (1757–1827) — поэт и художник, один из главных духовных предков Йейтса. Любопытно, что Йейтс даже считал его (на основании весьма шатких свидетельств) ирландцем по отцу.
(обратно)109
Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — итальянский скульптор, художник и поэт. К числу его главных работ относятся роспись потолка Сикстинской капеллы в Риме (1508–1512) и фреска Страшного суда на восточной стене той же капеллы (1535–1541), на которых он «прорвал пелену небес» и «глубины ада разверз».
(обратно)110
Джон О’Лири — см. примечание к стихотворению «Сентябрь 1913 года».
(обратно)111
…голос отца, / Со сцены Аббатства обращающегося к разъяренной толпе… — Случай, произошедший во время публичной дискуссии по поводу беспорядков во время представления пьесы Дж. М. Синга «Повеса с Запада» (1917).
(обратно)112
Стендиш О’Грейди (1846–1928) — ирландский историк, автор книги «История Ирландии: Героический период» (1878), оказавшей большое влияние на формирование ирландского национального возрождения.
(обратно)113
Старая леди Грегори… — имеется в виду эпизод из времен гражданской войны, когда в ответ на угрозы одного озлобленного арендатора убить ее она подсказала ему, как удобней всего это сделать.
(обратно)114
Мод Гонн / На маленькой станции… — воспоминание о совместных прогулках с Мод Гонн в Гоуте (гористый полуостров в получасе езды от Дублина; в оригинале сказано: «на станции в Гоуте»), где в 1891 г. Йейтс впервые сделал ей предложение.
(обратно)115
Как мальчику-спартанцу лисенок грыз живот… — История спартанского мальчика, который украл лису и, чтобы не сознаваться в преступлении, дал ей изгрызть свой живот, но не выдал боли, взята из «Жизнеописаний десяти ораторов» Плутарха.
(обратно)116
О’Рахилли (1875–1916), о котором идет речь, был убит во время Пасхального восстания на Генри-стрит, недалеко от Центрального почтамта. Он был главой клана О’Рахилли в графстве Керри (отсюда артикль ‘the’, который в Ирландии служит как бы титулом — «the O’Rahilly») и выступал против восстания, предвидя его неудачу. Когда же оно все-таки началось, он велел своим людям оставаться на месте, а сам прибыл в Дублин, чтобы разделить участь восставших.
(обратно)117
Парнеллиты — сторонники Парнелла, те, что поддержали его во время раскола в Ирландской партии и защищали его честь даже после его смерти.
(обратно)118
Парнелл Чарльз Стюарт (1846–1891) — выдающийся политический деятель, лидер Ирландской парламентской партии.
(обратно)119
По милой он тужил. — Парнелл любил замужнюю женщину, миссис Китти О’Ши. В результате бракоразводного дела, затеянного ее мужем, капитаном О’Ши в 1890 г., поднялся скандал, раздутый клерикальными кругами и всеми политическими противниками Парнелла, что привело через год к его безвременной смерти. Йейтс, как явствует, например, из его автобиографической книги, относил себя к «парнеллитам».
(обратно)120
Цезарь Гай Юлий (102-44 до н. э.) — римский император и полководец. Впрочем, здесь «великий Цезарь» может обозначать любого римского принцепса, сражавшегося с варварами, так как имя Цезаря стало императорским титулом.
(обратно)121
Чтобы явился первый Адам… — имеется в виду изображение Адама на потолке Сикстинской капеллы. См. примечание к стихотворению «Клочок лужайки».
(обратно)122
Джон Кинселла и Мэри Мор — вымышленные персонажи.
(обратно)123
Я вновь стучу молотком — поэт вновь ладит себе ходули под старость. По-видимому, Йейтс имеет в виду создание своей поэтической мифологии.
(обратно)124
Осталось вспоминать былые темы… — В этой строфе Йейтс вспоминает свою поэму «Странствия Ойсина» (1889).
(обратно)125
Графиня Кэтлин начала мне сниться. — Пьеса «Графиня Кэтлин» (первый вариант — 1892) была написана специально для Мод Гонн.
(обратно)126
А там — Кухулин, бившийся с волнами, /Пока бродяга набивал мешок. — Кухулинский цикл пьес включает четыре пьесы — от «На берегу Байле» (1904) до «Смерти Кухулина» (1939). В первой из них двое бродяг — Слепой и Дурак — занимаются воровством, пока обезумевший Кухулин сражается с волнами.
(обратно)127
Я ли пьесою своей… — Пьеса Йейтса «Кэтлин Ни Холиэн», поставленная в Дублине в 1902 г. с Мод Гонн в главной роли, имела огромный эффект. По воспоминаниям современников, зрителям хотелось идти на улицу сражаться за Ирландию. Патриотическая агитация, к которой приложил руку и Йейтс, в конечном счете привела к Дублинскому восстанию и ненужным жертвам.
(обратно)128
Я ли невзначай разрушил / Бесполезной прямотой / Юной жизни хрупкий строй? — Йейтс имеет в виду эпизод с Марго Коллис (Раддок), молодой поэтессой с весьма неустойчивой психикой, которая приехала к Йейтсу показать свои стихи. Затем она уехала в Барселону, где пряталась в трюме какого-то корабля, потом ходила всюду, распевая свои стихи, и наконец повредила ногу, выпрыгнув из окна. Йейтс с женой прибыли в Барселону по просьбе британского консула для принятия посильного участия (в частности, финансового) в судьбе Марго. Через год он написал предисловие к сборнику ее стихов, изданных в Англии, «Лимонное дерево» (1937).
(обратно)129
Я ль не мог спасти от слома / Стены дружеского дома?.. — По-видимому, Кул-Парк, жилище леди Грегори, которое было продано вскоре после ее смерти в 1932 г. и обречено на слом. Фактически дом был снесен в 1942 г. На его месте сейчас ровная площадка. Мемориальный парк открыт для посетителей, которые могут прочесть на стволе огромного красного бука инициалы Йейтса и его друзей, глубоко врезанные в кору.
(обратно)130
Это стихотворение — как бы эпилог к пьесе Йейтса «Смерть Кухулина». В последней неравной битве древнеирландский герой Кухулин получает шесть смертельных ран и привязывает себя к скале, чтобы умереть стоя. Он говорит о том образе, что примет после смерти: «Пернатый, птичий образ, осенивший / Мое рожденье, — странный для души / Суровой и воинственной». Ремарка в конце пьесы гласит: «Тишина, в тишине несколько слабых птичьих трелей». Вся система образов явилась поэту во сне. По свидетельству жены, он продиктовал ей прозаический набросок стихотворения в 3 часа утра 7 января 1939 г.
(обратно)131
Ушко иглы — ассоциируется у Йейтса с механизмом перерождения (реинкарнации).
(обратно)132
Мы трусы… — Возможно, трагическая ирония заключена в том, что герою после смерти достается общество трусов.
(обратно)133
Стоя в могилах, спят мертвецы. — В древней Ирландии существовал обычай хоронить королей и вождей, павших в битве, стоя, лицом к вражеской земле.
(обратно)134
То, чего аскет искал /Возле Фиваидских скал. — Окрестности египетских Фив во времена около IV в. н. э. были областью многочисленных христианских монастырей и отшельнических скитов.
(обратно)135
Атласская колдунья — имеется в виду поэма П. Б. Шелли «Атласская колдунья». Шелли был одним из любимых поэтов Йейтса.
(обратно)136
Тот, кто молвил в старину: / «Боже, ниспошли войну!» — имеется в виду Джон Митчелл (1815–1875), борец за свободу Ирландии, основатель журнала «Объединенные ирландцы». В его «Тюремном журнале» (1854) есть запись, пародирующая привычные слова молитвы «Ниспошли нам мир, Господи» — «Ниспошли войну, Господи».
(обратно)137
Калверт Эдвард (1799–1883) — английский художник, предтеча символистов.
Вильсон Джордж (1848–1890) — художник-прерафаэлит. Хотя остается не вполне ясным, его ли имел в виду Йейтс или кого-то из его более ранних однофамильцев.
Лорен Клод (1600–1682) — французский художник, высоко чтимый символистами автор пейзажей с античными руинами.
(обратно)138
Она покоится в гранитном склепе / На ледяной вершине Нокнарей. — На высокой горе Нокнарей к югу от Слайго до сих пор находится могила королевы Мэв (Мэйв) — мегалитический дольмен, засыпанный курганом из камней. В XIX в. местные жители ее считали королевой фей или сидов (ирландских духов), позднее идентифицировали с королевой Мейв древнеирландских саг.
(обратно)139
Бард Шонахан и король Гуаири — лица исторические, персонажи многих ирландских историй и сказок.
(обратно)140
Кинвара — портовый город в 7 милях от Горта.
(обратно)141
Горт — во времена Йейтса небольшой городок в графстве Голлуэй на западе Ирландии, неподалеку от усадьбы леди Грегори и Тур-Баллили.
(обратно)142
Осгар — сын Ойсина, внук Финна, предводителя фениев.
(обратно)143
Грания (Грайне) — персонаж саги «Преследование Диармайда», дочь Кормака, которую просватал Финн; но она убежала вместе с молодым воином Диармайдом со свадебного пира. Много лет они скитались по лесам, преследуемые местью Финна, пока наконец Диармайд не был убит с помощью обмана и предательства. По одной из версий легенды, Грания смирилась с судьбой и ушла жить с Финном и фениями.
(обратно)144
Кухулин, сын Суалтама. — История рождения Кухулина весьма запутанна. Ясно только, что, когда Дехтире, сестра короля Конхобара, была выдана замуж за Суалтама, сына Ройга, она уже была беременна — вероятно, от бога Луга (Луга Длинной Руки), проникшего в нее в виде маленького зверька вместе с питьем.
(обратно)145
Айфа (Айфе) — королева-воительница, которую Кухулин победил в поединке и от которой имел сына.
(обратно)146
Эмер — жена Кухулина, дочь Форгала. В саге «Сватовство к Эмер» невеста Кухулина описывается так: «Шесть даров было у нее: дар красоты, дар пения, дар сладкой речи, дар шитья, дар мудрости и дар чистоты».
(обратно)147
Сегодня на совете королей / Он встретил юношу… — Кухулин не узнал своего сына от королевы Айфы и убил его в поединке. Этот сюжет разработан Йейтсом в пьесе «На берегу Байле» (1904).
(обратно)148
Байле — жених Айллин. На тему саги о трагической любви и смерти Байле и Айллин написана одноименная поэма Йейтса (1901).
(обратно)149
Мананнан, сын Лира — бог моря у ирландцев.
(обратно)150
Фанд. — Имя этой сиды, влюбленной в Кухулина, упоминается только в саге «Болезнь Кухулина».
(обратно)151
Тертуллиан (ок. 160 — после 220 н. э.) — христианский теолог и писатель.
(обратно)152
Тальма, Франсуа-Жозеф (1763–1826) — французский актер-трагик, любимый актер Наполеона.
(обратно)153
«Комос» — пьеса-маска Мильтона, представленная 29 сентября 1634 г. в замке Ладлоу.
(обратно)154
Была у меня раньше одна такая… — комическая плясунья, трагическая плясунья… — Нинетт де Валуа (наст. имя Идрис Станнус, 1898-?) — английская танцовщица и хореограф, участвовала в постановке пьесы Йейтса «Битва с волнами» (1929). Пьеса «Король Большой часовой башни» была написана Йейтсом специально для нее. В 1923–1925 гг. — солистка Русского балета Дягилева.
(обратно)155
Мэйв — королева Коннахта, враждебная уладам, к которым принадлежал Кухулин.
(обратно)156
Эмайн-Маха — столица королевства уладов (т. е. Ольстера). Согласно хроникам, основана около 300 г. до н. э., разрушена в 230 г.
(обратно)157
Конноли и Пирс — герои 1916 г.
(обратно)158
И Шеппард статую воздвиг… — Статуя Оливера Шеппарда (1865–1941) «Кухулин», установленная в память Дублинского восстания 1916 г. в здании почтамта, сработана раньше — в 1911–1912 гг. Она изображает умирающего воина, привязавшего себя к скале, чтобы умереть стоя. На плече его сидит ворон.
(обратно)

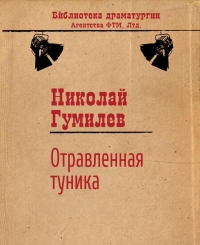




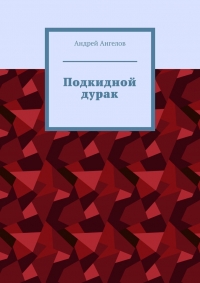

Комментарии к книге «Ястребиный источник», Уильям Батлер Йейтс
Всего 0 комментариев