Семен Злотников Божьи дела (сборник)
«Имя Семена Злотникова известно тем, кто любит театр. Потому что Злотников прежде всего блестящий драматург. Лауреат всероссийского конкурса драматургов «Действующие лица», дипломант многих театральных фестивалей, обладатель Первой премии на фестивале телевизионных фильмов в Варшаве (1992г.). Десятки пьес, сотни спектаклей по миру. Проза Семена Злотникова станет такой же культовой, как и его знаменитая пьеса «Пришел мужчина к женщине». Сочетание парадоксальности и глубины мысли, изобразительной точности и блестящего юмора – лишь малая часть определений метода автора. У него подобные эпитеты вызывают усмешку, потому что он по-настоящему счастлив, «когда, вдруг, почему-то почудится, что меня заметили там, на Небе…»
…В творчестве Семена Злотникова предпринята интересная попытка соединить драматизм повседневности, тончайший психологизм и неуловимую атмосферность, свойственные драматургии Чехова, с неистовством высоких шекспировских страстей».
Владимир Пахомов, режиссер«…Как жить? Злотников продолжает наилучшие традиции русской литературы. Там всегда появлялся этот единственный, по сути, простейший вопрос. Как-то я сравнивал Злотникова с Чеховым и назвал комедиями отчаяния его преисполненные грустью и при этом такие смешные пьесы. Они очень похожи на жизнь – какая нас ждет».
Яцек Вакар«Я с завистью думал о литературе, которая дает театру таких искушенных мастеров, как Злотников. Вроде бы ничего особенного, но если в это вслушаться, открываются все более глубокие слои значений. Не говоря уже о том, что в диалогах слышна вся русская традиция с единственной в своем роде композицией лиризма и комизма. Через него говорят все русские писатели».
Януш МайхерекБожьи дела поэма
«Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе…»
(Бытие, глава 22)1
Я бы много отдал, чтобы то, что случилось со мной, оказалось кошмарным сном, одной из придуманных мной же невероятных историй.
Придумать можно все что угодно, и совсем другое – пережить самому…
2
Однажды в Москве, на Тверской, в большом книжном магазине, куда я был приглашен на презентацию нового романа, у меня попросил автограф скромного вида монах с холодными, тусклыми, цвета болота глазами.
Почтительно склонившись, он протянул мне книгу.
Странно, удивился я собственной рассеянности, среди нескольких лиц в зале я не заметил служителя культа!
Хотелось домой к моему малышу, я устал, и мне было лень вступать с читателями в диалог, тем не менее я первый с ним и заговорил.
– Вам понравилась моя книга? – поинтересовался я из вежливости, торопливо расписываясь.
О, знать бы тогда, что за ящик Пандоры шутя открываю, – бежал бы, слова не говоря, от этого престранного существа в рясе!..
– Так вы не ответили, как вам роман? – с дурацкой настойчивостью я повторил вопрос.
Кто меня тянул за язык?..
Поскольку ответа опять не последовало, я поднял голову и неожиданно обнаружил на месте уродца… прелестное существо, точь-в-точь с холста Боттичелли, с золотыми локонами и глазами цвета морской волны; тонкий шелк небесных тонов обтекал ее гибкое тело, на мгновение мне показалось, она излучает свет…
Голова закружилась, меня захлестнуло волной никогда прежде не изведанного счастья.
Словно молния вдруг полыхнула внутри меня, высветив все мои предшествующие блуждания в поисках Абсолюта.
Идеал, что когда-то мерещился мне, спокойно стоял и одним своим видом свидетельствовал: вот я!
Воистину я себя ощущал нечаянно уцелевшим Адамом, наконец повстречавшим свою половину.
Опьянев от восторга, я уже рисовал нашу с ней жизнь в райском саду, где мы бы не старились и не дряхлели, не ведали суеты и не томились бездействием, не искали бы лучшей доли и не бежали бы в никуда…
– Лев Константинович, книгу позвольте! – услышал я будто издалека.
– А-а, это вы… – разочарованно пробормотал я, возвращая монаху роман…
3
Кажется, я еще расписался на скольких-то книгах, кого-то из вежливости выслушивая, кому-то автоматически кивая, потом еще долго добирался в пробках домой по заснеженной Москве.
Митя спал, Машенька, как всегда, дожидалась меня с ужином.
После, в гостиной, расслабленно сидя в креслах, мы пили молодое мальтийское вино, я вполглаза следил за беззвучным мельканием кадров на экране телевизора и рассеянно слушал рассказы жены о дневных проказах нашего сына.
Мы его очень любим.
Я своего малыша люблю больше всего на свете.
В тот вечер, однако, я мыслями находился далеко…
4
Нежно обняв и поцеловав Машеньку, я сослался на необходимость еще поработать и отправился на ночлег к себе в кабинет.
Мне хотелось побыть одному и что-то, может быть, записать.
Я почти не помнил монаха, в то время как образ прекрасной девы, казалось, неотступно следовал за мной.
До глубокой ночи я просидел без движения за письменным столом и мучительно соображал, что бы могло это значить.
За многие годы писания повествований я научился не пропускать и подвергать анализу любое внешнее приключение – будь то нежданный взгляд, или окрик незнакомца, или нечаянное прикосновение незнакомки в автобусе.
Иногда меня спрашивают, чаще я сам задаю себе вопрос: верую ли я?
На что я себе и другим по возможности искренне отвечаю, что верю скорее, но и – сомневаюсь; и что, с одной стороны, почти убежден в неслучайности всего происходящего, а с другой – всегда и всему ищу разумные объяснения.
Постепенно неспособность сделать выбор между Верой и Разумом превратила мое существование в замедленное самоистязание: слишком многое из того, что со мною случалось, увы, не поддавалось осознанию; но и примириться и жить с тем, чего я не понимал, не получалось.
Немудрено, что однажды я отправился за советом к историческому Аврааму – тому самому, что открыл единого Бога и уверовал в Него до такой степени, что готов был пожертвовать единственным сыном Исааком.
И даже почти пожертвовал…
Так случилось, что именно эта история Веры и Абсурда, Любви и Отчаяния меня бередила и мучила больше других.
Я был еще ребенком, когда мой молчаливый папаша (маляр по профессии и художник в душе) после моей очередной провинности без объяснений приколотил у меня над кроватью собственноручно им намалеванную копию с картины Караваджо «Жертвоприношение Авраама».
Помню, меня поразило, что мальчик на картине был примерно моего возраста и даже на меня похож, а бесстрастный палач, облаченный в просторные одежды цвета запекшейся крови, странно напоминал моего сурового родителя (похоже, таким образом он доводил до моего сведения, что меня ждет в случае неповиновения).
Это позже я узнал имя автора оригинала, название и смысл изображенного, а тогда я только увидел насмерть перепуганного паренька и страшного старика с огромным остро наточенным ножом у детского горла.
На все мои тогдашние попытки разобраться в сути изображенного на холсте отец тоскливо отмалчивался или неопределенно и мрачно произносил: «Да узнаешь еще!» – а мама только тяжко вздыхала и молча вертела указательным пальцем у виска.
Уже после его смерти (он покончил с собой, едва я достиг тринадцати лет) я с изумлением обнаружил, что он позабыл (или намеренно не захотел) запечатлеть присутствующего у Караваджо златокудрого ангела с крылышками, но вместо него на заднем плане холста очень мелко изобразил будто крадущуюся фигуру мужчины с посохом наперевес…
Повторюсь, поначалу я понятия не имел, кем эти трое – мальчик, старик и таинственный человечек в кустах (явно отсутствующий у Караваджо) – доводятся друг другу, а когда подрос и узнал, вся эта история с закланием любимого существа во имя неопределенных предпочтений, помню, не вызвала у меня ничего, кроме ужаса и содрогания…
Итак, размышлял я, сидя в кресле, подобная греза, как явление девы во сне или наяву, могла бы со мной приключиться в пору канувшей в Лету юности, когда меня жгло и томило страстное желание любить.
Я не уставал боготворить моего доброго ангела Машеньку, и сама мысль о другой женщине, пускай и совершенной, представлялась мне абсурдной и невозможной, – однако ж…
Едва я уснул – она мне явилась!
Самое для меня удивительное – это то, что я совершенно не удивился, увидев ее в своем кресле – голышом, свернувшуюся калачиком и с тем же чуть насмешливым выражением лица, какое у нее было и наяву.
Я молчал.
И она молчала.
Я смотрел на нее с удовольствием и, кажется, не пытался скрыть восхищения.
Я по-прежнему не понимал, кто она и как оказалась посреди ночи одна у меня в кабинете; при этом меня не заботило, какую угрозу сулит мне ее появление: ведь она могла оказаться заурядной воровкой или даже убийцей; или в любую минуту могли появиться жена или сын – и я бы не знал, что говорить и что делать…
Тем не менее я был по-мальчишески рад, что мы с нею совсем одни.
Я молча подвинулся к стенке, освобождая для нее местечко на постели рядом с собой.
Мгновения не раздумывая, она нырнула в мои объятия и увлекла за собой в пучину наслаждения…
Не случись того, что случилось чуть позже, я бы мог, подобно царю Соломону, посвятить этому моему неожиданному и восхитительному любовному переживанию стихи или прозу, напоенные негой и страстью той фантастической ночи (о, я бы, наверное, отыскал слова для описания нашего нескончаемого безумства – будь я, повторюсь, к тому расположен!).
Но вот уже ночь истончилась.
Светало, когда я, абсолютно без сил, в сладостной истоме откинулся на подушках и попытался перевести дух.
Сердце радостно билось в груди, впервые за долгое время я не чувствовал тяжести своего тела.
И самого времени!
Мне было легко, от меня отступили, казалось, все страхи и комплексы, я себе нравился, и я собой был доволен.
Меня уже не заботило, откуда взялось это совершенное существо, кто она и как вообще тут оказалась.
Я даже собрался было сказать ей про то, как мне с ней неожиданно прекрасно и удивительно, – но она меня опередила:
– О, мой возлюбленный муж, – прошептала она, – о, мой повелитель, мой бог!
– Я чего-то не понял, прости… – пробормотал я расслабленно.
– Не сейчас, мой любимый… – так же шепотом попросила она, приложив палец к моим губам. – Буду ждать тебя в пять пополудни у новой часовни, что в Свято-Даниловом монастыре. Придешь?
– Да… – неожиданно согласился я, камнем погружаясь в сон…
5
Поутру, едва пробудившись, я обнаружил возле себя Машеньку – на разворошенной постели.
«Вот так фокус, а где же… она?» – удивился я и едва удержался, чтобы не побежать искать по комнатам.
Возможно, мелькнуло в мозгу, она где-то тут притаилась…
Затем я покосился на Машеньку и живо представил, как она застукала нас спящими и что с соперницей сотворила (о, я страшился предположить, что бы могла из ревности вытворить моя суженая!).
Целых тридцать два года мы были счастливы в браке и бесконечно доверяли друг другу.
Правда, бывало, она иногда (без причины как будто) мрачнела и делалась молчаливой; или вдруг начинала рыдать и сумбурно жаловалась на страх потерять меня и сына…
Я ее успокаивал как мог и даже клялся, что в нашей семье такое невозможно, и она тоже жалась ко мне и тоже меня заверяла в вечной любви (но при этом еще и грозила кому-то всеми муками ада!).
Как будто что-то предчувствовала…
Признаюсь, я содрогнулся при мысли, что Машенька стала свидетелем моего предательства.
Что я отвечу, подумалось мне, когда она проснется и поинтересуется?..
И как я буду смотреть ей в глаза?..
В самом деле, действительно, я решительно не понимал, как со мною такое произошло!..
Машенька между тем безмятежно и сладко посапывала на моем плече.
Однако подумал, что попросту зря бью тревогу и ни о чем таком она не догадывается…
Возможно, подумал с надеждой, такого, чего-то такого – и не произошло…
А если все-таки допустить, что произошло, то все это мне лишь приснилось?..
«Не было, не было, не было! – возликовал я, боясь шелохнуться, дабы не потревожить покой дорогого мне существа. – Ничего-то, оказывается, не было!» – радовался я, как школьник, обманувший учительницу.
Я не мог сдержать слез и только благодарил судьбу.
«Господи, – повторял я про себя с великим облегчением, – уж пугай, если хочется, только не наказывай!»
Митя, кстати, не обнаружив нас в спальне, прибежал в кабинет и с ходу полез к нам под одеяло.
Наш малыш категорически отказывался взрослеть: в свои восемь лет он еще плохо говорил, нещадно коверкал слова, писался в кроватку, по ночам прибегал к нам в постель и жался продрогшим воробышком то к Машеньке, то ко мне.
Никакие увещевания вроде: «Митя, ты уже большой мальчик!» или даже запреты: «Митя, нельзя!» – не работали, он только крепче обнимал нас и бормотал в полусне, как он нас крепко любит.
Он был очень привязан к нам с Машенькой!
Фактически он больше ни с кем, кроме нас, не мог находиться; при встрече с детьми или со взрослыми он смертельно бледнел, запрокидывал голову и начинал задыхаться.
В три года врачи обнаружили у него редчайшую форму эпилепсии с пугающим названием «ego sum» (с языка древних латинян буквально «бесконечно одинокий»!).
Как мне объяснили, при этом заболевании для индивида видеть себе подобных, тем более находиться с ними поблизости – пытка, по силе сравнимая с истязанием каленым железом.
Можно представить, как я испугался и пал духом!
Однако я взял себя в руки, полез в дореволюционную медицинскую энциклопедию и обнаружил, что этой болезнью страдали божественный пророк Моисей, великий философ Сократ, непревзойденный воин Александр Македонский и многие другие, менее известные в истории личности.
Соседство в ряду великих и знаменитых утешало только слегка…
По понятным причинам наш сын школу не посещал, учителя приходили к нам на дом, друзей и подруг у него не было – разве мы с Машенькой…
– Митя, сынок, ты мне грудь отдавил! – засмеялась счастливым смехом Машенька.
– Я испугался! – объявил Митя (в отличие от меня, сколько я себя помню маленьким, он своих страхов совсем не стеснялся).
– Да кто же тебя напугал? – воскликнула Машенька, тормоша его и пощипывая.
– Папа, приснилось, нас бросил! – залившись слезами, пожаловался Митя.
– Что? – удивился я.
– Что-что? – почти в тон со мной переспросила Машенька.
Я обнял моего малыша и крепко прижал к груди.
– Никогда тебя не брошу… – пробормотал я, напуганный его странным сном. – Никогда, никогда…
– Да папа нас любит, сыночек, да папа не бросит… – тоже, лаская его и целуя, уговаривала Машенька.
– Очень… правда… люблю… – шептал я моему малышу, не зная, чего тут добавить.
Я только представил тот ужас, что вытерпел Митя во сне, – и слезы сами собой хлынули из глаз.
Я готов был поклясться ему, что скорее сгорю, нежели его оставлю.
Ах, мне бы ему рассказать, как сильно я его люблю, – но слов не было, и я только бормотал: «Митенька… Митя… Митя…»
6
Я так долго и сильно его желал (целых двадцать четыре года мы с Машенькой жили вдвоем!), что когда, наконец, он явился, я на три года словно онемел.
Удивление или, точнее, шок, что я испытал, превзошел все предшествующие потрясения: например, от первой несчастной любви в одиннадцать лет; или затем, когда, провалившись под лед, я тонул и все-таки сам выбрался; и потом, когда держал в руках свою первую книгу; и еще, никогда не забуду, как после самоубийства отца ко мне тяжело и болезненно приходило осознание, что я никогда больше его не увижу…
Рождение долго ожидаемого сына – что бывает невероятнее!
Вдуматься, из ничего и ниоткуда возникло существо, похожее на меня и осязаемое мной как самое дорогое и любимое…
За первые три года от рождества моего (и только моего!) Мити я не написал и трех строк.
Три года мы с ним были неразлучны.
Я перестал путешествовать и почти не отлучался из дому, забросил все прежние обязательства, не исполнял контракты, бегал от издателей и переводчиков, не отвечал на телефонные звонки, не виделся с друзьями, не встречался с читателями – можно сказать, все свое время и душевные силы отдавал сыну.
Я по сто раз вставал к нему по ночам, я с ним гулял, играл, разговаривал, я ему исповедовался, делился сокровенным, мы слушали Моцарта и Гайдна, я его купал, одевал, менял подгузники, – разве что грудью не кормил!
Впрочем, когда Мите было три месяца, Машенька заболела, пришлось перевести нашего малыша на искусственное вскармливание, и уже я готовил для него молочные смеси, давил соки и заваривал чай.
Я сам этого хотел, и никто меня не заставлял.
Мне самому всякую минуту было необходимо видеть, как мой сын из крохотного человечка постепенно превращается в человека.
Я всему хотел быть свидетелем, и меня действительно занимало любое, пусть неприметное, событие, как-то связанное с моим сыном.
Любой чих, им изданный, представлялся мне исполненным особого содержания.
Одним своим появлением он разрешил для меня мучительную загадку: чего я, собственно, тут, на земле, делаю?
Оказалось, не стоило сильно мудрить, меня попросту милостиво допустили к участию в процессе: меня родил Константин, я родил Дмитрия, Дмитрий, когда придет его очередь…
Божьи дела!
7
Так я тогда и не успел (не сумел!) рассказать моему мальчику, как сильно его люблю.
Заслышав слезы в моем голосе, Машенька стала щипаться, Митя немедленно захохотал и задергался, мы с ним столкнулись лбами, и мне тоже вдруг сделалось весело и смешно.
Я обнял их обоих, и мы вместе, крича и повизгивая, сползли с дивана и кучей-малой покатились по ковру…
Потом мы завтракали, потом, крепко держась за руки, гуляли в парке на другом конце Москвы, где у Мити была знакомая белочка, потом обедали в ресторане, потом ходили в кино, где Машенька, улучив минуту, прижалась ко мне и шепнула, что сегодня она счастлива, как никогда прежде.
Сильно смутившись, я попытался перевести ее внимание на экран, торопливо поцеловал в шею и обнял, чтобы она не увидела моего лица, и тут… как нарочно, взглядом скользнул по зеленовато светящемуся в темноте циферблату часов.
Она меня ждет, вспомнил я, Она – ждет!
Я было поднялся, но, опомнившись, сел снова: куда я собрался, ведь то мне приснилось!..
– Любимый, ты что? – прошептала жена, надежно держа меня за руку.
– А-а, просто вспомнил, что должен бежать… – принужденно рассмеялся я. – Сам эту встречу назначил и сам же, представь, позабыл…
Неведомой силой меня влекло к месту назначенного свидания!
Я ощутил на себе ее удивленный взгляд – однако остановиться уже не мог.
– Митя, сынок… – ласково обнял я своего малыша. – Я тебя очень люблю, увидимся дома…
Обычно при встречах или расставаниях он вис на мне и кричал, как меня любит, а тут отчего-то сидел неподвижно, уставившись на экран и не реагируя.
– Митенька, детка, ты меня слышишь? – встревоженно переспросил я и несильно тряхнул его за руку.
И тогда (не забуду!) мой сын на меня посмотрел не по-детски тревожно, как будто о чем-то моля или предупреждая.
– Папа, я тоже тебя люблю, – произнес он ровным голосом необычайно серьезно…
И сегодня еще, после стольких событий, решительно изменивших течение моей жизни, я с волнением вспоминаю глаза моего дитя, полные необъяснимой тревоги.
Но, впрочем, тогда я спешил и не придал значения тому безмолвному Митиному посланию…
8
Всю дорогу до Свято-Данилова монастыря, сидя на заднем сиденье такси, я мысленно поносил себя последними словами.
«Куда и к кому я понесся на свидание сломя голову? – допытывался я сам у себя. – И кого ради бросил фактически на дороге жену и сына? И чего, собственно, стоят мои предпочтения, если я так легко через них преступаю?..»
Томясь и терзаясь, я мчался как одержимый на свидание к прекрасному призраку…
9
Как я и предполагал, моей ночной гостьи на месте, назначенном ею же, не оказалось!
Тем не менее я дважды обежал вокруг часовни и четырежды с четырех разных входов заглянул внутрь.
«Опоздал всего на тринадцать минут, могла бы и подождать!» – разочарованно подумал я, поглядев на часы.
«За кого, любопытно, меня принимают!» – взыграло во мне и ударило в мозг.
«Пусть только явится, пусть, – говорил я себе, то и дело с надеждой оглядываясь по сторонам, – и я ей скажу всю правду!»
Уж куда как смешно было обижаться на тень, существо из сна: с таким же успехом я мог бы негодовать на простуду или болезнь…
Но, поразмыслив, я, кажется, повеселел: не случилось того, чего я опасался больше всего на свете, – предательства любимых!
«Пугай, Господи, но не наказывай!» – вспомнились к месту слова из молитвы грешника.
На блестящем кресте восседала ворона и сверху, как будто надменно, глядела прямо на меня.
– Не ты ли, подруга, назначила мне свидание? – весело крикнул я и демонстративно постучал себя костяшками пальцев по темечку.
– Ка-ар, ка-ар! – с издевкой, как мне послышалось, отозвалась птица.
– Ну-ну, ты звала – я явился! – воскликнул я театрально (припомнив Эдгара По).
– Ка-ар, ка-ар! – немедленно откликнулась ворона почти в режиме диалога.
– Как, это все, что ты можешь произнести? – шутливо возмутился я.
– Ка-ар, ка-ар! – подтвердила пернатая тварь в той же возмутительной манере.
– Мне было приятно! – чопорно склонился я и, неуклюже пританцовывая, направился прямиком через площадь к высоким монастырским воротам.
То, значит, был сон, сон, и ничего больше!
Мне только приснилось, мне это пригрезилось!
Чист!
И нашу с Машенькой любовь, получается, не замарал, и сына не предал!
И – вообще!..
Поистине я испытывал чувство подлинного освобождения – как гора с плеч…
Будь у меня крылья за спиной, наверняка полетел бы – до такой степени свободно и легко я себя ощущал.
Я готов был обнять и расцеловать случайного прохожего, мне живо представился стареющий грузный мужчина, лихо приплясывающий в самом центре молельного двора.
Хорошо, если никто, кроме вороны, меня в ту минуту не видел…
Наконец, перед тем как покинуть обитель, я решил попрощаться с вороной – и вдруг, обернувшись назад, вдалеке, у восточного входа в часовню увидел ее…
10
– Ты! – так и выдохнул я.
– Я! – отозвалось вдали едва слышно.
Странно, что мы слышали друг друга, хотя расстояние между нами было не менее сотни шагов.
Я мгновенно при виде ее позабыл, кто я, и чего мне хотелось, и тех, кого я любил, за кого отвечал, и даже не вспомнил об угрызениях совести, еще минуту назад изводивших меня.
– Я так по тебе тосковал! – прошептал я одними губами.
– И я! – долетело издали.
Мы бежали – точнее, летели! – навстречу друг другу, как будто на крыльях, как будто несомые ветром.
Меня распирало от радости, я ликовал, я не чувствовал ног, я кричал на бегу, как она прекрасна и желанна, – и она, до меня доносилось, кричала в ответ мне слова, полные любви!
Однако расстояние между нами совсем не сокращалось, а напротив, как будто увеличивалось, и чем сильнее мы устремлялись друг к другу, тем, казалось, неизбежнее отдалялись.
– Куда же ты, – звал я в отчаянии, – вот же я!
Она тоже кричала и тоже как будто пыталась что-то мне сообщить – только я не различал слов.
Неведомой силой ее уносило все дальше от меня, и все слабее в нахлынувшей мгле светились ее удивительные глаза, пока не погасли совсем.
– Ка-ар, ка-ар! – громко и раскатисто прокатилось над площадью.
«Что это со мной? – опомнился я и застопорил бег. – Куда меня понесло?»
Ситуация явно выходила из-под контроля.
Я схватился руками за голову, пытаясь унять стук в висках.
Опять я погнался за ветром, за призраком!
«Попался-попался, который кусался! – подумалось не без злорадства. – Вот так незаметно впадают в депрессию, сходят с ума и сводят последние счеты с жизнью».
Покуда тебе хорошо – невозможно представить, как может быть плохо, тем более допустить, что и сам способен однажды превратиться в беззащитного, ранимого, бедного и несчастливого…
Тяжело волоча пудовые гири ног, я брел без цели вдоль крепостной монастырской стены.
Возвращаться домой не хотелось, а идти было некуда.
Меня мучили стыд и разочарование: с одной стороны, я не понимал, как смогу пережить измену Машеньке (пусть и во сне!), а с другой – сожалел о том, чего не случилось.
Я размышлял о странностях бытия, о хрупкости человеческого сознания, о том, что, увы, ничего невозможно предвидеть, о своем неожиданном превращении в другого, малопонятного мне господина, о том, что, прожив на земле пятьдесят с лишком лет, я почти ни в чем не уверен…
– Любимый! – послышалось вдруг у меня за спиной.
Я так и застыл, боясь обернуться.
– Хорошо, что явился! – ее удивительный голос звучал искренне, почти с восторгом.
Я молчал и только молил про себя Бога, чтобы все это опять не оказалось сном.
– Ты так быстро бежал от меня, – прошептала она, – что я тебя еле догнала!
Несмотря на одежду, спиной я с волнением ощущал упругость ее девичьего тела.
Тут уместно заметить – чувство невыразимого блаженства переполняло меня.
Я искренне не понимал ее упрека и пытался вспомнить, когда я бежал от нее!
– Дрожишь, как воробышек, милый, – воскликнула она с обидой, – как будто меня боишься.
Должно быть, меня в самом деле бил озноб…
Но то был не страх, а скорее растерянность, ибо я с трудом осознавал происходящее.
Если меня что и пугало, так это – что я обернусь, а ее опять не окажется…
– Не меня тебе надо бояться, любимый! – прошелестела она.
– Но кого же? – мне подумалось вслух.
– Узнаешь еще! – рассмеялась проказница и прильнула ко мне, словно желая слиться в одно.
Я даже не поинтересовался, куда она меня зовет.
О, я готов был за нею последовать – без колебаний, немедленно, хоть на край света!..
– Хочу тебя видеть! – закричал я, схватил ее за руку, чтобы не ускользнула, и обернулся уже наконец – и с ужасом и разочарованием обнаружил возле себя вчерашнего гиганта монаха, просителя автографа.
Я настолько не ожидал встречи с ним, что невольно отпрянул и закричал:
– Что вы тут делаете?!
– Я тут живу! – изумился монах и даже потянулся ко мне рукой, желая успокоить.
– Почему вы меня преследуете? – повторил я вопрос, прямо глядя ему в глаза и не снижая тона.
– Но я же сказал, что живу тут! – Монах в подтверждение дважды истово перекрестился.
– Не морочьте мне голову, вы! – прошептал я, медленно отступая и стискивая кулаки, как для удара.
– Не буду, не буду, Лев Константинович, не буду! – запричитал он, часто и как будто испуганно моргая белесыми ресницами. – Просто вы тут, я увидел, стояли…
– И что? – перебил я. – И что?!
– Я подумал…
– И что?! – закричал я, уже не сдерживаясь.
– Такой писатель, подумал, стоит… – повысил он голос, при этом попятившись.
Тут, должен признаться, его комплимент вконец лишил меня равновесия.
Сами собой опять напряглись мышцы рук, и с новой силой сжались кулаки.
– Вот этого только, пожалуйста, не надо! – произнес я, угрожающе подступая к моему преследователю в рясе.
– Вот этого точно не будет! – пообещал монах.
– И оставьте свое колдовство, – неожиданно вежливо попросил я, медленно поводя указательным пальцем у него перед глазами.
– Во имя спасения души, уважаемый Лев Константинович… – пятясь, монах театрально крестился и причитал. – Только во имя ее, так сказать…
– Вам не надо меня спасать! – оборвал я его.
– Не спасать? – ужаснулся монах, схватился руками за голову и смешно на меня выпучился.
– Не спасать! – повторил я решительно и повернулся, чтобы уйти, но и шагу ступить не успел, как услышал: «Любимый!»
Я опять ощущал, как она нежно и доверчиво прижимается ко мне, я узнавал ее тело и терял голову…
– Мой любимый, прекрасный мой, мой удивительный! – легко восклицала она, не встречая препятствий с моей стороны – так, словно мы с ней знакомы тысячу лет.
– Что мне делать? – стонал я, позабыв обо всем на свете.
– Делай, что должно! – шептала она…
11
Я уже знал, что меня ожидает, когда обернусь…
Какое-то время мы с ним молча стояли и внимательно разглядывали друг друга: монах смотрел на меня по-доброму и с любопытством, я – с нескрываемой злостью и в упор.
Мне все в нем не нравилось: и низкий, скошенный лоб неандертальца, и белесые брови, и близко посаженные болотные глаза, и широченный распухший нос, сплошь усеянный жирными черными точками, и тонкий рот, лишенный губ, и треугольный подбородок с тремя-четырьмя белесыми волосками, и оплывшая шея…
Вчера, впрочем, я его видел мельком и поверхностно; теперь же меня поразило, до чего человек бывает некрасив!
Я даже хотел было поглумиться над ним – однако сдержался: ибо кто виноват, что родился уродом?..
– Да полно вам, Лев Константинович, не обижайте меня, вдруг еще пригожусь! – как будто все понял и совсем даже не обиделся монах.
– Не знаю, – устало поморщился я, – для чего это вы можете мне пригодиться?
– Для спасения вашей бессмертной души! – повторил он почти без нажима.
– Скажите еще, для спасения мира! – сдаваясь, махнул я рукой.
– А что, или поздно, уже не спасти? – как от уксуса, скорчился он и натурально загробным голосом запел похоронный марш.
– Как слепой не прозреет и мертвый не оживет, – мрачно отреагировал я, – так и мир навряд ли спасется, если ему суждено погибнуть.
– Да вы пессимист никак, Лев Константинович! – весело и от души рассмеялся монах, разглаживая лицо.
– Просто давно живу! – констатировал я не без скуки.
Монах между тем медленно, помалу подступал ко мне все ближе и ближе.
Наконец расстояние между нами сузилось до предела.
Теперь он возвышался надо мной, подобно колонне, и я чувствовал зловоние, исходящее из его безгубого рта.
Инстинктивно отпрянув, я едва не обрушился в черный провал за спиной, – к счастью, монах успел протянуть мне руку, за которую я судорожно ухватился.
– Вот так иной раз стоишь на краю пропасти, Лев Константинович, и даже об этом не подозреваешь! – как будто посетовал монах.
К своему ужасу, я в самом деле висел над пропастью, удерживаемый всего-навсего скользкой рукой и неведомой милостью странного незнакомца.
Откуда-то снизу, издалека до меня доносились всхлипы и стоны волн, казалось, в отчаянии бьющихся о прибрежные камни.
Море в Москве – в изумлении представилось – море в Москве!..
– От общения с вами – одно удовольствие, Лев Константинович! – прокричал он, помогая мне вновь обрести равновесие и почву под ногами. – Другой бы на вашем месте кричал и нервничал, вы же так скоро и правильно все схватываете!
– Ничего я пока не схватил… – пробормотал я, осторожно переминаясь с ноги на ногу.
– Не оступитесь! – опять крикнул он и крепко меня обнял.
Неожиданно в небе над нами сверкнула молния, осветив вершину скалы (крохотный пятачок, на котором мы оба едва помещались!) и седые равнины бушующего океана под нами – и больше ничего!
Замечу, однако, при всей напряженности момента страха я не испытывал.
В общем, напасти последнего дня могли приключиться в любом из моих романов – с той разве разницей, что на сей раз не я был автором!
Не иначе, подумалось вдруг, я кому-то понадобился в роли персонажа!
Оставалось понять – кому именно?
И с какой целью?
И почему, собственно, я?..
За размышлениями я прозевал момент, когда мы с монахом переместились с овеваемой всеми ветрами вершины в сырую монашескую келью без окон, с узким полуметровым лазом в стене вместо двери.
Мы с ним мирно сидели друг против друга на низких деревянных табуретах за грубо сколоченным столом, на котором я с удивлением обнаружил свой последний роман.
Монах, увидев мое замешательство, понимающе улыбнулся.
– Ваша последняя книга, Лев Константинович! – подтвердил он, не сводя с меня внимательно прищуренных глаз…
12
Тут, во избежание пробелов и недосказанности, я позволю себе отступление и повторюсь: с той самой минуты, как незабвенный родитель приколотил у меня над кроватью копию с картины Караваджо «Жертвоприношение Авраама», этот жуткий сюжет не шел у меня из головы.
Но можно сказать по-другому: давным-давно, в раннем детстве во мне поселился роман о несчастном отце и бедном сыне!
(Могу в скобках заметить, что Бога я, как ни старался, понять не мог, а человеку безмерно сочувствовал!)
История эта, как бы там ни было, непостижимым образом мучила меня и терзала – настолько, что я однажды отважился и придал ей некую литературную форму.
Неблагодарное это занятие – своими словами пытаться пересказать художественное произведение (тем более собственное!); рискну изложить самую суть…
Согласно преданию, «Бог потребовал от Авраама принести в жертву единственного сына Исаака; но когда Авраам занес нож, ему с неба явился Ангел и, взяв за руку, сообщил, что Бог убедился в его верности и не хочет человеческой крови; и тут же Авраам увидел ягненка в кустах, коего и поймал – и принес Всевышнему в жертву».
И так оно долгое время для меня и происходило – согласно с записанным в Святой Книге текстом.
Но однажды простейшая мысль, что книгу, пускай и святую, записывали люди (с присущей нам всем способностью подправить пережитое и приукрасить!), естественным образом повлекла за собой догадку, что этими людьми были сам Авраам либо его сын Исаак…
Я вспомнил картину отца (ту самую, что он когда-то давно повесил над моей детской кроваткой!): на ней вообще не присутствовал Ангел, без которого чудесного спасения Исаака никак не получалось…
И второе несоответствие копии оригиналу – в нижнем левом углу отцовской картины где-то между деревьями маячил человечек с посохом наперевес…
Получалось, отец своей властью исключил из канонического сюжета всем известного Ангела и дорисовал некоего таинственного соглядатая с посохом…
Я подумал о том, что отец не случайно повесил картину не в их с мамой спальне, а именно в моей комнате: тем самым как будто хотел сообщить мне (может быть, миру через меня), что не все в этой невероятной истории происходило по написанному…
И еще, я тогда заподозрил, что вся эта невероятная история о далеком праотце неким образом связана с самоубийством отца…
Положив себе целью добраться до истины, я перекопал гору старинных эссе, исторических исследований и диссертаций, посвященных Аврааму, встречался с религиозными мыслителями – но так и не обнаружил ничего, что хоть как-то подтверждало бы революционную догадку отца…
Однажды, будучи в Иерусалиме (куда специально приехал для встречи с известным знатоком Каббалы), я без видимой цели забрел на Масличную гору, откуда открывался сказочный вид на город.
Утомленное солнце клонилось к закату.
Мощно и торжественно звонили колокола в церквах Старого города, созывая верующих для вечерней молитвы, пронзительно и требовательно завывали в микрофоны муэдзины в зеленоглазых мечетях, восхищенно и благодарно возносили хвалу Господу длиннобородые раввины в синагогах.
Я сидел на согретых солнцем камнях и расслабленно созерцал золотой купол мечети на Храмовой горе, под сводами которой, согласно преданию, и покоился жертвенный камень Авраама.
«И, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров…»
И там, размышлял я неспешно, четыре тысячи лет назад несчастный отец вознес нож над единственным сыном, но не убил его, потому что…
Там, там, шевельнулось во мне, Авраам пощадил сына…
Внезапно я вздрогнул: там, там Авраам искусил Бога!
Меня потрясло ощущение взрыва: там, там Авраам не исполнил завета!
Я опешил от простоты и ясности догадки, прозвучавшей во мне откровением.
«Но зато Авраам, – все во мне ликовало, – неповинен в убийстве безвинного дитя!»
«Авраам, – бурлило внутри и требовало выхода, – не исполнил завета, но и не допустил гибели самого дорогого и любимого, что у него было!»
«Он был сильным и слабым, непреклонным и сомневающимся, мудрым и страдающим, он…» – в ту минуту воистину я мог полететь на крыльях своего открытия.
Герой оказался человеком и, как все люди, заслуживал любви и сострадания…
13
Вернувшись в гостиницу, я долго сидел в темноте, боясь спугнуть это удивительное ощущение гармонии и согласия с великим страдальцем, внемлющим Богу, но уступающим только велению своего сердца, и ничему больше.
Так же, в темноте, я с небывалой скоростью набросал план будущего романа.
Такое со мною случалось впервые: я заранее видел книгу – до буквы; и знал о ней все наперед; и меня впервые с такой силой тянуло изложить эту историю на бумаге.
Не смогу объяснить ту поспешность, с какой я в тот вечер собрал чемодан и помчался в аэропорт, чтобы успеть на ближайший самолет в Москву.
Меня уже не удерживала встреча с каббалистом, которой я так долго и трудно добивался и ради которой, по сути, приезжал в святой город. (Впрочем, я понимал, что отныне любой комментарий извне, пускай и авторитетный, мне только помешает!)
Дома я первым делом извлек из чулана папашину мазню, очистил от пыли и паутины и внимательнейшим образом обследовал.
Я буквально по миллиметру ощупывал ее, изучал под лупой, принюхивался и опять приглядывался.
Готов поклясться, я и отдаленно не догадывался, чего ищу!
Можно, впрочем, предположить, что я искал знака или хотя бы зацепки, оставленной человеком, который подарил мне жизнь…
Холстом для картины (что меня удивило и заинтриговало) служила шкура козы или овцы, превосходно выделанная и наверняка очень давнего происхождения.
«Кому же еще, – я с нежностью вспомнил отца, – могло прийти в голову малевать на коже!»
Еще одним невероятным открытием явился крошечный, едва различимый иероглиф на оборотной стороне картины (без увеличительного стекла я бы его не обнаружил!).
И снова, как в детстве, меня поразило необыкновенное внешнее сходство отца с бесстрастным палачом, облаченным в просторные одежды цвета запекшейся крови, и также мое – с мальчуганом, слезно умоляющим о пощаде…
14
В тот же день, невзирая на поздний час, я помчался с картиной к своему старинному приятелю, художнику и реставратору древних икон.
Вскоре он подтвердил мою догадку о древнем происхождении кожаного свитка, использованного отцом под холст, и сам предложил просветить, как он выразился, «штучку» в лабораторных условиях Греко-Латинской академии, куда мы с ним немедленно и отправились.
«Штучка», согласно рентгеноскопии, по возрасту могла принадлежать библейским праотцам(!), но, того больше, – под отцовой мазней обнаружился текст, параллельный каноническому!..
Тогда-то, с того самого дня, и началась для меня другая жизнь, полная абсурда и страданий…
15
В отличие от некоторых восторженных почитателей, я, в общем-то, трезво оцениваю свое более чем скромное место в литературе и первым готов признать: мой новый роман «Спасение» – всего лишь еще одна версия невероятной истории, послужившей основой для сотен и тысяч богословских трактатов, философских эссе и художественных интерпретаций.
В моем изложении все события вокруг самого «жертвоприношения» с документальной простотой рассказаны рабом Элиэзером – одним из «двух отроков», сопровождавших Авраама с Исааком до подножия горы и там же оставленных сторожить осла.
Итак, пока старший сын Авраама и Агари – Ишмаэль – сладко посапывал в спасительной тени оливы, другой отрок, верный слуга Элиэзер, движимый любопытством, поднялся крадучись на гору и застал там следующую картину…
Тут впору сравнить оба текста: один, записанный в Книге Книг со слов Авраама либо Исаака, и другой, что начертал на шкуре ягненка правдолюбивый раб Элиэзер.
Однако прочтем каноническую версию случившегося в означенный день четыре тысячи лет тому на горе Мория:
«И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего; ибо теперь Я знаю, как ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел в горе и безумии своем Авраам очи свои и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего».
Поразительно, но сообщение безмолвного свидетеля выглядит почти копией библейского текста – разве что короче и лаконичней:
«И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего, – и не смог этого сделать».
Вот они – слова, в корне меняющие представление о случившемся четыре тысячи лет назад на горе Мориа: «и не смог этого сделать!».
Далее запись на кожаном свитке фактически повторяла каноническую: «И возвел в горе и безумии своем Авраам очи свои, и увидел: и вот назади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего…»
Тайное послание отрока Элиэзера о случившемся (в действительности!) на горе Мория, помню, произвело на меня эффект разорвавшейся бомбы и только укрепило в справедливости догадок: отец Авраам лжесвидетельствовал во спасение сына Исаака!
Наконец я его понимал и мог по нему заплакать.
Наконец, написав роман, я с ним помирился…
16
Как мне показалось, слова «ваш последний роман» монах произнес с едва уловимой нотой сожаления.
– А что мой роман? – поинтересовался я сдержанно, стараясь не выдать внезапно охватившего меня волнения.
– Ваш последний роман, – повторил он с улыбкой, – собственно, и побудил меня к личному знакомству с вами.
Он глядел на меня без иронии – скорее, как мне показалось, с почтением.
– Вот как значит… – выдавил я из себя, плохо понимая, как мне реагировать на странные замечания этого загадочного существа в сутане.
– Так, по вашему мнению, Лев Константинович, Авраам Бога предал? – спросил он таким тоном, как если бы речь шла о некоем незначительном происшествии, но никак не о страшном предательстве.
Все во мне напряглось: Авраам представлялся мне мучеником, страдальцем, несчастным отцом – но отнюдь не предателем!
И в своем изложении я стремился к созданию образа человека, наконец победившего страх и трепет перед лицом Необходимости.
После всего, что я узнал и успел передумать об Аврааме, он возвысился в моих глазах, превратился в кумира, властителя дум, воплощение отцовской любви.
Это верно, что он ослушался Бога, размышлял я, но зато и себе не изменил!
Ну так что ж, что он при этом слукавил (если, конечно, доверять свидетельству раба Элиэзера!), – но зато и не замарал себя кровью любимого существа!
Авраам ради сына фактически пренебрег обещанной благодатью – возвращением в Рай.
Сохранив Исааку жизнь, он тем самым впервые отстоял право человека на свой выбор.
Чем дольше я размышлял о нем, тем увереннее оправдывал и тем большее почтение к нему испытывал.
– Никак вы напуганы, Лев Константинович! – развеселился монах, заметив мое замешательство.
– Все же, помнится, я не так это формулировал… – не сразу пробормотал я, пытаясь сообразить, куда он клонит.
На что он вдруг ернически подмигнул:
– Чтобы вас не смущать словом «предал», можем сказать, что подвел! Авраам, скажем, очень Бога подвел! Или, скажем еще, искусил! Или – кинул, как лучше?
– Я даже не знаю, как вас называть… – сдавленно произнес я, преодолевая подступающую тошноту.
– Петром! – встрепенулся уродец и, быстро схватив меня за руку, судорожно потряс. – Можно братом Петром, – он осклабился. – Можно отдельно братом или отдельно – Петром!
– Не знаю, отдельно брат Петр, как внимательно вы читали мою книгу… – начал я подчеркнуто сухо.
– Пристрастно, внимательно и с интересом! – заверил меня монах, корча рожицы и размахивая руками.
– Бог обещал Аврааму сына и потомство, как морской песок!.. – заорал я, уже не сдерживаясь. – И еще неизвестно, кто кого предал!..
– Лев Константинович, Лев!.. – всплеснул руками монах, бочком обежал вокруг стола и буквально силком усадил меня на место. – Ну что вы так, право, ну право…
– Я писал книгу о спасении Авраама, – кричал я. – Можно сказать, о спасении!..
– Согласен, бывает! – кричал он в ответ, двумя руками удерживая меня на табурете. – Еще как бывает, что пишешь сначала одно, а потом отчего-то получается совсем другое!
– Вот только не шейте мне дело! – опять выкрикивал я, отчего-то уже без прежнего энтузиазма.
– Не буду! – торжественно клялся монах. – Все это, как есть, сохраним между нами!
– Бога ради, не трогайте меня, – тихо попросил я.
– Бога ради! – эхом откликнулся он.
– Разговор у нас с вами, однако, пошел… – произнес монах, отходя и позевывая. – Мм-да-а, разговорчик! Вроде как отдает следственным изолятором и несвободой. Между тем я не следователь, а вы, Лев Константинович, – свободный человек! Свободный, понимаете? Как и ваш предшественник, Авраам, – тоже был вполне свободной личностью. Говорю и повторяю: свободной!
– Почему вы сказали – предшественник? – спросил я неожиданно тихо. – И как понимать слово тоже? – добавил, с трудом сдерживая дрожь.
– Цепляете мысль на лету, Лев Константинович! – похвалил он меня.
– Но вы не случайно сказали – тоже? – повторил я свой вопрос холодеющими губами.
– Волос сам по себе с головы не упадет, Лев Константинович! – хитро сощурившись, напомнил монах…
17
О, я был уверен, что он не обмолвился!..
Одним упоминанием о возможном сходстве наших с Авраамом судеб монах всколыхнул бурю, дремавшую во мне с минуты появления на свет моего мальчика.
Я был рядом, когда он рождался, и видел, чего ему стоил приход в этот мир: он так плакал и так пронзительно кричал, словно задолго предчувствовал все ужасы и страдания, ждущие его впереди.
Помню, впервые я взял его на руки – и моментально на сто лет вперед испугался за все предстоящие ему боли, надежды и разочарования, опасности и труды.
Но все мои страхи и переживания о будущем сына выглядели пустячным беспокойством в сравнении с шоком, который я испытал однажды, представив себя на месте Авраама…
Я сам, получалось, едва обретя сына, принес его в жертву?..
Что было со мной: минутное наваждение или – вдруг – откровение?..
И по сей день я не знаю ответа на этот вопрос. (Или, может быть, знаю – только страшно признаться!)
Наконец мне придется поведать о событии, самом, пожалуй, загадочном и непостижимом: в момент появления на свет сына тогда же, в родильной палате, я словно увидел мое «Спасение» – уже в виде книги, с отцовой копией картины Караваджо «Жертвоприношение Авраама» (той самой, без Ангела!) на обложке…
18
Голова кругом пошла, едва заговорили о моем единственном сыне!
«Что хотят от меня те, что хотят?» – словно из забытья, медленно выплыла строка из моего раннего стихотворения.
– Но какие-то вещи зависят от вас, и только от вас! – донеслось до меня, будто издалека.
«Но у тех, что хотят, со мной старые счеты…» – сама собой, угрожающе подоспела вторая строка.
– Например, будущее этого мира! – вполне буднично прокомментировал монах (и опять таким тоном, будто речь шла о погоде на завтра!).
Я даже не сразу сообразил, что монах походя цитировал меня же!
До смешного некстати мне припомнилось известное признание Льва Толстого – о том, как однажды он увлекся чтением «Анны Карениной» и долго не догадывался, что автор находится поблизости…
– «Вопрос в том, – донеслось до меня, – насколько вы сами созрели для жертвы во имя людей!»
Те же слова в моем изложении, как мне помнилось, принадлежали Богу и предназначались для Авраама!
«Все же Бог у меня с Авраамом, как два джентльмена, друг с другом на «вы»!» – не удержался и мысленно похвалил я сам себя.
– «Не для Меня ваша жертва – для мира!» – выдержав паузу, торжественно заключил брат Петр.
Вырванное из контекста, интимное признание Бога о духе и смысле Авраамовой жертвы неожиданно прозвучало высокопарно.
– А действительно, все под луной… – наконец выдавил я из себя (я почти задыхался, слова давались с трудом!). – Вообще в этом мире, скажите… все – как бы схвачено?
– Все! – подтвердил без улыбки монах.
– И мое «Спасение», и ваше явление мне, и этот наш разговор…
– И ваш сын, вы забыли! – ввернул он услужливо.
«Мой единственный сын!» – опять содрогнулся я.
– Но почему все же выбор пал на меня? – пробормотал я, по-прежнему тяжело ворочая языком.
– Так небось напросились, Лев Константинович! – весело подмигнул мне брат Петр.
19
Дальнейшая наша беседа с монахом напоминала общение доктора с больным: пока первый пытался по-хорошему объяснить причины и страшные последствия заболевания, второй (я – второй!) обливался слезами и нервно выкрикивал слова, мало поддающиеся осмыслению.
Итак, монах предложил мне пожертвовать Митей ради (ни больше ни меньше!) светлого будущего всего человечества!
– Того самого будущего, – взывал он цитатами из моего же романа, – где у людей получится наконец существовать без войн, революций, лжи, страха, болезней и смерти и где миром будет править Любовь, и только Она одна!
– Пожертвуйте сыном, – кричал он с восторгом, – в обмен на Царство Божие на земле!
– «Не Мне эта жертва нужна, – повторял он за мной в точности, как наизусть, моими же фразами, – но грядущему Царству, где нет места человеческому эгоизму!»
– Вот что, – твердил он, – Бог пытался внушить Аврааму и на что Авраам не отважился…
20
Прошу обратить внимание, я пишу эти строки много позже того злосчастного дня, решительно изменившего течение моей жизни.
Говорят, время залечивает раны, в том числе и душевные.
Тем не менее сердце болит и пальцы дрожат, и трудно писать…
Наконец мы покинули келью в мрачном подземелье монастыря и окольными тропами вышли за пределы крепостных стен.
Брат Петр уверенно шел впереди, я понуро брел следом.
Тогда-то он и напомнил мне один из самых постыдных моих поступков, жгущая боль от которого меня никогда не покидает.
– Да как же вдруг, Лев Константинович, так получилось у вас, – спрашивал он, то и дело оборачиваясь и поглядывая на меня, – что вы закатили сыночку затрещину по головке, да еще с такой силой, что у него ножки подкосились и он упал!.. А как он испугался и как, бедняга, в слезах зашелся!.. И вы тоже, я знаю, до смерти тогда перепугались и побледнели и кинулись к нему поднимать!.. И тот еще взгляд, каким он вас тогда одарил, и то, что в сердцах вам выкрикнул!
– «Папа, сожги эту книгу…» – пробормотал я, потрясенный осведомленностью монаха (то было затмение разума, когда я впервые причинил боль моему малышу!).
Я тогда только поставил точку в романе, которому отдал несколько лет жизни, и расслабленно дремал в своем кресле.
Малыш подкрался ко мне, подхватил ноутбук (с не распечатанным еще текстом «Спасения»!) и выбросил его в окно.
Повторюсь, обезумев от ярости, я больно ударил свое дитя.
– Зачем? – помню, взывал я к нему. – Зачем ты это сделал? Зачем, отвечай мне?! Зачем?!!
Он же в ответ умолял меня сжечь мою книгу, а я все не мог успокоиться, тряс его и выкрикивал только одно слово: «Зачем?!»
Роман удалось восстановить, но я до сих пор казнюсь, вспоминая перекошенное личико своего единственного сына и побелевшие глаза…
– Устами младенца, ха-ха! – донеслось до меня.
«Он при этом как будто присутствовал…» – пронеслось у меня в мозгу.
– Все схвачено, Лев Константинович! – смеясь, повторил мне брат Петр на прощание…
21
Домой я попал поздно ночью, почти под утро.
Машенька с Митей в обнимку сладко посапывали в нашей постели.
Никак не получается ей внушить, что наш мальчик уже мужчина (маленький, но мужчина!) и пора бы уже держаться от него на расстоянии.
Но, впрочем, будить их не стал и, тихонечко притворив дверь в спальню, уныло побрел на кухню.
Болели глаза, во рту было горько и сухо.
Я пил минеральную воду из двухлитровой пластиковой бутылки, обливаясь и захлебываясь, пока не почувствовал, что тону.
С мокрым от слез и воды лицом, без единой мысли в голове, я одиноко стоял посреди кухни и тупо разглядывал Митины разноцветные каракули на стенах (наш мальчик любил рисовать, и, понятное дело, полы, стены и двери жилища служили ему полотном!).
Трудно сказать, сколько времени я провел в бессознательном созерцании милой и незамысловатой детской мазни.
Постепенно, по мере сосредоточения, сквозь живописный хаос у меня на глазах отчетливо проступал до боли знакомый сюжет: в центре картины, на фоне перевернутых гор, бурных рек, утекающих в небо, бессмысленного нагромождения труб, мостов, рельс, дорог, домов и мусорных завихрений, большой человечек занес страшный нож над маленьким человечком…
Я решил, что схожу с ума: ведь я ничего этого раньше не видел!
И где прежде были мои глаза?
Как прозревший слепой, я изумленно разглядывал живописное творение трехлетнего младенца (ровно столько было Мите, когда он, смешно приседая и подпрыгивая, скоренько чиркал и малевал по стене!) и поражался его невероятной сложности и совершенству: великое множество несовместимых, казалось, и невозможных вещей странно сосуществовали и необъяснимо тревожили.
Я с ужасом вдруг сопоставил: почти в то же самое время мною задумывался роман «Спасение»…
Мне сделалось душно и тошно.
Кинуло в жар.
По всему получалось, что он что-то знал (или даже предвидел!)…
Как по наитию, я со всех ног устремился в спальню, подхватил Митю и побежал с ним на руках обратно на кухню.
– Так значит, ты знал? – кричал я, истерически колотя кулаком по разрисованной стене. – Тогда объясни, что именно ты знал?..
Мой бедный малыш спросонья растерянно хлопал глазенками и сдавленно постанывал, как поскуливал, что являлось признаком надвигающегося приступа эпилепсии.
– Что ты делаешь, Лева? – услышал я испуганный возглас Машеньки.
– Что я делаю?! – хрипло передразнил я.
– За что, что он сделал?.. – растерянно бормотала моя любимая.
– Что он тут намазюкал! – продолжал я, не переставая, наносить окровавленными костяшками кулаков бессмысленные удары по стене. – Ты даже не знаешь, ты даже не догадываешься, ты даже не представляешь!
– О чем ты?.. – побелев, прошептала она.
– Он знает, о чем!.. Спроси у него!.. Ему известно!.. – выкрикивал я в бешенстве.
– Боже, Митя! – с надрывом простонала Машенька. – Лева, опомнись!
– Что ты хотел? Кто тебя научил? Что ты нарисовал? – упрямо допытывался я.
– Он, Лева, не знает… он, Лева… – умоляла Машенька, стараясь меня образумить.
– Он знает, я знаю! – кричал я, цепляясь и тряся Митю за ножку. – И ты все поймешь, как посмотришь на стену!
– Отстань, ему больно! – просила она.
– За что он меня так, за что?! – бился я, в слепой ярости круша кухонную мебель, посуду, полки, горшки с цветами.
При этом я, разумеется, различал Машеньку с заплаканным Митей на руках и то изумление, с каким она наблюдала мое необычное буйство, но, увы, в ту минуту меня все сильнее несло по бурной реке отчаяния, властному течению которой невозможно сопротивляться.
Видел я и себя, словно со стороны (будто кто-то второй, тоже я, находился поблизости и хладнокровно наблюдал за первым мной!): в то время как первый с воплями и проклятиями носился по кухне, у второго кривился в усмешке рот и смеялись глаза.
Вторая моя ипостась (до сих пор объяснить не могу!) даже не поморщилась, когда первая рухнула на пол, усеянный битым стеклом…
22
Если правда, что смерть избавляет от мучений, то воистину лучше бы мне тогда умереть и не знать тех страданий, что впоследствии выпали на мою долю…
Я очнулся в больничной палате.
Я не чувствовал ног и спины; ныл затылок и страшно болела грудь.
Любое шевеление, даже слабый поворот головы причиняли страдание.
Я, похоже, был жив – хотя жить не хотелось.
У окна в лунном свете дремал, полулежа на высоких подушках, старый негр с седой головой; глаза его были закрыты, в уголках пухлых запекшихся губ в такт дыханию пузырилась слюна; временами во сне он что-то непонятно бормотал – по-африкански, должно быть.
«Черный человек, – вдруг вспомнилось мне в унисон моему состоянию, – черный, черный…»
Я не понимал, сколько провел времени вне пределов сознания.
Я не знал, что со мной, и спросить было не у кого.
Я вроде дернулся, чтобы позвать на помощь, да так и замер: больно было дышать, не то что кричать.
Меня, признаюсь, впервые так скрутило, и, кажется, я никогда прежде не чувствовал себя столь беспомощным.
На мгновение даже представил себя лежащим без сил на земле, придавленным сверху нескончаемой, до неба, желеобразной башней из мужчин и женщин, молящих меня о жертве.
«Обложили по полной программе! – подумалось не без сарказма, словно речь шла не обо мне, а о ком-то постороннем. – Ни возразить, ни убежать…»
Отчего-то я вспомнил последнюю фразу отца, произнесенную им за минуту до смерти, едва мы с мамой достали его из петли.
– Как же, держите карман шире… – судорожно прохрипел он кому-то, глядя мимо меня невидящими глазами.
В ту минуту, готов поручиться, в комнате, кроме нас троих, никого больше не было; мама его обнимала и плакала, а я повторял как заклинание: «Папа, не умирай, папа, не умирай!»
До недавнего времени я не догадывался, что же он тогда видел и с кем говорил.
До недавнего времени…
23
– Профессор, он третий день бредит и не приходит в сознание… – услышал я шепот поблизости.
«Боже мой, Машенька!» – тотчас узнал и обрадовался я, и только хотел откликнуться и успокоить ее, как надо мной бархатно прозвучал мужской голос, показавшийся на удивление знакомым.
– Но, Мария Семеновна, помилуйте, – мягко и чуть насмешливо пророкотал обладатель приятного баритона. – Наш герой только что перенес тяжелейшую операцию на сердце!
«Никогда прежде, – подумалось мне, – я не испытывал проблем с сердцем!..»
– Умоляю вас, доктор, сделайте что-нибудь!.. – потерянно бормотала Машенька мокрыми от слез губами. – Пожалуйста, пожалуйста!..
«Бедная, бедная моя, бедная!» – отозвалось во мне щемящей болью.
– При всем к вам моем почтении, Мария Семеновна, – степенно ответствовал баритон. – Теперь, как у нас говорят, все в руках Бога и самого пациента!
Я безуспешно пытался припомнить, кому мог принадлежать этот бархатный баритон и где я его слышал.
– Он поправится, доктор? – опять и опять со слезами отчаяния вопрошала моя бедная страдалица.
Я было хотел закричать, как сильно я ее люблю, и как мне всегда было с ней хорошо, и как я ей благодарен за дни и годы, проведенные вместе, и за ее доброту, и, конечно, за нашего сына, и вообще – но, однако, не смог, будто кто-то держал меня за горло…
– Надеюсь, больной нам поможет, и мы сообща наш недуг победим! – чуть, как мне показалось, насмешливо прозвучал мужской голос.
«Монах! – наконец, осенило меня. – Мог бы раньше сообразить!»
– Доктор, что надо, любые деньги… – все-таки не удержалась и разрыдалась Машенька.
«Маша, спасайся! – беззвучно кричал я, не в силах пошевелить губами или открыть глаза. – Любимая, беги!»
– На все Божья воля, Мария Семеновна! – мягко пророкотал монах и кончиками пальцев коснулся моей груди.
Боль немедленно улетучилась.
– На все! – повторил он, поглаживая меня.
«Держи карман шире…» – отчего-то сами собой всплыли из глубин сознания слова отца, произнесенные им за минуту до смерти.
И тут же меня пронзило насквозь волной лютого холода…
24
Никакие, впрочем, физические мучения не шли в сравнение с теми душевными переживаниями, что обрушились на меня, едва я пришел в себя: с одной стороны, единственным человеком, который меня понимал и поддерживал, была моя Машенька, с другой же – у меня недоставало духа поведать ей о своих злоключениях.
Да и что бы я ей рассказал?
Что некие силы, пусть даже сам Бог(!), решили, прочтя мой роман, испытать меня жертвой нашего единственного сына(!)?
Или, другими словами, что мне, спустя четыре тысячи лет, предложили исполнить то, на что не отважился Авраам?..
И что это не бред и не шутка – но (как я и писал в своей книге!) всамделишнее испытание для человека во спасение людей?..
И что я – то есть мы с нею оба! – попали в историю, из которой неведомо как выбираться?..
Бедная, бедная моя Машенька с первой минуты была резко против моего «Спасения».
Я всегда с ней делился своими замыслами и ее мнением дорожил больше всего на свете.
Но тут, помню, едва заслышав, о чем роман, она побледнела и опустила глаза.
На вопрос, что ее испугало, она сразу не ответила и лишь позже призналась, что вся эта история с закланием любимого сына внушает ей непреодолимый ужас.
В самом деле, она неизменно радовалась любым моим начинаниям и всячески помогала – в сборе материала для будущей книги, советом или просто похвалой; тут же она, повторюсь, как будто отдалилась и спряталась.
И никакие мои уговоры или досужие рассуждения на тему искусства и жизни, вроде того, что искусство всего лишь похоже на жизнь, но жизнью не является, на нее не действовали; при любом упоминании о романе она уходила в себя, прятала глаза и замыкалась.
Материнское чутье ей, должно быть, открывало нечто, мне недоступное…
25
В продолжение дней или, может быть, месяцев (я тогда потерял счет времени) с утра и до позднего вечера Машенька неотлучно находилась возле меня: меняла одежду, постельное белье, выносила судно, натирала мазями и массировала – и неустанно молилась, молилась о моем выздоровлении.
С наступлением сумерек она убегала домой, чтобы подменить Митину няню, и утром опять возвращалась в больницу.
Я видел, как ей тяжело, неспокойно и с каким нетерпением она ждет моего возвращения к жизни – однако же глаз в ее присутствии не открывал, поскольку не знал, что сказать.
Лжемонах (отныне пребывающий в личине профессора!), что ни день, заявлялся в сопровождении толпы практикантов-медиков и с удовольствием смаковал нюансы моего уникального, по его выражению, случая.
– Прошу, господа, перед вами пример, – высокопарно провозглашал он, становясь в изголовье кровати, – настоящего, неподдельного чуда современной медицины! Вы только представьте, – восклицал он с интонацией циркового конферансье, – что сердце этого человека разлетелось на мелкие кусочки, подобно сосульке, упавшей с высокой крыши! Ваш покорный слуга умудрился собрать эти самые кусочки и заново склеить! – говорил он во всеуслышание (при этом склоняясь ко мне и нашептывая: ваш также покорный слуга!). – Смотрите, он дышит, он жив, господа! – выпрямляясь, торжественно объявлял мой мучитель.
И так, из лекций в изголовье, я узнал, как меня, «уже основательно мертвого», доставили в морг (где он по обыкновению кого-то потрошил!), и как он «сразу признал во мне знаменитого писателя», и с каким усердием он перепиливал мне ребра, менял сосуды, и даже как будто само сердце…
– Теперь он еще поживет! – заключал он с чувством глубокого удовлетворения.
Иногда (полагаю, в отсутствие Машеньки!) он еще и еще раз негромко просил «пораскинуть мозгами о нашем деле»…
26
Я и без напоминаний ни о чем другом, как о «нашем деле», думать не мог!
В одурманенном болью и лекарствами мозгу бесконечной чередой проносились мучительные вопросы, ни на один из которых, увы, я не находил ответа.
Например, каким образом и откуда свалился на мою голову этот мой новый знакомец (монах, он же прекрасная дева!) и кем он (или она!) в действительности является…
И кто Он, Тот, что за ними стоит (или, может, стоят)?..
И почему, собственно, выбор пал на меня?..
И в чем истинный смысл моей жертвы?..
И берут ли при этом в расчет мою добрую волю?..
И что с нами (со мною и сыном) случится, когда откажусь (а ведь я откажусь!)?..
Наконец, у меня не сходилось в мозгу, почему бы Ему (или Им!) Самому не решить это дело?..
Время в больничной палате текло изнуряюще медленно.
Сосед мой, похоже, по-русски не понимал, что, к счастью, избавляло меня от ненужных разговоров.
Мы с ним не здоровались, не улыбались друг другу, разве что изредка невольно встречались глазами.
Днем я по-прежнему не подавал признаков жизни, и только по ночам, когда мы с «черным человеком» (черным, черным, как я про себя его называл!) оставались совсем одни, я себе позволял наконец подняться, цепляясь руками за стену, доковылять до окна и вдохнуть запах улицы.
Я мог часами разглядывать изгибы кровли на крышах старых домов, убранство деревьев вдали, в городском саду, или наблюдать алкашей, вечно толкущихся у пивного ларька, или смотреть, как плывут облака, или следить за медленно ползущим огненным месивом машин на шоссе подо мной…
Из окна двадцать шестого этажа дома, деревья, машины выглядели как брошенные игрушки.
Так и Некто, должно быть, представилось мне, лениво взирает на нас со своей высоты и напрасно пытается вспомнить, когда и с какой, собственно, целью Он нас создал.
«Какими нас видит Бог?» – глядя в окно, повторял я про себя.
– Во весь рост и в полную величину! – послышался голос с легким иностранным акцентом.
Я обернулся и замер от удивления: меньше всего я ожидал обнаружить своего молчаливого и ко всему безучастного соседа по палате.
«Если он понимает по-русски, он мог меня слышать…» – мелькнуло в мозгу.
«Но я же, – подумал я следом, – молчал как рыба и рта, сколько помнилось, не открывал!..»
– А действительно, днем вы молчали, – по-доброму глядя, как будто подтвердил он, – зато по ночам я едва поспевал за безудержным бегом ваших мыслей. – И скромно посетовал: – Все-таки русский язык мне, увы, не вполне родной…
Он явно читал мои мысли!
– Вы хотите сказать, по ночам… я разговариваю вслух? – осторожно полюбопытствовал я.
– Походит на исповедь, верно! – откликнулся он. – Говорите и говорите, случается, практически без перерыва и ночи напролет.
– Однако же я не замечал за собой… – пробормотал я, уже вяло и менее уверенно.
– Вот и я за собой не замечал, пока ученики не рассказали! – опять непонятно чему обрадовался черный человек. – Виноват, не представился: Гершон Бен-Мордехай Люксембург, профессор Каббалы…
– Тот самый профессор из Иерусалима! – не удержался и закричал я.
– Тот самый, пожалуй! – смущенно потупился он.
– Помните, я вам звонил, а потом приезжал, чтобы встретиться, но потом…
– По какой-то причине спешно вернулись в Москву! – подхватил он с улыбкой.
– Да… – отчего-то смешавшись, подтвердил я (он решительно был в курсе всего, что творилось в моей голове!).
– Как и было условлено по телефону, ровно в назначенный час, – пояснил Бен-Мордехай, – я пришел к вам в отель «Царь Давид» и, увы, не застал. В лобби, куда я обратился за помощью, мне сообщили, что вы неожиданно сократили свое пребывание в Святом городе и срочно отбыли в Москву.
– Да… в общем… были причины… Я не мог ждать… – запинаясь, теряя слова, пробормотал я. – Потом было пытался звонить вам уже из Москвы… хотел извиниться…
– Известное дело, когда ты вдруг нужен, – кивнул он, – найдут под землей! И также известно, как это бывает, когда ты не нужен…
– Но я не хотел вас обидеть, поверьте… – взмолился я тихо, желая его успокоить.
– Да что вы, – махнул он рукой, – на людей обижаться!..
– На кого же еще обижаться, если не на людей? – вяло пошутил я.
– На себя! – неожиданно ясно и твердо воскликнул знаток Каббалы.
– На себя! – повторил я зачем-то следом, совсем как прилежный ученик за учителем.
Между тем за то время, что мы с ним общались, у него посветлело лицо, и цвет глаз поменялся с темно-карего на призрачно-синий.
– Все же жаль, что вы меня не дождались, Лев Константинович! – донеслось до меня, словно издалека.
– Но я, кажется, извинился…
– Многих печалей могли избежать! – повторил он, шутливо покачивая головой.
– О чем вы? – поморщился я в необъяснимом предчувствии недоброго разговора.
– О справедливости, если одним словом! – произнес он спокойно, без пафоса, как если бы речь шла о чем-то обычном, само собой разумеющемся.
– Не понимаю… – упрямо повторил я.
Хорошо помню охватившее меня вдруг состояние полнейшей безысходности: так бывает во сне, когда ты бежишь и оказываешься в тупике, откуда нет выхода и где тебя неизбежно настигают.
– Не вы ли, – напомнил он, – предваряя роман, известили мир о своем желании восстановить историческую справедливость?
– Если этот сыр-бор из-за романа… – стал я помалу выдавливать из себя, – то хорошо бы всем вам… вообще, моим критикам понять… что «Спасение» – книга… еще одна книга, в которой… по сути, больше фантазии, чем смысла…
– Не мне судить о так называемых литературных достоинствах вашего детища, – мягко заметил Бен-Мордехай, – но временами казалось, будто вы там и тогда, на горе, присутствовали и подглядывали.
Помолчав, он, как будто решившись, сел рядом со мной на кровать и со вздохом повторил:
– Там и тогда!
Повторяя без счету «там и тогда», он вроде как намекал о своем личном присутствии «тогда и там» на горе Мориа!
– …Я словно опять побывал там благодаря вам, – донеслось до меня, – и заново пережил трагическое величие этой невероятной истории!
Его похвала, как ни странно, только еще больше насторожила меня: я по-прежнему не понимал, для чего он явился и чего, собственно, добивается.
– …Читая роман, – продолжал мой мучитель, – я снова и снова пытался проникнуть в секрет этой поражающей воображение истории о несчастном старике.
– Получилось? – поинтересовался я (признаюсь, не без иронии).
– Однозначно не скажешь… – признался профессор. – От нее, как ни крути, за версту разит сыноубийством, преступлением, страданием и проклятием… – Он помолчал. – Вместе с тем поразительно – она меня ранит нисколько не меньше сказаний о гибели Трои, Помпеи или «Титаника».
Признаюсь, меня удивило сравнение драмы частного человека с величайшими трагедиями человечества; еще неизвестно, припомнилось мне из Сократа, что перетянет в глазах будущих поколений: одна великая жизнь, наполненная верой и смыслом, или тысячи прожитых всуе?..
– Так в чем же секрет Авраама, если вы знаете? – повторил я бесконечно томивший меня вопрос.
– В приятии мира! – ответил профессор.
– Так просто, и все? – импульсивно воскликнул я, не скрывая разочарования.
– И все! – подтвердил мне с улыбкой Бен-Мордехай, опять почерневший, как уголь.
От этих его бесконечных превращений у меня путались мысли и кружилась голова, – тем не менее я изо всех сил старался сосредоточиться.
Признаюсь, в тогдашней моей ситуации я мог в лучшем случае промолчать: свалившийся с неба как будто монах (или кто он еще?!), больница, обширный инфаркт, операция на открытом сердце – все это вместе мне портило жизнь и фактически исключало ее приятие.
– …Этот мир, – донеслось до меня, – ни плохой, ни хороший, и все, что в нем существует, не поддается определению. Он такой, каким его сотворил Бог, и другим быть не должен. Он – данность, против которой бессмысленно возражать, спорить или торговаться. Тогда как у вас в романе, к слову, – заметил профессор, – Бог с Авраамом торгуются, как на базаре…
(Аврааму в моем изложении Бог предложил в обмен на жертвоприношение Исаака царствие Божие на земле, что людям сулило полное избавление от войн, болезней, природных катаклизмов и прочих проклятий; другими словами – возвращение в райский сад, к ситуации до змея…)
– Бог не мог обещать Аврааму того, что не может! – уверенно заметил Бен-Мордехай.
– Бог, мне казалось, все может… – возразил я, впрочем, без прежней уверенности.
– Он может, действительно, все, – повторил каббалист, – кроме того, чего Он не может!
По аналогии, мне неожиданно вспомнилась знаменитая головоломка, как будто не имеющая решения: по силам ли Всемогущему сотворить таких размеров камень, который Ему Самому не поднять?
– …При всем своем всемогуществе, – донеслось до меня, – Бог не в силах избавить мир от предательства, лжи, эгоизма…
«…Любви, – про себя прибавил я, – мук совести, чувства раскаяния, жалости к ближнему…»
– В известном смысле Он, сотворив этот мир, его потерял! – сказал, как отрезал, Бен-Мордехай.
«Примерно как зодчий, построивший храм, не в ответе за всех, кто в нем молится!» – уточнил я для себя.
– На лекциях для простоты, – улыбнулся профессор, – я еще привожу в сравнение мать и дитя: всей материнской любви, как бы велика она ни была, недостаточно, чтобы дитя уберечь от несчастной любви, сумы, тюрьмы, войны и других прелестей жизни.
«Еще не родился тот, кто бы спасся от жизни!» – припомнился мне афоризм (кажется, Ларошфуко).
Впервые, пожалуй, за годы моих терзаний по Аврааму (выражение Машеньки) я с удивлением обнаруживал сочувствие к Богу.
До сих пор я скорее боялся Его, чем любил; представлял себе нечто огромное, постоянно ускользающее и не поддающееся описанию; сомневался, что Он есть Любовь и что сеет Добро; не верил, что жалостлив и справедлив; полагал бессердечным и чаще карающим, нежели милующим; о чем я, однако, не мог и помыслить – что Он, как и все мы, не всесилен и мучается…
– Вот и с Ангелом вы наваляли… – зевнув, произнес Бен-Мордехай таким тоном, словно речь шла о пустячной ошибке в диктанте первоклассника, а не о вопиющем искажении исторического факта. – Кажется, давно замечено, – произнес он после небольшой паузы, – что одно невозможное допущение влечет за собой и другое, как правило, еще более спорное: как невозможно представить Творца в роли торговца будущим человечества – в такой же степени странно звучит ваше утверждение о якобы придуманном Авраамом или Исааком Ангеле!
– Но картина отца, под которой есть запись свидетеля… – попытался я возразить.
– И запись верна, и свидетель не врал, и Авраам свят! – решительно перебил он меня.
– Но одно исключает другое… – искренне удивился я. – Либо свидетельство, обнаруженное отцом на древнем свитке, не соответствует истине, либо Авраам… – Я на мгновение замялся.
– Либо, хотели сказать, Авраам, – подхватил профессор, – пощадив единственного сына, нарушил завет с Богом! Да, собственно, вы прямо так это нам преподали!
«Любопытно, – подумалось, – у меня-то в руках неподдельная запись авторитетного свидетеля, подтверждающая концепцию моего «Спасения», – тогда как ему фактически нечего мне предъявить, кроме догадок!»
– Один, глядя в небо, увидит алмазы! – заметил задумчиво Бен-Мордехай. – Другой в том же небе, представьте, – отвратительных тараканов. Третий, туда же глядящий, – одну пустоту. Вам ли мне объяснять, что можно смотреть и не видеть – а можно и видеть, не глядя.
«Только не это!» – поморщился я в предчувствии очередной банальщины.
– Не всякому это дано – узреть Ангела! – как будто нарочно подтвердил он мое опасение.
Смешно говорить, и меня посещала мысль о возможной временной слепоте моего единственного свидетеля – только я на нее не клюнул, в отличие от профессора.
Со всех точек зрения (мне так казалось!) явление Аврааму спасительной помощи извне выставляло человека в беспомощном свете – неспособным восстать и защитить собственное дитя.
И спасло Исаака, по моему решительному суждению, не чудо явления Ангела Аврааму – а чудо отцовской любви к сыну!
И обнаруженный древний свиток служил тому убедительным доказательством!
И писал я роман с таким чувством, как будто творил новую историю!
И по выходе книги в свет гордился собой – как никогда прежде!
Машенька, впрочем, ее не прочла – что случилось впервые за тридцать два года нашей совместной жизни…
– Ах, скольких можно было избежать неприятностей, Лев Константинович, не поспеши вы тогда уехать из Святого города! – упрекнул он меня в очередной раз.
– Вы бы меня отговорили писать роман? – устало откликнулся я.
– Дождись вы меня, – произнес он со странным упорством, – я бы вас умолял не ходить против Бога, не противиться Чуду и не лжесвидетельствовать против Ангела… наконец, не судить строго Авраама и не переписывать эту историю…
– Я его не судил… – возразил я со смешанным ощущением ужаса и безразличия.
– «Отказавшись пожертвовать сыном, – легко процитировал он наизусть, – Авраам не исполнил подвиг Веры, в обмен на который Бог обещал людям возвращение в Рай!»
– Но я ничего не придумывал специально… – пробормотал я, с трудом подбирая слова. – Обнаруженный факт показался правдивым… Я как бы доверился свитку… записи свидетеля… в которой не было и намека на Ангела… – продолжал я, безуспешно борясь с дрожью в голосе. – Чем не сюжет, я подумал… Любой другой писатель на моем месте… Сначала увлекся, потом… Что-то вроде болезни, от которой хотелось освободиться…
– Болезнь называется синдром Авраама! – торжественно провозгласил Бен-Мордехай.
– Но я вам, запомните, не Авраам! – закричал я в отчаянии. – Не старый, не новый, и вообще! – кричал я. – И мой сын никогда Исааком не станет! – кричал. – В моем случае – верно, не станет! – кричал. – И на царствие Божие я не согласен! – кричал. – Не такою ценой! – я кричал…
Меня словно несло по бурной реке, швыряло и било о камни, я же бессмысленно дергался, стонал и посылал проклятия всем, кто во спасение мира требовал гибели моего единственного сына…
– Кинем в окно, а там подберем! – неожиданно прозвучал надо мной хриплый, как будто простуженный мужской голос.
– А если уроним, допустим, чо будет? – фальцетом откликнулся некто, также невидимый.
– Крылья порву! – узнал я как будто усиленный громкоговорителем голос Бен-Мордехая.
Скоро я понял, что речь обо мне и что это меня за руки, за ноги раскачивают, подобно катапульте, у распахнутого окна больничной палаты на двадцать шестом этаже!
С огромным трудом сквозь тяжелые веки я различил – в голове и в ногах! – двух санитаров со стертыми лицами и крыльями за спиной.
– Кидаем на два-три-четыре! – весело объявил обладатель фальцета.
– Сойдет и на три! – молвил тот, что хрипел.
«Сразу два ангела, будь вы неладны!» – ругнулся я мысленно.
Ощущение безысходности, полнейшего одиночества, неготовности к смерти плюс полнейший идиотизм ситуации мгновенно затмили все мои разногласия с Вечностью.
Я вроде дернулся крикнуть, что еще жив, – только, кажется, опоздал…
27
Вопреки ожиданию я не разбился: те же двое со стертыми лицами и крыльями за спиной, что низвергли меня с высоты двадцать шестого этажа, легко подхватили у самой земли и с величайшей осторожностью поставили на ноги.
Меня поджидал профессор каббалы, успевший непонятным образом переодеться во все черное: черную обувь, черные штаны, черный сюртук до колен, черную, с черными пуговичками сорочку, черные лайковые перчатки на черных руках и черную же широкополую шляпу!
– Ну как, страшно было? – вполне даже сочувственно полюбопытствовал Бен-Мордехай.
Помню, в ответ я бессмысленно выругался – чему все трое как будто обрадовались.
И сегодня еще содрогаюсь, как вспомню, как камнем летел вниз с двадцать шестого этажа.
Сбитый с толку, обмякший и под обе руки поддерживаемый ангелами, я, кажется, не испытывал других чувств, кроме ужаса.
– Страшно падать, когда ты один и надеяться не на что! – назидательно произнес черный человек (черный-черный!).
– И нестрашно, когда не один и на что-то надеешься! – повторил на свой лад обладатель фальцета.
– Так-то, брат Авраам! – усмехнулся простуженный Ангел.
– Но я вам – не Авраам! – простонал я, теряя сознание…
28
Едва ли я понимал, куда иду и зачем.
Мне только хотелось убраться подальше от страшной больницы и по возможности разобраться в последних событиях.
Нелишне сказать, полагаю, что я по ночам сплю без снотворного, не боюсь темноты, призраков или страшных видений и вообще обладаю отменным психическим здоровьем.
К тому же профессия писателя приучила меня фиксировать и изучать всевозможные ситуации (ибо – как знать, что может сгодиться в работе).
И всему, что случалось со мной (до последнего времени), я, как правило, находил рациональное объяснение.
Вот и сейчас, говорил я себе, мне предстоит успокоиться и разобрать два возможных сценария.
По первому некие силы (в реальность которых так долго не верил) затеяли игру со мной в нового Авраама!
По второму вполне могло статься, что никаких таких сил в действительности не существует, а безумие последних дней – не что иное, как плод моей фантазии, воспаленной событиями тысячелетней давности!
То ли извне кто-то мучил меня (во что мне верилось по-прежнему с трудом!), то ли я себя сам истязал…
И тут я привычно просунул ладонь между пуговицами больничной пижамы и ощутил пупырчатые края послеоперационного шрама на груди.
Невозможно, подумалось мне, самого себя вскрыть, как консервную банку; и что есть мой шрам, как не зримое свидетельство грубого вторжения извне!
Но, бывало, припомнилось мне, у людей появлялись на теле порезы и шрамы безо всякого постороннего вмешательства!
Например, в современном Египте, я сам это видел в коптских монастырях, монахи через одного демонстрировали посетителям стигматы в известных точках на руках и ногах…
29
Итак, поразмыслив, я принял решение незамедлительно постучаться в двери ближайшей психиатрической лечебницы (мне было проще примириться с собственным безумием, нежели признать существование другой реальности!).
На ближайшей стоянке такси я забрался в машину и решительно скомандовал:
– В психушку, поехали!
– В какую желаете? – совсем, кажется, не удивился водитель, мужчина лет тридцати пяти, с круглым лицом и озорными глазами.
– В любую! – отважно ответствовал я.
– Их много в Москве! – засмеялся таксист и показательно принялся загибать узловатые грязные пальцы. – Имени П.Б. Ганнушкина на Потешной, имени В.А. Гиляровского в Сокольниках, имени Н.А. Алексеева на Загородном шоссе, имени З.П. Соловьева на Донской, №12 на Волоколамском шоссе, №14 на улице В.М. Бехтерева…
– Мне все равно, куда ближе, пожалуйста! – попросил я, поудобнее располагаясь на заднем сиденье машины.
– До Потешной нам ближе, – ответил он важно. – Но вам хорошо бы в Сокольники, к В.А. Гиляровскому.
– Куда ближе ехать, туда и поедем! – предложил я ему, почти теряя терпение.
– Ближний путь, – возразил он, – опять же необязательно самый короткий!
– Да кто вы такой? – закричал я, уже не сдерживаясь. – Поезжайте, куда было сказано, все!
– В Сокольники, в смысле к В.А. Гиляровскому? – переспросил он, как ни в чем не бывало, наивно помаргивая белесыми ресницами.
– Нет, – заорал я в голос, – к П.Б. вашему Ганушкину!
– Ваши денежки, как говорится! – воскликнул таксист.
– Мои! – автоматом выкрикнул я, параллельно осознавая, что именно денег у меня и нет.
– Ваши денежки – ваша воля! – пробормотал он, нажимая на педаль акселератора.
– Стойте, я вам солгал! – простонал я, дрожа всем телом. – Их у меня нет!..
– Нет – и не страшно! – удержал он меня, буквально в последний момент, когда я уже распахнул дверцу авто. – Я вас за бесплатно, пожалуй, домчу к В.А. Гиляровскому! – прокричал он, почти просительно заглядывая мне в глаза. – Великий был доктор!
– Но он давно умер! – воскликнул я, дернувшись.
– Умер давно, а дело его – живет! – подхватил таксист с восторгом.
– Да поехали, что ли! – махнул я рукой…
30
До Сокольников к В.А. Гиляровскому мы домчались, как мне показалось, в одно мгновение (впрочем, возможно, что я задремал и времени не замечал).
К моему изумлению, у проходной меня уже поджидали двое в белых халатах, с носилками.
– Я с дороги телефонировал им, чтобы встречали! – немедленно объяснил водитель, высунувшись по пояс в окно.
– Лягайте, как будто вы дома, Лев Константинович! – радушно приветствовал меня розовощекий санитар с маленькими, близко поставленными глазками и почти кукольным, крошечным вырезом рта.
– А как вы узнали, что Лев Константинович?.. – попятился я.
– Так вы мне сказали, а я уже им доложил, как положено, по телефону! – снова с улыбочкой пояснил таксист, выбираясь из машины и занимая позицию у меня за спиной.
И опять, с его слов, получалось правдоподобно (только я ничего такого не помнил!).
– Вы бы, Лев Константинович, лучше уже прилегли, – ухмыльнулся другой санитар, с воспаленным лицом, коренастый, без шеи, с кривыми ногами.
– Ребята вам дело советуют, Лев Константинович! – послышалось сзади.
– Да я в принципе не сумасшедший… – пробормотал я, затравленно озираясь по сторонам.
– Мы в принципе тоже! – заверил меня со всей серьезностью розовощекий санитар.
– Я всего лишь хотел… – выдавливал я из себя по одному слову. – Хотел посоветоваться… со специалистом…
– Совет, понятно, денег не стоит! – подпирал меня сзади водитель такси, не позволяя пятиться.
Подавшись вперед, я едва не наткнулся на электрошокер, который наставил на меня кривоногий санитар, пока розовощекий размахивал надо мной, как знаменем, новенькой смирительной рубашкой.
– Не троньте меня, я не псих! – закричал я, отпрянув, и немедленно оказался в цепких объятиях таксиста.
– А мне говорили, что псих! – напомнил он, радостно похохатывая.
– Не псих, я не псих! – кричал я, как в стену, пока санитары облачали меня в смирительную одежду…
31
О тюрьмах, публичных домах и приютах для душевнобольных написано столько, что мне с моим скромным опытом пребывания в психиатрической клинике имени В.А. Гиляровского вряд ли удастся что-то добавить (тем более чем-то удивить).
Находился я в этой одной из старейших лечебниц России сравнительно недолго: две, три… или, может, от силы… пять или восемь недель!
За все это время – необходимо заметить! – меня не травили сильнодействующими психотропными препаратами, не поливали из шланга ледяной водой, не истязали бессонницей, не били головой о стены, не насиловали и не пытали электрошоком (я бы такое, наверно, запомнил).
Единственный раз я подвергся насилию по приезде, когда на меня против воли надели смирительную рубашку – да и то случилось по досадному недоразумению, в чем позже поклялся мой лечащий врач профессор Н. (настоящего имени которого я, по понятным причинам, не называю)…
Н. прилежно являлся ко мне по утрам, едва я вставал, и уходил поздно вечером, когда у меня слипались глаза.
Перед тем как войти, он обычно стучался и, приоткрыв дверь, вежливо интересовался, могу ли я его принять.
Фактически я жил в его кабинете с собственным туалетом и душем (из особого, как он выразился, ко мне расположения).
Там же, в моей одноместной палате, мы без помех вели с ним бесконечные беседы и там же завтракали, обедали и ужинали.
Еду и питье подавал нам старик, облаченный во фрак, с веревкой на шее, завязанной бабочкой (меня умиляло, с каким трогательным прилежанием он сервировал наш стол, зажигал свечи, подливал в бокалы вино, менял приборы и блюда!).
Обращались со мной, повторюсь, во всех смыслах корректно и доброжелательно…
32
Вплоть до описанных событий я себя ощущал полновластным хозяином собственной жизни.
Я готов был скорее признаться в собственном безумии, нежели допустить существование другой реальности.
Часовой механизм в моем понимании являлся едва ли не лучшей метафорой мироустройства: одно колесико зримо и надежно зацеплялось за другое…
Кому-то, возможно, дано проникать в тайны за многими печатями – мне же при мысли о времени немедленно вспоминался примитивный белый циферблат наручных часов, оставленных отцом в наследство (в комплекте со старым охотничьим ножом с наборной ручкой и копией знаменитой картины Караваджо).
Я мало чего принимал на веру и неизменно искал всему случившемуся разумное объяснение.
Не однажды, к примеру, я мог утонуть, разбиться, остаться калекой – однако, оставшись в живых, я не спешил благодарить небо и только внимательно анализировал ситуацию.
Помню, мальчишкой, совсем не умея плавать, я прыгнул с моста в бурлящие воды водопада.
Вокруг было много людей – но никто не отважился мне помочь.
Мгновения, когда меня страшно крутило и било о дно, показались вечностью.
И долго еще я валялся без сил на дальней песчаной отмели, куда меня вынесло, как на руках, мощным течением реки.
Я чудом выплыл…
Между тем в моем детском дневнике сохранилась запись: «Благодаря очень быстрому течению реки меня скоренько вынесло на мелкое место, и я не утонул; а случись то на тихой воде – точно бы утонул!…»
Однажды, давно, за неимением мест в гостинице я коротал ночь в парке напротив.
Корявые ребра скамьи врезались мне в тело, я мерз, не спалось, ныла шея и жизнь представлялась сплошным наказанием.
Под утро в отеле случился пожар – и опять меня поразило не чудо спасения, но стечение неких обстоятельств!..
– Прежде я не терял головы… – подумал я вслух.
– Ничего, потеряли – найдем! – озорно встрепенулся профессор, слегка приподнялся над креслом, отжавшись на руках, и шутливо вытянул шею вверх.
Я смотрел на него и не понимал, почему ему так смешно.
– Вижу! – закричал он так радостно, будто открыл в небе новую звезду. – Вижу голову! Вашу! На ваших же собственных плечах, Лев Константинович!
– Я ее потерял… – повторил я угрюмо.
33
Еще и еще уточню, во избежание недопонимания, что я сам, без принуждения и по здравом размышлении, явился в психиатрическую клинику имени В.А. Гиляровского и попросил о помощи.
И это я сам здравым образом рассудил, что сошел с ума!
Как ни странно и как ни смешно прозвучит – при нормальном помешательстве у меня еще оставался шанс, подлечившись, вернуться к семье… (Машеньке, чтобы не волновалась, я позвонил и сказал, что очень ее люблю, что уехал далеко и что не скоро вернусь, но – непременно вернусь.)
Поначалу профессор, как помнится, больше слушал, иногда задавал наводящие вопросы или что-то просил повторить – как он говорил, для памяти.
Постепенно наше общение приобрело доверительный, дружеский характер.
Он был первым, по сути, и единственным, кому я всецело доверился (ведь я был уверен, что болен, а он как-никак мой лечащий врач!).
Я впервые исповедовался и впервые же испытывал чувство избавления от тяжести: словно часть неподъемного груза с моих плеч постепенно чудесным образом перекочевывала на другие.
Походило на то, что я иду на поправку, и, кажется, вскоре я даже поинтересовался у Н., как долго еще, по его мнению, может продлиться мое заточение в этой (явилось на ум!) обители поврежденного духа.
– Да кто же вас держит, Лев Константинович? – искренне изумился Н. – Вы вольны хоть сейчас подняться с кровати и ехать домой! – И мягко добавил, заметив мой растерянный взгляд: – Положительно вам говорю, вы здоровы!
– Я – что, я – здоров?.. – переспросил я, медленно и тяжело ворочая языком, как будто учился заново говорить.
– Совершенно здоровы, и больше того, – улыбнулся профессор, – любой, самый строгий консилиум психиатров, скорее всего, подтвердит этот мой диагноз. Нечасто сегодня увидишь, – продолжил он, чуть помолчав, – человека с мятущейся душой и все понимающим разумом. Да где-то внутри себя вы и сами наверняка знаете, что не больны. И то, что бежите от всех и прячетесь по больницам, – прищурился он, – вполне свидетельствует о трезвом уме и присутствии духа. Ибо только по здравом размышлении, – вдруг понизил он голос, – можно позволить себе быть безумным. Но, правда, недолго… – добавил не сразу.
За то время, что он говорил, я успел состариться и поскучнеть на тысячу лет.
Чувство полнейшей апатии, подобно смертельному яду, проникло в меня и парализовало волю и желания.
Я перестал слышать звуки, различать цвета, и образы извне уже не будоражили меня.
Меня будто могильной плитой придавило (точнее не скажешь!) – я же, как ни странно, совсем не пытался освободиться.
Мне сделалось неинтересно.
Кажется, я никогда прежде не испытывал такой скуки.
Ни страха, ни слез, ни тоски, ни хотя бы элементарного сожаления по поводу расставания с прошлым.
Воистину, мне не хотелось жить…
Я намеренно не торопился с описанием внешности моего лечащего врача.
Легко догадаться, что он как две капли воды походил на моего преследователя – монаха: тот же низкий, скошенный лоб неандертальского происхождения, те же белесые брови и близко посаженные болотные глаза, широченный распухший нос, сплошь усеянный жирными черными точками, то же безбородое лицо с тремя-четырьмя белесыми волосками растительности на подбородке…
Я тотчас его узнал, едва он появился и подчеркнуто приветливо поздоровался со мной.
Первым импульсивным движением было накинуться на моего мучителя с кулаками и бить, пока хватит сил, а потом будь что будет!..
Скоро я, впрочем, опомнился, сообразив, что видимый мной человек скорее всего не соответствует реальному изображению.
– Я кого-то напомнил вам, Лев Константинович? – поинтересовался Н. буквально в первую же минуту.
«И голос похож!» – отметил я про себя.
– Бывает, – заметил профессор, уютно устраиваясь в кресле, – что впервые встречаешь человека – и преследует мучительная мысль: где-то я его, интересно, мог видеть?
«И та же полунасмешливая манера говорить!»
– Называется, если по-нашему: синдром одного и того же лица или, допустим, образа! – улыбнулся он. – Это когда начинает казаться, что все люди вокруг как бы на одно лицо и это лицо тебе угрожает.
– Так это болезнь? – осторожно поинтересовался я.
– Это – болезнь! – важно подтвердил он, внимательно на меня глядя. – Как, впрочем, и все остальное. – Добавил: – Норма – она же болезнь, и она же – норма!
– Норма – она же болезнь! – повторил я с благодарностью (фактически он подтвердил мой самодиагноз – о вполне нормальном психическом расстройстве как следствии длительного и глубинного погружения в историю Авраама).
«Я болен, я болен!» – вздохнул я полной грудью, расправил плечи и поднял голову.
«Нервный срыв, сдвиг по фазе, улет, помешательство, паранойя, – почти ликовал я, – все годится!»
«Безумен, безумен, безумен!» – готов был кричать я всему миру во всеуслышание.
Нерешенным по правде пока оставался вопрос: как долго еще продлится болезнь? (Мне уже не терпелось избавиться от сального, повсюду преследующего меня свиного рыла монаха!)
И еще я желал наконец лицезреть настоящее лицо моего собеседника – о чем, собственно, и сообщил профессору, попросив его описать свою внешность.
– Это еще для чего? – искренне удивился он.
– Чтобы я вас узнал, когда встретимся после всего! – не сводя с него глаз, мрачно пошутил я.
– Ну-ну, то ли будет еще, когда встретимся после всего! – усмехнулся профессор, оставляя кресло и перебираясь ближе ко мне на кровать.
– Так, надеюсь, меня хорошо видно? – поинтересовался он, почти вплотную приблизившись.
Снова и снова я так и этак вглядывался в его лицо – но видел все тот же резко скошенный лоб неандертальского происхождения, те же белесые брови и близко посаженные зеленые глаза, тот же широченный распухший нос, сплошь усеянный жирными черными точками, и то же безбородое лицо с тремя-четырьмя белесыми волосками растительности на подбородке (в то время как он рисовал мне портрет седовласого господина с высоким лбом, широко расставленными карими глазами, тонким носом с горбинкой, почти классической формы, тонкими губами, упрямым подбородком и шеей борца!)…
– Ну как, совпадает? – поинтересовался психиатр, хитро поблескивая крохотными поросячьими глазками.
– Я болен! Я очень и очень болен! – помню, почти торжествующе заверил я доктора…
34
И вот мне опять пора было возвращаться в реальность с ее непридуманными кошмарами и безумием.
Получалось, всего на мгновение мне ослабили удушающую хватку на горле и позволили вдохнуть воздуха.
– Вы случайно не черт? – как-то полушутя поинтересовался я у моего лечащего врача.
– Я – не черт! – откликнулся Н., впрочем, кажется, не удивившись.
– И не ангел? – спросил я с надеждой.
Н. смотрел на меня, как, должно быть, примерный родитель смотрит на неразумное дитя: строго и вместе с тем снисходительно.
– Не ангел, не черт, – наконец, усмехнулся мой доктор, – не леший, не оборотень, не домовой…
– В таком случае – Бог? – оборвал я его.
– Не прочти я ваше «Спасение», – парировал он, – я бы решил, что вижу запуганную суевериями и мало просвещенную личность!
– Да что вам далась моя книга? – пробурчал я недовольно.
– Она обещает спасение! – произнес Н., отчего-то загадочно ухмыльнувшись.
– Книги еще никого не спасли от тысячи смертей! – решительно отмахнулся я и по памяти перечислил величайшие шедевры литературы, абсолютно бесполезные с точки зрения их практического применения.
– Эта книга спасет этот мир! – повторил он, как будто назло мне (и опять эта странная, раздражающая улыбочка на лице!).
«Эта книга спасет этот мир», – записал я в дневник сразу по окончании романа; готов поручиться, при этом я меньше всего думал о его спасении; скорее то был крик о свободе после стольких лет рабства; неконтролируемый взрыв; выражение счастья и всемогущества; синоним причастности к его тайнам, признания в любви…
«Он читал мой дневник!» – вдруг подумал я с ужасом.
От одной этой мысли меня зазнобило: никто в целом свете не знал о существовании старой потрепанной тетради, которой на протяжении жизни я вверял самое свое сокровенное.
Инстинктивно боясь оголиться, я прятался даже от Машеньки…
В голове было пусто, как в старом брошенном доме, из которого вынесли последние остатки мебели.
Обмякший, потухший и обессиленный, я полулежал на подушках и только мысленно вторил Аврааму из моего злополучного «Спасения»: «О, лучше бы мне не родиться!» и «Господи, почему я не умер до сих пор?»
Все, что я знал, понимал и любил в этой жизни, казалось, безвозвратно улетучилось; собственно, как и сама жизнь…
Какое-то время мы молчали.
– Искусство – не жизнь… оно только похоже на жизнь… – наконец выдавил я из себя.
– Сама жизнь на себя иногда не похожа! – небрежно, как мне показалось, откликнулся Н.
– Вы должны понимать, мой роман… – продолжил я, помолчав и снова собравшись с духом, – он… всего лишь роман… не более того…
– Литература, другими словами, – не жизнь! – поддакнул он и еще, как бы с приязнью, подмигнул.
– Всего лишь придумка… да, я все придумал… – повторил я дважды, как заклинание.
– Понятно, придумали, как же иначе! – воскликнул профессор, как будто нисколько не удивившись моему страшному признанию. – Подобно тому, как придумалась кем-то однажды и записалась веселая сказка про Сад с райскими яблоками, говорящей змеей и двумя несмышлеными человечками; или некто еще вдруг придумал страшилку про Ноя, построившего Ковчег, и Того, кто устроил потоп; или кто-то еще – леденящую душу историю про старика, жертвующего единственным и любимым сыном…
Между тем я терялся в догадках, как мой дневник оказался в его руках!..
– О троянской войне я узнал от Гомера, о греко-персидской – от Геродота, Древний Рим подарил мне Тацит! – процитировал он слово в слово мои записи двадцатилетней давности.
– Мой дневник… – произнес я, как мог безразлично.
– …Авраам не послушался Бога, – продолжал он, как будто не замечая моего состояния, – пожалел сына, искусил Творца, пренебрег вечной жизнью…
– Я уже говорил: я это придумал… – пробормотал я, холодея и пряча глаза.
– А вот мы и проверим! – неторопливо произнес Н., рассеянно поигрывая на свету турецким ножом с наборной рукояткой (я даже не видел, откуда он взялся!).
– Как, интересно, мы это проверим?.. – опять бесполезно и глупо переспросил я с замиранием сердца…
35
Мало того, что лечащий врач мгновенно откликнулся на просьбу отпустить меня из психиатрической лечебницы, он к тому же еще одарил меня модной демисезонной одеждой, мягкой велюровой шляпой мышиных тонов, удобной обувью и деньгами; ко всему предоставил свой «Мерседес» с персональным водителем.
В природе как будто смеркалось и дождь моросил.
На мокрых мраморных ступенях парадного подъезда в полном молчании толпились пациенты и персонал психиатрической клиники.
Однако же стоило мне появиться, как с разных сторон послышались голоса, призывавшие меня пожертвовать наконец своим личным во имя светлого будущего всего человечества.
– Провожаем всем миром, как на войну! – ободряюще улыбнулся доктор, заметив мою растерянность. – Ваш бессмертный роман, – произнес он лукаво, – сорвал с наших глаз пелену заблуждений! Наконец мы прозрели! – явно стебаясь, добавил он. – Они на вас смотрят с надеждой, – шепнул он с усмешкой, – как на спасителя, не меньше! Вы наш Авраам! – воскликнул он звучно. – Наш новый Авраам!
«Новый Авраам! Новый Авраам!» – разнеслось-распространилось по всей территории психиатрической лечебницы имени В.А. Гиляровского.
Прощаясь, профессор дружески привлек меня к груди и что-то (не сразу я понял, что нож!) быстро засунул во внутренний потайной карман пальто.
– До встречи в раю! – прошептал он вкрадчиво.
Садясь в «Мерседес», помню, я обещал Н. поскорее вернуть в долг взятые деньги и вещи.
– Ну, деньги и вещи нам ТАМ не сгодятся, Лев Константинович! – пообещал он…
36
На первом же светофоре я без объяснений выскользнул из машины и выбросил нож в бетонную урну для мусора; после чего, смешавшись с толпой, торопливо нырнул в ближайший подземный переход.
Едва ли я понимал, что делаю и куда бегу…
37
Спустившись в метро, я с трудом втиснулся в ближайший битком набитый вагон.
Я не видел погони и все же на следующей же станции предусмотрительно перебежал платформу и в последний момент запрыгнул в поезд, умчавший меня в противоположном направлении.
Еще какое-то время я наобум менял поезда и направления, поднимался наверх, кружил по улицам, рискованно перебегал через дорогу, ехал куда-то в автобусах, вылезал на остановках и опять петлял – пока наконец не обнаружил себя на кладбище среди могил, возле простого камня с выбитым по спирали именем отца и датами – рождения и кончины…
Вот и загадка – ноги сами собой к нему привели!
«Не ищи смысла там, где он есть!» – вдруг припомнился мне афоризм (как будто китайского происхождения), долгое время казавшийся мне каламбуром.
При виде надгробий я понял, к чему, собственно, призывал безвестный мудрец: всего лишь к смирению перед лицом очевидности!
«Что есть очевиднее смерти?» – размышлял я, потерянно сидя на камне, который служил надгробием человеку, подарившему мне жизнь.
Вместе с тем приходилось признать (вопреки рассуждению!), что я по-прежнему не примирился с его уходом!
Никогда-никогда я не мог позабыть тот солнечный, жизнью залитый день, когда мы с мамой застали отца висящим над опрокинутым столом.
Пока мы тащили его из петли, мама визжала и бранилась на чем свет стоит, а потом вдруг поняла, что он мертв, обрушилась на него всей своей тяжестью и завыла.
Так и вижу закатное небо в день похорон… отрешенные лица людей, идущих за гробом… выражение маминых глаз, когда засыпали могилу… поминки потом… огромный эмалированный таз с винегретом… пироги с капустой… пьяные тосты за упокой и спасение души мужа, отца и просто хорошего человека…
За нахлынувшими воспоминаниями я не заметил, как оказался у свежевырытой могилы с торчащими по краям, как флагштоки, лопатами.
– Во, клиент к нам пожаловал, Йорыч! – бодро и со смешком прозвучало поблизости.
– Ну наконец-то! – устало, простуженно, по-стариковски откликнулся другой голос.
Обернувшись, я различил за насыпью, среди кустов, в тусклом свете переносного фонаря два темных мужских силуэта.
«Тут как тут, и могильщики кстати!» – почему-то обрадовался я.
– Клиент, эй! – привстал с пенька и позвал меня гигантского роста мужчина и дважды призывно помахал рукой.
Не дожидаясь, пока я приближусь, он сам заторопился навстречу мне, схватил за руку и бесцеремонно потащил за собой.
Я послушно последовал за этим нелепым существом на длинных негнущихся ногах и с непропорционально коротким туловищем, с перекособоченным носом, рваными клочьями ушей и фиолетово-багровым месивом вместо лица.
– Зови меня Квазей! – заметив мой взгляд, с удовольствием пояснил гигант. – Меня так зовут! – добавил он не без гордости.
Ему могло быть тридцать, сорок, пятьдесят или, возможно, даже шестьдесят лет.
У фонаря в отрешенной позе на перевернутой вверх дном деревянной тачке сидел двухголовый карлик; впрочем, вторая голова при ближайшем рассмотрении оказалась горбом, торчащим из-под старого рабочего комбинезона.
На расстеленной между ними замусоленной цветной афише с изображением эстрадной знаменитости я различил огромную, размером с бочонок, бутылку шотландского виски, банки с импортным пивом, маслинами, шпротами, красной икрой, также пирожные безе.
– Не стесняйся, клиент, будь как будто дома! – воскликнул гигант, больно шлепнув меня по плечу. – Как будто везде хорошо, – засмеялся он, обнажив полусгнивший прокуренный рот, – а дома как будто лучше!
– Не как будто – а дома, и дома по самому настоящему, а не как будто! – жестко сформулировал Йорыч, подозрительно буровя меня черными глазками из-под густых кустистых бровей. – Тут и есть самый настоящий дом, в то время как там, – неопределенный жест рукой в никуда, – там, разобраться, у нас что-то типа временного жилья!
– А тут мы с тобой как бы, что ли, в гостях, да, Йорыч! – с готовностью поддержал его Квазя, дружески обнимая меня за плечи и подталкивая к пеньку.
– Именно что! – с той же безаппеляционностью высказался старый бомж.
Я меньше всего был расположен выслушивать банальности вроде той, что только что прозвучала; но, с другой стороны, я сам к ним явился и не хотел показаться невежливым.
– Помешал… Бога ради… простите… – пробормотал я, как мог миролюбиво.
– Как может клиент помешать – скажи, Йорыч! – снова осклабился и дважды похлопал меня по плечу веселый могильщик.
В другое время меня бы, скорее всего, покоробила фамильярность малознакомого человека, но тут я, как говорится, пропустил и не обиделся.
– Запоздал, может, малость, но то ж!.. – продолжал он со смехом. – То ж всякое с людями случается – Йорыч, скажи!
– Ты бы лучше налил человеку, – поморщившись, хмыкнул горбун.
– И налью! – по-прежнему весело пообещал длинноногий.
– Короче, за Смерть! – поднимаясь, но, впрочем, без пафоса провозгласил Йорыч.
– За нее! – моментально посерьезнел, подобрался и выпрямился жестоко битый гигант.
И опять я покорно поднялся и распрямил плечи, дабы быть вровень с могильщиками.
– Соображает, гляди! – радостно похвалил меня Квазя.
– Как мы к Ней, хочу вам заметить, относимся – так и Она к нам! – авторитетно пояснил горбун.
– Когда нечего возразить, – немедленно подтвердил Квазя, – тогда нечего и добавить!
За Смерть пили стоя, молча и не чокаясь.
– Маслинку, клиент! – Квазя выудил грязными пальцами маслину из банки и впихнул в меня, не дожидаясь моего согласия.
Прежде меня бы, должно быть, стошнило, но тут, к моему удивлению, я это все проглотил.
– Хочешь умереть? – неожиданно запросто поинтересовался у меня Йорыч.
– Да! – почти выкрикнул я, как будто только и ждал этого вопроса.
«В самом деле, сейчас мне самое время уйти из жизни, – сказал я себе, – ибо только так я смогу сохранить жизнь моему мальчику!»
– Поможем, клиент! – подмигнул мне длинноногий, закусывая шотландский виски пирожным безе. – А поможем, чего? – заговорщически прогундосил он, опустившись на корточки и подобострастно заглядывая карлику в глаза.
– Тут надо еще, чтобы Смерть согласилась, – важно ответил горбун. – Ну разве что лично Ее попросить…
– Попроси Ее, а? – немедленно ухватился Квазя, услужливо вкладывая ему между пальцев гаванскую сигару. – Ты же можешь! – гудел он с восторгом, поднося старику зажигалку в виде гробика с покойником внутри.
Йорыч неторопливо прикурил от черепа человечка, охваченного синим пламенем, после чего наконец обратил взор на меня.
– С одной стороны, мы имеем могилу… – назидательно произнес он и с особым значением кивнул в сторону свежевырытой ямы.
– С другой стороны, мы имеем тебя! – перебил его Квазя, опять больно похлопав меня по плечу.
– Именно что! – подтвердил старый бомж, задумчиво облизав толстую нижнюю губу. – В связи с чем, – он продолжил, поморщившись, – лично у меня возникает вопрос…
– Чего мы имеем! – опять вылез Квазя, но, получив шлепок по лбу, заткнулся и отскочил.
– О жизни и смерти вопрос! – обнажив желтые зубы, саркастически усмехнулся горбун…
38
Йорыч, насколько я уловил по обмолвкам, происходил из актеров и даже когда-то блистал (по его выражению) в роли могильщика в «Гамлете».
Йорычем, впрочем, его (для понятности, как он сказал) окрестили коллеги по кладбищу; когда-то же его прозывали Йориком – в память о черепе бедного Йорика из все того же произведения.
Однажды (опять же, по его признанию) ему сделалось тесно в суррогатных реалиях современного театра; наконец, после долгих духовных метаний и прозрений он естественным образом обнаружил себя на кладбище, где не надо прикидываться и где все выглядит по-настоящему: как жизнь, так и смерть…
Квазю (который в отличие от Йорыча не помнил своих родителей) угораздило, как он выразился не без сарказма, родиться тринадцатым сыном в семье примитивных цирковых артистов.
– Представь, из укромного лона мамаши, – и тут он ручищами изобразил это лоно, – я прямиком и без промедления проследовал в безразмерное лоно вселенского балагана!
С его слов получалось, он себя помнил с рождения – буквально с той самой минуты, когда его впервые бесцеремонно похлопали по нежной розовой попке.
– С той самой минуты, – признался, потупившись, Квазя, – не было дня, часа или минуты, когда бы меня не били.
Били, как он пояснил, не со зла и по делу – то есть специально уродовали для роли Квазимодо в цирковой феерии по мотивам романа Гюго «Собор Парижской Богоматери» (эта роль, как одна из заметных в мировом репертуаре, всегда по наследству доставалась младшему сыну!).
– Младший – понятно, он самый любимый! – ностальгически восклицал Квазя.
Он то и дело сбегал от семьи, где-то прятался, его находили, спустя какое-то время он снова бежал и опять его догоняли и били еще страшнее – пока однажды, спасаясь, он не забежал на кладбище, где, собственно, и познакомился с Йорычем…
Наконец после тысячи тостов – за Истину, Дух, Вечность, Надежду, Любовь, Жизнь и Смерть, Веру в Бога и Свободу от Него! – я не удержался и рассказал-таки моим удивительным собутыльникам о постигшей меня беде.
Открывать душу меня никто не просил, я сам ее распахнул – под влиянием то ли выпитого, то ли пережитого за последние дни.
От короткой леденящей кровь ветхозаветной записи в Библии про Авраама я обреченно перекинул мост к моей личной истории – кажется, не менее безумной…
Оба могильщика внимательно меня слушали и почти не перебивали.
Разве что Квазя время от времени подскакивал и заботливо подливал нам виски, при этом умоляюще гримасничая и приговаривая: «Ну, где Жизнь, там и Смерть!»
Если вначале еще я испытывал нечто вроде неловкости от того, что исповедуюсь первым встреченным, то к концу моего нелегкого повествования между нами троими – так мне опять же казалось тогда! – возникло редкое состояние приятия и понимания.
Даже с Машенькой на протяжении всей жизни я держал себя в рамках и не открывался до такой степени…
– И что же мне делать, ребята? – размазывая по лицу слезы, горестно возопил я (даже спьяну вполне сознавая, что кричу в пустоту и надеяться, судя по всему, не на что!).
– Или делай, что должен… – вдруг натужно прохрипел Йорыч.
– …Или поступай как знаешь! – легкомысленно заключил Квазя, торопливо отправляясь по нужде в ближайшие кусты.
– Что именно я должен сделать?.. – смертельно похолодев, спросил я настороженно.
– Что должен! – уже отчетливо повторил старый карлик.
– Да ты знаешь, клиент! – донеслось из кустов.
– В самом деле знаю… – пробормотал я, медленно направляясь к разверстой могиле…
39
Сколько помню, всегда содрогался при мысли, что вот придет мое время и положат меня в сырую землю (банальность, смешно говорить, но иначе не скажешь!), на радость дождевым червям.
Провожая в последний путь друзей или близких, я помимо воли представлял себя на месте покойника: как лежу, покинутый жизнью, бездыханный и безучастный, как меня отпевают, прощаются со мной, опускают в могилу, забрасывают землей…
Обычно по возвращении с кладбища я еще долго томился под прессом печальных размышлений о краткости бытия и неизбежности конца, бежал от общения, прятался, пил, тосковал – и так оно повторялось и тянулось, пока во мне вызревали новые доводы в пользу жизни.
Не стану скрывать, до рождения бесконечно любимого, единственного сына я, случалось, хандрил и в минуты отчаяния даже подумывал покончить с этим бездарным, бессмысленным, как иногда казалось, течением дней.
С появлением Мити, по счастью, все мои размышления о ценности или никчемности жизни сами собой отступили.
На склоне лет (когда я уже и не ждал!) Судьба подарила мне переживание, сильнее и прекраснее которого я не испытывал: мое творение, мой сын, моя надежда, мое продолжение в этом мире!
Наконец я обрел существо, ради которого мог разрешить себе жить – вопреки всем затмениям солнца, луны, души, таянию ледников и всемирной несправедливости, предательству, лжи, насилию, болезням и прочим житейским невзгодам.
С того дня, с той минуты, с того мгновения, что я увидел его, моя жизнь приобрела значение…
Но вот, размышлял я не без горькой иронии, решительно располагаясь в грязи на дне могилы, теперь от меня – от меня одного, как мне было заявлено! – зависело, быть ему или не быть…
Сырая земля между тем подо мной ощутимо теплела.
Неужели, мелькнула абсурдная мысль, под кладбищем теплоцентраль?
И тут же подумал, что это, должно быть, подземные воды и, вероятнее всего, вулканического происхождения.
Но, впрочем, немедленно вспомнил, что под Москвой никогда не было вулканических пород.
Отчего в таком случае мне так тепло, когда должно быть холодно, недоумевал я. И еще несносно запахло мочой…
– Там котлы с кипятком под тобой! – вдруг послышалось сверху.
– Какие, простите, котлы? – опять я против воли не удержался и заголосил.
– Известно какие, – скажи, Йорыч, да! – издевательски осклабился Квазя.
– Вы хотите сказать… что они – существуют? – мысленно содрогнувшись, пробормотал я.
– Они существуют! – как будто скучнея, устало подтвердил горбун.
– Да тут они, прямо под нами! – захохотал долговязый.
– Не верю, не может быть… – прошептал я уже обреченно.
– И пылающие печи, и бурлящие котлы, и скворчащие сковородки, – весело перечислял Квазя, – и трехзевые злющие псы, не знающие сострадания, и гигантские гидры о двадцати головах, и грифы поганые, и зловонные гиены, и тарантулы, и прочая саранча…
«Здесь кладбище для веривших когда-то, что души с плотью гибнут без возврата!» – вспомнились мне строки из «Ада» Данте Алигьери.
– Все существует, клиент, и не понарошку! – орал мне в могилу урод.
– Но я не могу, он – мой сын! – пытался я объяснить им (впрочем, осознавая, что для них это не аргумент). – Не смогу и не стану! – клялся я истово. – Пытайте меня – я сына в жертву не принесу! – выкрикивал я угрюмо застывшим по оба края могилы могильщикам. – Он мой, только мой, только мой! – хрипел я и бился в конвульсиях. – Бойтесь обидеть его! – угрожал я, размазывая грязь со слезами по лицу…
– Что ли все? – позевывая, поинтересовался Квазя.
– Да, конец… – еле выдавил я из себя.
Со дна ямы казалось, будто они оба упираются головами в черные облака.
– Ну и дурак! – усмехнулся горбун, небрежно берясь за лопату и зачерпывая чернозема.
– Да неумный вообще! – подтвердил великан и спихнул сапогом мне на грудь тяжеленный ком глины.
Тут стоит признаться, что, как я себя ни готовил к погребению заживо, однако же не удержался и громко ойкнул от неожиданности.
– Ой-ой! – делано всполошился Квазя и тоже как будто схватился за лопату. – О-е-ей, ой-ой, ой! – издевательски завывая, запричитал он.
Комья сырой земли градом посыпались на меня, я только успел прикрыть лицо двумя руками.
Однако могильщики рьяно взялись за дело, невольно отметил я про себя.
И прежде, бывало, на похоронах меня удивляло, с какой торопливостью живые заваливали покойника землей – как будто боялись, что тот, не дай Бог, оживет и сбежит из могилы.
Не так я представлял собственное погребение и, уж конечно, не думал, что буду в сознании…
С какой стороны ни посмотришь – абсурдно, трагично, нелепо и противоестественно валяться в грязи и покорно дожидаться собственного конца!
Лопаты со скрежетом и чавканьем вонзались в илистую кладбищенскую почву, всякий раз в ожидании очередного броска я инстинктивно поджимался.
Отвлечься от мыслей о близком конце и помыслить о чем-то другом, более позитивном, почему-то не получалось.
Принято думать, что человек в последние свои минуты подводит итоги, вспоминает близких и молится о прощении.
По всему судя, время мое не пришло – оттого, вероятно, мне не хотелось сдаваться.
Одна мысль – о спасении сына! – надежнее любых цепей удерживала меня на дне могилы.
При всем драматизме ситуации, впрочем, я не испытывал обиды или ненависти к моим палачам – в конце-то концов они всего лишь рядовые исполнители некоего необъяснимого Замысла.
И потом, говорил я себе, я же сам (в отличие от Авраама!) предпочел быть похороненным заживо…
40
Вся тяжесть земная, казалось, обрушилась на меня.
Я не мог шевельнуться, вздохнуть, ныл затылок и жутко хотелось пить.
Прощание с жизнью веселым не назовешь, но что станет скучно – этого я и представить не мог!
Умереть было страшно, а умирать – скучно…
Все-все, что, казалось, любил, во что верил, что знал и чему поклонялся, внезапно поблекло и сделалось малозначительным.
Какие-то люди, какие-то связи, какая-то жизнь – в результате какая-то все суета…
– Скука! – не выдержал я и рванулся в отчаянии. – Все кончается скукой! – мычал я и дергался, выталкивая наверх завалы земли. – Так неправильно, так не должно быть!.. – хрипел я залепленным глиной ртом.
«Папа, папа!» – неожиданно я различил тонкий, режущий прямо по сердцу голосок своего единственного сына.
«Митя!» – мелькнуло и обожгло: в круговороте событий я о нем почти не вспоминал.
То есть ради него я был готов умереть (и фактически уже прощался с жизнью!), но мучился я, как оказалось, из-за себя!
И все-то мои переживания вертелись вокруг меня и касались меня же!
Бессчетное множество раз я повторял себе и своим преследователям, что я больше жизни люблю своего единственного сына, и что не хочу его гибели, и что никогда не смогу быть его палачом, и что не смогу после жить, но при этом я, увы, о нем мало думал!
Между тем мне бы самое время заплакать по маленькому безвинному человечку – ибо ему, а не мне, судили умереть.
– Левочка, Лева! – послышалось. – Лева!..
Я представил вдруг Машеньку с Митей на кладбище – и содрогнулся.
– Папочка, папа! – взывал ко мне Митя.
– Левочка! – словно издалека, вторила ему Машенька.
Ничего страшнее я не испытывал: мой сын и жена взывали ко мне о помощи – а я был бессилен…
Слезы отчаяния душили меня.
– Отпустите их, будьте вы прокляты! – взорвался я с новой силой.
– Лева! – звала меня Машенька.
– Папочка, папа! – терзал меня сын.
Их голоса становились все ближе, я уже ощущал их, они цеплялись за меня руками и больно царапали.
Принося себя в жертву, я верил в спасение сына.
Меня обманули; возможно, я сам заблуждался; в любом случае мной овладело чувство глубочайшего разочарования…
– Проклятие, они нас убьют! – горестно воскликнул я, судорожно обнимая самых любимых, самых дорогих, самых…
– Лева, о чем ты? – с неожиданным вдруг легкомыслием поинтересовалась Машенька.
– О чем? – переспросил я, изумляясь ее непонятливости. – Ты что, их не видишь?
– Кого?.. – удивилась она.
– Их! Их! – не выдержал я. – Их, они способны на все!
– Ох, мне больно! – как будто послышался стон.
– Машенька! – страшно закричал я и проснулся…
41
И прежде, бывало, я пил, но себя не терял.
В общих чертах я помнил дорогу на кладбище, само кладбище, ночь, двух могильщиков – длинноногого и длинношеего Квазю и горбатого коротышку Йорыча… виски с импортным пивом… тортом безе вкупе с килькой в томате… нелепые тосты за двух неразлучных сестер – Жизнь и Смерть… наконец, как меня забросали землей…
Дальше (уже со слов Машеньки!) двое мужчин в зловонном рванье втащили меня среди ночи, мертвецки пьяного, в квартиру и оставили валяться в прихожей.
От денег они отказались, сославшись на дружбу со мной и какие-то принципы – какие именно, Машенька не уточнила…
Мгновенная радость, когда я очнулся дома в записанной Митей постели (сама собой разрешилась загадка о происхождении подземных вод, отдающих мочой!), скоро сменилась испугом – ибо я уже знал, что меня ждет…
Впервые за годы мучительных размышлений об Аврааме я его не судил.
Как осенние листья, вдруг сами собой отпали мучившие меня вопросы:
– почему Авраам не восстал, защищая Исаака?
– почему не кричал о спасении самого дорогого и любимого?
– почему, пробудившись в то жуткое утро, немедля отправился в путь (Бог всего лишь сказал: возьми сына и отправляйся!)?
– каково ему было прощаться с любимой женой – его Саррой?
– о чем он мог размышлять – до места они добирались три дня! – и что чувствовал?
– каково ему было поднять нож на сына и где предел покорности Богу и веры в Него?..
Восходящее солнце светило в окно.
Мы лежали в обнимку, втроем, на записанной простыне, и нам троим было на удивление хорошо!
Вопросы мои никуда не девались – но слышать ответы уже не хотелось…
Однако представилось мне: то же солнце, возможно, похожим утром четыре тысячи лет тому светило избраннику Божьему Аврааму, когда он собирался в дорогу…
42
Как и прежде бывало по праздникам и воскресеньям, Машенька на завтрак приготовила наши с Митей любимые ленивые вареники, обильно политые сливками и клубничным сиропом.
После душистого кофе мы с Митей, опять же по доброй традиции, отправились побродить по старой Москве.
До того, впрочем, я зашел в туалет и достал из потайной щели между унитазом и стеной старый охотничий нож с наборной ручкой (то малое от отца, кроме названной картины, что я сохранил).
И посейчас с содроганием вспоминаю, как я его прятал за поясом, за спиной, и после еще, щурясь в зеркало, неторопливо оправлял и разглаживал плащ.
И на Страшном суде, если спросят, зачем мне понадобился нож, я не найду, что ответить.
Разве, быть может, на Страшном суде мне поверят, когда я скажу: без умысла, но по наитию!..
Наконец, спустив воду в унитазе, я как ни в чем не бывало вернулся в прихожую: оба они, мать и сын, скульптурно замерли посреди комнаты в прощальном объятии.
Над их головами, на стенах и потолке, как малые дети, резвились солнечные зайчики.
Я шутливо пролез между Митей и Машенькой, поцеловал жену и, подхватив моего малыша, поспешил прочь из дому.
– Я вас очень люблю-у-у! – еще долго за нами летел и не отставал счастливый голос Машеньки…
43
Все-таки Митя меня упросил, и до Свято-Данилова монастыря мы с ним добирались на метро (поезда сызмальства вызывали у него священный трепет).
Всю дорогу он крепко держал меня за руку – как будто боялся, что я потеряюсь.
На эскалаторе он, забежав на ступеньку повыше, потянулся и благодарно поцеловал меня в кончик носа.
Я только обнял моего малыша – просто не было слов, чтобы выразить, как сильно я его люблю.
По пути в подземном кафе мы на славу полакомились мороженым, а на выходе из метро я купил моему любимцу огромную связку воздушных шаров.
Он их немедленно отпустил, и мы оба, смеясь и щурясь, еще какое-то время смотрели, как они уплывают и постепенно растворяются в синем небе.
Пока мы неспешно прогуливались вдоль монастырской стены, малыш мой дурачился и подпрыгивал, чтобы чмокнуть меня в щеку, но доставал до плеча, выше не получалось.
И я, подражая ему, тоже дурачился и пригибался, чтобы сделаться пониже, и тоже чмокал его – то в носик, то в ушко, то в плечико.
Так мы, пошучивая и резвясь, миновали монастырские ворота и вскоре уже оказались возле знакомой часовни – той самой, куда я однажды во сне был зван на свидание наяву…
На мгновение я остановился и замер, словно утратил вдруг ориентацию в пространстве.
«Мы однажды поймем, что зачем, что к чему, мы однажды найдем то, чего потеряли»… – пронеслись в мозгу две строки из давно позабытого юношеского стихотворения.
– Папка, уйдем! – закапризничал малыш и с неожиданной силой дернул и потянул меня за собой прочь от часовни.
Я едва устоял на ногах.
– Митя, стой! – удержал я его и бережно обнял. – Ты же сам хотел Бога увидеть!
– Я боюсь Его! – пролепетал мой единственный сын.
– Он любит тебя, Он тебя любит! – дважды для пущей убедительности прокричал я и решительно взял его на руки.
– Я боюсь… – судорожно обвив меня ручонками, умоляюще прошептал Митя.
– Он любит тебя… – бормотал я, не находя, что тут еще можно прибавить…
44
Перешагнув трехступенчатый порог Божьего шатра, мы очутились в тенистой оливковой роще у подножия знаменитой горы Мориа (неповторимые очертания которой мне снились еще в пору «Спасения»).
Охваченный странным чувством, я медленно тронулся в путь по извилистой тропке, уходящей наверх.
Идти приходилось на ощупь – мой мальчик никак не желал слезать с рук, что, естественно, затрудняло восхождение.
Я чувствовал, как ему страшно и как он дрожит.
Я пытался его успокоить, но на все мои уговоры открыть глаза и перестать бояться он упрямо мотал головой и только с еще большим отчаянием жался ко мне.
Я жестоко страдал, раздираемый чувством вины, абсурдностью ситуации и собственной беспомощностью перед Абсурдом!
Так, шаг за шагом, я неуклонно приближался к развязке этой поистине драматической истории…
45
Достигнув вершины горы, я издалека узнал Исаака на жертвенном ложе, Авраама с подъятым ножом, а в небе над ними ангел парил…
46 Вместо эпилога
Я всегда свято верил в уникальность и неповторимость каждой человеческой судьбы.
Удивительным образом с малых лет меня не покидало ощущение избранности; а то, что со мною стряслось (и о чем в общих чертах рассказал), представлялось мне чем-то из ряда выходящим.
Но вот на спуске с горы я буквально нос к носу столкнулся с мужчиной примерно одних лет со мной и с маленьким мальчиком возраста Мити.
Какое-то время мужчина странно смотрел на меня и на Митю – как будто хотел нас о чем-то спросить и не решался.
– Вот!.. – воскликнул в сердцах незнакомец, неопределенно махнув рукой в направлении вершины.
– Да!.. – кивнул я в ответ, только чтобы не показаться невежливым.
Наконец, разминувшись на тесной тропе, мы с Митей продолжили спуск и уже через несколько метров повстречали еще идущих нам навстречу людей…
А потом – и еще…
И – еще…
Монологи для театра (из цикла «Разговоры с Богом»)
Лотерейный билет
Появляется очень плохо одетая женщина. В руках у нее лотерейный билет. Заметно, что она крайне огорчена.
Мы жили, подумай, чего не хватало?
Дети, слава Богу, большие и сами работают, и не жалуются, и ничего не просят.
Нам нашей пенсии на двоих – как говорится, проживем.
Квартиру почти уже выкупили, никому не должны.
Никому не должны – это главное.
И даже, скажу Тебе, стали копить на заграницу.
Когда это я могла хотя бы подумать про заграницу?..
По утрам просыпаюсь – от мыслей получаю удовольствие: дети-внуки здоровы, в гости приходят, по телефону звонят, с мужем не ссоримся…
Боже, чего еще нужно?..
Вздыхает.
Вообще, моя воля, ввела бы закон: чего-то имеешь – сиди уже!
Не проси и не требуй чего-то еще!
Повторяй, как молитву: довольна я, Господи, очень довольна, и больше, пожалуйста, ничего не посылай!..
На мгновение словно задумывается.
Все-таки женщина своим нутром всегда лучше мужчины почувствует, чего можно делать, а чего – да лучше бы застрелиться…
Вот: муж подарил мне на день рождения пушистую турецкую кофту, крепкие испанские духи и билет – ТОТО-ЛОТО…
Кофта мне душу согрела.
От духов голова закружилась, как в молодости бывало…
Но билет… хочешь верь, хочешь не верь – он меня сразу как будто обжег.
Только я до него дотронулась – так сразу и уронила.
Потом подняла – он опять улетел из рук.
Куда-то за старое кресло.
Мне стало не по себе.
Впрочем, всего на секунду.
Махнула рукой и тут же забыла.
Наверно, решила, билет и билет, да подумаешь, сколько их было…
Молчит.
Называется, после всего – не верь самой себе…
Молчит.
Ну конечно, сначала мы радовались: шутка ли – двадцать миллионов выиграли, пятьсот девяносто четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек!
Не украли там где-то, не потом добыли – с неба упали!
Я быстро хороший ужин сделала, пошла звонить детям.
Но муж удержал и ласково попросил никого не звать.
Мол, побудем вдвоем, как когда-то.
И обнял меня – нежно-нежно…
Давно, я подумала, так не дотрагивался…
Грустно улыбается.
Я запалила сорок свечей – столько мы прожили вместе!
Вкусно его накормила!
Потом мы гуляли вокруг нашего дома!
Потом пили чай с кофейным ликером и говорили о чудесах!
И так до самого утра – действительно, как когда-то!
Когда засыпали, он как бы сквозь сон попросил, по-хорошему, про миллион никому не рассказывать: ни чужим, ни соседям, ни тем более детям…
Мол, детей у нас четверо, говорит, двадцать миллионов разделить на четыре части – останется пшик…
То есть, говорит, никому ничего не достанется…
Улыбается грустно.
И тогда, и теперь не понимаю: почему на четыре?..
Детям – четыре части, и нам с мужем часть – пять?..
И потом, все-таки целых двадцать с лишком миллионов!..
Молчит.
Дни идут, я прошу его что ни день разделить деньги между всеми поровну, и пускай каждый тратит как хочет.
А у него свой принцип: копейки, говорит, детям не дам, пока жив, даже копейки!
Опомнись! – его умоляю. – Они молодые, им нужно помочь…
Помогай, говорит, а потом ты их увидишь! У меня будут денежки, говорит, они на руках меня будут до смерти носить, а у них будут денежки, говорит, они плюнут мне в душу и даже не вспомнят, что жил на свете такой хороший папа!
Всхлипывает.
Меня? за добро? – удивляюсь. – Мои любимые дети?
Тебя, говорит. За добро, именно за него!..
Тихо плачет.
Рассказать кому – как рассказать?..
Я терплю и молчу.
Мои близкие ничего не понимают – я им сказать ничего не могу.
Что тут скажешь?..
А с мужем мы только ругаемся: как нужно тратить двадцать миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей шестьдесят шесть копеек!
Надо же наконец начинать их тратить?..
Он мне, говорит, мол, тратить никак не будем.
Будем держать, мол, денежки в банке, а сами жить на проценты.
Мол, этих процентов нам хватит для полного счастья и даже еще останутся…
Всхлипывает.
Какого мне счастья еще?
Я всегда жила для детей, для мужа…
Задумчиво разглядывает лотерейный билет.
В общем, живем – как жили: на пенсию.
Ждем проценты.
Неделю ждем, месяц, четыре – пропало терпение, интересуюсь про них.
Опять же, он ласково так отвечает: растут; и тоже дают проценты.
А нам в это время что делать? – спрашиваю.
Нам нужно ждать, говорит, ждать, ждать и ждать.
А чего, – спрашиваю, – ждать?
Пока, говорит, они сильно вырастут – проценты!
А с нами, – интересуюсь, – что станется, пока они сильно вырастут?
Живи, как жила, говорит.
Как жила – так живи, говорит.
Забудь и не думай про свой капитал.
Ведь если про него не думать – тогда его как бы и нет!
То есть фактически он где-то там есть, но вместе с тем, если о нем не думать, – его как бы и нет…
Капитал, говорит он мне, как Фантомас!..
Он говорит, говорит, а я на него смотрю, смотрю…
И меня вдруг, внезапно – как протыкает: я ж любила его!.. Я детей от него!..
Но мы же умрем, Михаил, мы умрем! – кричу.
Все купим, кричит, и всех купим: и смерть, и бессмертье, и черта, и Господа Бога! Пускай только будут они, мои денежки, кричит, пусть только будут они со мной!
Закрывает руками уши.
Прости его, Господи, дурака, прости!
Я ему говорю, уже экономили:
дочке платье латала;
мальчишки донашивали друг после друга;
не ездили летом на отдых;
не ели в ресторанах;
в театрах за сорок лет бывала, может, три раза…
А где мои украшения?..
Молодость моя – где?..
Где моя жизнь?..
Молчит.
Отчего-то вдруг дети ходить стали реже.
Звонки от них стали короче.
Какие-то вечно дела…
Соседи, завидев, куда-то торопятся, почему-то не улыбаются, как бывало…
Муж пока любит.
Он так говорит.
Но, иногда замечаю, смотрит рассеянно: вроде как рядом со мной, а вроде и нет…
Молчит.
Все двери, какие есть в доме, поменяли на железные.
На окнах решетки из стали – густые и толстые.
Чтобы даже комар к нам не просочился…
Я уже вяло спрашиваю: зачем так стараться, деньги же все равно в банке?
Он морщится и говорит: ох, плохо ты людей знаешь, придут и отнимут последнее.
Но останется то, что в банке! – кричу. – Столько добра!
Он только смеется в ответ.
Добра, говорит, никогда не бывает много; его, говорит, почему-то всегда только мало.
Взрывается вдруг.
Мало ему, мало, мало… мало, мало, мало!..
Вчера подарил мне еще лотерейный билет.
Наверное, счастливый…
Разрывает билет на мелкие кусочки. Уходит.
Раздвоение личности
На место святое является мужчина, одетый как правоверный мусульманин. Мгновение затравленно озирается по сторонам, затем с жаром молится.
О Щедрый дарователь даров,
О Мудрый, прикрывающий наши проступки,
О Вечный, недоступный нашему познанию,
О Единый, бесподобный в сущности и свойствах,
О Могучий, достойный только Бога и Знающий о всех вещах,
О Сущий, лишенный всякого изъяна…
Только переводит дух, на глазах слезы.
Я раб Твой, о Сущий…
Сколько рабов у Тебя – я из последних…
Все, что Ты делаешь, – значит, так надо, все, что Ты скажешь, приму и не буду роптать…
О, воистину, лучше быть самым последним из верующих, чем даже первым среди всякой дряни…
А я так действительно думаю: дрянь, кто не верует в Тебя, самая настоящая дрянь…
Молится. Вытирает слезы. Помалу успокаивается.
Только Тебе – о Великий – я могу признаться: сначала все было хорошо, а теперь моя жизнь превратилась в кошмар.
Сна нет, кушать не могу.
Даже мне трудно стало сосредоточиться на молитве.
А это уже совсем худо.
Так что, видишь, мне без Тебя не управиться.
Вот как бы так…
Я как бы пришел…
Озирается по сторонам.
Понимаешь… я эту женщину до сих пор сильно люблю, но и ненавижу, и уже плохо понимаю – чего больше!
Молчит.
Вчера мы опять крепко ссорились.
Я уходил из дому, отчаянно молился.
Потом, когда я вернулся, она мне кричала обидные стихи: «Ты на том берегу, я – на этом, а между нами бушует река!»
Ну, такие стихи!
Ну, как бы понятно?
Еще мне кричала, что она даже в страшном ее сне не могла представить, что мы с ней до такого доживем.
Мы – с ней – до такого!
Я тоже ответил, что я тоже не представлял.
И так мы с ней оба кричали друг другу обидные слова, пока я опять не ушел из дому.
Вот видишь, хожу по городу, молюсь, голову ломаю, чего мне теперь делать?..
Она мне сейчас говорит, что река!..
А я вижу, всегда бушевала – и тогда, и теперь!
И у нас не могло получиться по-другому, потому что я был Степаном, сыном Тимофея, а она была – Зубейрижат, дочерью Абдумуслима, сына Абдул-Керима!
Того самого, помнишь?
Я был Колпаковым, она же носила фамилию – Аб-ду-рах-ма-но-ва! Из колена Аб-ду-рах-ма-но-вых – ты понимаешь?
Мой дед Никита Иванович ловил в океане рыбу, а ее хороший папа Абдумуслим – да пребудет он в мире! – был самым хорошим сыном имама из Кизилюрта, что в 64 километрах к северо-западу от Махачкалы, что на юге Терско-Сулакской равнины, что на реке Сулак!
Понятно: кто был я – и кто она?
Я несмышленый босяк-оборванец с четырьмя незаконченными классами начальной школы, в старых отцовских штанах с заплатами, рваной тельняшке, без прошлого и будущего – и она! Она! Она!..
Заметно взволнован.
Конечно, она была сильно молодая, и я был молодой…
А люди – Ты знаешь – в молодости делают глупости…
Чего я тогда понимал?
Я только глядел на нее всеми глазами и больше ничего, кроме нее, не видел.
Все рядом с нею почему-то делалось маленьким и ненужным.
И я забывал про друзей, родителей, сестер – и про время…
Она мне была нужна.
Я чувствовал, я ей был нужен.
Что бы мы ни делали – когда мы сидели и молчали, или бродили по сопкам, или, бывало, уплывали на лодке далеко, – мы всегда крепко держались за руки.
Я это так помню…
У него на глазах слезы, и он улыбается.
Купалась в источниках голая!
И меня заставляла!
Как ненормальная, хохотала и силой тащила с меня штаны.
Я злился и тоже смеялся, и держался за них, как мог, двумя руками, но потом отдавал, чтобы не порвала.
Она хохотала еще веселей и прыгала, и скакала вокруг меня, чтобы поймать за письку…
Счастливо улыбается.
Мы были детьми.
Ей ужасно хотелось, чтобы все у нас было, как в раю.
До змея…
О Могучий, о Мудрый, о Сущий, о Вечный!
Я только сейчас вдруг подумал: я Коран впервые узнал от нее!
Ну конечно, она мне читала: «И вспомни, о Пророк, начало творения, когда твой Творец – Господь миров – объявил ангелам: «Поистине, Я сотворю человека из пахучей густой глины, отлитой в форму и меняющей свой цвет. Когда придам ему совершенную форму, завершу его создание и вдохну в него душу, которая принадлежит Мне, поклонитесь ему, почитая и приветствуя его!»
Широко и счастливо улыбается.
Мы были детьми…
Эта жизнь нам казалась раем…
Молчит. Внезапно кричит.
Не было у нас с нею рая, не было!
Сама же вчера мне кричала, что не было!
Ни зеленого сада, ни синего неба, ни Адама, ни Евы – оказывается, ничего!
А был только страшный остров Сахалин, куда их, несчастных, сослали, был наш забытый богом рыбацкий поселок с дурацким названием Эдемка, и были они, отец, мать и дочь Абдурахмановы, обиженные и бесправные – все!
А вся наша с нею любовь, и вся наша дальнейшая жизнь, и пятеро наших детей – оказалось, ломаная копейка!
Это просто она меня так благодарила!
За то, что спасли их семью от верной гибели, пустили к себе, отогрели и дали хлеб!
Молчит. Почему-то загадочно вдруг усмехается.
А с другой стороны, понимаю, каково это было – Абдурахмановым родниться с необрезанным…
Теперь-то, конечно, мне ясно, почему опустили глаза и молчали тетя Абидат и дядя Абдумуслим – да пребудут они в мире! – когда я пришел свататься к Зубейрижат…
Их любимое чадо, их единственная дочь ходила на пятом месяце, но они не сказали мне «да»…
Не сказали мне «да», не сказали мне – «нет»… молчали, молчали, молчали!..
Горестно качает головой.
Короче, пока я не верил в Аллаха и был не пойми кем, я так думал, что все у нас, как у людей: дом, работа, дети, внуки…
И с женой мы – как будто бы! – ладили и понимали друг друга, пока я однажды…
Переводит дух.
Иду я по улице мимо мечети… вдруг слышу, как будто меня кто позвал…
С надеждой смотрит наверх.
Ты позвал меня, да?
Тишина.
Ну позвали – я вхожу… и встречает меня человек… как родного встречает… кричит со слезами: «Ассалям алейкум! Ассалям алейкум!»
И как тебя называть, кричит, добрый человек?
Степаном, кричу, меня называть, добрый человек!
А хочешь, Степан, он кричит, будешь Сиражутдином?
Хочу! – я кричу.
Ашхаду Алла илаха иллалаху ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах!
Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха!
Только на мгновение переводит дух.
Ну вот… так, короче, я сделался Сиражутдином!
Мой второй сын Федул – он теперь, слава Богу, Абдулгафур! – тоже послушался меня.
А старший Иван – до сих пор не обрезан!
И три его младшие сестры живут дрянью!
Но главное, что меня убивает, – Зубейрижат!
Не желает покаяться. Что же мне делать?
С необрезанным жизнь прожила – страшный грех!
Мерзость, грязь, истребление души!
Он мог не знать – а она?
Он – то есть я, когда был необрезанным, – он мог не знать, а она?.. Зубейрижат, дочь Абдумуслима, сына Абдул-Керима, обязана знать?
Не обязана?
Взволнованно ходит из стороны в сторону.
Я знаю, я знаю, что знала и все понимала – и все…
Все равно, несмотря на запрет нашей веры, бегала голой по острову – я это помню, как будто вчера!..
И пошла, погубила себя, но пошла!..
За необрезанного пошла – ведь пошла, ведь пошла!..
Уже даже не ходит – бегает.
О-о, да подумаешь, благодарность!
Могла ему прямо сказать: спасибо вам, человек хороший, за то, что вы такой хороший, и – до свидания!
Знай свое место, знай!
А не идти к нему в жены, плодиться, как будто крольчиха, губить свою вечную душу!
Еще говорит, я ревную к нему!
Степану ее, говорит, не гожусь даже в подметки!
Он, говорит, был прекрасным, как Бог, а ты, говорит, – Сиражутдин!..
Старый ишак, говорит, Сиражутдин!..
Она хочет мне боли, она меня сильно злит…
Она, понимаешь, она, понимаешь, она…
Заметно, что обида рвет ему душу.
Я не стану жить с дрянью, не стану!
Пока не услышит, пока не очистится – дрянь, дрянь! – я не стану! Не стану, не стану я, правда же, я не могу!
Не могу не могу, помоги мне, о Сущий!
Я люблю ее, о, я не стану, люблю, помоги!..
Убегает.
Лялечка
Из вечной вязкой тишины долетают робкие всхлипы и причитания. Постепенно они складываются в слова, обретают смысл.
Я так обижена, Господи… Меня так обидели, Господи…
Промокает платочком слезы.
Смотри, я в той жизни имела трех…
Ну, считались мужьями…
Я любила, ласкала и холила их, как могла…
А чего не могла…
Да, и тоже меня все бросали…
Бросали и как бы…
Ну, то есть бросали…
Но, честное слово, – я так не обижалась.
Ну так, чтобы очень обидеться…
Ужасно обидеться…
До смерти…
Всхлипывает.
Потому что умела каким-то удивительным способом проглотить обиду и дальше идти…
Оставались какие-то силы…
Чтобы жить еще дальше зачем-то – понимаешь?..
Всхлипывает.
И я никого – можешь верить – ни разу и никого не проклинала.
Мне бывало, конечно, обидно и больно, но я себе говорила: в сущности, если подумать, никто никому ничем не обязан…
Никто не обязан – и все…
И нужно терпеть.
Терпеть, образно говоря, и терпеть…
В общем, так…
Плачет.
Вот так я и знала, что буду реветь…
Слезами ему не поможешь…
Он помирает, мне жалко…
Внезапно как будто пугается чего-то, рот прикрывает руками, подозрительно озирается по сторонам.
Ой, прости…
Я представила – вдруг нас услышат…
Кому еще рассказать про такое – кроме Тебя?..
Тяжело вздыхает.
Значит, уже я жила не в Караганде, а в Москве.
Снимала малюсенькую, но зато совершенно отдельную однокомнатную квартиру.
За МКАД…
Туда, если, образно говоря, двигаться строго по Горьковскому шоссе, в направлении Балашихи… не доезжая… жемчужины нашего Подмосковья…
Был у меня свой холодильник, телевизор 21 инч, большая и очень удобная полутораспальная кровать, ковер с тигрятами и тигрицей…
Боже, о чем я?..
Вот: я однажды встречаю – его!
Он безработный, я – безработная.
Вместе сидим в длинной очереди, ждем, когда позовут, и общаемся, образно говоря: трали-вали, не знали…
В Москве, Ты подумай, в кои-то веки встретить живого мужчину и даже поговорить!..
Короче, общались, общались мы с ним и общались, а потом он так странно и пристально так на меня посмотрел и говорит:
– А что, – говорит, – милая Лялечка, возьмите, – говорит, – пожалуйста, меня к себе ненадолго!
Пожалуйста, думаю я про себя, разбежалась! А сама удивленно тем временем тоже на него смотрю и опять же про себя думаю: может, он шутит?..
По виду, однако, понимаю – не шутит.
Но, думаю, может, такая у человека манера: он вроде не шутит – но как бы и шутит?
Люди такие разные…
И я улыбнулась ему, как могла, по-доброму и открыто.
– Отчего же, – ему говорю, – ненадолго, можно, – говорю ему, – и надолго!
И улыбаюсь ему изо всех сил, чтобы он сразу понял: с юмором у меня хорошо.
Правда-правда…
Но, однако же, вдруг замечаю на глазах у человека настоящие слезы: «Надолго, наверное, говорит, я не смогу, потому что, говорит, я, наверное, скоро умру…»
Лялечка молчит. Как природа.
Ну как на такое мне, Господи?..
Еще и еще пытаюсь понять: может быть, все-таки шутит?..
Но понимаю – не шутит.
Напротив, я вижу в зеленых глазах какую-то, образно выражаясь, уже нездешнюю тоску и бледность на впалых щеках – признак благородства…
Тяжело вздыхает .
А чего я могла?
То и сделала, что я могла: жить пустила!
А как же мне было его не пустить: без родных, без знакомых, без денег, без крыши над головой, смертельно больной…
Я пустила.
Пустила его, я пустила, пустила!..
Всхлипывает.
Короче, взяла я его за руку – и по врачам.
Как ребенка, водила.
А у него – говорят – запущено все и ужасно.
И нужна операция – говорят – и тоже – говорят – никакой гарантии.
Но я тем не менее все ж таки уломала его, и легли мы с ним под нож.
Извелась, поседела…
Ему только хуже.
И день ото дня ему хуже и хуже…
Я ночами не сплю, что мне делать?
Все жалеют меня и его, говорят: отпусти, говорят, хватит мучить!
Что?
Вот так человека взять – да отпустить?..
Вот так вот мужчину взять – да отпустить?..
Упрямо мотает головой.
Нашла наконец великого колдуна.
Из Адыгеи!
Хромого, усатого, желтоглазого.
С большими такими зубами.
Он когда так улыбался – губы у него так по сторонам разъезжались – и так возникали зубы…
Колдун!
Денег хотел.
И много.
А откуда у меня много денег?
И мало не помню чтобы водились – даже когда работала продавщицей в цветочном ларьке у метро…
А с другой стороны, я подумала: из-за денег мужчине помирать? Мужчина сегодня – как Бог: не вижу, но знаю, что где-то Он есть! Думала, думала, думала, думала: где мне взять денег?
Для спасения жизни Мужчины – где?..
Молчит.
Меня научили добрые люди – и я научу.
Как говорится, пущу хлеб по водам…
Для тех, кто не в курсе… если к Пушкину встать спиной… и пойти по бульвару прямо… и после «Макдональда» – сразу направо… и метров четыреста – прямо… и сразу налево, в тупик… Идите в тупик – и там фирма, короче… по связям, короче… ну, Ты понимаешь?..
Смущенно улыбается.
Сколько, однако, на свете отзывчивых добрых людей, и даже среди сутенеров!
Сначала, по возрасту, мне отказали, но потом, когда я объяснила причину – во имя Мужчины! – они даже прослезились.
На стареньком, помню, пикапе «Пежо» с раздвижными сиденьями и шторками на окнах мы – во имя Мужчины! – всю нашу Московскую область проехали – вдоль, поперек!..
Улыбается.
Боже мой!
Мой уже не вставал с кровати!
Сил у него не было никаких!
Я его с ложки кормила, выносила за ним, обстирывала.
Он порнокнижки любил – доставала.
Просил почитать – я читала.
Под музыку, при свечах…
Все делала, Господи.
Кажется, даже и больше.
Чего не могла – это правда – смотреть эротические фильмы по ночному телевизионному каналу: так некрасиво, когда у других…
Вдруг, словно вспомнив о чем-то, всхлипнула.
Не могу передать, сколько мне доставалось: работа на фирме, пикап, плюс смертельно больной человек – сама не понимаю, как я выдерживала!..
Иногда я все-таки думаю, я вспоминаю: у меня было три как бы мужа, и все, как слоны, были крепкие и большие, все как-то живы, со всеми тремя в переписке…
Не знаю, как мне объяснить: знаешь… мне никогда еще не было так хорошо, как тогда, когда он помирал…
Всхлипывает.
Как объяснить…
Я была ему нужна…
Я была так нужна…
Я была нужна…
Плачет.
Ну вот…
Значит, вот: адыгейский колдун только раз на него посмотрел – и сразу определил: все болезни его от проклятья.
Его хорошенечко прокляли, вот Тебе – все!..
При мне колдун плюнул ему в лицо 613 раз, я считала.
Потом – неловко сказать – помочился на него, посыпал порошком из пепла от кастрированного кота – и ушел.
Да, чуть не забыла сказать: уходя, он обнял меня за плечо и тихо предупредил: теперь берегись ты.
Я тогда не задумалась, было не до того.
Но скоро я, скоро же я поняла, о чем говорил колдун…
Вот-вот: только он, только пошел на поправку, я еще на «Пежо» долги возвращаю – а он ко мне в дом привел… женщину!..
То есть в мой дом, негодяй…
Негодяй, ко мне в дом…
Горько плачет.
На фирме – на фирме по связям такого не поняли, даже сказали: ну, чмо!
Бывалые люди – такого не видели!..
Да, да, меня обижали, и много.
Обидно бывало, до самого сердца…
Но я никому – веришь, Господи? – я ни одному человеку плохого не пожелала.
Потому что я, Господи, я – потому что…
Но тут меня оскорбили – Ты понимаешь?
Тут меня так обидели – жить не могла…
И я его прокляла.
Я его прокляла – он опять помирает…
Спаси его, Господи, Боже, спаси!
Я люблю его, Боже, спаси его, Боже, люблю я, спаси!..
Настоящая дружба
Молодой, красивый, сильный мужчина волоком тащит за собой огромную куклу, приговаривая:
Подлец! Негодяй! Предатель! Не друг!..
И топчет куклу ногами, и возносит над головой, и обрушивает на землю, и снова пинает с такой неподдельной страстью – больно смотреть…
Не будешь ты жить, понимаешь?
Такие, как ты, не должны – понимаешь?
Такие, как ты, такие, как ты!..
Мужчина пинком отшвыривает куклу, отворачивается и, сдерживая слезы, признается:
Да я брата родного так не любил, как его…
Лучший друг, называется, лучший!..
Столько лет все делили поровну: в школе, в армии, на войне…
Он меня спасал два раза, я его спасал – три…
Я верил ему, как папе с мамой: вот он не обманет, вот он не продаст…
Люди, кто знал, удивлялись: такая мужская дружба – такая!..
Про нас говорили – что так не бывает, а жаль…
Заметно, что с трудом удерживает наплыв чувств.
Я тоже надеялся, что у нас, что у нас… настоящая дружба… и что он для меня…
Я так верил, что между людьми может быть настоящее…
Что возможно хоть что-то между людьми…
Трет виски, ерошит волосы, ходит взволнованно взад и вперед – и вдруг замирает. Опускается на приступку, закуривает.
Бог, смотри: была у него жена.
Рыжая девка – Елена.
Такая ужасно худущая – Елена.
Кожа да кости.
Люди бывают похожими на зверей.
Она на змею походила – вся как бы в длину, как бы вдоль, в продолжение чего-то…
А чего?..
Ну, мой друг говорил, ему было виднее, конечно: сексуальная страшно – как смерть!
Еленка!..
И любил он ее так, как, наверное, можно любить смерть, – роково!
Только встретились – сразу пожар.
Как сгорели – волшебно исчезли.
Никто их не видел два месяца – два!
Я искал их повсюду.
Искала полиция, армия, страна –
ничего!
Потом оказалось, что прятались они аж в пещерах у Мертвого моря.
В тех самых пещерах, где прятался некогда царь Давид, победитель Голиафа, от царя Саула!..
Ну, пока еще не был царем и пока он спасался!..
И спасся!..
С тоскою во взоре смотрит на куклу.
И на все, помню, мое любопытство он отвечал:
соленое солнце,
соленая луна,
соленая любовь,
безумие и страсть!
Из чего я буквально понял, что с ними случилось:
тайфун
ураган,
вакханалия,
апокалипсис!
Усмехается вдруг. Мгновение молчит.
Из пещер возвратился – действительно, будто стихия прошлась по нему.
Отощал до костей;
фантастически фосфоресцировал;
и по виду сам здорово сузился – как бы продлился;
с кромешными обводами вокруг солено сияющих глаз;
ничего не желает слышать – уши забиты солью;
и только стенал и стонал все про то – как прекрасна она, возлюбленная его, мол, как же она прекрасна! И какиеу нее уста, и сосцы, и как нету пятна на ней…
Вот-вот, совсем равнодушный к поэзии человек – стал вдруг поэтом…
Все соль, все она!..
Гасит сигарету, задумчиво встает.
Насчет пятен, конечно, он врал: я сам, своими глазами видел на ее костистых плечах огромные веснушчатые именно пятна!
Ну, ему они были не пятна – ослеп, я сказал!
И снова закуривает.
А по правде сказать, этот с солью роман как-то меня будоражил.
И я сам больше жизни любил жену.
И тоже не видел на ней ни одного пятна.
И тоже готов был тонуть для нее в Мертвом море.
Но мне интересно было увидеть еще человека, способного на безумную страсть и высокие чувства.
Мне было приятно, что этот человек – мой друг.
Мы встретились не случайно!..
На мгновение задумывается.
Какое случайно, какая интрига!..
Я прислуживал им – как царям!
Я носил им цветы, сигареты и пиво!
Я радовался за них, как за самого себя!
Я так сильно желал, чтобы моему другу было хорошо в жизни, я так, Бог, этого хотел!..
Отворачивается, проглатывает слезы.
И потому, когда эта рыжая продолговатая падла от него убежала…
И когда он от горя в петлю полез…
Натуральным образом в грубую намыленную веревку…
Ох, как я страдал!
И так же, как он, я томился вопросами, мучился и размышлял:
эта жизнь – что она?
Начинаешь с костра до небес – а в итоге всего – горстка пепла?..
За слепящим восторгом любви – жди позора?..
Предательства?..
Горя?..
Что, разве можно так жить?
Ты считаешь – так можно?..
Брат убивает брата своего.
Жена предает мужа своего.
Дети не чтут родителей своих.
А дружба – несбыточный сон…
За что мне держаться – скажи – в этом мире?
За что?..
Устало опускается на приступку, горестно качает головой.
Я ужасно устал.
Я как будто уже не живу.
Меня продали – так, ни за грош, понимаешь?..
Сидит, молчит. Усмехается вдруг.
Бог, понимаешь…
Ты понимаешь…
У меня так болело за него…
Он же мне друг, так болело…
Я даже придумать сейчас не могу, как у меня тогда вырвалось…
Как вырвалось, как получилось…
Из этого рта, будь он проклят, четырежды проклят!..
И хлещет руками себя по устам – больно видеть.
Бог! – крикнул я, – слушай, Бог!
Лучше бы от меня ушла жена, чем от него!
Лучше бы от меня!!
Лучше бы – от меня!!!
Внезапно – такое не часто увидишь – этот сильный, красивый человек рыдает.
Лучше бы от меня – понимаешь, куда меня понесло? – лучше бы от меня жена ушла, чем от него!..
Будто кто-то меня за язык потянул – лучше бы от меня!..
Будто в пропасть меня потащило – лучше бы от меня!..
Почему я так крикнул?
Зачем я так крикнул?
Не думал же я, не хотел, я совсем не хотел!
Я любил и люблю ее, очень любил и люблю!..
Я любил, я люблю, я люблю, я люблю…
Постепенно мужчина стихает. Утирает слезы с лица. Опять закуривает. Молчит. Неожиданно обыденно признается:
Ну, в тот же день она и ушла…
Секунду-другую молчит; вдруг прыскает со смеху.
К любимому другу ушла от меня… в тот же день…
Заливается смехом.
К нему – от меня…
Как просил…
Как просил…
Хохочет.
Реинкарнация
У камня, возле которого, по преданию, Бог отдыхал в день седьмой от «всех дел Своих, которые Он делал», появляется мужчина в смирительной рубашке. Затравленно озирается по сторонам, торопливо исследует пространство вокруг камня; то пригнется или присядет на корточки, то вдруг перебежит с одного места на другое. Близоруко прищурившись, вглядывается в вечернюю даль.
Вот он я, Господи!
Ждет.
Я – то есть я, Акакий Срока́…
Ждет.
Ну Акакий – как Ты, наверно, догадываешься, имя, Срока́ же – фамилия…
Ждет.
Фамилия наша Срока́ (ударение на последнем слоге: Срока́!) произошла от сроко́в, что мой прадед Срока́ отбывал по тюрьмам и каторгам царской России.
В смысле – очень немало сроко́в!
Ждет и упорно вглядывается вдаль.
Жаль, не вижу Тебя.
И очки, как назло, потерял я в мытарствах.
Хорошие были очки…
С грустью вздыхает.
Вот, вспоминаю, в тот памятный день мы, в общем, весело провели время у старинных друзей и домой возвратились около полуночи.
Дети уже спали, милейшая Полина Антоновна – няня по вызову – мирно дремала напротив негромко работающего телевизора. Оставшись одни, мы еще какое-то время не могли уснуть и ворковали между собой.
Я и не заметил, как погрузился в сон.
Обычно я сплю до утра беспробудно (когда не болезнь детей, не дай бог, или ночное ЧП на электростанции, где я исполняю обязанности второстепенного специалиста), а тут меня будто током ударило: открываю в темноте глаза и вижу жену с кухонным ножом в руке…
Намекнул бы мне кто наяву, что такое возможно – я бы того обвинил в клевете и растерзал.
Это сегодня, пройдя круги ада и консультации у десятков компетентных специалистов, я отдаленно догадываюсь о мотивах этой ее беспрецедентной атаки на меня; тогда же у меня хватило разумения скатиться кубарем с кровати и включить торшер, стоящий в изголовье.
Ужас меня обуял.
Охватило безумие.
Сердце в груди билось, как птица в клетке.
Я и так плохо вижу, а тут я – ослеп.
В голове ощущаю тысячу игл, и всякая ранит.
Не по себе…
По счастью, в момент падения я едва удержался, чтобы не закричать: «Манана, за что?!» – и хорошо, что не крикнул, ибо любовь моей жизни ангельски спала, разметав по подушке золотые волосы с легкой примесью серебра.
В то время как я был до смерти напуган, во всей ее позе и на лице царили покой и гармония.
И ножа я в руке у нее не увидел…
Приснилось, должно быть, подумал я.
Потушил свет и вернулся в постель.
Электронные часы на тумбочке, в форме сердечка, со светящимся циферблатом, подражая голубям, прогугукали два пополуночи.
До шести, когда мы обычно встаем, поднимаем детей и сами собираемся на работу, оставалось четыре часа.
Засыпая, я живо представил, как мы с моей милой вместе смеемся над этим моим ночным кошмаром.
Только бы всю эту чушь до утра не забыть, сказал я себе…
Улыбнулся.
Но, однако, представь… едва я расслабился… и погрузился в сон… как опять вдруг с тоской ощутил холодок кинжала, нависшего надо мной.
Поразительным образом, даже не открывая глаз, я шестым (или даже не знаю, каким по счету!) чувством уже догадался, кого увижу во мраке!
Догадка моя, увы, подтвердилась, и сомнений не оставалось: то была моя ангел-хранитель, и в руке у нее мерцал нож…
Помрачнел.
Так случилось, я рано узнал, что мы смертны.
В младенчестве, помню, пытался представить, какой она будет, моя самая последняя минута в этом мире.
О, меня занимало буквально: и то, когда это случится,
и при каких обстоятельствах,
и каким к тому времени буду я сам,
и насколько отважен я буду,
и вообще, что я буду чувствовать и думать в то еще мое – и только мое! – решающее мгновение…
У людей, я читал, за мгновение до смерти перед мысленным взором проносится вся жизнь.
Стыдно признаться, но я считал это выдумкой, пусть и красивой.
Несомненно, сказывалось вульгарное атеистическое воспитание, полученное в семье.
Но мой скептицизм разом улетучился, едва до меня дошло, что жена хочет меня убить (бесконечно готов повторять: мой ангел, мой верный дружочек и любящая мама трех наших сладких деток!).
Как в немом черно-белом кино, я за доли секунды увидел всю свою жизнь – от момента рождения.
Показ целой жизни казался неспешным – а длился какие-то доли секунды.
Мне так и хотелось воскликнуть: и все?..
При других обстоятельствах я бы, скорее всего, примирился с неизбежностью и попытался принять свою кончину по возможности здраво и без суеты: если подумать, смертность на земле стопроцентная!
Но тут я собой не владел и на всех парусах несся, как пишут в романах, в открытое море безумия.
На этот раз, падая, я издал вопль, полный обид и упрека:
– Манана, за что?!
– Что-что?! – я услышал в ответ. – Что случилось, Акакий?!
– За что ты меня убиваешь?! – простонал я в отчаянии (в разгоряченном мозгу у меня между тем разворачивалась – ни больше ни меньше! – историческая сцена заклания Авраамом единственного сына Ицхака на горе Мориа!).
– Акакий, очнись, – попросила жена, – разбудишь детей!
Вспыхнул свет, и опять я не обнаружил в руке жены нашего огромного кухонного ножа с восточной инкрустацией.
И лицо не казалось чужим.
И глаза не пугали.
Напротив, дарили сочувствие…
– Приснилось-приснилось, – ласково успокаивала меня жена, нежно и бережно прижимая к груди, – забудь и не вспоминай!
Мужчина обреченно усмехается.
Легко говорить: забудь! – а как это сделать?..
Я предложил жене свет не гасить – против чего она, впрочем, не возражала.
Дождавшись, покуда она засопела (до рождения третьего сына она спала молча), я первым делом прокрался на кухню и проверил, на месте ли наш злополучный нож.
Если на месте, резонно рассудил я, значит, приснилось, и причин для волнения не существует; но если его там не окажется (о, я и думать боялся, что будет, если его там не окажется!)…
Не возьмусь передать словами то чувство радости, почти счастья, что я испытал, обнаружив нож в кухонном шкафу на верхней полке среди прочих ножей, вилок и ложек.
Я, как бы шутя, приставил его острием к груди.
В недобрых руках, отчего-то представилось мне, этот нож способен легко превратиться в орудие смерти.
Так то же в недобрых! – Я даже встряхнулся и легонько пошлепал себя по щекам в попытке отделаться от тени набежавшего сомнения.
Скорее инстинктивно, нежели осознанно, я не возвратил нож на привычное место в кухонном шкафу, а запрятал подальше, среди ненужного барахла на антресолях.
Вернувшись на цыпочках в спальню, я губами легко коснулся Мананиных губ и при свете торшера какое-то время наблюдал за тем, как она мило посапывает во сне и смешно надувает щечки с легким пушком.
Да как же такое залезло мне в голову? – искренне недоумевал я, с нежностью созерцая моего ангела.
Она меня любит, твердил я себе, и я ее очень люблю.
Я выключил свет.
Любовь есть добро, бормотал я себе в темноте, чтобы уснуть…
Обреченно покачивает головой.
В третий раз я, увы, не успел отреагировать должным образом и выжил, можно сказать, по чистой случайности: нож, как бывает, застрял у меня между ребер (чуть позже приятель-хирург по кличке Мясник, зашивая рану, авторитетно поздравил меня со вторым рождением!).
– Манана, за что? – опять в ужасе возопил я.
– О чем ты, Акакий? – сонно откликнулась Манана.
– Ты меня чуть того!.. – простонал я, корчась от боли на голом полу.
– Чуть – чего я тебя? – проворчала она. – Того – что?..
– Того – чуть! – повторил я в отчаянии (я воистину не находил слов для выражения случившегося!).
Она же еще притворяется, негодовал я, она же еще и лжет.
Наконец-то я знал, кто убийца, и нож, застрявший в левостороннем межреберном пространстве груди, служил тому неопровержимым доказательством.
«Ее руки по локоть в моей крови!» – подумал я с грустью.
И еще мне подумалось, что хорошо бы ее задержать до прибытия правоохранительных органов (буквально вчера, повторюсь, я бы сошел с ума от сочетания слов – Манана и правоохранительные органы!).
Правда, я колебался: подкрасться ли к ней в темноте и оглушить кулаком по голове (за неимением молотка!); или, может, не бить, а скрутить простынями; или встать на часах у двери и стоять, что бы ни было, насмерть…
С беспокойством поглядывает наверх и по сторонам.
Да-да-да, я вполне мог прибить свою любимую жену – не иначе как Ты тогда удержалменя от страшного преступления (и Ты же, должно быть, надоумил ее включить наш старинный торшер с голубовато-розовым абажуром!).
Увидев торчащий нож в моих ребрах и кровью забрызганную постель, моя бедная жена испуганно вскрикнула и лишилась чувств.
Я же, признаюсь, впервые даже не пошевелился, чтобы прийти ей на помощь: тупо сидел на полу и только бесстрастно присутствовал при обмороке любимой женщины.
«И это она мне клялась в вечной любви!» – думал я, равнодушно ее разглядывая.
«Так вот он, кровавый итог твоих клятв!» – неспешно и удрученно размышлял я.
И тут я (признаюсь, не сразу!) увидел, что руки Мананы чисты…
Буквально вопиет небесам:
Да, представь, на них не было крови!.. Не было крови совсем!.. Понимаешь – совсем, понимаешь?..
Молчит.
Несмотря на абсурд и разящую боль в области сердца, я все-таки поспешил на кухню и, скрипя зубами, полез на антресоли.
Невозможно представить (тем более объяснить!) факт, что нож находился на том самом месте, где я его и спрятал…
И точно такой же нож – сомнений не оставалось! – торчал у меня из груди и причинял страдания.
Больше страха, обиды и боли, однако, я был одержим любопытством.
Мне уже не терпелось понять, откуда взялось это чертово изделие и кто мой истинный убийца.
В том-то, представь, и загадка, что существо, нависшее надо мной, парадоксальным образом как две капли воды походило на Манану, а нож у меня в груди выглядел точной копией припрятанного на антресолях…
Ты понимаешь?
Охваченный ветром безумия, я перенесся обратно к нам в спальню и первым делом запер дверь изнутри.
Манана, бедняжка, по-прежнему пребывала в бессознательном состоянии.
Сначала она рассердилась и стала кусаться.
Потом, осознав, что я жив, ужасно обрадовалась.
Едва ли смогу описать ее слезы и ласки, вопли и пляски вокруг меня и со мной, ту, казалось, забытую сладость объятий, восторга и забвения…
Глаза у него потеплели.
До рассвета мы были беспечны и счастливы, а поутру я извлек нож из ребер и ласково, по-хорошему попросил Манану впредь так со мной не шутить.
Тут в ее широко открытых глазах, как в синем омуте, вдруг отразились страх и недоумение.
– Акакий, я так не шутила… – сдавленно пролепетала она.
– Манана, замнем и забудем! – решительно повторил я и дважды крест-накрест мазнул ножом по воздуху.
– Я не лгу! – оскорблено воскликнула она и немедленно поведала свою версию случившегося: якобы, с ее слов, когда она проснулась, нож уже торчал у меня из груди.
Получалось – я сам себя ранил…
Багровеет.
Я, возможно, доверчив, но я – не безумен!
Я трижды за ночь просыпался и трижды с ужасом обнаруживал над собой обжигающие холодом нож и глаза!..
Мясник… я его попросил… совершил экспертизу… траекторию движения ножа… Удар наносил левша… А известно, кто в нашем семействе левша… И с очень близкого расстояния…
Дышит.
Блажен, кого чаша сия миновала!
Кого не казнила жена – повезло!
Жизнь для меня с той ночи, по меткому выражению нашего главного специалиста, трансформировалась в жалкое прозябание: сон пропал (иногда вдруг забудусь!); аппетит исчез (жевал что дадут!); сделался рассеянным, что неизбежно отразилось на работе нашей электростанции (город отныне томился во мраке!); перестал улыбаться при виде детей; и радости – не осталось…
Образ Мананы с ножом налип на глаза, подобно бельму, и мешал видеть свет.
Я по-прежнему считал ее своей музой и матерью моих детей, вот только расслабиться или заснуть в ее присутствии мне уже не удавалось.
Я от нее своих страхов не прятал – она же в ответ вертела большим указательным пальцем у виска.
– Ну зачем мне тебя убивать? – стонала она.
Вот и я задавал себе изо дня в день один и тот же мучительный вопрос: зачем ей меня убивать?..
Молчит.
Очень скоро мы оба с Мананой проснулись (точнее, заснули!) в радушных объятиях приятеля-психотерапевта по кличке Фрейд (как мы его окрестили за сюрреализм и любовь к кокаину).
Минуя нюансы, замечу, что в ходе сеанса глубокого гипноза мы наконец докопались…
О господи, лучше бы мы не копались!
Правильно в народе говорят: не ворошите грязное белье!..
Затравленно озирается по сторонам, словно опасается посторонних ушей.
Оказалось, короче, сто жизней назад (подумать, задолго до Дарвина!) я, старый горилла-самец-сладострастник, жестоко и пошло надругался над юной в ту пору и симпатичной самочкой из семейства гоминидов.
Как будто тогда же Манана (точнее, горилла!) дала себе страшный обет преследовать меня (то есть самца!) до скончания времен.
И опять, как в кино, мы себя наблюдали в образах великих правителей царств, богатых торговцев, знатных вельмож, продажных политиков, жалких простолюдинов, нищих бродяг, оборванцев и пропойц.
За сто жизней мы с ней побывали на всех практически этажах социальной лестницы, знали нужду, голодали, влачили, купались в деньгах, славе и роскоши, и нигде и ни разу она не изменила своей обезьяньей клятве.
Мы с ней неизбежно встречались на разных витках и зигзагах эволюции, и в каждом новом воплощении, со слов все того же Фрейда, ментальное тело Мананы (с ментальным, представьте кухонным ножом!) отделялось от нее и все портило…
Мужчина зажмуривается. Молчит.
– Дала слово – держи! – помню, вдогонку Манане выкрикнул Фрейд, высунувшись по пояс из окна своей клиники на тринадцатом этаже.
«Слово гориллы!» – тогда же прочел я в ее обезьяньих глазах…
И опять он поводит плечами, и ежится, и дергается – словно пытается освободиться от пут смирительной рубашки.
Ты скажешь, что мне могло показаться…
Ан нет: уже следующей ночью я вдруг различил в темноте две мощные мужские фигуры с носилками…
Устремляет свой крик наверх, адресуя его, похоже, равнодушным небесам.
Две! мощные! мужские! с носилками! две!.. В больничных халатах! мужские! две! с носилками!..
Маргинал
У молельного камня появляется мужчина. Без ноги, без руки, без уха, без глаза, без верхней губы. Садится, молчит. Наконец, разверзает уста, и речь у него странная…
Смотри… я впервые пришел… Ты мне нужен сейчас…
Молчит. Озирает пространство окрест.
Долго не верил, что Ты – есть.
Я жил в таком месте – похоже, до нас Ты не добирался.
У нас говорили – мол, Тебя нет, эту сраную жизнь никто не придумывал, сама появилась.
А что, думал я, действительно, такая дурацкая и подлая, уж если могла появиться – так только сама.
Из пыли, из грязи, из дерьма…
Молчит.
Я не верил – и Ты не был нужен.
Теперь я позвал – и Ты не явился.
Вот, сам пришел…
Молчит.
Мне от рождения, сколько себя помню, ничего не нравилось. Дом, где рос, – старый, тусклый, в трещинах и паутине.
Одно окно было в комнате – и то упиралось в грязную стену котельной, которая вечно чадила и воняла.
Я к вони привык.
Ко всему привыкаешь, когда деваться некуда.
Но как бы само собой у меня на лице образовалось выражение… Ну, похоже, как после удара бывает.
Хотя до удара не доходило.
Но выражение – как после него.
Глядеть на себя в зеркало мне было неприятно.
Молчит.
Отца я не знал.
Мать – красавица, дура, неряха, многомужка.
Я ее обожал.
Девятнадцать мужей за шестнадцать лет!
Все девятнадцать были кретины.
Ни одного не полюбил.
Они меня раздражали, я их не понимал: чего они от меня хотят?
От матери – от нее?..
Вообще – от жизни?..
И мама – теперь я догадываюсь – тоже плохо понимала.
Но то ли ей было все равно, то ли вкус был такой – на козлов.
Козлы – они и есть козлы.
Могла бы и догадаться, что я, младенец еще, через них знакомился с миром.
К шестнадцати годам, когда я хотел сказать «человечество», я говорил: «Девятнадцать вонючих козлов».
Молчит.
Я, конечно, родился уродом.
Само получилось – х-ха!..
Смотрит наверх.
Вот-вот, сама ослепительно прекрасная связалась с мерзейшим из козлов.
Ее собственное выражение, я ничего не придумывал.
Иногда на нее находило, она мне кричала, что я как две капли воды похож на своего папашу, наимерзейшего и наикозлейшего.
Но только уж он-то – в отличие от меня – был прекрасен во всем, даже в собственной мерзости.
Он был пьяным ветром, кричала, грязным дождем, матерщинным ураганом.
С ним нельзя было жить – а только молиться на него, и только ему поклоняться!..
Тяжело вздыхает.
Откуда и как он упал на нее, мой страшный папаша, и куда понесло его после – кто знает?..
Она-то не знала точно, я верю.
Но я вдруг отчетливо понял: ну да, я возник не из гордой гармонии.
И, уж конечно, не из прилива нежности и любви.
Но случился, как говорят, в результате взрыва похоти.
Из отравленных, острых осколков отчаяния и пустоты. Вселенские запахи потных соитий проникли в меня до костей.
Ни сбежать и ни спрятаться мне от тоски – ибо куда можно укрыться от самого себя?..
Молчит.
В школу я не ходил.
Мои однопородные братья и сестры терпеть меня не хотели.
Я читал, так бывает: у зверей, птиц, насекомых, людей…
Кого-то не любят.
До ярости.
До истребления.
А как истребят – почему-то вдруг моментально успокаиваются и только плечами пожимают: чего это мы его?..
И за что это мы его?..
Молчит.
Мама, мама…
Единственная женщина, удивительная женщина, которая как-то была привязана ко мне…
Всегда была рядом…
Хотя изменяла с козлами…
Но возле нее я мог жить…
Молчит.
Мамы однажды не стало – пришлось мне искать работу.
Но чего я умел и куда мог пойти?
Вот для Тебя загадка…
Какой-то из бывших козлов пожалел и пристроил работать в анатомический театр.
Театр – анатомический – красиво!
Я мыл покойников.
Приготовлял…
Они терпеливо молчали, не выказывали агрессии, в них, казалось, не было зла. Я подолгу смотрел на них, мне было странно: И КУДА ЭТО – ВДРУГ – ЗЛО ИСЧЕЗАЕТ?.. И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ – ВДРУГ – СУЩЕСТВО БЕЗ ЗЛА?.. ИЛИ СМЕРТЬ – УДИВЛЯЛСЯ – НЕ ЗЛО?..
Я разглядывал бывших людей, еще так недавно блиставших умом, глупостью, пошлостью, злобой, добром, великодушием, жестокостью, коварством, – и думал: чего было злиться?
Вот же и все…
И чего суетиться?
Вот же – и все?..
Молчит.
Из театра прогнали за странность.
Так объявили…
А жить было нужно.
Ну, поначалу я продавал все, что продавалось: вещи, мебель, посуду, квартиру…
Потом продал почку, селезенку, четыре ребра, одно легкое, правую руку по локоть, левую ногу пониже колена, правый глаз, левое ухо, верхнюю губу…
Горестно усмехается.
Что любопытно…
Нюанс…
Замечаю для смеха: меня целиком – целиком сотворенным – меня целиком не желали.
Но грызлись, как лютые волки, в жутких очередях за всякий мой жалкий член, подкупали врачей, вожделея, стонали: желаю твой жалкий член!
Желаю твой жалкий член!..
И опять усмехается.
Я уже говорил: я себя не любил.
Продавал себя без сожаления.
Увы, я уже видел прошлое и будущее меня не возбуждало.
Я знал, что солнце уйдет и появится снова; станет холодно – потом опять жарко; что всему есть свое время – жить и лгать, умереть и заткнуться. Одного я не знал: что однажды я вдруг полюблю…
Молчит.
Она так похожа на маму…
И тоже красивая…
Тоже, похоже, неряха…
Растяпа…
Недавно пришила на месте искусственного уха – искусственный глаз…
Заметив, что я удивлен, улыбнулась невинно, просила не обижаться, чмокнула в кончик носа…
Улыбается.
А мир – странный…
Когда не осталось надежды, казалось, совсем – он мне улыбнулся. Светло, беззаботно, как будто хотел мне сказать: «Эй, не горюй! Да не все так плохо, да, эй!..»
Улыбается почти счастливо.
Ее поцелуй горел и сверкал на кончике моего носа, как алмаз.
Я впервые не прятал лица, мне впервые хотелось кричать этому удивительному, этому прекрасному миру, что я еще есть!
Что еще не конец!
И что у меня – для него! – еще много прекрасных членов!
И что я… Я-а-а… Я…
Поднимается.
Я, смотри…
Удаление сердца на завтра…
Но подумал, что я не продам…
Я и деньги верну – не продам…
И последнюю руку теперь не отдам…
Руку, сердце – а?..
Руку, сердце…
Руку и сердце…
И куда-то вдруг заспешил, унося с собой руку и сердце…




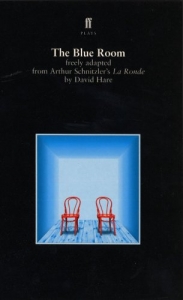

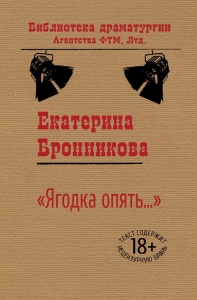

Комментарии к книге «Божьи дела (сборник)», Семен Исаакович Злотников
Всего 0 комментариев