Волшебный фонарь
КАРУСЕЛЬ Повесть
Я ходил по улицам старого тихого городка, по смертельно знакомым, разбитым кирпичным тротуарам, и никто меня уже не знал, и я редко кого узнавал, лишь вдруг будто тень знакомого человека проходила мимо, не оглядываясь.
Хмурая после ледохода река тяжело катила оловянные воды у пустынных Ксендзовских скал, и тишина, и пустыня была во всем, только кричали мальчишки во дворе бывшей польской школы, кричали вместе с грачами, и я постоял и послушал этот вечный весенний, ненасытный галдеж, и грусть быстротекущего времени коснулась меня. Я пытался найти ее дом. Я шел кривыми, горбатыми переулками, и все переулки похожи были друг на друга. Я останавливался у многих крылечек и долго смотрел на окна с зелеными и голубыми ставнями, и они смотрели на меня, и мне казалось, что это ее дом, но рядом был точно такой же.
Зачем, зачем дает нам жизнь эту первую и единственную, которую не можем удержать и потом все годы только вспоминаем и каемся!
Сколько их было потом в разных городах, на случайных станциях, случайных ночевках. Была весна, и было лето, и зима, и осень, было отрочество, и была юность, молодость, была война и бесконечный мир. И у них были разные голоса, и разного цвета глаза, были кроткие, и злые, и равнодушные, были такие, которые меня любили, и такие, которых я, кажется, любил. И все прошло, словно не было, а ты всегда живая и веселая, как в то бесконечно далекое, и теперь уже из другой жизни, лето.
1
Утром в Тифлисе я сидел на горе Давида на зеленой веранде, пил сладкое вино «Алеатико», и курил папиросы «Тропики», и смотрел, как медленно подымались и опускались вагончики фуникулера. Чужой фиолетовый город в легкой мгле сливался с шафранными горами, с измученным, выцветшим небом, и сюда долетал лишь глухой, пространственный гул, взволнованный шум азиатских базаров, из ближайшего переулка под горой слышен был рев ослика и крик, радостно умоляющий: «Мацо-о-о-ни!»
А днем игрушечный желтый дачный поезд убегал цветущей долиной в темное, сырое ущелье и, свистя, поднимался в горы, к красному солнцу, озарявшему кукольные станции с деревянными перронами. Когда поезд останавливался, оглушала горная немота, из которой постепенно возникал высокий, сухой звон, словно по всему красно-солнечному склону тысячи невидимых упрямых музыкантов настраивали свои скрипочки к великому концерту заката.
Поезд медленно полз все вверх и вверх, горные вершины дымились, там было темно и страшно, и всю ночь гремели туннели, будто поезд шел через трубу.
А потом был Батум и море.
Как прекрасно в вечерний час подняться по дрожащему корабельному трапу на празднично освещенную палубу и присоединиться к шумной толпе пассажиров, которые прощаются с землей и уходят в море, в какую-то новую, удивительную, ни с чем не сравнимую жизнь.
Когда пароход загудел густым, трубным голосом и палуба стала содрогаться работой упрятанных в трюмы машин, закипела у бортов темная, с нефтяными оранжевыми пятнами, с световыми бликами вода, вдруг дрогнул и, медленно разворачиваясь, стал отходить берег с извозчиками и темной толпой провожающих на молу. Поплыли, туманясь, портовые огни, убегая все дальше и дальше в глубь материка, желтея там, вдали, а веселые цветные звезды стали приближаться, иные, казалось, висели на реях и их можно было, как яблоко, снять рукой, И вдруг дохнуло свободой, соленой прохладой, и Черное море глянуло прямо в глаза.
Я расхаживал по нижней палубе среди канатов и бочек и ящиков, поющих, орущих и плачущих пассажиров — грузин и цыган, среди гордых и печальных, недвижимо сидящих на ковриках в трансе молитвы курдов-переселенцев и вповалку храпящих на полу сезонников, во сне крепко и надежно, как детей, обнявших укутанные в тряпки топоры и пилы.
Я был один из них в эту ночь, безвестной пылинкой, отправившейся в далекое и неизведанное странствие.
В восемнадцать лет невозможно быть оседлым. Просто однажды, в вечерний час, чувствуешь тоску местожительства: сегодня как вчера, и будет завтра как сегодня, все исчерпано и неинтересно.
И, получив отпускные деньги, я тут же поторопился навсегда проститься с уютным и благодатным краем, где с деревьев даром сыпались орехи и абрикосы, и отправился в далекую, трудную и могучую Сибирь, надеясь попасть на Чукотку или Сахалин, а может, даже на самый Северный полюс, где н а с т о я щ а я ж и з н ь.
Но по дороге к этой будущей жизни я решил заехать в один городок бывшей Киевской губернии, который в той же жажде подвига и перемен покинул три года назад и который, несмотря на всю свою жалкую травяную тишину, снился мне нескончаемо, весь в белой акации и красных настурциях.
Пароход Батум — Одесса шел полным ходом. Постепенно к полуночи все стихло — и музыка, и смех, и молитвы, и пустые разговоры. Спали пассажиры, спали дельфины в море, спали звезды в небе, и казалось, в этой ночной, непроницаемой мгле глуше, тише задышала машина, и теперь слышался только мерный плеск воды, скрип снастей, мелодичный, аккуратно повторяемый загадочный звон машинного телеграфа.
Пахло смоляными канатами, корзинами, бешметами, домашними пирожками и морскими глубинами, и казалось, что я в кругосветном путешествии.
Неужели же это я, тот, кто бегал по зеленым улочкам, гонял тряпичный мяч по пыльной площади Свободы, прыгал с теплых скал в тихую, поросшую кувшинками речку там, под кротким украинским небом?
Вокруг черная, черная ночь, дует йодистый порывистый ветер, и глухой, глубокий, бесконечный вздох волны за бортом.
Я проснулся от необыкновенной тишины. Пароход стоял у пристани, а на берегу сонно колебались пальмы.
Я сошел на пирс, и все приняло фантастические очертания. Темный гористый берег с огоньками, горящими словно в глубине каменных пещер, надвигался и душно дышал; изумрудные ящерицы ползали вверх по серым крепостным стенам; горячо пахло нагретой красной землей, магнолиями, кизячным дымом.
И вдруг послышался крик, пронзительный; истерический крик миллиона лягушек. «Ам-бра! Ам-бра!..» — кричали одни, «Ай-ва! Ай-ва!» — отвечали другие.
В воздухе стояли болотные испарения, комары звенели, как пули, и что-то жирно чавкало в водорослях: ча-ча, ча-ча… Крупные, мясистые цветы на болотах дышали и были похожи на отрубленные головы болотных животных.
И над всей черной душной землей, и над зеленым стеклянным морем, и над горами ночь вся была в светляках. Они летели навстречу друг другу, гнались друг за другом, приближались и отдалялись, плясали, они вспыхивали на листьях магнолий и платанов, в фосфоресцирующей синей траве и просто в серой пыли на дороге, вспыхивали и угасали, огненной морзянкой сообщая свои желания, мгновенные настроения, сиюсекундные капризы, свои стоны и мечты, и звали друг друга, вечно звали друг друга.
Все было избыточно-роскошно в этой неправдоподобной ночи; и эта огненная метель, и это слишком адское, чернильное небо с миллионом крупных, живых, словно шевелящихся в нем, звезд, и ужасный гвалт лягушек, их сердитые, надутые, булькающие, бесстыдные споры до хрипоты, до неистовства всю ночь, и эти огромные белые мясистые, светящиеся во тьме и до одурения, до угара пахнущие цветы магнолии, как канделябры висящие на деревьях, и острые, одинокие, тоскливо глядящие в небо черные кипарисы, пронзительные в своем кладбищенском одиночестве, словно завернутые в чадру.
Все кругом будоражило, возбуждало мальчишескую душу, говорило, что надо жить, жить и жадно вдыхать каждую густо наполненную минуту, сейчас, сегодня, ничего не оставляя на завтра, — все требовало любви.
Я пошел к освещенному телеграфному окошку и длинной казенной ручкой, брызгая чернилами, неожиданно написал письмо-телеграмму Нике Тукацинской.
2
В Нику Тукацинскую, ученицу Пятой единой трудовой школы, были влюблены все городские пижоны и чистюли, на нее заглядывались румяные мудрецы из техникума Шолом-Алейхема, усатые слушатели финансовых курсов имени Цюрупы и даже отчаянные несусветные хлопчики из приюта имени Кампанеллы.
Стоило только прийти ей на скалы, как все уважающие себя мальчишки начинали козырять и выставляться, прыгали в реку ласточкой, а кто умел — крутил сальто-мортале, и крутил «солнце», и воздух свистел, и вода кипела, как в котле, и всегда кто-то тонул, и утопленника тащили за волосы, вода, как из брандспойта, била из его ушей, и носа, и рта, а зенки все равно глядели на нее, и, обезвоженный, он снова тут же рвался на скалы делать кульбиты.
А на футбольном матче, только мелькнет на ауте ее золотая коса, и сразу же на поле — каша. Все хотят на ее глазах забить гол, не только форварды, но и хавбеки, и беки, и даже судья-рефери, а иногда и посторонние мальчишки, притворившиеся, что и они в команде, а голкипер кусает коленки, что он голкипер и ему далеко бегать забивать гол. И если теперь мяч уже попадет кому-нибудь в ноги, ни за что, никогда не отдаст; пусть все сходят с ума — «Пас! Пас! Лилипут, пас!» — сам, только сам, обводит и вертит, и крутит, как пьяный, финтует бутсами, и теперь нападают на него и свои, и чужие, возьмут, наконец, в «коробочку» и отобьют мяч, а он бежит сзади с плачем: «Ой, что вы наделали!», а болельщики наяривают: «Гип, гип, гип, ура!»
Ника назначала сразу несколько свиданий и издали глядела, как они ждут, кавалеры. Все разные и все такие смешные, важные, надутые, и растерянные, и злющие.
Долго, долго они ждут не дождутся. Перечитают все афиши на афишной тумбе, и хлыстом, как саблей, исхлещут крапиву у забора, и затопчут муравейник, сорвут стручок акации, и посвистят, и просто поглазеют на природу, и все не верят, что она не придет, и лишь когда зажгутся фонари, бросают свой пост, плетутся мелкими переулками и сходятся у сада имени Петровского к мороженщику и медленно и серьезно лижут сладкую порцию, будто ничего и не случилось. И только когда прикончат мороженое, успокоившись, заведут разговор.
— Ты где сегодня был?
— Меня мама на вокзал посылала багаж выкупать.
— А я у мельницы знаешь какого налима поймал!
— А я «Король-уголь» читал, мировецкая книга.
И я был среди них, и я выдумывал, что турманов гонял.
Но для всего, как говорил мой дед, приходит минута, надо ее только дождаться. И Ника наконец появляется там, наверху, на Клубной, у театра имени Ленина (бывший «Экспресс»), в белом батистовом платье с красным пояском, и все — и рыболовы, и голубятники, и книгочии — как по компасу поворачиваются в ту сторону, и смотрят, и ждут.
— Я, кажется, опоздала? — говорит Ника, будто назначила свидание всей капелле, а не по секрету каждому красавчику отдельно.
«Что она, смеется надо мной?» — плачет про себя каждый, но ничего не говорит, но молчит, скорее проглотит или даст отрезать язык, чем признается. Каждый делает вид, что это ему неинтересно, что она назначила свидание кому-то там, на Мадагаскаре, но совсем не ему на углу Цвинтарной и Водопойной под старым явором, у зеленой скамейки, где каллиграфически, как ни в одной тетради чистописания, ножиком навечно вырезаны ее инициалы и его инициалы и пробитое стрелой красивое сердце-пик.
Все прилипали, и я прилип. Но из всех обожателей, из всех кавалеров и хулителей я был самым маленьким, худеньким, как булавка. И если на футбольном поле я был еще игрок, я пасовал и мне пасовали, иногда загонял гол, или с моего паса загоняли гол, и я наравне со всеми вопил «гип, гип, гип, ура!», то на этом поле любви я даже не считался запасным игроком.
Когда пижоны шли за Никой, играя и красуясь, меня не считали в команде. А я тем не менее пристраивался, и приглядывался, и торопился стать поближе к ней, и переживал не меньше их, наряженных в парадные капитанки с витыми шнурами, с папироской, приклеенной к губам, и, как они, тоже громко рассуждал и имел свое понятие.
— Скелетик, хочешь фиалку под глаз? — говорил то один, то другой, когда я собирался ввернуть словечко, и, легонько, боком подталкивая, задвигали меня на второй, на третий, на десятый план, и так как они были и повыше меня, то уже не видно было даже моей новой круглой кепочки с пупочкой посредине, я был похоронен за их литыми плечами, вдыхал запах пота их усиленно двигающихся лопаток и слышал только летящий поверху легендарный мужской разговор.
Но время шло. И я надел длинные брюки, я завел прическу «польку» и гребешок в верхнем кармане куртки и до блеска драил «джимми» — башмаки. Я накатал мускулы и в пятнадцать лет вступил в соперничество с самим Арнауткой Блиох.
Арнаутка Блиох, бывший молотобоец завода имени 1 Мая, был самым сильным и смелым человеком в городе, а местные хлопчики уверяли, что и в Киеве такого нет. Арнаутка Блиох, говорят, прошибал кулаком стену дома, если надо, останавливал извозчика за колесо, и кони только поматывали головой, и Арнаутка Блиох один ходил на цыганский табор. И всем казалось, что Арнаутка подастся в летчики или водолазы. Но неожиданно Арнаутка по разверстке попал в рабфак и с силой и упрямством молотобойца крошил древнюю и среднюю историю, и бредил ею, и ночью во сне кричал: «Сиракузы!»
Когда он приехал на летние каникулы домой и в первую же ночь сквозь сон вдруг закричал «Сиракузы!», все подумали, что он кричит «караул», а если Арнаутка Блиох уже кричит «караул», то плохо, и был переполох.
Меня предупреждали:
— Слушай, не ходи за Никой, Арнаутка тебя в муку сотрет и бандеролью отправит твоей маме.
— А у меня мамы нет, — отвечал я.
— Ну, в любой другой адрес, наложенным платежом. Брутто-нетто!
Но некоторые возражали:
— Да Арнаутка на него ноль внимания. Ведь она боится Арнаутки, как оракула.
Когда я прибыл на перекресток, через который Ника ежедневно в полдень проходила в городскую читальню, оракул, как тумба, уже стоял на углу, короткий, железный, с лицом ястреба, в тельняшке и крохотной пестрой кепочке, доверху набитый спесью, наукой и мускулами. Увидев меня, он стал как бы разминаться, покачиваясь на носках, сгибая руки, и под тельняшкой заходили бицепсы, как бильярдные шары. Он сделал вдох и заграбастал весь воздух, и стало вокруг пусто. И не было произнесено ни одного слова.
Когда Арнаутка закурил, я достал свою единственную папироску и тоже чиркнул спичкой.
Мы стояли на углу, я и он, спиной друг к другу, и пыхтели папиросами, и смотрели на небо, на чепуховые облака, и я чувствовал, как Арнаутка Блиох попирает землю и держит на своих плечах небосвод.
Выкурив папиросу, я погасил ее о каблук и жиганским щелчком издали кинул в урну, а он тоже свою потушил о каблук, но не кинул, а, покачиваясь, образованно пошел к урне, неся окурок как пудовую тяжесть, и интеллигентно и щепетильно опустил его в урну. И снова мы стояли на углу, спиной друг к другу, и посвистывали, и вокруг летали стрижи и тоже посвистывали, и казалось, что между ними происходит то же самое.
— Ну, посвистел, а теперь проходи, — приказал Арнаутка.
— А ты что, купил это место?
— Купил не купил, а в текущий политический момент я его занимаю…
И вот она появилась там, на взгорье. Сады раздвинулись, и будто лилия пошла к нам, и сады двинулись за ней, и сладкий ветер повеял на нас.
— Это вы что, со вчерашнего дня тут стоите? — засмеялась Ника.
Кавалеры, отвернувшись друг от друга, пыхтели.
— Вы что, на дуэль вышли?
— Между Сциллой и Харибдой, — сквозь зубы процедил Арнаутка Блиох.
— Чего ты там бормочешь? — спросила Ника.
— Мысль на уме, — сказал Арнаутка Блиох и по-борецки нагнул голову.
И вот я осторожно взял ее за локоток с одной стороны, а Арнаутка Блиох, как щипцами, уцепил ее с другой стороны, и мы пошли, и через легкое, воздушное создание мне передавалась вся мускульная система Арнаутки, и я чувствовал его тяжелые шаги, и слышал его упрямое дыхание, и будто каждым выдохом он говорил: «Отчаливай, отчаливай…»
— Канны, — вдруг процедил Арнаутка.
— Что такое? — спросила Ника.
— Диалектика! — объяснил Арнаутка.
— Какой ты умный, даже страшно, какой ты умный.
— Эрудированный, — уточнил Арнаутка.
Я молчал. Я даже слов таких не знал, я только вслушивался и впитывал и до головокружения, до потери самого себя завидовал Арнаутке.
— И зачем я тебе, такая провинциалка? — спросила Ника.
— Подкую, — обещал Арнаутка.
— Ой, страшно, — засмеялась Ника.
— Дам кругозор. Что, думаешь, научного багажа не хватит?
Я тотчас же представил себе большие плетеные вокзальные корзины с этим немыслимым багажом.
— Адью, кавалерики! — Ника как-то вдруг выскользнула и побежала вверх по широкой каменной лестнице городской юношеской библиотеки, откуда очкастые задаваки выходили с толстыми томами Драйзера и комплектами журнала «Хочу все знать».
Мы остались оба внизу. Арнаутка Блиох повернул ко мне ястребиное лицо свое и поглядел на меня, но ничего не сказал, только поглядел и, покачиваясь, пошел прочь малым ходом, как будто увлекая за собой тротуар, и я не чувствовал под собой земли.
Тотчас же окружили меня мальчики, ходившие за Арнауткой, как за акулой, и разглядывали меня с удивлением:
— Будет жуткая буча!
Ночью мы опять гуляли втроем.
— Пусть он отойдет, — сказал Арнаутка.
— С какой стати? — спросила Ника.
— Объяснение, — кратко сообщил Арнаутка.
Я отошел.
Арнаутка Блиох, глядя в землю, высказался:
— Я тебя люблю, я тебя выбрал из миллиона.
— Подумаешь, какой самоцвет откопал, — беспечно сказала Ника.
— Ты надо мной не насмехайся, — сказал Арнаутка Блиох, — надо мной еще никто не насмехался.
— Что ты, Арнауточка, это я над собой удивляюсь.
— А ты цени, — потребовал Арнаутка Блиох. — За мной перспектива.
Он помолчал, как бы ожидая ответа.
— Ты хрустальная ваза! — вдруг произнес он с усилием. — Психея.
— Остановись, Арнауточка, что с тобой?
— Я бы тебя на руках носил, — как глухой, токовал Арнаутка и поднял руки, словно баюкая ребенка, — я бы никому не давал глядеть на тебя.
— Ой, коломитно мне, — засмеялась Ника.
— Несогласна? — сказал Арнаутка.
— Миленький, не надо. Я очень, очень, очень прошу тебя, не надо.
— Тогда Карфаген, — сформулировал Арнаутка Блиох и, повернувшись, ушел по длинной лунной улице, пестрой от черных живых теней. Шумели ночные деревья, и, говорят, шевелился булыжник на дороге.
И Арнаутка Блиох исчез. Неизвестно, ушел он пешком по рельсам, надеясь в полях, в полосе отчуждения, развеять тоску, или увез его товарный поезд, или у него еще были силы подойти к окошечку кассы и купить билет с плацкартой и занять место согласно плацкарте. Известно только, что на следующий день утром Арнаутка Блиох не вышел из своего глиняного домика на углу Киевской и Ракитянской, и мальчишки, ожидавшие его, чтобы пойти за ним, ступая по его следам в пыли, по-моряцки раскачиваясь, посвистывая, как Арнаутка, мальчишки-лоцманы долго и нелепо ждали его, пока солнце не остановилось как раз посредине неба, освещая равномерно весь городок, все его дома, и сады, и дворы, Роток, и Заречье, и Александрию. Наконец они поняли, что Арнаутка Блиох уже не выйдет, и с криками побежали к реке, на скалы, и прыгали со скал в воду, и развеяли свою печаль.
И еще долго после вспоминали Арнаутку Блиох, унесли о нем воспоминание в свою жизнь. Когда речь заходила о силаче или упрямце, всегда говорили: «А вот у нас в городке был такой Арнаутка Блиох…»
Арнаутка Блиох исчез, и никто никогда с тех пор о нем не слышал. Не хотел он ступать по тем булыжникам, не хотел стоять в тени тех каштанов, которые видели его поражение.
А я вот не мог исчезнуть, я не мог даже заставить себя уехать на лодке по реке или уйти на кладбище или в поле и не видеть ее. И уже с самого раннего утра, едва только выгоняли коров, выходили из калиток хозяйки с кошелками на базар и появлялся на улице почтальон, я уже держал путь по пыльным улицам, под цветущими акациями, к домику с зелеными ставнями.
Но в это время случилось так, что все стали разъезжаться. Пришел тот памятный, тот переломный тысяча девятьсот двадцать восьмой год, когда сразу всех потянуло в рабочие и крестьяне. И я тоже уже не мог жить спокойно, читать «Джунгли» и «Камо грядеши», ходить на свидания под желтым кленом, играть в лапту и в фанты, не будучи слесарем-лекальщиком пятого разряда.
Ах, как не хочется в пятнадцать лет быть непонятым! Может, после, лет через тридцать, это и можно, и даже, наверное, сладостно, но в пятнадцать лет ни за что не хочется ходить в непонятых.
Я вместе со всеми запел «По морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там» и однажды в неслыханно прекрасное летнее утро ушел на вокзал, сел на крышу красной теплушки и уехал, как бы играючи, как бы на день, на недельку. Разве думал тогда, что уезжаю навсегда, что никогда-никогда не вернусь на эту улицу, в этот дом, что и улицы уже не будет, и дома, и семьи — ничего; что в тот летний день, в ту минуту, когда цвели цветы, слепяще зеленели травы, летали мотыльки и ничто не предвещало плохого, всему этому конец навеки.
…Долго я бродяжничал, зайцем ездил на поездах, а когда ссаживали, по шпалам ходил от города к городу, жил в ночлежках, в вагонах на запасных путях и, желая поскорее принять участие в индустриальных начинаниях, отмечался по биржам труда, пока наконец не осел в увлекательном городе Баку.
Каждый день, каждый день, еще в сумерках рассвета, на «кукушке» ездил через весь город в степь. Там, на последней станции, где рельсы упирались в пески, ждала линейка с крутобокими мухортыми конями, и, когда солнце освещало минарет, мы уже выезжали через «Волчьи ворота» туда, где одиноко и грустно маячила на гребне горы разведочная вышка в розовых песках. Когда ударил нефтяной фонтан, пески стали бурые, на солнце рыжие, а мы ушли дальше в солончаки, где нас мучили и обжигали южные норды. В город теперь мы приезжали, когда уже горели фонари, и, сняв на квартире брезентовую робу и умывшись, я надевал наглаженные брюки-чарльстон и рубашку-апаш и выходил на Приморский бульвар, пил пиво на «поплавке» и до тихой ночи гулял под чинарами, где из длинных черных рупоров волшебно говорило и играло радио Попова.
Нет большего одиночества, чем в годы отрочества, ранней юности, когда отрываешься от семьи и ласки матери и сестры тяготят и как бы уже не нужны, а другого еще нет. И ты один, сумбурный, неприкаянный, и каждый взгляд в сумерках на бульваре баламутит и зовет за собой. И никто не поможет, никто не разъяснит, только сам ты себе поможешь, сам постепенно все себе разъяснишь.
Они смеялись, хохотали, стояли кучками и в одиночку, принимали разные позы, поворачивались ко мне и смотрели вскользь или со значением, иногда говорили: «Молодой человек, а молодой человек, почему вы такой скучный? Такой ужасно сегодня грустный?» Но я никого не видел, из вечерней мглы глядела на меня Ника, ее широко расставленные серо-зеленые глаза и большой капризный рот. И именно это сводило с ума, и помнилось, и помнилось, и от этого уже никак нельзя было отделаться, да и не хотелось отделываться.
Когда у нас зацвела мимоза, я послал по почте золотистую веточку туда, где еще была зима, метель.
А потом я послал ей ландыш. Он был такой свежий, упругий, в капельках росы, и казалось, когда она откроет письмо, белые колокольчики зазвенят. А когда зацвела сирень, я послал ей лиловую пятерку, горькую махровую звездочку счастья.
Шел бурный тысяча девятьсот тридцатый, год «головокружения от успехов», и в уездах стало тревожно.
Весеннее поле маков похоже было на оранжевый сон, и всадники в косматых бараньих шапках веером на конях летели по этому оранжевому сну прямо на поезд, с ходу стреляя по окнам.
Поезд идет шибче, и ветер и выстрелы сливаются с хриплыми криками газавата и тревожно гудящим стуком колес, со стуком твоего сердца, когда вот так лежишь, прижавшись к полу, и думаешь: «Скорее, скорее!»
Наконец стрельба отошла в глубь степи, поезд затормозил, и стало тихо и жутко, слышен был жалобный писк ветра.
Великий мир покоя лежал на полях, на оливковых склонах дальних гор, и видны были кристаллические шапки снежных вершин, и в небе высокие сияющие облака. Я спустился по железнодорожному откосу и сорвал огненный цветок мака с длинными черными живыми, все чувствующими, осыпающимися желтой пыльцой тычинками. Цветок еле уместился в конверт, прилипший к бумаге, он был уже не оранжевый, а фиолетовый, и лепестки его говорили о покое, о дальнем незнакомом лете, и ничего не сказали, не могли сказать ей о том, что сейчас произошло.
Вот кому я под гипнозом южной ночи сочинил письмо-телеграмму. О том, как мы встречались, и кто я такой, на какой улице я жил, на тот случай, если она уже не помнит меня, и как ужасно помню я ее, и многое, о чем никогда не пишется в каблограммах.
Насупленный телеграфный старичок медленно и занудно прочитал послание, подергал себя за бородку, потом поднял очки на лоб и посмотрел на меня умудренными стариковскими глазками и, поняв то, что ему надо было понять, пробурчал: «Ну, ну», — опустил очки и стал считать слова, одновременно въедливо исправляя ошибки, издавая при каждой ошибке свист, словно лицом ударялся о препятствие. И теперь уже трудно было сказать, что для него главное — счет или грамматика, а я стоял независимо-наплевательский, гордый, что отправляю письмо-телеграмму, один в ночном порту.
— Слушай, дорогой, — сказал он наконец, — а об этом обязательно надо шуметь по телеграфу?
— А в чем дело?
— Заклеить в конвертик и интеллигентно отправить почтой уже нельзя?
— Нет, азбукой Морзе.
Капризный старичок покачал головой и сказал:
— Иосиф Прекрасный.
Я не знал, кто такой Иосиф Прекрасный, и я не понимал его колебаний.
Я видел, как разносчик телеграмм с маленькой кожаной сумкой выходит из белой колоннады почты, садится на старенький, ржавый велосипед и едет тихими, пыльными, заросшими бурьяном улочками, видел, как он подъезжает к зеленому крылечку и дергает звонок. «Кто там?» — «Телеграмма!» И в доме на минуту тишина, а потом беготня: «Телеграмма! Телеграмма!» Открываются засовы, подымаются крючки. Входит разносчик телеграмм, все испуганы. Смотрят на него и мать, и бабушка, и она. Он спокойно снимает форменную фуражку, расстегивает брезентовый плащ и, еще не показывая телеграммы, листает разносную книжку, что-то долго ищет там и, наконец, корявым, грубым ногтем указывает, где расписаться, и лишь после раскрывает свою маленькую потертую сумку и подает еще мокрый, пахнущий клеем, набитый тревогой азбуки Морзе, угрожающе толстый бланк. Разносчику дают гривенник, и он уходит. И только тогда начинают читать телеграмму, и ничего не понимают, опять читают, и опять ничего не понимают, пока, наконец, дикое ее содержание и сам отправитель не доходят до их оглушенного разума и они начинают смеяться.
Вечером приходят гости. «Слушайте, мы получили телеграмму». И ее читают вслух гостям.
На следующий день эту телеграмму показывают соседям, а потом несут читать родственникам на других улицах. «Дайте, мы ее покажем своим», — говорят те, и просят ее на время, и уже показывают своим соседям и своим родственникам.
И скоро весь городок уже читает письмо-телеграмму и удивляется.
3
Утреннее море, лазурное, спокойное, сливалось с небом. Толстые, голубоватые на солнце дельфины резвились, словно играли в прятки. А справа, совсем близко, проплывал золотым прибрежьем Кавказ и медленно надвигался обрывистой стеной, с белыми, в зеленых кущах монастырями и убегающими к вершинам гор острыми кипарисами.
Солнце сверкало и дробилось в окнах многочисленных, точно висящих в воздухе домов, и чувствовался нагретый, насыщенный райскими запахами воздух.
На улицах цвели розовыми огоньками олеандры и пламенели, душно благоухая, белые цветы магнолии.
На горе, в трапезной старого монастыря, угнездилась цирюльня, столик цирюльника с косым, мутноватым зеркалом был прислонен к стене с фреской «Тайная вечеря», и в сумерках трапезной казалось: двенадцать апостолов сидят в очереди на стрижку, и я был тринадцатым.
— Ну что, артист, жениться будешь? — сказал толстопузый цирюльник, накидывая на меня тяжелый, пахнущий мылом пеньюар, как после стрижки баранов покрытый чужими черными, вьющимися волосами, и в белом обрамлении простыни я увидел в зеркале самонадеянную ухмылку бреющегося юнца.
— Бывало, — сказал цирюльник, — клиент придет упитанный, крепкий, кожа — не натянешь, как поросенок. После этого бритву уже на другого клиента не пускаешь.
Цирюльник небрежно намылил мое лицо, и я почувствовал теплую сталь опущенной в кипяток бритвы.
— Поискать такого женишка, — сказал он, сняв последние остатки мыльной пены, и кинул их в стоявшее под столиком ведро.
Из косого зеркала глядело на меня розовое, жизнелюбивое лицо. Апостолы тоже глядели на меня.
Я вошел в частную лавочку и купил модное плоское шахматное кепи с колоссальным козырьком. Примеряя кепи к моей голове, хозяин сказал:
— Дорогой мой, это не кепа, это тысяча и одна ночь.
«Пушкари» направляли на меня жерла своих старинных, накрытых черной материей телескопов:
— Моментальная фотография! Живой портрет! Вечная память!
Я сфотографировался на фоне пышного малинового тропического заката, просунув голову в круглое отверстие темных джунглей с лианами, бордовыми попугаями и, кажется, даже с летучими мышами, и на серо-туманной Пятиминутке оказался в наглаженной форме капитана с кортиком у спасательного круга «Черный принц» и еще наверху грузинскими каракулями было нацарапано: «Прощай, Кавказ! Не плачь!»
4
Поезд бежал открытыми пространствами, летали предрассветные лиловые тени. И, как всегда, не думалось, сколько еще будет таких рассветов, и дней, и ночей, и событий, и всего, что случится в долгую и совсем не такую счастливую, но и счастливую жизнь.
Я внезапно уснул, убаюканный однообразным мельканием серых мертвых полей.
Когда проснулся, было шумное вагонное утро, пили чай, ели бублики и разговаривали. В полях бежали пестрые тени облаков, на светлых меловых дорогах медленно двигались запряженные волами высокие фуры.
Проплыли станции с родными и милыми, как имена брата и сестры, названиями: Рокитно… Сухолесы…
Детская страна простиралась до горизонта и жила без изменения со своими веселыми травами, цветущими кустами и деревьями, одинокими хатами под кротким, невозмущенным небом.
Жадно вдыхаю ветер — пахучий, мятный, знакомый. И возвращается, надвигается все, что было когда-то, и исчезает все, что было сегодня, вчера и позавчера.
Вот появились купола белой церкви над синей кромкой леса, прошла соломенная отмель реки, скалы, и сосны, и мельница над рекой.
Городок встретил чужими сонными неузнанными домиками дальних окраин, а затем — зеленое кладбище, как сад вечной жизни, полосатый казенный переезд, красивое, спокойное стадо коров на утреннем туманном лугу.
Поезд застучал на стрелках, замедлил ход. В окнах поплыли желтые пристанционные постройки, деревянный перрон, и вот он, прямо перед глазами, низенький, закопченный кирпичный вокзал моего детства, где колокол бил протяжно, музыкально, и это называлось — повесткой.
Тихо и грустно было на перроне в этот ранний, глухой час.
Неожиданно и как-то нестерпимо громко и грубо бухнул колокол, и тотчас же угрожающе взревел гудок, и, сотрясая перрон и здание вокзала, уходил привезший меня поезд, сразу забыв меня, весь в своей горячей и уже чужой мне, рвущейся вперед жизни.
Поезд отгремел и ушел. И вдруг стало слышно, как скандально, домашне кричат грачи на старых станционных тополях, как стрекочут кузнечики в траве все о своем и своем, как шелестит ветер все о том же, о том же…
Привокзальная площадь, постаревшая, подурневшая, с темными тополями и краснокирпичной, похожей на крепостную башню, водокачкой, стала как будто меньше и теснее от столпившихся на ней извозчиков.
Я вглядываюсь в хитрые, глянцевые колбасные рожи, узнаю, или мне кажется, что узнаю их, а они-то меня не узнают, я для них только модная столичная кепка.
— Здрасьте! — кричат они. — Мужчина!
В табачных армяках, в рваных картузах, как на троне восседая на козлах, вопят «тпру!», еле сдерживая своих костлявых одров, которые, поматывая косматой головой, щеря желтые зубы, плевались желтой пеной, разжеванными отрубями и ржали от нетерпения, призывая пассажиров.
По мере того как пассажиры заполняли фаэтоны, извозчики подтягивали и с форсом подавали к главному входу свои ободранные и пыльные рыжие фаэтоны с колесами в случайных растениях, семенах и раздавленных кузнечиках. Пахло нагретой кожей, дегтем, пахло кнутами и армяками и грубыми словами.
Стоял стон торговли, крики, божба, клятвы, уверения. Пассажиры, кляня извозчиков, усаживались, а извозчики, кляня пассажиров, длинными старыми, узловатыми веревками привязывали в совершенно немыслимых местах, словно для цирковых трюков, чемоданы, корзины, баулы и чуть ли не людей и люльки с детьми. Пролетки, как пчелами облепленные пассажирами, жужжа, уносились в местечко через луга, светившиеся вдали желтыми цветами.
Мимо белых акаций, мимо красных казарм, серых казенных домов, украшенных кумачом лозунгов, поехал я по жаркому шляху, вдыхая сухую, душную, нагретую солнцем пыль, пахнущую сухим цветом акации и кизяком.
Странно сейчас думать, что тот мальчик, который приехал в летнее утро в местечко, когда так цвели луга, — это ты, но еще более странно, неправдоподобно, и ужасно, и гибельно, что это было и прошло и ничего от этого не осталось.
Извозчики в таком мелком городке знают все и всех. Ведь они возят людей по разным делам. Без них не обходится ни одна свадьба, ни одни похороны, а про приезды и отъезды и говорить нечего. И даже если кто не имеет грошей и не ездит в фаэтонах и, сойдя с поезда и пройдя через вокзальную площадь, делает вид, что он живет на той стороне площади, за водокачкой, вот только пересечь — и он дома, то и его извозчики видят и знают, что он приехал и что он, надрываясь до грыжи, пойдет с багажом через весь город и через реку на Заречье, но не «стратит» ни одной копейки.
И вот теперь, танцуя на козлах, причмокивая и погоняя — «Вье! Ненормальные!» — извозчик все оборачивался и страдальчески вглядывался в меня, потому что никак не мог узнать.
— Так вы, молодой человек, не в первый раз в наших палестинах?
— А что?
— О, я вижу, вы из наших. Вье!
Он немного помолчал.
— А из какой фамилии вы, к примеру, будете?
Я назвался.
Извозчик весь повернулся ко мне, и казалось, даже кони его повернули головы.
— Люди, ущипните меня! — закричал он. — Нахал, вы так выросли! Ведь я еще вашего дедушку возил. Мудрец! Грамотей! И тетю возил. Вы помните свою тетю? Ах, теперь нет таких красавиц! Таких роз! Какая она была круглая, тяжелая, горячая, как битюг. Н-но!..
Он присвистнул и, пьяный от воспоминаний, стеганул кнутом коней: «Мопсы!» Они понесли, и пыль вздымалась вихрем, и подсолнухи кланялись, и воробьи взлетали и падали дождем. А потом колеса загремели по булыжнику, и потянулось местечко.
Желтые мазанки, похожие на глиняные горшки, с одуванчиками на истлевших крышах, ветхие темные развалюшки с распахнутыми воротами в просторные пустые и скучные, заросшие крапивой дворы, из которых, торопясь, появлялись на грохот извозчика лохматые собаки, с лаем бежавшие за пролеткой и как бы передававшие ее от двора ко двору, с улицы на улицу, так что все время рядом с лошадьми были оскаленные, добродушные, дьявольски знакомые морды: «Гав, гав! Здоров! С приездом!»
Некоторые дома я узнавал, они были словно из старой-старой немой кинокартины. Крохотные окошки глядели как бы с того света, косые, пузырчатые; некогда новые, белые заборы почернели и похилились. И вот что странно — люди этого не замечали. Они неподвижно сидели на завалинках и глазели на проезжающего извозчика, а дети играли в «цурки» и катили обручи или бежали за фаэтоном, пытаясь сесть на запятки. Извозчик хлестал кнутом и кричал: «Бандит!» — точно так же, как кричал давным-давно мне. А теперь я сидел в фаэтоне, и мальчики, раскрыв рот, глядели на меня — пассажира, едущего с вокзала.
И лихо подкатывает извозчик к знойной базарной площади, к стеклянным дверям гостиницы.
— Тут, молодой человек, вы будете иметь гостеприимство.
Бравый портье в нижней сорочке и в галошах на босу ногу, похожий на ограбленного разбойника, пронзительно глядит мне прямо в глаза и только после того, как я выдерживаю его взгляд, вручает анкетку и дышит надо мной чесноком, пока я ее заполняю, потом долго читает ее, шевеля губами, словно заучивая наизусть, слюнявя, наклеивает какие-то марки, требуя почему-то с меня взносы в общество МОПР, и лишь затем дает мне ключ и подозрительно со своего места следит, как я открываю дверь.
В маленьком номере с косым полом, посреди которого стоит большая дряхлая семейная кровать с потускневшими никелированными шариками и трухлявым матрацем, пахнет чужой пропащей жизнью и керосином, которым морили клопов.
Я открываю окно. Ромашки кивают мне из дальних лет, словно узнали меня.
Как странно в родном городе, где родился и вырос, где у тебя были некогда мать, отец, сестры, и брат, и товарищи, в этом городе жить в гостинице. Такое чувство, словно живешь под чужой фамилией, будто остался один на всем свете сиротой.
5
Когда я в новом шахматном кепи, в брюках-чарльстон, руки в карманах, прошел впервые по улице и, казалось, никто меня не сможет узнать — из всех окон, со всех скамеечек, со всех выставленных к порогу табуреток и стульев глядели на меня знакомые и уже незнакомые, и следили за каждым моим шагом, но пока еще никто не решался подойти ко мне, окликнуть, стукнуть по плечу.
Они еще только приглядывались, присматривались, примерялись, они еще гадали: «Он это или не он?» Пока наконец один самый маленький, самый несмышленый не подбежал ко мне, не подставил свою замурзанную повидлом рожицу и все-таки заорал:
— Эй, ты, это ты или не ты?
И только тогда они собрались кучей, сбежались, как на пожар, и стали разглядывать и обсуждать в первую очередь желтые «бульдоги», а потом и длинные, широкие, из тяжелого черного морского сукна брюки, и кургузый, в талию, на трех наглухо застегнутых пуговицах, пиджачок, и, в конце концов, уже напоследок, они занялись шахматным кепи, сняли его у меня с головы и вертели в руках, и каждый высказывал свое особое мнение.
Иногда кто-то въедливый спрашивал:
— А ты в штате?
И тогда я отвечал:
— Отозван до особого распоряжения.
— О! — говорили в ответ, и больше ни о чем не спрашивали. Молчок! Все понимали: д о о с о б о г о р а с п о р я ж е н и я! Что-то было в этом неразглашаемое, оно пахло шинелью и кобурой с наганом и военной тайной. Мне это нравилось.
И всем это было по душе.
Когда я появился во дворе Тукацинских, меня тотчас же узнали.
— Посмотрите только, посмотрите, какой важнецкий! Какой невыносимый! Ой, я не могу. Ты что, нарком? Ника, ты только выйди и посмотри, кто пришел, кто приехал, кто к нам пожаловал сам, своей личной персоной, без заместителей.
И она тоже вышла, и тоже поудивлялась, и подала свою легкую, веселую руку, и сказала:
— Здравствуй, ты и в самом деле вырос и возмужал, прямо Дуглас Фербенкс.
Голос ее, чуть ленивый, протяжный, гортанный, с таким количеством потрясающих меня модуляций, что заходится, и падает, и холодеет, и немеет сердце, и кружится голова.
Неужели теперь я смогу на тебя бесконечно смотреть, смотреть и смотреть, всегда, сегодня и завтра, когда только захочу и сколько захочу…
Но тут подошел ее сосед, парень с бойни, с лицом, как каменная стена, Мотя Дрель. Была ли это его фамилия или кличка — никто не знал, — Дрель и Дрель…
Может быть, там, на бойне, с молотком в руках, среди быков и баранов, среди всеобщего светопреставления, он и имел какой-то законный, нужный вид, но тут, у клумбы с настурциями и ландышем, рядом с ней, не было для него никакого оправдания.
Мотя Дрель никогда не произносил больше одного слова, но зато с выражением. И теперь, увидев меня во всем новеньком, он произнес:
— Помпа!
— Балбес, — тихо сказала Ника.
И странно было видеть, как от одного звука ее голоса он, рукастый, ногастый, бессмысленный, на цыпочках ушел в траву и через плетень в кустарник и там под деревьями остановился и замер, и ветерок унес запах махорки и сивухи, и снова пахло настурциями и ландышами.
…Приходит первый вечер.
Я смотрю в небо: я узнаю длинные перистые облака, будто этот уголок на земле существует неподвижный, особый, забытый и только тут такой.
Шумным юным братством мы сидим на темном крылечке, под диким виноградом, и я слышу голоса моей школы, голоса моей группы, и будто я не уезжал отсюда.
В темноте я касаюсь руки Ники, чувствую ее легкие, гибкие, поддающиеся пальцы. Мы громко смеемся, с кем-то перекликаемся в темноте, аукаем и одновременно ломаем друг другу пальцы в темноте, мы как бы живем в двух мирах, и в этом втором, потрясающем мире все молча, глубоко, горячо, больно, бесконечно, нескончаемо…
6
Мы сидели в душной, беленной крейдой комнатке, горячие белые полосы света проникали сквозь щели закрытых ставней.
В сумраке светилась гвоздика, пахло корицей, детством, Чарской, чистописанием. И она вся еще была здесь, а я как бы пропах вокзальной карболкой, солончаковым ветром, и я уже знал, как заполняют анкеты, и анкета все равно не подходит, и ты без вины виноватый…
Из тяжелых золотых рам в упор глядели на нас гневный старик со сжатыми кулаками на коленях и тихая, кроткая, в кружевной наколке старушка, как бы говорившая: «Ах, как мне жалко, жалко вас».
А за окном зной, цвел жасмин, гудели пчелы — нескончаемый, уходящий в синеву июльский день.
И вдруг я спросил:
— Ты могла бы меня полюбить?
Она медленно сказала:
— Я еще никого не люблю.
До сих пор слышу этот голос, насмешливый, затаенный, протяжный, от которого кружится голова и сходишь с ума.
И не на меня, а сквозь меня, куда-то вдаль она смотрела, словно хотела увидеть то, что еще будет когда-то, там, после, когда-нибудь.
Солнце колоколом било в стекла, в стены, слышно было, как потрескивает раскаленная крыша. И неожиданно налетел ветер, захлопал ставнями, и стало темно, и сразу же упали первые тяжелые капли.
Мы молчали и слушали дождь. И казалось, дождь за нас говорит.
Сначала робко, кап… кап… кап… затем поспешной скороговоркой и вдруг, захлебнувшись, невнятным бурным потоком, с которым слились молнии, гром и темнота.
Каждый думал о своем.
И дождь все про это знал. И об этом говорил.
И когда неожиданно, так же, как начался, дождь кончился, мы уже многое знали про нас самих, будто это он нам рассказал.
Ника открыла окно, и в душную комнату вошла дождевая прохлада. Светило солнце, сеялся тонкий серебряный дождь, и водосточные трубы еще долго рокотали, словно кто-то играл на них. По солнечной улице тяжелый, глинистый, ревущий поток нес щепу, и обломанные ветки с зелеными листьями, и тонущие цветы, и в небе была радуга, и в воздухе радуга, и мы стояли у окна и смотрели, и казалось, всегда будет солнце во время дождя. И всегда будем вместе, рядом — теперь уже нельзя было представить солнце во время дождя без нас, все это было каким-то чудесным, тайным, роковым образом связанным и не могло существовать отдельно.
Я видел близко ее бледное, милое, задумчивое лицо, ее тонкую шею, тонкие руки, и жалость пронзила меня, и я был предан ей навеки.
7
Я вижу то лето, то яркое, веселое и печальное лето.
Городок был как переводная картинка, плыл паром через реку на пляж, и усатый Саша, с которым я некогда сидел на одной парте, уже был с красивой молодой женой, и они бесконечно смотрели друг на друга и целовались, и печаль пустого неба касалась моей души. Потом у шумной реки, в саду под яблонями, мы пили чай, и они все так же смотрели друг на друга, целовались и не замечали меня. А я был совсем мальчишкой.
О, какое это было огромное лето, и с какой прощальной силой я чувствовал каждый миг, каждое утро, и полдень, и сумерки, и вечера, и ночи, крик петуха и лай деревенских собак. Ночи были светлые от цветения жасмина.
Все этим летом было небывалое. Гром гремел так, что содрогался дом и сад, молния слепила весь город, молния прожигала улицы, и еще долго после ливня воздух содрогался.
Казалось, никогда еще так ярко не цвели цветы. На клумбах качались огненные чалмы настурций и кротко, весело, удивленно, прямо в душу глядели голубые незабудки.
Забыты были чужие города, рыжая степь и горы.
И вернулось отрочество с прогулками на лодке в парк — кострами, сбором шишек и, чаем в старом, зеленом солдатском котелке, пахнущем дымом и хвоей; с вечерними переодеваниями, фантами, старыми, милыми, не забытыми, не умершими, вечно живыми фантами, поспешными поцелуями в темных сенях у кадки с водой; с долгими протяжными ночами, гуляньем по старым спящим улицам в мерцающей, шумящей тени лип и акаций, в последний раз, прощаясь на веки веков, до скончания времен.
Неужели те же звезды и сейчас горят над этими улицами, неужели другие повторяют тот же круг жизни, и шумят над ними старые, знакомые мне акации, и падают желтые листья, и никто не придает этому никакого значения?
Я помню один день, длинный, как целая жизнь. Раннее утро. Медлительные розовые коровы плыли по траве, звеня колокольчиками, из калиток пахло теплым хлебом.
Я шел мимо белых и голубых домиков, пышных палисадников, мимо увитых хмелем, прибитых теплой пылью падающих заборов, длинных, нагретых солнцем базарных рундуков, в крикливую толчею, ярмарочную путаницу подвод, коней.
Какое это было горячее, солнечное, разноцветное утро, с трубными криками гусей, ржанием коней, сигналами машин, когда сами рундуки, сами базарные топчаны, словно живые, пахли огурцами, и земляникой, и ржаным духом мужичьих свиток.
Я выпил глиняный глечик холодной ряженки и поел теплого, с твердой, поджаренной коркой пеклеванного домашнего хлеба и пошел между рядами подвод, с наслаждением вдыхая запах клевера и лошадиного пота.
Сверкало солнце, и пыль в воздухе была радужной, жемчужной.
На подводах гуси вытягивали шеи, шептали и хлопали мягкими белыми крыльями и трубили. Зачем они трубили?
Парни в картузах с лакированными козырьками, в скрипучих хромовых сапогах ходили и смотрели на сидящих на подводах румяных девок, и те точно так же, как это еще делала Ева в раю, закрывались рукой и хихикали. И все воспринималось ярко в то утро преданной любви, и все время будто Ника шла рядом со мной, и я выбирал для нее землянику, которую хлопчики продавали в холодных, росистых листьях лопуха. Я взял горсть земляники, и долго после этого ладонь прохладно пахла лесом.
Я пришел к Нике.
Мама ее, в пенсне, с высокой, пугающей меня, напудренной грудью, сидела на крылечке и, задыхаясь, медленно курила длинную, тонкую, с голубым пеплом, папиросу, сладко пахнущую фармацеей.
— Вот наш ухажер, — радостно сказал сосед с личиком бурундука.
— Ну, какое ваше резюме? — сказала в нос мама, просматривая меня сквозь пенсне и дым странной папиросы.
— Жених и невеста, музыка играй! — сказал бурундук, и пестрая мордочка его так расцвела, что из нее можно было вырезать галстуки.
Ника вышла в шифоновой блузке. Я оробело взял ее под руку, и дрожь прошла по рукам и ногам. Я оглох и ослаб.
— Нет, как это вам нравится? — сказала мама.
— Гоп со смыком! — сказал бурундук.
Там, на Заречье, спят в траве красные и синие лодки, а одна зеленая на цепи колышется в утренней теплой, спокойной воде.
Мы стоим у старой крепостной стены, из расщелин которой растет бузина, и я кричу на тот берег точно так же, как давно, тогда, еще в той жизни:
— Ива-ан! Лодку-у!
А-а… у-у-у… — отвечает эхо.
И вот на том берегу из шалаша выходит с веслом на плече лодочник Иван.
На миг показалось, что ничего не было — ни моря, ни гор, ни общих собраний по чистке, ни пулеметной стрельбы и малярийных комаров, не было этих лет, а все стою мальчишкой на берегу милой, заснувшей гусиной речки.
Иван садится в лодку и сильными, привычными взмахами весел переплывает реку. Он тот же, в своем рваном соломенном брыле, с короткой глиняной люлькой в зубах.
— Что, не узнаешь, Иван?
Он приставляет ладонь к глазам и вглядывается.
— Нет, не признал.
— Так я же ученик вот этой школы.
Ах, сколько он перевозил учеников этой школы! И отцов их, когда они были учениками этой школы.
— Всех не упомнишь, — вздыхает Иван.
Старая, под красной черепичной крышей, школа тихо смотрела на реку глазами-окнами и долго-долго провожала нас, открываясь на каждом повороте реки.
Медленно проплывали скалы. У каждой было свое имя — Ксендзовская, Голова, Монах.
— Какими они стали маленькими, — сказал я.
— Нет, они всегда были такие, — сказала Ника.
Высоко на горе открылся костел с горящим крестом в небе, янтарные облака стояли над его куполами. Потом Барановичи — чернозатоптанный стадом берег, где всегда взбаламученная водопоем река. В давно прошедшие, будто в сказке существовавшие, времена стояла тут на солнечном припеке купальня, и ты с отцом впервые пришел к реке и почувствовал ее прохладный, тинный, донный запах. И ты, маленький, голенький, как таракан, на руках отца, закрыв глаза, закрыв растопыренными пальцами нос и уши, страшась страшного, нырнул в зеленоватую, бурную, горькую воду реки.
Медленно скользя по звенящей проволоке, реку пересекал накренившийся набок, старенький, замшелый паром, переполненный бабами, мальчишками, корзинами. Тот ли это паром, который перевозил нас? Шумный, галдящий, не успевал он подойти к берегу, как мы, встречаемые воплями тех, кто уже был там, с криком прыгали в теплое мелководье, бежали на горячий, раскаленный песок пляжа, быстро, на ходу все с себя скидывая, и потом саженками туда, на середину реки: «Смотри, смотри — какой фортель!» — головой вниз, сквозь водоросли, до темного, страшного замка водяного.
Упруго твердый влажный трос гудит и ходит в руках, сначала в моих, потом в ее руках, перекинули через голову и через лодку, и снова он ушел, гудя, под воду, а мы поплыли дальше. Мальчонка пастух на крутом яру стрелял кнутом, провожая нас презрительным взглядом человека, уже с утра занятого делом.
И вот она — коса пляжа, кажется, знакомая, родная до каждой песчинки, но теперь, ранним утром, еще пустынно-холодная, темная от росы и чужая. На песчаных дюнах вырос кустарник, а за ним незнакомые хаты, еще дальше — новые фабричные трубы. Все изменилось.
Прошел мимо высокий, подмываемый рекой, с обнаженными корнями деревьев берег, на котором ярко-зелено светился травяной луг старого стадиона.
Сколько здесь было всего, как трогают сердце эти одинокие под небом, никем не защищаемые, пустые футбольные ворота! Где они — те, что кричали отчаянно, с мольбой: «Пас! Пас!»?
— Ты чего улыбаешься? — спросила Ника.
— Так, ничего, — говорю я.
Сильное и чистое утреннее солнце освещало на склонах белые улочки, бегущие к реке, осоку, по горло стоящую в зеленой воде, и потревоженных движением лодки прыгающих, булькающих маленьких жемчужных лягушек.
Детство мое проплывало мимо. Оно играло в высокой траве, бронзовое, лежало на горячем желтом песке, ходило стойкой вниз головой и вверх живыми пирамидами, оно свистело, бесилось, пинало по выгону мяч и тихо выплывало из камышей в челноке, с удочкой в руках, или вдруг выбегало с рогаткой и кричало: «Бей, не жалей!»
На берегах поднялась высокая трава, угрюмая, загадочная. Как в тоннель, мы въезжали в зеленый влажный сумрак Александрийского парка. Корявые ивы низко склонялись над медленно текущей водой. А над ивами стояли сосны до неба. И из темной синей глубины шел к нам гул леса, и о чем-то говорил, и куда-то звал.
Бесшумно легко несет река, сильно печет солнце, зыбко качается лодка над утонувшей осокой. Мы сидим рядом, я чувствую ее горячее, нагретое солнцем плечо, и кажется, навеки слиты, никогда не расстанемся, никогда не отойдем друг от друга. Не может этого быть, чтобы каждый из нас жил сам по себе, сам в себе.
Что же тогда будет вместо этого?
Река здесь была светлая, прозрачная, солнце просквозило ее до дна, и виден был каждый камешек.
Тихо светились желтые кувшинки, и водоросли жили в воде в спокойствии и забвении. Снизу головастики один за другим подымались к утонувшей пчеле, толкали ее и пробовали: «Э, да невкусно!» — и, жеманно вильнув, уплывали в свою речную детскую жизнь.
Мотыльки летали над самой землей и подолгу сидели и грелись на травинках, качаясь, как на качелях, засыпая и просыпаясь. Только в синем колокольчике буянил шмель, уцепившись за тычинки, он гудел, раскачивая цветок, который ходил ходором. Я палочкой выковырял толстого плюшевого буяна, он упал в траву и притворился парализованным, все время наблюдая, зорко и неотрывно наблюдая, не появилась ли снова палочка, и вдруг загудел, запыхтел, заводя мотор, и рванул над горячими травами, и пошел, пошел, паникуя.
Мы сидели на берегу и молча перебирали камешки, гладкие, разноцветные.
Весь мир как бы исчез, оставив нас двоих на берегу солнечной речки.
Все замерло — и сосны, и облака на небе, и сама тишина, — все как бы прислушивалось и не хотело мешать нам, отвлекать от того, что совершалось в душе, в моей душе, потому что твоя была еще отдельно.
Я представил себе, как тут будет зимой, когда выпадет снег, голые деревья, холодный ветер, и ты одна, мне стало грустно, и жаль тебя, и захотелось сказать что-то очень хорошее.
— Я буду думать о тебе каждый день, а летом приеду снова.
Ты улыбнулась.
Я ласкал твои руки и все повторял:
— Не забуду этот день. Сколько буду жить, не забуду этот день.
Жужжали пчелы. В лесу дятел долбил тишину, и слышно было, как падали на землю с сосен тяжелые шишки.
И все время было ощущение, что это скоро кончится. Скоро, скоро, это не может длиться долго.
— Ника!..
Наверное, у каждого бывает хоть один такой день.
И у тебя он был. И свет этого дня разлился по всей жизни и питает твою доброту.
8
Мы шли через лес. Мы шли, как дети, крепко взявшись за руки. И словно знали, словно чувствовали, что никогда не будем вместе и все, что случится, — случится с каждым в отдельности.
С ума можно сойти, если собрать все то, что случилось с тобой за жизнь. И все-таки она прекрасна. Вот что непонятно.
Мы заблудились, и всю дорогу чибис приставал со своей анкетой: «Чьи вы? Чьи вы?»
Вечерняя тень накрыла лес, среди деревьев и трав стало сумрачно, и послышались истерические голоса испуганных темнотой или, наоборот, радующихся ей. Реки не было видно, только навстречу сыро тянуло болотным илом, и шли мы на кваканье лягушек.
В темноте набрели на лодку, я оттолкнулся веслом от берега, лодка прошуршала в осоке, и тихо и внятно ее понесло вниз по течению, береговые огоньки медленно двинулись, подул ветерок.
Ни луны, ни звезд, — река шла мимо, широкая и неузнаваемая, и казалось, вокруг только вода и вода до самых крайних пределов, лишь где-то далеко — желтые огоньки, которым все равно, есть ты на свете или нет.
Лодка вошла в светлый, прозрачный туман, теперь казалось, мы стоим на месте, и белые призраки набегают на нас и проносятся мимо, а там с поверхности воды поднимаются все новые и новые призраки. Все преображается, принимает сказочные очертания, туман блуждает над водой, образуя чародейные бухты, острова. Мы заплываем в кусты, но это не кусты, это тоже туман. Где-то поблизости бьет колокол. Может быть, и этот звук почудился? Из белой мглы плывет на нас костер, настоящий, дымный, живой, расцветает огнем. Это факел на носу лодки. Лодка медленно, как во сне, проплывает мимо, и рыбак с острогой отражается в реке.
Тихая белесая река, всплеск весел, еле слышный ветерок и терпкий запах яблоневых садов. Одни, совсем одни во всем мире, на земле, остановившейся в своем полете на миг, в серой темноте над рекой.
Что-то сильное, доброе, жертвенное захватило душу. Я схватил ее руку и стал целовать, повернул ладонью вверх, целовал и целовал мягкую, ласковую ладонь, потом поцеловал кисть, и теплый, податливый изгиб локтя, и плечо, и щеки, и глаза, и волосы, которые пахли травой и солнцем и безмерным будущим. Я целовал ее и, пьянея, говорил:
— Ну скажи что-нибудь, скажи!
Я больше ничего не мог придумать, разве я был виноват, что больше ничего не мог придумать.
А она молчала.
Несколько раз луна хотела выглянуть, но каждый раз ее закрывало туманом: «Обожди, не мешай…»
— Ну скажи что-нибудь, ну скажи! Что-нибудь хоть скажи, скажи…
— Хочу домой, — вдруг заскучала она.
Я смотрю в ее лицо. Так, значит, все приснилось?
Что же ты за человек? Или все так могут?
Но я-то так не могу. Честное слово, я так не могу и никогда не смогу.
Вода устало плещет о борта лодки. Берег где-то близко, совсем рядом. Лает собака. Плачет ребенок. Скрипит колесо.
— Хочу на берег.
Я молчу. Я не двигаюсь.
— Пожалуйста…
В это время взошла луна, и свет ее как бы расковал меня.
Я поднял весла. С них медленно стекала вода, она фосфоресцировала. Берег с белыми хатками на взгорье стоял неподвижно. Мы приблизились. Звучно шлепаясь, запрыгали в воду лягушки.
— А как быть с лодкой? — сказал я.
— Поезжай, я пойду одна.
…Вот она тут сидела, — говорю я себе.
Как сразу все опустело вокруг, какими одинокими стали деревья на берегу.
Удивительно быть одному на реке ночью, будто ты поднялся со дна и мир земли тебе чужой.
Огоньки на горе были далеко-далеко, странно приплясывали и сверкали. Где-то она идет сейчас одна, мимо огородов и садов и спящих домиков в теплой пыли.
Что же это будет? Что же это такое будет?
От воды, взбаламученной веслами, пахло водорослями и тиной, и была такая глубокая, такая невыносимая, убивающая тишина, что хотелось кричать…
С этого дня все и началось.
9
До того я видел его только один раз — красавца Рому, будто прошла и взглянула на меня элегантная, бархатная гусеница.
Всю жизнь мама тряслась над ним. Сначала она боялась, что Рома умрет от коклюша, а потом она боялась, что, играя в жмурки, он упадет и сломает ногу, а потом, что в него попадут из рогатки или что он, в конце концов, свалится с велосипеда и свернет шею. Она боялась футбола, и гандбола, и игры в «красных и белых», а после стала бояться, что он будет играть в очко и шмен-де-фер. А теперь она боялась, что, играя в фанты и флирт цветов, он влюбится и женится.
А Рома тем временем вырос в изнеженного, изломанного юношу с широкими бархатными бровями и шелковистыми волосами, который краснел от каждого грубого слова и на все покорным, воспитанным голосом отвечал: «Ну что ж, ну что ж!» и почему-то всегда был восторженно окружен девчонками. Они с детства закармливали его конфетами, а теперь без конца дарили ему улыбки.
Мы втроем пошли к старому фотографу, длинноволосому, худому и плоскому, словно вырезанному из фанеры, в свободной блузе с большим шелковым бантом. Он долго направлял на нас свою древнюю астролябию, а мы сидели и смеялись и, пока он терпеливо наводил трубу и умолял: «Спокойно, не шевелитесь», нарочно лупили глаза, мигали и гримасничали, и когда, наконец, сказал: «Момент!», вдруг оцепенели, и вот на фотографии — все испуганные, пучеглазые и смешные.
— До вечера, — весело сказал я.
— Ага, — согласилась Ника и улыбнулась мне.
— Ну что ж, ну что ж, рад был познакомиться, — вежливо сказал Рома.
Но я не обратил на эти слова никакого внимания. Ладно.
Вечером я пошел в кондитерскую бывшую Васильчикова, где, казалось, стены, и стеклянный прилавок, и маленькие кремовые столики, и вазы на столиках — все пропитано теплой пирожной сладостью, шоколадом, какао, и купил трубочки, и наполеоны, и эклер и с перевязанной шелковой ленточкой коробкой пошел к Нике.
Ее не было дома.
Я сидел на скамейке в палисаднике и смотрел на анютины глазки.
Стало темно. Взошла луна.
И вдруг я понял — она не придет. Я побежал к Роме. Его не было дома.
Я ведь ее спросил — до вечера? И она ответила — ага! Зачем же она так сказала? Она уже знала, что не придет? Или это произошло потом, когда я ушел, и они остались вдвоем и забыли, что я есть на свете, когда я так беспечно, по-мальчишески ушел, полный веры, что все в этом мире как следует.
Я метался по тихим переулкам и вглядывался в сидящие на скамейках пары. Я так внезапно подбегал и смотрел, что они вскрикивали и испуганно глядели на меня, будто я хотел их ограбить.
Я пришел к фотографии, где я был с ней днем. Все еще тут дышало ею. Вот оттуда, из переулка, она появилась и улыбнулась мне. Да, она улыбалась мне.
Милый старый переулок, поваленные заборы, настежь открытые дворы, глиняные флигелечки в глубине, в глухой крапиве. Окошко, слепое, безответное, как бельмо, глядит на меня.
Что делать? Куда идти?
Запах твой бурьянный кружит мне голову, переулочек.
В лунном свете улицы были голубые и незнакомые, я их не узнавал, мне казалось, что я заблудился в чужом городе, и непонятно было, как и зачем я сюда попал, и что я тут делаю, и чем это все кончится.
Ухала и кого-то звала бесконечно и безуспешно, глухо звала кого-то сова в гимназическом саду. Опадал жасмин, и лепестки летели, сверкая.
Я вышел на шлях, где не было и домов, одни огороды и сады и дальний лай собак.
Ночной ветер увязался за мной, иногда отставал и шумел, о чем-то там договариваясь с кукурузой, потом обгонял, подымая впереди пыль, словно о чем-то предупреждал, и вдруг улетал в открытые поля и там далеко в овраге скулил, бесприютный.
Где, на какой скамейке вы тогда сидели, о чем говорили? Счастлив ли он был так же, как я был бы счастлив, если бы ты сидела со мной? Запомнил ли он тот вечер на всю жизнь, как я его запомнил? Почему же это был он, а не я?
Что-то оборвалось во мне тогда, в чем-то разуверился, в чем нельзя бы разуверяться никогда.
Какой-то одинокий ночной человечек, какой-то неприкаянный, неспящий человечек удивленно прошел мимо и потом вернулся.
— Ты что делаешь, малахольный?
— Ничего.
— Как ничего? Сидишь и ешь ночью пирожные с кремом.
Глаза у него были ошарашенные.
— Ты где деньги взял на столько пирожных?
— Я на свои деньги купил.
— Ой, не верю!
— Честное благородное слово, — сказал я.
— Благородие, смотри, отравишься! — сказал ненужный человечек и пропал во тьме.
Удивительные ночные звезды шевелились в небе, как медузы, проливая свет, они опускали светящиеся щупальца, и я не знал, это во сне или наяву.
Как сладко пахли ночные травы, сухие и жесткие, словно день выпил из них всю влагу.
Деревья смотрели в небо и ожидали счастья от звезд. Всю ночь, всю ночь они смотрели в небо и ожидали счастья, а потом пришло утро.
Над рекой всходило солнце, туман висел на прибрежных кустах, и песок был серым, холодным, а вода теплая, парная. Водяные жуки, распластав длинные кривые ноги, как глиссеры, сновали по воде и, судорожно дергаясь, что-то искали. Что они искали?
Я разделся и поплыл саженками, церковные купола сверкали на солнце и слепили глаза, но все казалось ненастоящим, будто построенным из кубиков, и жизнь казалась завершенной, и сам я казался себе старым-старым, давно и устало живущим на земле.
А по всему берегу кричали петухи, что снова утро, снова все начинается сначала, и того, что было, как бы не было.
Я пришел выяснять отношения.
— Где ты была вчера?
— Вчера? Уже не помню, — Ника пожала плечиком.
— Я ждал всю ночь. Ты это понимаешь, я ждал всю ночь.
У нее было лицо глухонемой.
— Ты меня не слушаешь?
Она внимательно поглядела на меня, будто в первый раз рассмотрела, и тихо сказала:
— Неужели ты до сих пор ничего не понял?
— Ты влюблена?
— Не ведаю.
— Может, мне уехать?
— Как хочешь.
— А тебе все равно?
Она снова пожала плечиком.
— Ну, тогда я пошел, — сказал я.
Она молчала.
Я спросил:
— Ты придешь вечером?
Она смотрела куда-то в сторону.
— Ты скажи прямо — да или нет? Я не повешусь.
— Наверное, все-таки нет.
Я становился постылым.
Я чувствовал, что становлюсь постылым, но меня уже понесло:
— Это что, конец?
— Не знаю, — растерянно сказала она.
— Странная какая ты.
— Какая есть.
— Но ты только сейчас стала такой, раньше ты такой не была. Ведь не была, не была?
Она молчала.
— До свиданья, — сказал я.
— До свиданья.
Если ты любишь, ты только и думаешь о ней, а ей — все равно, ей — хуже, чем все равно. Ты приставучий. Так надо не любить, не думать, не помнить, не быть приставучим. И я все повторял себе: надо быть гордым и одиноким. Да, но как это делается?
Ах ты, восторженный, губастый дуралей. Уезжай же отсюда, забудь ее.
Но кто может сказать, что он делал все, как надо.
И я не уехал, я еще жил несколько дней в ожидании, что все перевернется, — вдруг возьмет и перевернется.
Какие это были непонятные, ненастоящие, какие-то больные дни, их можно свободно вычеркнуть из жизни. Лучше бы их не было.
Я много раз приходил на ту маленькую площадь перед фотографией, где я в последний раз ее видел, и площадь была доброй и уютной, как комната, и тут я долго стоял и ждал, и все казалось — сейчас она появится из переулка и улыбнется. Я так долго стоял, что старуха в нищем окошке на углу все чаще поглядывала на меня и раз даже позвала какого-то бледного человека, и он тоже поглядел на меня и показал бледный кулачок. И мне стало смешно.
Однажды я случайно встречаю Нику на улице одну. Она глядит поверх меня и говорит: «А, это ты? Как живешь? Скоро уезжаешь?»
Я молчу. И она уходит. Мне хочется закричать: «Слушай! Обожди! Так же нельзя в конце концов». Но я молчу.
Дует жаркий ветерок. С деревьев падает сухой цвет. Рыжие стрекозы молча преследуют друг друга, и трудно понять смысл их полетов.
10
Наконец я решил объясниться и с Ромой. Я нашел его в саду. Чистюля в белых гамашах. Он стоял среди цветов, вокруг летали нарядные мотыльки, и все они были из одного роскошного семейства.
— Как видно, совесть тебя не мучает, — сказал я.
— Прости, а что случилось?
— Ах, какой недоумок!
Рома сорвал желтую чайную розу, осторожно понюхал и сказал: «Ну что ж, ну что ж!»
— Ты ее любишь?
— Я? — удивился он.
— Нет, турецкий султан.
— Это не любовь, просто приятное времяпрепровождение, — разъяснил Рома.
— А я ее люблю.
— Но это чудненько! — сказал Рома и стал смотреть на меня с любопытством, мне даже показалось, что он хочет подарить мне по этому случаю розочку.
— Ну и тип!
Рома кротко улыбнулся.
— Мавр, ты кипятишься, — значит, ты неправ.
— Ты мне зубы не заговаривай, скользкий тип.
Я плюнул и пошел прочь не оглядываясь. А он еще вдогонку сказал:
— Ну что ж, ну что ж, признайся, что ты неправ.
Черт с тобой, красавчик, черт с тобой, красуля! Рома, Ромуальд! Тра-ля-ля! Я шел по улице, насвистывая, а на душе было муторно.
Что же это такое? Почему, когда мы любим, на нас никакого не обращают внимания, над нами еще и посмеиваются, от нас хотят отделаться, чтобы не надоедали, чтобы не прилипали, а ищут, добиваются тех, которые зевают, которым скучно, которым всегда скучно, все обрыдло. Что же, это так устроено, это есть и будет во веки веков? И надо, чтобы так было?
11
В этот последний день я пришел к ней. Она уходила. На ней были новые туфельки «чио-чио-сан».
— Презирай меня, но я все время вижу тебя, где бы я ни был, я вижу тебя.
Ника кивнула головой.
— Это бывает раз в жизни, это не случается часто, — предупредил я ее.
Она опять кивнула.
Ей надо было уходить. На ней были туфельки «чио-чио-сан». Но именно потому я хотел все высказать до конца.
— Слушай, ты еще когда-нибудь пожалеешь.
Ника улыбнулась и развела руками: «Что поделаешь?» У нее даже не было слов для меня.
Я пошел назад. Я пошел через весь тихий знойный мертвый городок.
О, научиться забывать, научиться не быть настырным, сорвать с себя пластырь прилипчивости и быть с форсом, быть холодным, невнимательным, презрительным и говорить: «Феноменально!», или вот так: «Умру от тоски. Ха-ха!» Нет, не мог я этому научиться, ни тогда, ни после.
Неожиданно для самого себя я вышел в поле.
Пахло подорожником, горечью неспелой ржи. И я позабыл, что со мной.
Рожь медленно и сонно шумела в стоячем, душно нагретом воздухе полдня.
Я потрогал колосок. Он весь был горячий, пронзительно жесткий и, защищая себя, сердито топорщил во все стороны свои колючие усы.
Подул легкий свежий ветерок. В чистом бледно-голубом небе, как перекати-поле, появилось маленькое, совсем крошечное темное облачко, неспокойное, взъерошенное и такое быстрое, словно кто-то гонялся за ним.
И действительно, вот уже вдогонку летела за ним стая черно-синих тучек. Ветер подул сильнее, и тучи пошли толпами, рваные, сумасшедшие, сбежавшие от какой-то великой катастрофы.
Мгновенно посиневшее ржаное поле грозно зашумело, ветер пригибал рожь к земле, но она, гибкая, сильная, тотчас же выпрямлялась. Тогда налетал новый шквал и снова гнул ее к земле.
Теперь каждый колос жил своей отдельной жизнью, он выпрямлялся и звенел и говорил о том, как хорошо быть молодым, сильным колосом и дерзко смотреть прямо в лицо дикому небу и никого на свете не бояться.
Вдруг сразу, будто кто махнул волшебной палочкой, все смолкло — и листья на деревьях, и птицы, и то, что копошилось и жужжало в ветхой пыли среди растений. Небо стало аспидно-черным, и где-то там, в адской глубине его, ослепляюще сверкнула молния, и в дрожащем голубом свете предстало осиротевшее, беззащитное поле.
Вслед за этим так бабахнуло, что я руками прикрыл голову.
Я побежал через лес и бахчу. Я бежал так быстро, что огородные чучела в рыжих соломенных брылях, развевая лохмотьями, погнались за мной.
Но вот упала на лицо крупная, холодная, обильная капля, и сразу охнуло, завыло, и страшное черно-бугристое небо стало валиться на дальние хаты и сады.
Я добежал до первого городского дома и остановился.
Какая вдруг темень, и молнии все шарят и шарят, словно кого-то ищут в черных клубящихся тучах, словно это меня они ищут, а я здесь, под крышей.
Сначала было слышно, как взвизгнули и заревели водосточные трубы, и все содрогнулось в едином грохоте, и молнии, сливаясь в зловещее сияние зарева, освещали бурлящий город.
Дождь неожиданно стихал, слабея, и тогда слышно было, как свищет ветер, веером неся дождевую воду, но потом ливень снова срывался с неба, ударял по крышам, по стеклам. Постепенно этот долгий холодный ливень как бы смыл все, что было у меня на душе, и унес с ручьями воды, и сердце освободилось для дальнейшей жизни и действия.
Я быстро собрался и вышел из гостиницы, тосковавшей в запахе карболки. На базарной площади, переругиваясь, толпились мокрые извозчики, тотчас же повеселевшие при виде неожиданного пассажира, даже лошади оживились и вынули печальные морды из торб с овсом, ожидая, что именно их хозяина я выберу.
— Н-но, свирепые! Знают, с кем едут на станцию! — И, показав лошадям кнут, извозчик вольно покатил по длинной и прямой Александрийской улице.
Теперь уже мне не жалко было уезжать, ничто не окликало меня. Равнодушно, как на чужое, давно когда-то, в другой, забытой жизни виденное, смотрел я на серые, до костей облупленные домики, на мокрые, растрепанные палисадники с поникшими цветами, на обветшалых стариков и старух, покорно и безмолвно сидящих у ворот, уличных торговок у своих копеечных лотков с ирисками и семечками, на весь этот теперь такой жалкий, такой ненужный и смешной, отошедший от меня мир. Неужели я здесь жил, и все это было мое, и все, что я знал, было только тут?
Улицы уходили назад бесповоротно и, как казалось, навсегда.
12
Я уехал недалеко, в маленький, затерявшийся в лесах городок, и поселился в хате на березовой опушке, в палисаднике цвели золотые шары и гудели пчелы.
Какие это были долгие дни!
За хатой спокойно журчал в траве ручеек, он тут жил. Я разгребал старую траву, и там, по земляным бугоркам, ходили цветные мухи, железные мускулистые жуки и пыльные худые паучки на двенадцати ногах, они куда-то привычно торопились, сталкивались, иногда даже отпихивали друг друга и поспешно уходили в щели земли, замороченные суетой и заботами. И среди всей этой суматошной жизни, через все и сквозь все, молча, упрямо и беспрерывно, с вековечным терпением и твердой верой в свое дело, в выветрившейся, измученной пыли двигались муравьи. Я наблюдал их Великий Рыжий путь среди былинок и корней, я старался понять — куда они ползут, и зачем, и приходят ли они в конце концов к своей цели.
А днем я лежал на песке у заброшенной каменоломни, и в карьере, откуда выбирали камни, стояла желтоглиняная, нагретая вода, я купался и переходил в тень старых сосен, у меня была единственная книга «Рассказы» Брет-Гарта, и я ее читал и думал о Нике, и было знойно, душно, падали желтые хвоинки, и воздух становился как смола. Я лежал и смотрел на застывшие в небе, тихие, будто нарисованные, облака. Я сочинял ей письма, и в письмах все это было — и святые белые облака, и шуршащие легкие хвоинки, запах сосны и земляники, смолистый зной, и Брет-Гарт, и обессиливающая душу тоска потерянности. Эти письма оставались ненаписанными, как, наверное, всегда все самое больное остается ненаписанным и безвестным.
А потом набегали полевые сумерки, слышался шум воды на мельничной плотине, я шел в городок, и цвел по дороге шиповник.
Пустынные улицы смиренно уходили вдаль, не с кем было перекинуться словом, не у кого было даже спросить, который час, только собаки бегали по пятам и молча, не лая, а как бы скорее удивляясь, хотели выяснить в конце концов, зачем ты ходишь тут, чужой и неприкаянный, никому не нужный, зачем оставляешь следы в пыли дороги.
Однажды, это уже было в августе, когда я вернулся, была черная ветреная ночь, леса не было видно, он шумел, и казалось, через него проходят длинные, бесконечные поезда. И вдруг я почувствовал безмерность этой ночи, вдруг понял, что не могу тут жить больше ни одной секунды, и надо мне снова ее увидеть и поговорить, может, все не так, может, я ее не понял или она меня не поняла, ведь это часто бывает, я слыхал, что это часто бывает.
Я быстро собрался и пешком ушел на станцию, и на рассвете уже влезал в красную теплушку товаро-пассажирского поезда, и на веки веков забыл эту станцию, и городок, и лес, тихий домик на опушке, одинокое, тоскливое лето, и только все, что передумал, перечувствовал в то лето, осталось в душе.
В теплушке пахло лошадьми, отрубями, чужой вольной жизнью. Я забрался на верхние нары и тотчас заснул, а когда проснулся, во все щели било красное солнце. Длинный товаро-пассажирский поезд, змеясь, полз в полях, иногда он останавливался, и тогда к вагонам подходили коровы и наивными глазами смотрели на пассажиров. Неожиданно паровоз дергал, коровы уплывали назад, и поезд двигался дальше, от разъезда к разъезду.
Вот и знакомая улица, сказал я. Домик с зеленым крылечком и георгинами в палисаднике, на чердаке до обморока кричит петух. И теперь еще ночью, во сне, среди окопов войны и тягостных собраний, вдруг вижу себя сидящим на этом крылечке, темном от дикого винограда.
Я потянул вниз кусок ржавой проволоки, и, будто проведенный в самое сердце, задребезжал звонок.
В дверях стояла старая бабушка.
— Уехала, уехала, — ехидно сказала она и вдруг заплакала.
— Куда уехала?
Бабушка оглянулась и прошипела:
— Фе-зе-у. — А потом спросила: — А что такое Фе-зе-у, ты не знаешь? Это очень опасно?
Дом будто приснился мне.
Те же комнаты с крашеными полами и светлыми дорожками, немая мебель в белых чехлах и пустынный солнечный свет в окне.
Узнаю перламутровую розовую раковину, которую мы слушали, замирая, вдвоем, вместе, слушали, как гудит и волнуется далекий, загадочный Тихий океан.
Трогательно висело на плечиках ее белое батистовое платье с красными пуговичками, легкое, воздушное, прелестное. А вот и кувшин с голубой лилией; казалось, лилия росла когда-то на клумбе в саду, а потом переселились в кувшин, чтобы быть в доме, ближе к ней…
На этажерке я узнал знакомые книги: «Гений», «Ключи счастья», «Один в поле не воин»… Это ее книги, над ними она плакала, смеялась.
Я долго стоял у высокого, в раме красного дерева, зеркала, казалось, она спряталась в его глубине и вдруг выйдет и рассмеется.
— Уехала, уехала, как только ты уехал, так и она, — скрипела бабушка.
Я ходил по комнатам. Еще слышен был ее голос, ее смех, музыка. Казалось, этот осиротевший домик только и стоит на земле потому, что она тут жила, росла, смеялась, плакала, капризничала, — утеха всех живших в нем. А теперь эта бредущая по пятам очумелая старуха, эти тикающие без цели часы. Для кого? Для чего?
Я знаю, я знаю по себе, что и ей, когда она уезжала, и всем, кто провожал ее, казалось: это только на время, на некоторое время, а потом все вернется, будет по-прежнему. Нельзя себе представить, что это навсегда, и дом состарится без нее, а ее молодая жизнь расцветет там, вдали, на каком-то необыкновенном просторе.
На пороге появилась мать Ники. Она шла на цыпочках, осторожно, будто несла впереди себя горящую свечу, и безразлично, в упор взглянула на меня странными без пенсне, расширенными зрачками, шепча про себя:
— Украли, украли.
Все в этом доме говорили сами с собой, и никому не было дела до меня.
— Украли, украли… Господи, ты один знаешь, как она музицировала на пианино. Ты ведь слышал эти пассажи. Ты заслушивался. А теперь разве это пианино? Я тебя спрашиваю — это пианино? Это гроб. Это гроб, господи, я тебе говорю, и ты мне верь!
— Мадам Тукацинская… — начал я.
— Уйди, мальчик, я хочу плакать.
Я стоял у крыльца в палисаднике и смотрел на анютины глазки и голубые незабудки, словно Ника оставила здесь часть своей души, чтобы поговорить со мной.
Благословенно имя твое! И голубые незабудки, и анютины глазки, и настурции, и ландыши, и нарциссы…
Со всех дворов бежали собаки, а я стоял у зеленого крылечка, и, наверно, столько было во мне доброты и любви и прощения, что даже собаки не лаяли — они стояли вокруг и молча смотрели на меня.
А мир, словно отраженный в зеркале, стоял где-то вдали, в пустоте и безмолвии. Я был один на один с собой, и никто не мог мне ничем помочь. Я все это должен был вытерпеть сам.
13
Эту ночь я не спал. Темные неживые деревни проносились и пропадали. Изредка взрывалась огнями и колокольным звоном узловая станция, и снова все уходило во тьму природы.
А паровоз свистит и свистит, и поезд то проваливается в бездну, то вытягивается вверх, и повисает в воздухе, и летит по прямой со звоном и замиранием.
Я ехал к Нике.
Поезд пришел очень уж рано, и через темный и сонный буфет с огромным медным самоваром я вышел на привокзальную площадь.
Пустое небо стояло над чужим городом. Длинные и скучные улицы простирались бесконечно во все стороны, и я не знал, что делать с внезапно нахлынувшей тоской.
Вообще я люблю незнакомые города, смутную тайну и надежду неведомых улиц и площадей.
Но этот город, где теперь жила она, казался мне без нее странно ненужным, я равнодушно, вяло покачиваясь на пролетке, упрямо влекомой провинциальными одрами, ехал в гостиницу, мимо длинных серых фабричных заборов, громадных молчаливых корпусов.
— Цо-о! Цо-о!.. — злобно орал извозчик так, словно будил мертвую улицу, чтобы послать ее к такой и такой-то матери.
Вдруг он, весь повернувшись, ухмыльнулся, прицелился в меня косым глазом и пропойно спросил:
— А малороссияночки с грудями не потребуется?
— Чего?
— Даму-шик, — он подмигнул.
— Какую даму? — Я обалдело глядел на него.
— Комедия! — отвернувшись, он чмокнул и хлестнул кнутом: — Н-но, кокетки!
Я позвонил по телефону и узнал голос Ники, родной, домашний, далекий, заглушенный расстоянием, усиленный и искаженный электрическими волнами.
— Это ты? Господи боже мой! Сумасшедший! — Она засмеялась.
Я жду ее в номере гостиницы. Я поставил на стол астры, открыл дверь в коридор и стал прислушиваться. Но никто не шел. Тогда я стал смотреть в окно. Чужая улица жила своей жизнью, странной и случайной: цокая, проехал со значками на пиках взвод кавалеристов, из переулка появился священник в рясе, держа за руку маленькую девочку с роскошным бантом, два безногих инвалида на тележках подрались до крови, и вокруг зашумела толпа.
Я лег на диван, разглядывая паучьи пятна на потолке, которые до меня разглядывали столько разных постояльцев и еще будут разглядывать, и томиться, и вспоминать, и надеяться.
Я стал думать о Нике.
Я мучился и не мог вспомнить ее лицо, только отдельные милые черты, а лицо ускользало, и чем больше я вглядывался, тем расплывчатее было это видение, то, что, наверное, было ее душой. И иногда казалось, что вообще ее нет, не существует, что я ее просто придумал. Неужели она сейчас где-то смеется, говорит своим протяжным, ликующим голосом. Но вдруг улавливалась эта, как бы несвободная, как бы мучительная улыбка, и сразу Ника оживала, и голос ее говорил со мной.
Ведь она моя, она для меня, и только для меня, я это так чувствовал и верно знал.
Сухой южный зной бьется в окна, горячо нагреты стены, пол и даже гостиничная скатерть на столе. Невыносимо жужжат мухи, крупные, цветные.
Я долго ждал и под жужжанье мух заснул. И во сне я услышал ее яркий, насмешливый голос:
— И не стыдно, молодой человек, ожидаете барышню и заснули.
Я крепко обнял ее и целовал в глаза, щеки, шею, а она смеялась:
— Не задуши!
— Ты все та же?
— Нет, другая! Совсем другая.
Я увидел близко ее разбойно веселые глаза, все ей было нипочем, все подвластно.
Она как-то по-новому крепко пожала мне руку, тряхнула и потянула вниз. Ладонь ее была шероховатой. Я тихонько повернул ладонь вверх — на ней были рыжеватенькие, золотистые мозолистые бугорки.
— Это от напильника, — улыбнулась она, бесшабашные глаза ее полны были радости.
Милая, милая девочка из хорошего дома, которую мама учила музыке, учила делать па, за каждое па давала карамельку и сообщала соседкам, что у нее дочь балерина, дочь — Клара Юнг, Сара Бернар.
— Ника, если бы ты только знала, как я рад тебя видеть, — сказал я, жадно глядя ей в лицо, — если бы ты только знала.
— И я ведь в восторге, я в ужасном восторге.
— А помнишь последний вечер?
— Ах, какая я была глупая, — рассмеялась она.
— Никогда не думал, что можно так скучать.
— Глупая, глупая, — печально сказала она, — ничтожная.
— А где он?
Она махнула рукой.
Казалось, столько будет разговоров, не переговорить никогда. А на самом деле?
— Ну, как живешь? — спросил я.
— Ничего. А ты?
— Тоже ничего. И вдруг:
— Я ведь только на минуточку, у меня репетиция. Ромео и Джульетта.
Теперь голос ее шел откуда-то издалека, будто из-за глухих декораций.
— Мы еще встретимся вечером, ненадолго.
До меня доходит только одно слово: ненадолго.
И снова издалека, из другого города, спрашивают:
— Хорошо?
И я покорно, со стороны слыша свой несчастный, хилый голос, отвечаю:
— Да, хорошо.
— Не сердись.
— Нет.
— Ну, я побежала. — И она поспешно, неловко поцеловала меня в подбородок.
Вглядываясь в то время и в ту минуту, я не вижу, как она повернулась, как пошла к двери, как взялась за ручку, как толкнула дверь и вышла.
Нет, ничего не вижу, не помню. Я слышу только, как хлопнула дверь и все стихло. И сразу так злобно зажужжали мухи по всей комнате, словно только и ожидали, чтобы она ушла.
А может быть, надо было тогда взять ее за руку и сказать властно: «Никуда не пущу, ни сейчас, ни после»? Или, может быть, вот так: «Я не могу жить без тебя»?
Да мало ли что ты не можешь. А она может, она именно только так и может, вот в чем дело. И ничем нельзя это поправить, и ничего нельзя изменить, — так оно и должно было быть.
И так оно и было.
14
Я бродил по узким, витиеватым улицам старого города, и пустыня чужой жизни окружала меня.
Какой-то человек садился в фаэтон, и я подумал: «Я тебя больше никогда не увижу». Старик сидел на стуле у порога своего маленького домика и равнодушно глядел на прохожих, а я: «Так ты будешь сидеть и завтра, и послезавтра, и всегда», и бесконечная жалость охватывает меня. Женщина прошла с ребенком на руках, и ребенок говорил: «Я, я, я», а женщина, улыбаясь, отвечала ему: «Ты, ты, ты», и никто им больше не нужен был. В открытом окне молодка протирала стекло и пела, а мордастый парень стоял, прижавшись спиной к воротам, и глазел на ее белые ноги. И никто еще не знал, чем это кончится. Ушастый мальчик топтался у калитки, — наверно, кончил уроки и вышел погулять, а другой мальчик прошел мимо, — я думал, они окликнут друг друга, а они только сердито поглядели друг на друга. Еще милицейский сотрудник с брезентовым портфелем раздумчиво стоял на углу, будто припоминая, что бы еще провернуть, кого бы еще оштрафовать. И куда-то радостно торопились две девчурки в цветастых платьях, обгоняя старую бабку с кошелкой, в которой была только одна репа. Я пошел дальше. Кого-то брили в маленькой уютной цирюльне; кто-то, красуясь перед галантерейным зеркалом, примерял стеклянные бусы; кто-то в драном картузе у ларька поспешно, жадно выпивал; и кто-то целовался, прощаясь, и тихонько скулил.
Великая, постоянная, неутихающая жизнь печальной, обреченной рекой протекала мимо.
Потом я долго ждал у клуба. Гудели вечерние колокола. Цокали извозчики.
Вдруг вокруг вспыхнули огни. Повалила возбужденная толпа. И меня охватило тайное нервное вечернее чувство улицы.
— Девочки, вот он! — Я услышал смех.
Из шумного и пестрого табунка на той стороне улицы выбежала одна, в красной шапочке, — есть такие мотыльки, как летящие цветы, страшно их любить, страшно ведь к ним прикоснуться.
— Бедный, бедный! — закричала она издали. — Стоит так одиноко в чужом городе.
Это была Ника. А те стояли на тротуаре и скопом глядели в мою сторону. И ждали спектакля. Я побежал навстречу и будто схватил в объятия мотылька.
— Что ты, оставь, все смотрят. Какой ты, в сущности, еще мальчик.
Дерзкие глаза ее блестели, она все еще была Джульеттой, Чайкой или еще кем-то, кем бывают в той выдуманной, в той Главной жизни. Она крепко, своевольно взяла меня под руку. И мы пошли. Мы пошли смутными незнакомыми улицами.
Потом мы сидели где-то в парке на скамейке, и падали листья, будто кто-то с кем-то навеки прощался.
Тонкие гибкие руки, волосы, золотистым пучком собранные на затылке, и особенный, только ей присущий строптивый наклон головы.
Милая, милая моя, такая родная и такая далекая теперь, из другой, неизвестной мне жизни. Ничего про тебя я уже не знал, и того, что́ ты понимала и любила, к чему так быстро привыкла, я еще не знал, не понимал и не мог любить.
Мы сидели рядом, и ты уходила все дальше и дальше.
Я не помню, о чем мы говорили, и разве в словах суть?
Я чувствовал себя отрезанным, ушедшим из ее сердца, вытесненным чем-то новым, более связанным со всей ее будущей жизнью, чем те длинные солнечные дни, те тихие лунные ночи на реке Рось.
Мы вышли из парка и опять пошли постными улицами, молча, на миг останавливаясь под ночными шумящими каштанами, и казалось, что они участвуют в том, что происходит между нами.
Потом был Главный проспект, яркие вывески, из освещенной витрины, из царства небытия, холодно-красивыми восковыми лицами глядели на нас манекены: жених в шляпе набекрень, невеста в газовом шарфе.
— Веселая картинка, — усмехнулся я.
— Даже грустно стало, — откликнулась она.
На каком-то перекрестке открылась зеленая улица, маленькие деревянные домики, а в двориках были клумбы, росли георгины и астры, и лаяли собаки, и казалось, там еще притаилось, еще протекает наше детство.
Ах, как далеко мы ушли и как быстро все стало сложно, перепутано и непонятно.
Мимо пронеслась длинная, зеркальная, с белыми занавесками, машина, и долго в ушах стоял ее ревущий и властный державный сигнал, и горько и безнадежно пахло сгоревшим бензином.
Совершенно неожиданно мы вышли на крутой берег и изумились. Над темной гудящей рекой протянулась нитка огней, и по канатной дороге непрерывно, одна за другой, важно покачиваясь, шли бадьи бетона. По эту и по ту стороны реки, в прожекторном свете, двигались в разных направлениях дымки поездов, по горам нарытой желтой глиняной земли ползали маленькие грабарки с бокастыми, шершавыми мужицкими лошаденками, а в ярко освещенных котлованах копошились тысячи землекопов с тачками, по мосткам и настилам бегом бежали козоносы с красным кирпичом на спине, и шум и напряжение этой ночной неустанной разнообразной работы передавались сердцу, и хотелось включиться и остаться тут навсегда.
Это была первая в стране великанская плотина. Ее строили такие же мальчики и девочки из местечек и сел и хуторов, из маленьких хаток и домиков. Только недавно они играли в классы и в цурки и на демонстрациях кричали: «Долой Чемберлена!» Мы всей душой чувствовали, что именно тут сейчас г л а в н о е, не только для нас, но, наверное, и для всего человечества и всей истории. И тогда мы верили этому бесконечно, и нам казалось — мы в центре вселенной, и стоит отдать за это жизнь.
— Как же я могла жить в той жуткой глуши! — сказала Ника.
Многочисленные огни горели и переливались, и на одно какое-то мгновение восторгом пламени и веры ду́ши наши сплавились, и мы стояли, взявшись за руки.
Оба мы были еще слишком юными, оба через край кипели радостью и первоначальной жаждой жизни, чувством ее бесконечности, ее бессмертия, и обещанием, вечным обещанием чуда, и многое надо было увидеть, многое испытать, переиграть, пройти очарование и разочарование, тоску и боль и столько расставаний, чтобы оценить то, что зародилось и было между нами.
15
Поздней ночью я провожал ее домой, на окраинную улицу, в рабочую слободу, где слышна была близкая жизнь железной дороги, изредка кто-то проходил с деревянным сундучком и в ночной прохладе ощущался запах гари и машинного масла.
Мы шли мимо аккуратных глиняных мазанок, в которых жили машинисты и их помощники и стрелочники. И все уже спали.
Навстречу шел рослый красивый чубатый парень в вышитой косоворотке. Он чуть приостановился, поздоровался и как-то странно переглянулся с Никой, и мне показалось, они оба что-то знают, чего я не знаю.
Но я ничего не сказал.
Мы постояли немного у ее ворот и помолчали. Мы уже давно в душе расстались, и каждый, как мог, жил своей будущей жизнью.
— Ну, рабочему классу пора, — сказала она и улыбнулась грустно.
— Прощай, — я обнял ее и крепко поцеловал.
И вдруг она бурно заговорила:
— Ты хороший, ты ведь очень хороший, ты, может быть, лучше всех, но я хочу учиться, хочу жить. Все это, может быть, придет после, когда-нибудь. Пойми.
Я молчал.
— Не сердись, — сказала она и тихо добавила: — Я ничего не могу с собой поделать.
— Слушай, — вдруг сказал я, — что бы с тобой ни случилось, знай, у тебя есть друг. Я всегда твой друг, когда бы ты ни пришла, я жду тебя.
Ника внимательно, будто испытывая меня, смотрела мне прямо в глаза.
— Я никогда не забуду тебя, что бы ни случилось, помни, что у тебя есть друг, и когда бы ты ни позвала, я приеду. Помни, не забывай и ты меня.
Так я ей говорил и держал в своих руках ее холодные руки, и она пристально, не мигая, смотрела мне в глаза. Дерзкие зрачки ее опечалились. И я увидел слезы.
На путях пели паровозы, пели долго, протяжно и звали скорей прекратить это, скорей побежать по платформе, сесть в поезд и уехать в открытые темные поля, туда, где иная жизнь и цель.
А зачем, зачем? Когда единственное, что возможно в жизни, стоит перед тобой, рядом с тобой, и смотрит на тебя, и слушает тебя.
Возьми ее за руку и в этой красной шапочке посади с собой в поезд, и пусть она не придет сегодня домой и никогда уже не придет домой. И все будет по-другому, по-сумасшедшему.
Вдали на железной дороге просверкал курьерский, похожий на вылетевшую из города улицу.
— Прощай, — сказал я.
— До свиданья, — тихо ответила она, — не сердись.
Хлопнула калитка, и она ушла.
И вот я один поплелся непонятной улицей в шорохе падающих листьев. На звучные шаги откликались собаки. Они лениво ворчали в своих будках: «Ну, ты, мешаешь спать». Было глухо, улица прислушивалась к ночи.
И я вернулся. Я шел на дальний бьющий свет ее окна, и надежда охватывала меня, чувство, что все еще можно вернуть, что стоит только объясниться, и все будет по-другому.
Но только я подошел, свет погас. Я постоял. Темное окно молчало. Вдали настырно кричал одинокий паровоз, и казалось, это я кричу, надрываясь.
Вот это и есть жизнь, — сказал я сам себе.
После приходилось мне повторять эти слова много раз, и, странно, — всегда они успокаивали меня.
Я вошел в город. Улицы тянулись, как резиновые. Я заблудился, и забрел в тупик, и наткнулся на холодную колючую проволоку, за которой в темноте вытянулись длинные, низкие бараки под серыми рубероидными крышами. Неожиданно за проволокой из тени выступил часовой и щелкнул затвором:
— Стой, кто идет?
Я повернул обратно.
— Кто идет?
А я иду и иду. Один.
16
Я пришел в гостиницу. В номере на столике молчал черный телефон. Я стал крутить ручку аппарата, поднял трубку и услышал: «Станция», и вдруг наугад сказал: «3-51».
И что-то там щелкнуло, куда-то пошел ток, где-то зазвонил, задребезжал звонок телефона, и на том конце подняли трубку, и я услышал сначала дыхание, одышку, наверно, больного и одинокого человека, и кряхтящий, заспанный и почему-то ужасно знакомый старческий голос спросил:
— Кто это?
— Перепелкина! — твердо сказал я.
— Что? Что? Какого Перепелкина? — взывал тот чужедальний голос.
— Простите, ошибся. — Я тихо положил трубку и почему-то почувствовал, что там еще долго дрожащей рукой среди ночи держали трубку и взывали: «Кто это? Кто это там?»
Я потушил свет. Чужой город стоял и слушал у окна.
Я пытался заснуть, но не смог и вышел на балкон. Как одиноки эти сиреневые колокольчики ночью, когда ветер перед рассветом. Они, казалось, обрадовались тому, что я вышел к ним, и смотрели на меня, ожидая чего-то. Они дрожали от ветра, им было холодно, неуютно, тоскливо, одним в ночи, осенью. Листья облетели, некоторые цветы уже потеряли лепестки, остались один-два лепестка — как уныло, как зря прошла жизнь, и надо еще вытерпеть эту долгую, ветреную ночь с осторожными тенями.
Незнакомый, неродной город, уходя в туман, играл белыми мерцающими огнями, огни как бы перебегали с места на место и что-то затевали.
Вдруг так ясно видишь, что все живет своей, не касающейся тебя жизнью.
Вот так в какое-то мгновенье отстраненности в чужом городе, когда ничто тебя не связывает с этими огнями, вдруг всплывает, обнажается в резкой, безжалостной истине вся жизнь, и видишь, сколько было несуразностей, сколько зазря прожито дней, сколько можно было сделать, добиться, если бы каждый день, каждую минуту добиваться. Сколько пропущено, ах, сколько пропущено! И даешь слово, клянешься беречь теперь каждый день, каждую минуту.
Течение времени остро чувствуешь в юности, в самой ранней юности особенно, и когда впереди столько лет, все торопишься, все переживаешь и тоскуешь. Это после как-то незаметно отпускает пружину, легче начинаешь переносить бремя времени, постепенно как бы глохнешь.
Уехать, уехать немедленно, сию же секунду, иначе я задохнусь в этом душном, в этом пустом, нелепом номере, где она была и куда она больше никогда не придет.
И уехать далеко-далеко, и стать человеком. Почему-то нам всем тогда казалось, что только далеко-далеко можно стать человеком.
Я срываюсь среди ночи и, даже не зажигая электричества, со стуком кидаю в тощий чемоданчик мыльницу и бегу сонными, храпящими коридорами.
— Уезжаю! — еще издали крикнул я дежурному.
И был жаркий, гудящий вокзал, и касса, и кассир, о чем-то меня спрашивающий, и я, откуда-то издалека ему отвечающий, и перрон, пахнущий семечками и сладкой паровозной гарью.
На каменных ступенях, в каменных закоулках мужики, бабы, ветхие старухи, малые дети и среди них заблудившиеся одиночные попы, всюду мешки, хомуты, люльки, какое-то поспешное переселение народа. Кто они и зачем они, как и я, оказались вдали от дома, сейчас, в эту августовскую ночь, когда так ярки звезды, когда вся Россия убирает рожь? Зачем оказались на чужом асфальте?
Я не понимал, что это такое. Я и не задумывался над этим, тогда я не вглядывался в человеческие лица, не видел глаз, не понимал цыганского табора деревенских беглецов. Я весь был в своей жизни.
Жажда работать в полярной ночи, в Каракумах, на Камчатке раздирала меня, и я еще не знал, куда податься.
Утро встретило меня где-то за Белгородом, светлое, солнечное. Все, что было вчера ночью, в темноте одинокого номера и на балконе с мертвыми от тоски и страха колокольчиками, казалось чужим сном.
Поезд весело гудел, и мимо бежали желтые, сжатые поля, черные пары, стада на зеленых живописных склонах, белые церкви, проходили мимо глинистые откосы берегов, синяя вода, и вся моя жизнь была там, впереди, куда стремился и летел поезд.
ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
РАЗНЫЕ ГОДЫ
ОДНА НОЧЬ
Оба они были в Москве первый раз. Он, легкоатлет из Ростова, приехал на соревнования, а она, молодая учительница, — проездом из Риги на Урал, где жили ее родители.
Они встретились случайно и долго гуляли по улицам, проголодались и пошли в ресторан «Кристалл», а когда вышли, была уже ночь.
У него был номер в гостинице в Лужниках, а ей негде было ночевать, еще днем она объездила все гостиницы, но все было забронировано за делегациями.
И они пошли в Нескучный сад, вниз к Москве-реке, по траве, под молодыми деревьями.
Они сели на скамейку и долго целовались и потеряли ощущение времени.
— Это со мной в первый раз, ты вот не веришь, что это со мной в первый раз, — говорила она.
Он не отвечал, он молча, и упорно, и поспешно целовал ее, перехватывал и ломал ей руки, и закидывал ей голову, и целовал в губы, и она уже не могла говорить и худенькими руками охватывала его за шею и задыхалась в поцелуе.
Над рекой все время мелькали огни метропоезда, и темная вода отражала блики, а потом, в какую-то утерянную обоими минуту, вдруг стало совсем тихо и одиноко, и Ленинские горы, и Москва-река с цепочкой метро-моста, и где-то там, наверху, гудящая магистраль — все было фантастично, нереально и расплывалось, и казалось, что они глубоко-глубоко, на дне колодца, и жизнь гудит где-то вне.
Там, за рекой, во тьме, где мигала, мерцала, переливалась огненная ряска, угадывался великий город с его улицами, площадями, башнями и антеннами, с миллионами жизней и судеб, и он жил своей таинственной, роковой ночной жизнью, а они жили своей, независимой от него и ни от кого, краткой, мотыльковой, только им принадлежащей.
Она долго глядела, всматривалась в свете звезд в его лицо и с удивлением спрашивала: «Слушай, где ты был всегда, почему я тебя не знала?» — а он в ответ приближал губы, и мир со звездным небом и печальными земными огнями опять вертелся, как глобус.
Ночь была их, и все принадлежало им: и полночный гул, и зарево над городом, и легкая, призрачная мгла, плывущая над рекой, и ветерок, шелестящий в молодой листве, и ночная роса, которая чувствовалась на ее губах горькой дождевой каплей.
И вся их жизнь, судьба, будущее, — все было в их власти, и они могли с ними делать все, что хотели.
Стало прохладно, и он отдал ей свой свитер и болонью, и она заснула на его плече. А он сидел в одной рубашке и курил, изредка взглядывая на нее, которая стала вдруг ему роднее и ближе сестры, матери.
Она спала тихо, кротко, уютно под звездами и листьями этой ночи, охраняемая великим и вечным чувством.
Над рекой поднялся туман. И в это время внизу, под трибунами водной станции, кто-то прыгнул в воду и поплыл саженками на середину реки, и хорошо было слышно шлепанье ладоней по воде, девичий голос прокричал: «Игорь, вернись, Игорь!», — а Игорь в ответ закричал: «О-го-го!» — и стал нырять и отфыркиваться, и все, и даже дыхание этого Игоря было слышно так ясно, чисто, резко, передаваемое самой мглой, словно это было совсем рядом.
И время шло, звездное небо двигалось к утру и излучало таинственный гул, или это был распространенный и как бы растворившийся в воздухе титанический гул далекого города.
А он курил сигарету за сигаретой и смотрел на левый берег, где в дымчатой бесформенной мгле постепенно возникал город, и когда он стал розовым, радостным и послышались сигналы машин, он ее разбудил и сказал:
— Смотри, уже утро.
Они поднялись в гору и пошли по голубому открытому проспекту к университету, и долго искали эти красные автоматы газированной воды, и наконец набрели в каком-то каменном закоулке на целую батарею, один из них светился и тихо призывно гудел, но не было стакана. Он кинул монету, внутри что-то сильно щелкнуло, зашипело, она подставила руки и жадно и весело пила, и он кидал монету за монетой, пока она напилась, а потом умылась и брызнула водой на него.
Мимо летели зеленые огоньки ночных такси, они, как светлячки, появлялись из тумана и исчезали в тумане. Потом туман стал подыматься, и явились поливочные машины, и над улицей была радуга.
Они шли, держась за руки, и казалось, никогда не были так счастливы за всю жизнь, и казалось, что они вечно знакомы, и казалась дикой мысль, что они могут расстаться, отпустить друг друга на минутку, могут быть друг без друга в этом мире, где розовые облака, синие улицы и бессмертие жизни.
…Так было и у меня когда-то давным-давно. И ни я, ни она еще не знали, что больше мы уже никогда в жизни не встретимся.
ТОПОЛЬ
Когда я вошел в новую пустую квартиру, единственный, кто встретил меня, был старый заснеженный тополь за окном, он остался от деревенской усадьбы, которая была на этом месте, и теперь, заглядывая во второй этаж, будто сказал мне: «Здравствуй», — и от белых прекрасных ветвей его в комнату лился свет, чистый, непорочный, неподкупный.
Он был со мною всю зиму. В ту долгую, грозную для меня зиму болезни он один никогда и никуда не торопился. Я всегда его видел в окне, и своей холодной и неизменной снежной белизной он успокаивал меня.
Потом пришла весна, и однажды утром, после теплого ночного дождя, в окно заглянуло что-то зеленое, дымчатое, еще неопределенное.
Каждую весну повторяется одно и то же, и каждый раз это как чудо, и к нему нельзя привыкнуть. Я долго стоял и смотрел и не мог наглядеться.
Теперь за окном будто поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал, а во время ветра тихонько и кротко постукивал в окно.
Он жил всеми своими листьями, тысячами тысяч листьев, подставляя их солнцу, луне, ветру, дождю. Он радовался жизни вовсю, каждую минуту, каждую секунду своего бытия. А я, раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой постоянной радости на воле под небом.
На его ветви прилетали птицы, они свистели, пели свои короткие городские песенки, может, тополь им рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно и ухмылялись.
Какое это было долгое чудесное лето в тот первый год жизни в новой комнате, с живым тополем у самого окна, какие были бесконечные закаты, и светлые ночи, и легкие сны! Лишь иногда мне вдруг снилось, что я почему-то потерял новую комнату и снова живу в старой, темной и чадной, узкой, как гроб, с голой электрической лампочкой на длинном шнуре.
Но я просыпался, и тополь глядел в комнату с чистыми, свежими стенами, и предрассветный зеленый шум сливался с ощущением счастливого пробуждения.
Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате стало тихо, грустно.
Начались осенние ливни и бури, по ночам тополь скрипел, стонал, бился ветвями о стену, словно просил защиты от непогоды.
Я видел, как постепенно облетали листья с ветвей, сначала с верхних, потом с нижних. Листья струились ручьями, устилая балкон, и некоторые прилипали к стеклам и с ужасом глядели в комнату, чего-то ожидая.
И вот уже на тополе не осталось ни одного листочка, он стоял голый, черный, словно обгорелый, и на фоне синего неба видна была каждая черная веточка, каждая жилочка, было торжественно тихо и печально в природе, негреющее солнце светило по-летнему, и в этом ярком, бесполезном свете кричали петухи. И, как всегда, вспоминалось детство и думалось: кто ты? зачем прожил жизнь?
Потом еще раз была весна, и все было сначала, и жизнь казалась бесконечной.
Но однажды утром я услышал под окном звук, будто тополь мой визжал.
Я бросился к окну. Внизу стояли скреперы и дорожные катки, которые пробивали новую улицу, и рабочий электрической пилой валил стоявший посреди дороги тополь.
И вот сверху я увидел, как дрожь прошла по всему его зеленому телу, он зашатался, мгновение подумал и рухнул на новую улицу, перекрыв ее во всю ширину шумящей зеленой обвальной листвой.
И открылась мне краснокирпичная, скучная, голая стена дома на той стороне улицы, и с тех пор я вижу только ее и кусочек неба.
Часто вспоминается мне мой тополь. И все кажется, что он не исчез с земли, а где-то растет в лесу, на поляне, шумит всеми листьями и ждет меня к себе.
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
— Ну-с, молодой человек! — сказал врач. Он весело открыл историю болезни, вынул из бумажного кармашка хрустящие листки свежих анализов и стал их проглядывать. И вдруг я увидел, что у него подрагивают пальцы. — Так-с! — сказал он и взглянул на меня. — Как вы себя чувствуете?
И пока я подробно рассказывал свои ощущения, он снял телефонную трубку и кому-то там сказал:
— Пожалуйста, зайдите ко мне.
В комнату вошла молодая изящная сестра в ярко, до стекловидности, накрахмаленном халате. Врач молча пододвинул к ней листки анализов, она прочла, и они переглянулись.
— Доктор, что со мной?
— Ничего особенного, надо лечь в больницу и исследоваться.
— Напишите гиперболический диагноз, — посоветовала сестра. — Я вызову «скорую». Ложитесь, — приказала она мне.
— Зачем?
— А иначе не возьмут.
Они вошли в комнату, стремительные, будто все еще летели с сиреной, в белых халатах и белых шапочках.
— Ходить можете?
— Конечно, — с радостью сказал я.
Сестра строго посмотрела на меня и отвернулась.
Сопровождаемый белыми ангелами, я пошел. Встречные поспешно уступали мне дорогу, и спиной я чувствовал их взгляды, и казалось, все знают, что со мной, один я ничего не знаю, а может, никогда и не узнаю.
Я вышел на солнечное крыльцо; отвлеченно сиял день, вокруг уже ничто для меня не существовало и реально не жило — ни этот знакомый дом с разноцветными балконами, ни старый, шумящий тополь, ни ларек на колесах, где я покупал раков и польское пиво «Сенатор»; существовали только вот эти несколько шагов по асфальтовой дорожке к длинной светло-кремовой машине с красным крестом, белыми занавесками и мрачным, все уже на своем катастрофическом веку повидавшим шофером, грудью лежащим на баранке.
Несколько прохожих, и среди них один знакомый мне мальчик, смотрели, как я влезал в машину. Мальчик был удивлен и испуган. Я помахал ему рукой, но он даже не улыбнулся.
Ревела сирена, и я слышал, как шуршали шины. Это везли меня.
В приемном покое больницы сестра очень внимательно прочитала сопроводительную бумажку, похожую на ордер, расписалась, и врач «скорой помощи», не взглянув на меня, ушел. Меня сдали и приняли.
Я сидел на скользком клеенчатом лежаке и ждал.
Я мог еще уйти отсюда в раскрытые ворота, сесть на трамвай, на троллейбус или пойти пешком по длинной горячей летней улице в кино, или в гости, или на собрание. Как все это было теперь далеко, неправдоподобно и незначительно.
Пришла нянечка и сунула мне под мышку градусник. Потом, пока я сидел с градусником, явилась сестра, села за стол, покрытый заляпанной чернилами простыней, положила перед собой бланк истории болезни и стала спрашивать фамилию, адрес, национальность. Я медленно вползал в новую, далекую, чуждую жизнь.
В это время в комнату вошел высокий, худой человек в очках и устало, как бы вскользь спросил, что со мной. Это был дежурный врач.
Он задавал мне вопросы, я отвечал, а он кивал головой и записывал, что ему надо и как ему надо. Потом он встал и как-то сонно, незаинтересованно ощупал мой живот, велел показать язык и, уже не глядя на меня, сел и стал писать неразборчивыми, похожими на латинский шрифт закорючками что-то свое, из себя, уже не связанное с моими ответами.
— Доктор, что у меня?
— Я не колдун, исследуют.
— А если что найдут, нужна операция?
— Это по вашему желанию, — вяло ответил он.
Он положил ручку, и сестра повела меня в соседнюю комнату, более темную и хаотичную. Здесь и воздух был другой, какой-то тюремный, насильственный, беспощадный.
Тут уже ожидали две плотные, грубые грудастые бабы, похожие на надзирательниц. Одна из них сказала:
— Раздевайтесь.
Дверь в коридор была настежь открыта, и там беспрерывно проходили люди.
— Ну, раздевайтесь, чего вы?
Вторая няня села за стол и взяла ручку.
Первая брала у меня одежду и профессионально ловко выворачивала карманы, и из них посыпались монеты, хлебные крошки, какие-то старые квитанции, записки со случайными телефонами, и диктовала второй:
— Брюки… рубашка верхняя… рубашка нижняя… носки… туфли мужские…
А я смотрел на горку моих бумажек, похожую на горку пепла. Наконец опись была закончена. Я стоял посредине комнаты голый, двери были распахнуты, окно открыто, и во дворе цвела сирень, продувал свежий, милый, весенний ветерок.
Первая баба куда-то пошла и принесла рубашку и кальсоны с большими дегтярными штампами. Я натянул на себя сиротское белье.
Теперь меня повели в коридор, где у стены стояла длинная больничная каталка.
Я лег, меня накрыли простыней и оставили.
Весь мир с его длинными, грохочущими улицами, полями и облаками сузился, сгустился в этот темный, тоскливо пропахший необратимым несчастьем, карболочный закуток.
Я лежал на каталке у стены, люди проходили мимо, поглядывали на меня.
Мне казалось, что меня забыли и что я уже в морге.
Через полчаса пришел санитар в белой шапочке, с потухшим мундштуком в зубах и спросил:
— Поедем?
— Поедем, — согласился я.
Он пошел в комнату, получил на меня накладную, вернулся и, уже не глядя на меня, думая о чем-то своем, тошном, ежедневном, покатил меня по длинным белым коридорам, не снижая хода у дверей, так, что они распахивались у самых глаз, и было чувство, что это головой моей он открывает двери, заворачивая вправо, влево и по пандусам вверх, вниз, вдвигая в белые грузовые лифты, и снова по бесконечным белым коридорам, заставленным койками, мимо больных в синих халатах, на костылях, желтых, заостренных, обиженных жизнью лиц, провожавших меня уже потусторонним взглядом, мимо открытых перевязочных, похожих на медсанбат после боя, мимо сестры, капающей лекарство в мензурку, человека с глухим лицом рабочего-котельщика, сосавшего из подушки кислород, мимо королевского выхода профессора с белой свитой…
Я въехал в большую белую палату, и меня переложили на свежую, белую, только что застеленную холодными простынями приподнятую постель.
…Луна стояла в окне палаты, и стены, и простыни, и тумбочки — все было до ужаса белое, и в этой белой замороженной тишине я остался наедине с собой.
Я вспоминал детство, отца, мать, сестер, брата — всех, кого давно уже не вспоминал, и безнадежное позднее раскаяние овладевало мной.
И я подумал, что в мире есть закон любви и внимания — сколько ты, столько и тебе. И все в конце концов отольется!
«Если все кончится хорошо, я буду другой, я буду совсем другой, — жалобно и настойчиво уверял я кого-то, — совсем, совсем другой».
Минул год. Давно забыта та больничная ночь. И редко вспоминается странная клятва, будто это было в другой жизни, с другим человеком.
ТРОИЦКОЕ
В первый теплый день я поехал от Химкинского речного вокзала по каналу на «Ракете». Я один сошел на маленькой голубой пристани села Троицкое, и, когда ушла «Ракета», я оказался в милом мире детства.
Так же голосили петухи, каркали вороны, медленно разворачивая темные крылья над голыми осинами, на школьном дворе кричали мальчишки, и весенняя земля пахла пасхой.
Я проголодался и зашел в сельмаг, купил колбасы и сухарей и пошел к роще на берегу канала. На опушке под березами стоял в выжидающей позе серо-коричневый кудрявый барбос. Он уже знал, что у меня колбаса, будто ему позвонили из магазина и сказали, и теперь он дрожал всеми кудрями, или мне это только показалось, а он просто стоял, скучая, среди вечной природы и ждал, твердо зная, что кого-то дождется.
Увидев меня, кудряш сошел с тропинки в сторону и пошел следом за мной на кривых терпеливых ногах. Я оглянулся, и он остановился и сконфуженно помигал: «Ничего, что я за тобой увязался?» Я пошел дальше, и он за мной. Я снова оглянулся, и он снова остановился, и тут мы глянули друг другу в глаза и поняли, что знакомы друг с другом вечно.
— Тришка, — сказал я, — Тришка, так тебя зовут?
Он махнул ушами: «А не все ли равно, зови как хочешь».
И теперь мы двинулись рядом, как старые-старые приятели.
Он забегал вперед, шуршал в кустах, нюхал какие-то следы и, взвизгивая радостно-деловито, возвращался назад: «Можно, все в порядке».
Я сел на скамейку у воды, развернул пакет, а он уселся в вежливом отдалении и так неназойливо, как бы наедине со своими собственными воспоминаниями, облизывался, вне всякой связи с моей колбасой.
Я глянул ему в глаза, он отвел их, он не хотел быть нахалом.
Я кинул ему кусок колбасы, он тут же ее проглотил, и сел, и, облизываясь, умильно глядел на меня. Я подмигнул ему, и вдруг он вскочил: «Что ты, ты неправильно меня понял», и зашел мне за спину и сел там тихонько.
Я все время чувствовал его за спиной, и кидал ему туда кусочки колбасы, и слышал, как он, шурша в прошлогодних листьях, находит их и жует. Наконец я кинул ему целлофановую шкурку, он и ее проглотил, потом полетел пакет, он попридержал его лапой, и основательно вылизал, и бросил ветру, а потом взглянул на меня и улыбнулся.
Я встал и пошел, и он за мной. Теперь у меня уже не было колбасы, и не пахло колбасой, он это видел, чувствовал и знал лучше всех на свете, он шел рядом, и мы поглядывали друг на друга, и оба были довольны.
Вдали зашумела идущая обратным рейсом «Ракета». Я пошел через мостик к маленькой пристани, а он, оставаясь по ту сторону мостика, стоял на крепких кривых своих лапах и сквозь курчавую, свисавшую на глаза шерсть долго глядел мне вслед — друг мой, брат мой.
СМЕРТЬ В ПОЛДЕНЬ
Грустный, я стоял у окна и смотрел на улицу. Накрапывал будничный осенний дождик. И вдруг каким-то вторым боковым зрением я заметил, как из-под шедшей кофейной «Волги» вихрем брызнуло птичьими перьями. Машина эта вскоре затормозила и невдалеке остановилась. Из нее вышел лысый человечек, с треском захлопнул дверцу, натянул берет и танцующей походкой направился через заросший бурьяном пустырь к массивному, построенному в эпоху украшательства ателье мод.
А там, где прошла машина, из стаи разлетевшихся голубей на месте остался один, он хило, боком заковылял, потом сделал крылом несколько кривых взмахов, несколько отчаянных порывов взлететь, упал грудью на асфальт и стал как крапчатая тряпка. Ветер нес по дождевому асфальту мелкие перья, словно серый известковый помет.
По тротуару прошел толстяк в велюровой шляпе и даже не взглянул на голубя, за ним проследовал старик с опущенной головой, расфранченная дама скосила глаза на голубя, но тоже спокойно прошла. И много людей шло мимо в болоньях, в пальто, с сумочками, авоськами, портфелями, и редко кто случайно взглядывал на голубя: «Это что такое?» Но никто не остановился.
Только один борцовый парнишка в синтетической куртке схватил голубя за крыло, кинул подальше в бурьян и пошел, вытирая руку о куртку. А на мокром асфальте осталась бурая лужица крови. Люди шли и шли, милиционеры, девочки, старухи. И никто не обращал внимания на бурое пятно. А тот лысый, приехавший в ателье мод, вернулся с аккуратным пакетом, суетно погрузился и на своем кофейном автомобиле уехал.
Ветер унес перья, и лишь одно длинное белое перо долго еще лежало, кровью приклеенное к асфальту. И мне все виделись отчаянные усилия, с которыми пытался взлететь голубь, не понимая еще, что он убит.
БРЕТЁРЫ
Утром на дальней улице Бескудникова, у новых серо-панельных домов, встретились на прогулке старые бретёры, некогда известные всей центральной Москве, герои бульварного кольца; один коротконогий, похожий на легавую, в иноземной куртке и миниатюрной вязаной шапочке, и другой — в тяжелом пальто, крупноформатный мужчина, с розовым сладострастным лицом и вставными челюстями.
— Ну, как дымишься? — весело пискнул маленький.
— Шикарно! — прошамкал крупнотелый и засмеялся. — Перехожу вчера улицу, а сержант окликает: «Папаша, вы человек пожилой, а переходите в неположенном месте, создаете аварийную ситуацию».
— Это что, — сказал коротышка. — Я вот стою в очереди, а одна девица говорит: «Товарищи, пропустите вперед дедулю». Представляешь?
И они оба засмеялись и закашлялись.
Из подъезда появилась и мимо, как сон, прошла девушка в мохеровой шапочке и высоких замшевых сапожках, изящно, скульптурно округлявших крутые икры. Они оба одновременно оглянулись и как-то удивленно, затравленно зыркнули друг на друга и покачали головами.
Молча шли они рядом по новой пустынной улице, мимо мертвых еще светофоров, и у крайнего дома, откуда до самого горизонта простиралось поле, серо крашенное первым неброским снежком, они остановились и задумались…
…Горели, сверкали фонари Тверского и Страстного бульваров, и весело звенела «аннушка», несясь с горы от Сретенки, обещая неизвестные встречи и свидания, счастье и молодость.
В ПРИМОРСКОМ ПОСЕЛКЕ
Вот уже двадцать лет я приезжаю на лето в этот приморский поселок за Лиепаей и живу во флигеле садоводства, на самом берегу моря, у поросшей вереском песчаной косы. И на моих глазах тут все стареет и обновляется, течет и изменяется.
Некогда живая, роскошная оранжерея, полная душного, влажного, тропического тепла, где в дремучей листве прятались тяжелые красные гроздья помидоров, теперь, как разоренный улей, стоит пустая и заброшенная, с побитыми, закоптевшими черными стеклами, а игрушечные садовые грядки, где все лето цвели георгины, заросли дикой травой.
В прошлом году умер садовник, старый, добрый латыш. Ненадолго пережила его жена. В этом году отвезли ее на кладбище — крестьянку Иркутской губернии, которую латышский стрелок в гражданскую войну вывез из глухого таежного села в приморский рыбачий поселок, где она прожила всю жизнь и по-русски уже стала говорить с протяжным латышским акцентом.
Отрешенный, тихий стоит на углу и серый каменный дом доктора, некогда, в те первые годы, когда я стал сюда приезжать, шумный, яркий, полный молодежи, веселья. Опустел и притих большой докторский двор, где всегда цыкали мотоциклетки, лаяли собаки, слышались удары по мячу, а по вечерам был фейерверк, и свет в беседках, и застольные песни.
Четыре сына доктора, которых я знал мальчиками и юношами, уже сами стали отцами семейств и расселились по разным прибрежным городкам, где практикуют в больницах, а в доме осталась только старая ослепшая мать, и иногда в сезон живут дачники — чужие, временные жильцы.
Грустно смотреть на тихие, темные, как бы затканные паутиной высокие стрельчатые окна, где всегда был праздничный свет и слышны были звуки рояля.
А рядом, торопясь, ревут бульдозеры, визжат пилы и валят вековые сосны, клин-баба, падая с высоты, бьет, разносит в щепы мой старый деревянный флигелек, где на пороге, по старому народному обычаю, в цементе запечатлен кроткий девичий след невесты, которой подарили этот домик в день свадьбы. Вот раскололся, раскрошился священный, невинный след и пропал на веки веков.
Скоро придет очередь и дома доктора.
Говорят, тут, на берегу моря, построят двенадцатиэтажный модерновый отель с коктейль-баром, и бильярдной, и подогретой водой в бассейне.
И потечет новая жизнь иных поколений на берегу моря, у тех же поросших вереском дюн, под теми же старыми соснами, где прошла жизнь садовника, и его жены, и старого доктора, и детство, юность и молодость его сыновей.
МИМОЛЕТНОЕ
Вечернее гулянье на взморье. Мимо в сумерках, на светлом фоне залива, как на экране, проходят парочки, и долетают только отрывочные фразы.
Девица с морским офицером:
— Ну, скажи чего-нибудь, Ванюшечка, ты чего такой апатичный?
За ними местные старушки в светлых платочках:
— Студень-то, он идет больше из головы и из ножек…
Медленным шагом проходят два курортника в шортах и соломенных шляпах:
— Не было б мужика, не было б Толстого…
Одинокая женщина с транзистором, который тихо ей советует:
— Смажьте рыбьим жиром, потом досуха проведите замшей…
Два пьяненьких типа чуть не валятся друг на друга:
— Будь мне другом детства…
Шумная санаторная компания, из которой выделяется бас яйцеголового гражданина в военном кителе и крагах:
— Дети, они отвергают закон Архимеда!
Седая дама и молодая толстуха в узких брючках-эластик:
— Измерили давление мне, спросили: «Вы замужем?..»
Опять печальный силуэт одинокой женщины с транзистором, и воздух сотрясается мощным вещанием гула:
— Глаза тысяч зрителей устремлены на Эйсебио, «черную пантеру»…
Три гражданина в полной пиджачной выкладке, в темных велюровых шляпах, с портфелями:
— Надо провернуть буханизацию хлебопекарной промышленности.
Женщина в купальном халате и мужчина в полосатой пижаме:
— Зачем ты пьешь с утра? Ведь я с утра пью сметану…
Цветущая, с открытыми мощными плечами баба в сарафане, под руку с крошечной, сухонькой, как лист, старушкой:
— Каждый скандал, бабушка, приближает мою могилу, не сегодня-завтра…
Веселая стайка подростков и высокий звенящий голос:
— Это нечто уникальная, это нечто потрясная мысль!
Еще одна одинокая женщина с транзистором и грустный, вкрадчивый голос, уверяющий:
— Подсушенные и поджаренные корни одуванчика с успехом могут заменить кофе…
А море с легким шумом накатывает волны, накатывает и накатывает и смывает следы всех прошедших.
ОСИНОЕ ГНЕЗДО
Был жаркий летний день. Я сидел в старом, запущенном парке на берегу моря, в тени, на скамейке, когда внимание мое привлек аэродромный гул жужжащих ос.
Ярко светило полуденное солнце, шумел и сверкал старый парк, и сквозь листву, сквозь высокие травы, сквозь свет и тени, со всех сторон по каким-то своим траекториям, с тяжелым гудением перегруженных бомбовозов летали осы, будто не с нектаром, цветочной пыльцой, а с транспортом пороха, динамита, яда.
Они летели в несколько этажей, напружинив усики-антенны на настроенную волну. И ни разу, никогда и ни за что, во веки веков не сталкиваясь в воздухе.
Я проследил их полет. Все они стремились к развалинам старой стены, сложенной из ноздреватого, осыпающегося, желтого от времени камня, и, покружившись, пикировали на узкий каменный выступ, у черной, круглой, как дуло ружья, лётки гнезда.
Оса, как штурмовик, садилась на брюхо, и, еще жужжа всеми моторами, разворачивалась на сто восемьдесят градусов, и лишь потом, сложив крылышки и подобрав тонкие ножки, как-то униженно, задом вползала в свой темный, в свой первобытный, каменно-пещерный город. И тотчас же на освободившуюся посадочную полосу садилась другая, третья, пятая, десятая, ножками пропихивая друг дружку в гнездо, беспрерывно, цепью, как на хорошо отлаженном аэродроме, словно там, внутри, отражаясь на локаторе.
Что же там происходило? Кому они отдавали сладкую добычу? Своим деткам — малым оскам, своей старой маме — заслуженной осе или сеньору, сюзерену, осе-барону, отбиравшему все до последней капли, до последней пылинки, прилипшей к усикам, и пинком выгонявшему их назад, на вечный полет и добычу?
Есть, очевидно, у них там, в злой, жужжащей темней глубине гнезда, своя камарилья, свои маршалы, фавориты, дипломаты, шпионы, палачи и философы-теоретики, все объясняющие и все оправдывающие, есть, наверное, воры и сыщики, комедианты, меценаты, непонятые и непризнанные гении, все, наверное, есть, по-своему, по-осиному.
Я стоял у каменных развалин и слушал тревожное, разнообразно-жадное жуткое жужжание осиного гнезда.
Может, это у них там была война, бунт, всеобщая забастовка, а может, это было обыкновенное мирносозидательное осиное гудение. И рождались маленькие осочки, хоть и совсем крошечные, но остро, тонко жалящие и звеневшие: «Пи-и-ить!.. Е-есть!.. Жи-и-ить!..» И умирали старые осы-ветераны от перегрузки, от разрыва столько налетавшего сердца.
А может, это был гул искупительной молитвы?
Кто его знает. Я не разбираюсь в осином жужжании.
СОЛОВЬИНАЯ НОЧЬ
Скорый «Москва — Киев» отошел от перрона в восемь часов вечера. И как только он вырвался из черной паутины станционных путей, я увидел на освещенном закатным солнцем косогоре первую парочку. Он и она прощально махали поезду зелеными ветками и что-то весело, счастливо кричали, словно готовы были обнять и расцеловать всех пассажиров.
Через несколько минут вверху появилась новая парочка. Эти даже не оглянулись на поезд и, держась за руки, шли своей розовой тропинкой, будто были одни на всей планете.
Вдруг в поезде стало сумрачно, зелено, паровозный дым запутался в ветвях, из глухой чащи вышли, обнявшись, он и она, словно только рожденные весенним лесом.
Но вот поезд вылетел на волю, и запахло цветущей рожью; полевой тропинкой посреди летнего мира шли он и она, у нее в руках узелок, а у него на палке, как на коромысле, ее туфельки.
Освещенный поезд сверкнул над рекой, и в вечернем тумане, у воды под ивой, кротко сидели он и она, склонив друг к другу головы, вызывая бесконечную жалость.
Как тень прошел ночной разъезд, у путевой будки стояли, друг к другу прижавшись, и целовались он и она, и одинокая звезда смотрела на них.
И за Нарой, и за Брянском, и за Навлей, всю светлую июньскую ночь, всю короткую соловьиную ночь, на всем пути — нежные силуэты — он и она, он и она, он и она…
Погасли звезды, зарозовело небо, из утренней долины поднимались он и она, он в белой косоворотке шел впереди, она в накинутом на плечи его черном пиджаке устало брела позади.
А за хутором Михайловским стало светло, и на склоне горы стояли он и она — маленький подпасок с кнутом и девочка с холщовой сумкой — и смотрели, как восходит солнце.
ПРИЕЗД В ИНОСТРАННЫЙ ГОРОД
Вокзал, на который мы ночью приехали, был старый, закопченный и какой-то знакомый своей каменноугольной закопченностью и уже раз где-то, по-моему, виденный.
И вокзальная площадь, пустынная и гулкая в этот ночной час, с горьким дымным запахом железной дороги, была знакомой.
И когда мы на автобусе поехали узкими каменными улицами мимо старых, придавленных друг к другу узких домов с темными уснувшими окнами и опущенными на магазинах жалюзи, тоже повеяло чем-то с детства родным.
А потом по узкому тротуару, вдоль длинной, безнадежно серой стены дома почти бегом шла она, а за ней он, и нагнал ее у фонаря, и они остановились в желтом круге света, и это была знакомая пантомима.
И через эту парочку у ночного желтого фонаря я вдруг понял, и почувствовал, и принял в свою душу этот чужой спящий город с его голыми улицами и площадями, башнями и мостами, уходящими в туман.
МУРАВЕЙ НА МАРСЕ
Замечали ли вы, что жители одного дома, которые у себя во дворе даже не замечают друг друга, вдруг, встретившись случайно на чужой, далекой улице, обязательно поздороваются, во всяком случае ухмыльнутся друг другу: «И вы тут?» — «Вот встреча!»
А совершенно незнакомые жители одного города, которые знают друг друга только наглядно, как говорят, визуально, встретившись в чужом городе, еще издали друг другу раскрывают объятия: «Давно здесь?» — «Когда уезжаете?»
Я уже не говорю о земляках за рубежом; из разных они городов, никогда не виделись, понятия не имели о существовании друг друга, а тут они встречаются, словно давно разлученные братья: «Какими судьбами?» — «Господи!»
Похоже, чем дальше расстояние и острее тоска по оставленному, тем выше наша восприимчивость, доброта и отзывчивость.
И теперь представьте себе иную планету, куда прилетел первый человек, и если он встретит там муравья — какой это будет пир!
В СКВЕРЕ МГУ НА МОХОВОЙ
Осенью, в начале университетского года, в погожие солнечные дни, я люблю приходить в этот скверик и наблюдать новое молодое поколение студентов, таких удивительно разных в разные годы и таких всегда одинаковых, похожих во все времена.
Я сажусь на скамейку. Рядом стоят высокий молодой человек в оранжевой синтетической куртке и девушка, и вдруг я слышу, девушка говорит:
— Ты спроси у людей, которые жили в тридцать восьмом — тридцать девятом годах, тогда все носили черное.
— Ну так что? — спрашивает молодой человек.
— А почему бы нам не поучиться у своих предшественников? — советует девушка.
Яркий, ветреный день, летят листья. Как, в сущности, печальна жизнь. И как это долго, непонятно, чудовищно, почти мифически долго, если считать от того маленького садика между кирпичными стенами на Гетманской улице, на Украине, до этого дня. И как одновременно кратко.
Как ненасытно прекрасна пора осени и всякое время дня и ночи в любое время года.
ПЫЛИНКА
Под электронным микроскопом пылинка — как земной шар со своим рисунком жизни, своими материками, океанами, горными хребтами, садами и кладбищами, со своими ураганами, катастрофами, критическими точками и инстинктом самосохранения и неистребимостью во веки веков.
ГОРОД
СВИДАНИЕ
Худой, высокий, квелый парень с тонким облупленным носом, очень пестро одетый — в голубых брюках, зеленом вязаном жакете и какой-то странной кремовой плюшевой шапочке, вроде пилотки, — одинокий и всем чужой, мается в воскресной толпе кавалеров у метро «Площадь Революции».
Он увидел ее еще издали поверх толпы и улыбнулся, а сухое, отшельническое лицо его стало мягким, и добрым, и даже симпатичным.
Она шла сквозь толпу прямо к нему — очкастая, на тонких-тонких ножках, суровая, как цапля, и такая некрасивая, что ни один из кавалеров, словно матросы на палубе стоявших в штормовой готовности, не повел за ней даже бровью.
Он тотчас же взял у нее чемоданчик, и они, не сказав еще друг другу ни слова, чему-то своему бесконечно тайному засмеялись, и оба радостные, смеющиеся, счастливые своей близостью, ушли, держась за руки.
И вся земля была цветущим садом, и все человечество было на пиру.
ЛОТЕРЕЙЩИК
В пешеходном тоннеле от дома Госплана СССР к гостинице «Москва» у одной из колонн сидит за маленьким столиком седой, с фанатичным лицом человек, в старой синей кепочке, со свернутым набок галстучком, крутит вертушку с лотерейными билетами и, как-то дремотно опустив глаза, будто сам для себя, на восторженный синагогальный мотив выпевает:
— Через несколько дней… тираж через несколько дней… несколько дней…
И кажется, он спит, и весь он там, далеко — на яркой местечковой ярмарке, среди рундуков и мужицких возов, и вокруг поет-кричит базар: «Пенька!.. Мыло!.. Семечки тыквенные!..»
Мало кто и обращает на него внимание и слышит, что он там бормочет и фантазирует, и он сидит за своим столиком, одинокий, отрешенный, и может вдоволь, сладко, с молитвенной веселостью и тоской выпевать: «Через несколько дней… Через несколько дней…»
Мимо валит густая толпа, идут юнцы и девицы в болоньях, для которых и война-то была где-то в прошлом столетии, а нэп — это средние века, а царь Николай — это уже Ассиро-Вавилония…
И вот он сидит, как осколок этой Ассиро-Вавилонии, и, обещая рай земной, ликуя, выпевает: «Через несколько дней… Через несколько дней…»
МОСКОВСКИЕ НЕГРЫ
Проходят каленные морозом иссиня-пепельные московские негры. И, глядя на них, каждый раз я удивляюсь — как похожи они выражением лиц на местечковых подростков, которых я некогда знал там, далеко и давно. Просто каждого из них я уже когда-то видел, и звали их Лева, Яша, Зюня, и я помню даже, в каком переулке они жили.
Что, может, и они приехали из таких же маленьких, захудалых, заброшенных поселений? Или просто люди всей земли, всех рас и цветов кожи, в сущности, очень и очень похожи друг на друга?
ПТИЦЫ НАШЕГО ДОМА
Новый многоэтажный дом вырос на месте деревенской улицы, и птицы, жившие раньше на старых ветлах, переселились теперь под плоскую бетонную крышу, в узкие, как древние бойницы, чердачные щели.
Вот какая-то суматошная серая галка прямо с полета сунулась в крайнюю: «Ах, простите, не туда!» И перелетела к соседней щели, исчезла и, наверное, там сейчас кричит: «Привет! Привет!»
А голуби все солнечное утро фланируют по бульвару карниза, выпятив грудь, встречаются и, взмахивая крыльями, вежливо уступают друг другу дорогу или останавливаются и долго гуторят. Одни, толстые, надутые, почтенные, стоят, раскорячив мохнатые ноги, и бурлят, а другие, помельче, скромно слушают, пригнув худую, изящную, граненную кубиком головку, и лишь изредка поклюют, но сделав при этом вид, что кивают: «Любопытно, любопытно!»
А есть и такие, которые не участвуют ни в каких дискуссиях, и никто их не замечает, и мнением их не интересуется, и они сами не придают значения своему существованию, сидят где-то в сторонке, на одиноком кирпичике, и попискивают, потому что светит солнце, дует ветер, потому что есть жизнь, бьется под пухом сердечко.
…Вдруг все птицы сразу, тучей, поднялись в воздух и стали кружиться и кричать над двором. Но никто не обратил на это внимания. Дети играли в классы, дворник ходил с метлой, и в открытых окнах на всех девяти этажах люди целовались, плакали, пели и бранились.
НЕОНОВАЯ ВИТРИНА
Ночью прохожу мимо магазина «Канцпринадлежности» и на тихой, пустынной улице в неоновом свете так ярко вижу все эти прекрасные и удивительные вещи: раскрытые готовальни и на зеленом и черном бархате циркули и кронциркули, волшебный фонарь с красным глазом, перочинные ножики. И я с азартом мальчишки все это разглядываю, смакую, владею этим, держу в руке и маюсь. В сущности, я никогда этого не имел. Как же так случилось?
Теперь я иду один-одинешенек по улице и думаю: сколько же великолепных, чудесных вещей прошло мимо меня! Никогда не было у меня калейдоскопа, не было увеличительного стекла, фотоаппарата «зеркалки», не летел я на велосипеде по улицам в разноцветной каскетке в мелькании солнечных миражей, а позже ни разу не крутил баранки, держа в узде дрожь восьмидесяти лошадиных сил, мягких и покорных, летя мимо ночных строений, ночных теней, по асфальту дороги, к цели и бесцелью.
И вот еще что: правда, есть на свете Мадрид, Рио-де-Жанейро, есть Канарские острова, и Балеарские острова, и Огненная Земля? Или это только на голубой карте полушарий, там, в детстве, в писчебумажном магазине?
В ТОЛПЕ
Я только увидел, как он суетливо-яростно сунул букет свежих розовых астр в мусорную урну и пошел вниз, в подземный переход, сияя лысой макушкой, с плащом, переброшенным через плечо, — этакий деспот и жох. А она, утирая мелкие-мелкие слезинки, чуть помедлив, пошла следом за ним, в жакетике и грубых чулках. Остановить? Покориться? Объяснить? Досказать?
Что произошло только вот сейчас; тут, какая маленькая трагедия разыгралась посреди дня на улице, у ямы подземного перехода, среди толчеи, и сутолоки, и шума большого города, среди тысячи тысяч мелькающих судеб?
Я оглянулся. Никто и не заметил, не остановил взора, не замедлил шага, все бежали, бежали по своим делам, москвичи и командированные, молодые, и пожилые, и старые — в пестрой, разнообразной одежде.
Один я, соглядатай человеческий, и приметил это.
ОДИНОКИЙ СТАРИК
В вечер 1-го Мая, когда вокруг горит иллюминация и по улице Горького во всю ширину плывет праздничная толпа, возле автоматов газированной воды на углу стоит старик в мятой, засаленной шляпе и каких-то шлепанцах на ногах.
Он налил стакан крем-соды и медленно, с удовольствием пьет, сделает глоток и этак весело, хмельно, с гордостью участника, глядит на ликующую толпу.
Когда выпил до дна и осторожно поставил стакан, он как-то сразу сник, погас, из глаз ушла веселость, и он торопливо зашагал, держась близко стены.
Я иду за ним. Он сворачивает в Брюсовский переулок, потом еще в один Кривоколенный переулок, потемнее, потом в проходной двор, совсем темный, и пропадает в одном из этих вечно открытых, пахнущих помоями, черных тоннельных подъездов XIX века.
Глухо доносится гам праздничной улицы.
ПРОВОЖАНИЕ
В эти сентябрьские дни, когда с деревьев падают первые желтые листья, на моей улице беспрерывно играет гармошка, я слышу ее и ночью, сквозь сон, и на рассвете.
Вот где-то вдали она не по-городскому заплакала. И воющие ненынешние голоса, странные и потешные, приближаются и приближаются.
Вглядываюсь в рассвет, в темную толпу, ищу виновника.
Впереди гармонист в шляпе и расхристанной ковбойке напропалую растягивает мехи, а за ним мордатый парень в хлопчатобумажных китайских штанах выкручивает всякие коленца и по-бабьи орет: «Хотят ли русские войны»… И тут выскакивают, приплясывая, прямо на проезжую часть, девчата в туфлях на микропорке и начинают по-нарошному жалобно выть, как это, они слышали, делали их бабушки, и все это похоже на интермедию.
А дальше уже кучкой идут парни, стройные, спокойные, молчаливые, с просвещенной усмешечкой.
А вот и он, бледный, юный, почти мальчик, в вельветовой курточке, наголо стриженный, лишь в жалкой напрасной надежде оставлена маленькая челочка, и ему как-то стыдно, совестно всего этого дремучего рева, напрасного всесветного обозрения.
Он идет, обняв за плечи молодую мать, наверное, впервые-то в жизни так кротко, так хорошо, так близко обнял и почувствовал ее.
А у нее заплаканные и смеющиеся глаза, она смотрит на него, и не насмотрится, и не верит, что это уже ее сын уходит на призыв.
А вот сбоку и как-то автономно от всех, на тротуаре, девчушка с химически-огненными волосами, на каблучках-рахитиках.
Она-то всхлипывает по-настоящему, давится слезами, потом вдруг пугается, оглядывается, закрывает рот кулачком.
Какая она будет через три-четыре года, когда он вернется? Он мрачно глядит в ее сторону и видит ее почему-то в высокой прическе «бабетта», с подведенными глазами, об руку с Жаном Габеном с Абельмановской заставы, и сердится, и еще крепче обнимает плечи матери.
РЕСТОРАН «ИРТЫШ»
Я сел за одинокий столик, покрытый холодной, желтой клеенкой, на котором стояло блюдце с крупной темной солью и в стакане мелко нарезанные салфетки, такие мелкие, что ими утираться муравью. Подошла официантка, вынула из передника блокнотик и приготовила карандаш.
— Что есть? — спросил я.
— Все есть.
— Яичница есть?
— Нет.
— Сосиски?
— Нет.
— Может, каша есть?
Она обидчиво поджала губы и не ответила.
— Или кефир?
— Вы что, надо мной издеваетесь?
— А что же все-таки есть?
— Пельмени…
— А что еще?
Она опять поджала губы.
— Пельмени и пятьдесят граммов, — сказал я.
— Сколько?
— Пятьдесят.
Она спрятала блокнотик и карандаш и ушла, раскачиваясь на высоких каблуках, и в длинной змеиной ее талии было пренебрежение.
Открылась дверь, и в ресторан вошел слоноподобный мужчина с красным от ветра лицом, в твердом, широком брезентовом плаще поверх ватника, весь в ледяных брызгах, и направился ко мне. За столиком стало холодно.
Подбежал швейцар.
— Гражданин, сдайте авоську на вешалку!
— Не, — сказал слон, пряча авоську под стол.
— А я вам говорю: сдайте авоську на вешалку! Зина, не обслуживай его!
— На, подавись! — сказал он, протягивая авоську. Девушка принесла на подносе графинчик и объявила:
— Пятьдесят граммов…
Пришелец с интересом взглянул на меня, потом на графин, и все-таки ему показалось, что он ослышался.
На вид казалось, водки много. Но это был оптический обман граненого графина. Когда я вылил все в рюмку, оказалось пятьдесят граммов или еще того меньше.
— Ты сколько выпил?
— Пятьдесят.
Слон усмехнулся.
— У меня лимит — триста и поверху кайзер-бир.
— А зачем так много?
— Ревматизм! — коротко сказал он. — Шпрее.
— Вам что? — спросила официантка.
— Триста и салат на свой взгляд.
— Сто, — сказала девушка и пошла к буфету.
— Аптека, — буркнул сосед. — Антибиотики.
Официантка принесла графинчик. Он вылил все в рюмку и выплеснул в рот и растерянно взглянул на рюмку, словно там была водичка. Утерся рукавом и стал тыкать вилкой в закуску, но мороженая свиная грудинка была жесткая, скользкая, и, взяв в руки, он стал грызть ее всеми зубами.
— Девушка! — он подмигнул и показал пальцем на стопку.
— Все! — сказала она и отвернулась.
— Симпатичная…
— Вы меня лучше не просите — норма! — сказала она, не поворачиваясь.
— Красавица, мы моторные, мы на реке, сразу все выдует, мигом!
— Вы что, хотите, чтобы я на скандал наскочила, да?
— Молчу, — сказал моторный.
— Вы хотите, чтобы я выговор получила?
— А что без выговора можно? — кротко спросил он.
— Коньяк «Елисей».
— И на прицеп пива.
Девушка принесла коньяк и пиво, он выплеснул коньяк в рот, потом запил пивом, пощелкал языком.
— Букет моей бабушки, — засмеялся он, тыча вилкой в огурец, и на несколько минут успокоился.
— Есть огневая поддержка?
Я вынул спички, зажег и дал ему прикурить.
— А вот была та сказка в Саксонии, — неторопливо начал он. — Знаешь, где Саксония?.. Победа! Понимаешь, победа! А жидкости — ни грамма. Уловил? На вопросы: «Тринк? тринк?» — мотают головой: «Никс! никс!» И скажи пожалуйста, в одной кухоньке, беленькой, миленькой, старшина нашел оранжевую бутыль. Огонь! А-а-а!
Немка кричит: «Пан, пан, бреншпирт!» Значит, пузырек для разжигания примуса. А мы: «Фрау, порядок!» Не сегодня родились. Киндеркопф! Мы аккуратненько разлили по стаканчикам. А немка на подоконник: мол, сигану с третьего, убьюсь, решусь жизни самоубийством, отравитесь, а меня к стенке. Мы чокнулись, немка в обморок. А потом проснулась — мы закусываем. Она поглядела, поглядела и бежать по квартиркам, и кричит, смеется, хвастается: «Зи тринкен бреншпирт! Зи тринкен бреншпирт!» Мои, мол, вот какие дьяволы — пьют бреншпирт и не загибаются. А нам это было как какао!
Он взглянул на официантку.
— Принцесса!
Она подошла.
— А что еще без выговора можно?
— Портвейн можно.
— Сладкий, наверное, — он скривился.
— Ликер абрикотин можно…
— А больше ничего нельзя? — Он подмигнул и изобразил стопочку.
Не отвечая, она отвернулась.
— Два абрикотина! — покорно сказал он. — Только подкеросинь немного.
— Ликер абрикотин пойдет, — сказала девушка буфетчице, выбивая чек.
— Это все тому вулкану? — спросила буфетчица. — Смотри, Зина!
— Из него все ветром выдует, мигом.
Она принесла в фужере ярко-рубиновый ликер. Сосед мой сглотнул густую, липкую жидкость, сплюнул и стал жадно есть, не разбираясь, тыкая вилкой в селедку, в мясо, в огурец.
— Молчок! — говорил он сам себе. — Штиль!
Прошло несколько минут.
— Мамочка, а мамочка, — жалобно попросил он.
— Теперь крышка, — сказала она. — Теперь только шампанское.
— Комплект! Катюша! — сказал он радостно.
Шампанское кипело в бокале. Он пил его, как воду, бокал за бокалом, и хмыкал от удовольствия и покручивал головой:
— Детский садик! Вот так детский садик! Сосунки.
А она стояла, смотрела и говорила:
— Надо же!
ПШЮТ
Я была тогда рыжей, это я теперь индианка.
Я стояла на остановке и ждала автобуса, прошли два юнца, оглядели меня и одновременно сказали: «Смотрится!» — и стали за мной. Слышу, завели разговор.
Один из них, пухлявый, с аккуратной гофрированной головкой, с розовыми щечками, раскачивая шикарным, как чемодан, желтым портфелем, капризно, в нос, чтобы получилось по-иностранному, говорит:
— Послушай, мон шер, всею Москву изъездил и не мог найти голубую плитку для ванной.
— Не расстраивайся, Макс, — говорит другой, — я получил сухого мартинчика, того, который пьет Помпиду. Поедем ко мне.
— А что мы будем делать? — спросил Макс.
— Кинем по коктейльчику.
— А потом?
— А потом она одного из нас поцелует.
— А потом?
— А потом, а по-том, ше-по-том…
Потеха!
Подошел автобус. Я села. Макс с чемоданом за мной.
Слышу позади его шипение:
— Разве это я толкаю? Это масса толкает. Это человечество толкает.
Из косого карманчика вынул роскошное вишневое портмоне, достал двадцатипятирублевую бумажку и протягивает кондуктору.
— Разобьете купюру? На песеты!
И, не ожидая ответа, прячет ее и аккуратно отсчитывает пять новеньких бронзовых копеек.
— Мерси, — говорит кондукторше, — за банковскую операцию.
Теперь он сел рядом.
Ну, думаю, как, интересно, начнет?
Тысяча и одна ночь! У каждого цеха свои байки. «Который час на ваших золотых?» — это мелочь, пузыри, в лучшем случае инженеришка, бух командированный. А вот: «Почему у вас минорное настроение?», «Вы похожи на женщину, которую я любил и потерял» — это тоном выше: юристы, медики. А вот уже: «Вас можно объяснить по Фрейду», — это мо́лодец заученный, бедолага-философ. Аристотель!
Вдруг слышу шепотом:
— У вас врубелевские глаза.
— В чем дело?
— Тише! Я говорю, у вас врубелевские глаза.
— Вы кинооператор?
— А откуда вы знаете?
— Сначала я по талону буду участвовать в массовке, потом вы дадите мне феерическую роль в картине «Плоды любви». Мэрилин Монро!
— Видел вас в гробу! — сказал и испарился.
На днях на платформе метро, чувствую, кто-то смотрит на меня. Он! Со своим грандиозным портфелем. Прелесть!
Пробился ко мне. Вижу — не узнал.
— У вас роденовская голова!
— Вы хотите, чтобы я нашла время и приехала в вашу мастерскую?
— А откуда вы угадали?
— Вы лепите фигуру «Лаун-теннис», да? У вас никак не кристаллизуется бюст. Вам нужна сильная, мужественная натура, скульптурные икры.
Теперь он узнал, приподнял каскетку:
— Видел вас в гробу в белых тапочках!
НА КАТКЕ
Февральский солнечный день, ослепительно белый и чистый, пахнет весной, фиалками, и проблеск всего самого яркого, веселого, чудесного, что было в жизни.
На лед осторожно по крутому деревянному настилу спускается грузная, низкорослая женщина лет сорока. Но как только коньки коснулись льда, будто сбросила на настил груз лет, будто подхватили ее крылья и повел сам лед, и она заскользила легко, привычно, непринужденно.
И тот давний, довоенный, последний юный день на катке и нынешний слились в один живой, солнечный, карусельный, и между тем и этим днем не было ни войны, ни потерь, ни родов, ни воспитания детей, ссор, семейных неурядиц, болезней, тоски, бессонницы.
И круг за кругом, на коньках возвращается в свою молодость, в свою юность, и ветер, и солнце, и с высоких гор, с белых облаков спустились и закружились вокруг Ольки, Сережки, Валерки, и совсем не убит, а вот стоит там, под знакомой, старой, белой от инея ивой, и ждет ее с непокрытой головой, в свитере с оленями, он, первый, шестнадцатилетний, и улыбается ей, и она улыбается ему.
Круг за кругом, все легче, все быстрее скользящий шаг, и теперь уже нет ни воспоминаний, ни сожалений, только ветер в лицо, и солнце, и Жизнь.
В КАФЕ
За столиком сидел старый, усталый человек, с пышными, спокойными усами моржа.
— Вам чего? — спросила официантка и подала в разукрашенной обложке меню на меловой бумаге.
Старик поднял голову и поглядел на нее выцветшими глазками.
— Оранжад.
— Что? — переспросила девушка.
— Оранжад, — повторил он. — Апельсиновую воду.
— Только яблочная, — сказала девушка, с любопытством глядя на странного посетителя.
— Оршад, — пробормотал старик, как бы ни к кому не обращаясь.
— Что? — снова переспросила девушка.
— Оршад, грильяж, — бормотал старик.
Девушке казалось, что он бредит или, может быть, над ней смеется.
— Мазагран, — сказал старик и, как бы прислушиваясь к слову, повторил: — Мазагран.
— Чего он хочет? — спросила другая официантка.
— Не пойму, какие-то слова говорит, сейчас в обморок упадет, — сказала девушка.
— Дай ему валидол, — сказала другая официантка, и они обе засмеялись.
У ТЕАТРАЛЬНОЙ АФИШИ
Полночь.
В опустевший вестибюль метро входят он и она, оба пожилые. Муж идет к кассе, она останавливается у театрального киоска и читает вслух афишу:
— МХАТ, «Мария Стюарт». Хорошая вещь.
Подходит муж.
— Пойдем.
Она, не слыша, как загипнотизированная, продолжает:
— Оперетта «Вольный ветер». Хорошая вещь.
Он молчит.
— Вахтангова. «Шестой этаж». Хорошая вещь.
Он:
— Ну пойдем же.
— Сад «Эрмитаж». Кубинские артисты. Хорошая вещь.
Муж:
— Долго ты тут будешь топтаться?
— Малый, Филиал. «Стакан воды». Хорошая вещь.
Муж:
— Перестань ты, пора спать!
Она поворачивается к нему. В глазах ее тоска и укор.
В НОЧНОЙ ТИШИНЕ
Ночью, когда затихает шум улиц, в зимнем, заснеженном городе ясно слышна жизнь железной дороги — стук проходящих вагонов, и вдруг паровозный гудок, одинокий и забытый где-то в полях, и будто кричит из молодости, из юности, все тот же призывный, щемящий, обещающий.
И снова кажется, что впереди еще вся жизнь, что можно и надо все сделать, всего достичь, и хочется уехать из этих тихих белых улиц с уснувшими темными домами. И снова в тулупе сидеть на зимних узловых станциях в буфете, и пить пиво из высоких пенистых кружек, и курить горькие командировочные самокрутки; в больших станционных окнах с двух сторон широкие перроны, гудит колокол, и сотрясается земля, и мелькающий свет поездов на Юг и на Север, хлопают и визжат тяжелые вокзальные двери, вбегают пассажиры и стоя поспешно едят горячий дымящийся борщ и битки «по-казацки».
И ты тоже медленно собираешься и уезжаешь в железном тамбуре по делам индустриализации, и вдали, в начинающейся метели, гаснут огни станции, еще одной станции твоей жизни.
Ведь, в сущности, вся жизнь — дорога, а годы — как станции: шумные, веселые, счастливые и серые, тихие, жуткие и совсем глухие, до крыш засыпанные снегом, названий которых ты и не знаешь.
Кричит, кричит в ночном городе гудок, одинокий, яркий, тоскливый…
МИМОЗА
31 декабря, последний день года. Лютый мороз.
Огромное багровое солнце на закате, и в малиново дымящемся сумраке раннего зимнего вечера готический силуэт высотного здания на Смоленской, странно похожий на чужеземный собор.
На улице продают первую мимозу.
— Мимоза, мимоза, живая кавказская мимоза!
Отчего так прелестны эти легкие светло-желтые веточки, слабенькие, замерзшие?
Отчего вызывают такую нежность, такую жалость, радость?
Да, они из будущего года, они из той весны, которая еще только грядет, пробивается из-за этой городской, холодной, глухой и долгой зимы.
Они первые пришли из будущей весны, которая несет нам новую веру, бесконечную и неиссякаемую, что вдруг снова будет молодость, будет то великолепное, несказанное, несбывшееся, пророчески обещанное нам еще в раннем младенчестве.
ЭХО
К полуночи вверх по Ордынке идет, опираясь на палочку и близоруко держась стены, совсем крохотный, высохший старичок в шинели и нахлобученной на самые глаза фуражке с зеленым околышем.
Седенький, невесомый, с желтым костистым лицом, в темных очках, он будто вышел этой ночью прощаться с городом, с жизнью.
Мимо идут три парня навеселе, и один говорит, обращаясь к самому высокому и богатырскому:
— Геша, а ведь и ты такой будешь!
— А это мне до лампочки, — отвечает Геша.
И все трое бесшабашно, на всю улицу, хохочут.
Каменное эхо долго и жизнерадостно гудит в переулках.
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Без пяти двенадцать. Через центр Москвы, по безлюдной Манежной площади проходят пустые троллейбусы, и тишина такая, что слышно, как падает снег.
Мимо ограды Александровского сада, под заснеженными липами, медленно бредет парочка, он и она, в одиночестве. Обгоняю их. Смотрю — белая девушка и негр.
Есть ли у них друзья? Встретят ли они Новый год или, может, договорились быть на улице? И где его родина?
Где черная девушка, предназначенная ему судьбой? Что делает она сейчас, о чем думает там, в деревушке в раскаленных песках или в хижине в джунглях под пальмовыми ветвями?
Падает, падает снег России. Бьет полночь Спасская башня.
ГОРОД
Очень велика стала Москва. Выйдите вечером из метро на Соколе, или в Филях, или в Измайлове на Сиреневый бульвар — и как бы новый город.
Свое неоновое свеченье, свой Бродвей, свое высшее и среднее общество, свои гении и свои принцессы — Женьки и Люськи, Вовки и Генки, свои районные кумиры — вратари, козлятники, чемпионы целлулоидного шарика, свои гордецы и клоуны, и объекты насмешки, свои чистюли и приставалы, свои сорвиголовы, выпивохи и моралисты, свои моды и словечки, свои хохмы и хохмочки и своя скука.
Я люблю выйти вдруг на какой-то дальней станции метро и окунуться в новую, незнакомую мне жизнь. Хочу понять ее, раствориться в ней.
Но еще больше я люблю поздним вечером или ночью в пустом вагоне приехать на самую крайнюю станцию, холодную, красивую и необжитую, и выйти в поле, к дальним огням, в жизнь, которая еще будет.
НАЧАЛО
ДЕВОЧКА
В раздевалке катка на бывших Патриарших, ныне Пионерских, прудах рядом со мной на скамеечке сидит крохотная девчушка в ярко-желтой, как одуванчик, шапочке, голубом шарфе и высоких, туго шнурованных белых ботиночках с серебряными фигурными коньками. Она сидит, как и все, устало вытянув ноги и прикрыв глаза, и лицо у нее тоже серьезное, отдыхающее.
— Сколько тебе лет?
— Четыре, — отвечает она, не шелохнувшись из своего покоя.
Четыре! Неужели так может быть? Даже страшно, даже жутко подумать, сколько ей жить, и жить, и жить и сколько увидеть.
— Порядок! — вдруг говорит она, и вскакивает на конечки, и, маленькая, тоненькая, в шапочке-одуванчике, идет к морозной двери на лед.
Вниз по обледенелой лестнице она не спускается, а перескакивает, как кузнечик, и вот уже коньки ее звенят на льду.
Она сразу же начинает кружиться и входит в ритм фигуры, и движения ее легки и естественны, словно распускается цветок.
И я люблю ее, эту незнакомую девчушку. Я даже не завидую ей, я ее просто люблю.
ДЯДЬКИН
С морского пляжа по извилистым узким дачным улочкам возвращался домой детский сад. Строй растянулся длинной, разорванной цепочкой, крикливой и жужжащей.
— А я поймала две мухи!
— А у меня папа в командировке!
— А у нас в комнате мама делает ремонт!
Во главе шла разбитная девица в оранжевой кофте.
— Корниенко, не выбивайся из строя!
— Александров, вынь палец из носа!
— Дядьдин, не задерживай шествия!
Дядькин — курносый мальчик в матросской бескозырке, — остановившись посреди улицы, внимательно смотрел в небо. Какое удивительное, длинное облако с мордой и хвостом дракона медленно проплывало над головой по синему небу к морю!
— Дядькин, я что, тумбе говорю?
Оранжевая кофта вернулась, и взяла его за руку, и повела, а Дядькин, запрокинув голову, все следил за небесным драконом, спотыкаясь о камни.
— Гляди под ноги, Дядькин, нормальные люди как ходят?
Теперь Дядькин шел тихо, молча, задумчиво опустив голову, замечая таинственные узоры на асфальте. И вдруг остановился.
— Дядькин, ты зачем оторвался от коллектива?
Далеко позади строя Дядькин сидел на корточках, внимательно что-то разглядывая на дороге.
Сквозь черный смолистый асфальт, сквозь камень и гравий, отчаянно пробив головой трещинку, вышел на свет солнца цветик, слабенький, лиловенький, и волна восторга, жалости и силы залила отзывчивое сердце Дядькина.
— Что, каждый раз тебе персональное приглашение, Дядькин?
Фиалковые глаза глядели моляще. Дядькину казалось, что стоит ему уйти, оставить пост, и кто-нибудь обязательно наступит сапогом и растопчет цветик, и он умрет.
— Тетенька Клава Ивановна, я посижу тут.
— С приветом! Еще чего придумаешь? Если все станут вот так сидеть, кто придет в детский садик?
Она властно взяла Дядькина за руку и повела, и его встречали хором:
— Дядькин-Кудядькин!
Но вот Дядькин забрел в лопухи у забора, и в зеленоватом, призрачном свете, как на картинке в джунглях, жужжали, ползали рогатые жуки, пузатые бархатные шмели, божьи коровки с алыми кроткими рожицами.
— Дядькин, держи себя в границах!
Зеленый, волшебный, потусторонний мир накрыла оранжевая кофта, и жесткая, стремительная рука вытянула его из лопухов.
— Ты зачем, Дядькин, такой индивидуалист, ты все время стараешься уединиться. Что тебя влечет? И что это у тебя в руке?
Дядькин разжал кулак — на розовой ладони стоял на длинных ножках зеленый паучок, новенький, прекраснодушный.
— Кинь, немедленно кинь инфузорию!
Дядькин вздохнул и повесил паучка на былинку, и ему показалось, что тот весело помахал ему тонкой ножкой: «Прощай, Дядькин!»
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
На берегу моря, у песчаных дюн, длинный аккуратный ряд тапочек, а их хозяева — сорок или пятьдесят мальчиков и девочек — роются в песке.
Одни построили крепость с башнями и ведут огонь из пушек: «Бу! Бу! Трах-та-ра-рах!» Другие проложили в песке трассы улиц и бегом ведут по ним красные и синие автомобильчики, вовсю сигналя: «У-у-у!»
— Пароход отплывает! — кричит мальчик в бескозырке. — Я впереди. Ту-ту-ту!
— Посади зайку, — просит девочка.
— «Ракета» отплывает. Ту-ту-ту!
— А где искры? — замечает мальчик в пилотке с двумя скрещенными молниями. — Где же искры?
А между ними суетится толстая тетя в шароварах и сиреневом бюстгальтере.
— Где зеленый совочек? Зеленый где? Сколько было совочков? А ну, соберите и учтите совочки.
Но никто ее не слушает.
Кто изображает барабанщика: «Тра-та-та! Тра-та-та!» — кто продавца мороженого: «Кому эскимо, кому клубничное, крем-брюле!»
— Гляди, глазища! — вопит мальчишка, показывая стрекозу.
— А я что имею? — девочка раскрывает зажатого в руке головастика.
— У, вы, мелюзга. Я черепаху поймал! — Из-под панциря глядят мудрые столетние глаза.
Какой крик, гомон, захлебывающийся разговор. Какой запал энергии, любопытства, фантазии, — его хватит на всю долгую жизнь.
Это их нулевой цикл.
ПИГМАЛИОН
Однажды летним утром два мальчика стали из мокрого морского песка лепить зверей. Они работали весь длинный июльский день, и к вечеру на берегу был уже целый зверинец.
В царской позе равнодушия и презрения лежал лев, крупный, усатый, с зеленой из водорослей гривой и длинным тонким и упругим, как жгут, хвостом, и рядом в той же наплевательской позе — львенок с зеленой гривкой и упругим хвостиком с кисточкой на кончике.
Во всю хищную длину вытянулась рыба-кит с ракушечьим хребтом и острым перламутровым оскалом зубов. Из носа торчало вверх белое перо чайки — фонтан.
Рысь, с кошачьей, ласковой, политичной ухмылкой глядела зелеными бутылочными глазами и будто знала что-то такое, чего никто не знает.
А молчаливая, угрюмая гигантская черепаха, вся под бронированным из морских камушков панцирем, выставив лишь для обозрения продолговатую рыжую, песчаную голову, как бы уходила прочь на тяжелых, как у старинных комодов, лапах, уходила со всеми своими тайнами и медленными мыслями пустыни.
И лягушка в царской короне, присев на задние лапки, словно молилась на закат солнца.
Весь вечер подходили люди и смотрели.
— Лев-то замечательный. Пасть какая, прелесть!
— А почему тигра нет? Неправильно без тигра.
— Вот, Аллочка, погляди, это крокодил, у-у!
— Вы бы еще слона вылепили с клыками, вот была бы карусель.
— Это зайка, да?
— Нет, это бегемот, деточка.
— Ай да мальчики, молодцы!
— Отдайте их в скульптурную школу, будут корифеи.
Поздно вечером, когда взошла над морем луна, мальчики ушли спать, оставив на страже своих зверей надписи на песке: «Не трогать! Не трогать! Не трогать!»
И всю ночь во сне рычал лев и плакал львенок, жалобно мяукала рысь, и ляскала зубами рыба-кит, и квакала лягушка, и мудро молчала черепаха, только топала ногами.
Рано утром, проснувшись, мальчики побежали на берег моря. Пляж исчез, будто за ночь сосны и кусты придвинулись вплотную к воде, и штормовое море накатывало и пенилось в дюнах, похоронив под собою льва и львенка, рыбу-кит, рысь, лягушку и черепаху.
Мальчики стояли на берегу, забыв обо всем на свете, всецело захваченные зрелищем бурного моря..
Они еще не знали, что в душе и памяти их навеки остались лев и львенок, рыба-кит, рысь, лягушка и черепаха, однажды в долгий летний день вызванные ими к жизни. И что еще не раз они приснятся им, лев и львенок, рыба-кит, рысь, лягушка и черепаха.
АВГУСТ
На закате солнца три маленькие девочки в розовых платьицах, как ласточки мелькая между сосен и берез, собирали в лесу цветы.
Они были очень похожи, беленькие, глазастые, две постарше, а третья совсем малюсенькая.
Шли они по траве друг за дружкой, молча, очевидно, все уже было переговорено между сестрами, и теперь только душа их разговаривала с цветами, с пчелами, с муравьями.
И вот вдруг под кустом красной рябины они увидели толстый белый гриб. Нахлобучив широкополую шляпу с рыжими хвоинками, стоял седой, сердитый, занозистый дедок: «Вы чего здесь шуршите?»
Старшие девочки вскрикнули, за ними пискнула и младшая, и все сразу бурно заговорили.
Одна из старших несмело протянула руку и медленно и осторожно, как сапер мину, вынула гриб из земли.
Девочки притихли и испуганно смотрели на выходца с того света.
Великая тайна даром родящей земли впервые коснулась их детских душ.
ИНАРА
В приморском парке, у теннисных кортов, в маленьком белом домике, похожем на киоск мороженого, жила латышская девочка Инара с зелеными, как балтийская волна, глазами на фарфоровом личике.
Отец ее служил сторожем кортов. И тут, в парке, у нее не было ни подруг, ни товарищей, и росла она одна.
Была у нее маленькая желтая лопатка и синее жестяное ведерко, и с утра до вечера она копалась в песочке, а вокруг тихо летали мотыльки с цветка на цветок.
Однажды на корт пришел со своим отцом красивый смуглый кучерявый мальчик в замшевой курточке на «молниях» и в шерстяных гольфах с пушистыми помпончиками, — стройный, гибкий и гордый.
Он был из другой породы, он был с полуденного юга. И Инара долго испуганно и восхищенно молча глядела на это кучерявое чудо.
Она подошла к нему и, не в силах сдержать себя, тронула белый пушистый шарик на его гольфах.
— Старуха, — сказал мальчик, — не прилипай!
Он стоял, притаившись у куста жасмина, медленно, осторожно протягивая к чему-то руку, и вдруг быстро, ловко, беспощадно схватил за слюдяные крылышки стрекозу.
— Слабо́! — сказал он.
Стрекоза с черной бронированной головой, длинная и острая, как торпедный катер, гудела и старалась вырваться, но кучерявый цепко держал ее тонкими, жесткими мальчишескими пальцами.
Теперь он побежал за голубым мотыльком, поймал его и предложил стрекозе:
— Жевать хочешь?
И стрекоза как бы кивнула.
Мотылек, увиливая и отворачивая голову, захлопотал своими слабыми, своими прозрачными, лазурными крылышками ангела.
— Не надо, мальчик, ой, не надо! — зашептала Инара.
— Отколись! — прикрикнул на нее кучерявый, вплотную придвинул мотылька к стрекозе, и та хищно, быстро схватила его крепкими, железными челюстями.
— Она ее лопает, она ее лопает! — завопил кучерявый и засмеялся.
Мотылек перестал бороться и затих.
— Хана! — сказал кучерявый.
Инара долго-долго глядела на мальчика и вдруг заплакала.
— Дура, клякса! Ни бельмеса не понимаешь!
А Инара плакала и плакала, маленькое непонятливое вещее сердце ее разрывалось от жалости к себе.
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Толстый мальчик в бутсах и полосатых гетрах вышел из калитки дачи с насосом, настоящим, великолепным велосипедным насосом, и, посвистывая, пошел по зеленой улице во двор другой дачи. Там его ждали у открытого гаража еще несколько мальчиков в таких же бутсах и гетрах, и в траве навалом лежали их велосипеды.
Хозяин насоса стал надувать футбольный мяч, остальные мальчики стояли вокруг и молча смотрели, как набухает, туго твердеет оливковая покрышка, а потом один из них щелкнул пальцем по мячу и сказал: «Готов!», и они вместе стали шнуровать и крепко затягивать круглый, звонкий, легкий и невесомый как перышко мяч.
В мои годы на весь наш городок был один детский велосипед, и когда рыжий велосипедист в клетчатом кепи и белых гамашах выезжал на солнечные улицы, вся жизнь замирала, как в испорченном кино. «Воры и сыщики», «красные и белые», «принцы и нищие» — все стояли, разинув рот или засунув палец в ноздрю, и очарованно глядели на двухколесного фокусника.
А настоящего, футбольного, с резиновой красной камерой и вкусно хрустящей, сшитой из долек кожаной покрышкой, намертво кожаными шнурками шнурованного мяча мы никогда и не имели. Самые ответственные матчи, когда за сухой счет 12—0 проигравшие отдавали победителю свою форму — трусы с красными или зелеными кантами, — эти матчи игрались резиновым мячиком, а тренировка шла на тугом, тяжелом, как камень, размокавшем на дожде тряпичном мяче.
Обо всем этом я думал, когда сзади раздался свист.
Мальчики в разноцветных бобочках пролетели мимо на велосипедах по лесной заповедной аллее, среди дорожных знаков запрещений, и последний прижимал к груди оливковый футбольный мяч.
А я, будто на «машине времени» отброшенный в двадцатые годы, стоял на дороге и смотрел им вслед.
БУЛАТ
На берег холодного северного моря приехала летом с Кавказа большая, шумная и веселая семья.
Погода была ветреная, некупальная, и на весь день молодые — невестки, зятья, внучатые племянницы — уезжали в экскурсии или в город по магазинам.
Оставалась одна лишь старая бабка вся в черном — в черном платье, черных грубых чулках, черных старинных башмаках с пуговками и черной косыночке на молочно-белых волосах. И с ней Булат — полуторагодовалый, кормленый мальчишка в соломенной жокейке, с пухлыми румяными щеками.
Весь день старуха, накрывшись темным платком, сгорбившись, сидела на скамеечке в песчаных дюнах, под негреющим тусклым солнцем, похожая на брошенную черную чайку, и, отклонив голову от ветра, дремала.
Где все ее сверстники, все, с кем играла в детские игры, в классы, в палочку-выручалочку, а после в фанты, с кем училась в школе, с кем встречалась лунной ночью под чинарами, где ее сестры и братья?
Вдруг она вздрагивала, выпрямлялась, смотрела рассеянно на чужое, холодное море и, казалось, не видела его, а видела знойные голые горы и то, что было в ее молодости.
А Булат, устроившись у ее ног, не обращая внимания на ветер и свист песка, хозяйственно разложив свои пластмассовые тарелочки и сердито надув щеки, молча и терпеливо пересыпал из тарелочки в тарелочку песок.
Иногда он тоже, как и бабушка, задумывался, и вишневые глаза внимательно и долго глядели и запоминали холодное перламутровое море, сосны, красный вереск, рыжих стрекоз и белых чаек, в беспощадном свете шагающих по пустынному пляжу, — великий, странный и удивительный мир, в котором ему еще только предстояло провести жизнь…
«РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
Маленький городок Жмеринка на Украине. Раннее утро. Только что открылась касса кинотеатра.
Аккуратный круглолицый мальчик в беретике тянется на цыпочках к окошку и подает медяки.
— Тетя, дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Как будто ты не знаешь, что дети не допускаются?
— Я не дети, — говорит мальчик.
— А кто ты, старик?
— Да, я уже хожу в четвертый класс.
— Вот когда ты пойдешь в одиннадцатый, тогда и являйся.
— Но тогда уже не будет этой картины, — возражает мальчик.
— Будет другая. На твою жизнь хватит. — И окошко с треском захлопывается.
Мальчик с минуту стоит перед закрытым окошком, потом, поднявшись на цыпочки, осторожно стучит.
— Тетя, дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Я же только что тебе сказала, что нельзя! Или это был другой мальчик?
— Да.
— Что да?
— Другой.
— Ну, так я тебе скажу то же самое. Детям на «Развод» нельзя.
Мальчик вздыхает, долго глядит на закрытую кассу. Потом, поднявшись на цыпочки, снова стучит.
— Тетя, так дайте мне билет на «Развод по-итальянски».
— Слушай, долго ты меня будешь мучить?
— Да.
— Пока я тебе не дам билета?
— Да.
— Ну, так дай уж свою мелочь, возьми билет и отцепись.
ПЕРВЫЙ СНЕГ
Ранним утром по снежной целине воспитательница ведет темную цепочку закутанных фигурок детского сада. Останавливаются у нового строящегося дома, и она объясняет им действие крана.
Кто слушает, а кто не слушает. Один мальчик все подпрыгивает, словно через скакалку, другой показывает фокус-покус, третий затеял игру в снежки, и кто-то кому-то уже запихал снег за шиворот. Плач, драка.
Потом все выстраиваются.
— Я впереди!
— Нет, я!
Какая-то девочка сообщает:
— Сотников фигу показывает!
Мальчик с красивым лукавым личиком устраивается, крепенько держась за руку воспитательницы. А кто-то косолапый, в крохотных валенках, самостоятельно отстает. Это уже нигилист.
Все характеры уже здесь, в этих маленьких закутанных фигурках, в плюшевых шубках, в худых пальтишках, в капорах, кепочках.
ФОФАНОВ
Валя, толстый мальчик в ковбойке и гольфах, ученик 1-го класса «А», собираясь утром в школу, со страхом смотрел на свои ногти и сокрушался:
— Нет, Фофанов не пропустит.
Сонная мама в сером рассвете осеннего утра стригла Вале ногти и тоже со страхом спрашивала:
— А теперь Фофанов пропустит?
Валя кивал головой и собирал в ранец разбросанные по всей комнате тетради и книги.
— Ой, Фофанов не пропустит! — снова говорил Валя, с ужасом поглядывая на кляксу в тетради по арифметике. — Ни за что!
И мама хлебным мякишем тщательно стирала кляксу и даже посыпала это место пудрой.
— Теперь Фофанов не заметит, — говорила мама.
— Не заметит, — усмехался Валя, — если бы ты только видела глаза Фофанова. Бинокли.
Валя одевался, навьючивал на себя ранец, как шапку Мономаха, напяливал огромный, тяжелый картуз, и вдруг взгляд его падал на грязные башмаки.
— Ой, мама, я пропал, Фофанов не пропустит.
Мама становилась на колени и мокрой тряпкой вытирала Вале башмаки.
— Ну что за зверь этот Фофанов!
— Носорог, — подтверждал Валя.
И Фофанов представлялся всем нам толстопузым дядей в белом халате с красным крестом и с рыжими волосатыми руками.
Однажды я провожал Валю в школу. Мы поднялись по широкой каменной лестнице.
— Покажи мне наконец этого Фофанова.
— Вот он! — сказал Валя и побледнел.
У дверей в класс стоял крохотный, пестрый от веснушек заморыш с большими, крепкими, красными ушами и, как пастух свое стадо, быстро проверял и пропускал в класс шумную толпу первоклассников, резким писклявым фальцетом выкрикивая: «Руки!»
Фофанов был санком. Фофанов был царь и бог.
ЛЕСНОЙ ДОРОГОЙ
Май. Полдень. Три маленьких мальчика, два в форменных картузах и один в кепчонке, с большими грузными портфелями идут из школы домой в деревню Самохино лесной дорогой.
Сначала они проходят старым сосновым бором, и от сумеречной тишины, падающих с деревьев желтых, сухих игл, неслышных, как по ковру, шагов они сами становятся какие-то тихие, молчаливые и устало тянут огромные свои портфели по мягкой, как мох, рыжей лесной земле.
Но вот между сосен засверкала солнечная от цветов поляна, и все трое закричали: «Ура-а-а!» — и пошли в атаку, портфелями сбивая серые, пушистые одуванчики, и от страха разлетались мотыльки, шмели, жуки, и только стояло высокое рабочее гуденье пчел.
А за поляной была падь, и в холодном тумане гниющие, мшистые, ураганом поваленные деревья, и на дне журчала в камнях светлая речушка Вертушинка. Мальчики с ходу прыгают через поваленные седые стволы и останавливаются на речном мостике и долго, молча, радостно наблюдают, как плывут, струятся, хулиганят головастики, гоняясь друг за другом в прозрачной воде.
За мостиком они кидают портфели на землю и затевают борьбу самбо, а уставши, отдыхают на сваленных бревнах, сидят, как взрослые мужики, и беседуют о своем, и только слышно: «Ух! Ух!»
Из глубины весеннего леса, будто из будущих годов, кукует кукушка. И мальчики каждый раз, когда она начинает, считают и запоминают сколько — шесть или восемь, а потом, когда кукушка снова начинает, они складывают и спорят, правильно ли арифметическое действие. Но вдруг кукушка кукует так долго и нескончаемо, а они с азартом считают и считают, пока не исчерпывают знаний по арифметике, и стоят посреди леса, растерянные перед этой бесконечностью чисел и лет.
Глухой лесной тропинкой они выходят на посыпанный крупным красным зернистым песком терренкур санатория, как раз у зеленой скамеечки, на которой сидит старик в низко надвинутой шляпе, что-то задумчиво чертящий палкой по земле.
Они останавливаются и глядят на старика, потом на таинственные узоры, начерченные палкой. Старик совсем не обращает на них внимания, где-то он на Чонгаре, а может быть, еще в Порт-Артуре…
А по красной дорожке под цветным зонтиком с раскрытой книгой идет дама, а за ней на тоненьких, как ниточки, ножках бежит остролицая, косоглазая японская моська, малюсенькая, как мышь, такая для этих мест странная и неправдоподобная, что все трое усмехаются и не верят своим глазам и долго после обсуждают и спорят, может ли такое быть.
Мальчики пересекают культурную зону терренкура и наконец выходят из леса, и по увалам открывается поле, а там, вдали, деревня. «Чур! Чур!» Они ударяют портфелями по крайней березе, срываются с места и с криками, воплями бегут в открытое поле, сливаясь с простором, с небом, с ветром.
Пройдет много, много лет, по разным дорогам разойдутся эти три мальчика, может быть, никогда в жизни и не встретятся и ничего знать не будут друг о друге. Но навсегда останется в их памяти и вдруг в самую неожиданную минуту, наяву или во сне явится освещенная солнцем майская дорога через лес из школы домой, в деревню Самохино, — сумеречный старый сосновый бор, оранжевая от лютиков поляна, туманная, холодная падь с журчащей на камнях Вертушинкой и, наконец, великое, бесконечное, открытое по увалам поле, давшее им дыхание, волю, свободу на всю долгую их жизнь.
ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
РАССВЕТ
Было серо, тихо, туманно, солнце еще не взошло. Но, боже мой, как звенел лес, перекликался на разные голоса, квакал, мяукал, клекотал то писком, то каким-то жадным захлебывающимся воркованьем, как звали они друг друга, жаловались друг другу, исповедовались, вопили в теплом тумане рассвета.
Можно было разобрать молящие женские и жесткие мужские скрипящие голоса, и несмышленый, высоко звенящий детский плач, и печальный, обреченный старческий хрипящий шепот, — все хотело, жаждало, спешило жить и забубенно жило во времени и пространстве.
И все сливалось в такой ненасытный, торжествующий и ликующий хор, словно то был первый день творения.
МАЙСКОЕ УТРО
Раннее майское утро. Проснулись одуванчики, и вся поляна стала желтая, ярко-солнечная.
Толстый, мохнатый, черно-оранжевый шмель, как штурмовик, бреющим полетом сердито летает над поляной. И вдруг с налету садится на крупный, косматый, огненный одуванчик и, жадно захватив цветок и изогнувшись, горбясь пушистым загривком, глубоко запускает в тычинки алчный хобот и, отдуваясь и пыхтя, работает вовсю — будто гудит мотор.
Я низко нагнулся над ним. Он как бы чувствует соглядатая, сердится, отфыркивается, на миг повернув ко мне свое плюшевое, сердитое, раскрашенное лицо: «Чего надо?» — и, снова обняв цветок, любовно прижав его к себе, по-хозяйски, по-шмелиному жадно обирает его.
С какой радостью, и мукой, и напряжением, с полной отдачей сил исполняет он свое простое, великое дело!
И если оглянуться — все в этот час, в это утро, никого не спросясь, ни с кем не советуясь, делают свое вечное, завещанное им предками дело.
И этот рыжий муравей, кантующий по тропке соломинку, в тысячу раз превосходящую его; и ласточка, как челнок летающая от гнезда к болоту и от болота к гнезду с комочками ила в клюве; и одинокий жук, ковыляя спешащий куда-то среди былинок по старой ноздреватой земле.
Какое сильное солнце и как бьют в ветвях щеглы, точно пулеметы! И как оглашенно кричат петухи, изо всей мочи, будто в первый и последний раз, одержимые одной идеей, высокой и катастрофической — разбудить, растормошить мир! И на этом трагическом фоне быстрое, суетливое, бесконечно однообразное квохтанье квочек, которые заботятся только о сегодняшнем утре, только о сиюсекундной нужде.
ОДУВАНЧИКИ
Солнце ушло в черные, глухие, дымящиеся тучи, и пятый день беспрерывно лили дожди, и было холодно, как осенью. Оранжевые на солнце одуванчики прикрылись длинными, узкими листьями и теперь целый день стояли словно в пальто с поднятым воротником, раскачиваемые ветром, в ужасном настроении, вечно заплаканные и унылые.
Неужели пройдет жизнь, и вот так, под дождем, станут седыми одуванчики, и ветер развеет их в прах, и останутся в высокой траве только твердые, белые костыльки, как память, что был на свете золотой одуванчик и на успел в жизни ничего хорошего увидеть?
И вдруг сегодня во время дождя синюю тучу пробило солнце, яркое, горячее, летнее, и тотчас же одуванчики молитвенно обнажили косматые головы. Поляна вся сразу стала радостной, праздничной, и летели на желтые цветы пчелы, и осы, и шмели, захаживали в гости жучки, паучки и божьи коровки с нарисованными рожицами.
Недолог век одуванчика, какая-то неделя, но ведь и ее хочется прожить под солнцем.
У ПРУДА
В тихом лесном пруду ранним весенним утром юный головастик, резко виляя упругим хвостом, курьерски шел вдоль берегов.
Куда спешил он? На ристалище, на танцы, на плац-парад?
Вот он юркнул под корягу, словно в чью-то частную квартиру. Я подождал немного, он вынырнул с другой стороны, — очевидно, никого нет дома, и полетел дальше, дельный, целенаправленный. А навстречу ему такой же расторопный, серьезный, головастик. Летят прямо друг на друга, не сбавляя скорости, я думал, столкнутся, схватятся в единоборстве или хотя бы остановятся, покалякают о своих подводных делах. Но они, как ястребки, прошли на разных уровнях друг над другом и, даже не оглянувшись, полетели каждый к своей фантастической подводной цели.
Какая-то жизнь у них тут, в пруду, своя, полная чуда и смысла, непонятная и далекая нам.
ЛЕСНОЙ ПАУЧОК
По всему лесу развесили они свои паутины, открытые и тайные. И у них тоже у кого как… У одного роскошный, сверкающий на солнце нейлоновый дворец с массой пристроек, флигелечков, входов и выходов. А у другого только одна западня — крепкий сферический купол с туго натянутыми тросами, брошенными на крепкий старый куст можжевела, и, господи боже мой, какая красота архитектурной простоты, какая инженерная точность, расчет и целесообразность, и никаких излишеств, никаких бирюлек, украшательских штучек; а вот у третьего — бедненькая, убогая, еле приметная в траве, какая-то грязная, несчастная, почти лежащая на земле паутинка, и в ней неподвижно висящий вниз головой крохотный лесной паучок.
Кейфует ли он на солнце, или спит, и только патрульные очаги возбуждения ловят приближающееся жужжанье мошек, или, может, умер?
Я тронул паутинку, он отскочил в угол, я опять тронул, он дальше — на выход. Потом посидел, посидел, подрожал немного, успокоился и, вихляя, перекочевал в центр и снова замер вниз головой.
Дрожит земля от близко проходящих поездов, гудят в небе реактивные самолеты, шумит, звенит, перекликается птичьими голосами лес, а он, молчаливый, одинокий в своей паутине, ждет, и ждет, и ждет.
Тоскливо ли ему вот так одному, все время начеку и начеку, или в азарте охоты некогда ему предаваться пустячным рефлексиям?
Затрушенный лесной паучок, ничего за душой не имеющий, кроме этой жалкой, пустяковой паутинки, а ведь у него своя долгая, многотерпеливая жизнь, свои какие-то одному ему известные интересы, расчеты, наверное, и ему холодно, и жарко, и голодно. Наверное, и он когда-нибудь смеется и плачет, а может, даже и интригует.
Их тут, в старом лесу, целая колония. Миллионное население.
Интересно, знают ли они друг друга, ходят ли друг к другу в гости на своих длинных ногах вечером, после захода солнца, когда спят мухи, и пчелы, и мошки?
Или каждый живет сам по себе, родится и умирает, не сдвинувшись со своей паутины? И в своей паутине сам себе владыка и сам себе раб.
НА БОЛОТЕ
По-летнему теплый день, душный, пахучий, цветет сирень.
В запруде тишина, покой. И вдруг где-то тренькнула лягушка, осторожно, робко, вопрошающе. Ей ответила другая, третья, и поднялся галдеж, трескотня, и закипело, забурлило болото.
Что это у них там — домашняя свара, сходка, дискуссия, ниспровержение основ или просто беспринципная драчка? И почему так вдруг, внезапно началось, и с таким ожесточеньем?
Постепенно начинаешь разбирать очаги. Вот одна строчит, как машинка, беспрерывно, ладно, а та, что спорит с краснобайкой, искренне визжит, прямо задыхается от возмущения, тонет и захлебывается, и я как будто слышу: «Ой, ой, больше не могу, что она говорит?» А та, опытная, циничная: «Ха-ха!»
Вот маленькая, плоская лягушка, сверкая мокрой, зеленой, скользкой спинкой, прыгает за толстой, надутой: «Нет, ты обожди, ты докажи, что права». А та: «Отстань, не хочу с тобой разговаривать». И ныряет, и пропадает.
А вот две выскочили из воды, страшные, мохнатые от тины, и, разевая рты, как псы бросились друг на друга, глаза вздулись, как пузыри, глаза — два фонаря.
И тут уже такое поднялось вокруг, что зазвенело в ушах. Мне надоело, и я ударил веслом по воде: «Цыц, кончено!»
И все сразу попрятались, набрали в рот воды, и молчок. Вот так-то!
Теперь тишь и гладь, только скользят водяные жуки. Неужели еще секунду назад кричали, спорили, дискутировали, и каждый высказывал свое, особое, возмущенное, просвещенное мнение?
Пока тихо, пока все затянуто ряской, и душно, и зной, они помалкивают, набрали в рот тины и где-то там молчат у своих кочек, под своими корягами, еле сдерживая раздражение и несогласие. Но стоит только кому-то опять подать голос, только одной, наиболее занудной, наиболее подверженной настроению и бунтарству, начать неопределенно, как бы про себя: «Так-с!», как другая рядом раздраженно: «Что так-с? Откуда так-с? Зачем так-с?», и сразу со всех сторон: «Ага! Ага!»
Зачем так жалобно кричат, захлебываясь в воде, в тине, чего хотят, чего добиваются с таким азартом? За себя ли только стоят или за всех, за правду и справедливость? В конце концов, и в болоте должна быть правда и справедливость, а то как же жить?
А может быть, я ошибаюсь, и это просто любовь? Может быть, они не спорят, не дискутируют, не возмущаются, а так громко, всесветно объясняются в любви? Может быть, этот лай и бульканье означают: «Иди, иди, зеленая, пучеглазая, роковая, ко мне»?
А сирень стоит над запрудой лиловым облаком, а лютики горят солнечным блеском, и гуси ходят по берегу и гогочут, и голосят петухи на деревне.
КУКУШКА В КОНЦЕ ИЮНЯ
Все утро сквозь сон звала меня кукушка. Откуда-то из темной глубины леса, из далеких, утерянных годов, неумолимо, и настойчиво, и неутешно звала меня кукушка голосом знакомым, и печальным, и обещающим. Будто это была та же кукушка, что куковала мне в то июньское, в то первое военное утро, когда из домика студенческого общежития уходил я этой лесной просекой на станцию, и она всю дорогу куковала и куковала, и я слышал ее, пока не отошел поезд.
А потом было все, что было.
А она все тут жила, все куковала и теперь что-то предрекала и обещала мне, не учитывая, что я уже почти все знаю.
А может, она и не рассчитывала на меня, может, она обращалась к тем мальчикам и девочкам, которых я вчера видел у колодца и которые сказали: «Вон лысый дядька идет!», — обещая им длинные и солнечные, как зеленый коридор леса, годы без войн, без лагерей, без мук.
Кукушка кричит звучно, глубоко, бесконечно, и это кажется голосом самого леса, голосом самой судьбы.
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ НА РЕКЕ ЛИЕЛУПЕ
Солнце и тишина. Яхты вдали как чайки. Все время посвистывает — то ли пеночка на лугу, то ли пастушонок.
Мирно спят на воде широкие, спокойные листья кувшинок. Бутоны еще темно-зеленые, остро и строго торчат из воды, как солдаты на часах, лишь один подобрел, пожелтел и стал лилией на воде.
Шныряют в зеленой воде мальки. Вот застыл торчком малек-юноша, то распустит жабры, то сожмет. О чем это он думает, о чем беспокоится?
Над рекой с криком пролетают две чайки, и мне кажется, я ясно разбираю: «Ах, не надо!», «Отстаньте!», «Ах, бросьте!»…
А на берегу под старой ивой стоит мальчик в бескозырке.
— Вот я сейчас сделаю удочку, — говорит он сам себе.
Он находит на земле палочку и делает вид, что закидывает в реку леску.
— Сейчас рыбу будем ловить!
Несколько мгновений он тихо, внимательно глядит на воду.
— Ой, ой! Щука! — Он дергает вверх свою палочку. — Смотри, щука!
Течет жизнь, простая, ясная, добрая, понятная, жизнь, подсказанная всему живому солнцем, водой, ветром, синим небом.
Зачем же ее так усложнять, зачем делать из нее ад?
Где-то воет сирена, надрывным криком напоминая, что есть в мире тревога, несчастье, катастрофа. Дрожит земля от близко проходящего поезда, и гул разносится по земле до крайних ее пределов.
КАТАСТРОФА
Я случайно опрокинул в парке старую, ржавую, чугунную урну, дно которой оказалось куполом муравейника. И вдруг глазам моим представился город во время внезапной бомбежки.
Солнечный свет ослепил мирное муравьиное поселение атомной вспышкой, и тысячи тысяч рыжих муравьев, которые, наверное, до этого в темноте муравейника мирно спали, учились, пытали друг друга, в панике, толкаясь и бесцельно обгоняя друг друга, кинулись в разные стороны от эпицентра катастрофы. И теперь ни за что уже нельзя было узнать, кто учитель, кто палач, кто садовник, кто мудрец и кто глупец.
Но это только казалось с первого взгляда.
Присмотревшись, можно было увидеть, что все развивалось будто по заранее разработанному плану на случай войны и катастрофы.
Большинство муравьев ринулось, спасая какие-то белые зерна, очевидно, муравьиную молодь. Схватив в клещи, они бережно убегали с ними вниз, в разрыхленную землю, где, наверное, были бомбоубежища или бункера.
Через десять секунд уже не было ни одного белого зерна. Лишь последние муравьи, саперы или пожарники, рыскали в поисках раненых и пропавших без вести.
А через десять минут вообще уже никого не было. Изредка забегал разведчик и, порыскав, исчезал. Может, он замерял радиацию и возможность новой жизни на старом пепелище?
ЛЕВРЕТКА
Мимо дачи проходила женщина с голубой левреткой. Крошечная лукавая собачонка путалась в ногах, вертелась, суетилась, серчала и все принюхивалась и приглядывалась, к чему бы прицепиться, раскапризничаться и по-настоящему, в голос, завизжать.
— Микки, Микки! — покрикивала хозяйка.
Вдруг Микки увидела за забором огромного, величиной с теленка, дога. Тот стоял посреди двора недвижно, как статуя, и, казалось, никуда не смотрел и ничего не хотел.
Левретка тявкнула раз-другой, дог не двигался и не повел даже ухом.
Тогда Микки подскочила к воротам и завизжала.
Дог долго молчал, стоял на прямых, сильных, высоких лапах и с сожалением смотрел на левретку.
Но чем глубже он молчал, тем зловреднее, надоедливее лаяла левретка, она подпрыгивала, кидалась на забор, делала чуть ли не сальто-мортале, и, наконец, просунула под ворота свою красивую оскаленную мордочку, и залилась истерическим, ликующим лаем: «Я тебя, я тебя выведу из терпения».
Дог медлительно, по-царски, высоко переставляя ноги, пошел к воротам и с интересом удивления стал смотреть на левретку.
А Микки рыла лапами землю, она визжала дурным голосом, и голубая шерсть ее от волнения сама по себе закудрявилась, заряженная электричеством.
Дог подошел вплотную к воротам, разглядел ее и рявкнул только раз, и Микки подскочила и с визгом побежала за хозяйкой.
Дог стоял у ворот, молча провожая ее взглядом! «Шантрапа!»
В КОНЦЕ ДНЯ
Есть час в конце длинного летнего дня, после заката солнца, когда в тихом предвечернем лесу птицы вдруг начинают особенно бушевать, свистят, турлюлюкают, стонут, или вдруг кто-то охнет, скажет, ну почти по-человечески, словно торопятся до темноты досказать все, что не успели за длинный летний день, что надо сказать именно сегодня, а не завтра.
И сквозь все, сквозь все кукушка подает свое глубокое, тоскующее «ку-ку! ку-ку!» — вечное, неизменное, вопросительное, безответное…
И над гомонящим лесом лишь вороны летают молча, деловито, туда и сюда, словно закрывают день, и черные крылья их освещают блики заката.
А вдали, в вечернем сумраке, уже засветились первые огоньки деревень, и в опустевших полях слышно, как играет радио на станции.
НОЧЬ МАЙСКИХ ЖУКОВ
Вечером пришли мальчики из деревни Лукино и на заброшенной, заросшей бурьяном теннисной площадке ловили майских жуков.
Жуки вылетали неизвестно откуда, синие, фосфоресцирующие, неся на металлических крыльях отблеск луны. Они гудели низко над самой землей, встречались, расходились, и это было похоже на аэродром.
Я почти поймал одного, и вдруг он с силой вырвался, на лету сбил пушистый одуванчик, и тот во сне перестал существовать; жук покружился, погудел над травой, и зарылся в желтый венчик уснувшего на стебле цветка, и притаился. Я приближался тихо, на цыпочках, и вдруг набросил шапку на жука. Он возмущался неволей и не давался в руки. Наконец я схватил его. Он был тяжелый, будто литой из свинца, и от него пахло серой и по́том работы. И когда я взял его в руки и поднес было к лицу, он смело, дерзко, безбоязненно глянул мне прямо в глаза: «Ну, чего надо, чего цепляешься?» — и зацарапал жесткими, проволочными лапками: «Отпусти, да отпусти ты, у меня только одна ночь». Я выпустил его, и он, жужжа, полетел по своим делам.
Руки еще долго пахли дымящейся серой. Ночь была железной.
НЕБО
Я помню первый аэроплан «Илья Муромец». Неимоверный, с черно-желтым брюхом жук шел низко над крышами, наполняя грохотом весь наш маленький городок, тень его летела по крышам, дворам, садам, подымая в воздух ворон и галок, на всех улицах лаяли собаки, а мы бежали за ним и кричали, и видели авиатора в кожаном шлеме и мотоциклетных очках, и скоро аэроплан исчез за горизонтом, за той выпуклостью земли, куда мы еще никогда не ходили.
Потом помню, как я впервые увидел на параде строем летящие над Красной площадью, похожие на темные стрелки, реактивные «яки», звук догонял их, будто они тянули за собой гремящее небо. И долго к этому трудно было привыкнуть.
Но вот и они исчезли с глаз, и только где-то высоко-высоко с тихим рабочим рокотом прошивал седьмое небо еле видный серебристый челнок, оставляя за собой ярко-белый светящийся след.
Теперь, если в небе случайно появлялась акула «Дугласа», на котомром мы еще совсем недавно летали, он казался нам ужасно старомодным, медленны, грохочущим, как таратайка в облаках, и он раздражал нас.
А недавно я поселился в лесу, на берегу тихой речки, и в первый же вечер услышал таинственный гром, избушку сотрясла взрывная волна, зазвенели стекла, казалось, где-то за лесом взрывают скалы, но скоро от местных жителей я узнал, что это стартуют сверхзвуковые. И действительно, всегда за взрывом, в то же мгновенье, слышался характерный, распарывающий небо звук самолета, но в небе — ни контура, ни следа. Взрыв и высокое, мгновенно пропадающее жужжанье.
Скоро, я думаю, снова, как в раннем детстве, наступит время абсолютного молчания неба, время ракетной тишины.
АНТИЦИКЛОН
Всю неделю штормило море, беспрерывно дул ветер, неся желтые листья, лил дождь, и вдруг однажды под вечер стало тихо. Небо очистилось от туч, взошла луна, и ночью светились дюны.
Утро пришло тихое, теплое, туманное.
Впервые в жизни я видел такое обилие паутины. На старой, измученной траве, в изморози росы, сверкали паутинные сети, похожие в утренних лучах на зимние узоры.
Когда успели их выткать? Неужели этой осенней ночью? И как узнали местные пауки, живущие в глухом лесу, эти неграмотные лесовики, в отрыве от синоптиков, что с запада идет мощный антициклон, и теперь на целый месяц — тепло, и сушь, и снова полетят мухи, мошки, комары, оживут бабочки, пчелы, осы. Какой древний и могучий тайный инстинкт подсказал им, какие магнитные силы присутствуют в этом мире и лежат по ту сторону нашего ощущения?
Может, пройдут еще тысячелетия, пока поймем то, что понимает этот странный слабый зеленый паучок. Подняв свое пузатое тело, словно на ходулях, медленно передвигаясь на длинных, мягких, полусогнутых ногах, он ткет и ткет, повесив свою паутинку на двух былинках, на двух шатающихся безропотных былинках.
ПОСЛЕДНИЕ ЦВЕТЫ
Как печален бессмертник, бледный, без единой кровинки, жесткий, сухой, шуршащий под ветром, словно вырезанный из пергамента.
Он скорее говорит о белой зиме, о мертвой зиме, чем о лете и прошедшей весне, которая начиналась желтыми лютиками, розовым цветом персиков и такой темно-зеленой травой, что ночью под луной она казалась фиолетовой.
Так вот чем все кончается. Так вот как все кончается…
ОСЕННИМ УТРОМ
На освещенный солнцем, еще в инее утренней росы, подорожник села крупная, бронзовая осенняя муха и стала умываться.
Суетливо и нервно обхватывала она передними лапками голову: «Ах, башка моя разламывается!» Терла виски и закидывала цепкие лапки на затылок и сверху вниз массировала длинными сильными движениями, поматывая головой: «Ох, не буду же больше пить!» Потом она набирала росу, и казалось, булькала горлом.
Наверное, сильно набралась муха.
По какому же случаю? Какой суетный однодневный интерес праздновали вчера в этом старом, запущенном парке мухи, мошки и букашки, завершая этим осенним вечером свою краткую жизнь?
ЛАСТОЧКИ В АФРИКЕ
Зима. Тихий снежный день.
Желтые ласточкины гнезда на белом фронтоне лесного санатория словно брошенное древнее поселение.
Как печальны эти одинокие, бедные глиняные фанзы. Некоторые облупились, треснули, как яичная скорлупа, обнажив скорбную, нагую нищету жилища, темную, таинственную завязь рода.
Только сейчас на белом просторе пустоты я как следует разглядел подробности и архитектуру ласточкиного города.
Большинство гнезд, как и у людей, сгрудились вместе, в центре, на пятачке, некоторые построились просто впритык, гнездо к гнезду, как изба в две связи, — наверное, только в это лето выделилась новая семья. Лишь отдельные гнезда — совсем на отшибе, в темных скрытых уголках под карнизами. Бирюки? гордецы? выселенцы?
Какая жизнь тут была, какое кипенье! От зари до зари шум крыльев, клекот, писк, драки, наверное, и интриги были, и подножки, и карьеры.
А сейчас ничего. Тихо. Пустынно. Забыто.
Неужели снова будет весна, солнце, цветенье, из-за моря прилетят те же ласточки и снова будет жизнь?
Там, в Африке, среди попугаев какаду, вспоминают ли они свою родину, свои глиняные фанзы на белом фронтоне в сосновом бору?
КРИК
На закате солнца, на красной сосне, одиноко стоящей у поселка, кричит ворона хрипло, отрывисто, болезненно. Что с ней, черной, случилось, кого зовет своим безутешным, безнадежным криком?
Умер ли кто-то у нее, или разорили ее гнездо, или она сама вдруг почувствовала свой предсмертный час, или, может, это молодая ворона и ее зря обидели, оскорбили, пренебрегли ею и она кричит, пока не выкричится, сообщая всему свету: «Ой, как мне плохо!»
Но почему же никто ей не отвечает, почему не откликнется ни одна ворона, ни одна галка, ни на деревьях, ни на крышах, никто из этих по полю молча раскоряченно шагающих. Что, не хотят впутаться, вмазаться в историю?
Ворона все кричит и кричит, надсадно, раздирая уши.
Вдруг откуда-то вынырнула и появилась в небе другая черная ворона, с лету каркнула. И эта мигом замолчала, взмахнула черными крыльями, и они обе улетели.
И сразу стало тихо и слышно далеко вокруг — звон, свист, тюрлюлюканье, маленькие радости, просьбы, крошечные обиды и вздохи весеннего поля, на котором, как тень, лежал этот долгий, эгоистический крик черной вороны.
ГЛИНЯНАЯ ЛОШАДКА
ГЛИНЯНАЯ ЛОШАДКА
Когда-то, еще в далекие первые дни, она подарила ему раскрашенную глиняную лошадочку, нелепую и какую-то загадочную в своей нелепости. Он усмехнулся и поставил ее за стекло в книжный шкаф.
И все годы, пока она, одинокая, ходила к нему, беззаветно целовала его, курила эти свои едкие ароматные сигареты, и болтала суеверные глупости, и иногда бунтовала, зло и обидчиво плакала, и он пропускал все мимо ушей, — завороженная фигурка молча стояла в шкафу за стеклом, понурив голову, как бы застыв в своей терпеливой глиняной думе, а он так привык к ней, что никогда и не замечал.
И вот теперь, когда она ушла к другому, маленькая глиняная лошадочка вдруг ожила.
Сегодня, когда он встал, она вроде кивнула чуть приметно, а потом ему все казалось, что она зовет его, и стало так тоскливо, безвоздушно, что он задвинул ее за книги, чтобы не видеть ее и не думать о той. Но все равно и после этого он все время чувствовал ее, будто в темноте она ждала его, и тогда он взял ее в руки и впервые разглядел, и увидел, что у нее зеленые глаза и голубая сбруя, и есть грива и хвост, и, наверное, есть и свой норов, свое мнение обо всем, только она молчит, она всегда молчит.
И вдруг он, прошедший войну, плен, госпитали, переживший проработки и все на свете, от этой игрушечки почувствовал такую боль, какой еще не испытывал ни разу в жизни.
СТАРЫЙ ХОЛОСТЯК
Воскресенье. Глухое, светлое, снежное утро. И в такое открытое утро особенно ясно видно, что человечество живет семьями. Мимо окна все идут и идут празднично наряженные люди — мужья с женами — и ведут за руки заботливо и тепло одетых детей, а самых маленьких везут на саночках, и они что-то спрашивают, и взрослые с улыбкой им отвечают.
А он стоит у окна один, в пустой и необжитой новой квартире, и слышит, как топочет сверху дочка соседа, и вспоминает свое детство, и глаза его сухи.
И вся жизнь — как один день.
В двадцать лет ему иногда в шутку бросали: «Жениться пора!» После тридцати разводили руками: «Когда женишься?» А после сорока, как над малым ребенком посмеиваясь, спрашивали: «Не женился?» И все он отделывался шуточками.
Зимний праздничный день, длинный, солнечный, немой.
НА ОСЕННЕЙ АЛЛЕЕ
Старые люди бродят парами. Каждый в отдельности, они никому не нужны, никому не интересны, но друг другу они нужны, только они и нужны.
Они бродят парами, похожие друг на друга, как брат и сестра, и никто не знает, и сами они уже не помнят, какие когда-то, в ту первую их весну, они были разные, удивительно, эксцентрично разные, и все удивлялись: «Что их свело?»
Старые люди бродят парами, молча, все переговорено, все известно, и мысли, и слова у них одинаковые, и предчувствия — как у одного человека.
УТРО В СЕТУНИ
Ночью я приехал в домик в лесу, в котором жил некогда, в дни молодости. И когда утром проснулся, будто не было прожитых лет. Как всегда, как прежде, вдали за лесом слышен был гул проходящего поезда.
И этим ранним снежным утром с такой ясностью и очевидностью увидел, как все будет так же и после меня — тот же лес, тот же смутный зимний рассвет, и там за деревьями этот желтый дом с колоннами и маленькими узкими окошками, и эта зеленая беседка и скворечня; так же посвистит птичка, и тихо-тихо, осторожно, неслышно будет падать снег с темного неба, — ничто не изменится, от ужаса не закричит.
ЗЯБЛИК
Неожиданно перед самым окном в тени мелькнула пестрая птичка, с размаху села на тонкую ветку березы, и с нее посыпался сухой, пушистый снег.
Зяблик поглядел направо, поглядел налево, нахохлился и затих.
Что с ним? Накричался, надышался солнцем и ветром этого холодного апрельского утра и отдыхает; или поругался со своей зяблихой и вот сидит на веточке в сторонке, и переживает все перипетии скандала, и оправдывает себя, и обвиняет ее и весь мир, и медленно отходит; или просто уединился от света, от писков и восторгов весны и думает про свое, глубоко личное, только ему нужное и интересное.
Надо же и зяблику подумать, решить, что хорошо и что плохо, иначе как же жить, как двигаться вперед…
МОРЕ И НЕБО
В серое хмурое, ненастное утро по берегу Рижского взморья у белой, пенистой кромки волн шел крепкий старик в круглой, мятой, потерявшей цвет бурой шляпе и тяжелых, шнурованных до колен башмаках. Он шел, очень высокий, худой, не сутулящийся, ровным и сильным, тренированным шагом, размеренно взмахивая массивной палкой, — левая рука крепко сжата в кулак за спиной, — и со спины был похож на молодого.
Вот так уже много-много лет каждое утро проходит он этим путем от Ассари до Меллужи.
Он бегал по отмели тут маленьким мальчиком, и море смывало следы его босых ножек, а потом он проходил тут школьником в школу, и море слизывало следы его детских башмаков, потом юношей проходил с ней, и рядом с его большими, топорными следами оставались маленькие, кроткие следы ее туфелек.
И однажды он прошел здесь солдатом, и море смыло следы его сапог с шипами, и долго его не было, а море все шумело, иногда накатывало на берег, темное, грозное, подмывая дюны, и потом, отшумев, снова было тихое и спокойное и открывало отмели и острова.
Долго его не было в этих местах, и казалось, уже никогда не будет.
Но однажды в такое же серое, хмурое балтийское утро он вернулся и появился на берегу, и море было то же, и дюны, и чайки, будто никогда и никуда он не уезжал.
Он помнит, как в приморском ресторанчике, когда тот еще был деревянным, танцевали за этими широкими окнами кадриль, и тогда еще не было каменных домов, в были рыбацкие хижины, а потом танцевали вальс, а потом чарльстон и фокстрот, и вот уже танцуют твист, шейк все быстрее, все бешенее.
Он идет прекрасным берегом от Ассари до Меллужи и радуется, что море, и небо, и песок все те же, что в дни его детства.
ЯУНДУБУЛТЫ
О, как печальна за дачным поселком сосновая роща на морских дюнах, — пустынна, светла и неприкаянна, как минувшая жизнь!
Редко мелькнет рыжая стрекоза, бессмысленно пробежит собака по песчаному взгорью между соснами, и такая тишина, будто все кончено, все уже было и отшумело, и только вдали гудит море вечным покоем.
И вдруг на границе дюн, на самом берегу, вековая, заматерелая сосна, в фундаменте черно-зеленая, в стволе медная, а вверху, под солнцем, как оранжевая свеча.
Могучие, жилистые, загорелые ветви ее искривлены и завязаны морскими узлами, и вся она под порывами ветра гудит, натянутая и напряженная, как бумеранг, вся открытая вольному морю и заодно с ним — с этим штормующим морем.
И вот так — день за днем, под солнцем и под звездами, среди молний и снежных бурь, она выдержала штормы, ураганы и землетрясения, всю взрывную волну столетья. И кажется, не только сосна, но и вся корневая земля вокруг нее гудит и не сдается, — нет, не сдается.
И, глядя на нее, снова хочется жить, и жить, и сопротивляться.
Иду берегом, и жадно глотаю морской ветер, и ловлю крики чаек и голоса людей.
ВЕСНА
Цветет черемуха. Первая бабочка ярко-кирпичного цвета угрелась под солнцем. И ребенок в синем вязаном капоре, краснощекий, сердитый, с соской во рту, из коляски смотрит на меня, как я пишу. О чем он думает? Мне кажется, он понимает, что я пишу о нем, и лицо у него сердитое и удивленное, и он пытается выкинуть изо рта соску и что-то сказать мне, громогласно возмутиться.
Рядом работает, жужжит кран на строительстве большого дома. Когда мальчик станет на ноги, этот дом, который возник на моих глазах из ничего, будет для него существовавшим вечно, как небо, луна, звезды.
Он хмурит брови, а я думаю о том, что́ ему еще предстоит в жизни. Когда я на него внимательно начинаю глядеть, он отводит глаза, беспокоится, он недоволен, пытается снова выбросить соску изо рта, обратиться с жалобой к маме, и вдруг он засыпает.
Где он теперь? Куда уплыл?
ОДНАЖДЫ В ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР
Во дворе кричат, вопят, играют в футбол, в «войну», И шум раздражает его, он выбегает из комнаты, чтобы накричать на них, пресечь. Он с яростью хватает первого же мальчонку, возбужденного, красного, лохматого, обсыпанного крупными веснушками.
И вдруг он узнает самого себя.
Это он, это он, тот, который был когда-то, там, давно, далеко, бьется в тяжелых, с желтыми ногтями и синими венозными узлами, старых черепашьих руках.
Сколько же должно было пройти лет? И мысль его охватывает всю жизнь, и он тихо выпускает мальчика.
Веснушчатый, ожидавший трепки и ошарашенный внезапной переменой, странно смотрит на него.
— Иди, играй, кричи, — говорит он. — Дай жизни!…
МГНОВЕНЬЕ
Вдруг в воздухе будто мелькнет, будто сверкнет что-то знакомое, близкое душе, когда-то пережитое. Вот точно такое же было чистое, эмалевое небо, сверканье полдня, нежно зазеленевшие кусты, воля, простор и чувство, что недобрал в жизни. И вот оно снова — давнее ощущение силы, возможности все сделать, все свершить, всего добиться.
Была война, и собрания, и болезни, удушье тоски, смерть отчаяния, и иное на улице поколение — другие девушки идут с цветами, другие юноши сидят с книжками в университетском сквере, и иные картины в кино, и иные моды, и словечки, и прически. А мгновенье все то же — ясное, солнечное, ветреное.
Как снежные чистые вершины, они над равниной нашей жизни, эти одинокие мгновенья.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ, СМЕШНЫЕ И ГРУСТНЫЕ
ВОСПОМИНАНИЕ
1
Газета эта когда-то называлась «Топор», она выходила в единственном экземпляре, и ее вывешивали у первой кузни, у которой не было даже стен, просто четыре столба, покрытые жестью, а рабкоры приносили написанные на кусках фанеры заметки под псевдонимами «Жало» или «Оса».
Потом газета стала называться «Гигант», листовка величиной в носовой платок, ее печатали крупным шрифтом на маленькой, крепкой, приземистой «американке», и распространители печати раздавали ее по траншеям и котлованам.
А когда я приехал сюда, газета называлась «Металлург», и редакция помещалась в бараке, заметки набирали ручным способом и на линотипе, и почта доставляла ее по подписке в многочисленные адреса, и даже в Москву и за границу.
Я до сих пор вижу этот длинный, темный от дождя, от снега, от морозов, от континентальной жары, крытый серым толем барак, с золой у крылечка, с дверью, обитой желтой клеенкой, из-под которой клочьями торчит вата. Откроешь тяжелую дверь, и в лицо пышет чугунным жаром печурки, сложной смесью дуста, типографской краски и старых газетных подшивок.
В темную барачную прихожую выглядывает маленькое кассовое окошечко. Здесь принимают письма, почту, объявления о потерянных документах, похищенных печатях и украденных конях и о гастролях гималайского тигра, а по пятнадцатым и тридцатым числам выплачивают гонорар по разграфленной ведомости.
Я помню узкие, сумрачные клетушки, с крохотными у самой земли окошками, еле пропускавшими сквозь замерзшие, с наледью стекла дневной свет, и в зимние метельные дни иногда весь день горело электричество, и голая лампочка на длинном шнуре освещала летящий за окнами снег.
Когда мы утром приходили в эти клетушки, в окна дуло снегом, и в стеклянных невыливайках вместо чернил сверкали кусочки фиолетового льда, и если их потрясти, они звенели, и, прежде чем писать, мы на горящих спичках обогревали чернильницы. Во всех клетушках в сумраке утра горели маленькие костры, маленькие фейерверки, словно на рассвете совершалась крошечная церемония поклонения огню.
И лишь после садились за столы и, придвинув длинные серые гранки, выводили: «Цифры бьют тревогу», «Огонь по аллилуйщикам!», «Политику боязни сдать в архив»…
С утра тихо, спокойно, мертво… Еще молчат на столах высокие желтые телефонные аппараты с тяжелыми никелированными трубками, еще спят в своих постелях жалобщики, опровергатели, а врио ответственного редактора Б. Цветков еще в гостиничном номере пьет чай с казинахом и только читает свою, кажущуюся ему теперь чужой газету.
И слышен мерный, передаваемый стенами, полом дрожащий ход типографской машины, печатающей тираж, и еще легковесное хихиканье Эльвиры Мельхиоровны, технического секретаря, бывшей баронессы, вычищенной в Ленинграде по первой категории, а тут как спец принятой на работу, и раскладывающей на картах пасьянс, и гадающей о том, что́ будут нынче давать по дополнительному талону — воблу или кишмиш.
Рядом с Эльвирой Мельхиоровной, за одним столиком, как бы валетом, сидели Фомич и Стенич, два литправщика. Не были они ни братьями, ни близкими, ни дальними родственниками, но удивительно похожи были друг на друга. Оба худенькие, курчавые, как овечки, с кроткими, умными удлиненными глазками и тихими голосами, и даже почерк у обоих одинаковый — круглый, бисерный. С самого раннего утра, в зимней темноте, они в своем уголке тихо и прилежно скребли перьями, выправляя рабкоровские заметки, которые грудой лежали на столе с регистрационными сопроводиловками.
Лишь иногда они отрывались и о чем-то шепотом советовались, показывая друг другу заметки.
Когда звонил телефон, кто-нибудь из них осторожно поднимал трубку и говорил:
— Никто еще не пришел, позвоните позже, нет, нет, я не уполномочен разговаривать, — и так же осторожно клал трубку на рычаг.
С Фомичом и Стеничем очень сдружился Кобчик, бывший матрос, грандиозный человек в необычайно широком брезентовом плаще, с маленьким кожаным картузиком, который просто казался пуговицей на его толстой макушке.
— Здорово, брательники! — входя в комнату, говорил Кобчик и каменной десницей пожимал руки Фомичу и Стеничу.
— Ай! — каждый раз говорил Фомич. — Вы меня вывели из строя!
— Ай! — повторял Стенич.
Кобчик садился за стол и левой рукой (он был левша) с лиловой наколкой «Не забуду мать родную!» крупным, резким, ломаным почерком быстро писал одну за другой маленькие, железные заметки и ставил над ними всегда артиллерийские заголовки: «Огонь по оппортунистической недооценке лошади!» или «Прямой наводкой по саботажникам и перерожденцам!»
И пока Фомич и Стенич правили эти заметки своим круглым, бисерным почерком, словно вышивая по тюлю, Кобчик стоял над ними. А когда Кобчик уходил, Фомич и Стенич, тихо посоветовавшись, зачеркивали его заголовки, и там, где было «Картечью по недооценке строительства подсобных помещений!», деликатным почерком выводили: «Безотрадная судьба свиней и кроликов». На следующий день Кобчик, громыхая сапогами, приходил в комнату, и бушевал, и грозился, а потом внезапно куда-то исчезал и уже появлялся умильный и повторял: «Безотрадная судьба свиней и кроликов», и плакал.
В клетушке, которая называлась «Литбанда», над железной доской сидел Коля Плавильщиков, самодеятельный художник, восторженный юнец в юнгштурмовке с портупеей, и острым сапожным ножом, загнутым как ятаган, вырезал на мягком коричневом линолеуме клише.
Коля Плавильщиков приехал из таежной глубинки Горной Шории и ничего в своей жизни, кроме тайги, не видел, и теперь доменные печи, заводские трубы и «дерики» — высокие стрельчатые краны, которые он вырезал на линолеуме, — похожи были на кедры, мощные, ветвистые, подпирающие небо в могучих дымовых тучах, и индустриальные пейзажи напоминали бурю в тайге.
Здесь же сочинял баллады Адам Вихрь, редакционный пиит, в кубанке с голубым верхом и в длинных до бедра сапогах, голенища которых были по-ухарски загнуты.
В чуланчике же, для пущей темноты еще оклеенном черной бумагой, под красным фонарем, в оранжевом волшебном свете колдовал, купая в белых ванночках свежие, мокрые, медленно проявляющиеся снимки, Яша Хват, король фоторепортажа.
С утра до вечера Яша Хват, зимой в летном шлеме и собачьих унтах, летом в баске и оранжевых крагах, с холодной трубкой в зубах, носился по стройплощадке и снимал, снимал, снимал.
Сжав трубку в зубах, командовал:
— Веселее, оптимистичнее! Вот так. Снимаю. Блеск! Мерси! — и уносился дальше.
— А ну, расступитесь, — приказывал он горновым, — станьте влево, станьте вправо. Держите лопату, как знамя. Дайте романтику социалистического строительства.
Яша Хват садился на корточки, сгибался трапецией, ложился на спину и поднимал вверх руки с аппаратом, продолжая командовать:
— Пожмите друг другу руку. Дайте улыбку. Снимаю. Блеск! С комприветом!
И, глядя на его дерзкую, властную железную фигурку в кожаной курточке с молниями, представлялось, что все, что тут происходит, все это только для того, чтобы Яша Хват сфотографировал; просто ставится большой спектакль с яркими выпусками чугуна, бенгальским фейерверком искр, статистами в широкополых войлочных шляпах и дымящихся асбестовых ботинках. И действительно, когда Яша Хват, отщелкав свое, прикрывал объектив крышечкой и, сказав своим придурковатым писклявым голоском «мерси», убегал, яркие опереточные статисты превращались в обыкновенных горновых, которые в адской жаре открывали тяжелые заслонки на желобах и выпускали чугун.
В самом конце редакционного коридора, где уже густо пахло типографской краской, в уютной комнатке с раскаленной буржуйкой сидел без пиджака, в жилете, с серой бабочкой в крапинку, Ричард Эдуардович, корректор, и в ожидании гранок читал и иногда даже декламировал Горация по-латыни.
И в звучные, мерные, как колокольный бой, строфы врывался беспорядочный храп еще с ночи пьяного метранпажа Ванькина.
Ванькин, по кличке Дунькин, — был толстячок, на коротких, кривых ножках, с большой лохматой головой и круглым, веселым, всегда розовым от выпивки лицом, на котором выделялся крупный, будто гримированный, шишковатый нос.
И пить Дунькин любил почему-то из чайника. Маленький фарфоровый чайничек с необходимым содержимым всегда был припрятан в черном шкафчике под таллером, и время от времени Дунькин нагибался, доставал чайничек, и, сидя на корточках, делал из него пару длинных глотков, и, утершись рукавом своего синего халата, продолжал действовать шилом, вытаскивая одни буквы и вставляя вместо них другие.
Этот фарфоровый чайничек так пропах, так пропитался самогоном, что, если содержимого его не хватало на все дежурство, Дунькин доливал из бачка кипяченой воды и, как ни в чем не бывало, пил и все равно получал удовольствие. И в это время от него так несло сивухой, что у корректора Ричарда Эдуардовича кружилась голова, ему все мерещились ошибки, и он выпивал стекам крепкого чая, чтобы хоть как-то прийти в себя и не пропустить ошибки. Но Ванькин-Дунькин, как бы ни надувался из своего чайника, никогда не путал буквы, а с улыбкой сознания могущества своей профессии глядел из-за спины на значки корректора, на этот хлипкий, зыбкий труд, на эти «паньски вытребеньки», и говорил:
— Я пролетарский класс, я ошибки не сотворю.
А там уже и типография с темными кафедрами наборных касс, с двумя старыми, дрожащими, щелкающими, излучающими тепло линотипами, и длинная, сверкающая темным металлом станин плоскопечатная машина, мрачная и строгая днем и ярко-праздничная ночью, когда она печатает номер и лист за листом, словно ветром, кладет теплую, клейкую, вкусно и остро пахнущую краской газету.
2
Я и сейчас вижу раннее утро в дымной, накуренной родной клетушке производственного отдела, с единственным сизо замерзшим, мохнатым от налипшего снега окошком, с двумя тесно втиснутыми, впритык стоящими голыми столами и дребезжащим, хриплым, как бы простуженным телефоном с глянцевой, отшлифованной ладонями ручкой.
Явились первые рабкоры, прямо с завода, и от полушубков пахнет горячим коксом, ночной сменой, ночным ветром. Они медленно снимают и со стуком кладут на стол большие замерзшие рукавицы и, делая движение, словно собираются взяться за рычаг, вытаскивают откуда-то из глубоких карманов бумагу, сложенную вчетверо, медленно и солидно разворачивают лист, поперек заполненный крупными, дрожащими, словно штопором ввинченными в бумагу строчками, написанными карандашом, жирно, с нажимом.
И вот открылась дверь, и не вошел, а ворвался в черном кожаном костюме и кожаном шлеме толстый, краснолицый, похожий на грузчика, веснушчатый паренек в роговых очках и хриплым, ломающимся подростковым голосом закричал:
— Здорово, филистеры!
— Здорово, Скудра!
Быстрым движением Скудра скинул куртку и оказался в морской тельняшке, облепившей его крепкую, выгнутую бочонком грудь. Теперь он был еще крупнее, и сильнее, и добрее.
Он обошел всех и каждому пожал руку.
Мне кажется, что уже по рукопожатию можно определить человека. Один сует ручку мягкую, ватную, осторожную, стараясь ее тут же освободить, чтобы не раскусили его по дрожи, по потной ладони, не узнали, какую штучку он приготовил. И остается неприятное чувство подвоха. А другой подаст руку вот так, основательно, открыто, свободно и будто навечно.
Скудра родился в старом шахтерском поселке на Анжеро-Судженке, и дом их стоял прямо на угольном пласте, и из погреба таскали уголь для печки, и школа, в которой он учился, стояла на угольном пласте, и в футбол они играли кусками крепкого на излом угля, и лицо и руки его были темные, смуглые от въевшейся в них с детства угольной пыли.
Скудра кинул на стол свою кирзовую полевую сумку, достал из нее длинный, сшитый из газетных гранок блокнот, присел на уголок стола, закурил тоненькую папироску «Мотор» и вдруг начал писать огромными буквами, как бы выражая этим огромность своих чувств. Острые, яростные косые строчки завихрились спиралью сверху вниз. И в наиболее удачных местах Скудра даже урчал от удовольствия, подмигивал карандашу, написавшему это, бумаге, сохранившей это, комнате, в которой это случилось, и небу вдохновения, которое изливало на все чистый, синий, радостный свет.
У него был счастливый, изящный дар, слова он расставлял как-то иначе, чем все, отчего фраза казалась легкой, летящей, и слова неожиданные и, казалось, несоединимые, когда он их ставил рядом, сталкивал, вспыхивали вольтовой дугой и освещали все в новом свете, и читать было весело и прекрасно.
«Штурм или заседательский переполох?» — назвал он свою первую статью. И начало ее было такое: «Начался заседательский переполох, подкрашенный под массовую работу…»
Потом в клетушке машбюро Скудра рычал, диктуя свое сочинение, и у машинистки Липочки в наиболее драматические моменты перехватывало дыхание, и она, еле дыша, переспрашивала: «Неужели авария?» — и нежными, длинными, узкими розовыми пальчиками путала от волнения буквы. Скудра, правя статью, урчал, топал ногой и молча протягивал статью Липочке, и она закатывала глаза и перепечатывала страницу.
Но вот так хлопнула дверь, что зазвенели стекла, и в желтом кожаном реглане, в защитном картузе, быстро, молча, по-хозяйски, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь, а иногда по наитию и здороваясь, проходит по длинному коридору в свой кабинет врио ответственного редактора Б. Цветков, полнотелый, с младенчески свежим румяным лицом молодой человек.
Цветков принадлежал к тому типу деятелей, которые считают ниже своего положения вести черновую, практическую работу, уверенные, что стоит им только начать работать, как их тут же перестанут уважать и бояться. Они по опыту прекрасно знают и чувствуют, что работа превосходно пойдет и без них. Им же нужно все время быть в руководящей атмосфере, дышать разреженным воздухом высших сфер, чтобы быть в курсе, правильно вести вверенное им суденышко по бурному морю текущей жизни и еще подкручивать гайки, все время подкручивать гайки, не забывать подкручивать гайки.
Там в кабинете, за закрытой дверью, в тишине, не снимая пальто и фуражки, Цветков сядет, зачем-то посидит немного за столом, побарабанит пальцами, возьмется наконец за телефон и даже покрутит ручку, но передумает и, не сняв трубки, вдруг выскочит из кабинета, на ходу крикнув ответственному секретарю Капуцяну: «Я — в горком!»
Немо Ильич Капуцян с тонким золотым пенсне на сухом носике, вспыльчивый, суетный и категоричный, сидел в отдельном кабинетике, который весь занимал огромный, старинный, темного дуба, на медвежьих лапах, бог весть из какого помещичьего имения или казенного присутствия привезенный, настоящий губернаторский стол, с массой ящиков, и ящичков, и ячеек, и лазеек, забитых рукописями, гранками, оттисками, официальными бумагами, пригласительными билетами, штрафными квитанциями, визитными карточками (непонятно только было, как очутился тут этот стол, как протиснулся в эти узкие проемы. Или, может быть, его поставили, а потом уже построили барак, возвели стены, покрыли толевой крышей?).
Немо Ильич Капуцян появился в редакции в одно серое зимнее утро, и казалось, вспыхнула и лопнула и снова вспыхнула электрическая лампочка. Маленький, чернявый, в легком пальтишке, без шапки, с фанерным чемоданчиком, прямо с вокзала, еще пахнущий поездом, он влетел в редакцию, вспыльчивый и упорный, как шершень, и сразу комната наполнилась жужжанием.
Только он поставил в угол чемоданчик, размотал шарф и снял худенькое южное пальтишко, как сразу схватил газету и стал жадно разглядывать.
Газета была без единого яркого пятна, серая, сплошная, утрамбованная бледным, сбитым шрифтом. Казалось, кто-то выдумал ее в нелепом сне.
— Мазня! Казенщина! — категорично заявил приезжий человечек.
— А, привет, привет, если не ошибаюсь, товарищ Капуцян? — сказал появившийся в редакции Цветков. — Агитпроп мне уже звонил, предупредил. Видели нашу газету?
— Немного суховата, — осторожно сказал Капуцян.
— Газета партийная, — сообщил Цветков.
— Да, в сущности правильно, но все-таки, извините, суховата.
— А мы без затей, без легкомыслия, — сказал Цветков.
— Это хорошо, хорошо, — согласился Капуцян, — но живая струя не помешает.
— Ну что ж, подкинешь идею, только спасибо скажем, — сказал Цветков и, хлопнув дверью, ушел в кабинет.
— Материалы сегодняшнего номера ко мне! — приказал Капуцян.
Вернули из типографии статьи, все огромные, напечатанные сплошной стеной, без единого абзаца, как каменные глыбы, как слоны.
Немо Ильич Капуцян сел за стол, стал читать, хмыкать, стонать, потом вынул из кармана массивный, плоский плотничий карандаш и стал черкать и черкать, а оставшееся, как ножом, шинковал на абзацы. И на глазах происходило чудо — нудная, тягостная, сплошная, как шинельное сукно, статья «Большевистской перестройкой выкорчевать болезненные явления», разрубленная на короткие и ультракороткие, почти телеграфные абзацы, наивно запестрела, казалось, звала к себе, и хотелось ее читать.
В левом верхнем углу Капуцян надписывал шрифт, разнообразя корпусом, или боргесом, или петитом, а наиболее важное курсивом, да еще в рамке и с отступом. Он зачеркивал все заголовки и, на миг задумавшись, ставил новые, звонкие, неожиданные, то гневные, то какие-то загадочные: «Конвейер огнеупора опасно болен», «Директивы правительства в кармане счетовода».
Тем временем завпартотделом Рыбась, увидев свою расшинкованную на абзацы статью «К декаднику партгруппоргов», закричал:
— Это не партийная статья, это «облако в штанах», — и побежал жаловаться Цветкову.
Но Цветков неожиданно сказал:
— Правильно. Идейно.
А Капуцян тем временем спрашивал:
— Есть в редакции клише?
— Есть, только очень старые.
И технический секретарь Эльвира Мельхиоровна волоком притащила из кладовой деревянный ящик, уже в паутине, со старыми, стершимися от длительного употребления дежурными колодками, которые «Прессклише» рассылало по всем районным газетам, от Уэлена на севере до Джульфы на юге. Капуцян стирал с них пыль и, вглядываясь в обратные изображения и угадывая, что это такое, отбирал те, которые подходили ко всем праздникам и кампаниям, ко всем материалам, положительным и отрицательным, зимой и летом, весной и осенью. Теперь Капуцян достал красный карандаш и стал резко, уверенно чертить макет номера.
За стеной Фомич и Стенич пили чай с халвой и сушками. Слышно было, как они между собой гадали и даже заспорили, что будут давать по кондитерским талонам — пастилу или мятные подушечки. Напившись чаю, еще красные, потные, они, не входя в комнату, стояли у порога и глазели, как Капуцян чертит макет, рассовывая клише направо и налево, на одной полосе выдерживая симметрию, на другой решительно нарушая ее и верстая лестничкой.
— Ой, ступенькой не пойдет! — вздрогнул Фомич.
— Гладко надо, без фокусов, — посоветовал Стенич.
И они оба застеснялись.
Когда Капуцян принес макет метранпажу и Дунькин его рассмотрел, он вдруг оживился, потер руки, открыл шкафчик, достал чайничек и, поглядывая на Капуцяна, от полноты чувств хватил из носика чайника несколько длинных, волнистых глотков, засмеялся, вновь потер руки, завязал тесемки на своем синем халате, закатал рукава и стал бешено набирать заголовки и верстать, покрикивая на линотиписток, на корректора, на выпускающего и на самого директора типографии. Теперь он, круглый, шарообразный, на коротких ножках, полупьяный, восторженный, под ярким светом верстальной лампы чувствовал себя царем и богом.
Клише он ставил со стуком, со смаком, как игроки в «козла» ударяют костью, любовался им, потом отрезал линейкой, окружал набором и брался за новое клише, с удовольствием составляя рисунок небывалой еще тут газеты.
Утром Цветкову с большим опозданием принесли в кабинет свежий, яркий, еще теплый от типографской машины оттиск номера, с крупными, сверстанными лестницей «шапками» и многочисленными, рябившими в глазах клише. Он принял его на руки с хозяйским достоинством, строгостью и недовольством и стал рассматривать. Он еще не знал, как к этому отнестись — хорошо это или плохо, правильно или неправильно, взглянул на Капуцяна, потом на завпартотделом Рыбася и сказал:
— Пестровато.
Немо Ильич молчал, ожидая, что он еще скажет.
— «Таймс»! — фыркнул Рыбась.
— Видел ты «Таймс», — рассердился Цветков. — Так, так, — похмыкал он. — А не слишком ли смело, весело?
— И чудесно, — сказал Немо Ильич.
— Не веселостью берем, а идеей, — сказал Цветков, и лицо его стало надменным.
— А веселость идее не мешает.
— Ну, это ты уже загнул, — сказал Цветков немного обиженно, — чем картинки, дал бы тексту воспитательного.
Однако он велел отпечатать на хорошей бумаге экземпляр. И когда принесли этот блестящий, удивительный, чуть не на мелованной бумаге спецэкземпляр, он тут же пошел с ним в горком, и меня поразило, что он нес его на вытянутых руках, как поднос.
Что он там в горкоме делал и что говорил, оправдывался, или жаловался, или, может, хвастал, никто не знал. Но он вернулся оттуда азартным, вызвал всех в кабинет и сказал:
— Так держать!
И когда Немо Ильич уходил из кабинета, сообщил ему:
— Смело надо идеи подавать. Понятно?
С тех пор Немо Ильич стал единовластным хозяином.
Никто не знал, когда Немо Ильич приходит в редакцию, когда садится за этот свой знаменитый стол, широкий, как прокатный стан. Просто всегда, днем и ночью, как бы рано вы ни явились, еще в сумерках утра, когда барак гудит и содрогается от хода печатающей тираж типографской машины, открываешь дверь, а Немо Ильич уже здесь. Похоже, он не уходил со вчерашнего дня или ночевал тут же, в центральном ящике своего великанского стола.
Спит ли он вообще? Очень трудно представить себе его спящим спокойно в постели, на подушке, с закрытыми глазами.
Немо Ильич Капуцян весь как на шарнирах и делает одновременно уйму разной работы.
— Не вкручивайте мне шарики! — кричит кому-то Немо Ильич в телефон. — Заходи, заходи, — говорит он тут же заглянувшей кучерявой голове, — слушаю. — И одновременно начинает суетливо и поспешно выдвигать и задвигать многочисленные ящики и ящички, роется в сотовых ячейках и ячеечках, отыскивая и раскапывая, что ему понадобилось именно сейчас, сию минуту, сию секунду, и, наконец, найдя нужную бумагу: — Так, так, — говорит он кучерявой голове, — понятно, дальше что было? — И, слушая, начинает приводить в порядок стол, разбирая бумаги: одни прячет в папку, другие откладывает в сторону, третьи комкает и с молчаливой яростью выбрасывает в корзину, на некоторых бумагах останавливает внимание и, вооружившись красным карандашом, читает, хмыкает, странно поднимает брови, удивленно подергивает плечами, словно разыгрывая с бумагой спектакль, какие-то слова подчеркивает, ставит сбоку жирный, страшный, как острый нож, восклицательный знак или удивленный, как лицо человеческое, вопрос, вдруг подхохатывает, вдруг какое-то слово не только подчеркивает, но еще особо, в знак специального удивления, раздражения, берет в скобки или даже в кружок, вздыхает, стонет и, уже совсем отчаявшись, пишет сбоку: «Ха-ха!» или «Сократ с Замоскворечья!» и, в конце концов, не выдержав, размашисто: «А дулю не хотите?» И чтобы не было никаких сомнений, аккуратно пририсовывает крошечную, миниатюрную фигу и вздыхает, как от тяжелой работы. И тут оказывается, он прекрасно слышал и понял, что ему рассказывала кучерявая голова, и он приказывает:
— Очерк! Триста строк, без я, без мы и без пейзажей. Понятно?
— Понятно, Немо Ильич.
— Лады. Пришли Пушкина.
И одновременно он уже крутит ручку телефонного аппарата: «Барышня, дайте РКИ»… Глаза в это же время разглядывают кальку нового здания типографии, а рука уже тянется к знаменитому плоскому плотничьему карандашу, и Немо Ильич, разговаривая по телефону с РКИ, чертит макет, варьируя и так, и этак, и лестницей, и лабиринтом, распихивая по углам многочисленные новенькие клише, шарахая звонкие, броские «шапки».
— Вы меня звали, Немо Ильич? — на пороге поэт Адам Вихрь.
И, не отрываясь от разметки, даже не глядя на редакционного Пушкина, драматически протягивая какой-то материал:
— Зарифмуй «Одиссею». Сто сорок строк под Маяковского. — И смотрит на часы: — Срок — два часа.
И, когда тот уходит, вдогонку кричит:
— Пришли там мне Айвазовского!
Но редакционный Айвазовский — Коля Плавильщиков, сам уже тут…
А кроме того, что Немо Ильич Капуцян читал все материалы, правил, сокращал, перекраивал и подписывал в набор статьи и заметки, чертил макет и верстал газету, он еще вез всю хозяйственную, административную, финансовую и дипломатическую канитель. Он принимал посетителей, жалобщиков, опровергателей, очковтирателей, убеждал, уговаривал, стыдил, приглашал садиться и выгонял вон. Он давал объяснения горкому, завкому, партийной Контрольной Комиссии, и РКИ, и прокурору…
Он ругался с жилотделом и отделом снабжения, выцарапывая ордера, выбивая пропуска в столовую и закрытый распределитель, талоны на сапоги, белье, полушубки, на рис и яблоки. И если кто зашибал лишнее или ему изменяла жена, Капуцян занимался и этим, воспитывал и мирил.
Когда все уходили домой, Капуцян перебирался в типографию, ругался с метранпажем, с корректором, с наборщиками, а когда полосы сдавали на машину, он дожидался первого оттиска и снова все читал сначала; с визгом вылавливая «блох», и, наконец, расписывался и исчезал. Но этого уже никто не видел, потому что в это время все уже спали, досматривая третий или даже пятый сон.
Ах, Немо Ильич, Немо Ильич, есть ли у вас семья, жена, дети, есть ли дом, родственники, воспоминания, сны, желания, мечты? Или в голове вертятся только одни шапки, бабашки, клише?..
Людей этих могло родить, вызвать к жизни только то время, беззаветное, шалое, бессемейное, бесквартирное, время энтузиазма, самопожертвования.
ЗЮЗИН
Давным-давно, еще в тридцатых годах, в одном из госпароходств служил по финансовому обеспечению Зюзин Валентин Валентинович, тихий, деликатный человек.
Когда по служебному коридору проходил начальник отдела, об этом извещали кряканье и тяжелые шаги; когда пробегала машинистка Ядвига, то казалось, кто-то ударял в кастаньеты; когда появлялся толстый ревизор, слышалась одышка, будто раздували мехи, а когда проходил Валентин Валентинович Зюзин — ничего не было слышно, лишь его длинная безмолвная тень скользила по стенам.
Он был большой аккуратист, наш милый Валентин Валентинович. Все папочки, все карандаши, резинки, линеечки были на столе разложены в таком строгом порядке, что напоминали правильную мертвую геометрическую фигуру. И видно было, что это доставляет Зюзину неизъяснимое удовольствие — взять карандашик или резинку и аккуратно и неторопливо, скрупулезно сделать нужное дело и положить на точно заранее определенное, установленное для них место, откуда они уже не могли самостоятельно никуда двинуться.
И если кто-либо из коллег или посетителей, разговаривая с Зюзиным, по рассеянности что-то сдвинет на его служебном столе, Зюзин был очень недоволен, и хотя ничего не говорил, но выражал это хмыканьем и часто даже прекращением беседы.
Ну, а что касается кнопочек, скрепочек или канцелярских булавок, — они были плотно закрыты в коробках, как в сейфах, и мне всегда казалось, что если бы кто-нибудь без разрешения Зюзина прикоснулся к одной из них, то в пароходстве завыла бы сигнальная сирена.
У Зюзина был удивительно красивый почерк — он словно не писал, а рисовал. Я думаю, такой почерк может выработаться только тогда, когда вся тысяча граммов мозгового вещества не отвлечена ни на что постороннее, а занята только выведением букв. И когда Зюзин этими своими круглыми элегантными буквами написал свое первое любовное письмецо, его избранница была больше всего покорена нечеловеческой красотой почерка и показывала его подругам, как «штучку» искусства. И подружки в один голос говорили, что обыкновенная серая пешка не могла так написать, что от письма веет потрясающей интеллигентностью и изнеженностью.
Зюзин очень хотел семейного счастья, но девицы бросали его одна за другой, и он никак не мог свить себе, как он об этом мечтал, уютного, стабильного гнезда.
В чем была причина его жениховских крахов, никто из сослуживцев не понимал, да и он был обескуражен всем происходящим и ничего объяснить не мог.
Был Зюзин высокий, стройный брюнет, в роскошной морской фуражке с золотым крабом, с усиками щеточкой, совсем не провинциальными, а как бы даже столичными, не пил, не курил, хотя всегда посасывал короткую капитанскую трубочку, которая скорее попахивала шипром, чем табаком, очень вежливый, даже до приторности вежливый, и к тому же занимал приличную должность — инспектора с перспективой роста.
А вот поди же ты, какая-то пигалица с загородной Каменки, из маленького деревянного мещанского домика с жестяным петухом над крылечком, отвергала его ухаживания, и после утихомиривалась, и довольна была в браке с завхозом сапожной артели, пьяницей и курильщиком, который бил ее, а она ни гугу.
Уставали ли они от его аккуратизма, съедал ли он их своей мелочной пунктуальностью, доводил ли до изнеможения деликатностью, — ничего плохого они не могли о нем сказать, даже, наоборот, отзывались: «очень самостоятельный», только ненавидели люто и спокойно говорить о нем не могли.
Наконец все-таки Зюзин женился на очень молодой и очень красивой девице, потому что Зюзин хотя и был службист и аккуратист, но не был сухарем и понимал толк в женской красоте.
Она была в его вкусе — блондинка, полная, и играла на фортепиано и пела, и мамаша ее тоже была музыкантшей. Зюзин очень понравился мамаше. Она была из старых барынь, и ей Валентин Валентинович пришелся по вкусу своей старомодной учтивостью, положительностью, твердой ставкой и солидным рассуждением о жизни.
— Это не современный выдвиженец, — говорила мама, — ты будешь за ним как за каменной советской стеной.
И Зюзин переселился в рай.
— Когда она предъявила свои формы во всей откровенности, я ахнул! — вспоминал он после первые дни семейного счастья.
И он хотел, чтобы дома, в семейной жизни, все было как нельзя лучше — так же аккуратно и неподвижно, как на его служебном столе в финансовом отделе. Но молодая жена, хотя и была из провинции, очевидно, не хотела вести существования резинки или скрепки, и когда Зюзин уходил на собрание или на политзанятия и оставлял ее дома кошечкой на диване за чтением интересного романа, он, придя с собрания или политзанятия, вдруг не обнаруживал ее на том самом месте и искал ее по всему городу, по танцплощадкам или на бульваре, что не всегда приводило к желательным результатам. И Зюзин никогда не устраивал скандала, а терпеливо и убедительно доказывал ей, что так делать нельзя, непорядочно.
— Женщина есть связующее начало, — говорил Валентин Валентинович.
— Ты бы лучше закричал на меня, — говорила жена из провинции, — ну, затопай ногами, ударь меня!
Но Зюзин никогда этого не делал и даже представить себе не мог, что поднимет на женщину руку.
Валентин Валентинович ее очень любил, страдал и прощал все, даже то, что она однажды ушла от него к командиру торпедного катера, у которого были красивые бакенбарды. Но она скоро почувствовала, что она у торпедиста не за каменной стеной, и вернулась к Валентину Валентиновичу, и Зюзин ее принял и все простил.
Он только иногда говорил ей: «Ты — «вещь в себе», а мы вещь в себе отвергаем, решительно отвергаем, — кантовская философия, — слыхала?» Но жена это пропускала мимо ушей и поступала по-своему.
Война застала их далеко, в Измаиле, и Зюзин, как моряк пограничного порта, не успел даже попрощаться с женой, которую спешная эвакуация забросила куда-то далеко, в дальний, глухой угол Средней Азии.
Он долго не знал, где она, а она не знала, где он, и, наверно, не очень стремилась к этому, а когда Зюзин наконец разыскал ее, то стал посылать ей посылки и с ними длинные письма, написанные круглым, нечеловечески красивым, каллиграфическим почерком, которого не нарушили и не испортили ни внезапность нападения, ни бомбежки, ни окружения. И на эти письма она отвечала короткими, легкими надушенными записочками, в которых просила присылать американскую тушенку, потому что голодает.
Она не писала, что уже два раза была замужем. Первый раз за капитаном из запасного полка, но его скоро забрали на фронт, и он пропал без вести — на самом деле или только для нее, второй раз — за пронырливым деятелем пуговичной артели промкооперации — «пуговичным королем», и теперь не только не чувствовала голода и разрухи войны, но ей казалось, что на всем свете масленица. Но «пуговичный король» вскоре оказался за решеткой, и она не стала носить ему передачу, а стала усиленно просить в письмах Валентина Валентиновича присылать ей свиную тушенку не в маленьких, а в больших пятикилограммовых банках.
Когда война закончилась и Зюзин после продолжительной службы в оккупационной администрации вернулся на родину, жена его была замужем в третий раз — за кавалерийским полковником, который вывез из Саксонии целый замок с мебелью, коврами, картинами и хрусталем. Но именно за это полковника разжаловали и отдали под суд трибунала, и он ей стал не нужен.
Она срочно разыскала Валентина Валентиновича и попыталась к нему вернуться. Но на этот раз Зюзин, хотя и продолжал ее любить, не принял ее и, несмотря на то что слезы раздирали его мягкое, деликатное сердце, глухим и твердым голосом сказал:
— На вечной мерзлоте отношений здание любви не выстроишь.
Зюзин стал жить один и по своей брезгливости не питался в столовых, а сам себе, в крохотной коммунальной комнатке, готовил на плитке обед, бывало, и сам стирал, и потом долго и тщательно гладил, и аккуратно ставил заплатки на рубашки и кальсоны, не говоря уже, что собственноручно пришивал пуговицы, на что был большой мастер, и однажды пришитая им пуговица во веки веков не отрывалась.
Бывшая жена его, тем временем поселившаяся в Одессе на берегу моря и чудесным образом сохранившая красоту и свежесть молодости, официально и неофициально выходила замуж поочередно за трубача государственной оперы, директора гастрономического магазина и, наконец, за вольного художника, которому она позировала натурщицей. Но и в первом, и во втором, и в третьем случае она не порывала письменной связи с Валентином Валентиновичем, который иногда летом приезжал на Черное море в отпуск и приходил к ней в гости, а она знакомила его со своим очередным мужем, и он с ним играл в преферанс.
Зюзин к этому времени занимал видную интендантскую должность и у себя в ведомстве считался финансовым тузом. По его убеждению, финансы сами по себе были важнее пароходов, капитанов, рейсов, фрахта, брутто-нетто, потому что без финансов никто не может прожить и дня, а без пароходов и даже моря может, и приходящих к нему по делам он обычно встречал одной и той же фразой: «Что, финансы поют романсы?»
И вот в это самое цветущее время Зюзин неожиданно вышел в отставку. Случились какие-то недоразумения с начальством, какие-то служебные неприятности, в которых он никак не был виноват, и он был списан.
Зюзин никогда не был лентяем, он всю жизнь служил и делал все с усердием и вкусом педанта, всегда был на людях, в аппарате, среди служебных дел и передряг, и вдруг одиночество, безлюдье, тишина оглушили его, сделали каким-то растерянным, жалким.
Длинный, худой, изнуренный бездельем, обидой, ревностью, он похож был на тень Дон Кихота, слоняющегося по улицам города. Открывшийся вдруг неслужебный мир, чужой, звучный, пестрый, живущий не по уставу, пугал его необходимостью непривычно самостоятельных решений, и он это все откладывал и откладывал, пока наконец не почувствовал крайнюю необходимость чем-нибудь заняться, все равно чем, но загрузить извилины мозга.
Жизнь его теперь состояла из бесчисленного количества пустяков. То Валентин Валентинович сортирует свой коллекционный фарфор — дрезденский и севрский, тонкий, прозрачный, звонкий, розовый на свет, и на узком листе четким, административно-учетным почерком все аккуратно перепишет — чашечки, блюдечки, кофейники, селедочницы, и от одного этого — удовольствие на лице, будто напился и наелся и гостей угостил. То вдруг затеет каталогизацию своих книг, а у него была подписка и на Жюля Верна, и на Пруса, и на Шолом-Алейхема, и на Павленко, и на Большую советскую энциклопедию, и на Малую медицинскую энциклопедию; нарежет карточек, на каждую книгу особую карточку с номером, и еще на книгу наклейку с этим номером. То начнет проверку личного архива — справок, характеристик, наградных документов, — все это у него давно собрано, тщательно, бумажка к бумажке, не раз проверено и умиленно прочитано, но не мешает еще раз обозреть свой жизненный и служебный путь. Тут же у него и скоросшивателем прошитые заявления, рапорты и жалобы, отправленные им по начальству и в разные учреждения, с которыми ему приходилось иметь дело. И это тоже любовно перечитывается, кое-что сейчас карандашиком подчеркивается, как самое важное и замечательное, удачно выраженное, хотя никакого значения ни для одного человека в мире, в том числе и для него, автора, это уже не имеет.
И, задумавшись над бумагами, он мечтает, как бы он сейчас, с его опытом и сноровкой, сформулировал бы это еще точнее и убедительнее.
У Зюзина появилась потребность переписки, и он приобрел машинку «Беби», научился печатать и уже не писал, а печатал письма — в журнал «Крокодил», в Центральное телевидение, в газету «Известия», в Комитет по делам кинематографии и даже в Комитет по религиозным культам, где излагал всякие свои соображения и наметки и иногда даже жалобы на кинокартины и книги, которые ему не понравились. И бумаги эти получались очень строгими, официальными, по виду даже чрезвычайными, и обязательно печатались в двух экземплярах — один оставлялся для архива. И на каждое письмо его отвечали. Он завел папку, куда аккуратно подшивал письма и ответы на них, и если ответы эти почему-либо не удовлетворяли, он писал новые письма и вскоре получал и на них ответ. Так что по некоторым вопросам завелась даже настоящая переписка, — и это давало Зюзину ощущение деятельности и пользы его жизни на земле.
На все лето Зюзин уезжал на юг, питался фруктами и приезжал в Москву загорелый, свежий, полный приятных замыслов и далеко идущих планов. Постепенно от избытка сил он почувствовал необходимость в какой-то внеличной, общественной жизни и обратился в районный комитет, чтобы его использовали на лекционной работе, и на своей машинке «Беби» напечатал подробнейший конспект «Защита от атомного нападения».
Вскоре он стал читать лекции. Ему поручали мелкие организации: контору Вторчермета, ЖЭКи, артель слепых. И все было хорошо, прекрасно, и он снова чувствовал себя не только лично, но и общественно счастливым и полезным.
Зюзину было уже за пятьдесят, но непрожитая, неизрасходованная жизнь давала себя знать, — он проявлял пылкость чувств и все чаще заглядывался на молодых девушек. Пройдет этакая модерная девчушка на каблучках, вся как струнка, а Валентин Валентинович скажет:
— Какая конфигурация форм! Я бы, кажется, каждую клеточку ее организма целовал.
Иногда, когда ему было особенно тоскливо, он решался на самостоятельное знакомство. Вдруг тихо подойдет сзади, длинный, костистый, носатый, и так вежливо, над самым ухом, скажет: «Душечка, зачем ходить пешком, ведь можно использовать транспорт!»
Девушка дико посмотрит и метнется в сторону. Если же сдержит первый испуг и что-то такое пробормочет: «Ах, я устала от троллейбусов» или: «Приятно пройтись пешком», Зюзин откашляется и приступит к разговору, и всегда сначала выяснит общественное положение:
— Душечка, а какого профиля у вас работа? Вы с каким уклоном работаете?
И уже только после скажет:
— Я замечаю, в ваших глазах лучится принципиальность.
А та посмотрит на его длину, на его худобу, на его нос и хихикнет. Но он это относил не за свой счет и говорил: «Если я понравлюсь, я понравлюсь таким, какой есть, со всеми своими родимыми пятнами».
Если же все-таки знакомство состоялось и он приглашал девушку в кафе, то был очень обходителен и выражался утонченно.
— Выпейте, пожалуйста, углекислой воды, — говорил он, наливая нарзан.
В это время Зюзин даже был поэтом:
— У вас чудной формы губы, вам нужно платье из поцелуев…
А когда надо было расплачиваться, он из кошелька выуживал монетки, осторожно, словно золотую рыбку, и видно было, как дрожали его пальцы. И это очень не нравилось, и больше с ним не встречались, хотя он был симпатичный и гостеприимный.
Зюзин твердо решил снова жениться, и к нему даже ходили свахи. Он приобрел изящный, с золотым обрезом блокнотик с таким же изящным, золотым миниатюрным карандашиком, которым четко записывал таинственные телефоны и какие-то загородные адреса. Он долго присматривался, выбирал. Но у одной были «серые глаза, как суконки», другая «с точки зрения античной красоты — сплошной брак». Он даже съездил на Урал «разыскивать свою точку», как он выразился про жизненную судьбу. Там жила одна генеральская вдова, и на вдову он произвел колоссальное впечатление своей учтивостью и высоким стилем-выражений. «Нож берет интеллигентно. «Разрешите, говорит, я обезоружу вас ножом».
Когда она перечислила все кусты черной смородины и красной смородины и перешла к розам и фиалкам, сердце его не выдержало, он весь порозовел и стал ей целовать пальчики. Так что семейное счастье, казалось, он скоро приобретет.
Но Зюзин приехал расстроенный.
— Бюст у нее правильный, оформление хорошее, два мешка денег, но мелковзрывчатая, и вообще не нравится мне ее извилистый подход к жизни.
Однажды на юге он серьезно влюбился.
— У нее море такта, — рассказывал он. — И потом лицо — воплощение человеческой добродетельности, и главное ее достоинство — она средней упитанности.
Но, потерпев и на этот раз фиаско, он наконец решил и сказал: «Наступил такой возраст, что разум сдерживает порывы».
С тех пор Валентин Валентинович ушел весь в себя. У него даже появилась философия: «Я уже время это выжил, когда жил для общества. Теперь мне осталось жить для себя, доставлять себе удовольствия, как могу».
И вся его деятельность, пунктуальность, систематичность обратились исключительно на самообслуживание. В золотом блокноте появились адреса и телефоны магазинов, имена и отчества директоров и завсекции, сроки завоза товаров.
Зюзин был записан во все очереди — и на машину «Москвич», и на холодильник «Саратов», и на телевизор «Рекорд», и на чешский мебельный гарнитур. Он даже состоял в некоторых комиссиях, в тех текучих, внезапно возникающих и так же внезапно распадающихся комиссиях, держащих в своих руках списки, эти замызганные, писанные и переписанные писарским умелым почерком списки, по которым на рассвете где-то в подворотне делают перекличку, и в тишине и гулкости там как солдаты отвечают: «Есть!»
Зюзин был занят целый день, кому-то звонил, кто-то ему звонил, ссорился, пробивал, уславливался, — машина вертелась, была приличная видимость деятельности, заботы, нагрузки.
И вот в его комнатушке появился холодильник. И он его буквально забил, чтобы зря не пустовал, не пропадал холод ни на одной полочке, ни в одной сеточке, и любил открывать дверцу холодильника и смотреть, любоваться в искрящемся свете обилием бутылок, сыра, копченостей. Это вызвало в нем недостающее ему чувство благополучия и постоянства семейной квартирной жизни.
Потом появилась угловая чешская тахта, «хельга», немецкие бра, торшер на три цвета, синтетический ковер.
Зюзин приобрел пылесос «Ракету» и забавлялся им, как ребенок. Особенно радовал его пульверизатор.
— Пылесос, понимаешь, на одном конце засасывает, из другого выходит ветер, туда вставляется пульверизатор, ну прямо прекрасно как работать, а то клопов, черных тараканов развелось — жуть!
Увлечения его менялись. Он по очереди занимался фотографией, магнитофонными записями и даже коллекционированием карандашей. Он задумал заняться теннисом, приобрел даже ракетку, мячи и теннисные туфли, но дальше этого не пошло. Начал как-то посещать футбольные матчи и бросил. Стал ходить в гости на пульку, но и это его не завлекло. Одно время он активно приобщался к искусству, ходил в оперетту, в цирк и иногда даже в Большой театр и потом рассказывал: «Смотрел «Фауст» Гуно. Триумф! Настроение! Одна Вальпургиева ночь чего стоит!» Но скоро устал от яркого зрелища, от впечатлений, от чужих приключений и стал больше сидеть дома и занялся кулинарией. Она захватила его целиком. Он купил поваренную книгу и, все время заглядывая в нее, готовил блюда, и было очень интересно — получится или не получится, и день проходил. В это время он говорил: «О-о! Сегодня я сотворил заливное из потрохов!» Или: «Давно я мечтал фаршированные помидоры сделать». Или сообщал: «Вчера сварганил цыпленка-«табака». Трудно было моему утомленному организму, но все время я пил «Ессентуки» двадцатый номер и справился».
Зюзин вдруг стал полнеть, у него появилась одышка, и всем знакомым он говорил: «Я теперь живу своим методом, только здоровье берегу, в своей жизни ставлю главную цель — как можно дольше прожить».
Но чем он больше берег здоровье, думал о продлении жизни, тем хуже себя чувствовал. По ночам он просыпался весь в поту и слышал пульс в висках, в затылке, в кончиках пальцев.
Постепенно он весь ушел в свой пульс, в свои колики, в свой страх и предчувствия и уже ни о чем не мог разговаривать, кроме как об анализах и болезнях. То ему казалось, у него астма, и он задыхался; то язва желудка, то тромбофлебит… Он стал читать медицинскую энциклопедию и с ужасом открыл у себя симптомы почти всех болезней.
Теперь в золоченой записной книжечке, вместо адресов и телефонов свах, директоров магазинов и зрелищ, появились адреса и телефоны поликлиник и разных врачей — аллопатов, и гомеопатов, и тибетской медицины, и даже знахарей, адреса всяких частнопрактикующих китайцев, делающих на дому иглоукалывание. И в иглоукалывание, как в лечение от всех болезней, он почему-то особенно поверил, но держал в резерве на случай, если уже ничего не поможет. Все-таки оставалась какая-то надежда, иллюзия — обратиться к китайцу и сразу выздороветь.
И вот как раз в это время пришел день получения «Москвича». Машина сияла малиновой краской и была похожа на выезд короля Сауда. И оттого, что он хозяин ее и она молчаливо подвластна ему, стоит ему только захотеть — и она взревет и помчится со всей мощью своих сорока лошадиных сил по дороге, он почувствовал к ней необычайную благодарность и нежность и силу в себе, будто это ему придали дополнительные сорок лошадиных сил.
Он не решился вести ее сам от магазина, а нанял для этого механика, который повел ее по улицам через всю Москву до Юго-Запада, где он получил недавно однокомнатную квартиру в панельном доме. И он сидел рядом с шофером и все время чувствовал — в гуле мотора, в вибрации, в сверкании стекла и стали, что это его, его, а когда стал накрапывать дождь и заработали дворники, это словно его сердце крыльями летящей птицы расходилось и сходилось, расходилось и сходилось.
Машина стояла теперь в металлическом рифленом гараже, и он ее берег, жалел, как живое существо, вытирал тряпочкой и замшей до блеска. Но не ездил. Он боялся аварий, всяких непредвиденных случаев, боялся ее запачкать, забрызгать, стереть краску. И если ему нужно было куда-то срочно, он вызывал такси.
Теперь Зюзин только ожидал весны. Зимой он купил спиннинг, купил немецкие удочки, крючки, поплавки, всякие баночки для червей, для наживки, даже резиновые сапоги, — все самое лучшее, первосортное, импортное, и все говорил о рыбной ловле, все строил планы, подумывал о байдарке, как поместит ее на крышу машины и поедет на озеро, в лес, мечтал о жизни в шалаше на берегу Селигера, о костре, как будет варить уху.
Но пришла весна и прошла, а потом прошло и лето, наступила осень, а Зюзин как-то не собрался на заре на рыбалку.
И внезапно однажды ночью, проснувшись, Зюзин ни с того ни с сего стал печатать на своей маленькой новенькой «Беби» завещание и расписал все свое имущество. Клавесин с желтыми клавишами он отписывал молодой девушке-учительнице, с которой только один раз встречался; телевизор и спиннинг — своему фронтовому другу; автомобиль завещал продать и заказать памятник на могилу. Были расписаны магнитофон, ковры, посуда, одежда — со скрупулезностью и памятью удивительной, — очевидно, болезнь совсем, ни чуточки, ни наичуточки не затронула тот сектор мозга, где хранилась копилка его вещей, очевидно, это были самые сильные, самые жизнеспособные клетки, рассчитанные на мафусаилов век.
А бывшая жена его не дремала, она была где-то там начеку, связанная многими незримыми нитями с его жизнью, с его стоящей в гараже новенькой машиной, с его холодильником «Саратов», с его магнитофоном «Днепр», с его машинкой «Беби». Знала каким-то образом о его самочувствии, болезнях, намерениях. Она не писала ему писем, не приезжала, не подавала признаков жизни. Но интерес ее к нему доносился как бы телеволнами, и он ненавидел ее. Зная, что она ждет его смерти, он говорил: «Она теперь самый ненавистный мне человек».
Но в хирургическом изоляторе, в один из темных осенних дней, чувствуя приближение неминуемого, он не выдержал и написал открытку своей бывшей жене: «Евгения, прощай! Наверно, больше не увидимся».
И когда буквально через день, словно открытка доставлена была ракетой, она неожиданно появилась в палате и запахло ее духами, он сразу понял свой просчет. И может, впервые в жизни зло встретил ее и сказал:
— Явилась, как ворон на падаль.
Теперь она не уходила отсюда ни днем ни ночью, она дежурила у его постели, плакала, размазывая слезы по лицу, и целовала его подушку, оставляя на ней следы помады.
Однажды, когда Зюзину стало очень плохо, она исчезла, и, когда он ночью очнулся, он не нашел под подушкой ключей от квартиры, привязанных цепочкой к кровати. Но ему уже было все равно — в эту ночь открывали для него другие Врата.
А та, которая была некогда его женой, всю ночь, не смыкая глаз, рылась среди его вещей, искала ценности. Она была уверена, что этот аккуратист, скрупулезник, педант, службист, этот скупой рыцарь, прослуживший столько лет финансистом в оккупационных войсках, не тративший никогда ни одной лишней копейки, обязательно имеет бриллианты, золото, жемчуга. Она рылась в ящиках, чемоданах, выкидывала старые-старые безделушки, какие-то фарфоровые слоники, статуэтки, удивительные разноцветные перья тропических птиц, коллекции старинных монет, коллекции карандашей и говорила: «Идиот! Идиот!..» Потом полетели фотографии, водопад фотографий каких-то чужеземных соборов, вокзалов, памятников, каких-то парков, прибрежных скал, чужих людей, которые казались ей ненавистными и уродливыми. Затем пошли конспекты, аккуратно сложенные стопочками, написанные мелким, мельчайшим, невыносимо правильным круглым почерком, подробнейшие конспекты по «Вопросам языкознания» и «Экономическим проблемам социализма».
На самом дне лежали аккуратно перевязанные бечевкой старые желтые письма, ее письма, тщательно и по годам подобранные, начиная с самых первых, когда он уехал с Сахалина на юг, в Сочи, и она ему писала трогательные, надушенные духами записочки. Но и это не тронуло ее сердце. Только мельком взглянув, она бросила их на пол: «Идиот!»
Вдруг она нашла магнитофонные ленты и стала их прослушивать — может быть, найдет того злодея, у которого бриллианты. Всю ночь пели песенки, шумели гости, будто издалека доносились пьяные выкрики, хихиканье, и учтивый, трезвый голос Зюзина. И она все повторяла: «Идиот! Идиот!»
Когда Зюзин умер, она предъявила старое свидетельство о браке. Никто не опротестовал его, потому что ни родных, ни друзей, ни близких у Зюзина не было, и завещание его было объявлено недействительным.
В крематории, в том высоком и чистом храмовом зале, среди стеклянных шкафов с урнами, собрались восемь человек, в том числе и она, и когда капитан дальнего плавания, председатель комиссии по похоронам, спросил, будет ли кто прощаться, все посмотрели на нее, но она не двинулась с места. Единственный его фронтовой друг хотел выйти, но удержался, чтобы не подумали, что он хочет получить наследство.
Так и ушел Зюзин за зеленую шторку вниз, в геенну огненную, ни с кем не простившись.
Недавно друг его осведомился об урне. Ее не было. Против фамилии Зюзин стояла птичка, значит, урну взял кто-то. Наверное, это она взяла ее и выкинула в окно поезда «Москва — Одесса» на полном ходу.
ЗАПИСКИ МНИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
До какой жизни я дошел! Я, любитель сквозняков, открыватель всех дверей и окон, — я устраиваю скандалы из-за открытой форточки.
А началось это…
— Три горчичника и терпение! Только не срывайте, терпите до последнего!
— А моя бабушка лечилась песком. Раскалите на сковородке песок…
— Собачку заимейте, приложите шерстью к больному месту, она дает электричество, или кошку, тоже очень хорошее электричество.
— А я говорю, не обращайте внимания — и все пройдет.
Но я обратил внимание.
Мне ставили горчичники и банки, меня гладили утюгом, электрическим утюгом и духовым, и однажды даже ультразвуковым, меня кусали пчелы, и сосали пиявки, я натирался муравьиным спиртом, и змеиным ядом, и тигровой мазью.
Через неделю я уже не мог сидеть. Табуретка казалась мне орудием гестапо.
— Идите в институт курортологии, там как рукой снимут, — сказал мне человек, который все знает.
В институтском коридоре, в разных странных, почти скульптурных позах, стояли, сидели или полусидели на самом кончике стула больные. Пристроился и я.
— Что у вас? — спросил сосед, не поворачивая шеи, а как-то странно глядя прямо перед собой на портрет академика Павлова.
Я сказал, что, наверное, радикулит, а он представился, будто называя фамилию:
— Люмбаго!
Именно от него я узнал о том, что одна и та же болезнь имеет три наименования, в зависимости от того, кто ею болен. Если министр, председатель правления или первый секретарь, она называется нежно, красиво, почти любовно, по-иностранному — люмбаго; если директор магазина, заведующий парикмахерской, председатель месткома, то это уже радикулит, а если бухгалтер, кассир, вахтер — просто ишиас.
Высказав все это, он захохотал своим неподвижным, разящим смехом, и вместе с ним захохотали стоящие, сидящие, полусидящие и полулежащие. Это было посвящение в орден радикулитчиков.
— Последний индейский способ знаете? — спросил мой Люмбаго.
— Не индейский, а египетский, — заспорил кто-то.
— Ха, египетский! У меня дядя ездил в Америку и взял рецепт у вождя индейцев лично.
— А я говорю, египетский, ОАРовский, его привезла жена моего товарища с Асуанской плотины.
— Ну, все равно, индейский, египетский, — согласился Люмбаго, — а крапива. Нажгите молодой крапивой.
— Что вы, все перепутали, крапива — это от почек, и ее не прикладывают, а настаивают и пьют, а от радикулита перец.
— В пакетиках? — спросили.
— Ни в коем случае, — завопил знаток, — что вы, бифштекс или люля-кебаб? Вы ели перец?
— Лечо?
— Да нет, перец, ну, который узенький продают на базарах грузины. Вы покупаете десять стручков, разрезаете их вдоль, — только не поперек, а вдоль, — и опускаете в царскую водку. Смотрите, обязательно в царскую водку. Есть у вас товарищ с сильной рукой? Он кладет перец на ладонь и с силой втирает вам в поясницу, пока от перца не остаются лохмотья.
— Дикари! Папуасы! — закричал человек с лицом бога Вулкана. — Попробуйте токи Бернара. Вы входите согнутым, более того, вас вносят на носилках, в вас пускают ток, и вы на глазах разгибаетесь. Вы вошли Навуходоносором, а вышли Тер-Ованесяном.
Послушать, каждый из них профессор, академик, непонятно было только, зачем, при их знаниях, все они сюда приплелись, терпеливо ждали в очереди, ковыляя в кабинет и выходя оттуда возбужденные, с радостно-верящими лицами, крепко сжимая в руке длинную узкую бумажку — рецепт.
Вошел и я.
Тихий старый невропатолог в спокойной белой шапочке постучал своим никелированным молоточком и сказал:
— В постельку, в постельку, пирамидончик, грелочку, боржомчик с молочком.
Я вежливо покивал головой. Этакий древний старичок Гиппократ. Он не знал, что я уже лечился на высшем уровне.
Хорошо, люди надоумили пойти к модному доктору, стороннику новейших мето́д.
Мужественный молодой хирург, с закатанными как у мясника рукавами, с глазами герольда, объявляющего победу, пощупал темными от йода железными пальцами и закричал:
— Гимнастика, кольца, турник! Еще закалка на холоде.
— Но болит, доктор.
— Ну и что же? — бодро сказал новатор.
Я вышел из кабинета и сразу отправился в открытый бассейн «Москва».
И был день. И было утро. Я проснулся. Я был связан, перевязан, намертво спеленат. У меня не было отдельно рук, ног, шеи, головы, плеч, я будто был слит, сварен из одного куска тяжелого чугуна и мог поворачиваться только весь, сразу всем туловищем, вправо или влево.
Я сполз с кровати на ковер и перед зеркалом некоторое время давал сам себе сеанс нанайской борьбы, пока не стал на ноги.
— А гомеопатию пробовали? — спросил меня человек, который всю жизнь лечится.
— Но это ведь не наука.
— Знаете что, в Одессе однажды у вокзала я ждал такси. Подходит частник, эдакий мазурик с самогонной рожей, и предлагает свою машину. «Но вы ведь не такси», — сказал я. «А вам что, шашечки нужны или ехать?» Вот и я вам говорю: вам что нужно, наука или здоровье?
И я пошел к гомеопату.
Все они отчего-то живут в захолустных переулках, в тихих заросших одуванчиками дворах, вдали от шума магистралей. И атмосфера тут патриархальная, в коридоре пахнет бабушкиным сундуком, нафталином, со старинных портретов сурово и строго глядит прошлый век, за стеклом книжных шкафов золотые корешки фолиантов в кожаных переплетах, мощная палисандровая дверь в кабинет.
И шли в эту заповедную дверь сердечники, язвенники, с печенью и почками, шли с повышенным и пониженным давлением, с фурункулами и карбункулами, с зубной и душевной болью, шли беспрерывно, как пулеметная лента, и не успевала дверь закрыться, впустив больного, как она распахивалась и он вылетал оттуда, ошарашенный и радостный, с рецептом в зубах.
Я ожидал увидеть в глубоком кожаном кресле, среди старинных колдовских книг, колб и глобусов маленького, засушенного, искривленного, как гусеница, волшебника, но за изящным с перламутровыми инкрустациями столиком, опустив короткие, тяжелые ножки на медвежью шкуру, сидел толстый, веселый, с пунцовыми щеками и перманентом молодой человек. В левой руке он держал наготове вечное перо последней модели «Пилот».
— Что? — спросил он.
— Вот в прошлом месяце я искупался…
— Поясница?
— Поясница.
— Ясно!
Кудесник придвинул длинный, узкий листик, секунду подумал и левой рукой, одним росчерком со свистом заполнил листок иероглифами.
— От первого до пятого по семь крупинок через каждые три часа. Через месяц придете.
Месяц прошел как во сне. Не было восхода и захода солнца, завтрака, обеда, ужина, а были дни, расчерченные, разрезанные на отрезки по три часа. И где бы эта минута ни застала меня: на улице, в подземном переходе, на собрании, в бане, в гостях, — я отсчитывал семь крупинок. Однажды эта роковая минута наступила во время речи на собрании, я и тут ухитрился нащупать в кармане пакетик, отсчитал культурненько и пересчитал семь крупинок и, изловчившись, в ответ на реплику проговорив: «Ах, вот как…» — кинул в рот семь крупинок и запил водой из графина докладчика.
Пожалуйста, смейтесь надо мной, говорите — самовнушение, психотерапия или «ничего у вас не было», но мне стало легче, вот после каждых семи крупинок все легче и легче, боль, как бы та́я, уходила в землю.
Пришел я через месяц, и опять молниеносный росчерк на длинной, узкой полоске, сразу заполнившейся иероглифами.
— От первого до пятого.
— Доктор, вы меня, наверное, не помните. Я уже принимал от первого до пятого.
— Тогда от пятого до первого, — рассеянно и, как мне показалось, неуверенно, сказал маэстро.
А теперь ругайте меня, позорьте, говорите — гипноз, психоз, но в ту же секунду будто что-то сломалось во мне, и боль вошла в поясницу и в ногу до самой пятки.
Я давно слышал про китайское иглоукалывание, которое вылечивало от насморка, поноса, заикания, от всех болезней.
И вот я иду длинным, широким, светлым коридором, читая по обе стороны на дверях чудесные таблички: «Кислород», «Сероводород», «Парафин» и наконец страшный адрес — «Иглотерапия».
За столом сидело хрупкое, фарфоровое миловидное существо с продолговатыми, как виноградины, зелеными глазами, а узкая, похожая на камеру пыток комната была сплошь задрапирована анатомическими богатырями со стройными сухожилиями, с разветвленными, как корневая система, нервами.
Глядя на них, я почувствовал, будто с меня содрали кожу.
— Ложитесь.
— Знаете, доктор, может, сегодня консультацию, а начнем завтра?
— Ложитесь! — и я услышал звон серебряных игл.
— А это больно, доктор?
— Нет, — сказала она и всадила иглу. Я успел только сказать «ай!».
— Когда дойду до нерва, почувствуете, будто удар электрического тока, — пообещала она, поворачивая иглу и будто открывая меня штопором. — Чувствуете? чувствуете?
— Может, во мне нет этого нерва? — предположил я.
— Вы не волнуйтесь, это я должна волноваться. Чувствуете? чувствуете?
— Я не могу вам сказать, дорогой доктор, как мне неприятно, что нет нерва.
И вдруг будто хватили томагавком, удар тока подкинул меня вверх, чуть ли не до люстры: «Я тут! Я тут, черт побери, твой джинн!»
Я лежал с иглой в нерве, жалея и пестуя его, когда вошел еще один больной.
— Это что же, новый метод лечения?
— Новый, три тысячи лет.
— Ай-я-яй! — весело сказал новенький.
«Сейчас дадут тебе ай-я-яй», — подумал я.
Я слышал, как она всадила ему иглу.
— Больно?
— А, пустяки, — бодро ответил он.
— Чувствуете? чувствуете?
— Есть контакт! — весело крикнул он.
— Молодец, — похвалила зеленоглазая. — У вас все по методике.
А у меня каждый день повторялось: «Чувствуете? чувствуете?» И мне было стыдно, очень стыдно, что я такой бесчувственный, из ряда вон выходящий.
И самое ужасное, я постепенно уже перестал замечать ее виноградные глаза, нежный голубой овал лица, теперь я видел только длинные звенящие иглы в ее длинных сильных пальцах.
И отныне, как только легко, робко прикасалась игла, я жалобно говорил: «Ой!» И когда она начинала: «Чувствуете? чувствуете?», я лихо кричал: «Контакт!»
— Вот видите, — радовалась она, — все правильно.
Так я и прошел весь курс, двадцать четыре сеанса.
И что?
Ничего! Получил путевку в санаторий «Кавказская жемчужина».
На крыльце сидели два курортника, и один из них, с лицом как бычий пузырь, жаловался:
— Я вконец распустил свой жировой обмен.
А второй, желтый, похожий на огурец, оставленный на семена, говорил:
— А я человек здоровый, если не считать повышенного давления, аритмии и еще геморроя.
— Новенький! На медосмотр, — позвали меня.
Комната ожидания была похожа на биржу — лихорадочные глаза, напряженные лица и страстный шепот:
— У вас сколько?
— Сто шестьдесят на девяносто.
— Ребенок, у меня двести.
— Я встаю, голова разламывается.
— Разламывается! Я встаю, голову не могу поднять, как гиря!
— Он не может голову поднять! Я глаз не могу поднять!
— А изжога наблюдается?
— Изжога? Пожар!!
— А кислотность?
— Катастрофа! Растворяю абрикосовые косточки!
— А у меня ноль.
— Э, не меняюсь.
Я присел на диванчик у двери врача.
— Скажите, а сколько у вас холестерина? — обратился ко мне сосед.
— Не знаю.
Он внимательно посмотрел на меня.
— А протромбинчик?
Я пожал плечами:
— А что это такое?
Мне показалось, что он даже отшатнулся от меня.
— Следующий!
За столами сидели два врача в белых халатах и быстро что-то писали на печатных бланках. Перед ними стояли голые санаторники и терпеливо ждали, пока те перестанут писать. А в углу двое быстро и как-то виновато и лихорадочно одевались, словно спасенные после кораблекрушения.
Я сказал: «Здравствуйте!», и одевавшиеся взглянули на меня затравленно, а оголенные тоскливо, и врачи, не поднимая глаз от бумаг, одновременно буркнули:
— Раздевайтесь!
Дело шло конвейером.
И я стал стесненно, будто на улице, раздеваться.
— Маргарита Нарциссовна, этот будет к вам!
Молоденькая, светловолосая, миловидная женщина даже не взглянула на меня, — она читала мою санаторную карту и хмыкала.
— Приехал радикулит лечить, — сообщил я.
— Что́ лечить, мы сами увидим. Венерическими болезнями болели?
— Н-нет.
— То-то, — сказала она. — Какими болезнями болели?
— Только дифтерит, но давно, еще в детстве, — сказал я, будто обкрадывая ее.
— Ничего, последствия могут обнаружиться и через тридцать лет.
Тут она впервые взглянула на меня, и я увидел ее голубые непорочные глаза. Она пощупала пульс.
— Учащенный.
И я не знал, хорошо это или плохо, и только смущенно улыбнулся.
— Дышите! Глубже! Повернитесь! Да повернитесь же! Что вы, не знаете, как поворачиваться? Дышите! Не дышите! Выше плечи, ниже грудь!
Я почувствовал себя вдруг на призывной комиссии.
Она надела на мою руку манжетку, нажала на красную резиновую грушу — раз, другой, третий — и так напряженно стала вглядываться в стрелки, что я стал смотреть на нее и мне стало не по себе.
— Да у вас гипертония! Что, вы не знаете?
— Может быть, скрытая, — оправдывался я.
— Голова болит?
— Как будто нет. — Я прислушался к голове.
— Вот тут, в затылке, ноет? По утрам?
— Сегодня утром в поезде, кажется, что-то было, — вспомнил я, — всю ночь играли в кинг.
— Покажите язык! О, у вас еще и печенка больная.
— Никогда не знал.
— Мало ли что вы не знали. Отрыжка есть?
— Как будто нет.
— Что значит «как будто»? Желудочный сок проверяли?
— Нет, доктор, уж желудок у меня луженый.
— Я в этом не уверена.
И тут я почувствовал сильный укол в левую лопатку. Я жалобно сказал:
— Сердце!..
— Неудивительно, — сказала она.
— Но это первый раз в жизни.
— Всегда бывает первый раз.
И я почувствовал второй укол, еще сильнее первого.
— Сколько вам лет? — спросила она и посмотрела в карту. — Ну что же, нормально, так и должно быть.
— Как так должно быть?
— А вы хотите, чтобы ничего не болело, — обидчиво сказала она, — так не бывает, где-то цепь прерывается.
— Так что же, теперь все время будет эта боль?
— Это неизвестно, может — да, а может — нет.
Я вышел с кучей синих талончиков — на кардиограмму, на энцефалограмму, на внутричерепное давление, на желудочный сок, на сахар, на гемоглобин, — маленьких грозных синих талончиков. Радикулит исчез, растворился, он был где-то далеко-далеко, в воспоминаниях. Какое это было хорошее время, светлое, прекрасное. А я был недоволен. Почему мы всегда недовольны?
На улице цвели магнолии, шелестели платаны, вдали, в болоте, нежно, страстно кричали лягушки. Но я уже ничего не видел и не слышал. Я прислушивался к себе, я чувствовал, как кружится голова, и я будто плавал под водой, я слышал, как странно стучало в ребра сердце, как вздувались мехами легкие, как почки перекликались: «Ау, ты еще здесь?» — «Я еще здесь!» И где-то в левом боку скрипела и плакала селезенка. Боже мой!
У главного корпуса я жадно прочитал плакат: «Противосклеротическая диета». И ужаснулся: оказывается, содержание холестерина в мозгах телячьих 1810, а в молоке только 13. Ах, господи, зачем я ел мозги телячьи? Неужели никто не мог мне раньше сказать, предупредить, а вот чем это все кончается.
И когда на ночь в вестибюле поставили графин с «бехтеревкой» и графин с настоем александрийского листа, я почувствовал себя вдруг ужасно старым, и больным, и несчастным.
Рано утром, когда я проснулся, было лазурное небо, кричали чайки, цвели иудины деревья, все спешили на завтрак. Вот из столовой вышел офицер, распуская пояс, и весело крикнул другому: «А я уже отстрелялся!» И тот пошел в столовую, как на полигон.
А я стою в лаборатории среди колб и жую черствую булочку и потом долго сижу в уголочке, и у меня чувство, что сейчас поведут на смертную казнь. Наконец меня зовут, и сестра берет резиновую кишку, и она шатается, колеблется перед моим лицом, как поднявшая голову змея. Я глотаю, давлюсь и проклинаю все на свете.
И наконец, я получаю маленький, крошечный синий листок анализа с таинственными, непонятными, страшными в своей краткости и загадочности цифрами.
— Сестра, это хорошо или плохо?
— Доктор скажет. — Мне показалось, она жалостно взглянула на меня, и я захлебнулся в темной грозной волне страха, тревоги и предчувствия.
Я шел мимо продавцов пемзы, адамова корня, кукурузы, слив, мимо шумного, веселого курортного табора.
На открытой террасе кафе за столиками сидели старые и молодые и жрали без разбора и люля-кебаб, и шашлык, и цыплят-«табака» и запивали «Цинандали», и они казались мне храбрыми, как львы.
Я глядел на прыгающих, на плавающих. Неужели я был таким? Чего же мне еще недоставало? Отчего я всегда ворчал? О, если это только пройдет, никогда, никогда не буду ворчать.
Я глядел на лежащих под солнцем курортников, на бронзовые тела, веселые, беспечные, хитрые рожи, которые рассказывали друг другу анекдоты: «У одной жены муж уехал в командировку…» И мне хотелось плакать.
Теперь я поднимался в гору медленно, я останавливался, отдыхал и шел дальше тихо, осторожно, будто в груди у меня было хрустальное сердце и я боялся его разбить.
Вот этот платан, огромный, разросшийся, как многоквартирный дом, эти кипарисы, высокие, тонкие, вечные, как минареты, всегда на воле, всегда под небом, под солнцем, луной и звездами! Они тоже болеют? А тигры, лисы, леопарды, — и у них есть пульс, давление, инфаркт миокарда? Ничего они этого не знают и живут и идут лесными просеками, тропами джунглей на водопой и делают смертельные прыжки.
Ах, зачем, зачем я приехал сюда и все это узнал!
И вдруг я вынул из кармана все синие бумажки. Еще час назад они казались мне ценными и обязательными, как мобилизационный листок, а теперь я их рвал, и рвал, и ветер нес их, и они были как мотыльки.
Я вошел в ресторан «Абхазия». Я заказал бифштекс с кровью и темное пиво «Бархатное» и попросил свежую горчицу. Только сегодня утром это звучало, как «серная кислота», как «цианистый калий». Темное пиво пенилось. Я стал его пить, и оно казалось мне шампанским, казалось коньяком, спиртом 90 градусов. Я разрезал бифштекс с кровью, я обмазал его горчицей, я поперчил его, я даже облил его уксусом. Это было как пожар, как извержение вулкана, и я ел кусок за куском, и казалось, я сейчас взорвусь. Я заказал кофе по-турецки, двойной, нет, тройной, — это была гуща, это была турецкая, египетская, эфиопская ночь, и я выпил чашечку, и еще одну чашечку. Убивать себя так убивать!
А потом я пошел и лег на солнце, и весь день купался, и нырял, и плавал брассом и баттерфляем.
С тех пор прошло пять лет. Больше я на курорты не ездил.
А радикулит? Он при мне.
Самый главный медицинский академик, тот, в венчике седых волос, который сам болен радикулитом, однажды по секрету, шепотом, сказал мне:
— От радикулита не умирают, но с радикулитом умирают.
И я примирился. И когда в серии «Жизнь замечательных людей» я читаю в биографии великого человека, что у него болела поясница, он мне ближе родственника, он мне как молочный брат.
А знаете ли, что радикулитом болели цари, тираны, кардиналы, папы? Недавно, говорят, по египетским мумиям установили, что радикулитом болели еще фараоны. И когда начинается приступ, я готов объяснить радикулитом войны и крушение империй и царств.
АЛЬБИНОС
В очень давние времена мы с ним учились в Единой трудовой школе по Дальтон-плану. Тогда сочинения писались коллективом, и пока все по очереди, брызгая пером, пыхтели над тетрадью, он на улице гонял мяч, или стрелял из рогатки, или дразнил сумасшедшую старуху, но на уроке он первый подымал руку и вслух, с выражением читал коллективное сочинение, и учительница говорила: «Молодец! Прекрасная дикция».
Это был толстый, белобрысый, вздорный мальчик в спортивных гольфах и заграничном берете с пушистым алым помпоном, единственный сын модного дантиста с Крещатика, и уже в те тощие годы он имел фотоаппарат «зеркалку» и ружье «монте-кристо», по каждому поводу говорил: «Люкс! Экстра!», и его звали «Мара-француз». При опытах качественного анализа ему подливали серную кислоту, часто давали под микитки, а он терпел и не жаловался, только, вставая с земли и отряхивая пыль, говорил: «Эх вы, эмпирики». Ему добавляли и за это. А он, вторично отряхиваясь, бубнил: «Ну и что, нумизматики». Любое редкое или непонятное слово в его устах превращалось в ругательное.
Так как он имел обыкновение сидеть в каждом классе по два года, я скоро потерял его из вида.
Мельком я встретил его уже только во время войны. Еще у костелов Львова стояли в засаде камуфлированные танки, по улицам брели зеленые колонны пленных немцев, то здесь, то там рвались, мины замедленного действия, когда в сумбуре только что освобожденного города из роскошного подъезда гостиницы «Жорж» меня окликнули:
— Эй ты, эклектик!
Навстречу шла румяная, плотная, счастливая физиономия с пышными бронзовыми бровями. Мара-француз был в новенькой стальной, с сиреневым генеральским отливом, габардиновой гимнастерке, без погон, в новых синих диагоналевых галифе и сапогах-бутылочках, не военных, но имеющих прямое отношение к войне на высшем интендантском уровне.
Он тоскливо скользнул по моей выгоревшей пилотке, кирзовым сапогам и кобуре из кожзаменителя и спросил:
— Ну, как тонус? На уровне или не на уровне?
— А ты что тут делаешь?
— Я по тылу, — сказал он загадочно.
— Что это значит, по тылу?
Он рассмеялся и потом серьезным шепотом спросил:
— Слушай, я только на «У-2» прилетел из Киева, не знаешь, где тут можно копнуть сахарин?
— Какой сахарин, зачем сахарин?
Он с жалостью на меня посмотрел.
— Марат! Марат! — закричали из длинной, черной машины «Форд-8».
— Алла верды, спаси нас господи, — он помахал мне ручкой, сел рядом с, шофером в кожаном картузе и укатил.
И вот однажды, уже в глубоко мирную пору, горящая путевка загнала меня на минеральные воды.
— Симтоматичный молодой человек! — услышал я на санаторской террасе знакомый голос.
Передо мной стоял толстощекий мужчина с широко открытыми, жадными ноздрями.
— Неужели, Марат, ты болен?
— Модус вивенди! Жру канцелярские кнопки в майонезе! — И он так громогласно захохотал, что воробьи, клевавшие крошки, прыснули во все стороны.
— А что это у тебя? — вдруг спросил он.
— Копирка.
У него засверкали глаза.
— А зачем тебе копирка?
— Сочиняю.
— Схвачено! — сказал он. — Из головы или из фантазии?
— По-разному.
— И сколько за это платят?
— Тысячу рублей за страницу, — вдруг сказал я.
— Не свисти, — и взглянул искоса: «А может, правда?»
Марат оказался в санатории знаменитостью и наполнял его размеренный скучный распорядок веселой паникой.
Еще издали слышно было, как он приближается, в те времена он, согласно моде, носил грандиозные башмаки на толстой подошве чуть ли не из автомобильных шин, и казалось, что для них нужен был специальный гараж. Приходил он в столовую настежь раскрыв двери, помпезный, с трубкой в зубах и в ситцевом с цветочками картузике «Олег Попов», отчего его круглое, веселое, выбеленное природой лицо шалуна было еще декоративнее, и, расставив ноги, провозглашал:
— С категорическим приветом!
Оглядев шведский стол с морковкой и сельдереем, он каждый раз говорил:
— Надеюсь, сегодня не викторианский день, а колоритная пища.
Вслед за этим, стуча башмаками, он проходил к своему месту у мраморной колонны и, расставив локти и уже не обращая ни на кого внимания, накидывался на еду, будто подбрасывал лопатами уголь в топку, и за столом раздавалось чавканье, урчанье и хруст костей, как в львиной клетке.
Он жрал купленную им на рынке копчушку, закусывая, как яблоками, цельными помидорами, потом запивал стаканом казенной сметаны, съедал сковородку мяса с жареной картошкой и луком и затем кричал официантке:
— Оля, восемьсот восемьдесят восемь стаканов чая!
После завтрака Марат звонил куда-то. «Беспокоит Христофоров. Скажите, пожалуйста, в ваших палестинах нет Люминарского?», или: «Там Швачкин не просматривается?» И еще он обязательно у какой-то Мариэтты Омаровны, как о погоде, осведомлялся: «У шефа сегодня глаз прищурен или не прищурен?»
Согласно диплома, Марат был инженер-экономист, но никогда еще не работал по специальности, а служил секретарем у лауреатов («После войны я был заместителем академика Иоффе и певицы Барсовой»), потом носил мореходную фуражку («У меня вестибулярный аппарат в порядке»), теперь он числился по рекламе в Министерстве торговли.
— Жизнь человека — есть игра, — объяснял он.
Так как он часто уезжал по каким-то делам и в эти дни не обедал, а иногда и не завтракал и все это ему сохраняли, то на столе выстраивалась целая батарея кушаний, прикрытых тарелками, и он по приезде, не сортируя, уничтожал все подряд.
— Приятного аппетита, — говорили ему.
— Адекватно, — отвечал Марат, не поднимая головы и не отвлекаясь от еды.
Наконец он насыщался, запивал вперемежку многочисленными стаканами кефира, киселя и компота из сухофруктов и, расставив локти, принимался спичкой тыкать в зубы.
— Перекинемся? — предлагал он, встряхивая шахматную доску.
Расставляли фигуры.
— А Годунов меж тем приемлет меры, — урчал Марат, хищно, как продуктовый склад, оглядывая шахматную доску.
Он жал ручной эспандер, перебрасывая его из руки в руку и тренируя ладонь.
— А вот мы хлопнем ладью, — сообщал он, берясь за фигуру, — нет, не торопитесь, многоуважаемый шкаф, она вот куда хочет. Каково теперь вашему ферзю? Непроходимец!
Иногда шли в биллиардную, брали с собой пиво, ставили бутылки у стены. Марат долго ходил вдоль бортов, намеливая кий и прицеливаясь, и наконец заказывал: «Бью в Марью Ивановну» или «Бью в Тулуз Ла-трек!» и ударял с такой силой, что шары искрились или перелетали через борт и, стукаясь об стену, отбивали штукатурку.
— Вот в таком ключе! — говорил Марат.
Он как никто другой подходил к санаторной жизни своей полнокровной корпуленцией, бессмысленной жизнерадостностью, высокопарной бездеятельностью своей натуры.
Кварц он называл «Под солнцем Мексики», стоя под горячим душем, распевал: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех» — и ранним утром ходил по коридору, стучал во все комнаты: «Аврора! Вставайте на поток взвешивания».
Переимчив он был, как скворец, и любознателен удивительно.
В санаторий приехала интеллигентная седая дама — доктор биологических наук. Через час Марат отвел меня в сторону и шепотом, давясь от смеха, рассказал, что черепахи сходятся на трое суток.
— Вот это да! Сизифов труд. — Он никак не мог успокоиться.
Вечером он сообщил мне, что предельный возраст льва 35 лет.
— Лев не идиот, знает, когда скинуть копытца. А одноклеточные организмы — кошмар! — практически бессмертны, разделились на две клетки, и уже новый паспорт. Прохиндеи!
Он рассуждал о животном царстве, как о публичном доме.
— Побаловалась день, и хватит, — сказал он про бабочку. — Безнадежка!
В санатории обитал в то время крохотный, допотопный старичок эллинист, с седыми, до плеч, волосами и жадно постными глазами, устремленными в неведомую даль.
Марат пытался выжать из него сведения, какие отношения были у Венеры с Марсом: они жили или не жили?
Утром после зарядки с гантелями он кричал с балкона на балкон:
— По сравнению с вами, профессор, я варвар.
— Молодой человек, вам до варварства тысяча лет.
— Десять с фунтиком! — отвечал Марат. — Снимаю перед вами шляпу, профессор, вы виртуоз. А скажите, какие отношения были у Фаэтона с Юноной, они жили или не жили?
К концу срока Марат получил телеграмму: «Множество лет счастья тебе желаем Эдем земной и море наслаждений». Внизу от телеграфистки стояло: «Эдем, верно?»
Так узнали, что у Марата день рождения. Вечером на санаторском микро-автобусе поехали в знаменитый кавказский ресторан, тем более что в столовой висело объявление: «Сегодня ужина не будет, будет лекция о долголетии».
По дороге наскочили на автомобильную аварию — в кювете лежал «Москвичок», хозяин растерянно стоял на шоссе. Шофер хотел остановиться, но Марат авторитетно сказал:
— Меня не интересуют неудачники, я подсчитываю людей, которые преуспевают.
И автобус легко покатил дальше.
Мест, как обычно, в ресторане не было, но Марат куда-то исчез, и вскоре официанты стали под его руководством приносить соломенные стулья и устанавливать в саду под китайскими фонариками. Кто-то из пришедших ранее запротестовал. Марат сказал ему:
— Тише, тише, вы измеряли давление?
В это время прибежал метр, стал раскланиваться. Марат равнодушно протянул ему руку.
— Сделайте там шампанское и «табака».
Скоро целая делегация белых официантов во главе с черным метром стали приносить вулканические блюда «табака» в кратерах из зелени.
Поднялся пиршественный гам. Все потянулись чокаться с Маратом.
И, глядя на эту сияющую во главе стола роскошную, словно обесцвеченную в растворе физиономию, странно было слышать, что все его, как мальчика, окликали — Марат, и как-то даже забывалось, что это фамилия великого французского революционера.
Марат поднял бокал.
— За тех, кто в море, на вахте и гауптвахте!
Интеллектуальная девица, за которой он в последнее время красиво ухаживал и которой было немного стыдно за него, игриво сказала:
— Ах, боюсь, с меня будут снимать оттиски пальцев.
Шепотом ей разъяснили:
— С вас будут снимать оттиски е г о пальцев.
Много лет после этого я не видел Марата, и вдруг в метро кто-то рядом громко произнес:
— С категорическим приветом!
Из суетливой городской толпы отделился Марат. Был он в шубе с бобровым воротником, боярской шапке с бархатным лиловым верхом, какую носили академики, архиереи, лауреаты живописи и разбогатевшие молодые пробойные поэты, с толстой самшитовой палкой с серебряным набалдашником, придававшей ему особую вальяжность. Он оборовел, и шуба и шапка делали его еще толще и царственнее среди кепок и беретов.
— В вашем лице я приветствую ваши щеки, — сказал он придурковатым голосом.
— Как здоровье, Марат?
— Вскрытие покажет, — и он громко захохотал, рот его был набит золотом, как ломбард.
Ни о чем не спрашивая, Марат бесцеремонно вынул у меня изо рта трубку и прочитал на ней: «Главтабак».
— Как пишут в газетах — комментарии излишни, — сказал он. И показал свою массивную, благородно-коричневую, обугленную: — Бритиш! Дали боцману прокурить в кругосветке, слышишь, пахнет Сингапуром.
Он внимательно оглядел меня, пальто, шляпу, шарф, особенно мокасины.
— Суоми? — осведомился он.
— Нет, в ГУМе.
— В переходный период надо иметь своего портного, своего цирюльника, своего дантиста, — сказал Марат. — Между прочим, закройщик-еврей из Варшавы, Гидеон Михайлович, — могу презентовать. У меня двенадцать костюмов. А что? Я открываю шкаф и спрашиваю: «Костюмы, вы просите кушать? Нет? Висите!»
Марат поиграл ключиком зажигания.
— У тебя ка́ра все нет?
— Такси.
— Я вот выпил, оставил машину в гостях, — сообщил он.
Потом завистливо взглянул:
— Не женился?.. А я вот уже третьей парашют привязываю.
— Что так?
— В каждой семье бывают опусы, — отвлеченно сказал Марат. — Правда, парторг говорит: «Девку имеешь — имей! А семью цементируй». Философ… — Он засмеялся. — Живу пока на орбите, бокс оборудовал, зеркало, античное кресло, открыточки-люкс, принимаю свою солистку в авто, — Марат хохотнул. — Калорийная фигура. Мужу семьдесят пять лет, семьдесят пять, повторяю. И он умирает по ней. Умирает — не то слово, посылает хризантемы, шоколадные наборы. Моя любовь! Она красивая — это не то слово. Корифейка! Это явление! Моя болевая точка. — Лицо его затуманилось. — О, рассказать мою жизнь, это роман «тысяча и одна ночь» и «тайны парижских трущоб» Эжена Сю. Я прошел огонь и воду и медные трубы, медные трубы, между прочим, фигурально.
— А где ты сейчас работаешь?
— По музыкальной части, — небрежно ответил он. — Мельпомена. Слыхал? Но есть идея перейти в юридическую практику. С точки зрения мирового пульверизатора. Холодильник, между прочим, могу устроить — «Ока». Справку врачебную можешь сделать, что нужен холодильник для лекарства?
— Какого лекарства?
— Матка боска, ну ты вроде хворый.
— Кстати, это бывает.
— Тогда две справки. Схватываешь?
Прощаясь, он вдруг печально сказал:
— Это, между прочим, правильная наука — диалектика, все течет, все изменяется. Салют! Соединимся по бильдаппарату.
После этого Марат нанес мне визит. Звонок был, словно горит дом.
Только я открыл двери:
— А какие у вас потолки — два семьдесят? Паркет югославский?
И, еще не сняв пальто, в шапке прошел по комнатам, заглянул на кухню, открыл дверь в ванную:
— А плитку надо бы розовую или голубую, унитаз же изысканно — черный. Сориентировался? Главное, друг, декорум.
Через десять минут он уже принимал ванну, и слышно было, как он под шум воды мурлыкал: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы»…
Я пошел в гастроном, а когда вернулся, Марат, завернутый в мохнатую простыню, стоял на кухне у открытого холодильника и жадно пил молоко прямо из бутылки. У меня было ощущение, что это я пришел к нему в гости.
Закурив кубинскую сигару и пуская фигурно дым кольцами, Марат в моем халате и шлепанцах отправился осматривать книжные полки.
— Толстой, Гоголь, Салтыков-Щедрин, все классики. Наивно.
Мельком он взглянул на фотографию Чехова в 1900 году и заметил, что тот в новом хорошем костюме в полоску и сидит в плюшевом кресле.
— Жили, не жаловались.
Увидев альбом Ренуара, Марат возликовал.
— А, Ренуарчик? Крутые бабец, правда? Фламандская полнотелость, а?
Потом подошел к столу:
— Что на станке?
И, взглянув прямо мне в глаза, медленно произнес:
— Каждый врет на своем участке?
Потом, выпив и закусив, развалившись в кресле, он меня учил:
— Есть три ставки — хватай высшую! Есть три девки — валяй лучшую!
Теперь он меня мучил каждое утро, ровно в восемь трезвонил телефон.
— Ну как, стимулы есть? — бодро спрашивали из утренних пространств. — Ну, не буду мешать тебе работать, рубай!
Иногда он предлагал:
— Кооперируемся. Хрюкну в девятнадцать ноль-ноль по среднеевропейскому, устроим небольшой фестивальчик. А может, варфоломеевскую ночку?
В ответ на бормотанье он говорил:
— Хочешь быть моральнее других?
Но понемногу и Марат стал линять, появилась одышка, косолапость. Недавно при встрече еще издали закричал:
— Как пульс? Голова свинцовая? Вот тут, в затылке, давит, да? — допытывался он.
— Да вроде нет.
— А где же, в висках? Так это мигрень. — Он был разочарован, будто я его обманул. — Я больше не верю врачам. Я плюнул на врачей. Я дошел до Анохина, академика, он мне сказал: «Живите, как хотите, входите в свой стереотип жизни, уговорите себя, что у вас нет давления, и его не будет. Запрограммируйте себе давление сами!» Теперь я волнуюсь по квадратам, — разъяснил Марат. — Вот надо менять права — я волнуюсь по этому квадрату, потом надо делать путевку в Карловы Вары, — я перехожу на этот квадрат, а если одновременно волноваться по всем площадям — инфаркт миокарда!
Марат оценочно взглянул на меня:
— Бегаешь от инфаркта?
— Ну, минут десять, — лениво сказал я.
— Десять? Бонжур с приветом! — Он захохотал. — Я только десять минут стою на голове по системе йогов. Чудесно. Амброзия! А потом открытый бассейн «Москва». Пощупай, — он согнул руку, надувая бицепсы, — пловецкие мускулы! Вот только не сплю, — грустно заметил он. — Жизнь уже сделана, игра сделана, ставок нет.
Марат неожиданно вытащил из кармана флакончик фиолетовой жидкости.
— Цюрих, Швейцария. Смазываешь волосы, седина нежно уходит и серебрится, все цесарочки сходят с ума.
В последний раз я встретил Марата на похоронах.
Он опоздал на гражданскую панихиду и пришел, когда под музыку выносили гроб. Толстый, облезлый, в замшевой дубленке и «иван-царевиче» из нерпы, которая, казалось, фосфоресцировала, с бутылками шампанского, рассованного по карманам, он сказал бурно и радостно:
— Старуха бьет по нашему квадрату.
Подошел потом к другой группе, и так же радостно:
— Идет бомбардировка, бомбы ложатся все ближе к нашему сектору.
И потом еще радостнее:
— Идем к финишу!
ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Лада, бойкая столичная радиожурналистка двадцати двух лет, в лимонной водолазке и брюках «эластик», с конским хвостом, перехваченным анодированной короной, словно Санчо Панса, боком, ехала на капризном ослике коварной обрывистой тропинкой в дальнее, безвестно затерявшееся в горах село, имея срочное задание «Последних известий» проинтервьюировать старейшего жителя планеты.
Нелепый серый ослик, ужасно самостоятельный в своих мыслях и действиях, то и дело останавливался посреди дороги и тогда превращался в собственную задумчивую статую, которую никакие крики и мольбы не могли сдвинуть с места, потом вдруг, точно его укусила змея, начинал скакать и брыкаться, пытаясь скинуть в пропасть свою амазонку, и так же вдруг успокаивался и сонно и печально брал крутизну за крутизной, идя сквозь темные ореховые и абрикосовые рощи, по алым лугам, через бурные ручьи, протоки высохших рек.
Неожиданно в ущелье, как ребенок, больной корью, захныкал шакал. Ослик вздрогнул, вскинул уши и пустился галопом через камни и пни; Лада обхватила его за шею, прижавшись лицом к теплой доброй шерсти ишачка; в изящных, продолговатых глазах его был ужас и благородство.
Когда этот странный библейский ослик, плутая в туманах, где горные пейзажи расплывались, как в испорченном телевизоре, настропалив уши-звукоуловители, наконец вскарабкался на древнюю гору и девушка увидела дым вселенной, и сквозь дым, словно в иллюминаторы ТУ-104, открылась потусторонняя фиолетовая равнина и дороги, по которым, как муравьи, ползали автомобили и арбы, ей показалось, что все, что было там, далеко и давно, на милой земле, — пижонская суета сует и не имеет и никогда не будет иметь никакого значения по сравнению с этой спокойной, молчаливой горой, и бесконечно высоким синим небом, и пророческой тишиной, которой миллионы лет.
— Разрешение на беседу есть? — спросил секретарь сельсовета, парень одних лет с Ладой.
— А что, это военный объект?
— Объект не объект, а документ давай.
Бдительно изучив командировку приезжей и наглядевшись на ее светлые волосы, на ее государственные футляры с аппаратурой, секретарь, у которого оказалось новейшее имя Гелий, с административным пылом повел ее узкой немой горной улочкой к дому аксакала.
— Мы его заботой окружили, — сообщил он, — постановление вынесли, будет еще долго-долго жить.
— А как его отчество? — спросила Лада.
— Отчество? Нет отчества. Мехти-баба.
— А как вы его официально величаете?
— Официально? Тоже Мехти-баба.
— Ну хорошо, отец у него был?
— Наверно, был.
— А как его звали?
— Никто не помнит.
— Комик, — сказала Лада.
По дороге она прикидывала в уме грандиозное вступление к исповеди долгожителя: «Он современник Кулибина и Наполеона, Чарльза Диккенса и Миклухо-Маклая. Он родился, когда шлюпы Беллинсгаузена и Лазарева еще не открыли Антарктиды…»
Долгожитель Мехти-баба, в косматой, лихо надвинутой на лоб рыжей папахе и новой чешской ковбойке, босой сидел у своего дома на поролоновом коврике под тутовым деревом и пил кирпичный чай. Старинный, тонкий грушевидный стаканчик армуди он ловко держал кончиками пальцев и осторожно, не торопясь, деликатно и смачно отхлебывал и потом, интегрируя наслаждение, по-беличьи цокал. Сахар у него был под языком.
Он посмотрел поверх стаканчика на приближающихся гостей и одобрительно кивнул. Парня этого с ученым именем он знал. Он еще играл в чехарду с его прапрадедушкой, и этот тоже, как две капли, такой же носатый и болтун, сейчас как мулла будет бубнить красивыми, праздничными словами. А светлую девушку в солнечной рубашечке и синих, узких, приятно натянутых брючках он видел впервые. Красивая девушка, ничего не скажешь. Княжна! Ай-я-яй, Мехти-баба, всегда хорошо жить на свете.
— Здравствуй, дядя Мехти, — сказал секретарь Гелий.
— И тебе здравствуй, — сказал долгожитель и важно отхлебнул чай.
— Как живешь, дядя Мехти?
— Хорошо живу.
— Функционируешь? — ввернул секретарь словечко, скорее для Лады, чем для старика.
— Да, да, — согласился долгожитель.
— Вот девушка из радио.
— Радио? — улыбнулся он. — Знаю радио. Хорошо.
— Человек специально откомандирован, чтобы ты, дядя Мехти, поделился опытом, — сказал секретарь.
— Опытом? — откликнулся долгожитель и вздохнул. Он выпил только первый стаканчик, а кипящий, красномедный, с пупочками восточный самовар обещал долгое, нелимитированное наслаждение. — Пусть красавица выпьет чай.
— Спасибо, — сказала Лада. — Я уже пила растворимый кофе.
— Кофе? — сказал долгожитель и поцокал языком. — Ц-ц-ц… Чай лучше.
Сорока на дереве тоже зацокала, как бы соглашаясь с аксакалом, который медленно, со вкусом продолжал пить чай, поверх стаканчика наивно поглядывая на девушку розовыми глазками.
Ветер запутался в листьях шелковицы и затих. Храпела собака у ног долгожителя. Паук, не таясь, на глазах у всех оголтело ткал свою паутину. И Ладе казалось, что проходят века и она видит само сотворение мира.
Прибежал кудрявый мальчонка в одной рубашке и, ковыряя пальцем в носу, сообщил:
— Дядя Мехти, у Расула родился ягненок.
— Белый или черный? — спросил долгожитель, не прерывая своего занятия.
— Черный.
Долгожитель покачал головой.
— Ц-ц-ц… Белый лучше.
Через несколько минут прибежала, сверкая глазами, девочка.
— Дядя Мехти, Али в лавке купил новую кепку.
— Большую или маленькую?
— Маленькую.
— Ц-ц-ц… Большая лучше.
Беззвучно и кротко летали мотыльки, по тропинкам ползали ужи, в зарослях жалобно, с древней настойчивостью просила о чем-то птичка. Долгожитель, слушая ее, улыбался и медленно пил стаканчик за стаканчиком. Наконец он утерся полотенцем.
— Теперь можно, — разрешил секретарь сельсовета.
— Дядя Мехти, вы здесь живете давно? — спросила Лада.
— Давно, — откликнулся долгожитель.
— А где вы еще были? В Москве?
— Нет, Москве не был.
— А в Ленкорани?
— Ленкоран не был.
— А где были?
— Вот тут были, — отвечал долгожитель, пошевеливая пальцами ног.
— Всегда-всегда? — удивляется Лада.
— Всегда тут был.
— И на поезде не ездили?..
— Не ездили.
— И трамвай не видели, и автомобиль, и велосипед?
— Вертолет видел, — неожиданно сообщил долгожитель.
— Сто пятьдесят семь лет и все тут и тут, — ужасается Лада.
Мехти-баба с радостной улыбкой смотрит на девушку и ничего не отвечает.
— И не скучно? — допытывается Лада.
— Зачем скучно?
— Но ведь так неинтересно жить?!
— Зачем неинтересно? Солнышко встает — интересно. Дождь идет — интересно. Беркут пролетит — интересно. Очень интересно жить.
— А правда, для долголетия полезно кефир пить? — консультируется Лада.
— Правда, правда, — соглашается долгожитель, — можно и не пить.
— А ионы играют роль?
— Играют, играют, — на всякий случай говорит долгожитель.
— А в чем же все-таки секрет? — копает Лада.
— Секрет? Нет секрет, — сообщает долгожитель.
— Наверное, ежедневный труд? — подсказывает Лада.
— Труд? Ц-ц-ц, — цокает он языком. — Труд — очень хорошо.
— Дядя Мехти, говорят, вы ни разу не болели?
— Нет, не болели.
— Ничем-ничем?
— Чирь был, недавно, — вспомнил долгожитель.
— За сто пятьдесят семь лет один фурункул?
— Один, — молвил он, причмокивая.
— А вы считаете, причина — в генах? — поинтересовалась Лада.
— Считаю, считаю, — сказал долгожитель.
Лада включила магнитофон и холодно-торжественным дикторским голосом произнесла:
— Расскажите, пожалуйста, Мехти-баба, нашим радиослушателям, как вам удалось прожить сто пятьдесят семь лет.
— Зачем удалось? — обиделся долгожитель.
Лада нажала «стоп».
— Вы меня не так поняли, — мягко сказала она. — Мы бы хотели, чтобы вы поделились мудростью долголетия. Вот какая у вас схема жизни?
— Схема?
— Да, режим.
— Режим?
— Ну, когда встаете, когда ложитесь спать.
— С солнцем встаю, с солнцем ложусь, — простодушно ответил долгожитель.
— Вот и чудненько, вот и умница, — сказала Лада, как малому ребенку. — Так и скажите. Ладненько? Включаю. Расскажите, пожалуйста, Мехти-баба, нашим радиослушателям о режиме своего дня, когда встаете, когда ложитесь.
Старик молчал. Магнитофон подмигивал зеленым глазом. Лада ждала, кусая губы. А старик умильно глядел то на нее, то на вертящуюся технику.
— Делись опытом, — сказал секретарь сельсовета.
Мехти-баба кивнул головой, но даже и не думал говорить.
— Мудростью делись, — требовал секретарь. — Есть директива.
Старик все кивал.
Наконец Лада выключила магнитофон. Долгожитель очнулся и покачал головой:
— Очень интересно.
Вдруг интервьюируемый засыпает. Все почтительно стоят вокруг и молчат. Аксакал посапывает во сне.
— Феноменально! — говорит Лада.
— Сейчас встанет, — успокаивает секретарь сельсовета.
И действительно, через несколько минут долгожитель открыл глаза, оглянулся, сурово посмотрел на секретаря, встал и ушел куда-то за дом. Скоро он вернулся, веселый, довольный, готовый к новой жизни. Он сел у порога дома, где стояли две корзины; одна доверху была наполнена початками кукурузы, другая — пустая. Старик темной, цепкой, как древний корень, рукой брал початок, обрывал листья и очищенный кидал в пустую корзину. Он тихо увлекся привычным делом, забыв про гостей, только и слышен был сухой треск обрываемых листьев.
Пахло айвой, свежим каймаком, кизячным дымом, мирной, беспредельной жизнью.
На пороге соседнего дома появился аксакал, тоже в чешской ковбойке, очень похожий на дядю Мехти, может, его младший брат, а может, и старший.
— Мехти, — сказал он зевая, — что бы это значило: мне снились фазаны.
— В небе или на земле? — осведомился Мехти-баба.
— На земле.
— Ц-ц-ц, в небе лучше.
Вокруг бродили куры, дремали собаки, молча жили черепахи. Было тихо и хорошо.
ТИШАЙШИЙ
Майское утро. Из дачной калитки, выкрашенной нагло-оранжевым цветом, вышел Поликарп Поликарпович Тишайший, пустяковый старичок, похожий на опрятную ящерицу. На нем свежеглаженый, щепетильный парусиновый костюмчик, галстук «собачья радость», какие носили щеголи в 20-х годах, и новая серая венгерская соломка с фатоватыми дырочками.
Очутившись один на пустынной улочке имени Фридриха Энгельса, Поликарп Поликарпович сладко всхрапнул, алчно втягивая в свои широкие пожившие ноздри майское благорастворение, словно там, откуда он только что вышел, ему не давали свободно дышать дефицитным кислородом. Теперь он сконфуженно зажмурился от великолепия и всецело предоставил себя в распоряжение природы.
Стуча крепкой кавказской палочкой, идет Поликарп Поликарпович по асфальтированной дорожке кооперативного поселка, мимо тихих и словно необитаемых дачек, оглядываясь по сторонам, в рассуждении, с кем бы покомментировать текущие злободневные темы, и мучаясь звонкой пустотой. И почему-то кажется, что никогда не был он маленьким мальчиком, юношей, а родился вот такой готовый, настырный, с въедливым лимонным личиком, в каждой морщинке которого притаилось лукавое, якобы придурковатое простодушие.
— А, салют, Морис Фомич, — закричал он неподвижно сидящему на трухлявой скамеечке у ворот отечному мужчине с оливковым лицом и в новых ботинках.
Вокруг цвели лютики, порхали бабочки «адмирал», звенели пчелы, а он словно отсутствовал, словно в ладье уплывал в своих новых ботинках в иной, сюрреальный мир.
— Что, болеешь, Морис Фомич? — бодро спросил Поликарп Поликарпович. — Язва, говоришь? Н-нет, не верь эскулапам, не язва у тебя, Морис Фомич. Язва нынче помолодела, пошла в детский садик. Рачок у тебя, Морис Фомич, и не думай, не раскладывай.
Больной зашевелил губами. Отвечал ли он или шептал давно забытую осмеянную им в молодости молитву, никто не знал.
— А жить-то все-таки хочется, — добродушно продолжал Поликарп Поликарпович, — ты ведь давал дрозда, не философствовал. Вот если бы деньги, что на луну — на космос истратили, да на рак бросили, тогда бы и тебя вылечили, новенький был бы, альфа-омега! Ну, будь здоров, будь здоров.
И, поигрывая палочкой, Поликарп Поликарпович легко пошел дальше, на стук молотка.
— Все дачку латаешь, Федор Устинович, — вскричал он, остановившись у калитки. — Латай не латай, это жучок ее точит. Аклимался жучок, только жиреет от химии. Ох, развенчают твою дачку, Федор Устинович, до фундамента развенчают. Будешь жить, как Робинзон Крузо. Ну, бог в помощь, бог в помощь.
Два пса по обе стороны забора носились, как в зеркальной проекции, и лаяли, беспрерывно возбуждая и взвинчивая друг друга на озлобление. Поликарп Поликарпович кинул в них палку и зарычал, как третья собака. Псы остановились и с сожалением посмотрели на старичка.
— Ну, чего дискутируете? — сказал Поликарп Поликарпович. — Все равно околеете.
Тут внимание Поликарпа Поликарповича привлекло странное стрекотание. Сначала он подумал, что это птичка. На открытой, увитой плющом веранде сидел человек с суровым ежиком, в кимоно, и выстукивал на «Беби» одним пальцем.
— Писали — не гуляли, — сказал Поликарп Поликарпович. — Здравствуй, Евгений Борисович, пишешь? С утра пишешь? Мемуарчики? Все равно, Евгений Борисович, в красном уголке будешь лежать. Нет, в конференц-зал не положат. И не воображай. Ну, рисуй, зарисовывай бытье и сознание, не буду тебе мешать. До свиданция.
Вдруг он увидел: через дорогу, через серый асфальт, одиноко преодолевая пространство и время, двигался блестящий черный жук. Поликарп Поликарпович остановился и сказал:
— А ты, жулик, куда едешь? Думаешь, там лучше? — И хотел поддеть его палкой, но жук каким-то тайным локатором уловил приближающуюся опасность, и хотя говорят, кто ползать рожден, летать не умеет, гудя крыльями, стукнул в поля венгерской шляпы, глядя своим нарисованным обличьем прямо в лицо Поликарпу Поликарповичу так, что Поликарп Поликарпович даже завизжал.
Навстречу ему по аллее шел плешивый толстяк с хитрым румяным лицом, популярный автор Всеволожский, который недавно издал трехтомный исторический роман из жизни и деятельности египетских фараонов.
— А, Василий Орестович, — обрадовался Тишайший. — Почтение золотому веку нашей литературы. Еду я надысь в трамвае, девушка читает книгу. Смотрю — роман «Рамзес» Всеволожского. Спрашиваю — хорошая книга? Нет, говорит, дрянь книжка, читать невозможно. Вот, Василий Орестович, какая нынче молодежь пошла, нигилисты, ничего в литературе не понимают и диалектики не соображают.
Тишайший выходит из поселка в поле. Вокруг ни души. Кричат вороны. Старый тополь на ветру шумит всеми ветвями, сверкает молодыми листьями. Поликарп Поликарпович подходит к нему, стучит палочкой по стволу, прислушивается.
— Труха, брат, труха. Не жилец.
БАЛЕРУН
— Разрешите присесть за столик человеку, у которого не удалась жизнь.
У него красивое миниатюрное личико змеи, бледное и напудренное, тонкая, лукавая талия, рысистые ноги жуира.
— Подснежников! — извещает он, садясь и томно кладя ногу на ногу.
Некогда он кончил прославленное хореографическое училище, танцевал в академическом оперном театре, и, когда выбегал на сцену, перезрелые театралки наводили на него перламутровые бинокли, и мучнистые руки их, как у пьяниц, подрагивали.
Потом он оказался вдруг в заштатной областной оперетте, где играл венских графов и баронов, а в современных пьесах летчиков-испытателей и капитанов 1-го ранга, затем долго кочевал с дикой эстрадной камарильей по районным городкам и номерным совхозам, выбивал чечетку, а теперь на этой захудалой, забытой богом и ЦК профсоюзов узловой станции ведет уроки мастерства по системе Станиславского в балетной студии при Доме культуры железнодорожников.
— И все через труляля! — говорит он.
Мы сидим за зеленым пластмассовым столиком в буфете бывшего 1-го класса, я в ожидании поезда, а он зашел на огонек, как делал уже, наверное, не раз, и изливает проезжему душу.
При своих двадцати шести годах он уже пять раз женат, и это — только законно.
Про жен своих, жуируя ногой, рассказывает:
— Первая была совершенно шедевральная девица, на высшем уровне Венеры, дочь полного адмирала. Выйдет из ванны, вся пахнет ореховым маслом. Наяда! Поклонение волхвов! Звали ее Зюля, Зюлейка, черная, как цыганка, уникальные ресницы, а фигура! А формы! Кариатида! Сколько у нее кавалеров-женихов было! Один сын министра ухлестывал, фирменный кар, дача на Николиной горе. Апломб! Адмирал и адмиральша во сне видели, чтобы они поженились — одного ранга, одной номенклатуры! А я на себе обкрутил — смог же! Я еще тогда учился, бедный был, на стипендии, они меня в дом не пускали, они меня не признавали и третировали, как могли, а я терпел — моя возьмет! Она со мной по коммунальным комнатушкам таскалась, совмещенный санузел терпела, а почему? — ноги мои обожала. Мы поехали на юг. Я ее целовал на девятой волне. Это был единственный поцелуй в мире. И вдруг в один день сломалась, как кукла, увели, урвали ее у меня. Ну зачем ей золотая клетка! Она мои па любила, она мою глупость ценила, мою дурашливость, легкое понимание жизни…
Не надо плакать! Кто знает фактическую суть своей судьбы! — Подснежников вытирает платочком слезу. — Жизнь подобна неоновой вывеске, постепенно гаснет то одна, то другая буква. Абсент? — он глазами показывает на бутылку, и я наливаю ему стакан крутого портвейна. — Марочный? — Подснежников смотрит вино на свет. — Черта с два в этой собачьей дыре марочный. Сироп! Бурда! Бальзам пенсионера.
Он удрученно прихлебывает вино и продолжает:
— Вторая — зубной техник, какая-то без лица, без физии, даже неинтересно повествовать. Да я и ничего не помню, только шум бормашины и звук ломаемых зубов. Хряск! Я с ней прожил только один квартал.
Ну, а третья была экономист-бухгалтер, сальдо-бульдо, в искусстве ни бельмеса! Корпуленция коровы и белая, не блондинка, а ну совершенно белая, кругом. Тесто, и все. Я как с тестом и жил, спокойно.
А она вдруг ни с того ни с сего врезалась, стала ревновать, не оторвешь ни днем ни ночью. Роман страстей!
Подснежников нежными глотками пьет вино и деликатно утирается бумажной салфеткой.
— Я ведь только переночевать хотел, передохнуть, станция Северный полюс — среди холода и льдов и непогоды семейной жизни, штормов и шквалов, которые меня обступили, лечь в дрейф, продрейфовать зиму, а потом перебазироваться на Большую землю, к новым горизонтам и зовам. А она нет, вцепилась как вирус.
«Я тебя на весь Союз ославлю, я Рубикон перейду».
Ох, и пережил я миги, творческий застой. Одна голая постель в фокусе всей жизни. У меня от нее дрожь в ногах появилась. Стою на пальцах и качаюсь, как маятник. Ну, думаю, Жоржик, фиаско! Биологическая смерть!
Я как понимаю семейное счастье: обоим прелестно. А если любовь в одни ворота? Один на Олимпе удовольствия, а другой в душегубке, — что, терпеть? Христианское смирение? Мы, между прочим, отвергаем толстовство. Так я понимаю диалектику или нет? Материализм, теорию отражения? Я, конечно, может, в провинции застрял, оброс шерстью, но только с новейшей точки зрения все равноправны, все на свой лимит счастья имеют право по конституции.
Подснежников залпом, жадно выпил стакан до дна и всхлипнул:
— Аморалка, говорят, а какая же это аморалка? Не утрируйте факт, когда дышать нечем, — семейный Освенцим. Еще один вздох — и шок! И вот побёг, побёг чрез проволоку, через прожекторы общественного мнения, побёг в пространство, в неизвестность, на свободу, к чертовой матери. Как заяц петлял по всей стране, чтобы не нашла, не стравила.
А она всесоюзный розыск объявила, якобы я у нее десять тысяч увел старыми деньгами. А я ведь, если хотите знать, без шапки, в тапочках, с молочной бутылкой из дома ушел, как бы за кефиром, ацидофилином, и на станцию, и в первый проходящий тамбур.
И ведь дурехи, сколько баб было — до ужаса любят, смотрят на мои па и плачут: «Уйдешь ты от меня».
Он победно усмехается и машет рукой.
— Сколько их было — из «сыров», из тех безумных девчонок, постриженных «модерн сквозь слезы», что шумной толпой дежурят у артистического выхода, под снегом, под дождем, в полночь, в ожидании своего кумира. Ведь и я был кумир. Идол! Иисус Христос! Не верите? О-ля-ля! — Он привстал и крутанул ножкой, словно сделал па. — Одну я смутно помню до сих пор. У нее были прекрасные очертания. Соус пикан! Цвет волос — леггорн. Будь здорова, курочка!
На минуту он пригорюнился.
— А четвертая была своя — «мундштук», не солистка, не корифейка, даже не кордебалетка, а из миманса: день работала итальянской мадонной, день — невестой-индианкой — лицо, руки и ноги в чернилах. Эта любила яркие платья, яркие зеленые и красные чулки, Экстравагантно расфрантится, при виде ее даже междугородные автобусы тормозили.
И я жил как на ярмарке уцененных товаров. Устал, скучно, тошно. Не уважаю, в смысле презираю.
И все деньги, деньги… А я что — ногами деньги печатаю, я ногами чечетку выбиваю, и не по первой, и не по второй, а по десятой тарифной ставке: не народный, не заслуженный, не деятель искусств, левак, дикарь, частник — чечеточник под шатром.
Господи, на каких только сценах не скоморошил! Положат доски на самосвал, и давай чечетку выбивать — под испанца, под мексиканца, а потом и под кубинца, — это сейчас модно; в широкополой шляпе, с шарфом, в наших родных туфельках «Мособувь» на микропоре, под гитару с голубым бантом — Дон Диего, Дон Педро, Дон Поддонок… Разрешите, еще ляпну, не обесточу вас?
Подснежников решительно берет бутылку и, булькая, до краев наливает стакан.
— Была еще одна незаконная, так, между прочим, проходная, мимолетная, остановка по требованию на жизненном пути для отдыха и приведения финансового и морального уровня в порядок.
Эта была деляга, завларьком, хищница, наша советская хищница. Эта деньгами прельщала, удобствами, уютом, всякими темными перспективами.
«Я тебя в холе буду держать, в цельном молоке купать, одними дефицитными продуктами кормить, как только дефицит — ты их получишь». Дура, как будто от этого они слаще или горше. А если у меня характер купца Калашникова, если я больше всего люблю горох и фасоль. Да иди ты к черту со своей краденой сгущенкой и колбасой салями. Уйди, ларьковая крыса, не выношу запаха мешковины и дешевой карамели!
Рывком он подымает стакану алчно глотает портвейн.
— Бальзачок как сказал: «Лучше жить в клетке со львом и тигром, чем со злой женщиной». Умнейший мужик! Жизнь, говорил, есть Человеческая Комедия.
Он с ненавистью отстраняет от себя бутылку, приободряется.
— А теперь — заре навстречу — жена инженер-химик, кончила Менделеевку, научный работник, диссертантка. Вот это положительный человек, вот это наш советский человек, законный, по штатному расписанию, со своей материальной базой, своей финансовой дисциплиной, со своим, не чужим умом. Море интеллигентности. Газеты читает, книги, журналы, во всем понятие имеет, а политически подкована — ужас! Она еще лауреаткой будет, вот увидите!
Да! По уму мужчина, по телу — женщина, а я наоборот, и вот закон тяготения противоположностей — эту, представляете, люблю, и уважаю, и жизнь отдам. У этой наш порядок. Дисциплинка, будь спок! На стене в квартире у нас на новых обоях висит плетеный арапник. Если провинился, не пришел вовремя, на минуту опоздал — где шлялся? Снимай штаны. Ложись! Десять — пятнадцать ударов.
Какой-то треклятый философ проповедовал: «Если женщина на тебя обиделась и повернулась спиной — похвали ее спину, и она простит тебе обиду». Дикость! Средневековье! У этой по-научному норма дозирована за каждый проступок. Вот явился на днях, на рубашке след помады. Ложись! «С ней живешь, параллельно со мной?» Двадцать пять ударов. Бьет и приговаривает: «Ах ты кошачья морда!»
— Кричишь? — спрашиваю я.
— Конечно, кричу. Еще бы. До волдырей доходит. Сидеть после больно. Это вам не поцелуй Чаниты.
— И терпишь?
— А что делать? — Он смотрит на меня ярко-синими глазами нестеровского отрока. — Иначе нельзя, слезы, истерика, валидол. А так весь запал в это уйдет. Побьет и нервно успокоится, и потом чувствует себя виноватой и подлизывается: «Фунтик, карунтик, таракашечка моя…» И опять Подснежников на коне… О-ля-ля! Хлеба, зрелищ и женщин!
МАНСАРДА (Рассказ медицинского капитана)
Город только освободили, он еще дымился, весь в краснокирпичных развалинах, как в ранах, и удивительны были на улицах ярко-зеленые, свежие липы, густые старые губернские липы, на фоне которых кладбищенский строй черных труб был особенно страшен и нелеп.
Вечером я вышел на центральную улицу. В летних сумерках пахло кирпичной пылью, конской мочой, бензином военно-автомобильной дороги.
Из уцелевших домов сквозь щели маскировочных штор пробивался свет, слышны были голоса у ворот, а из одного дома ясно раздались звуки рояля, и я остановился и стал слушать, и так захотелось жить, снова жить, гулять по освещенным улицам, по кирпичной кладке у аптеки с волшебным зеленым шаром в витрине, останавливаться у киосков и пить газированную воду с сенным сиропом и покупать эскимо.
Неожиданно я вышел к кинотеатру, фасад был затемнен, и только в глубине, у кассы, горела синяя лампочка, освещая плакат — женщину, идущую босиком по снегу под виселицами. Демонстрировалась кинокартина «Радуга».
У фасада толпились подростки в крохотных кепочках, длинноногие девчонки, выросшие в оккупацию, и спрашивали друг у друга во мраке: «Нет лишнего билетика?»
Я собирался было пройти мимо, и вдруг кто-то тихонько окликнул:
— Товарищ военный, а вам билет, случаем, не нужен?
Высокая девушка в беретике, в цветных немецких ботиках. Красота яркая, порочная, зазывная.
У меня забилось сердце: «Откуда ты такая?»
Она дала мне билет и пояснила:
— Подруга не пришла.
В освещенном фойе разговорились.
Раньше, до войны, она работала официанткой в ресторане. Эвакуация была такой поспешной, что она не успела уехать, и вот теперь еще не устроилась и не знает, что делать, может быть, я ей пособлю. И она мельком взглянула на меня своими выпуклыми и нахальными глазами.
— А что делали в оккупации?
— Жила в селе у родителей.
— А родители кто?
— Простые колхозники.
— А где сейчас живете?
— Я что, на допросе? — она рассмеялась, и я рассмеялся.
В кино сидели рядом, и в темноте я взял ее руку, она легко и податливо отдала.
Я перебирал ее пальчики, и они почему-то были неприятно холодные, как сосульки, а она сидела прямо, отчужденная и бесчувственная, и смотрела на экран своими большими, красивыми синими глазами, и я видел в отраженном свете их чужой голубой блеск.
Вокруг зрители по ходу картины смеялись, ахали, ужасались, а я не знал, что происходит, кино где-то было в другой жизни, давней, детской, в стрекочущем зеленом свете с Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом.
Я стал прижиматься к ней, и внезапно она жарко прильнула ко мне, и я что-то такое ей шептал, и потом она тоже что-то такое шептала, от чего кружилась голова и все пошло ходором.
Я и не заметил, как окончилась картина, только вдруг зажегся свет, тусклый, провинциальный, и люди странно сонно глядели на нас.
Из кино вышли вместе. Была такая густая темнота, будто город опущен на дно морское. Редко сверкнет убийственный свет — где-то открыли дверь или вспыхнула случайная фара, и потом становилось еще темнее и безнадежнее. И только с разных сторон глухие хлопки взрывающихся мин замедленного действия, и тревожные свистки, и рычание проходящих танков, и дальний затухающий орудийный гул — обычная какофония прифронтового города. И еще сладко в вечерней прохладе пахло акацией, тянуло гарью пожарищ.
Шли долго. И вот уже вышли на железную дорогу. Мигали синие огни и вскрикивали паровозы. Потом прошли через полотно, и снова начались улицы, длинные, немощеные, которые назывались уже линиями.
Плетни, цветущий жасмин, белые мазанки в зелени садов — все возвращало в детство, в далекую, милую жизнь в семействе, и казалось — я вернулся домой. Казалось, что и ее я давным-давно знаю, и учился с ней в трудовой школе, и вот оба приехали на каникулы, и я останавливался и брал ее за руки, смотрел в ее лицо и восхищался, и казалось, я влюблен и навсегда тут останусь, и я бормотал:
— Мне кажется, я давно тебя знаю.
А она усмехалась и отмахивалась:
— Да ну вас, тоже скажете!
Я говорил, что давно уже не помню, когда бы вот так беззаботно ходил по вечерним летним улицам и чувствовал такое искреннее влечение.
И она снова усмехалась, своей красивой, холодной, отрешенной улыбкой и говорила:
— Все вы, вояки, обманщики, и больше ничего.
По дороге она зашла в какую-то заброшенную, покосившуюся хибарку и купила там четыре яйца.
Было пустынно и темно, кое-где лаяли собаки, и уже чувствовалось близкое поле.
— Вот мы и дома, — сказала она.
Мы вошли в отдельно стоящий полуразрушенный кирпичный домик. Ни огонька, ни звука. Поднялись по шаткой лестнице на самый верх, в мансарду. В темноте она отомкнула дверь.
— Осторожнее, нагнитесь, — успела она сказать. Я задел фуражкой притолоку.
Она зажгла керосиновую лампу, и мы оказались в малюсенькой белой каморке с замаскированным синей шторой окном. Сюда впихнуто было два белых кожаных кабинетных кресла, семейная кровать с никелированными шариками и старинный, красного дерева с перламутровой инкрустацией, пузатый комодик на высоких ножках, с новеньким модерным зеркалом над ним. Мебель какая-то случайная, нахватанная, и чем-то недобрым повеяло на меня.
Она сказала:
— Я пойду сделаю яичницу.
Я остался один с жужжащей лампой, и отчего-то мне стало не по себе.
Сколько таких случайных комнатенок, случайных приютов, и девичье тепло, и сиротский шепот, когда и тебе, и ей тоскливо, одиноко, и временно, и, в конце концов, ненужно.
Но в этой комнатке, с ее странной, явно награбленной мебелью, меня беспокоило еще что-то, и гирлянда ярких бумажных цветов над кроватью казалась только что снятой с похоронного венка.
Оглядываюсь и вдруг вижу из-под кровати — струйка, медленная, тягучая, страшная.
Я заглянул туда и будто переселился в рассказ Эдгара По. Там, у стены, лежал мертвец в нашем офицерском белье.
И в это время я услышал по лестнице грохочущий топот сапог.
Я быстро задул лампу и стал к стене у дверей.
В комнату ворвались двое, а я в это время — в дверь — и с силой захлопнул ее, и вниз по лестнице.
Через полчаса, когда я явился с патрулем, сержант с фонариком поднялся первый, за ним я и боец, никого уже не было, ни девушки, ни мертвеца, только чадный запах потушенной керосиновой лампы.
Сержант поглядел на меня с ухмылкой:
— А может, то показалось вам, товарищ капитан?
Но боец вдруг сказал:
— Нет, я знаю, то бандеры гоняются за офицерской формой, а на девчонку ловят, как на блесну.
ФИОЛЕТОВЫЕ КОНИ
С художником Миллионщиковым случилась неприятность. Спускаясь по лестнице после ужасного собрания секции живописцев, на котором распинали его нашумевший натюрморт «Розы и синие персики», он привычным жестом нащупал на руке место, где пульс, и пульса не обнаружил. «Потерял пульс! Нет пульса!»
Миллионщиков прибежал домой и стал измерять давление. У него был личный аппарат, и он даже художественно вычерчивал ежедневный график своего давления, хотя врач предупредил, что когда-нибудь кончится это плохо, пусть лучше аппарат продаст или подарит общественной организации.
На этот раз Миллионщиков не вошел, а ворвался в кабинет к врачу и закричал:
— Доктор, у меня двести пятьдесят на сто восемьдесят!
Старый доктор взглянул на него и спокойно сказал:
— А вы помножьте и потребуйте в валюте.
Миллионщиков растерянно сел.
— О, молодежь! — сказал доктор.
— Посмотрите, — попросил Миллионщиков.
— А что, смотреть, сердце — молот, легкие — мехи.
— Но щемит.
— Марафон в шесть утра на шесть километров.
— Но болит.
— Еще рубка дров хороша.
— Но послушайте.
Доктор взял стетоскоп, стал слушать.
— Да-с, в постельку, — сказал он, — валокординчик.
— А гимнастика?
— Гимнастика? Можно. Пальцевую, полторы минутки.
— …Ироничный такой, — жаловался Миллионщиков, — прописал положительные эмоции. А где их взять? Представить себе, что я получил Нобелевскую премию? Что я еду на Лазурный берег?
Раньше, наработавшись и намаявшись кистью или резцом, набегавшись по заседаниям художественных советов, Миллионщиков поздним вечером, только прикоснувшись ухом к подушке, будто на ракете прилетал в солнечное, звонкое и радостное утро.
А теперь ночь похожа была на поездку в старом, захолустном узкоколейном поезде с бесконечно длинными, нудными остановками, и пахло табаком, хлоркой, детскими пеленками, и к утру он был разбит, сердитый, с тяжелой головой и сердечной болью.
Теперь он только и думал о сне, или, как говорили врачи, зафиксировался на этом.
Читая художественные произведения, роман или повесть, Миллионщиков с острым любопытством вычитывал все о сне, и, если кто из героев крепко, беспробудно спал, ему хотелось узнать, как он этого добился, а если у кого была бессонница, — это его успокаивало, что он не один на свете такой.
Встречая знакомых, он сразу же сообщал, как-то даже хвастливо:
— Я теперь зафиксированный.
И, оказывается, все были зафиксированные. Нашлась масса знатоков, заслуженных деятелей бессонницы, иные уверяли, что не спят уже десять, двадцать лет, другие, что вообще они всю жизнь не спят и все знают, собаку на этом съели.
— Знаете, что очень хорошо помогает: считайте слонов. Вот — один слон, представьте себе хобот, голову, уши, туловище, ноги, хвост. Потом — второй слон, третий. Это очень успокаивает.
Миллионщиков спрашивал:
— А до каких пор считать?
— Хоть до миллиона, пока не заснете. А проснетесь, пососите сахар. Вот это двигательное движение прекрасно помогает, и вы снова проваливаетесь в бездну.
— Ну? — удивлялся Миллионщиков.
Другие советовали:
— Представьте себе реку, поле, луг, жужжат пчелы, летают мотыльки. Будете спать, как ребенок.
Но Миллионщиков все не спал. Сначала он принимал капли Зеленина, димедрол, адалин, а потом пошел нембутал, ноксирон, люминал. И однажды, заснув тяжелым сном, увидел, что он принял пачку люминала прямо в упаковке, и ему казалось, что он умирает.
Теперь Миллионщиков у всех выспрашивал рецепты и гонялся за новыми снотворными, и ему казалось, что чем оно дефицитнее, тем сильнее и лучше на него подействует, и стоит только его достать, уже от одного вида он станет спать. И когда в моде стал андаксин, он жрал его, как шашлык.
Наконец кто-то посоветовал Миллионщикову лечение словом.
Это была новая чудесная больница в молодом зеленом парке, вся из стекла, похожая на город солнца Кампанеллы. И Миллионщиков приободрился.
В огромном, залитом светом модерновом холле, с мягким, бесшумным, цветным пластмассовым полом, в углу была встроена самодельная, крашенная белилами проходная с микроскопическим окошком, из которого не видная никому женщина голосом пограничника произнесла:
— Паспорт!
Миллионщиков покорно сунул в щель паспорт и стал ждать. Пограничница ушла что-то выяснять, а может, как раз наступил обеденный перерыв и она в своей будке заправлялась всухомятку, а может, она просто забыла о нем и в это время вязала кофточку по рисунку журнала «Болгарская мода».
Миллионщиков робко постучал в закрытое окошко и сказал: «Послушайте…»
— Не стучите, я не глухая! — ответили оттуда. — Психи! — и с этим словом с громом выдвинулся фанерный инкубаторный ящичек и в нем пропуск.
Гардеробщица властным, незаискивающим голосом, которым говорят служащие больниц, судов и жилищных органов, скомандовала: «Пропуск!» — выхватила из рук Миллионщикова пальто и выкинула на барьер белый халат.
У кабинета «Гипноз» была очередь, как в салон красоты. Миллионщиков удивился и покорно спросил: «Кто последний?»
Обессиленный ожиданием и волнением, он сидел, потеряв ощущение времени, пока наконец няня, взяв его, как ребенка, за руку, ввела в темный, какой-то ночной жуткий кабинет, где он увидел толстого, с лоснящимися щеками гипнотизера, одетого по-старинному в тройку.
Гипнотизер стоя что-то спешно дожевывал, и на жилете были крошки, и в лежащей на столе сальной бумажке были крошки, и Миллионщикова поразило, что гипнотизер питается, как все люди, перехватывая между двумя сеансами гипноза бутерброд с ливерной колбасой, и у него сразу пропал тот фантастический строй мыслей, с которым он шел в этот удивительный кабинет.
— Это ваша картина «Розы и синие персики»? — спросил гипнотизер. — Вы талант, вам нечего беспокоиться за будущее. Это я вам говорю.
Гипнотизер усадил художника на круглую белую табуретку посреди кабинета, сам стал у стены, сложил руки и приказал:
— Закройте глаза!
Автор картины «Розы и синие персики» закрыл глаза.
И все пошло абстрактными кругами, и из этих кругов вдруг, будто с того света, дошло:
— Скажите: «Мне хорошо!»
— Мне хорошо, — бездумно повторил Миллионщиков, чувствуя, как бешено бьется сердце.
Он ожидал, что сейчас его коснутся магнетические токи и он потеряет свою волю и растворится.
— Мне очень хорошо! — приказал голос.
«Еще очень», — ворчливо подумал Миллионщиков, но все-таки покорно, громко и глупо повторил:
— Мне очень хорошо!
— Я спокоен! — утверждал голос из темноты.
«Да, черта с два», — подумал Миллионщиков, чувствуя, как пульс бьется в висках, в затылке, в кончиках пальцев, и печально повторил:
— Я спокоен!
— У меня нет никаких забот! — сказал ликующий голос.
— У меня нет никаких забот, — тупо повторил Миллионщиков и тут же вспомнил, что художник Краснов назвал его за новую картину «Фиолетовые кони» подонком декаданса, что шубу жены побила моль и у нее «мозговые явления»…
Из этих горестных раздумий, из списка благодеяний жизни его вывел приказ:
— Откройте глаза!
Миллионщиков с усилием разлепил веки и взглянул на гипнотизера.
Проклятый, он снова жевал, пот струился с его лица.
— Вы большой талант, — сказал гипнотизер, — вы написали «Розы и синие персики». Я за вас спокоен.
Он поставил против его фамилии птичку.
— Десять сеансов — и вы будете новенький.
«Да, увидишь меня еще!» — устало подумал Миллионщиков и, предчувствуя страшную боль, пошел в салон покорно отбирать свою новую картину «Фиолетовые кони».
Но картину не вернули, ее приняли на «ура». Что случилось? Было какое-то новое вышестоящее указание, что кони могут быть и фиолетовые, или он действительно написал гениальное произведение, этого Миллионщиков никогда не узнал.
Но в эту ночь он спал.
НА КУРОРТЕ
С некоторых пор на берегу моря у нашего санатория появились два коротыша, почти карл и карлица, оба необычайно здоровые, полноценно-жизнерадостные, с круглыми деловыми лицами.
Каждое утро в любую погоду, и в дождь и в холод, когда даже прятались чайки, они, упиваясь своим одиночеством, с необычайной серьезностью, жадно вдыхая вольный морской воздух, делали утреннюю гимнастику.
Она исполняла каждое упражнение плавно, отточенно, пунктуально, даже как-то торжественно, будто ритуальный танец в темпе замедленной съемки. А он рядом, наоборот, просто неистовствовал, он в бешеном темпе вибрировал, вертя своим маленьким ловким туловищем, словно заряжаясь энергией, потом дико-отчаянными махами изображал мельницу, нагнетал бицепсы, всячески усиляя, и подзадоривая, и перекатывая свою новенькую железную мускулатуру, и, наконец, становился на руки и так на руках шел по пляжу, а она с любовью и вниманием следила за его молодцеватостью, и казалось, он с земли ей тайно подмигивал.
Затем они купались. Она, натянув свою зеленую резиновую шапочку и зеленые резиновые тапочки, похожая на небольшую акулу, и он, надев на крупную, круглую, крепкую лысую голову белый чехольчик от форменной фуражки, шли чинно рядышком в воду, и там, как дети взявшись за руки, оба окунались много, много раз. А потом он ее на несколько минут оставлял и начинал бешено плыть, панически ударяя руками и ногами по воде, пофыркивал и пускал пузыри и, шумно разрядив энергию, возвращался к ней, и, опять взявшись за ручки, они выходили из воды, румяные, железные.
На берегу они очень трогательно вытирали друг другу спину, напевая при этом бодрый мотивчик, и потом оба шли по берегу, взявшись с двух сторон за полотенце и суша его на ветру.
Днем их почему-то никогда не было видно, только вечером, на закате солнца, на одинокой поляне, среди густой немятой травы, они молча играли в бадминтон, и волан на небольшой высоте перелетал от одного к другому, и ласточки, утихнув, наблюдали за их ловкой, легкой игрой.
А после ужина он в темной пиджачной паре, с галстуком, завязанным широким узлом, а она в голубом жакете и красной широкой сборчатой юбке гуляли по берегу моря и очень тихо, почти шепотом, переговаривались о чем-то таком, что только их интересовало, их заполняло, и никого на свете не касалось, и об этом не должны были знать даже море, дюны, вереск.
После променада они до поздней ночи всегда сидели на одной и той же скамейке, тесно, рядышком, как будто сросшись, и молча, без грусти, смотрели на море.
Странно, но никто их никогда не видел в столовой, они жили не в санаторских корпусах, а в маленьком фанерном домике на отшибе, в глубине парка, и три раза в день туда им носили еду на подносах, покрытых марлей, и все думали: может, они родственники директора санатория или шеф-повара?
Но однажды днем я случайно вошел в контору санатория. Мои знакомцы сидели рядышком за большим конторским столом, оба в очках, и, в унисон ужасаясь, глядели в какую-то ведомость и при этом угрожающе сучили под столом ножками, не достигавшими пола. А директор санатория, комфортный, тучный эстонец с бледным пухлым лицом, стоя над коротышами, что-то тихо и льстиво и как-то униженно объяснял им, а они, слушая вполуха, продолжали сурово и непримиримо глядеть в ведомость. И я подумал об относительности и бренности всего на свете.
Это были ревизоры курортного управления.
В конце этого дня я присутствовал на обряде ликвидации списанного ревизорами санаторского имущества. Ревизоры и комиссия — директор, секретарь парторганизации и председатель месткома — внимательно следили, как разгорался посреди двора костер и рабочие кидали в него списанные табуретки, стулья, потом груду старых одеял облили бензином и тоже бросили в костер. В это время шофер санатория разбивал молотком старое зеркало из холла, и сверкающие осколки разлетались и красиво искрились. Затем он принялся за радиоприемники, тщательно разбивал в отдельности каждую полированную дощечку, чтобы никто уже не хотел ее утащить и воспользоваться, а радиодетали бросал в лом, — после придут школьники и подберут. Потом еще были три пары списанных стенных часов, и шофер ударил кувалдой по механизму с такой силой, что во все стороны брызнули колесики, пружины, затем сплеча опустил кувалду на вторые и третьи часы, и в последних вдруг что-то зазвенело, словно они попытались сказать, который час.
Вокруг стояли санитарки, садовник, официантки и грустно наблюдали разрушение. А ревизор одновременно схватывал и учитывал всю картину и зорко следил, чтобы ничто из госимущества не уплыло в частные руки.
Когда я возмутился, зачем это делают, лучше бы роздали людям, коротыш быстро взглянул на меня и жестко, чеканя каждое слово, как бы реваншируя этим свой рост и придавая своим словам убедительную вескость и окончательность, сказал:
— Существует строго регламентированный и для всех обязательный распорядок и нормы учета…
И его партнерша, не поднимая глаз, не глядя на меня, скрипуче добавила:
— И не нам с вами их изменять.
Вечером они гуляли по пляжу, он в темной пиджачной паре, с галстуком, завязанным широким узлом, а она в широкой, раздуваемой ветром, красной сборчатой юбке, и тихо беседовали о чем-то своем, о чем не должны знать ни море, ни дюны, ни вереск…
ЩЕНКОВ
Нового работника института по фамилии Щенков рекомендовал начфин. И хотя все знали, что начфин зашибает и играет в пульку и даже на бегах, но работник он был старый и проверенный, и его рекомендации было достаточно, чтобы Щенкова по-свойски принял начальник отдела кадров.
Никто не видел и не слышал, как Щенков оформлялся, как приносил анкету и справки и дополнительные справки и прояснял туманные места. Все это он проделал, словно человек-невидимка. И отдел кадров подготовил приказ о зачислении Щенкова.
Но в это время Элеонорочке, машинистке института, позвонила подружка из другого института, где Щенков до этого работал.
— Забираете нашего знаменитого Н. Щенкова?
— А что такое?
— А вот посмо́трите, что такое, когда жизни не станет. Он на всех пишет заявления.
— Какие заявления?
— А это уже какие он найдет нужным, только у нас он на всех написал заявления, даже на бюст Песталоцци.
— Кошмар! — сказала Элеонорочка.
— Песталоцци — иностранный ученый, очень положительный, а он обозвал его космополитом.
— Кошмар! — повторила Элеонорочка. — И что с ним сделали?
— С Песталоцци? Списали с баланса.
— А этот Щенков?
— Продолжал писать заявления, и никак от него не могли отделаться.
— А как же отделались?
— А наш директор прямо спросил: «Что вы хотите, чтобы уйти?» — «Комнату», — сказал Щенков. «Хорошо, получите комнату в обмен на заявление об уходе».
— У, лапочка, — засмеялась Элеонорочка.
Она положила трубку и оглядела отдел:
— Поздравляю. К нам идет Щенков. — И рассказала, кто такой Щенков.
И все разволновались, будто сказали: вирус! А Элеонорочка побежала к заместителю директора по кадрам. Она проникла за двойной тамбур, за ту кожаную дверь, откуда даже крик доносится еле слышным, облагороженным жужжаньем, и там, в массивном кабинете, на ярком солнце, стоя на пушистом ковре, дрожащим, молящим голосом сказала:
— У нас уже есть свой Щенков: Синюхин А. П., теперь они объединятся, они быстро найдут друг друга, и будет жуткое дело.
И у того, кто все мог и никого не боялся, даже у того за очками, как у кобры, дрогнула какая-то точка. И он поднял трубку белоснежного телефона и позвонил в институт, где раньше работал Щенков, начальнику отдела кадров.
— Беспокоит Бессмертный, — сказал он, — как здоровье, как давление? А ты на перцовку не налегай, пей сухое. Слушай, между прочим, что это за деятель у тебя такой был, Щенков Н. Н.?
— Все у него в порядке, ажур! — радостно сказал начальник того отдела кадров. — А характер — так ведь у каждого свой характер. Он может нравиться и не нравиться.
Ну, тут уже все поняли, что дело плохо. Чистый, отпечатанный приказ о зачислении Щенкова, лежащий в сафьяновой папке «На подпись», вынули, разорвали и бросили в корзину.
На следующий день Щенков пришел на работу. Когда он вошел в отдел, стало тихо, даже калькулятор Фазин перестал в углу щелкать на арифмометре и, нагнувшись, сделал вид, что проверяет колонку цифр.
Щенков был как раз такой, каким и должен был быть, — маленький, худенький, с острым, песьим бледным личиком, будто злость выпила всю его кровь.
— Грима такого не придумаешь, — прошептала машинистка Элеонорочка и закурила сигарету.
Щенков прямо прошел к начальнику отдела, сидевшему отдельно, за фанерной перегородкой.
Но кабинетик был пуст, тогда Щенков сел за свободный стол и стал ждать.
Все в отделе с интересом и страхом следили за ним, казалось, он сейчас должен выкинуть какой-то номер, и Элеонорочка, не отрывая от него глаз, печатала вслепую, а Фазин сделал ошибку, вскрикнул и стирал ее ластиком.
Из других отделов приходили поглядеть на Щенкова. Выходили в коридор и говорили:
— Сидит, посматривает и, кажется, что-то записывает.
Щенков сидел отрешенный, обидчивый, он был здесь и все-таки еще не здесь, он уже отвечал за всех и за все, за все, что они делают и думают, могут сделать и могут подумать.
Вдруг он встал, подошел к техническому секретарю отдела и, указывая на висевший над столом список, спросил:
— А это что за фамилии?
Весь отдел затаил дыхание, а у Фазина сам по себе защелкал арифмометр, и Фазин побледнел — это была плохая примета.
В это время пришел начальник отдела.
— Евгений Диомидович, — нервно сказал Щенков, — это, конечно, формально, но почему нет приказа о зачислении?
— Тут, понимаешь, загвоздка со штатным расписанием, — Диомидыч поглядел на него ласково и неумолимо, — позвони-ка на той недельке.
Щенков пустил пробный шар:
— Сегодня профсоюзное собрание, мне надо быть?
Но Диомидыч съел на подборе кадров не одного такого Щенкова.
— А ты уже на учете? — нежно спросил он.
— Нет.
— Ну так зачем же ты? Погуляй, подыши воздухом, набирайся силы.
Щенков еще несколько раз звонил, осведомлялся, подписан ли приказ, а потом исчез.
МАСКА
В палату привезли новенького. У него было широкое, плоское лицо, бледное, бесстрастное, как маска.
Только его переложили с каталки на постель и за врачом закрылась дверь, он неожиданно сказал:
— У, коновалы проклятые!
— А что у вас? — отзывчиво спросил Лева, мой сосед, печальный мальчик.
— Не все расскажешь, — сказал новенький туманно и надолго затих.
Он лежал, длинный, тощий, словно высушенный, тяжело положив на одеяло крупные пятнистые, как ящерицы, руки.
— Разрезали — и ни хрена не сделали, — сказал он в потолок.
— А откуда вам известно? — спросил Лева.
— Ни хрена не сделали. Зашили. Дармоеды, захребетники, — он сплюнул.
Я читал книгу, Лева, как всегда, лежал с наушниками и слушал радио, но новенькому вообще не нужны были собеседники, он как бы говорил самому себе, стенам, потолку, лампочке.
— Им что скажешь, а о н и: «Пейте меньше». Потребуешь, а о н и: «Не фулиганьте».
Вот когда вышел закон: пить нельзя, мне пришлось быть в одном месте, где начальство непьющее. Разговорился с одним, вмешались многие.
Я спросил: «Сколько получаете?» — «Я? Сто двадцать».
«И жена не работает, и на курорты ездите?»
Молчит, а сам красный, шея за воротник лезет.
«Интересно, в какой кассе вы деньги получаете? Я вот сто восемьдесят зарабатываю и курю «Беломор», костюма не имею, а вы сто двадцать — и имеете машину, курите «Фестиваль», вот какая толстая папироса! У меня, наверное, кассир плохой».
«Ты пьешь!»
«Ну и пью, а все-таки должно оставаться. За что вы получаете сто двадцать?»
«Я за ответственность получаю».
«Я задавлю — вы не отвечаете. С машиной шутить нельзя, в ней две тонны металла, человек перед ней, что холодец перед ножом».
А он свое: «Пить меньше надо».
Ну, я ему и рассказал, как я пью, как живу. До получки еще три дня, а занял на пол-литра, перебежал дорогу, купил — и в гараж, а там — мастер, я в котельную — а там механик, я в коридор — а там начальник, а о н а под мышкой греется, я на улицу, только пристроился за углом, идет участковый, — ну, могила. Уедешь домой, а там Сережка встречает. Взял стаканчик, корочку, побежал в туалет, хватишь стаканчик, довольно бы, а ведь отнимет, разобьет жена, вот и прикончишь, а потом свалишься, а начальник что? Красный, еще краснее станет. Нажрался, как свинья, заперся в кабинете: «Я уехал на объект!..»
В коридоре послышался визг обеденной тележки.
Лева печально сказал:
— А мне есть не хочется.
Новенький оживился.
— Первое я люблю горох, а второе свинину. И еще выпить немного, чтобы уточнить свои чувства.
Дверь открывается, буфетная нянечка заглядывает в свои святцы.
— У вас, Нечипорук, — говорит она новенькому, — какой стол — А-3? — и ставит ему на тумбочку бульон и суфле.
Нечипорук поглядел на тарелку:
— Опять светлая водичка! — и оттолкнул ее. — Уберите к матери, вода и вода.
— У вас стол такой.
— Эй, тетка, кидай обратно и хромай отсюда.
Нянечка ушла. Нечипорук приподнялся, помешал ложкой.
— Нет, честное слово, выздоровею, пойду работать в ОБХСС этого района.
Он не ест, а как-то всасывает с прихлебом, с хрипом.
— Стол, стол, выдумали легенду, комбинаторы…
Поев, он отрыгивает и говорит:
— Сейчас люди не воруют, сейчас люди соображают. Умеешь соображать — живешь. Сейчас же фактически людей нет, все мазурики, друг из друга выжимают. Прихожу в поликлинику с головой, а она, врачиха, спрашивает: «Живете вы с женой?» — «Редко». — «Вот вам пилюли», — говорит и выписывает на три рубля. А кому это надо? Сейчас люди из всего выжимают. Видел я, как соки делают, и как вино делают, и как торты пекут. Шофер все знает, везде бывал.
Он минуту молчит, потом продолжает:
— Последние пять лет в проходной просидел. Я если с фабрики что не вынесу — весь день больной, хоть бумагу возьму, после кину, но правильно себя чувствую.
Нечипорук вздыхает.
— А теперь мне работать не надо, смотри, чем велят питаться — овсяная каша, свекла. Это двадцать пять копеек в день.
— Ну, на дом копите, — посоветовал я.
— Дом есть.
— Тогда на машину.
— А на кой она мне нужна? Дверь откройте! — кричит он. — Закупорили, как арестантов.
По коридору, как по бульвару, гуляют выздоравливающие, а Нечипорук смотрит:
— Ух, сколько трутней ходит, сколько человеко-дней пропадает.
Иногда он кого-то окликнет:
— Приятель, зайди. Как там у вас в палате? Анекдоты новые есть?
Когда принесли газеты, он почему-то выбрал «Сельскую жизнь», надел очки, развернул газету и говорит:
— А ну, поглядим, есть еще советская власть? А то сидим тут взаперти, ничего не знаем.
Вдруг он хохочет:
— Вот так кит, язык три тонны… — Он с восторгом сует мне газету. — Ты только погляди — три тонны один язык. Ох и люблю я эти точные сведения.
Днем на свидание к нему пришла жена, с такими же, как у него, длинными, желтыми, верблюжьими зубами, будто они брат и сестра.
— Печенье принесла, апельсинчиков несколько кило, ешь, не мори себя.
— Апельсина — это продукт питания, — говорит Нечипорук, — к ней надо относиться как? Во как! — и, причмокивая, жует апельсин, мне кажется — целиком, с кожурой. — Сколько человек болеет, — рассуждает он, — а из-за чего? Из-за пищи. Смотри, лошадь ест сено, а хорошо желудок работает.
Жена с умилением глядит на него и рассказывает:
— Увидел пластмассовую удочку, и все время — «купи мне удочку».
— Ну? — удивляется Нечипорук.
— Спрашиваю: «Сережка, ты что будешь мыть?» А он: «Ручки, ножки».
— Ну? — снова удивляется он.
Он жует апельсины и мечтает.
— Эх, поел бы я сейчас уху рыбацкую, наловить рыбешек мелких, разных, добавить туда перчику, лаврового листа, маслинку, — ух крепкий аромат! Едри твою!
Жена хихикает. И Нечипорук тоже хихикает.
По коридору, как копытцами стуча шпильками, проходит вечерняя сестра.
— У, паразитка, — говорит Нечипорук.
Сестра заглядывает в нашу палату выздоравливающих.
— А, Нечипорук! Уже здесь? Делаете успехи.
Но на все ее восторги он молчит, а когда она уходит, говорит:
— Коза.
— Теперь самое главное грыжу достать, — соображает Нечипорук, — главное, чтобы к желудку приросла.
— А ты первому проходимцу не давайся, — советует жена, — требуй главного.
— Я этого так не оставлю, — обещает он, — хиляк против меня доктор. Я свои права знаю, я ущемлять не дам. Я им медицинскую энциклопедию предъявлю.
На прощание Нечипорук разрешает себя поцеловать.
— Ну послюни, послюни.
Он надолго замолкает, я думаю — спит, а потом слышу — бормочет:
— Ничего, сын у меня шеф-поваром в ресторане, наворует…
В окно светит полная луна. Я задыхаюсь от тяжкого, от этого угарного, злого запаха йодоформа, он пропитал подушку, одеяло, занавески, тумбочку, чашки, он растворился в воздухе.
В коридоре внезапная беготня и слышен шепот: «Летальный исход». Чей-то крик, чей-то стон, а Нечипорук лежит на спине, хрустит печеньем и бормочет:
— Гады…
СОБАКА САПУНОВА
Яшка, молодая, франтоватая, шоколадная собака, красуясь перед всеми собаками и перед природой, вышагивала, высоко подымая сильные, пружинящие ноги, рядом со своим знаменитым хозяином, и все встречные, здороваясь с ним, здоровались и с ней, ласкали ее, восхищались, задавали ей даже какие-то вопросы, а она равнодушно, молчаливо-презрительно внимала людской хвале, не ставя ее ни во что. А хозяин ее, богатый и осанистый, в сером каракулевом пирожке, при палке с серебряным набалдашником, глядел на нее веселыми, счастливыми глазами, иногда свистом подзывая «Яшка!» — и тогда она, взвизгивая, в слепой преданности, прыгала ему на грудь: «Я твоя! Я только твоя! И ты мой хозяин! Я ужасно-ужасно рада, что ты мой хозяин!»
Так прошло много лет, много-много лет, промелькнувших для Сапунова и его собаки незаметно, в тумане счастья и славы.
Пока в какой-то день все не кончилось.
Старая собака стала страшно похожа на хозяина, как младший брат его, высокая, пегая, костистая, с худой скуластой вытянутой мордой и паутинкой в глазах.
Теперь она одна медленно бродила по холодным, неуютным улицам поселка, ничья, останавливаясь то у одних, то у других ворот, и все говорили: «Вот пришел Яшка Сапунов».
Так она бродила бесцельно туда и назад, весь день бесцельно, неприкаянно, ей было все равно куда идти, лишь бы идти, лишь бы уходить от своего одиночества, от своей тоски.
Она увязывалась то за одним, то за другим прохожим, и ей кричали: «Пошел! Иди, чего пристала!» Она медленно отходила, но потом возвращалась и пыталась снова идти вслед, вытянув продолговатую печальную морду: «Нет, я не могу одна, не могу, понимаешь?»
Случались и такие, которые не прогоняли, и тогда она терлась о дружелюбные колени, скулила, как бы торопясь высказать свою обиду, тоску, неотступно ходила за своим новым хозяином и терпеливо ждала его, пока он стоял в очереди к ларьку или разговаривал на дороге с встречным, и у нее тогда был важный, значительный вид — при деле. Но случайный ее спутник, временный бог ее исчезал. И снова она оставалась ненужная, никем и нигде не ожидаемая, одна, ходила и ходила на кривых, старчески сведенных ногах.
И воздух, и окрестные рощи, некогда дивно полные солнца, шума ветвей, неожиданных гроз, цвета жасмина, пенья птиц, писка, лепета, мяуканья, чужих раздражающих запахов, — все это пестрое, веселое, дикое оглохло, потускнело, умерло, все было пусто, серо и бессмысленно.
Иногда выходил на улицу ее хозяин, и собака вздрагивала, словно тень воспоминания проходила по ней.
А тот, кто был ей дороже всех на свете и кого по запаху следа она бы нашла за сотни и сотни верст в ночь, в метель, в войну и в лабиринте ада, если бы они попали туда вместе, и кто был для нее Главной и Самой Умной и Лучшей Собакой на свете, тот, в шубе и каракулевой шапке пирожком, проходил мимо, даже не взглянув на нее. И она стояла недвижимо, раскорячив длинные, тонкие, слабые, искривленные и опухшие в суставах ноги и, дрожа от холода и недоумения, молча, устало и покорно глядела ему вслед, не смея без зова сдвинуться с места, пойти за ним, погреться о его колени. Так она стояла долго, каменная, размышляя или вспоминая. Потом она поворачивалась и, опустив морду, подходила к чужим воротам, и местные старушки, жалея ее, выносили объедки, а чужие мальчишки кидали в нее камни, но она никогда не огрызалась, а молча и поспешно отходила прочь, будто это так и должно быть.
РАЗБОЙНИК
Жил при доме отдыха кот, круглый, как бочонок, нахальное плюшевое мурло, великосветские усы, и был он тут словно по штатному расписанию, как повариха, затейник, садовник.
Когда утром все делали зарядку, он, вальяжный, с благородной бархатной сединой, тоже выходил на физкультурную площадку, зевал и умывался, а когда шли в столовую, он, обгоняя всех, направлялся туда же, бродил под столами, мяукал, толкал мордой в ноги и получал рагу, и цыплят в кляре, и котлеты «палкин», перепадала ему и шарлотка с яблоками, и цукатные сырки, а от манного пудинга он обиженно отворачивался: «За кого меня принимаете?»
В мертвый час и он, улегшись на солнцепеке, зажмурившись, предавался воспоминаниям, какие никогда и не снились котам городским и сельским, котам уличным, жэковским, и деликатно облизывался сиреневым язычком.
Он был обязательным участником всех мероприятий. Когда играли в викторину, сидел тут же и при каждом вопросе делал глубокомысленное лицо, и когда спорили, хмурил брови, а когда при неправильном ответе смеялись, он тоже профессорски улыбался. Любил он смотреть кино; какие фильмы — все равно, лишь бы мелькало, и ненавидел и презирал только игру в бильярд, ибо слишком часто получал шаром в морду.
Все это была видимая его жизнь. Но была еще другая, миру неведомая, глубоко личная, засекреченная, ночная, когда он выходил разорять соловьиные гнезда.
После заката солнца какое-то новое, мечтательное выражение являлось на его круглой, себялюбивой, отъевшейся за зиму роже. Осторожно, так, чтобы никто не видел, он заходил за тын и долго тут стоял, оглядывался и прислушивался.
Там, дома, среди соломенных кресел и пинг-понговых столов, он расхаживал свободно, сонно мурлыкая и поминутно обращая на себя внимание: «Я весь налицо, весь нараспашку».
Но вот он задумал разбойную операцию «Соловей», — знает, что идет по воровскому, мокрому делу, и как изменился!
Крадется он среди бурьянных трав и одуванчиков, окольной, непротоптанной тропинкой, тигриным шагом, по-пластунски припадая к траве, только спина изогнулась, только хвост трубой, только искры. И, сукин сын, еще петляет, заметает след, на психологию давит — вот встретился на пути домик, так он и к домику подошел, поднялся по ступенькам на крылечко, словно шел за молочком, и вдруг оглянулся: наблюдает кто? И шасть назад, в траву. А если заметит чей-то взгляд, начинает несчастно прихрамывать и суетиться: мол, ищет травку для лечения, мол, животом заболел, мол, хворый я, несчастный, все вокруг цветет, радуется и аукается, а я иду в овраг умирать.
Но вот он появился на открытом опасном склоне, и вдруг пошел скачками, скачками к кустам у пруда, где соловьи и веснянки. Тут мы его однажды и встретили в засаде, и как только он увидел нас, сразу все понял, припал к земле, слился с землей, с головой и плечами ушел в траву.
Мы его шуганули. И он как прыгнул, как взвился, будто выпущенный из пращи. Где уж тут хромоножка, где уж тут несчастненький — летит, как фаустпатрон, лишь трава свистит, лишь одуванчики разлетаются.
А когда мы пришли к дому, он сидел и умывался, такой честный, искренний, и все время лез на глаза, доказывая свое алиби.
КУМИР
Любочка, ученица магазина «Женская одежда», увлекалась знаменитыми людьми. Она покупала все открытки киноартистов, космонавтов, теноров и даже завела для них альбом.
И вот вдруг сегодня она встретила на улице знакомое, уже почти родное ей знаменитое лицо. Это был ее кумир, ее мечта. Улица показалась Любочке иллюминированной, и вокруг был салют.
Стуча каблучками, она опередила кумира и заглянула в его живое долгожданное лицо и встретила хмурый, невидящий взгляд.
Потом она долго, как в тумане, как в чаду, отравленная веселящим газом, шла за ним, замечая его шляпу с узкими полями, модное приталенное пальто, из-под которого выпячивало маленькое, круглое, как у шмеля, брюшко, ярко начищенные узконосые мокасины, чтобы потом все-все рассказать подружкам.
Вот знаменитый остановился у табачного киоска и купил пачку сигарет, и она про себя отметила с удивлением: «Шипка».
Потом он подошел к будке чистильщика, капризно о чем-то поговорил с ним, и тот вытянул пару шнурков, а он порылся в кошельке, долго сосчитывал бронзовые монетки, дал чистильщику и спрятал шнурки в карман и пошел дальше.
А Любочка плелась за ним, почему-то уязвленная мелочностью его покупки и мыслью о том, как он может думать и помнить о такой чепухе.
И тут ее знаменитый вышел на угол к метро, где возле толстухи в белом халате, торговавшей пирожками, выстроилась очередь, и покорно встал в затылок какой-то старухе.
А Любочка замерла поодаль и не верила своим глазам. У нее от волнения и недоумения пересохло во рту.
А знаменитый, как ни в чем не бывало, в шляпе набекрень, в приталенном пальто и узконосых туфлях, стоял среди девчонок и стариков.
Подошла его очередь.
— Один с рисом и один с повидлом, — сказал он кукарекающим голосом.
Получив пирожки в маленьких квадратиках бумаги, ее кумир отошел за будку-автомат и, тупо глядя в стену, стал жадно есть, даже не есть, а как-то всасывать пирожки, от удовольствия дрыгая ножкой.
А Любочке хотелось плакать.
СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
В вагон метро вошел человек в брезентовом плаще и высоких сапогах, сел, строго огляделся вокруг и покосился в тетрадочку своей соседки налево — там чертежики, формулы, девушка читает и про себя шевелит губами. Он недоверчиво глядит на нее, потом в тетрадочку, потом снова на нее и удовлетворен: «Порядок!» Затем он косится в книгу соседа справа. Гражданин в зеленой шляпе и галстуке с разводами читает учебник английского языка. Он долго глядит на незнакомый алфавит, потом недоверчиво на зеленую шляпу и немыслимый галстук: «Иностранец!» Нет, что-то не нравится ему. Но тут вдруг в поле его зрения попадаю я с раскрытой записной книжкой. И теперь он уже не отвлекается ни вправо, ни влево. Он следит за тем, как бегает мой карандаш, оглядывается — замечает ли это еще кто, и мучается.
На выходе из вагона он легонько берет меня за локоть:
— Гражданин, вы что фиксировали?
— А вам-то что?
— Покажи свою первую строку, что фиксировал?
На платформе он зовет милиционера.
— Пусть покажет блокнот, что фиксировал.
— А в чем дело? — говорит сержант.
— Вот он сидел и что-то записывал.
Сержант смотрит на меня, на него и вдруг говорит:
— Каждый человек имеет свое я и может распоряжаться им, как хочет.
— А бдительность? — говорит тот и глядит голубыми глазами убежденности.
БАНКЕТ
Когда мы пришли в модерновый ресторанчик на улице Горького, в первом зале под разноцветными светильниками было тесно, шумно, накурено, и мы прошли, во второй.
Вдоль всего зала от стены к стене стояли длинные банкетные столы, великолепно уставленные снедью — салаты были украшены, как торты, на серебряных блюдах спали розовые поросята с петрушкой в ноздрях, от оранжевых раков шел пар, мелькали белые головки «Столичной», серебряные горлышки шампанского, красносургучные печати портвейнов, по краям стояли батареи пивных бутылок.
— Медицина гуляет! — сказал официант.
За столами сидели важные, седоусые терапевты, ухоженные румяные осторожные старички и молодые, пробойные лекари с проборами по лекалу, наполовину аллопаты, наполовину гомеопаты, сторонники последних мето́д, и ели, и пили, и веселились, и произносили тосты с латинскими поговорками.
Оказалось, это был банкет по случаю годовщины удачных экспериментов лечения голодом.
Официанты шли белой цепью и несли шипящую на углях поджарку, шашлыки на длинных шпагах и истекающую соком колбасу по-извозчичьи.
ФИЗИОНОМИКА
— В тот день я очень торопился, неосторожно заехал колесом на осевую и не заметил, что за мной нарочно едет и наблюдает милицейская машина. Она обогнала меня и дала знак — остановиться. Из машины, как куколка, вышел красавец майор с ангельским лицом, в новом габардиновом плаще и щегольских начищенных сапожках.
— А ведь придется вас послать на экзамены, — сказал майор.
— Извините, но если бы вы знали, товарищ майор, куда я торопился! — пытался я перевести разговор на легкомысленные рельсы. Но это успеха не имело.
— Придется, придется, — сказал майор и кликнул кого-то.
Из машины неохотно вылез капитан с лицом кинематографического злодея — низкий лоб, перекошенная шрамом щека.
— Капитан, есть у вас направление на экзамен? — спросил майор.
Капитан мрачно глядел в сторону:
— Нет..
— Ваше счастье, — сказал мне майор. — Ну что же, сделаем прокол.
— Надо так надо, — покорно сказал я, протягивая талон.
— Капитан, есть у вас компостер?
— Есть, — так же мрачно, глядя в сторону, сказал капитан.
В это время заморосил дождик, и красавец майор юркнул в машину.
— Пробейте там, капитан!
Капитан-злодей вынул из кармана компостер и все так же мрачно, глядя в сторону, тихо сказал мне:
— Пробью тебе мимо. — И как бы с усилием нажимая на компостер, он щелкнул впустую.
Рассказчик — старый тертый автомобилист — вздохнул:
— Иди после этого верь в физиономику.
ВОВА
Я познакомился с ним на юге в санатории угольщиков.
Вова был дородный, толстогубый, кучерявый блондин, лет двадцати восьми, с холеной бородкой, борцовым разворотом плеч и железной переносицей.
Он один занимал литерную комнату, большую, солнечную, с балконом на море, и еду на подносах, под крахмальными салфетками, ему носили в номер официантки в ангельских наколках, и тогда оттуда слышался Вовин селадонный бас и затем хихиканье, будто Вова их щекотал, и они выходили раскрасневшиеся и счастливые минутой полнокровной жизни.
Вова с каким-то коллекционным интересом вербовал своих поклонниц всюду — в санатории, на пляже, в городе, но больше двух дней ни с одной не встречался, а они поджидали его на углах и устраивали скоротечные курортные скандалы, крича: «Сачколов!», и Вова печалился и говорил: «Неразумная бабенция».
За месяц на моих глазах прошла череда брюнеток, блондинок, рыжих и платиново-седых, тощих и тучных, молоденьких девочек, которых Вова небрежно называл «ватрушки», и пожилых матрон, которым Вова говорил «мамочка».
Однажды, когда очередная его гостья, дебелая, перезревшая, большая, как городовой, в чем мать родила, Мессалиной, выбежала под яркое небо на балкон, и все отдыхающие ослепли, и случайно оказавшийся внизу начальник АХО, бывший кавалерист, закричал: «В сабли!», Вову, по распоряжению главврача, срочно уплотнили, он лишился своего привилегированного положения и сам стал ходить в столовую, но это уже было в конце путевки.
Вова жил широко, денег не считал и каждый вечер отправлялся с шумной компанией деляг на «Горку» или ездил на такси в «Гагрипш», где ели цыплят-«табака», или еще дальше, на озеро Рица, где им подавали на раскаленных сковородках свежую, только выловленную форель и джаз пел для них «Чаруй, Анюта!». Все пили водку, а Вова портвейн.
Ночью Вова при свечах играл по большой в префер, и в широкие окна тучами летели мохнатые бабочки. Вова отмахивался от них и говорил: «Сгинь!»
Однажды, когда мы пошли за газетами, я его спросил:
— Вова, а какую ты занимаешь должность?
Он спокойно ответил:
— Я поп.
— Ну да?!
— Честно, поп.
— А ведь ты неверующий, тебе все равно, что Христос, что аллах.
— Мне-то безразлично, хоть Будда, — сказал Вова.
— Зачем же тебе это надо?
— Видишь ли, у нас еще много верующих, и нельзя доверять их воспитание случайным людям.
— А кто тебе платит, сами верующие?
— Весь доход идет в церковный фонд, но мы ведь квитанции на пожертвования не даем, — ответил поп Вова.
В киоске «Союзпечати» он купил «Футбол» и «Советскую культуру» и на обратном пути мурлыкал: «Пусть всегда будет солнце…»
ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД
За столом собралась вся семья — старшая дочь с мужем, сыновья с женами, внуки, гости.
Во главе стола — маленькая женщина с лицом калорийной булочки и взбитыми радиоактивными волосами.
Некогда она училась на юридическом факультете, потом вышла замуж за ответственного работника, бросила юриспруденцию, народила детей, воспитала их в высоком духе, переженила и теперь активно влияла на новые семейные очаги.
— Женечка, — обращается она к одной из невесток, — попробуй, Женечка, феноменальный плов, который приготовила наша Аллочка, я тебя уверяю, проглотишь вилку вместе с пловом, и я не удивлюсь. Наша Аллочка могла бы сделать феерическую карьеру. Когда она была еще совсем крошкой, ее погладил по голове сам Гольденвейзер. Но Аллочка благородно подарила свою жизнь Дим Димычу, на алтарь науки. Расскажите нам, что вы там изобрели, Дим Димыч, в своем почтовом ящике?
Дим Димыч, зять, худущий, желчный, как похоронная свеча возвышающийся за столом, отводит глаза и молчит.
— Он у нас очень скромный, Дим Димыч, очень, очень. И это хорошо, я вам говорю, хорошо. А что, лучше иметь зятя нахала, говоруна? Ха! Ради бога. Избавьте. Я ретируюсь.
Витюшенька, — говорит она младшему сыну, толстому мужчине с усиками, — Витюшенька, скажи что-нибудь остроумное. Наш Витюшенька очень, очень остроумный, а наш папа, Лев Семенович, был еще остроумнее. Наш папа, Лев Семенович, был очень красивый, очень, очень, еще красивее Витюшеньки. Витюшенька красивый, но Лев Семенович был еще красивее, он был ниже ростом, но толще, толще, и очень красивый и остроумный. И вы знаете, на кого он был похож? На Олега Стриженова. Как это ни парадоксально!
Магдалина, — обращается она к другой невестке, — твой муж Витюшенька гроссмейстер, не какая-нибудь пешка. Ты должна за ним тянуться, ты должна регулярно читать шахматный листок и разбирать композиции и быть полноценной помощницей своего мужа.
А вот когда наш Юрочка, — она обращает лицо к старшему сыну, — был еще вундеркиндом, он был неземной, он говорил: «Мама, а трава голубая?» Никто, никто не видел этого, все думали, что трава зеленая, а он увидел ее голубой и лиловой, — помнишь, мой мальчик, мой ангелочек, как ты увидел траву лиловой?
Ангелочек, багровый от коньяка, в одышке сопит над тарелкой, поедая крабы в майонезе.
— Перестань, мама, я тебя умоляю.
— Что значит умоляю? Я разве говорю неправду? Я ведь говорю святую высшую правду. Пусть все знают, как у тебя устроены хрусталики глаз. Это не военная тайна.
Аллочка, доченька, расскажи гостям, как вы с Дим Димычем провели праздник Первое мая в своем кооперативном доме композиторов. Какой прекрасный дом. Единственный! Он весь звучит музыкой, каждая квартира — это храм музыки. Кто еще живет в вашем доме, кроме вас? Шостакович?. Нет, не живет Шостакович? А Святослав Рихтер живет? И Матвей Блантер живет? В одном подъезде? И уже, наверное, живет доцентка Леман-Крандиевская!
Леман-Крандиевская! Моя подруга, моя лучшая, самая старая, самая милая, роскошная подруга. Она заболела и просила купить и принести ей в больницу двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской и два сырка сладких. Я пошла в магазин и купила, как она просила, двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской и два сырка сладких, и еще от себя банку варенья, по своей инициативе. И она очень, очень обрадовалась мне, хорошо приняла, и тут же заплатила за двести грамм сыра датского, триста грамм колбасы любительской, два сырка сладких, а за варенье нет. Мелочная!
Сенечка, возьми элегантно пирожное эклер, — говорит она мальчику с жадными глазами. — Наш Сенечка тоже из ряда вон выдающийся. Он учится в школе с английским языком обучения. Сенечка, деточка, скажи по-английски: «Я люблю родину».
Ах, дети, мои дети, вы даже не понимаете, какое счастье выпало вам жить в нашу эпоху.
ЭТОТ СЛАБОТОЧНЫЙ КОЗЮЛЬЧИК
Только в моей новой квартире установили телефон и монтер сказал: «В ажуре!», как аппарат немедленно зазвонил. Никогда в жизни я не слышал такого сильного, длительного, упоенного звонка. Пустой, еще пахнущей краской и лаком гулкой квартирой овладел глагол жизни, и властный, не терпящий проволочек бас потребовал в трубку:
— Козюльчика!
— Такого не держим.
— Как это не держим? Это СМУ? — диктаторски произнес бас.
— Нет, и уже не будет, теперь это частная квартира.
— Частная? — грозно переспросил бас, и казалось, в руках он держит молнию.
— Да, частная, представьте себе, частная, — сказал я с удовольствием и легкомыслием новосела.
Через минуту телефон снова задребезжал и робкий женский голос еле задышал в трубку:
— СМУ? Будьте любезны, нельзя ли пригласить к телефону Козюльчика?
— К сожалению, нет Козюльчика, это частная квартира.
— Частная? Извините, — жалобно-горько протянул голос, и мне стало жаль ее и себя.
Но только я положил трубку, опять аппарат затрезвонил, и так, что посыпались Искры.
— Да что это за кавардак? — закричал голос сквозь шумовой фон работающего предприятия.
— Не орите!
— Как не орать? А что, на колени перед вами становиться?
— Да вы куда звоните?
— В СМУ, в данный момент звоню в СМУ, Козюльчику, вот куда я звоню.
И еще много дней и ночей, месяц за месяцем, беспокоил меня этот слаботочный Козюльчик. Меня приглашали «на троих» и, ничего не желая слушать, ругали за «безлюдный фонд», посреди ночи требовали какие-то колосники и справлялись, как я лечу щитовидку, и передавали пламенный сибирский салют от дяди Эдуарда Кукушкина.
Теперь, снимая по звонку трубку, я бесстрастно, безлично, как метроном, сообщал:
— Частная квартира, это частная квартира.
Телефон тотчас же снова звонил, и взволнованный голос хотел выяснить, как, и что, и почему, но у меня не было желания разводить байки, и беспощадный магнитофонный голос повторял:
— Честная квартира, это частная квартира.
Иные верили сразу и исчезали навечно, отыскав по каким-то другим каналам нужного им Козюльчика. Но другие перезванивали и второй раз, и третий, чтобы окончательно убедиться. А некоторые так и на третий раз не верили и говорили:
— Сейчас же бросьте разыгрывать, вы на работе, позовите немедленно Козюльчика.
Козюльчик как бы угнездился в этом маленьком бежевом аппарате и показывал мне рожки.
Наконец мне все это надоело и однажды я ответил:
— Козюльчик умер.
— Как это умер? Он обещал нам алебастр.
— Вот, после обещания и преставился.
— Не может быть! А кто же отпустит нам алебастр?
— Умер… Умер… Умер… — загробно повторял магнитофонный голос.
И были оптимисты и пессимисты.
Оптимисты отвечали: «Все там будем!» — и бросали трубку, а пессимисты молчали, и в долгом молчании была быстротечность жизни, а потом они осторожно давали отбой, и гудки были тонкие, плаксивые, уходящие в вечность.
Минул год. Никто больше не спрашивает Козюльчика.
И мне почему-то грустно без него.
Козюльчик, где ты?
ЗАБАЛЛОТИРОВАЛИ
На маленькой станции в вокзальной забегаловке сидят двое, номенклатурные деятели районного масштаба в кепочках и черных прорезиненных плащах, и пьют перцовку, закусывая «Джермуком». У одного жалкое, потерянное лицо, у другого вялое, равнодушно принимающее действительность.
Чуть не плача говорит жалкий:
— Я двадцатый в списке, а был бы шестнадцатым, прошел…
— Шестнадцатый шестнадцатым, двадцатый двадцатым, а все равно не на уровне, не к моменту, — упрямо откликается второй.
— А ты знаешь, — загорается вдруг жалкий, — надо было Шанина гробить, а Шмонина поддержать.
— Все равно, уже твое прошлое молодецкое прошло, — вякает второй, — жми до пенсии.
Ему не терпится выпить, он поднимает стакан, чокается:
— Вива Куба!
Жалкий покорно поднимает граненый стакан с перцовкой, пьет залпом и с отвращением запивает горьковатой водой и, глядя на пустые стаканы, со слезой говорит:
— Не жалеем себя, Семен.
ЗОЛУШКА
В сумерках по пляжу ходили санаторные парочки. Девушка с длинным тонким носом Буратино говорила своему спутнику:
— Я, как Золушка, потеряю туфельку, а вы, как принц, ее найдете, хорошо?
Он, в широких тяжелых штанах из жатки и фисташковых сандалетах мелитопольского покроя, в мелких дырочках, не отвечая, уныло топал за нею.
А она все время капризно покрикивала:
— Будьте принцем, я хочу, чтобы вы были принцем.
Взошла холодная балтийская луна.
Она остановилась и сказала:
— Я хотела бы иметь платье из белых лотосов. — И, подняв к нему лицо, попросила: — Ну, скажите мне что-нибудь солнечное…
Он обнял ее огромными ручищами и замычал.
«ВСЕСИЛЬНЫЙ СОЛИДАР»
Замучил сапожник пятого разряда сапожно-ремонтной мастерской города Моршанска. Каждую неделю присылает новую поэму.
«Дорогой товарищ поэт!
Я, конечно, сапожник, сижу и забиваю гвозди молотком, но в голове моей шевелятся отдельные мысли, которые хочу передать потомству. И вот, сидя за сапожным инструментом, я выдумываю жизнеутверждающие оптимизмы — заветы трудящимся.
Я, конечно, имею дело с дратвой, с варом, это мой хлеб, но хочется высказать идеи для счастья человечества и всей системы.
Голова моя облысела, хотя не так стар. Виною тому Отечественная война, трудности пропитания».
К письму приложена поэма «Всесильный Солидар» об интернациональной дружбе и фотография. У автора вид философа, который хочет познать жизнь и объединить весь мир. Перед ним аккуратно разложены сапожные инструменты.
ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ
Когда-то я жил на Арбате и соседкой моей была девушка из семьи знаменитых русских цирковых дрессировщиков. В комнате ее, у окна, стоял большой, похожий на подводный грот, аквариум, в котором среди красных водорослей и перламутровых ракушек, в зеленоватой сказочной воде жили золотые рыбки.
Это нам кажутся все рыбки одинаковыми. А для нее каждая была личностью со своим характером, своим норовом, были рыбки кроткие, ленивые, были шалуны и капризули, были всеядные и рыбки-гастрономы. И каждую она нарекла, как человека, именем.
Длинная, стремительная вертихвостка была Василий. Толстая сонливая рыбка была Тарас. Маленькая, юркая, хищная, на лету хватающая корм, была Валентин.
Для них тоже все люди были на одно лицо, только хозяйка их была другая, и в темноте они узнавали ее силуэт, ее фосфоресцирующее лицо, а на ее певучий голос откликались. И стоило только ей позвать: «Василий, Василий!..», как Василий тотчас же бросал суетные дела свои, подплывал к стеклянной стенке и глядел выпученными глазками: «В чем дело? Я тут!»
Каждый день ранним, ранним утром, когда квартира еще спала, и вечером, после работы, она кормила свою золотую гвардию и из-за двери слышалось: «Василий… Василий… Ап!.. Тарас… не зевай! Валентин… брось свои хулиганские штучки!..»
Однажды зимним вечером, во время очередного кормления, она зачем-то внезапно открыла дверь в кухню, и от дверей, грохоча сапогами, отскочил пузан в габардиновой гимнастерке с широким военным ремнем.
— Вы, конечно, извините, — сказал управдом, — но поступили сигналы. У меня режимная улица, а у вас без прописки живут каких-то два Василия, один Тарас и один Валентин.
НА ПОХОРОНАХ
Дальнее кладбище за городом. Холодный дождь со снегом.
Шофер черного похоронного автобуса, сгрузив гроб, тут же разворачивается и собирается уезжать. Плачущие родственники уговаривают его подождать до конца похорон.
— Не могу. У меня наряд.
Ему суют три рубля.
— Не имею права срывать план.
Ему дают пять рублей.
— Меня деньги не интересуют.
Дают красненькую.
Он прячет ее, скомканную, в карман и тут же начинает бешеную деятельность.
Он опускает гроб в могилу, командует: «Вира! Майна! Потише. Чуть-чуть. Порядок. Амба!» Он утешает: «Мамаша, не убивайтесь, все там будем…» На обратном пути рассказывает анекдоты армянского радио.
В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
— Вывесили на кухне стенгазету: «Не шумите в квартире», а если настроение такое? — сказала молоденькая мастерица, работая ножницами.
— Это чтобы после одиннадцати часов и не драться, не скандалить, — пояснил клиент в кресле.
— Ну так бы и написали — не драться и не скандалить, а то — не шумите. А где же шуметь? Если с мужем ругаться, что, на улицу выходить?
— А вот у нас соседи ужасно плохо живут, — сказала другая, пожилая мастерица, — но все молчком, все у себя в комнате, порознь спать лягут, а выйдут на кухню, он ее — Анечка, а она ему — Димочка. Вида не показывают.
— Это силу воли надо иметь, — откликнулась начавшая разговор молоденькая парикмахерша, и в глазах ее были слезы.
ТАЯ И ТОЛЯ
Лет пятнадцать назад моими соседями по коммунальной квартире были Тая и Толя.
Тае было пять лет, а Толя старше ее на четыре месяца. И всегда они цапались. Утром, только выйдут из своих комнатушек, коридор тотчас же поделят пополам, проведут мелом линию: «Это моя, а это твоя. Не ходи на мою половину».
Весь день только и слышно:
«Не трогай нашу скамью для корыта», «А вот я трону ваш шкафчик».
Где бы Тая ни стояла, Толя пройдет и обязательно заденет ее, хоть чуточку, и скажет: «У, гадюка!»
А когда Тая ложилась спать, Толя начинал греметь железками. И на жалобу Таиной матери мать Толи говорила: «Толечка, перестань, барыня легла спать».
Недавно я узнал, что Толя и Тая поженились. Регистрация состоялась во Дворце бракосочетаний Бауманского района.
ВОР ПЕТЯ
Милютина, профессора музыки, в бане обокрали. Забрали все подчистую, даже подтяжки, и по номерку получили пальто на вешалке. Милютин, в простыне, босиком, пошел к автомату и позвонил домой, чтобы принесли одежду.
На следующий день в квартире раздался телефонный звонок.
— Вы Милютин? Мы вас по недоразумению обидели. Все вернем. Мы слышали вас в филармонии.
— Вы ходите в филармонию? — спросил Милютин.
— Да. Много народу бывает. Самая работа идет. Мы вам все вернем, правда, уже часть продана, но деньги вернем.
— Ничего не надо, — сказал профессор. — Верните записную книжку и старые часы.
— Хорошо. К кино «Арс» придет мальчик и все принесет. Только вы его не задерживайте, это ни к чему, мальчик ничего не знает.
Пришел мальчик.
— Вы Милютин? Вот вам передали.
К вечеру позвонили по телефону.
— Это Петя говорит. Ну, принес мальчик?
— Да.
— А то мы его сейчас проверяем на работе.
Потом стал изредка названивать:
— Говорит Петя. Как живете, профессор?
Однажды позвонил:
— Говорит Петя. Приходите, профессор, на свадьбу. Будут цыгане.
— Нет, не могу, много работы.
— Товарищ Милютин, ну что работа, жить надо!
НА ТЕРРЕНКУРЕ
— Познакомились мы с ним на терренкуре, в Кисловодске, — рассказывал литератор Н. — Он был всегда в должности, сколько себя помнит, еще с юности. И вид, и походка, и рассуждения особо значительные, чрезвычайно уважающие себя и непререкаемые. Сейчас после очередного пожара он был в опале, но не особенно унывал и в уверенности, что скоро позовут, ходил по золотым дорожкам, отдуваясь.
После терренкура зашли мы на почту, я получил бандероль — только что вышедший из печати сборник рассказов.
Его первый вопрос, как только он взял книгу в руки:
— Сколько вы получаете за этакую книжонку?
Хотелось мне ответить: «…А вы за работенку?», но я сдержался и сказал:
— Ну, я не помню, тут есть и старые рассказы.
— Нет, а все-таки, а все-таки.
— Ну, тысячи две, не больше.
— Две тысячи? За это? Нет, все-таки, как хотите, я ведь очень уважаю писателей, но вот за рубежом, — партия ведь послала меня на загранработу, — писатели все служат, они не могут прожить на гонорар. И у нас, по-моему, писатели должны где-то работать, тогда они и жизнь будут знать.
— А вот вы бы днем — каталем, — сказал я, — а вечером на дипломатических раутах.
— Ну, вы не утрируйте! Вот Пушкин ведь работал в Иностранной коллегии, и Лермонтов был в армии, а Толстой был помещик. Если бы у нас все писатели работали на заводах, ну, в многотиражках или замначальника цеха, вы представляете, как это было бы хорошо. И как это обогащает! Поработали, а потом, прийдя домой, описали. Это было бы прекрасно.
— Но ведь тогда бы они получали и зарплату и гонорар!
— Ну, это можно было бы сбалансировать, — пообещал он.
ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ
Артист принес «тенора» — канарейку. Он привык, утром «тенор» поет, а вчера тот вдруг замолк, надулся, нахохлился, как солист, которому не дали ставки! Оказалось, воспаление голосовых связок. Прописали одну каплю пенициллина.
Мальчик принес в корзинке ежа. Разбили бутылку, и ежик накололся. Его направили к хирургу.
Две девочки притащили завязанную в платок черепаху, она что-то проглотила. На рентген!
Маленькая старушка пришла с судком и попросила свидания с лиловым шпицем, — он стал лысеть и его срочно положили в больницу.
Шпиц вышел сердитый, неразговорчивый и какой-то отчужденный, но, увидев судок, тотчас же, рыча, уткнулся в него, а старушка умильно приговаривала:
— Ешь, ешь, проголодался на рационе.
НОВОСЕЛЬЕ
Эстрадный куплетист, вечный бродяга и одиночка Лепа Синенький получил комнату и пригласил на новоселье своего друга, знаменитого украинского актера Б.
Комната большая, гулкая, совершенно пустая, пахнущая холостяцким сиротством, и только по голым, с рваными обоями стенам развешаны бумажки: «Вешалка красного дерева», «Козетка»…
Б. сразу входит в игру, барски скидывает с себя шубу и осторожно вешает ее на воображаемую вешалку. Он останавливается у «Трюмо красного дерева», он прихорашивается, он сдувает пылинку с лацкана, он настраивает свое лицо — оно хмурится, оно важничает, оно улыбается, — он как бы подбирает маску и, остановившись на томно-вежливой улыбочке, вступает в апартаменты, шаркает ножкой, раскланиваясь с хозяевами, с ним и с ней, отвечает на приветствия, с кем-то знакомится, капризным голоском повторяя: «очень приятно», «ужасно приятно».
Теперь он знакомится с «библиотекой» хозяина. Навешанные друг над другом бумажки сообщают: «Шекспир», «Шиллер», «Бабель».
Он идет вдоль стен и разглядывает картины: «Рубенс», «Рембрандт», «Боттичелли».
— Но вкус какой! — говорит он.
Наконец он подходит к «козетке» — расстеленным на полу газетам «Радянське село» и лениво, салонно укладывается, заложив ногу за ногу, закуривает воображаемую трубку, пускает дым кольцами, принюхиваясь к табаку «Золотое руно».
Теперь подыгрывает хозяин. Он молитвенно открывает дверцу «Бара красного дерева», он зорко вглядывается в его роскошную золотую глубину, в глазах его рябит от обилия иностранных этикеток, разнокалиберных фигурных бутылок, но вот он наконец увидел то, что ему нужно, — ту единственную, ту заветную, испанскую, древнюю, XVII века, королевы Изабеллы, или Святого Франциска, или кого-то там еще, кто был в Испании или где-то там в другом месте, — в истории он не так крепок, — он любуется бутылкой, игрой света, переливами, букетом, он приглашает гостя полюбоваться, понюхать… наливая в грубые грешные граненые стаканы «Московскую особую».
Они чокаются.
— Ну, Лепа, наживай дальше! — говорит Б.
Жадно, одним глотком, они опрокидывают горькую, потом деликатно берут с газеты кружочек любительской колбасы, обнюхивают его и, сжевав, смеются и смеются, и уже, сами того не замечая, постепенно снова входят в игру, в вечную игру, вечный спектакль нашей единственной на этой земле жизни.
ПУТЕШЕСТВИЯ
МОЕ ОКНО НА ЧЕТВЕРТОМ ЭТАЖЕ
1
На этот раз все началось задолго до того, как я ожидал, тотчас же за сибирской станцией со смешным и нежным названием Усяты. В давние времена, которые я помнил, лет тридцать пять назад, надо было ехать еще часа два пустынной местностью с кочкарником на унылых болотах. А теперь сразу же за выходным семафором по холмам пошли гигантские тени терриконов, словно землетрясение выбросило на горизонт новый горный хребет. Значит, пока меня тут не было, возникли эти черные холмы отработанной породы, изменилась география местности, преобразился лик земли.
И вот уже вдали встали знакомые желто-опаловые дымы.
И холмы, покрытые мелким, низким, корявым березняком, и ржавые мхи болот, и опушка леса — все кажется знакомым, и уходящая в глубь леса тропинка защемила сердце: «Ты нас забыл, оставил, а мы все здесь», и одинокий на затерянных путях мокрый вагон тоже кажется старым знакомым и смотрит на тебя, будто хочет поговорить, поделиться своей тоской.
Гулко побежали трубопроводы, черные, расходящиеся станционные пути, гудят гудки, поют рожки, мелькнуло кладбище отработавших свою жизнь слепых локомотивов, длинные пустынные улицы красных теплушек.
И за каким-то поворотом, на полном ходу, под непрерывное гудение сирены, под стук колес, стук буферов, под шибкий ход, в котловине, полной легкого и прозрачного фиолетового тумана, вдруг открылся от края до края, со всеми башнями, трубами и эстакадами, в черных, янтарных, кирпично-красных дымах, завод и поплыл навстречу, будто гигантской кистью нарисованная на фоне гор и неба живая, огнедышащая картина.
А когда поезд остановился, стал слышен отдаленный гул.
Что за странность! Когда вы приезжаете на место, где когда-то жили, тотчас же все, что было тогда, сплавляется с днем нынешним в одно, а что было между этим, не существует.
Все так же, все так же черно и густо дымил широкогорлыми трубами ЦЭС, похожий на заплывший в середину материка океанский лайнер; все так же спокойно, сонным белым дымком курились свечи доменных печей; и вдруг страшный реактивный рев огласил окрестности, возникло бурое вихревое облако, напоминая то давнее, молодое время; и казалось, доменные печи сейчас сдвинутся и пойдут по горам и долам гулкими железными шагами; и все так же горело пожаром небо над коксохимом, и в блеске открытых печей клубился ядовито-желтый дым и медленно светлел, растворяясь в нежный цвет весенней травы, и вдруг, охваченный снизу пламенем, стал розовым, и облако с алыми отблесками огня оторвалось, медленно поднялось к небу и, как равное, пристроилось к тучам и вместе с ними величаво и равнодушно уплывало за гору, туда, где живут тучи.
Сколько ни глядеть, не наглядеться, как на горы: та же мощь, и спокойствие, и вечность…
2
А вокруг все изменилось.
Сразу за вокзальной площадью открылась широкая незнакомая улица многоэтажных домов с массой серых балконов и лоджий, однообразная и какая-то нежилая своим однообразием, и казалось, что это не самый город, а только серый макет, и в ярком солнечном свете разноцветные вывески — «Аптека», «Игрушки», «Книги» — выглядели странно и как-то чуждо, словно взятые напрокат из старого, обжитого города.
Я еду неизвестными гористыми улицами, между двумя рядами будто косо поставленных домов. И эти многоэтажные, бесконечно пересекающиеся улицы, просторные площади и скверы с гипсовыми горновыми и дискоболами — все будто во сне, и не узнаешь местности, и все себя спрашиваешь: «Где это?»
Но вот мелькнул путепровод через грифельную речушку, и я сразу узнал все. И зыбко и призрачно, как в свете старого-старого фильма с участием батька Кныша, увидел свое: одинокие березы, растрепанный ветром кустарник и самоварные трубы буржуек, дымящие над буграми «Копай-города», который весь в земле, только по дыму и можно определить землянку или просто нору с несколькими картофельными грядками, огороженными колючей проволокой.
Там, где я теперь стою, и где магазин «Синтетика», и дальше, где агентство «Аэрофлот», и еще дальше, где красные, монолитные кварталы новой городской больницы, — неужели это то же место, где был орешник, болотные тропинки? Эти трогательные тропинки, где в следы наливалась вода и я шел от реки, от водной станции металлургов, с красным от загара лицом, вольный, весь напоенный солнцем, ветром, гулом горной реки, любовью к ней и ко всему на свете.
А по насыпи бежала «кукушка» и кричала тонким, детским, беспомощным голосом, и, пыхтя, медленно полз поезд, составленный из стареньких зеленых и желтых вагончиков, который, не доходя до реки, останавливался, и пассажиры шли уже дальше низиной пешком к большому парому, переправлявшемуся на ту сторону, к топольнику, сквозь голые фиолетовые ветви которого виднелись зеленые купола церквей и белые казенные здания маленького, темнобревенчатого провинциального городка.
3
Чем дальше в центр, тем улицы становятся оживленнее, звенят трамваи, с гулом идут по своим маршрутам городские автобусы.
Город как город.
Как и всюду, маленькое завихрение у кино: «Нет ли лишнего билетика?» А у ателье «Химчистка» — тихо и пусто: «Лимит на сегодня и завтра исчерпан». И шумная толпа у ресторана «Иртыш» — сегодня привозное бочковое пиво. У парикмахерской с плакатом в витрине «Шестимесячная завивка с двухмесячной гарантией» — тихая терпеливая очередь в разноцветных беретах и высоких сапожках на микропорке.
И те же витрины книжного магазина — знакомые запыленные брошюры «Гнездовой сев хлопка». И в кафе «Чайка» тот же, в бронзовом багете, роскошный натюрморт «Банкетный стол», с рябчиками и ананасами и ирисами в вазах, а на зеленых пластмассовых столиках — треска и странно желтый, будто из затвердевшей глины, шницель.
Город как город. Но этот город мой, хотя он и вырос без меня. Всюду я нахожу знакомое, родное, памятное. То это какой-то дом среди других домов на новой улице: «Этот еще был тогда», то поворотный круг трамвая — «И тогда он тут поворачивал»…
И как удивительны эти старые, таежные, затемнившие улицу тополя.
Неужели это те самые коричневые слабые прутики?
…Был ветер, и лицо обжигал колючий песок. Мы сажали у края нового тротуара в маленькие лунки твердые голые хлыстики, порывистый ветер гнул их к земле, им было холодно, неуютно, и они дрожали, и никто не верил, что они когда-нибудь вырастут…
И вот они выше четырехэтажных домов и, отдыхая, положили тяжелые, шумные голубые ветви на крыши; они как бы срослись, сроднились с этими красно-кирпичными коробками соцгорода, по-родственному заглядывая в окна, и понимая их жизнь, и сочувствуя ей трепетаньем, пробегающим по листьям.
А я стою и смотрю, и смотрю… Когда же они успели так вырасти?
Всегда, когда мы приезжаем на старую, знакомую землю, нас больше всего удивляют деревья, тенистые рощи и парки, возникшие на памятных нам пустырях. Вот, значит, сколько прошло времени, если вырос уже лес; и время живо касается нас, шелестом листьев говорит, как много лет прошло, а мы и не заметили, словно не годы труда, горечи, утрат, а легкое течение реки, не оставляющее никаких следов.
А я иду в толпе по улице, жадно вглядываясь во все, читаю вывески.
«Индпошив», «Бытремонт» — все на этой улице кажется совсем иным, не будничным, ежедневным, а чем-то более высоким, необыкновенным, так удивительна для меня эта жизнь, возникшая как бы из ничего. Иногда начинает казаться, что этого нет на самом деле, что это все вокруг «играют в город».
Милиционер-женщина, в красивой щегольской фуражке на перманенте, крикнула в мегафон: «Гражданин, вернитесь! Нет перехода!»
Я стоял на перекрестке, вглядываясь в толпу с ревностью старожила, уехавшего из родного городами старался по лицам прохожих узнать, давно ли они здесь живут, временно или постоянно.
И вдруг в какой-то миг я все стал понимать, будто открылось волшебное зеркало и в нем я увидел прошлое этих людей и те далекие годы, когда тут все начиналось среди болотных кочек, на которых росла морошка.
Вот этот — с раскосыми глазами, в новом шевиотовом костюме и новой шевиотовой кепке, который важно, неторопливо гуляет под руку со своей грузной, расфранченной женой и раскосым, как он, мальчиком в каскетке, — да ведь это сын того, в полосатом ватном халате и заячьем малахае, одного из тех, которые вылезли тогда, в темный зимний лютый, день, из теплушек эшелона на запасном пути и пошли в своих халатах и малахаях, в ватных мягких сапогах странной, темной, как бы похоронной процессией с вокзала на шоссе и расселились в землянках и потом долго-долго мелькали в своих халатах и малахаях по котлованам, по траншеям Водоканалстроя.
Я видел, как постепенно сменили они малахаи на кепки. Идет такой, в разодранном, черном от земли, угля и пота халате и новенькой, еще жесткой, еще не привыкшей к голове крохотной кепочке. Потом я их видел уже в костюмах и в этих синих, грубых, шуршащих прорезиненных плащах, которые продавались в закрытом распределителе ударников. И они переселились в бараки, а потом в каменные дома соцгорода, и выписали к себе родственников — целые роды, целые колонии — оттуда, из круглых юрт в степи.
И вот это, должно быть, сын одного из тех, а маленький — уже внук, и оба они родились в этом городе, и это кровный, навеки памятный и единственный на всей великой земле город их детства.
Теперь я стал узнавать и стариков.
Суровые, сдержанные, в чисто выстиранных синих рубахах, они сидели в садике между домов соцгорода и уже с утра играли в шашки и, хитро оглядывая выцветшими от огня глазами мизерное поле боя, тяжелыми, темными, как обожженная глина, руками, привыкшими к лопате и лому, осторожно и раздумчиво передвигали самодельные фишки, сердито проходя в дамки…
4
Я иду старой дорогой и узнаю знакомые, хотя и перекрашенные в розовое и желтое бараки с вывесками и без вывесок. И мне приятно узнавать эти постройки, вспоминать, какие они были раньше.
Я долго бродил и вглядывался, пока наконец не нашел то, что искал. Как будто вот этот барак. Но теперь на окошках были занавески. У крылечка играла гармонь и пели частушки. Я заглянул в окна, но уже не увидел клетушек, где были партийный, производственный и культбытовой отделы, а в кабинете ответственного редактора теперь стояли высокие кровати…
А напротив, в длинном сером бараке был книжный магазин. По утрам, когда привозили книги, мы бегали сюда. И я помню в белых мягких обложках «Историю молодого человека XIX века» — «Вертер», «Кинельм Чилингли», и серые коленкоровые книги нового собрания сочинений Бальзака, и светло-кремовый с коричневым корешком Стендаль, и как мы вслух читали «Трактат о любви».
Чумазые городские петухи с серыми от мазута гребнями бессмысленно роют шпорами шлаковую почву у трамвайной остановки. Дети бараков плавают в зацветшей луже на надутой автомобильной шине. Проезжает старый, грубый, суриком крашенный трамвай, с прямыми, вдоль окон, скамейками, громоздкий, неуклюжий, и в бараках звенят стекла.
А я помню первый трамвай. Огромный, он появился среди темных землянок, на два этажа выше всей улицы, живой и неожиданный, как прибежавший из тайги сохатый. Трамвай двигался сквозь толпу медленно, осторожно, и кричащие, возбужденные, глядящие в окна пассажиры словно возвращались со свадьбы.
И когда стемнело и он, освещенный, веселый, звенящий, проходил мимо, то почему-то казалось, сейчас вокруг вспыхнет свет многоэтажных домов.
Все только начиналось. Начинался город. Начинались семьи.
Мальчишки, убежавшие из дому, мальчишки, все отрицавшие — и бога, и семью, и привязанности, — вдруг влюблялись и оседали, давали корень новой семье.
От трамвайного круга, где 3-й номер поворачивает к лесобирже, иду по знакомой тропинке, — несмотря на четверть века, удивительно сохранилась старая тропинка, — иду к гортеатру, теперь он кажется мне меньше и какой-то он жалкий, сиротливый.
Помню, как однажды ранним зимним вечером во тьме, там, где было болото, сказочно зажглись круглые фонари и раскрылся яркий театральный подъезд. Помню тепло и уют вестибюля и маленькие окошечки касс, как во всех старых, знакомых городах, вкусный аромат клейстера афиш и свежий лак вешалки. Капельдинеры в новой зеленой униформе, и люстры, и зал с рядами красных стульев, и сцена. Играли «Бесприданницу», и я с ходу влюбился в Ларису.
Неужели я тут был когда-то и мне было двадцать лет? Господи, я не вижу себя, какой я тогда был, когда ставили «Бесприданницу», и я был влюблен в Ларису, и встречал ее после спектакля, и ночью провожал за реку в старый город.
Я вошел в зал. По-моему, те же красные стулья и тот же тяжелый бледно-зеленый занавес. Здесь потрясала игра Ларисы.
И теперь я понимаю: снился, снился мне этот зал во время войны и после нее, много раз снился. И я не мог во сне вспомнить, что это…
И еще часто снился дом в соцгороде и моя комната. Снилось, что я ее закрыл на ключ и уехал, и до сих пор она закрыта, уже все затянуто паутиной — и кровать, и стол, и книга «Шагреневая кожа»; фотоаппарат «Любитель» и высокий желтый телефон с ручкой — в серой паутине, и я боюсь войти в комнату и все это увидеть.
Это была первая улица, которую нарекли «Проспект Энтузиастов», но никто не называл ее так, а говорили просто: д е с я т ь д о м о в.
Я вижу каждый дом, каждую дверь, вижу ту темную тропу, что вьется в открытом заснеженном поле, и справа, и слева, и впереди — горы наваленной земли, горы красного кирпича и леса — и так до самого горизонта.
А в десяти первых домах шла жизнь. В четвертом доме была гостиница, в которой уже давно никто новый не поселялся, а все жили старые жильцы с семьями, с молодыми женами, с малыми детьми, иногда с тещами, и в окнах сушилось белье. В десятом — коммерческий магазин «Акорта», где можно было купить только черный сатин, крабы и шампанское. Шестой — дом иностранных рабочих, где жили тяжеловесные немцы, механики фирмы «Демаг», в синих картузах с витым шнуром, и их толстые голубоглазые жены, и длинноногие веснушчатые дочки-подростки, — шумные семейства, которым тут же в немецкой столовой жарили свиные отбивные величиной с блюдце, пекли сдобы и калачи, контингент, который выпивал каждый день бочку пива.
Теперь я шел по этой знакомой и совсем незнакомой улице и словно сквозь туман, среди многочисленных новых, сияющих стеклом и алюминием домов узнавал те первые, до боли старые и голые.
Я отсчитываю дома, чтобы найти мой — пятый дом.
Вот он, все такой же, только чуть потемневший, чуть словно, он и пониже.
Сколько раз входил я в эту дверь под бетонным козырьком, и козырек теперь кажется особенным, теплым, именно только здесь таким. Но не вижу того, кто входил в эту дверь. Всех вижу, помню лица, улыбки, походку, слышу голоса, — только себя не вижу. Какой же я был тогда — в кожаной куртке, в кожаных штанах. Даже отражения в зеркале не помню…
Стою и гляжу на дом и не могу насытиться. И мне кажется, он тоже смотрит на меня и помнит меня.
Вот оно, мое окно на четвертом этаже, второе с края, большое, трехстворчатое. Там, казалось, повисла гигантская зеленая бабочка. Вглядевшись, я понял — это листья фикуса. Я жду — может, появятся тени той моей жизни. Сказочная возможность вдруг увидеть самого себя молодого потрясает.
Долго стоял я так и ждал, но окно мое было темное, немое. Хозяин или на смене, или на собрании, или в гостях выпивает. Кто он? И приходят ли к нему в этой комнате те же мысли, что и мне, снятся ли ему те же сны? И счастлив ли он и какая у него судьба? Чем-то он все-таки связан со мной.
А вот рядом крохотное окошко. Это даже была не комната, а кладовая, переделанная в комнату, и там поселилась девушка.
Она появилась совсем неожиданно. Просто однажды ночью, когда я пришел, я увидел там свет и услышал шорох, тихонький, осторожный, как шорох ласточки. А утром она мелькнула — худенькая, стриженая, печальная. Кто она, откуда, зачем приехала и есть ли у нее мать, отец, сестры, братья? Она успела уже повесить на окно яркую занавесочку, поставила цветочек на подоконник, и окно ожило, улыбнулось и говорило людям, что там живут.
Она была одна, все одна. Я никогда не слышал там голосов, ни мужских, ни девичьих, не слышно было и гармошки или гитары, как в других комнатах. Тихо было, как в келье. Вот она приходила, поворачивала ключ, дверь, скрипнув, отворялась и тотчас же, скрипнув, захлопывалась. И больше уже ни звука. А свет в замерзшем окошке был легкий и смутный и отчего-то казался мне таким печальным.
Как она жила, о чем думала, какие книги читала? Однажды в воскресенье утром я к ней постучался.
— Сейчас, сейчас, — поспешно ответили за дверью.
— Можно у вас немного соли, — сказал я.
— Простите, нет у меня соли.
На меня грустно смотрели милые, разноцветные, как у котика, глаза. В зеркале отражалось солнце. Я успел заметить аккуратный белый половик, а на стену она повесила открыточки и фотографии, устроила так свое гнездышко — уютно и чистенько.
— Не скучно вам? — сказал я.
Она взглянула на меня и промолчала.
Так я ничего о ней и не знаю. И все мне кажется, что я пропустил что-то очень хорошее, что мимо моей жизни прошел близкий человек.
Вот о чем я думал, когда ко мне подошла женщина с авоськой и спросила:
— Вы кого тут ищете?
Что ответить ей? Что я ищу самого себя?
Я взглянул на нее, и что-то знакомое мелькнуло в этом добром морщинистом лице. Неужели это она? Она?
— Это ведь пятый дом? — спросил я.
— Нет, седьмой.
Оказалось, что я стоял не у того дома, в сутолоке перепутал, а мой — вот, следующий. Я иду туда. Но уже не могу восстановить того первородного чувства узнавания, тоску воспоминаний и, махнув рукой, ухожу.
*
С ночного неба порошит тонкая, теплая металлическая пыль. И этот щемящий, терпкий, серный газок металлургических печей жадно вдыхаю и вдыхаю, как запах сена. И будто не уезжал отсюда, а все время был с этими дымами и огнями, с этим вселенским грохотом, где все полно великого вечного значения и ничто не поддельно, не фальшиво.
Снова я там, где был юным, совсем мальчиком, еще до всего, до войны, до всего, что было потом, что стряслось со мной потом.
Бегут с веселым свистом маленькие, грудастые, похожие на танки комбинатские паровозики, и гремят над эстакадой поезда, и от трамвайного круга сплошным темным потоком идет ночная смена в тоннель.
Время зачернило все копотью — и вход в заводской тоннель, и электрические часы, и самую эстакаду. Во всем уже старая, путиловская обжитость, уютность, установленность.
Значит, и это можно любить, любить, как поле или море, и истосковаться, если долго не видеть, любить весной, и зимой, и осенью, в серый день, когда дождь сыпется на крыши и дороги, когда скользко и холодно, и замечать сердцем все перемены…
ОТЕЛЬ «КОЛОМБИЯ»
В Геную мы приехали вечером, и нас поселили в старой привокзальной гостинице «Коломбия». Как и во многих древних итальянских отелях, парадный ход тут вызывающе модернизирован, стеклянно-алюминиево торжествен, отлакированные, сияют новизной двадцать первого века вертящиеся амальгамные двери, и медные части надраены, как на линкоре, и в небольшом, но пышном вестибюле малиновые ковры и абстракции из желтой майолики, и за конторкой — лорд. Лифт, как международное купе-«люкс», сверкает красным деревом и жарким золотом бронзы, подымается бесшумно, неспешно, богато в космополитический рай, а выходишь из лифта — Жмеринка 1913 года: узкие, дремучие коленчатые коридоры, пахнущие нафталином, чесноком, клистирами, всеми постояльцами, их вирусами, их мукой, тоской и безысходностью метаний. В огромных номерах старинные кровати, какие были у наших бабушек и дедушек, с линялыми никелированными шариками и ветхими пружинными матрацами, и шуршат в обоях мыши, прорывшие ходы еще во времена царствования Виктора-Эммануила, а в сумрачном колодце двора, куда глядят окна с дачными жалюзи, местечковый, ярмарочно-яростный итальянский гам и неразбериха.
И весь этот, наверное, на веки веков единственный вечер в Генуе я вижу у гостиницы одну и ту же одинокую птичью фигурку. Высокая, голенастая девчурка, с кукольным опухшим личиком цвета моли и прыщиками на лбу, расфуфыренная во всё ярко, разноцветное — голубой жакет с крупными, как кофейные блюдечки, серебряными пуговицами, алую мини, сиреневые чулки, — с гвоздикой в платиново-седых, распущенных «колдуньей» волосах, помахивая дешевеньким японским веером и как-то по-особенному порочно, завлекающе выворачивая длинные тонкие вибрирующие ноги в открытых лаковых лодочках на высоких шпильках, безостановочно ходит взад и вперед мимо отеля, вихляя худыми пустячными бедрами, предлагая себя не только прохожим, но и афишным тумбам, но и мертво стоящим на приколе у тротуара кротким, похожим на инвалидные колясочки, пузатым итальянским малолитражкам.
А жирная, усатая сатанинская старуха с корзиной невинных цветов, кашалотом торчащая на углу, и лощеный нахальным холуйским блеском, в зеленой униформе швейцар у фешенебельного отеля «Паласс», свистком вызывающий к подъезду такси, и красавец чистильщик с пышными баками, как султан сидящий на своем бархатном табурете под зонтиком и голосом Карузо завлекающий прохожих, и скандальная, все выясняющая между собой отношения супружеская пара пестро размалеванной тележки пепси-кола, и молодой ласковый капуцин в домотканой сутане, подпоясанной элегантной белой нейлоновой веревкой, в ультрамодных темных очках и в деревянных сандалиях-«стукалках» времен Древнего Рима или военного коммунизма на Украине, звучно-печально потряхивающий шкатулкой монастырского сбора, и лотерейный шарлатан в зеркально начищенных мокасинах, вопящий «фортуна», обещая всем коронный выигрыш — 150 миллионов лир, и полицейский регулировщик в белой каске, белых крагах и белых перчатках с раструбами до локтей, с многоствольным свистком футбольного рефери — никто, никто не замечает ее, как муху.
А она, этой своей фирменной, всем доступной, всем отдающейся, вихляющей походочкой, под взором ихнего г а и, не останавливаясь, ходит туда и назад. И то подмигиванием разрисованных глаз, то как бы случайно брошенным в никуда охальным словечком, то как бы непроизвольным неправдоподобно-бесстыжим движением бедра, цепляет почти всех прохожий: бизнесменов, пилигримов, матросов, мультипликационных шотландцев в клетчатых юбочках, зелено-оранжево-голубых африканских генералов, хасидов в круглых черных шляпах, в лапсердаках, с пейсами, будто выскочивших из виленского гетто 1905 года, племенных вождей, йогов и даже советских туристов в широких габардиновых брюках и дырчатых сандалетах производства города Кимры.
— Импозант! — говорит она, а они шарахаются от нее, словно от психа с Канатчиковой дачи, вызывая у нее бурный профессиональный смешок.
И так она бродит, как слепая, не запоминая никого в отдельности. Я раз пять в этот вечер выходил то в «Иллюзион» на Джеймса Бонда, то в «эспрессо» на углу, выпить чашечку «арабико», то просто потолкаться на вавилонском перекрестке, и все пять раз она, не узнавая, делая мне глаза со значением и увязываясь за мной, жалким, умоляющим голоском, тихо и нежно в спину говорила: «симпатик».
Проехала кавалькада машин с орущими рупорами, разбрасывая розовые, желтые листовки, на которых было одно слово: «Баста!» То ли это были трамвайные кондуктора, то ли официанты, то ли мусорщики, одна из многочисленных, мгновенно вспыхивающих и гаснущих, как ракета, генуэзских забастовок. И на миг девчурка застыла, прислушалась, присоединилась.
А люди все мимо и мимо. Пробежали, как пони, маленькие, изящные, похожие на костяные фигурки, оливковые яванцы, на которых она зрит, как на кукол; чопорной стайкой двигались монахини, сверкающе накрахмаленные, непорочной белизны, и она шустро и весело стала посреди дороги, и они аккуратно обходили ее, как Содом и Гоморру; дисциплинированной цепочкой, как детский сад, аккуратно продефилировали американские квакеры, краснощекие, смирные, выросшие на постном масле, все с открытыми книжечками-путеводителями, и она глазела на них, хихикая, а когда прошел пастырь, толстый, важный барбос, тоже с открытой, как псалтырь, книжечкой, в которой он будто читал о сотворении мира, она чуть не лопнула со смеху. Тротуар заполнили сиротские девочки, все одинаковые, словно отштампованные, в белых халатиках, с розовыми бантами, с толстыми словарями-вокабуларами под мышкой, и она проводила их грустным взглядом старшей сестры. Шумной беженской компанией появились хиппи, косматые, засоренные, босиком и в разноцветных джинсах с тропическими малюнками на заду, и с ними она была наравне, смело хохотала, все ахала и допытывалась, откуда они и куда, и зачем такие, есть ли у них ночлег, бог, лиры, и в чем цветок жизни.
А люди идут и идут, и слышится то рокочущий, отрывистый, как бич, американский сленг, то твердый, грубый, так знакомо-ненавистный мне по окружению швабский окрик, то высокие, звучные кованые терцины латинского, то мягкий, журчащий, как журавлиный шепот, малайский, то просто какая-то тарабарщина, волапюк. А она знает одно — встревает во все языки и наречия своей всем понятной, всем постылой умоляющей улыбочкой: «Закадрите лошадку»… Но кто хмурится, кто прикроет глаза, как от облучения, а кто и пустит мат — финский или японский, все равно, она понимает, что это не объяснение в любви, и, отстав, про себя тоже пошлет его гекзаметром.
Из оранжевой гоночной машины появилась голландка, распутно-пышная, в шортах, и пошла такой полноценной походочкой, что на ходу ее желали статуи, ветер, берсальеры, туристы, автобусы, и девчурка смотрела на нее испуганно, с восторгом и печалью.
— Фульчинели! — крикнула кому-то голландка в открытое окно отеля.
— Фульчинели! — про себя повторила, прошептала девчурка и словно приобщилась к этой охотничьей умопомрачительной жизни.
Изредка кто остановится у сигаретного автомата возле дверей гостиницы, ухмыляясь, окликнет ее: «Пупсик!» — и, дернув рычаг и получив пачку тамошнего «Памира», щелкнув зажигалкой, закурит и, пустив ей в лицо дым, засмеявшись, уходит: «Хай! Приветик!» Но она не обижалась, как не обижаются на слякоть, на ветер, на слепоту.
И в промокаемых синтетических лодочках, с увядшим цветочком в волосах, она неутомимо бродит и бродит. А если моросило, пережидала под широким пестрым козырьком гостиницы, с жалостным ликованием заглядывая в лицо всем входящим и выходящим, еще издали закидывая улыбочку в подъезжающее такси с гостями, перебрасываясь шуточками с гостиничным карликом, бегающим открывать дверцы машин. И мимо несут колоссальные чемоданы, вишневые и шоколадные кофры, саквояжи и саквояжики из Сиднея, из Стамбула, из Гонконга, и лилипут на вытянутых руках осторожно и важно, как живую малютку, проносит целлофановый пакет с нейлоновой шубой. И она, на миг вовлеченная в эту иллюзорную суматоху путешествия, в эту вечную карусель Синдбада-морехода, Марко Поло, Колумба, чувствуя себя участницей, тоже суетится, ахает, хохочет, восхищается, закатывает глаза, близкая к счастливому обмороку. И она с кем-то громко заговаривает, гримасничает, волнуется, хорохорится, трескучим голосом рыбной торговки советуя, как лучше ухватиться, чтобы пронести в вертящуюся подлую дверь длинный, окованный медными полосами, похожий на гроб деревянный сундук, уступая дорогу, пятится назад, ассистирует, покрикивая на суетливых носильщиков в полосатых халатах, и ликует, что гроб прошел так удачно и все хорошо кончилось.
Ах, как заманчиво, как прелестно-таинственно на чужом пиру! Никто ведь не знает, кто они и зачем они тут, может, они приехали на похороны, или у них сифилис, или гонит банкротство, астма общественной жизни, или боязнь замкнутого пространства. Для нее это все равно чудесный пасхальный праздник вояжа.
Но вот вишневые и шоколадные с миллионом этикеток чемоданы унесены, пассажиры в широкополых сомбреро, пассажиры в узких жокейских каскетках, в чалмах, в мундирах, в сари, в черных сутанах прошли; машины, оставив угарный бензиновый чад, улетели, все растаяло, рассеялось, как фейерверочный дым. И снова она одна, совсем одна. В призрачном свечении неона она как рыбка в зеленом аквариуме зоомагазина, под моросящим, теплым, почти горячим генуэзским дождичком; и неожиданно прилетевший с гор ветер гонит уличную пыль, затоптанные листовки «Баста!», крутит юбку вокруг ее тонких-тонюсеньких, циркулем расставленных ног.
Теперь она просто прохаживается, она после пикника, раута, бала вышла подышать озоном, она обмахивается веером, ей надоел шум, суета, приставанье, междусобойчики, она жаждет покоя, тихой пристани…
И вдруг из темного домашнего подъезда появился толстяк в роговых очках, рохля с баулом, и она сразу сделала стойку, головка ее поднялась, как змея из цветка, и она пошла за ним, тихо окликая: «Леонардо! Леонардо!» — это что-то вроде нашего Васи. Но итальянский Вася, оглянувшись, сверкнул очками, как доктор оккультных наук, а она скорбно и беззащитно улыбнулась: «Простите, обмишурилась!»
И так весь вечер, весь пылающий и переливающийся аргоном, чадящий, кричащий клаксонами, скрипящий тормозами, пронизанный атомным воплем полицейских машин и карет родильных и сумасшедших домов, весь теплый, ликующий весенним теплом, фиалками, нарядами, чарующий генуэзский вечер ходит она взад и вперед, то тихоней, то игруньей, мимо нового фальшивого портика гостиницы, мимо сияющей, зеркально-вертящейся двери, за которой колдовским жаром горят модерновые люстры, алый бархат, богатство, удача, чужое лотерейное счастье.
Теперь, когда стало мало прохожих, она увязывалась за каждым и, уже не сохраняя этикета дистанции, вплотную шептала: «Пойдем!», или «Повеселимся!», или даже так: «Набедокурим?», а иногда просто шла молча, как бы стуком каблучков извещая, что она здесь, есть шанс, возможно кви-про-кво. И кто грубо оглянется: «Давай, давай, рви когти!», а другие ускорят шаги, почти бегом, словно от ее приближения щелкает счетчик Гейгера.
А она, дойдя до угла темной, узкой, как трещина, портовой улочки, словно до какой-то волшебной проклятой черты, круто, по-гвардейски делала «кругом!» и уже увязывалась за идущим в противоположную сторону толсторожим носорогом и шептала: «Пикколо!» — маленький, малюсенький…
Неожиданно из этой улочки вышла на угол портовая дама с лицом медузы и помятым бюстом, как мукой засыпанным пудрой, этакая «Сонька — Золотая ручка». Она остановилась и сощурилась от яркого и алчного вокзального света, жадно дыша чужой жизнью, чужой веселостью, чужой спешкой, и двинулась по гостиничному тротуару осторожно и неуверенно, как по минному полю. И тут же в три прыжка подскочила к ней девчурка, и они молча, как бы заранее об этом договорившись, вцепились друг другу в волосы, и стали выколачивать друг из друга пудру, и так же молча расцепились, и нарушившая конвенцию медуза, подняв с панели шпильки, как патроны после дуэли, кокетливо покачивая отработанными бедрами, исчезла в каменной трещине, а наша профурсеточка поплелась за баскетбольным монстром, шепча: «Пикколино!»
Но он двигался, как телеграфный столб, до него и не долетал шепот, и тогда она его обогнала и тут же развернулась и с интеллигентным заходом подмигнула, но он со своей высоты и этого не заметил, лицо его было, как фарфоровый изолятор, бледно и спокойно.
Постепенно замирает дальний городской бедлам, грустно пустеет у стен Малапаги, и мертвеет даже эстакада на Турин, похожая теперь на неоновую кладбищенскую аллею. И только изредка грубо щелкнет сигаретный автомат, выкидывая очередную пачку запоздавшему бродяжке, выпивохе, ночному интеллектуалу или заблудившемуся чужеземному моряку. Теперь она смелеет и подходит совсем близко, впритык, впридых, и они наседают на нее, наваливаются, тискают ее к стене, жмут из нее масло и, как я понимаю, говорят ей одно и то же — по-итальянски, по-турецки или, может, даже на суахили: «Ты меня уважаешь?» А она им кивает головой, и улыбается, и счастливо хохочет. И тогда они выпускают ее из бредовых клещей, — ладно, зачехляйся! И тут же, навеки забыв, уходят, шатаясь и фантазируя про себя и про свое, мимо фонарей, в ночь, в свой кубрик, в свою конуру, в свой палаццо. В свою фантасмагорию.
А она остается и снова ходит и ходит, словно печатает каблучками лиры. Наконец она останавливается у желтой тележки мороженщика, что-то говорит ему, смеется, визжит, вытаскивает из потайного карманчика несколько смятых, грязноватых, похожих на тряпки, мелких купюр, и выбирает нечто похожее на наше эскимо, только оно не шоколадное, а почему-то ядовито-зеленое, и теперь ходит и, как ребенок, обсасывает со всех сторон свою порцию на палочке.
Гаснут огоньки маленьких лавчонок, и на темном бархате ночи еще ярче и как-то звонче зеленый и ровный искусственный свет, холодно пылающий в витринах огромного универсального магазина, где смирно стоят напоказ пластмассовые ангелочки в чешуйчатых бикини, и каждый раз, проходя мимо, она вглядывалась в них, словно о чем-то расспрашивала, а они из рая не отвечали.
Улица стала глухой, таинственной, чуждой и лишь иногда взрывалась сиреной пожарной машины или человеческим криком, заглушаемым полицейским свистком, и на секунду она останавливалась, и смотрела, и слушала.
И вот уже погас фейерверк бегущего в ночь неона, и стало видно, что и над Генуей есть звезды. И только слышно, как в угловой кофейне звонкими ударами очищают машину «эспрессо», и еще изредка рявкнет сигаретный автомат. И теперь она уже рьяно, откровенно пристает. Вот смело дернула за рукав ночного рабочего в измазанной желто-ипритной робе.
— Ты ведь видишь, что я еле на ногах стою, — огрызнулся он.
— Ну и что? — сказала она, чародейски заиграв глазами.
Он кинул в автомат монету, с силой дернул рычаг и получил пачку, а она отчаянным жестом заголила ногу.
— Я устал, ты ведь, наверно, захочешь танцевать? — мирно сказал он и, прикурив сигарету, ушел, шаркая башмаками.
Шатаясь, навеселе, идет круглолицый старичок в шляпе-канотье, с черной бабочкой, этакий засидевшийся в кавалерах фасонистый шалун. Она к нему:
— Синьор, вам скучно, пойдемте со мной.
А прима-старичок вдруг церемонно, французисто снял шляпу, обнажив длинные желто-седые пухлые волосы.
— Мадемуазель, взгляните, куда я пойду с вами?
— У синьора есть банкноты?
— Банкноты-то есть.
— А все остальное — дело моей совести, — спокойно сказала девчурка.
Изредка кто-то из безнадежных гуляк, пока в кофейне готовили чашечку «арабико», дернув из мензурки убойную смесь, кидал в музыкальный автомат «Джьюк-бокс» монету, и сладко и грустно маленькая кофейня и пустынный угол улицы оглашались звуками модной вскрикивающей песенки. И тогда она приостанавливалась, чутко прислушивалась и, улыбаясь, медленно, и молча, и мертво, как кукла в трансе, начинала дергаться, изображая внутреннее волнение. И вместе с ней в грустной пляске святого Витта подергивалась и ее длинная в свете уличного фонаря тень, и другая, смутная, коротконогая тень от неона кофейни, и было словно в театре, в молчаливом и жутком театре бедных глухонемых мимов.
Прошел ночной патруль карабинеров, рослые мужланы в треуголках и красных генеральских лампасах, при саблях, театрально остановились и, красиво и жеманно опираясь на сабли, ухмыльнулись ей и пошли дальше, нога в ногу, ритмично, забавно, словно из оперетки «Граф Люксембург» в постановке Йошкар-Олы. И она с новым энтузиазмом, отчаявшись, так откровенно по-детски приставала, а те, к кому она прилипала, отшучивались, будто играли с ней в «третий лишний».
Наконец по какому-то наитию она направилась к лояльно стоящему у входа в гостиницу русскому туристу, исподтишка изучавшему ночную жизнь Желтого дьявола. До сих пор девчурка казалась ему просто трудновоспитуемым подростком, с которым нужно только побеседовать, провернуть идейную работенку, и она пойдет учиться на вечернее или заочное и станет человеком, но сейчас, увидев ее направление, деятель в сиреневой бобочке юркнул в вертящуюся дверь, в панике запутался, и дверь не только не приняла его вовнутрь, но с силой выбросила на улицу.
— Моменто! — сказала девчурка.
— Ортодоксо! — по секрету сообщил он ей.
Но она хохотала и кокетливо падала к нему на грудь, создавая ЧП.
— Банкрото! — вдруг закричал он и, как иллюзионист, дунул на ладони и наголо вывернул карманы. — Банкрото! — ликуя, кричал наш земляк.
И все она ходит и ходит, и, наверное, кажется ей весь этот длинный, сверкающий вечер с магараджами и тореадорами, перуанцами и большевиками, капуцинами и лилипутами каким-то бесконечным, фантастическим супербоевиком, в который она безжалостно вовлечена кроткой, неумелой статисточкой, без роли.
Теперь она прошла вверх, в гору, и стояла, опираясь на чугунную решетку парапета, глядела вниз на Геную. Нет ничего более тоскливого и безнадежного, чем вид голых, пустынных крыш под лунным небом. Когда ты внизу, на земле, на тротуаре, а крыши где-то таинственно наверху, ты еще чего-то ждешь, какого-то чуда. Но когда ты видишь эту безжалостную наготу города, уже нечего ждать, и тоска пронизывает сердце.
В порту загудел пароход перед отправлением в океан, и он так ревел, он просто плакал, надрывая душу, словно не хотел никуда и просил оставить его в покое.
Где-то раздались глухие удары, будто ночной бочар обивал гигантскую, заключавшую в себя весь город немую бочку.
Девчурка забирается в нишу, к мадонне с почерневшим отбитым носом, и, прижавшись к каменной заступнице, закуривает фильтровую сигаретку и, жадно затягиваясь, попыхивая, глядит вместе с мадонной на ярко освещенные, уютные, счастливые окна отеля, и, не докурив, по-жигански цвиркнув, давит каблучком еще горящий окурок.
В ночном кабаре громко заиграла музыка. И вдруг слышится тоненький подголосок, и непонятно — это скулит ветер в каменной нише старого города или это она, это то, что безмятежно, безвозмездно сохранилось в ее младенческой душе? Открыв сумочку, она глядит в крохотное зеркальце, припудривает и так уже белое, зачумленное личико, вытаскивает «живопись» и еще гуще смолит веки, и, раза два тренированно сама себе улыбнувшись, отклеивается от мадонны, и снова заведенной куклой лунатически ходит своей вихляющей, своей доступной, отдающейся всем ночным теням, спецпоходочкой.
Так почему же за тысячу верст от Лигурийского моря, отделенный тысячью дней, с их суетой, болью, обидами, вспомнил я эту девчушку с пестреньким веером и сухим цветком в волосах на панели у отеля «Коломбия»? А бог весть почему…
СЛОНЫ И ФАЗАНЫ
УТРО В ЗООПАРКЕ
«О-го-го!.. О-го-го!..» — кричат гуси. И в их крике слышится: «Вставайте, вставайте, жители Африки и Индии, крокодилы и бегемоты, обезьяны и павлины! У нас уже утро!..»
И в ответ со всех сторон — рев, мычание, пронзительные вопли тропических птиц. Слышна болтовня мартышек, мяуканье павлина, хохот чаек и на слоновой горке топот ног и удары хобота. Особенно шумят попугаи, стараясь поскорее выболтать все, что они знают, для того, чтобы потом уже весь день только повторяться.
«Кар-раул! — кричит из-за решетки старый синий ворон. — Кар-раул!» Сидящие по соседству три сонных филина чуть приоткрывают усталые глаза: «Разбойник! Ведь мы были в ночной смене».
Гималайский медведь, услышав крики, поворачивается на другой бок, но вдруг отчего-то вскакивает и очумело оглядывает себя: «Черт, так и заснул в шубе и валенках!»
Белые лебеди расправляют навстречу солнцу и ветру крылья и громко хлопают ими.
«Ка-ши! Ка-ши!» — крякают утки.
«Пи-щи! Пи-щи!» — вторят им чирки.
Удав глотает кроликов, обезьяны едят компот, верблюд, презрительно выпятив губу, жует веники.
Но вот прозвенел звонок, открылись калитки. Слоны выстроились на горке. Бегемоты, отдуваясь, опустились в воду, как и полагается бегемотам. Обезьяны торопливо репетируют гримасы.
Из глубины парка возник громкий, протяжный павлиний крик: «Ле-евой! Ле-евой!» Каждый павлин, как на параде, занимает свое место, и все фейерверком распускают хвосты.
ЧАНДР И ТОБИК
Чандр — крупный, гривастый, цвета пустыни, лев — и маленькая белая собачонка Тобик с детства живут в одной клетке. То ли от долгого общения со львом, то ли порода у Тобика такая, но у собачонки тоже выросла грива, словно неудобно жить в одной клетке со львом и не иметь хотя бы маленькой гривы.
Чандр придавил лапой огромную кость и алчно рвет красное мясо. А Тобик скромно сидит рядом и смотрит на него: «Ешь, ешь, я потерплю».
Чандр переворачивает кость: «Ну-ка, рвану еще с этой стороны».
Тобик облизывается и вежливо повизгивает: «Скоро ты там?»
В ответ лев хрипло рычит, поднимает голову, и укоризненный взгляд его можно понять так: «Сколько раз я тебя учил: когда старшие едят, младшие тихо сидят за столом».
Он снова, теперь уже скучающе, перевернул кость, как бы дразня себя видом красного мяса, потом понюхал, но есть не стал, только вздохнул: «Нет, уже, кажется, пас!» — и отошел в сторону. Тогда Тобик прошмыгнул мимо и с лаем, похожим на хохот, накинулся на кость.
Но вот и Тобик насытился. Он уже тоже несколько раз переворачивал кость то лапой, то зубами, обгрызая кусочки то тут, то там, самые лакомые, наконец только лизнул и посмотрел на льва: «Может, еще хочешь?»
Но тот смотрел на него мутным невидящим взором. Он уже дремал. Тобик устроился рядом, положив голову на гриву царя зверей, и тоже задремал.
— Лев! Лев! Левушка!
Чандр медленно приоткрывает узкие, хищные щелки, и желтые глаза джунглей спрашивают: «Ну, чего там еще?»
И лишь когда уже очень громко шумят или кидают бублики, которые ему ни к чему, или же африканские воспоминания донимают его, он грозно поднимает голову: «Лев я или не лев?» — и рычит.
Вслед за ним лает Тобик.
ЖИРАФЫ
Две совершенно одинаковые, словно повторенные в зеркале, жирафы, легко и плавно неся длинные, изящные шеи свои, ходят друг за другом, как на ходулях, вокруг каменной колонны жирафника, каждый раз из-под кирпичной арки появляясь с таким видом, будто это выход в Африку.
Но вокруг серые, серые каменные стены, засыпанный соломой цементный пол и зрители в странных, чуждых, запорошенных снегом шапках.
Поджав губы, жирафы заходят за каменную колонну, снова появляясь из-под арки с невозмутимой африканской надеждой.
Мальчик, отвлекая их от миражей, закричал:
— Жирафа, жирафа, ты здесь так вырос?
И тогда, расставив длинные, палкообразные ноги, они остановились, и сверху вниз глянули добрые, выпуклые, тоскливые глаза: «Ну зачем ты нас будишь, мальчик?»
Служитель подошел к ним с пучком сена. Жирафы поглядели друг на друга: «Вернемся на минутку из Африки?» И, грациозно нагнув маленькие, узкие головки, мягко шлепая губами, сконфуженно сжевали пучок сена.
И вот они снова, вытянув шеи, ушли за колонну и плавно появились из-под арки с гордым, далеко-далеко прозревающим видом, не теряя надежды, что когда-нибудь покажется Африка, саванны, миражи и все, что дорого каждой жирафе.
УДАВ
За толстым стеклом террариума, в личном салоне, лежал, свернувшись в кольца, аргентинский удав.
Он только слинял и, как чулок, стащил, свою старую ненужную задубевшую кожу и теперь был в новенькой коварной униформе с блестящими ромбиками.
Он не обращал внимания на зрителей и на постукивание в стекло. Кобра — та в ответ немедленно дыбом и, раздувая шею, вся дрожит от злости: «Дай укушу, дай укушу!» А этот слишком себя уважал. Спрятав голову где-то в центре толстых, сильных змеиных колец, удав спокойно дремал на электрическом солнцепеке, выставив зрителям хвост: «Для общения с вами хватит и этого».
Отогревшись, питон лениво выполз в бассейн, так же лениво поплавал, с силой подтянул свое тело, обвился вокруг голого дерева и долго глядел в замерзшее окно. И никто не знал, о чем зимой грезит удав.
В клетку пустили кролика. Нет, это не был косой заморыш, всю жизнь мечтающий о хрустящем капустном листе, это был толстый, кормленный витаминами спецкролик для удава.
Серый сел и, выгнув спину, навострил уши: «Здесь кто есть?» Веселый, кроткий, любопытный, вразвалочку, походкой Чарли Чаплина, он отправился знакомиться с новым жилищем.
Он обошел сказочный дворец удава со своей персональной рекой и даже персональным солнцем.
Как все это непохоже на тесный, душный, пропитанный потом страха крольчатник, где все жмутся бок к боку, нос к носу, шерстка к шерстке.
Кролик умильно потер лапки: «И живут же удавы!»
Ему стало вдруг весело и вольготно. Взмахнув ушами, он заплясал на месте: «А я кролик! А я кролик!»
Удав притаился, лишь чуть подрагивала голова, мерцая крошечными змеиными глазками: «Ты пошуми! Ты пошути! Раздразни меня хорошенько! Разожги!»
И это белое, пушистое, смутное, излишне веселое, дразняще плясавшее вдали, постепенно, резко и четко, как в наводимом на цель бинокле, вырастало в живого кролика, ведь голод обостряет зрение удава.
Удав стал раскручиваться, и, как бронированный паровоз, поползла по песку узкая и плоская, покрытая щитами голова. Вдруг удав с силой развернутой пружины сделал зигзаг и замер. Потом снова зигзаг, и снова замер, не отрывая от кролика жадных и ласковых глаз.
Кролик стоял столбиком, помахивал ушами и розовыми глазками приятно смотрел на удава. Из вежливости он даже сделал два шажка навстречу, остановился перед самой мордой удава и дружелюбно тронул его усиками. Но тот отвернул голову: «Черт! Не дал изготовиться!»
Серый опять заплясал: «Я кролик! Я кролик!»
Удав раскрыл пасть, но… промахнулся и уцепил кролика за лапу.
Кролик крикнул почти человеческим криком, вырвался и задней лапой со всех сил хватил удава по морде.
Змей вильнул в сторону: «Я, наверное, ошибся, это не кролик!» Служители заволновались. Ведь удава кормят по научному графику, и пришел предначертанный наукой час, и кролик висел на кормовом балансе. Но теперь, сколько ни дразнили удава, махая перед его мордой руками, кричали, умоляли, называли «удавчик», «сволочь», он, как параличный, не двинулся с места: «Нет, нет, с меня хватит».
А кролик, не зная и не желая знать, что он спецкролик, сидел в углу и жалобно потирал больную лапку.
МАКАКИ
В клетке живет семья обезьян: седой, как одуванчик, макак-папа, краснолицая, с рыжими бакенбардами, макака-мама и сынок их — глазастый макакенок с лихим пробором на голове.
Сам макак все время лежит на широкой трубе парового отопления и дремлет. Лишь изредка он соскальзывает со своей лежанки, садится и, очумелый от сна, долго и лениво зевает.
Макака-мама садится рядом: «Можно?» Быстрым движением правой руки она вздыбливает его седую заматерелую шерсть, а левой ласково перебирает шерстинки.
Макак-папа равнодушно подымает сонную морду: «Что с ней поделаешь — любит!»
Макака запускает руку в седой жесткий загривок. Макак-папа покорно сгибает голову: «Поухаживай, поухаживай!»
У макакенка ни минуты спокойствия. То он пытается раскачать доску и превратить ее в качели, то сядет в жестяную ванночку и делает вид, что купается, то с размаху вскочит верхом на торчащую из клетки проволоку: «Аллюр три креста!» Вот он начал бегать по сетке вверх и вниз с такой быстротой, что макака не успевала поворачивать голову, и вдруг повис вниз головой и выгнулся полумесяцем: «Смотри, мама!»
Загремел засов, в клетку вошла женщина с кастрюлей.
С макака мигом слетела сонная одурь. Он первый прыгнул с верхней полки, коренастый, сильный, пошел пружинистой, солидной мужской походкой, отхватил большой кусок рисового пудинга и, уединившись с ним, повернулся спиной к семейству.
Макака-мама лизнула картошину, раздавила ее лапой, полизала, бросила, взяла морковь: откусит и выплюнет, откусит и выплюнет, и, когда все вокруг было разбросано, расплевано, раздавлено, села: «Ну, теперь есть обстановка для обеда!» — и стала вытянутым в ниточку обезьяньим ртом мерно жевать, будто на машинке строчить.
А макакенок схватил луковицу, осмотрел ее со всех сторон: «Откуда начинать?» — и быстро, как взрослый, стал шелушить и разбрасывать вокруг. Наконец кусочек сунул в рот и скривился: «Ой, горько!» Кинул луковицу, вскочил на сетку: «Антре!» — и перекувырнулся.
В клетку кинули дольку апельсина. Макакенок тотчас же потянулся к ней. Макак ударил его по руке: «Иди погуляй!» Макакенок прижал руку к груди: «Дай кусочек, жалко тебе?» Но макак-папа уже лизал апельсин, и макакенок побежал вверх по сетке, сделал несколько стоек, повис вниз головой, как бы разгоняя тоску, и вернулся назад.
Старый узконосый макак без устали лизал и лизал в свое удовольствие апельсин.
Макакенок протянул руку: «Ну дай уж корочку!»
Макак отвел руку с апельсиновой коркой за спину.
Макакенок схватил себя за волосы, за уши: «Ой, ой, зажимает!» А потом сел перед макаком, умильно глядя ему в глаза: «Дай, дай!» Открыл рот, стал пихать в него лапу: «Видишь, я правильно буду кушать, не бойся!»
— Дай, дай! — крикнул один мальчик и так стукнул по сетке, что она зазвенела.
Макак вскочил, макака длинной рукой схватила в охапку макакенка, и одним прыжком они все трое оказались под потолком, сердито глядя вниз: «Не суйся не в свое дело! Макаки сами разберутся в своем семействе!»
ДИКОБРАЗ
Клетка дикобраза почти всегда пуста. Люди проходят и говорят:
— Обожает в норе сидеть.
И вдруг из норы высунулась короткая тупая морда и шумно понюхала воздух; что-то ей не понравилось, и она исчезла. Через некоторое время опять появилась морда, понюхала, на этот раз ничего, понравилось, и, щурясь на свет, вылез уединенно живущий дикобраз. Неверными шагами жителя темницы он медленно и неуклюже, все время как бы ощупывая, есть ли еще под ним почва, двигался по клетке.
Но при первом же крике «Дикобраз!» — он остановился и с треском поднял все иглы: «Видишь, как мне вредно волноваться!» И, гремя седыми иглами, он убежал в подполье.
Так он все время и сидит в темной норе и бережет свое сердце.
Для чего?
АНТИЛОПЫ
В антилопнике приятно пахнет деревенской конюшней — сеном, отрубями, кизяком.
И только вошли маленькие дети, тотчас же к сетке подбежала нильгау, грациозная, словно из кости выточенная антилопа с нежными, насквозь просвечивающими розовыми ушами, и стала глядеть на них добрыми, умоляющими глазами. Девочка протянула ей кусок булки, и нильгау осторожно слизнула его языком.
— А больше ничего нет! — сказала девочка.
Антилопа потерлась мокрым, милым, бархатным носом о сетку: «А ничего мне и не надо, только хорошее отношение».
Она сорвалась с места и, стуча копытцами, сделала круг, по дороге схватила сено и принесла к сетке торчащий, как усы, пучок: «Хочешь мое?»
— Ешь, ешь, — сказала девочка.
Нильгау с хрустом, глубоко дыша, сжевала сено и взглянула на девочку: «Вкусно!»
Мальчики наперебой протягивали руки и щекотали ее мокрый, бархатный покорный нос.
«Гав-гав-гав!» — вдруг злобно и завистливо залаяли за их спиной.
У толстых железных прутьев стоял низкорослый антилопа-гну с туловищем лошади и рогатой головой быка и сердито, из-под белых замороженных бровей, глядел на них красными глазками: «Все ейная и ейная жратва!..»
Когда дети подошли и к нему, он ударил рогами о сетку: «Ненавижу!» Потом повернулся и нахально помахал куцым седым хвостом: «Вот вам, бездельники!»
А нильгау стояла у сетки и смотрела большими, ласковыми, печальными глазами и хотела сказать детям что-то хорошее, доброе, всепрощающее.
ФЛАМИНГО
На берегу озера освещенный зарей фламинго, весь какой-то радостный, светящийся, стоит на одной ноге и с надеждой смотрит прямо в лицо солнцу: «Вот наконец сегодня, именно сегодня случится то, чего я жду всю жизнь!»
«Гонг! Гонг!» — говорит он сам себе и, взмахнув алыми, словно охваченными огнем, крыльями, на длинных розовых ногах бежит по воде и, разбежавшись, как с аэродрома, взмывает в воздух.
И в ясное солнечное утро, когда так далеко все видно, красивый стремительный полет этой птицы как бы говорит: «Не ждите, летите сами навстречу своему счастью!»
ИНДЮК
Неизвестно отчего, ему вдруг приходит в голову: «Индюк я или не индюк?»
И тогда он отходит в уголок и начинает медленно надуваться, словно кто-то накачивает его насосом. С треском поднимаются перья, и веером разворачивается хвост, индюк урчит, сам себя раззадоривая и взвинчивая.
Наконец он готов! Огромный, чуть не лопающийся от важности и спеси, он поворачивается к цесаркам и индейкам, и из раздувшегося зоба звучит: «Талды-балды, бурды-бурды!»
Белые индейки, привыкшие к нему, устало поворачивают головы: «Опять завел!» — и, как глухие, уже больше не обращают на него внимания. А цесарки с красными сережками, в простых сереньких платьях, испуганно взлетают на жердь и, дрожа сережками, оттуда глядят на него: «Ты толком скажи!»
«Талды-балды, бурды-бурды!» Он идет к ним медленно, осторожно, как будто бы ему самому тяжело вынести всю свою спесь, как будто бы боится ее расплескать, и строго глядит на них: «Дал я указание или нет?»
Гнев душит его, и теперь уже слышится только сердитое бульканье: «Тбр-тбр-тбр…»
Но по всему его виду, по надутой апоплексической шее, по бесстыдно поднятому хвосту ясно, что наплевать ему, понимают его или нет, лишь бы у него самого было ощущение, что он что-то говорит, а те должны понять, а если нет — так тем хуже для них.
Но вот приходит служитель и насыпает в кормушки хлебный мякиш. И индюк вдруг преображается: хвост с треском опускается, перья укладываются, точно приглаженные утюгом, багровый нос исчезает, он подходит к кормушке и спокойно начинает клевать.
И тогда все видят, что индюк — обыкновенная серая птица.
ПАВЛИН
Как всегда, он одет модно, с иголочки. Ему кажется, что вокруг зеркала, в которых отражается Его Пышность. Он вышел на центр лужайки: «Глядите все на меня!» — и распустил хвост.
Он поворачивается направо: «Глядите и удивляйтесь!»
Он поворачивается налево: «Обратите внимание! Хочу жениться!»
Он делает стойку «прямо» и испускает истошный крик: «Я вольный!»
Никто не откликается.
Павлин скорбно оглядывается и убирает хвост: «Наверное, я неправильно развернул. Вот в чем ошибка».
Он снова принимает позу, набирает побольше воздуха и распускает свой свадебный веер с особым шиком: «Вот так, хорош! Надо запомнить, как я это сделал».
Он снова церемонно кланяется на все стороны и пронзительно и бесстыдно кричит: «Я вольный!..»
Но и на этот раз никто не откликается.
Страусы, как курьеры, пробегают мимо, не поворачивая головы. Венценосный журавль спит, стоя на одной ноге. Карликовые куры-бентамки с визгом дерутся из-за зернышка.
Павлин держит свой хвост на весу и недоумевает: «Какие невежи!»
СОСЕДИ
Рядом живут орлы-беркуты и лесные филины.
Филины, забившись в угол, сидят неподвижно, нахохлившись, прикрыв глаза и нагнув голову набок, точно мудрецы, устало погруженные в разрешение неразрешимых загадок мира.
Изредка, когда в соседней клетке кричат орлы, один из филинов приподымает веко, открывая равнодушно-желтый невидящий глаз: «Суета сует!» — и снова безнадежно опускает голову.
А старые гордые беркуты, сохранив орлиную осанку воли, сидят на голом суку и, глядя в небо, все время к чему-то прислушиваются и, когда гудит самолет, смотрят друг на друга, поблескивая глазами: «Слышишь? Узнаешь?»
ЛЕБЕДЬ
— Гуси-лебеди! Гуси-лебеди!
Вот один из лебедей с желтой переносицей отделился от стаи, вышел из воды, отряхнулся и, сразу утратив лебединую стать, по-утиному переваливаясь, направился к железной решетке и что-то быстро и горячо зашептал.
Подошел маленький мальчик с большим бубликом. Лебедь тотчас же, изогнув шею, просунул сквозь решетку клюв: «Дай бублика!»
Мальчик кинул ему кусочек. Лебедь схватил бублик в клюв, понес его к пруду, смочил в воде и, запрокинув голову, проглотил, потом пробулькал глотку водой: «Хорошо!» И снова вернулся к ограде.
Девочка протянула ему яблоко. Лебедь стукнул клювом о яблоко и отвернулся: «Не надо!»
— Попробовал, не хочет. Он яблока не хочет! Видишь! — заговорили вокруг.
Лебедь стоял с униженно вытянутой шеей, все время выставляя в решетку клюв. И люди, проходя, не узнавали лебедя.
Вот какой-то мальчик сунул калорийную булочку и, когда лебедь потянулся к ней, подставил вместо булочки сандалию:
— Ну, чего надо?
Лебедь зашептал, как бы стараясь объяснить свое поведение.
— Нечего, нечего попрошайничать! — ответил мальчик.
Лебедь гордо поднял на длинной шее маленькую головку: «Не очень я интересуюсь твоей булочкой. Дашь — хорошо, не дашь — не надо, а я просто наблюдаю из своего лебединого интереса».
Дети закричали:
— Иди плыви!
— Дурашок, иди купайся!
— Иди, лебедь!
Обрызганный грязью, в полинявших, выцветших сапожках, лебедь, ковыляя, пошел прочь, не оглядываясь.
И когда с приподнятыми над водой крыльями он поплыл, вдруг исчезло униженное выражение, — теперь он был как сон, как волшебная сказка, которую уже не помнишь — рассказывали ли тебе в детстве, читал ли или сам видел ее. И люди, проходя мимо, говорили:
— Смотри, лебедь плывет! Белый лебедь!
ПИНГВИНЫ
Жирные и гладкие, очкастые пингвины, в визитках и белых манишках, похожие на иноземных дипломатов, заложив руки за спину, молча толпятся на крохотном островке.
Вдруг там поднимается гвалт. Пингвины, как по команде, выстраиваются друг против друга и ревут по-ослиному: «Иа! Иа!» А маленькие пингвинята в серо-бурых жилеточках стоят сзади и подначивают: «Крр! Крр! У нас уже не пух, а перья, и мы тоже имеем право рассуждать!», и, подражая взрослым, они разевают клювы и, как докладчики, подымают и опускают головы.
Что случилось? Какая там дискуссия и в чем основное несогласие?
Вот стоят два пингвина друг против друга — высокий, грудастый, серьезный, и маленький, веселый, пузатый, оба в очках, с длинными клювами, как профессора на кафедре.
Высокий пингвин громко и настырно гогочет, и пузатый, слушая, поднимает и опускает голову: «Так, так, предположим».
Высокий, закончив речь, почесал пузатого клювом: «Теперь ты понимаешь?» Но пузатый развел крылья: «И рад понять, да не могу!» Тогда высокий от азарта подпрыгнул, замахал крыльями: «Кретин, я тебе целый час толкую об одном и том же, а ты уперся, как бык! Это же не по-пингвиньи!»
Но пузатый, гладкий, для большего равновесия опершись еще и на хвост, самодовольно стоял на своем и даже нахально улыбался. И тогда высокий, отчаявшись, вдруг сложил крылья: «Нет, не могу больше, голова как котел!» — и прыгнул в воду вниз головой.
Через секунду он вынырнул с вьюном в клюве и у всех на виду проглотил его: «Вот так надо с вами поступать!»
ПЕЛИКАН
Розовый пеликан похож на облако, нежно окрашенное утренней зарей, и не было бы на свете красивее птицы, если бы не этот огромный клюв, с подвешенным к нему желтым уродливым мешком. Смотришь, и все кажется: это из другой оперы и попало сюда случайно.
Сколько бы вы ни наблюдали, пеликан все время ест, а если не ест, то широко раскрывает клюв: «Вот какой у меня клюв! Вот какой у меня амбар! Знаешь, сколько могу сожрать?»
Ему кинули в воду карпа килограмма на два. Он, как черпаком, подхватил его вместе с водой, воду выпустил, а карпа подкинул в воздух и проглотил с головы. Потом он обождал минуту, как бы прислушиваясь, не скажет ли чего проглоченный карп, и, разинув клюв и одновременно растягивая мешок, промычал: «Ма-а-ло!»
Вот так обжорство испортило внешность пеликана.
И теперь, когда он летает или плывет по воде, то клюв с мешком закидывает на спину и несет его, как что-то постороннее, тяжелое и мешающее ему быть птицей.
ЧАЙКА-ХОХОТУНЬЯ
Все время слышится хриплый хохот серебристой чайки.
Замычит в углу пеликан — объелся или рассердился, и она:
— Ха-ха-ха!
Вот черный лебедь флейтой поднял над водой свою шею и подал печальную ноту, а она откликнулась:
— Ха-ха-ха!
Вот два аиста, взглянув друг другу в глаза и прижав к груди длинные клювы свои, защелкали: «Так-так-так-так-так!» — она и над ними:
— Ха-ха-ха!
И каждый раз, отсмеявшись, она стоит над водой, грустная-грустная, как бы раздумывая: «Отчего же не веселит меня этот смех?»
АЛЬБАТРОС
Подул легкий теплый ветер, и в чистом синем небе сначала появились пушистые, белые, похожие на летящих лебедей, облака, потом за ними — рваные темные тучи. Дремлющий на бутафорской скале альбатрос очнулся и стал внимательно, изучающе смотреть в темнеющее небо.
Вот он хрипло закричал, словно окликая пролетающие тучи, словно звал обождать его.
Порыв сильного ветра влетел в клетку, альбатрос подставил грудь, и ветер вздул перья, а когда стало совсем темно, он жадно вдохнул грозу и с шумом раскрыл широкие, раздутые ветром крылья буревестника.
Взгляд его упал на скалу из папье-маше, точно для смеха присыпанную гравием, он фыркнул на нее, слетел в воду бассейна и стал крыльями бить в железную сетку: «Дайте бурю, бурю!» И когда сверкала молния и по треснувшему небу прокатывался гром, он злорадно хохотал: «А-а! Все в тартарары!»
Но легкая летняя гроза быстро прошла, небо, умытое дождем, засветилось тихой синевой. Спрятавшиеся было от дождя воробьи снова появились в клетке, легкомысленно чирикая.
Альбатрос меланхолично перевернул клювом брошенную ему служителем рыбу: «Без грома и молнии у меня и аппетита нет!»
СТРАУСЫ
Огромные африканские страусы, только недавно прибывшие из Сомали, медленно и важно прохаживаются по комнате, точно копытцами постукивая по полу сильными страусиными лапами.
Они подходят к окну и долго смотрят на тихо падающий снег, на этот белый, такой далекий волшебный мир и поглядывают друг на друга: «А ведь красиво, ничего не скажешь!»
— Стра-а-усики! Стра-а-усики! — зовет женщина, входя к ним с ведром, доверху наполненным свеклой и брюквой.
Страусы вытягивают змеиные шеи свои так, что головы их где-то под самым потолком, и с высоты покровительственно смотрят на эту добрую женщину: «А саранчи не будет?»
— Ешьте, ешьте, деточки, — говорит она страусам, которые, точно огромные, выросшие сыновья, стоят над ней.
И, пока они неторопливо, чуть насмешливо едят брюкву, она стоит, подперев рукой подбородок, и приговаривает: «Ешьте, ешьте…»
Поев, страусы опять отправляются на прогулку. Изредка, разминаясь, они делают пробежки, точь-в-точь как спортсмены перед соревнованием: несколько быстрых длинных шажков, перья раздуваются, как юбка, и снова шагом, спокойно, со страусиным достоинством, уже не обращая внимания на женщину с пустым ведром.
— Гуляйте, гуляйте, — добродушно говорит женщина и, подобрав «орешки», уходит из комнаты.
КУЗЯ
Старый, облезлый кондор Кузя в своих потрепанных шортах гуляет по посыпанным золотым песочком аллеям, высоко на голой тонкой морщинистой шее неся хищную головку, покрытую плоской строгой шапочкой академика.
А за ним идет девочка с прутиком, как за гусем.
Кондор останавливается и величественно, будто со скалы, оглядывает окрестности, а девочка над ним помахивает прутиком:
— Иди, иди, нечего!
Но Кузя будто и не слышит этого и, ничуть не умаляя своей орлиной осанки, так же высокомерно неся голову, шагает дальше.
Он спокойно подходит к вольеру, и, пока девочка открывает железную калитку, Кузя терпеливо ждет и важно, как король в тронный зал, входит в клетку. Здесь он немедленно взбирается на декоративную, крашенную известкой и посыпанную камушками скалу, зевает и с шумом, с ветром расправляет широкие, темные древние крылья кондора, крылья поднебесья, и как-то судорожно встряхивается, выбивая из них пыль. Потом аккуратно их складывает и замирает в гордой хищной позе дикого кондора.
О чем он думает? Чего ждет? И ждет ли?
Мимо клетки ходят зрители, читают плакатик, что кондор Кузя живет в зоосаде 70 лет, смотрят на Кузю и восхищаются:
— Семьдесят лет — и не убегает!
СОЙКА
В вольере у фазанов на дереве сидит сойка.
Фазаны, они ведь франты, у них главное, чтобы хохолок был зачесан, шпоры в порядке, мундир начищен, и весь день они бегают по бульвару, а когда вспомнят о просе, его уж нет: все выклевали воробьи. Воробьи в грубых серых жилетах, они не занимаются внешностью. Они клюют.
И вот для того, чтобы у фазанов от голода не побледнели золотые и оранжевые перья, в вольеру пустили сойку.
Сойка, как только явилась, показала всем своим голубые жандармские лампасы и сделала строгие глаза: «Мы сейчас!»
Потом с диким хриплым криком: «Ра-ра-ра!» — спикировала на воробьев, разогнала их и одного даже заклевала, унесла на дерево и оставила от него одни серые перышки. И так она съела много воробьев.
Но вот однажды какой-то воробей, не здешний, а чужой, который только что прибыл из деревни и ничего не знал, бездумно залетел в вольеру. Он сел на веточку, чтобы оглядеться, узнать расположение кормушек, ходы и выходы и все, что полагается знать злодею.
И вдруг он рядом на веточке увидел голубые лампасы, и от ужаса весь стал похож на ежика.
Но сойка молчала.
Воробей успокоился, он сделал вид, что залетел сюда просто так, туристом, из любознательности, и, чтобы ему поверили, даже повертел хвостиком и сказал легкомысленное: «Пи-пи».
Сойка строго смотрела по сторонам и продолжала молчать, не обращая на него никакого внимания.
Тогда воробей осмелел, слетел на землю, сделал вид, что клюнул зернышко, и взглянул на часового.
Но сойка не пошевелила ни одним пером. Она продолжала строго смотреть куда-то вдаль.
С тех пор в вольеру свободно летают воробьи тучами. Кто-нибудь заметит вдруг голубые лампасы: «Внимание! Сойка!»
Все замрут, сольются с пылью и не дышат. Но сойка не двигается. Тогда они оживают и начинают клевать и даже шумно драться из-за крупного зернышка.
А сойка сидит на посту и молчит. Она ожирела, и тяжело ей стало летать, и лень кричать, и все тянет ко сну.
И вот как будто бы все осталось по-старому: и голубые лампасы, и напряженно стерегущая поза, и строгий, всевидящий глаз, и изредка даже предостерегающий крик: «Ра! Ра!» — а воробьи клюют и клюют.
Старая история!..
ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ
Длинноногая африканская птица в обгрызенных у колен узких атласных брючках, в сером, с острыми фалдочками, сюртучке и с вздыбленным пучком длинных перьев на затылке — точь-в-точь перья, торчащие за ухом писца. Строго поблескивая очками, она решительно расхаживает, как по кабинету, на каждом шагу кивая головой, словно говоря: «Так. Так. Слушаю. Продолжайте!» Потом вдруг нервно дернет головой: «Дайте же подумать!»
Прошагав так несколько минут, она подходит к сетке, пристально глядя серо-бурыми глазками.
Так и подмывает спросить: «Что, хабар хочешь?»
У КЛЕТКИ
Лиса рыщет по клетке, тычется в прутья, ищет лазейку. У клетки стоит женщина, и с ней девочка в зеленом капюшончике.
— Леночка, вот ты говорила: лисичка-сестричка. Вот она лисичка, вот она живая.
— Лисичка-сестричка, лисичка-сестричка. А как она съела колобок? Рот открыла и съела колобок?
Подходит старушка:
— Вот Лиса-то Патрикеевна!
Появляется военный с девушкой:
— Валя, хвостик хорош!
Гражданин в белом картузе грызет яблоко и сообщает:
— Кур ворует!
— Витя, ты видел? — кричит один мальчик другому.
Витя тычет в клетку эскимо на палочке. Лиса останавливает свой бег, облизывает мороженое, Витя предупреждает:
— Кашлять будешь!
Лиса снова начинает кружиться по клетке, не обращая внимания на лица, на восклицания.
— Бегает! Бегает! — слышится вокруг.
— Она очень быстро бегает, проклятая, — говорит гражданин с яблоком.
— Без конца, бедная, бегает, — откликается старушка.
— Дает, дает! — говорит Витя.
А лиса на все в ответ просунет между прутьев свою несчастную, лукавую мордочку: «Выйти, выйти мне нужно отсюда…»
ВЕРБЛЮД
Двугорбый, с клочьями серой, зимней, как вата свалявшейся шерсти, высоко подняв голову, стоит он посредине загона на слегка вогнутых, привыкших к песчаным барханам, длинных и тощих ногах, полупрезрительно оттопырив губу и устремив куда-то в пространство мечтательный взор.
— Во какой большой! Видишь горбы?
— А зачем ему горбы?
— Вот садись — и поедешь куда хочешь.
А верблюд не слышит, все глядит вперед, и морда у него словно знает что-то такое, чего никто, кроме него, не знает.
— Соль любит.
Он и на это молчит, только губу еще больше оттопырил и смотрит вдаль.
— Такого накорми!
— Год его не корми — у него хватит.
И тут уж мне показалось, верблюд не выдержал и печально улыбнулся.
— Верблюжина! Верблюжина! — позвала маленькая девочка, протягивая сайку.
Он идет на зов легким, величавым, плавным шагом, мягко покачиваясь, как во время путешествия по пескам, сочувственно оттопырив губу: «Глупышка, что можешь ты мне предложить вместо сладких колючек пустыни?»
Девочка осторожно протянула верблюду сайку. Он схватил ее мягкими губами, сжевал и покрутил головой: «Ничего, не так уж плохо, как я думал!»
Толпа, довольная, расходится. И снова верблюд остается один, скорбный, спокойный, устремив куда-то вдаль мечтательный взор.
СЛОНЫ
Похожий на гору, старый, морщинистый слон с огромными бивнями стоит неподвижно, тяжело опустив хобот к земле.
Слониха издали почтительно смотрит на слона и одновременно строго поглядывает на слоненка, пытающегося закинуть за спину маленький хоботок.
Вот слоненок подошел к ней, что-то тихо сказал, наверное: «Мухи кусают!», потому что слониха тотчас же набрала хоботом песок — и как дунет на слоненка! Тот от удовольствия зажмурился: «Ух, здорово!»
Слониха легонько подтолкнула его: «Пойди к папе!» Слоненок подошел к слону и осторожно потерся об его хобот: «Я тебе не мешаю думать?»
Подошла и слониха: «Опять тебе шельмец надоедает!»
Она вытянула хобот и, взяв охапку сена, свернула, как повар на кухне свертывает налистники, но только хотела съесть, слоненок ловко, на лету, зацепил своим хоботком, и сунул себе в рот, и сквозь маленькие бивни улыбнулся: «Потрясающе!»
Слон угрюмо посмотрел на него: «Сказал бы хоть спасибо!»
И вот оба они стоят над слоненком и, не жалея времени и терпения, что-то по-своему, по-слоновьи, по-молчаливому, долго и томительно вдалбливают ему в назидание, объясняя непонятное про законы джунглей.
Слоненок слушает, опустив хоботок, выражая этим высшую степень детского внимания и послушания.
Иногда он для приличия кивает головой: «Ощущаю, предки, ощущаю», но на самом деле ему кажется, что все это — старый бред и нет никаких джунглей. Какие уж там джунгли, лианы…
Хобот слоненка начинает от скуки постепенно раскачиваться, и слон вдруг шлепает его: «Не раскачивай хоботком, когда с тобой разговаривают!»
«Хочешь что-нибудь сказать, — успокоительно кладет свой хобот слониха на спину слоненка, — скажи прилично, молчаливо, как это делают слоны на всем свете».
С улицы приходят гудки автомобилей и звонки трамваев, и вдруг слоненок поднимает хобот, морда у него лукавая, и кажется, он спросил: «А на каком трамвае едут в джунгли?»
Слон-папа и слон-мама смотрят друг на друга и согласно-печально качают хоботами: «Вот что значит городское воспитание!..»
И вдруг, неизвестно отчего, все трое одновременно, подняв кверху хоботы, медленно и торжественно уходят с бетонной горки: «Сеанс окончен».
Толпа расходится.
ЯК
Старый, с могучим горбом як, в грубой, косматой, висящей до самой земли шубе, массивный, точно грузовик, долго стоял у изгороди, упрямо нагнув маленькую курчавую голову с железными рогами, ожидая, что его позовут на работу.
Но вокруг было тихо и спокойно. Мягко падал снег.
Як лег на землю и тяжело задышал.
Сколько неизрасходованных сил в его обросшем шерстью мощном хребте, в бычьей шее, рогах и копытах, а он вот лежит без дела и дремлет. И от его горячего рабочего дыхания вокруг растаял снег.
ВОЛК
Серый, поджарый, на легких, быстрых ногах, он одиноко бегает по загону «Острова зверей», принюхиваясь к камням, к снегу, к воздуху, добежит до каменной стены и повернет обратно, и так все время, как челнок, — туда и назад.
— Волк! Волк! Серый волк!
Он остановился и смотрит. «Знаю. А что толку?» И снова с языком на боку продолжает свой бег.
— Ему бы сейчас овечку подпустить!
Он опять остановился и смотрит: «Откуда знаете?»
— Здоров, черт!
— У-у, злой какой!
Волк несколько мгновений смотрит на людей, садится и бессильно лязгает зубами.
Падает снег. Волк, застыв на одном месте, подняв к небу длинную, темную, острую морду, воет, точно спрашивает у снега, у ветра: «Неужели я последний волк на земле?»
Прилетает эхо, ему кажется, что это — ответ, и в начинающейся метели он долго тоскливо перекликается со своим эхом.
МИШКА И ФОМКА
Два бурых, похожих на плюшевых мишек, медвежонка крутыми лбами уперлись друг в друга: «А ну, кто сильнее?» — и ни с места.
В это время служитель приносит на площадку белого медвежонка Фомку. Бурые с минуту оторопело глядят на непонятного пришельца и разбегаются.
Один лезет на сетку, другой взбирается на лестницу и, высунувшись между перекладинами, наблюдает. И на удивленных лицах, на больших, размышляющих лбах написано: «Что за ужасный тип — белый как смерть?»
А Фомка стоит столбиком, полный радушия: «Здравствуйте, я не опасный, я питаюсь рыбкой».
Наконец медвежонок с сетки косолапо спускается вниз, робко делает шаг, смотрит на того, который сидит на лестнице: «Слезай, Мишка, не опасно!» Оба осторожно подходят, сопя, подталкивая друг друга ближе к Фомке.
Тот, который сидел на сетке, приблизился первый, понюхал, даже пососал белое ухо и фыркнул: «Фи, пахнет селедкой!»
Второй медвежонок, как бы не веря, подошел ближе, шумно вдохнул воздух и удивленно раскрыл глаза: «Действительно, пахнет селедкой!»
И оба, бурые, крутолобые, вылупив глаза, смотрят друг на друга: «Что за ненормальное явление? Может быть так?»
Они-то ведь больше всего на свете любят мед!
КОЗЛЫ
Старый бородатый козел с толстыми свинцовыми рогами кружился вокруг сена, как бы нагуливая аппетит, наконец подошел к кормушке, потерся о нее лбом и, нагнув как-то по-особому рога вбок, взрыхлил сено и выпятил толстые губы: «А ну-ка, где тут послаще соломинка?»
Отсюда он перешел к липовым веникам, лениво пожевал, потом вернулся к сену и опять направился закусывать вениками.
Насытившись, бородач поднялся на вершину Турьей горки и застыл на месте: «А теперь будем мыслить».
Вот подошел к нему другой козел с такими же свинцовыми рогами-раструбами: «Давай философствовать вместе!»
Старик нагнул голову: «Только смирно, не шевелись».
На пустынной заснеженной Турьей горке стоят они, упрямо нагнув головы. Маленькие козлята на худых и тонких, как стебельки, ножках нетерпеливо прыгают вокруг: «Хватит уже!» Но они не двигаются с места. Они думают.
Вот один толкнул другого рогами: «Давай расшевелим друг другу мозги».
Сцепившись рогами, они дают друг другу встряску и потом снова надолго застывают в каменной позе раздумья.
Наконец они подымают головы и одновременно заключают: «Мэ-э-э-э!»
ПАРИС
Обезьяна Парис сидит на перекладине, щелкает орехи и, поглядывая на людей, без конца строит гримасы, как будто предлагая на выбор, какая больше понравится.
К клетке подходит пьяненький гражданин в мальчиковой кепочке.
— Здорово, Парис!
Парис как будто вежливо кивает головой и продолжает гримасничать.
— А ну, Парис, дай жизни!
Гражданин хохочет и сам начинает в ответ строить гримасы.
Парис отворачивается, и обиженная спина его говорит:
«Не желаю иметь дела с обезьяной!»
КРАСАВИЦА И МАЛЫШ
Шимпанзе Красавица и шимпанзе Малыш получили каждый по белой тряпочке величиной с носовой платок.
Красавица тотчас же накинула ее на голову и стала похожа на Серого волка из «Красной Шапочки», потом, словно барыня, опустила ее на плечи, потом примерила как передник и стала похожа на повариху, потом расстелила простыней и легла, словно больная, потом накрылась как одеялом, будто ей холодно, и еще долго после этого складывала и развертывала, любовалась ею и разглядывала: «Боже, всю жизнь отдала бы за эту тряпочку!»
А Малыш посмотрел на тряпочку, разорвал на мелкие кусочки и разбросал по всей клетке. Потом ухватился одной рукой за трапецию и стал раскачиваться: «Тра-ра-ра! Тра-ра-ра!»
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ
Наступил вечер. Стало тихо. Ушли служители. И бурому медведю, привыкшему к вниманию людей, скучно одному.
Вот он улегся на траву, пытается заснуть, но лезут в голову смутные, косолапые лесные мысли. Он поднялся и подошел к своему собрату — белому медведю, понюхал, потоптался возле: «Спишь?», присел, чтобы поговорить о лесах, но тот смотрит своими круглыми, глупыми пустыми глазами и вдруг как рыкнет! У него ведь на уме все льды да снега.
Обиженный Миша ворчит: «Беляк!» Ложится на спину, подымает все четыре лапы и зевает: «Ох, скучно!»
Он лежит на спине и то раскинет лапы, то вдруг сложит крестом на груди: «А ну, может, так будет легче?»
Потом поднимается и в сумерках начинает бродить из стороны в сторону.
Тоска преследует его по пятам, и когда уже совсем невмоготу, он скулит: «Ма-аша! Ма-аша!»
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ
Ночью был ветер, и облетели последние желтые листья. Потом пошел снег, и когда наступило утро, все было вокруг белым-бело.
Северный олень стоял и долго смотрел на занесенные снегом деревья, ему казалось, что это вдали над прудом стоят и глядят на него прибежавшие ночью из северных тундр олени: «Вот молодцы!» И, величаво неся рога, он пошел через снежное поле навстречу своим товарищам.
ЗИМНИЙ МИШКА
Слоны, бегемоты, жирафы — все ушли на зимние квартиры.
Павильоны, где летом жили ящерицы и саламандры, опустели и в снегу стоят, как дачные домики.
Только белые медведи бодро расхаживают по снегу: «Наш сезон!»
Но вот на заснеженной зимней аллее в сопровождении сторожа появляется бурый медвежонок. Его тренируют, как тяжеловеса:
— Быстрей, быстрей, медвежина! Жир сгоняй!..
Медвежонок косолапо взбирается на сугроб снега, проваливается и с визгом выскакивает — весь белый, только под большим недоумевающим бурым лбом удивленно бегают глаза.
— Ох, ты на себя не похож, — смеется сторож. — Беги, жиряга!
Он ударяет его хворостиной, и медвежонок галопирует по аллее.
Из теплого домика выглянула удивленная лама: «Слушай, тебе ведь полагается быть в берлоге?..»
Удивлены и волки, они смотрят на медвежонка и потом взглядывают друг на друга: «Черт-те что, ведь они дрыхнут всю зиму».
Медвежонок запахнул шубу, важно сел и, как на салазках, съехал с горы. Вокруг искрится снег, звенят ледяные сосульки, бегут белые пони, и все деревья украшены, как на праздник. И только ведь подумать: если бы он родился в лесу, то сейчас спал бы в темной берлоге, ничего не видел и не знал и, наверное, во сне сосал бы лапу.
— Мишка, ты чего не сосешь лапу? — спросил подъехавший на коньках мальчик.
Медвежонок насмешливо посмотрел на него: «Устарело, брат!»
ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
1. Утро
Большой пруд, который летом похож был на сказочное лебединое озеро, замерз и теперь как молчаливое заснеженное поле.
Но кто же это, переваливаясь, двигается по полю?
Это — лебеди. Они сливаются со снегом и кажутся рожденными из снега. Только ярко выделяются красные клювы.
Лебеди направляются к большой темной проруби, над которой в морозное утро дымится пар.
Белолобые гуси-пискульки, пеганки, малюсенькие чирки, согревающие в проруби голые лапы свои, встречают их криком и теснятся, уступая им место.
Лебеди и в проруби не теряют своей осанки и если даже не плывут, то в величественных позах сидят на воде, свысока посматривая на мелочь: «Холодно?»
«Нет, нет, нет!» — отвечают они.
«Как же, как же!» — отвечают другие.
«Ладно, не шумите!» Лебеди неподвижно застыли на воде.
Утки, взмахнув крыльями над водой, со свистящим шумом поднимаются в воздух, кружатся над заснеженным прудом и темными машущими платками исчезают вдали и потом, возбужденные виденным, возвращаются назад. И тогда в проруби поднимается кряканье, гогот. Жирные китайские гуси, которые сами не любят летать, комментируют утиные сообщения, преувеличивая их и делая громкие и, по мнению всех, необоснованные заключения.
Бакланы, в черных мундирах, с длинными строгими носами, молча сидят на хвостах вокруг проруби и время от времени по-полицейски каркают на расшумевшихся уток.
2. Полдень
Звякнула калитка, и все смотрят на берег, откуда идут женщины с ведрами.
«Ка-ша! Ка-ша!» — кричат утки.
Вороны, которые летом кружились высоко над прудом и кричали: «Дар-р-моеды! Дар-р-моеды!» — теперь прилетают целой оравой: «Кор-рмильцы! Кор-рмильцы!» — и первые устраиваются у кормушек.
Отайки за отайками, бакланы за бакланами, чирки за чирками, толкая друг друга, выходят на лед, распахнув крылья, сушатся и шумно идут на обед. Только лебеди величаво, медленно, молчаливо подплывают к берегу, томно протягивая карминно-красные клювы: «Пожалуй, и мы поедим». И они едят кашу, грациозно вытянув шеи.
3. Вечер
В пять часов уже темно.
Отайки за отайками, бакланы за бакланами, чирки за чирками уходят на берег и семьями укладываются спать на снегу. Рыжая семья отаек, черная — бакланов, серая — чирков.
Отдельно, на соломе под низко склонившейся серебряной от инея ивой, как сугробы снега, лежат лебеди.
Одни протянули длинные шеи свои через плечо, за спину, и, словно обняв себя, спрятали голову под крыло и крепко спят: утомились или просто сони.
Другие, высоко подняв над спящими головы, еще только зевают и оглядываются: «Спать, что ли?»
Третьи спокойно, не спеша чистят клювом перья перед сном. Один, наиболее дотошный, уже по нескольку раз перебрал одни и те же перья. Спящий рядом лебедь лениво вытянул из-под крыла голову: «Долго будешь шуметь?»
У самого края, наверно, две подруги, близко соединив вытянутые шеи, шепчут что-то свое, тихое, девичье.
А три лебедя-жениха еще плавают в проруби, и далеко и гулко раздаются их молодецкие крики.
Но вот и они вышли из воды на лед, все трое лихо распахнули крылья на ледяном ветру и молча направились к лебединым сугробам на берегу.
Тихо. Сверкают звезды зимнего неба.
АРА
Зимой в десять часов в попугайнике гасят свет, и словно вместе со светом выключили жизнь: на полуноте обрывается пение, свист и щебетание волнистых попугайчиков, и во внезапно наступившей тишине слышен только шелест крыльев и легкий, нежный пересвист: «А-дью!»
Попугай-ара, ошеломленный мраком, в первое мгновенье молчит, а потом орет: «Непр-равильно!»
Видя, что протест ни к чему не приводит, он еще отчаяннее орет: «Гр-рабят! Гр-рабят!» — словно выдирают у него во тьме самые ценные оранжевые перья. Но и это не помогает, и уже тише, полусонно, про себя, он ворчит: «Чер-рт! Чер-рт!»
ПОПУГАЙЧИКИ
На улице тьма, метель, а в вольере — яркий свет и щебетание весеннего леса.
Волнистые попугайчики не спят. Ведь там, у них на родине, в Австралии, — лето и теперь еще светло. И вот им и тут, в Москве, продлили день, и большие электрические лампы светят во всю силу австралийского солнца.
У каждого попугайчика свой маленький домик под номером. Вот № 15, вот № 16, в ряд несколько улиц, целый попугайный городок.
Но что же это такое? Никто не сидит дома. Все население со свистом и щелканьем летает под потолком, и сверкают зеленые, желтые, голубые, синие, розовые перья, и кажется, в воздухе протянуты звонкие струны.
Что у них тут — бал, свадьба, карнавал?
Они свистят, смеются, поют и, сидя на жердочках, целуются, весь город целуется — на крылечках, в окнах, на крышах…
Один только красный попугай-ара с большой головой мудреца, угрюмый, сидит на жерди и время от времени скрипуче, картаво кричит:
«А-а! Не тратьте жизнь на веселье!»
Но кто его послушает?
ФАЗАН
Февральский солнечный день. Пахнет весной.
И фазан, который все пасмурные дни, недовольный жизнью, молчаливый и хмурый, ходил, опустив голову, весь преобразился и засверкал. Он выпячивает яркую грудь свою, лихо поднимает зачесанную ветром золотистую шевелюру, пыжится, подгибает вооруженную шпорой ногу и выбрасывает ее вперед почти прусским шагом и, все время бормоча: «Я! Я! Я!», оглядывается: попал ли он в центр внимания фазаньего мира?
Но никто его не замечает. Какая-нибудь серая курочка покосится на него: «Пижон! Уже выкидывает мартовские штучки!»
Но солнце светит все ярче и теплее, подмывая фазана на акцию, и вот он на каблучках выбегает на середину бульвара и франтиком, в три такта, подлетает к серой курочке. Вот он забежал слева и поднял капюшончик: «Я ваш!» Вот забежал справа и опять поднял капюшончик: «Замётано?»
И так он рыщет по всему бульвару, но все на него глядят с изумлением и отворачиваются. Тогда наконец он испускает истерический крик неразделенной любви и с треском взлетает под самый потолок.
И теперь, в вышине, с распростертыми крыльями, с длинным золотистым, узорчатым хвостом, в котором огненно горят красные перья, он похож на жар-птицу, и курочки ахают: как это они его не разглядели, как это они его пропустили?
Но вот он опускается на землю, и комедия повторяется.
ЖУРАВЛИ
Два журавля, за зиму похудевшие, почерневшие, с мокрыми, сбитыми набок косицами, стоя на одной ноге, долго молча смотрят друг на друга и вдруг начинают кивать маленькой, тонкой, как иголка, головкой, словно говорят: «Да, да, вот такова жизнь!»
И снова молча смотрят друг на друга и о чем-то грустно думают про себя.
Скоро весна, скоро пляски. А сейчас — будни.
ЛОСЬ
Бородатый, с огромными лопатообразными рогами, подогнув под себя длинные сильные ноги, красавец лось, как лесной король, лежит на снегу.
Подул мягкий ветерок оттепели, и лось чутко встрепенулся, грозно поднял туловище и, повернувшись, большими грустными глазами проводил пролетевший ветер и воспоминания.
Что-то новое, свежее, пьянящее в воздухе будоражит его. Тяжелый и рослый, он легко поднимается на ноги и, великолепный, спокойно идет к калитке и толкает ее. Но она закрыта. Тогда он так же спокойно, величаво выходит на пригорок и обозревает окрестности, словно хочет увидеть то место, откуда дует теплый ветер.
И вдруг он чувствует на голове что-то лишнее, тяжелое, мешающее ему. Лось останавливается, чтобы понять, что бы это могло быть? «А, рога!»
Твердым шагом он идет к зеленой, со всех сторон уже ободранной будке, упирается в нее рогами и со всей силой жмет, так, что трещат доски, и вдруг с треском обламывается кусок рога. Большим, выпуклым, кровью и напряжением налитым глазом косится он на отломанный кусок: «На сегодня хватит!»
И, раздувая ноздри, вздрагивая всем телом, он с силой вдыхает весенний ветер, в котором слышится запах ивы и лесной земляники.
Жизнь начинается сначала.
ВАРАН
К серому варану пустили крысу.
Полосатый ящер пустыни, дремавший под рефлектором на теплом камне, лениво приподнял змеиную голову: «Может, позавтракать?»
Он выставил лапы, вильнул хвостом и пополз с камня вниз, к крысе, но неожиданно на ходу дремотно закрыл веки и, убаюканный желтым светом лампы, заснул вниз головой.
Крыса осторожно подбирается к варану, трогает его усиками, толкает мордой и вдруг вонзает резцы в длинный хвост: «А ну-ка, попробуем, каков ты?».
Варан спит каменным сном. Ему, наверное, снится родная пустыня. А крыса грызет и грызет, скоро и хвоста не останется.
Приходит служитель и поднимает тревогу; он хватает варана, трясет его: «Дурак, у тебя хвост съели!»
Варан лениво приподнимает веки: «Ну что ты меня будишь по пустякам?» — и снова порывается заснуть. Служитель трясет его изо всех сил. Варан просыпается, глаза у него обиженные: «Разбудил на самом интересном месте!»
Очевидно, надо быть тысячелетним жителем пустыни, чтобы так самозабвенно спать.
КОБРА
Молодая кобра, свернувшись в блестящий клубок, дремала, а маленькие белые мыши, пущенные в клетку, с писком бегали вокруг нее, сталкивались и убегали друг от друга, будто играли в пятнашки.
Кобра очнулась. Тонкая и изящная головка ее на длинной шее выросла, как цветок нарцисса. Змея застыла, прислушиваясь к шуршанию и писку, и потом мелкими, кружащими движениями головы стала искать мышей, ее тонкий, лижущий воздух язычок дрожал: «Где вы? Где вы?»
Старая мышь застучала зубами: «Дети!» Она хватала их зубами за затылок, относила в угол клетки и успокоилась, только когда закрыла всех своим телом.
Кобра приподнялась, вытянулась и, качаясь как стебель под ветром, подползла к старой мыши и через ее голову стала пристально смотреть на мышат: «Эй, вы! Глядеть в глаза!» Мышь застучала зубами: «Не смейте, дети!»
Но белые мышата во все глаза смотрели на змею, им было жутко и интересно. А кобра, не отрывая неподвижных глаз, раскачивалась то вправо, то влево, шея ее гневно раздувалась капюшоном. Она нагнулась и выпустила длинный, рассеченный, нежно-розовый, как пламя, змеиный язык.
Старая мышь ощерилась и запищала.
А мышата, за ее спиной сбившись в кучу, толкались, стараясь вылезти вперед: «Что там, что там?» Один мышонок толкнул другого: «Нагни голову, ничего но видно!»
Кобра запрокинула голову и, волнуемая шуршанием, лизнула жадно раздвоенным язычком воздух: «О, господи!»
Мышь боком толкнула мышат: «Сидеть!» Но один мышонок, изловчившись, выбежал вперед: «А я не слушаюсь!»
Кобра в то же мгновенье проглотила мышонка, поднялась во весь рост, пристально, замороженным стекловидным взглядом посмотрела на мышат: «Кто следующий?»
ЧЕРЕПАХА
Она выставила из-под панциря узкую, сплюснутую с боков, странную лысую голову и глянула старыми, умудренными глазами.
И только после этого она выпустила короткие мускулистые лапы с желтоватыми ногтями и, тяжело оседая под панцирем, переставляя одну лапу за другой, покачиваясь, медленно пошла по желтому песку к ярко пылающей лампе. Ей было холодно. Ей хотелось погреться. Вот она на полпути остановилась и, расставив лапы, опустила голову: «Ух, устала!»
И снова, тяжело переставляя лапы, на каждом шагу кивая головой, оседая под панцирем, двинулась вперед, и выпученные глаза ее глядели сурово: «Будь проклята опасность, родившая панцирь!»
СОРОКА
На старой осине в Зоопарке, в большом, лохматом, похожем на папаху, гнезде жила сорока.
Сидя на дереве и обозревая окрестности, она весь день стрекотала, сообщая самой себе и всем, кто хотел ее слушать, о том, что она видит вокруг и хорошо это или плохо.
И каждый раз, когда раздавался вблизи или вдали пронзительный, странный крик иноземной птицы или хриплый наглый рев зверя, рев, рассчитанный на то, чтобы прорезать джунгли, сорока испуганно замолкала и глядела в ту сторону круглыми остановившимися глазами: «Ка-а-шмар!..»
И она громко плакала и жаловалась. Нет, она, наверное, единственная сорока на всем свете, которая живет в такой ужасной обстановке, и почему именно ей, синей, молодой, интеллигентной выпал этот несчастный рок?
Сидящий в клетке старый мрачный ворон, которому уже, наверное, было триста лет, время от времени поднимал на нее тяжелые все видевшие глаза, долго, угрюмо глядел, и наконец и у него лопалось терпение: «Дурра!»
Но сорока, не обращая на него внимания, стрекотала и стрекотала, жалуясь на судьбу, и вдруг видела, что слушает ее только цапля, и то непочтительно стоя на одной ноге.
Сорока замолкала, и лицо у нее было скорбное и обиженное: «Говори с цаплей, которая всю жизнь стоит на одной ноге и вряд ли в состоянии даже серьезно сосредоточиться».
И сорока презрительно фыркала в синее крыло.
СОЛИСТЫ
Снегом завалило аллеи Зоопарка, и стало вокруг тихо, пусто и грустно.
И неожиданно среди этой белой тишины на весь сад защелкали, засвистали, защебетали птицы; веселые, отважные, нежные, ликующие голоса.
Микрофон стоял в вольере певчих птиц, и птицы, не улетевшие на зиму в Африку и в Индию, жили и пели среди зимы и снега России.
Вот скворец в черном сюртуке и жилете со светлыми крапинками сел на жердочку перед микрофоном и задумчиво протянул вверх длинный острый клюв: «Что бы вам такое спеть? Кх-кх», — как бы прочистил горлышко и, широко раскрыв светлый клюв, начал. И так как собственная его песенка была очень слабая и серенькая, чтобы выразить чувства скворца, поющего среди глухой зимы, он тут же перехватил ноты у щегла и у большой синицы и вспомнил даже коленце соловья. И когда рядом защелкали два волнистых попугайчика, он с ходу вставил и это щелканье. И если летом он только передразнивал, то теперь он все это согрел своим дыханием, и видно было, как в вздувшемся горлышке перекатывается его зимняя песенка радости.
Два розовых попугайчика, сев на жердочку, уже приготовились петь, но, взглянув друг на друга, стали вдруг молча целоваться. Сыплет снег, дует ветер, а они все целуются. Вот один отпрыгнул и взглянул издали: «Нет, не могу оторваться!» — и снова они целуются.
Началась метель. А зеленушка в ярком полевом мундире крикнула с верхней жердочки:
— Пюй!
Из маленького клювика пичужки вырвался пар, инеем осел на перьях груди, и вот уж вся грудь у нее белая, а пичужка, прикрыв глаза, поет и поет.
Пусть вьюга, пусть иней, пусть снег, а она поет.
И чем сильнее метель и завывание ветра, будто наперекор им, будто стараясь перекричать, пересилить стихию, летали, пели, щелкали, бесились певчие птицы, и в сплошном свисте слышалось: «Весна, весна!»
ХАМЕЛЕОН
Он неподвижно лежит под яркой лампой на желтом теплом песке и лишь изредка открывает и закрывает глаза, как бы проверяя: не переменился ли цвет пустыни, не пора ли перекраситься? Но все тот же желтый свет лампы, тот же желтый песок. И мне показалось недовольство в его лице: «Нет, нет, это не обстановка для хамелеона».
ВЕЧЕР
Заходит солнце. Высоко на вершине Турьей горки стоят кружком розовые в свете заката туры и, упираясь друг в друга рогами, совещаются о чем-то в связи с наступлением вечера.
Вокруг в домах Красной Пресни зажигаются огни, слышнее в сумерках гудки автомобилей, звон трамваев на Большой Грузинской. И вдруг, словно из дебрей джунглей, приходит громкое, хриплое, грубое рычание льва. На мгновенье устанавливается тишина. Все прислушиваются: не скажет ли еще что-нибудь царь зверей? А в ответ идет вечерняя перекличка.
«Ту-ут!» — трубят слоны. «Мы-ы!» — ревут бегемоты. «Я-я-я!» — плачет шакал.
Несколько минут, словно фабричный гудок, длится сплошной рев, лай, мяуканье, и диким и странным кажется, что вокруг горят неоновые огни реклам. Но вот рев все тише и глуше, и наконец полная тишина сливается с наступающей тьмой. Лебеди тихо отплывают от берегов и, собравшись в стаю, прячут головы под крыло, и только патрульные, изогнув красивые шеи, медленно плывут вокруг сказочной стаи, прислушиваясь к шорохам наступающей ночи.
Выходит луна, освещая деревья, унизанные спящими фазанами, словно золотыми и серебряными гигантскими плодами. Спят крокодилы. Спят олени. Спят зебры и голубые антилопы.
Филин, неслышно пролетая по клетке, широко раскрытыми очковыми, всевидящими глазами долго глядит в лунную тишину.
«О-хо-хо-хо! Стерегу-у!»
«У-гу-у!» — отвечают с другого конца.
Изредка взревет пума, капризно, как ребенок, проснувшийся среди ночи, заплачет шакал или во тьме в клетке пантеры вспыхнут зеленые фонарики: «Кто здесь?»
«О-хо-хо-хо!» — хохочет филин.
Из предрассветного тумана выплывают лебеди. Пруд разделен железной сеткой на две половины: с одной стороны черные лебеди, с другой — белые. И кажется, рядом плывут ночь и день.




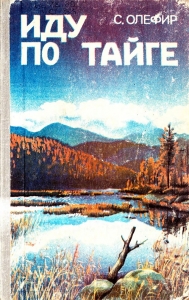
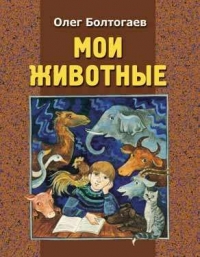
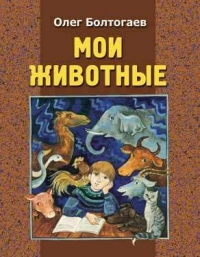
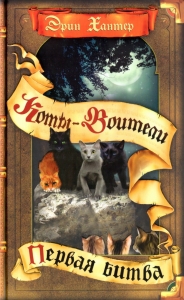
Комментарии к книге «Волшебный фонарь», Борис Самойлович Ямпольский
Всего 0 комментариев